Михаил Иванович Венюков. Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии
Михаил Иванович ВЕНЮКОВ (23 июня (5 июля) 1832 года — 3 (16) июля 1901 года)
Третий раз отмечает свой юбилей старейшая научно-общественная организация страны — Географическое общество СССР: пятидесятилетие — в 1895, столетие — в 1945 и стодвадцатипятилетие — в 1970 годах. И каждый раз в связи со славными годовщинами называется имя Михаила Ивановича Венюкова.
«Один из самых живых и выдающихся деятелей Общества, известный своими путешествиями на отдаленных наших окраинах», — так его охарактеризовал знаменитый географ России П. П. Семенов-Тян-Шанский. Слабоизученные тогда районы реки Уссури на Дальнем Востоке и реки Чу в Средней Азии в лице М. И. Венюкова нашли своего первоисследователя. Так начиналась научная биография путешественника, географа, ученого, позднее захватившего своими работами приграничные земли России — от Сахалина, через Приамурье, Сибирь, Казахстан, Туркменистан, до Закавказья и Кавказа. Не менее интересовали его дальние и ближние зарубежные соседи России — Япония, Китай, Индия, Иран, Турция. Почти вся необозримая Азия находилась под пристальным взором исследователя. Его работы были первыми в русской литературе свидетельствами очевидца о зарождении и развитии на Тихом океане того узла капиталистических противоречий, который привел к целому ряду захватнических колонизаторских войн. Как показания внимательного и вдумчивого наблюдателя читаются и сейчас публикации Михаила Ивановича о Европе периода расцвета капитализма — со всеми мерзостями «его препохабия» господина денежного мешка.
М. И. Венюков оставил после себя большое литературное наследство: книги, статьи, заметки, рецензии, обзоры. Негласный сотрудник зарубежных революционных изданий Герцена и Огарева, он умел использовать силу печатного слова. Недруги ученого, читая корреспонденции и статьи, бичующие «темные царства» в Европе и Азии, по обилию самоновейшего материала, публицистической направленности сразу угадывали авторство Венюкова, если даже под этими статьями и не стояла его подпись.
Изо всех русских географов своего времени М. И. Венюков был, пожалуй, наиболее политическим!
Грань пятидесятых и шестидесятых годов XIX столетия, когда Михаил Иванович входил в науку, в жизни русского общества ознаменовалась крутым переломом — падением крепостного права, ростом революционного движения, а в области отечественной географии — появлением блестящей плеяды молодых русских землеведов. Вот краткая хроника десятилетия 1857—1866 годов.
В 1857 году завершил свое замечательное путешествие на Тянь-Шань тридцатилетний Петр Петрович Семенов, будущий Семенов-Тян-Шанский. И в том же году начал свои путешествия по Средней Азии тридцатилетний Николай Алексеевич Северцов.
В 1858 году двадцатишестилетний Михаил Иванович Венюков осуществляет исследование реки Уссури, а двадцатитрехлетний Чокан Чингисович Валиханов публикует свои работы о Западном крае Китая.
В 1862 году возвращается из своей дальневосточной экспедиции тридцатилетний Федор Богданович Шмидт, а в следующем году уходят с экспедициями двадцатипятилетний Иннокентий Александрович Лопатин — в Приморье и двадцативосьмилетний Григорий Николаевич Потанин — на озеро Зайсан.
В 1864 году Маньчжурию обследовал двадцатичетырехлетний Петр Алексеевич Кропоткин, а еще через два года в Русское Географическое общество явился двадцатисемилетний офицер с предложением отправить его в экспедицию для исследования Центральной Азии. Этим офицером был Николай Михайлович Пржевальский. Вот что сказали тогда молодому энтузиасту в Географическом обществе: «Хотя снаряжение экспедиции в Центральную Азию и было излюбленным стремлением в среде Географического общества, но едва ли Совет Общества решится поручить такую экспедицию лицу, ничем еще себя не заявившему, да и притом Общество, истощая все свои средства на окончание своей Сибирской экспедиции, еще не имеет никакой возможности помышлять о снаряжении экспедиции во Внутреннюю Азию».
Откровенный разговор этот вел с будущим великим исследователем Азии Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. И он же горячо, убежденно посоветовал Н. М. Пржевальскому начинать путешествия с «малоизвестного края, который… обращал на себя общее внимание, а именно Уссурийского».
Уссурийский край, Приамурье, Дальний Восток… Они были школой становления многих выдающихся русских землеведов. Огромные необъятные просторы Дальнего Востока как бы соответствовали широте и размаху русской научной мысли. Да она и не могла быть иной, если хотела идти в ногу с народом!
Походы русских землепроходцев и мореходов в XVII веке, перенесшие границу нашей Родины от Урала на Тихий океан, заселение в XVIII веке Аляски составили в науке целую русскую эпоху великих географических открытий. Огромный размах русских географических работ на Дальнем Востоке, в Центральной Азии в XIX веке вновь выдвинул русскую географию на одно из первых мест в мировой науке. При этом своими точными, подлинно научными работами русским ученым и путешественникам не раз приходилось изобличать вздорность различных мифов, создававшихся западной географической наукой. Так, в результате русских исследований на Тихом океане исчезли мифические Анианский пролив, острова Гензима, Козима, Золотой, Серебряный, земля Гама… В середине XIX века Г. И. Невельской опроверг ошибочные утверждения француза Лаперуза и англичанина Браутона о полуостровном положении Сахалина.
На долю Михаила Ивановича Венюкова в этой огромной работе, проделанной русской наукой, выпала честь научного физико-географического открытия Приуссурья, то есть значительной части современных Приморского и Хабаровского краев, и установления фактической неподвластности этой части Уссурийского бассейна Китаю. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть, потому что феодальные властители Китая всегда непомерно раздували территориальное величие своей империи. Император Кан Си, организатор агрессии против русского Приамурья, когда исполнилось 22 года, 9 месяцев и 9 дней его царения, провозгласил себя «единодержавным владыкой Поднебесной, без различия, в Китае ли то или вне его». Он же, вторгнувшись в Монголию, «возвещал» в своих императорских писаниях:
«Все, что объемлет свод небесный, населено моими сынами».
А один из его воспреемников даже выбил на камне нечто в этом же роде:
«По милости неба и нашей маньчжурской династии власть ее простирается на всю Вселенную, вся Подсолнечная покорна ей» (цитируется по К. Риттеру, А. Любимову).
Еще в 1851 году русский журнал «Сын отечества» (т. 11, отд. V) с возмущением писал о непомерной гордыне китайских владык: «Тщеславие их столь велико, что всех посланников от других государств почитают за привозителей дани». Подвластной маньчжурским императорам оказалась якобы даже… Россия. В 1692 году, цитирует журнал труды китайских придворных историков, «Белый хан (то есть русский царь. — А. С.) прислал дань с посланником». В 1700 году «Богдо-хан (богдыхан) повелел сказать о России: «Они нам верны и покорны», «положено законом, чтобы россияне в три года единожды приезжали в Пекин с данью… и они никогда не преступали сего правила». «Данниками» императоров считались и европейские государства, даже те, которые захватывали у Китая его территории.
Соответственно «исправлялись» и китайские летописи. При том же Кан Си, как свидетельствуют написанные китайскими учеными «Очерки истории Китая с древности до «опиумных» войн» (русское издание: М., издательство «Восточная литература», 1959), были уничтожены все труды, не восхвалявшие маньчжурскую династию, а их авторы казнены. Вот один из примеров.
Когда Чжуан Тин-лу во втором году правления Кан Си написал историю предшествовавшей династии, «были преданы смертной казни все члены рода Чжуан старше 16 лет, а также составители предисловия, сверщики, книготорговцы, граверы, принимавшие участие в работе над этой книгой, местные чиновники… всего более 70 человек».
При таких «поправках» к истории в реестр китайских «владений» могла попасть любая территория. А уж потом «исправленные» данные китайской географии перекочевали в западноевропейские компиляции.
Так, в частности, «расширялись» границы Китая в сторону советской территории Дальнего Востока и Средней Азии, хотя подлинная история свидетельствует об обратном, о том, что эти земли никогда не были китайскими. Если же и имелись спорные районы, то в течение тысячелетий ими были степи Северо-Востока, Севера и Северо-Запада современного Китая. Занимавшие их племенные объединения и государства сменявших друг друга кочевников — гуннов, сяньби, киданей, чжурчжэней, монголов, маньчжуров и других, то защищаясь, то нападая, нередко порабощали китайский народ. В XIII веке это совершили монголы. В XVII веке Китай был завоеван маньчжурами. Удары маньчжурских завоевателей испытало и русское Приамурье с главным городом Албазином.
Русские, маньчжуры и китайцы располагались тогда так. В бассейне Амура во второй половине XVII века находились русские села и остроги Солдатово, Игнашино, Монастырищино, Озерное, Погадаево, Покровское, Андрюшкино, Паново, Гилюйское, Верхнемонастырищинское, Ильинское, Шунгалово, Верхнезейский, Селемджинский, Долонский и другие. На современном китайском побережье Амура стоял Кумарский острог, а наиболее южный русский острог находился в семистах километрах от Амура на реке Нуньцзян, вблизи нынешнего китайского Цицикара.
Основная масса маньчжуров до завоевания Китая (1644) жила в пределах южной Маньчжурии, а наиболее выдвинутый на север маньчжурский пункт Иланьхала (сейчас город Илань) на реке Сунгари отстоял от русского острога на Нуньцзяне по прямой на юго-восток в пятистах с лишком километрах.
Китайские поселения с юга вплотную подходили к маньчжурским. Однако попадали китайцы в Маньчжурию только в качестве рабов, ссыльных и беглецов. По законам, действовавшим в Китае с 1668 по 1878 годы, свободное переселение китайцев в Маньчжурию строго запрещалось.
Но такое расселение перестало устраивать маньчжурских феодалов, как только они закончили усмирение Южного Китая и освободили свои силы для новых захватов. Последовало вторжение крупных вооруженных сил маньчжурского воинства в пределы Приамурья. Решительный отпор, данный русскими, понудил богдыхана пойти на мирные переговоры, к которым стремилось и русское правительство.
Местом встречи представителей двух государств стал русский город Нерчинск, куда маньчжурская делегация явилась в сопровождении пятнадцатитысячного войска. И вот тогда-то пригодилось культивировавшееся веками искусство фальсифицировать историю в сторону раздувания пределов Китайской империи. Послы богдыхана настойчиво утверждали, что вся Даурия (Забайкалье и Приамурье), заселенная русскими переселенцами и коренными дальневосточными племенами, еще со времен Александра Македонского и Чингис-хана якобы принадлежала императору Китая. На этом «основании» выдвигалось требование установить границу по озеру Байкал и реке Лене…
Даже многократное превосходство в военной силе (у русских имелось только около двух тысяч воинов) оказалось недостаточным для подтверждения столь явной исторической нелепицы. По Нерчинскому трактату 1689 года Россия закрепила за собой Верхний Амур, но была вынуждена на время оставить Средний Амур; Нижний Амур оставался неразграниченным. Лишь позднее — в XIX веке была исправлена навязанная силой несправедливость, и старые русские земли вернулись России.
Но и тогда, в Нерчинске, представители богдыхана отказались от нелепых претензий на границу «по Байкал». Исторически установлено, что и после Нерчинского трактата ни одна из частей современного Дальнего Востока не входила в состав Китайской империи. Окончательно это подтвердили в 1842—1845 годах в отношении южной части Дальнего Востока путешественник и естествоиспытатель А. Ф. Миддендорф, в 1849—1855 годах в отношении Приамурья географ и мореплаватель Г. И. Невельской и многие другие исследователи, в 1857—1858 годах в отношении самых глубинных районов Уссурийского края — М. И. Венюков, показавший независимость Приуссурья от соседних с юга и запада государств.
…Вот, раздвигая заросли луговых трав, продираясь через густой кустарник, преодолевая каменные завалы, вдоль речного берега идет человек. Он идет упорно, безостановочно, стараясь, чтобы каждый шаг его был таким же, как и предыдущий. Вышагивая так не час, не два, а дни, недели, он не хочет, не может сбиться со счета. Никогда и никем не мерянные расстояния, изгибы реки, каждый приток и протока должны с наибольшей точностью лечь на планшет.
«Не желая, чтоб составленная мною карта оставляла в недоразумении тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться ею, я не позволил себе определять расстояние на глаз, а прошел все пространство от Уссурийского поста (Казакевичево. — А. С.) до устья Лифулэ пешком, ведя счет шагам», — в скупой строке скажет потом путешественник о своем труде, давшем первое описание и первую точную карту голубой Уссури.
Неведомое, дикое тогда еще Приуссурье впервые было пересечено исследователем от самого Амура и до Японского моря. Так входил в науку двадцатишестилетний русский офицер Михаил Иванович Венюков.
Точность, ясное понимание общественного назначения результатов научного труда, вместе с горячей любовью к науке — характернейшая черта всей деятельности Венюкова. В ней он видел средство служения Родине, которую любил всем своим существом. «Я служил и всегда готов служить России. Кроме ее у меня нет симпатий, ей одной принадлежат и моя жизнь и мои чувства», — говорил он о себе.
Жизненный путь Венюкова еще и еще раз показывает, как крепостнический, а затем буржуазно-помещичий строй мял и давил таланты и как чрезвычайно трудно было светлой мысли прорваться, говоря его же словами, сквозь «зверское мраколюбие» самодержавия.
Михаил Иванович родился 5 июля (23 июня) 1832 года в мелкопоместной дворянской семье в селе Никитинском Рязанской губернии. Семья Венюковых была большая и вне казенной службы кормильца жить не могла. Призрак нищеты был повивальной бабкой молодого поколения Венюковых. «Родителям моим следовало… не умножать семьи», ибо это «отзовется на их детях гибельною необходимостью вести исключительно холостую жизнь, со всеми ее последствиями, из которых сумасшествие (одного из моих братьев) и чахотка (сестры) еще не самые страшные», — этим горьким признанием открываются «Воспоминания» исследователя.
Отец его — участник Отечественной войны 1812 года, дважды раненный при взятии Парижа, — в чине майора вышел в отставку и кое-как ухитрялся поддерживать на гражданской службе видимость внешнего благополучия. «Лишний рот» — сын Михаил был целиком передан на воспитание бабушки — мелкой помещицы.
Бабушка научила своего внука читать, когда ему исполнилось пять с половиной лет. «Чего я только не читал в эту первую пору возникшей умственной жадности! — вспоминает Венюков. — Даже старинную «Навигацию»! Но зато, пишет он, «я узнал, что есть на свете Лондон, Париж и Кронштадт: обстоятельство немаловажное, ибо после, уже на 14 году моего возраста, я видел в корпусе таких ровесников из благородного российского дворянства, которые не подозревали о существовании Лондона или, по крайней мере, не знали, он ли находится в Англии, или Англия в нем».
Потом к ребенку наняли учителя — неудачливого семинариста, которого в семинарии «часто заставляли снимать ризы для получения боговдохновительных порок». Тот, не умея ничего путно объяснить, заставлял мальчика задалбливать наизусть уроки. Гораздо большее влияние, чем эта «учеба», оказывали разговоры взрослых. Рассказы родных о разгроме наполеоновской армии пленяли подростка мужеством русской души, примерами самоотверженности, настойчивости в достижении благородной цели, находчивости в трудных положениях.
Тринадцати лет Венюкова приняли на казенные «хлеба» во второй класс кадетского корпуса — «закрытую казенную фабрику для выделки детей по правительственному шаблону». Система свирепого устрашения лежала в основе корпусной педагогики. Одному из таких заведений Николай I подарил целую рощу — «на розги», как выразился сам царь. В корпусе, где учился Венюков, было проще: «На розги начальство находило нужным вычитать по пяти рублей с каждого окончившего воспитание юноши». Немудрено, что многие воспитанники выходили из корпуса нравственными калеками или потом, достигнув чинов, «лежали бревнами на дороге умственного, нравственного и политического развития России».
И все же никакими розгами, никакой муштрой не удалось убить живую душу в Венюкове и в группе его товарищей, среди которых был известный поэт Вас. Курочкин. В ответ на царские «заботы» они потихоньку распевали о Николае I:
С ног до головы детина, И с головы до ног скотина!Лекции некоторых преподавателей, книги приобщили любознательного юношу к естествознанию и точным наукам. А перед ними блекло богословие — повседневная духовная пища кадет. «Узнав в детстве и отрочестве галиматью богословских теорий, я тем решительнее отвернулся от них именно с 17 лет от рождения», — вспоминает Венюков. Уже тогда он проникся чувством глубокого презрения к «византийско-еврейской бестолковщине» православия и к безумию католического иезуитизма.
В корпусе, под влиянием естественных наук, Венюков становится сторонником материализма, что позднее помогло ему находить ясное, научное решение многих вопросов, с которыми приходилось сталкиваться. А беседы преподавателя статистики Ястржембского, сосланного перед самыми экзаменами на каторгу, возбудили горячий интерес к явлениям общественной жизни, ознакомили с учением социалистов-утопистов.
Общим, что незримыми нитями связывало передовую часть воспитанников корпуса, «была любовь к науке, вера в могущество человеческой мысли и твердая надежда, что рано или поздно эта мысль все постигнет в природе и все устроит к лучшему в человеческом обществе». И эти чистые юношеские чувства Венюков пронес через всю свою жизнь.
В 1850 году Михаил Иванович был выпущен из кадетского корпуса в чине артиллерийского прапорщика. Служба в батарее не помешала ему заниматься дальнейшим самообразованием. Огромнейшее влияние на формирование взглядов Венюкова оказал русский революционер-демократ А. И. Герцен. Книги его будущий географ переписывал от доски до доски. У него он учился материалистическому пониманию природы и ненависти к крепостничеству и самодержавию.
Особенное впечатление произвел на Венюкова роман Герцена «Кто виноват?» Михаил Иванович пишет о весенней ночи 1851 года, когда он до рассвета читал это замечательное произведение: «Я пережил в нее больше, чем во многие годы потом. И когда в семь часов утра, сложив книгу и полный вызванными ею идеями, я пошел на ученье, в батарейный парк, — окружавшее меня показалось мне чем-то жалким, какою-то общею ошибкою, каким-то последствием угара, от которого, чтобы не умереть, нужно было во что бы то ни стало вырваться на свежий воздух, в ширь науки и гуманной общечеловеческой деятельности».
«Вырваться» удалось только через полтора года, да и то лишь с батареи с ее мордобоем и розгами. В феврале 1853 года Михаил Иванович назначается репетитором физики в Петербургский кадетский корпус, одновременно вольнослушателем посещает университет, а в следующем году поступает в Академию Генерального штаба, которую и заканчивает в 1856 году.
В начале мая 1857 года, после тягостной пятитысячеверстной дороги то в санях, то в перекладной телеге, а то и пешком, поручик Венюков прибыл в Иркутск в качестве старшего адъютанта в штабе войск Восточной Сибири. Генерал-губернатор Н. Н. Муравьев предложил ему ехать вместе с ним на Амур. «Лучшего поощрения к работе нельзя было бы сделать, — записывал Михаил Иванович в свой дневник. — Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный политический интерес, сбывалась».
Пятидесятые годы прошлого века завершили двухсотлетнюю борьбу русского народа за возможность строить свою жизнь на берегах Амура, значение которого хорошо понимал еще Петр I: он рассматривал устье Амура как один из трех ключей, которыми закрывается граница России, — Нева, Дон, Амур. Длительный процесс освоения русскими Амура, Охотского моря и Татарского пролива подготовил основу для восстановления на Дальнем Востоке границы, отражающей фактическое заселение его земель русским народом.
Вслед за открытием Г. И. Невельским устья Амура, с 1854 года по настоянию Н. Н. Муравьева по великой дальневосточной реке начались сплавы войск и продовольствия для Охотского побережья, Камчатки, Русской Америки. На Амур переселялись русские крестьяне.
Это было более чем своевременно, потому что в том же году последовало англо-французское нападение на Камчатку. Воспользовавшись Крымской войной, западные державы решили отбросить нашу страну от берегов Тихого океана. В течение двух лет англо-французский флот безрезультатно бомбил русское побережье. Нападение иноземных захватчиков было отбито с большим для них позором. Необходимость укрепления обороны края усилила заселение Приамурья. Экспедиция с участием Венюкова, намеченная Муравьевым на 1857 год, и преследовала цель ускорения этого заселения.
На Амур отправлялись 13-й и 14-й сибирские линейные батальоны и 450 переселенческих семейств. 7—8 июня (26—27 мая) по Шилке вниз тронулся большой караван барж, плотов, лодок с людьми и грузом — амурский сплав.
Рано утром 7 июня (Здесь и дальше даты указываются по новому стилю.) Венюков впервые увидел Амур. «Смотря на широкий поток, мирно струившийся прямо к востоку, многие из нас думали: там, где-то далеко, почти так же далеко, как от Москвы до Арарата, река эта вливается в море, и это море — Великий океан, единственный открытый путь из России не в Швецию, не в Турцию, не в Персию, а в Америку, Австралию и Южную Азию».
Михаилу Ивановичу довелось на Амуре закладывать нынешний город Благовещенск, центр большой и богатой Амурской области. Годом прежде в устье Зеи высадилась небольшая команда из казаков. Она основала Усть-Зейский военный пост. Венюков в 1857 году руководил возведением построек на устье Зеи. Если не считать дома бригадного начальника, все остальные помещения строились из тальника. В 1857 году на Амуре возникло 15 новых русских селений.
Покоренный богатствами Приамурья, Венюков записывает в своем дневнике: «Окружающая его (Амур. — А. С.) равнина, начавшаяся от самого устья Зеи, была здесь еще роскошнее… Таких великолепных угодьев для хозяина-земледельца, как между Зеею и Хинганом, мало в целой России, а в Сибири и совсем нет».
Первое плавание по Амуру явилось большой школой для Венюкова. Молодой исследователь получил богатые навыки полевых работ, составил описание края и дал планы ряда населенных пунктов.
В конце декабря 1857 года М. И. Венюков доставил обработанные материалы Н. Н. Муравьеву, вновь вернувшемуся в Петербург для окончательного разрешения в столице «амурского вопроса». Вот тогда-то генерал-губернатор и предложил Венюкову обследовать почти неизвестную реку Уссури, один из наиболее крупных притоков Амура. Это был такой труд во имя науки и России, о котором Михаил Иванович мечтал, будучи еще вольнослушателем Петербургского университета.
Крестным отцом и наставником молодого исследователя явился крупнейший знаток Дальнего Востока Геннадий Иванович Невельской. «Он лично навестил меня в скромной моей квартире в одной из отдаленных частей Петербурга, — пишет Венюков, — пригласил к себе, в течение нескольких вечеров беседовал со мною о Нижне-Амурском и Уссурийском краях, о которых имел обширные сведения… Более честного человека мне не случалось встречать, и хотя его резкость, угловатость могли иногда не нравиться, но всякий, кто имел случай ближе подойти к нему, скоро замечал, какая теплая, глубокосимпатическая натура скрывалась за его непредставительной наружностью».
От Невельского Венюков перенял гражданственное отношение к науке, уменье направлять свои усилия на решение наиболее актуальных задач. А потом он уже сам передавал эту традицию будущему корифею русской географии Н. М. Пржевальскому. В частности, к советам Венюкова Николай Михайлович Пржевальский прислушивался при выборе своих маршрутов по совершенно диким и не исследованным местам Центральной Азии. Между обоими путешественниками завязалась многолетняя дружеская переписка. Это один из примеров того, как сливалась в единое целое выдающаяся русская географическая школа.
Во второй половине апреля 1858 года Венюков вновь на Амуре. Год этот принес с собой перелом в пограничном вопросе. По Айгунскому договору, подписанному 28 мая 1858 года Муравьевым и китайским главнокомандующим И Шанем, и последовавшему за ним в 1860 году Пекинскому договору, между двумя великими державами была проложена существующая и поныне государственная граница. Старые русские земли Приамурья по обоюдному согласию, достигнутому путем мирных переговоров, были окончательно закреплены за Россией. Россия прочно утверждалась на Тихоокеанском побережье, а Китай был защищен с севера от проникновения заклятых своих врагов — английских, французских, американских и других экспансионистов.
М. И. Венюков передает некоторые подробности подписания Айгунского договора, заключенного в исключительно краткий для дипломатии срок: 25 мая Муравьев появился в Айгуне, а 28 мая договор был уже заключен. После подписания договора китайские представители признавались, «что их удивила умеренность наших требований, что они ожидали для начала негоциаций (дипломатических переговоров. — А. С.) домогательства нашего на все земли до Великой стены и Желтой реки в Ордосе, дабы потом, по принятому в дипломатии обычаю, сбавлять эти требования».
Как известно, уже тогда англичане и французы признавали только один язык в разговорах с Китаем — язык пушек… В Айгуне же все вопросы были решены при полном согласии обеих договаривающихся сторон. О другой любопытной детали переговоров сообщил Г. И. Невельской. В первоначальном проекте договора говорилось, что он заключается «ради большей славы и пользы обоих государств». На это китайский делегат заявил:
«Не надобно упоминать эти слова, ибо зачем тут упоминать о славе, когда наше государство и без того так славно, что большей славы ему желать нельзя». По его предложению это выражение было заменено на другое: «Ради большей, вечной взаимной дружбы обоих государств».
Эти слова и вошли в договор.
В день, когда завершились переговоры Муравьева с китайскими представителями о границе, Венюков с капитаном Дьяченко и солдатами 13-го линейного батальона был уже в районе будущего Хабаровска. Здесь он участвовал в закладке поста Хабаровка и готовился к экспедиции на Уссури.
Предстояло с суши обозреть русское Приуссурье, найти перевалы к морю через мощные Сихотэ-Алинские хребты. Венюков как раз и выполнил эту задачу. Путешествовавший по тем же местам академик К. И. Максимович нашел маршрут Венюкова «составленным чрезвычайно добросовестно». Знаток Дальнего Востока В. К. Арсеньев с чувством признательности к своему предшественнику отмечал: «Честь сделать первое пересечение через Сихотэ-Алинь принадлежит М. И. Венюкову».
Результатом экспедиции явилось «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря». В этом очерке показана физическая география вновь открытого края, представлен быт его крайне редкого населения. Со страниц отчета, написанного патриотом, зазвучал горячий призыв к русским людям: заселяйте Уссурийский край, берите богатые дары его природы!
«Первым пионером обстоятельного географического исследования почти всего течения р. Уссури был М. И. Венюков, — писал по поводу этой работы вице-президент Русского Географического общества выдающийся географ П. П. Семенов-Тан-Шанский. — Результатом этого первого русского путешествия вдоль всего течения Уссури была съемка реки и множество расспросных сведении о притоках реки, талантливо сгруппированных и изложенных путешественником в его интересной статье «Обозрение р. Уссури».
С путешествием на Уссури связана научная и гражданская весна Венюкова. Но она была весной без солнышка. Пылкие надежды на быстрый расцвет Дальнего Востока разбились о мрачную действительность царского самодержавия. «Вся поэзия амурского дела кончилась с подписанием Айгунского договора», — пишет Венюков. Начиналось «темное царство» административно-бюрократического произвола, которое так ярко было заклеймено любимым писателем Венюкова М. Е. Салтыковым-Щедриным.
Это основательно сказалось на судьбе поста Хабаровка, в закладке которого принимал такое деятельное участие Михаил Иванович. Когда возникла мысль о перенесении сюда областного центра из Благовещенска, против нее выступили местные «помпадуры и помпадурши». Вот что рассказывает Венюков: «Конечно, губернатору из Благовещенска, где у него есть хороший дом, пришлось бы переехать в Хабаровку, на первое время — в помещение более тесное; пришлось бы и удалиться от Иркутска, где жил нареченный тесть губернатора Оффенберга, генерал-губернатор Фридрихс. Спросили из Петербурга мнения последнего и что же получили в ответ? — «Хабаровка неудобна; она лежит на болоте, отличается нездоровостью» и т. п.
Мне случилось читать этот любопытный ответ, и я не знал, как он мог быть дан вопреки очевидности, — потому что Хабаровка лежит на откосе высокой горы и есть одна из лучших по местности колоний Амурского края, — и какая цель могла быть при его составлении? Только случайно узнав семейные обстоятельства, на которые сейчас указал, я понял, почему хребет Хехцир официально обратился в болото… Что же такое нужды государственные перед семейными некоторых особ».
Целая галерея таких власть имущих «особ», тормозивших развитие края и измывавшихся над его населением, встает из книги Венюкова.
Вот председатель Совета Главного управления Восточной Сибири, куда входило Приамурье, царский генерал-лейтенант Венцель, «совершеннейший нуль, несмотря на то что фигура его напоминала худощавую единицу. Вся цель его жизни, — если только она имелась, — состояла в том, чтобы не сделать зла, но и это ему не удавалось. Раз, в припадке напускной генеральской свирепости, он так накричал на члена сибирской ученой экспедиции, астронома Зондгагена, что тот умер от внезапного прилива крови к сердцу и голове». Вот преемник Муравьева-Амурского — М. С. Корсаков, преследовавший ссыльных революционеров. Вот «жандармский офицер Фогт, дубина вершков десяти росту, с широкими пастью и дланью».
Но не столько Венцели, Корсаковы, Фогты, сколько вся самодержавно-помещичья система обрекла Дальний Восток на положение отсталой окраины России. С первых же шагов обнаружилась нелепость царской переселенческой политики, которая всей тяжестью обрушилась на переселенцев, по жребию отправленных на Амур (свободное переселение было фактически запрещено). Пока забирали в Забайкалье переселенцев, с борта идущей по Амуру баржи высокое начальство указывало место, где быть новой станице. Воздвигался столб с названием, и, хоть будь здесь самое неблагоприятное место, сюда бросали переселенцев. Люди отданы были во власть сотенным командирам. Один из них, сотник Венцель, «приезжая в станицу, не знавши, кто на какую работу способен, выстраивал казаков по ранжиру и сам назначал на работы. Случалось, попадали на плотничные или другие работы люди, совсем неумелые и неспособные, а за неумелость пускали в ход розги». (См. Р. Богданов. Воспоминания амурского казака о прошлом).
В записках Венюкова о заселении Приамурья в 1857—1858 годах рассказывается, как удивился военный губернатор Амурской области Педашенко, обнаружив глухое селение, жившее в достатке.
«— Славно вы живете, братцы, — говорил он крестьянам, — гораздо лучше, чем казаки, даром что у них Амур под боком. Отчего бы эта разница?
— А, батюшка, ваше превосходительство, оттого, что мы от начальства подальше, — отвечали крестьяне.
— Гм! — заметил губернатор, — однако же и без властей вам жить нельзя; надобно будет кого-нибудь над вами поставить.
— Отец родной! — закричали крестьяне. — Мы люди смирные, между нами ничего худого не случится, а если бы что и вышло, то мы сами выдадим дурня твоему благородию; подати мы платим исправно, повинности отбываем так же; ну, а от начальства избавь!
И толпа бросилась генералу в ноги».
Заслуга Венюкова не только в том, что он вместе с другими прогрессивными деятелями выступил обличителем порядков, установленных в стране, как он говорил, «венчанным вахмистром» царем Николаем I и его преемником Александром II. Он видел живые силы народа. Будучи в Иркутске, Михаил Иванович тесно сошелся с кружком передовой сибирской интеллигенции, группировавшейся вокруг Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, сблизился с только что отбывшим каторжные работы видным русским революционером М. В. Петрашевским. А главное, Венюков глубоко верил в русский народ, никогда не сомневался в «свежести русского народного гения, мощи народного духа, так усердно давимого деспотизмом».
Вслед за исследованиями Приамурья Михаил Иванович проводил рекогносцировочные работы в Средней Азии — в верховьях реки Чу и на озере Иссык-Куль (1859—1860), служил на Кавказе (1861—1863) и в Польше (1863—1867). Таким образом, как он пишет, ему «пришлось посетить большую часть окраин нашего государства, от Балтийского моря до Кавказа, Небесных гор (Тянь-Шань. — А. С.) и Восточного океана. И хотя беспрерывные разъезды, походы, боевая и бивачная жизнь мало способствовали систематическому собиранию и разработке данных об этих странах, тем не менее я был настолько счастлив, что об некоторых из них успел собрать сведения частию вполне неизвестные прежде, частию бывшие достоянием немногих местных специалистов».
К Венюкову восходят истоки целого ряда наших сведений о Дальнем Востоке и Средней Азии. Его книги «Опыт военного обозрения русских границ в Азии» и «Путешествия по окраинам русской Азии» составили своеобразную энциклопедию географических и этнографических познаний об огромных территориях страны. В книгах, журнальных и газетных статьях Венюков пропагандировал малоизвестные края, указывал свободные фонды богатых земель, боролся за прокладку Транссибирской железной дороги, изобличал гнилость, бездарность и самодурство царской администрации.
Время наиболее активной работы Венюкова на географическом поприще ознаменовалось жестокой борьбой Англии, Франции и США за раздел Восточной Азии. Почти беспрерывно следовали, одна за другой, войны Англии и Франции против Китая, разбойничьи налеты США на Японию и тихоокеанские острова, грабительские экспедиции западно-европейских экспансионистов в страны южных морей.
В этих условиях многие передовые умы русского общества испытывали острейшую потребность разобраться в новой обстановке, складывавшейся на Тихом океане. Выполнение этой задачи взял на себя Венюков. Однако первые же его попытки попасть в страны зарубежного Дальнего Востока сорвались из-за препятствий, устроенных министерством «нерусских дел», как тогда метко и зло называли царское Министерство иностранных дел. Командировка на Восток стала возможной только при поддержке военного министра Д. А. Милютина, одного из наиболее дальновидных государственных деятелей царской России XIX века. Венюкову пришлось взять на себя сбор военно-стратегических сведений о Японии и Китае, которые позднее пригодились ему для чтения лекций в Академии Генерального штаба.
В 1869—1870 годах он путешествует по зарубежному Дальнему Востоку и публикует о нем ряд книг и статей, из которых русское общество могло получить представление о подлинном состоянии этих стран («Очерки Китая», «Очерк старых и новых договоров России с Китаем», «Очерки Японии», «Обозрение Японского архипелага» и др.).
С огромной теплотой и симпатией говорил и писал географ о великом китайском народе. В дружбе русского и китайского народов видел он залог расцвета Тихоокеанского побережья. «Статьи Венюкова о Китае совершенно верны», — отзывался о трудах исследователя Н. М. Пржевальский.
Со страниц этих книг во всей ее отвратительной неприглядности предстает разбойничье-грабительская политика Англии в Китае и других странах. Кровью и грязью отмечен всякий шаг «владычицы морей» на азиатском континенте — об этом, как очевидец, заявлял Венюков. Вся история Англии — это «история грабежей на широкую ногу».
Вот Гонконг, насильственно отнятый Англией у Китая и превращенный в чудовищную крекинг-установку, перекачивавшую в золото живую кровь китайского народа. В городе высятся дворцы «отравителей Китая» — английских авантюристов, неслыханно обогатившихся на контрабандной торговле опиумом. Один из этих разбойников — Джардинь, сообщает Венюков, «живет в Лондоне и состоит членом парламента, как и товарищ его по фирме Матисон. А сын великого отравителя, который держал тринадцать клиперов для развозки контрабанды по китайским портам, уже принадлежит к сословию ученых».
Под стать Джардиню и описанный Венюковым «почетный аферист» — американец. «Он два раза спасался в Америку от расчетов за его коммерческие мерзости, но оба раза был выписываем снова в Китай, как «умнейшая голова», знавшая, кого, когда и на сколько можно обобрать безнаказанно».
Что для таких людей китайцы? «Можно немедленно повесить их десяток-другой: перед этим здесь, как и в голландских колониях Зондского архипелага, не останавливаются, благо китайцев много», — рассуждают колонизаторы.
«Открыв» города Китая для безнаказанного грабежа, английские захватчики ничем не гнушались. Стоило только китайскому земледельцу не пустить в свой дом пару не в меру нахальных английских миссионеров, как консул Олкок, «недолго думая, поставил поперек реки военный корабль с заряженными пушками и послал переводчика к губернатору с объявлением, что если немедленно не будет уплачено сто тысяч ланов (200 тысяч рублей) штрафу за оскорбление миссионеров, то все стоящие под городом джонки с казенным рисом, числом до 600, будут сожжены, а город — бомбардирован. Разумеется, беззащитные китайцы должны были платить, и этот наглый грабеж так понравился лорду Пальмерстону (глава английского правительства. — А. С), что он для вознаграждения «отличившегося» негодяя-консула сделал его посланником в Японию».
В противоположность англо-саксонской политике, «ни опиум, ни оружие для междоусобных войн, ни тайные агенты для возбуждения этих войн не проникали в Небесную империю из русских пределов». И эту «противоположность нашей системы действий с английскою» Венюков справедливо считал основой «вековых мирных отношений России к Китаю».
Как свидетель и очевидец рассказывает Венюков о насилиях, совершавшихся англичанами и в Японии, представлявшей тогда отсталую феодальную страну. В своих книгах о Японии Михаил Иванович описывает толпы английских матросов, солдат и спекулянтов, бесцеремонно врывавшиеся в дома японцев и устраивавшие там дебош, издевавшиеся над женщинами и детьми.
Во всех наиболее грязных разбойничьих делах — и в ограблении Китая, и в расстреле японских городов — американцы неотступно следовали за английскими колонизаторами. Приглядываясь к Дальнему Востоку, американские капиталисты рассчитывали и на поживу за счет России. «Уже со второго года нашего появления на Амуре появились там и американцы, которые смотрят на Тихий океан как на Средиземное море будущего, а на впадающие в него реки — как на законные пути их торговли. Они составили проект соединить железною дорогою Амур с Байкалом и таким образом экономически притянуть всю богатую Восточную Сибирь к Тихому океану», — писал Венюков в своих «Воспоминаниях».
Многообразной была научно-географическая деятельность Венюкова. В течение двух лет он был секретарем Русского Географического общества, редактировал «Известия» общества. Совет этой старейшей русской научно-географической организации отмечал в 1896 году «незабвенные услуги», оказанные Михаилом Ивановичем географической науке.
Географические исследования не ослабляли острейшего интереса Венюкова к текущей политической жизни страны. Он остро откликался на все события современности. Так, он внимательно следил за процессом отмены крепостного права и свидетельствовал, что произошло очередное ограбление крестьян в пользу помещиков. Вот запись разговора Венюкова со стариком крестьянином по поводу реформы 1861 года.
«Крестьянин. Как не быть довольным волей? Только она не про нас писана, а про ребятишек, что теперь нарождаются…
Венюков. Ну, Семен, это ты, хоть и на старости лет, а сгоряча так говоришь. Чего же вам надо? Воля вам дана, земля тоже; живите себе помаленьку, поправляйтесь, учите детей.
Крестьянин. То-то вот, сударь, поправляться-то не из чего. Мы вот тут думали, что землю-то отдадут нам всю… по крайности, ту, что искони веков была за нами, ан нет, шалишь! Тут те небольшие наделы, а то и самые малые, даровые, курам на смех, потому что и кур-то на таких наделах не накормишь.
От земли ты уйти неволен, а сидеть на ней не стоит, потому очень мала… Да еще вот многих господа переселяют со старых мест на новые, где ни воды, ни огородов, ни выгона нет: живи на голом яру».
Объявленное царем «Положение» о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, означало бессовестнейшее ограбление деревни в пользу помещиков-крепостников. Словами того же собеседника Венюков передает и обстановку, в которой происходило это «освобождение».
«Чуть не так понял закон, говорят: ты подстрекатель, читаешь «Положение» не так, как следует и других в сумление вводишь, — жалуется крестьянин. — Что у нас народу перепороли из-за эвтого самого, страсть! Никогда столько не драли нашего брата, как в прошлое лето, да и о сию пору дерут… Какая это, сударь, воля?»
В анонимно изданных за границей «Исторических очерках России со времени Крымской войны» исследователь приводит богатый материал о развитии капитализма в пореформенное время. Грязью, преступлениями, казнокрадством, как пишет Венюков, отмечено было это развитие. Он клеймит царя Александра II, активнейшего участника расхищения государственного имущества в целях «наполнения своей частной казны», говорит об особой заинтересованности брата царя, Константина, в крупнейшей афере, предпринятой в 1867 году американскими капиталистами, — жульнической покупке Русской Аляски Соединенными Штатами.
Михаил Иванович нелегально сотрудничал в издававшемся Герценом за границей «Колоколе», а в 1867 году и лично несколько раз встречался в Женеве (Швейцария) с властителем своих дум и надежд. Под влиянием этих встреч Венюков взялся за перевод «Марсельезы» с французского на русский язык:
Что хочет здесь орда рабов С злодеями вождями? Кому железо сих оков Куется их царями? Здесь всяк солдат, чтобы вас бить! И пусть падут герои: Земля родит иных, чтоб мстить В ожесточенном бое!В Западную Европу Венюков попал, будучи уже зрелым географом. Его работы получили признание в России, переводятся на французский, английский и немецкий языки. Он — достойный представитель русской географической мысли на Парижском международном географическом конгрессе в 1875 году.
Во время своих заграничных поездок он видит язвы капитализма, всю мерзость режимов, установленных Наполеоном III и Бисмарком, мечтает о переходе государственной власти из рук монархов в руки народа. Характерен его отзыв о законах капиталистического общества как об «условных правилах гражданской жизни, установленных главным образом для обеспечения господства волков над овцами». И вместе с тем Венюков не сумел найти объяснения ни своей искалеченной молодости, ни виденным им картинам истребления народов Азии англо-американскими захватчиками, ни обнищанию рабочего класса в Европе, ни бесчеловечному отношению правящих классов России к своему народу. Он не смог увидеть, что причины бедствий человечества лежат не в каких-то его извечных законах, а в природе эксплуататорского строя общества.
Отрицая идеализм во всех его проявлениях, в своем миропонимании Венюков, однако, не смог подняться выше стихийного материализма, не воспринял революционно-освободительную теорию Маркса, ставшую уже в его время знаменем освобождения трудящихся от эксплуататоров. Венюков писал, что Маркс и его ученики умеют «отлично доказывать воровское происхождение капитала», и вместе с тем ученый остался на позициях либерального критика капитализма.
Но и в этом качестве он представлялся «неблагонадежным» для царского самодержавия. Острокритическое отношение к петербургской правящей публике — «настоящей крепостной дворне» — много лет привлекало к Венюкову внимание царской охранки. Ему были созданы невыносимые условия для продолжения военной службы и научной деятельности в царской России. Все это вынудило его, уже полковника, уйти в отставку, добровольно эмигрировать из родной страны.
«Но нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов русской земли», — писал Михаил Иванович. Там, за чертой, отделявшей его от любимой России, он продолжал много работать, путешествовал по Америке и Африке, посетил ряд западноевропейских государств, очень много сделал для утверждения приоритета русской науки в международном масштабе.
Многим обязана Венюкову западноевропейская научная общественность. Именно он широко познакомил ее с трудами выдающегося географа Н. М. Пржевальского и других исследователей Азии. Широкое признание получили и труды самого Венюкова, неоднократно переводившиеся на английский, французский, немецкий и японский языки. Но, при всем этом, исследователя в его заграничной жизни никогда не оставляло чувство глубокой неудовлетворенности. Он болезненно переживал отрыв от родины; возвращение туда было для него закрыто и женевскими бесцензурными изданиями, тайно попадавшими в Россию, и острокритическими статьями о внутренней и внешней политике царизма. Сам Венюков называл годы своей жизни в эмиграции «лишними годами».
Задолго до своей смерти Венюков распорядился своим наследством. Книги, рукописи, карты — все свое духовное достояние он завещал библиотеке Хабаровска — города, которого он ни разу не видел, но о котором знал, что он будет, знал, когда еще стоял на Амурском утесе. Свои скромные денежные сбережения он разделил между школами в Никитинском, где он родился, и в не менее родном селе Венюкове на Уссури, названном так в его честь — честь первоисследователя.
На обложке последней книги Михаила Ивановича — третьего тома «Воспоминаний» — значится: «Амстердам, 1901 год». Это был последний вклад Венюкова в развитие русской науки. 3 (16) июля 1901 года Михаил Иванович Венюков скончался в одной из парижских больниц.
Долгое время память о нем тлела лишь слабым огоньком. Но она не погасла и не погаснет. Советские люди свято чтят имена тех, кто прокладывал дорогу в будущее. Таким был Венюков — ученый, искренне и пламенно любивший нашу Родину-мать и многое сделавший для развития ее науки.
Первое издание «Путешествий» М. И. Венюкова по Приамурью, Китаю и Японии было выпущено в 1952 году Дальневосточным государственным издательством и давно уже стало библиографической редкостью. В настоящем издании, как и в предыдущем, «Воспоминания о заселении Амура в 1857—1858 годах» воспроизводятся по бесцензурному амстердамскому изданию «Из воспоминаний М. И. Венюкова. Книга первая. 1832—1867»; «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» — по авторской редакции сборника «Путешествия по окраинам русской Азии и записи о них» (Петербург, 1868); «Путешествие в Китай и Японию» — глава из второй книги «Из воспоминаний М. И. Венюкова» — по амстердамскому изданию 1896 года.
Сокращения в текстах оговорены в примечаниях к каждой из публикуемых работ.
А. А. Степанов.
ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ АМУРА В 1857-1858 ГОДАХ
I
23 апреля 1857 года, после тягостной дороги в 5 100 верст то в санях, то в перекладной телеге, то даже пешком, во избежание разрушительных толчков от удара колес по мерзлому, ледяному черепу, я, наконец, добрался до Иркутска {1.1}. День был табельный — именины императрицы Александры Федоровны, и потому я думал было сначала не являться властям; но, чтобы не скучать, надел мундир и в то же утро представился ближайшим своим начальникам по штабу. Нимало не откладывая, то есть в тот же табельный день, мне поручили поспешить составлением карты Маньчжурии и Восточной Монголии в масштабе 50 верст в дюйме и при этом потребовали, чтобы карта была готова в двух экземплярах не далее, как через три недели, к предполагавшемуся отъезду генерал-губернатора Н. Н. Муравьева {1.2} на Амур и посланника графа Е. В. Путятина {1.3} в Китай. Работа была нелегкая, требовавшая занятий от 12 до 14 часов в сутки, и совершенно неисполнимая, если бы в Иркутске не было партии отличных топографов, обязанных своим техническим образованием А. И. Заборинскому и Г. А. Щечилину. Мы, в числе девяти человек, присели и дело сделали. Я составил сеть, расставил астрономические пункты, начертил главные контуры; топографы перечерчивали их набело, вносили мелочи, отмывали кисточкой горы с данных оригиналов и делали подписи, придерживаясь сделанной мною транскрипции французских подписей д'Анвиля и Клапрота {1.4}. Любопытно, что в Иркутске в это время не было ни одного синолога, которому бы можно было поручить исправление орфографии этих подписей, несколько испорченных на французском языке. Что было можно, мы поправили сами, на основании сочинений Иоакинфа {1.5}, хотя знали, что и его транскрипция оспаривалась некоторыми европейскими ориенталистами.
В начале мая вернулся в Иркутск Н. Н. Муравьев, бывший до того времени в Кяхте {1.6} для устройства отъезда графа Путятина в Китай. Предполагалось, что посол поедет в Пекин через Монголию и, в то время как генерал-губернатор лично займется фактическим занятием Амура, устроит дипломатическое его присоединение. Но в Иркутске успеху последней миссии не верили.
Графу Путятину было трудно добиться переезда через Монголию на таких условиях, которые бы соответствовали его сану и обеспечивали ему блестящий прием и успех самого дела в Пекине[1]. При возвращении Н. Н. Муравьева в Иркутск мы узнали, что посол вовсе должен был отказаться от сухопутной поездки в столицу Срединного царства, потому что китайское правительство хотело относиться к нему почти так же, как в 1805 году к графу Головкину. Последний же, едва доехав до Урги {1.7}, был так утомлен назойливой подозрительностью и надменностью китайцев, что счел необходимым вернуться в Россию.
В Иркутске, как это ни может показаться странным, неуспехом путятинского посольства были довольны. Тамошнее общество, все почти составленное из лиц, так или иначе принимавших участие в деле фактического присоединения Амура, не скрывало, что поручение, полученное графом Путятиным, заключить с Китаем формальный договор, который бы увенчал великое предприятие, отчасти им же дискредитируемое, было как бы обидою для местных деятелей, вложивших в него всю душу, понесших множество трудов и лишений и выдержавших за Амур борьбу в Петербурге едва ли не более тяжелую, чем самая борьба с дикою природою амурской страны. Известие о расстройстве путешествия посла через Монголию вернуло всем хорошее расположение духа; каждый думал: ну, теперь мы сами славно кончим то, что так славно нами же начато, вопреки дипломатам вроде графа Нессельроде {1.8}, бывшего, в 1854 году, при решении амурского вопроса в принципе, министром иностранных дел и, во главе значительной партии сановников, противившегося воссоединению Амура, даже требовавшего разжалования в матросы капитана Невельского {1.9} за самовольное основание им русского поста близ амурского устья.
Когда 5 мая, вместе с другими лицами, я представлялся вернувшемуся в Иркутск Муравьеву, он спросил меня:
— Чем вы занимаетесь теперь?
Я отвечал, что составлением карты Маньчжурии для вас и для графа Путятина.
— Карты Маньчжурии! Ну, так вот вы со мною и поедете в Маньчжурию через десять дней. Надеюсь, что к тому времени вы успеете кончить эту работу; она нам очень нужна.
— Буду стараться, только, может быть, она не будет довольно подробна, потому что нанесение деталей требует много времени.
— Ну, это ничего. Так вы готовьтесь к отъезду.
Лучшего поощрения к работе нельзя было бы сделать. Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный политический интерес, сбывалась. Я не выходил почти из чертежной во все остальное время до отъезда. Карта была готова, и первый экземпляр ее генерал-губернатор приказал отправить к послу. Моя «исполнительность» понравилась… однако не всем. Ближайший мой начальник, подполковник Будогосский, которому самому хотелось быть в свите генерала, и даже за старшего, выказывая мне любезность как будущему правителю генерал-губернаторской канцелярии на целые 3—4 месяца, не упускал уже и тогда вставлять мне по временам шпильки, позволяя себе, например, с фамильярностью, вовсе не оправдываемою нашим недавним знакомством, называть меня иронически «начальником штаба, статс-секретарем» и т. п., и тут же прибавлял, что оставивший незадолго перед тем Иркутск Генерального штаба полковник Заборинский был в подобных же обстоятельствах, то есть «сначала полез в гору, обходя старших, но потом сломал себе шею». Намеки эти тем более смущали меня, что Будогосский в то же время не раз высказывал при мне крайнее свое нерасположение к нашему общему начальству, Буссе, и старался вовлечь меня в интриги против него. Я предчувствовал, что рано или поздно попаду между двух огней; но так как никто не только в штабе, но и в главном гражданском управлении Восточной Сибири не смел пикнуть против моего назначения на Амур единственным делопроизводителем генерал-губернатора, — потому что гласно высказанное Муравьевым слово было законом, — то я надеялся как-нибудь избежать, при помощи последнего, Харибды и Сциллы, несмотря даже на свою неопытность в штабном лавировании.
18 мая мы переехали Байкал. Погода была великолепная, и хозяин парохода Безносиков принял все меры, чтобы путешествие наше по озеру обратить в самую приятную прогулку. Здесь впервые я увидел, как генерал-губернатор популярен в стране. Пассажиры на пароходе нисколько не стеснялись его присутствием; он любезно разговаривал, и ни один при этом не держался навытяжку, не унижался до лести или до каких-нибудь изысканных и двусмысленных оборотов речи, на которые у нас столько мастеров, особенно когда можно, под прикрытием двусмысленной речи, сделать донос, пустить кляузу и т. п. Впрочем, такие подходы были и неудобны с Николаем Николаевичем. Он немедленно потребовал бы перевода их на обыкновенный язык. На пароходе между другими находился старичок, одетый в ватный суконный казакин с меховой оторочкою, в высокие сапоги, в которые были опущены панталоны, и в теплый плюшевый картуз с ушами… Я принял его сначала за какого-нибудь купеческого приказчика низшего разряда. Но вот генерал-губернатор, увидев его, громко сказал: «Здравствуйте, Иван Иванович!» — и дружески пожал ему руку, а потом вступил в разговор, при котором кроткая физиономия старичка постоянно слегка улыбалась, а прекрасные глаза его сверкали.
— Кто это такой? — спросил я у одного из спутников.
— А Горбачевский, один из «перворазрядных» декабристов. Он был в Иркутске, а теперь едет к себе в Петровский завод, откуда не пожелал возвращаться, по силе амнистии, в Россию.
Впоследствии я имел случай несколько ближе узнать И. И. Горбачевского, встретясь с ним у начальника Петровского завода капитана Дубровина. Это была чудная, светлая личность, высокой нравственной мощи, несмотря на тихий нрав. В его присутствии люди не смели лгать, хотя он даже не выражал словами неодобрение лжецу. И мне говорили, что то же чародейное влияние производили некоторые другие из декабристов, даже не в Сибири, где их долго знали и им поклонялись, а в Москве, Чернигове, кажется, даже в самом Петербурге.
Здесь кстати вспомнить следующий рассказ о декабристах, слышанный мною потом от самого Николая Николаевича и имеющий право на место в истории. Н. Н. Муравьев был назначен генерал-губернатором в Восточную Сибирь в 1848 году, стало быть, в самый разгар реакции против всего либерального. Тотчас по приезде в Иркутск он обратил внимание на судьбу политических ссыльных, из которых многие отбыли уже сроки наказания и проживали по городам и селам Иркутской и Енисейской губерний и Забайкалья — в звании посельщиков. Восстановление их гражданских прав было подвинуто; но они все-таки не могли оставлять мест жительства. Это тяжелое лишение новый генерал-губернатор захотел вознаградить возвышением общественного положения ссыльных: он открыл им двери своего дома и посещал некоторых из них лично. Это до такой степени скандализировало «благонамеренную» подъяческую среду в Иркутске, что местный губернатор Пятницкий послал к министру внутренних дел донос, причем, конечно, думал, что, «вот, мол, новый генерал-губернатор, который тем временем успел уже очень не по шерсти погладить иркутских взяточников-чиновников[2] сломит себе рога». Но что же случилось? Месяца через два после доноса получена Пятницким бумага, адресованная к нему уже не как к губернатору, а как к частному лицу. «Государь-император, — писал министр внутренних дел Л. А. Перовский, — по докладе его величеству содержания рапорта вашего о действиях, по отношению к политическим ссыльным, непосредственного начальника вашего, генерал-губернатора Восточной Сибири, высочайше повелеть соизволил: уволить вас вовсе со службы». А про действия Н. Н. Муравьева покойный император отозвался Бенкендорфу {1.10}: «Вот, наконец, нашелся человек, который понял меня, понял, что я не ищу личной мести этим людям и, удалив преступников отсюда, вовсе не хочу отравлять их участь там»[3].
Поздно вечером мы переехали, по разливу Селенги, в деревню Степную и оттуда понеслись на почтовых в Верхнеудинск, где пробыли часа четыре в доме любимца генерал-губернатора — купца Курбатова, владельца чуть ли не единственных в то время в Забайкалье стеклянного завода и мельницы-крупчатки. Число нас было невелико: Николай Николаевич, я и переводчик маньчжурского языка, тогда еще очень молодой человек, Я. П. Шишмарев, впоследствии наш консул в Урге. Это было и все «путевое управление» Восточной Сибири и будущего Амурского края, то есть стран, в совокупности превосходящих всю Европу. Н. Н. Муравьев был враг канцелярского многописания, за которым, как он хорошо знал, обыкновенно скрывается или недобросовестность, или бездеятельность. За все время моего состояния при нем в должности как бы управляющего канцелярией мною было написано всего 102 бумаги, считая тут даже приказы по войскам и ненумерованную переписку с некоторыми лицами в Иркутске и Петербурге. Когда я потом был в Ставрополе и увидел, что тамошний штаб, руководивший ходом завоевания Закубанья, выпускал в год более двадцати тысяч бумаг, тогда не осталось во мне сомнения, что действительно, чем более чиновники пишут (всегда, разумеется, лишь для очистки себя от канцелярской ответственности), тем более зла для государства и для самого дела, к которому бумаги относятся. Я понял также, почему деловой генерал Безак отказывал в подписи бумагам более чем в один лист объемом: в бумагах коротких трудно найти место для изворотов и приходится, волею-неволею, говорить только о деле и дело.
После недолгой остановки у Курбатова, во время которой генерал-губернатора посетил архимандрит Петр, знавший китайский язык и одно время предполагавшийся в переводчики, кажется, для посла, мы отправились далее. По-прежнему в одном тарантасе ехали Николай Николаевич со мною, а в другом, нагруженном провизиею на все время нашего пребывания на Амуре, — Шишмарев.
Мы скакали день и ночь и делали около 300 верст в сутки, благодаря состоянию дорог в Забайкалье, тогда гораздо более удовлетворительному, чем, например, в 1868 году, когда я видел их снова. Для ускорения переезда мы даже не обедали между Верхнеудинском и Читою (428 верст), а только пили чай и закусывали по-сибирски жареными рябчиками[4]. Когда подавался самовар, то камердинер генерал-губернатора, приготовлявший чай, должен был одновременно со стаканами для нас троих наливать и для себя с поваром, чтобы церемония чаепития этих почтенных особ «после господ» не отнимала времени. И замечу, что то же правило соблюдалось Муравьевым постоянно в его путешествиях, а их было немало. По приблизительному соображению, за время своего генерал-губернаторства в Сибири он изъездил, по делам службы, 120 000 верст, то есть как бы сделал 3 1/3 путешествия вокруг света, в том числе многие сотни верст верхом на тракте между Якутском и Аяном и многие тысячи на лодках по Амуру. Некоторые из его ближайших сотрудников, особенно адъютантов, делали разъезды в сумме еще более длинные, как, например, Корсаков, над которым смеялись, что он свое атаманство в Забайкалье не выслужил, а выездил. В Петербурге критиковали эту курьероманию; но, по всей справедливости, она была необходима, даже неизбежна. Расстояния в Сибири огромны, передача распоряжений по почте медленна, потому что почта делает 200 верст в сутки, а курьер 300, да и ходит почта во многие места раз в неделю или в месяц, или даже в полгода; телеграфов же, которые в то время плотною сетью растягивались уже по всей Европе, не было на восток не только от Урала, но и от Москвы до 1860-х годов.
Мы приехали в Читу около полудня и остановились в доме губернатора, которого, впрочем, не было налицо. Узнав, что посланник со всею свитою тоже в Чите, Николай Николаевич попросил меня сходить к нему и пригласить на обед. Я исполнил эту миссию и получил согласие графа, хотя у него самого стол был накрыт и он сначала отвечал мне убедительнейшим контрприглашением. Вероятно, отправляя меня к графу Путятину, Николай Николаевич не знал, что в доме Михаила Семеновича Корсакова обеда для нас не готовили, и потому вышла презабавная история. Нашему походному повару пришлось впопыхах готовить походный обед из консервов и подавать его на походном жестяном сервизе. Посол с аккуратностью дипломата пришел в назначенный час, мы сели за стол и — о ужас! — с первого же раза увидели, что походные блюда далеки от идеала кулинарного искусства. Суп с перцем, не довольно разведенный водою, до такой степени жег внутренность рта, что я лишь из приличия съел его три ложки, причем потерял чувство вкуса с лишком на сутки. Адмирал-посланник оказался выносливее, быть может потому, что моряки привыкают к разным крепким приправам, необходимым им от цинги; но я думаю, что и он нашел наш обед несколько спартанским… По счастью, он с третьим блюдом окончился.
Я нарочно рассказал этот простой случай, потому что были люди, которые им воспользовались для целей… вероятно, высшей политики. Перечный обед, с добавлением к нему, впоследствии, гнилых будто бы страсбургских пирогов, стал легендой и комментарием отношений между двумя «дворами» — генерал-губернаторским и посланническим[5]. Я знал потом лично большую часть посланнической свиты; это все были приличные люди: архимандрит Аввакум, барон О. Р. Остен-Сакен, А. М. Пещуров и пр.; но в то время мы были в дипломатической войне, при которой молчаливо подразумевалось, что компромисс невозможен. На мою долю иногда выпадала пренеблагодарная роль заменять собою жир, которым смазывают зубчатые колеса, чтобы машина шла успешнее, не скрипела, и я откровенно сознаюсь, что не умел ее выполнять. Самые, по-видимому, невинные обстоятельства, например посылка в Горбице на посланнические катера большой рыбы, только что пойманной в Шилке, перетолковывались вкривь и вкось… Я начинал понимать тогда, что значит воевать за присоединение Амура не против китайцев, а против своих.
Но оставлю эту печальную сторону великого дела. Errare humanum est {1.12}, и притом перечные отношения между отдельными лицами не помешали успеху общего им патриотического дела… На другой день после нашего приезда в Читу граф Путятин отправился с утра вниз по Ингоде {1.13} на лодках, и мы уже не думали много о нем. Николай Николаевич воспользовался этим утром, до полудня, чтобы побеседовать с читинскими чиновниками о местных нуждах. Чита как областной город тогда почти только возникала. Казенных построек было начато множество, и далеко не все были кончены. Это послужило поводом к долгому разговору с архитекторами и инженерами. Помню, одного из их генерал-губернатор убеждал быть как можно экономнее и особенно не прятаться за урочное положение о работах. «Положение это, — громко сказал он, — сочинено графом Клейнмихелем {1.14}, чтобы обкрадывать государство, и честные лица должны не заглядывать в него» Таких резких отзывов о великих и сильных земли[6] мне дотоле не приходилось слышать из уст других великих и сильных, и я в душе порадовался, что служу под начальством человека, не стесняющегося громко говорить такую правду, о которой было принято повсеместно молчать или говорить втихомолку. Прежде я слыхал о правдивой резкости князя А. А. Суворова {1.15}, но только слыхал, а сам свидетелем не был.
Отпустив чиновников и пообедав, на этот раз кушаньями из свежих припасов, мы снова двинулись в путь. За Читою уже становились заметны приготовления к экспедиции на Амур. По Ингоде сплавлялись плоты, мелкие лодки и баркасы; иногда приходилось слышать, что из таких-то селений идет на переселение столько-то дворов; в других местах толковали о сплаве вниз по Шилке и Амуру целых домов, чтобы иметь в новом краю возможно скорее готовые помещения; по дороге тянулись небольшие обозы с товарами и кладью, тоже назначенными на Амур. В одном месте генерал-губернатор пожелал заехать к знакомому казаку, уже бывшему на Амуре и оказавшему там некоторые личные услуги ему, Муравьеву. Вся семья встретила нас у входа в дом, почтительно, но без унижения кланяясь; при этом служащий ее член был в мундире, но старики — попросту в халатах, столь любезных сердцу забайкальца и вообще сибиряка. Был приготовлен самими хозяевами (простыми казаками, а не офицерами) чай с разными сибирскими снадобьями, неказистыми, но очень вкусными. Николай Николаевич расспрашивал о толках, которые шли в народе относительно переселения на Амур, и не трудно было заметить, что, несмотря на тягость этого переселения, оно популярно между казаками, особенно хвалившими равнины близ Буреи, которые казались им раем в сравнении с даурским нагорьем. Когда маленькая хозяйская дочь, ребенок по третьему году, получила от генерал-губернатора «за угощение» целую пригоршню гривенников и пятиалтынных, совершенно новеньких, то счастью семьи, по-видимому, не было конца. В крае, управляемом единоличной сильной властью, подобные посещения простолюдинов носителем этой власти, мне кажется, имеют большой raison d'être {1.16} и приносят иногда существенную пользу.
В тот же день и даже после этого несколько идиллического эпизода мне пришлось быть впервые свидетелем и небольшой административной грозы. При перемене лошадей в Нерчинске генерал-губернатор заметил, что как они, так и сбруя очень плохи. Он приказал поэтому посадить почтодержателя на гауптвахту… Конечно, последний, по наружности, был неправ; от него, по контракту с почтовым начальством, требовались лошади, хомуты, шлеи, вожжи и пр. исправные; но как-то сам собою представлялся вопрос: отчего же именно в городе, то есть в месте, где живут почтовые власти, станция хуже, чем в соседних селениях? Не была ли причиною исхудания лошадей и сбруи именно эта близость начальств, слишком внимательных к доходам местного клиента или разъезжавших на его лошадях по своим частным делам? Вся Восточная Сибирь знала, что именно по этой причине существовали постоянные беспорядки на почтовой станции в другом уездном городе, Ачинске, где станционная жалобная книга была исписана от начала до конца жалобами на почтосодержателя, вечно остававшимися, по приговору почтмейстера, без всяких последствий. Относительно Нерчинска я впоследствии узнал то же самое; но так как и прежде меня проезжали через этот город сотни читинских и иркутских чиновников, то, казалось бы, дело не могло оставаться в безызвестности с давнего времени. А потому арестование какого-то безвестного мещанина мне показалось совершенно неюридическим и даже противным основному правилу взысканий административных, дисциплинарных, по которому высший начальник всегда должен взыскивать не с младшего из подчиненных, а с ближайшего к себе в иерархическом порядке. Замечу здесь кстати, что корыстолюбие нерчинского почтмейстера стало, наконец, в 1858 году известно генерал-губернатору, и не по тайным сделкам его с содержателями станций, а по явному и наглому вымогательству с людей, вовсе ему не подведомственных. Именно: Нерчинская почтовая контора была в то время крайнею к стороне Амура, где принимались посылки, привозимые, например, из Николаевска, который еще был porto-franco {1.17}. Пользуясь этим, догадливый почтмейстер стал требовать, например, от отправителей манильских сигар, чтобы они в Нерчинске на почте уплачивали ввозные пошлины по какому-то им установленному тарифу. Один из чиновников особых поручений при генерал-губернаторе узнал об этом от самого отправителя сигар, г. Кондинского, и доложил. «Что же мне делать с ним? — отвечал Н. Н. Муравьев, — разве велеть городничему по ошибке в потемках высечь[7] негодяя?.. Ведь вы знаете, что почтовое ведомство у нас status in statu {1.18}. Я не имею никакой власти остановить какое-либо зло, делаемое почтовым чиновником в его конторе. Мало того: я сам делаю в Иркутске визиты губернаторскому почтмейстеру собственно для того, чтобы он моих писем не читал и не задерживал». Признание знаменательное, и которое хотя отчасти объяснило мне, почему за беспорядки на Нерчинской станции был арестован не почтмейстер, а почтосодержатель.
В Бянкине, следующей станции за Нерчинском, мы сели на катера и лодки, нарочно для нас приготовленные, и начали таким образом наше путешествие водою, которое должно было длиться несколько дней. Но, впрочем, не Бянкино и не следующий за ним Сретенск, на Шилке же, служили местом отправления экспедиции. Шилка тут хотя и имеет уже много воды, но довольно неудобна для судоходства по причине быстрин и перекатов. Только очень небольшие плоскодонные суда могут плавать по ней, особенно в малую воду. Вот почему уже с 1854 года точкою отправления амурских сплавов служил Шилкинский завод, верстах в 80-ти ниже Сретенска. Туда, наконец, мы и прибыли, чтобы дать последний толчок предположенному на этот год делу. В заводе — длинном селении, в котором, собственно, горнозаводская деятельность уже не существовала, — устроена была верфь для судов, составлялись и нагружались плоты, строились барки и даже в 1854 году были выстроены два парохода — «Аргунь» и «Шилка». Подготовлением всей экспедиции 1857 года занимался лично военный губернатор Забайкалья Корсаков, а начальниками сплавов или эшелонов были назначены: военного, следовавшего впереди, — майор Языков, командир одного из двух батальонов, составлявших весь экспедиционный отряд, а гражданского, следовавшего сзади и составленного из разного рода казенных грузов, — полковник Ушаков, почтенная личность, честная, но несколько слабая, так что, благодаря ему, в ходе экспедиции обнаружились потом некоторые замедления.
Здесь у места вспомнить, как вообще снаряжались и производились амурские экспедиции. Что это не были нашествия русских войск с целью кого-либо разгромить или покорить оружием, как на Кавказе или потом в Туркестане, — это более или менее известно каждому. Согласно требованию императора Николая, «чтобы на Амуре порохом не пахло», присоединение его не стоило России ни капли крови, ни одного выпущенного патрона. Войска брались на всякий случай, а главное — как рабочая сила для водворения русских оседлостей. В 1854—1855 годах они, правда, отправлялись на низовья Амура для защиты этой местности от англо-французов, и с ними дрались в Де-Кастри {1.19}; но по заключении в 1856 году мира значительная часть этих боевых служак была возвращена. Теперь, то есть в 1857 году, речь шла о солдатах почти лишь как о строителях разных казенных зданий, предположенных к возведению вдоль Амура, да еще как о помощниках колонистам в сплаве имущества и возведении домов. Батальоны должны были сплыть из Шилкинского завода на устье Зеи и по возможности безотлагательно приступить к постройкам жилищ для себя и для казаков как на этом важнейшем пункте предположенной колонизации, так и вверх и вниз от него по Амуру. В случае, если со стороны китайцев опасаться было нечего, предполагалось, на зиму 1857/58 года оставить во вновь занятой стране всего один батальон, а другой вернуть в Шилкинский завод, как рабочую силу и прикрытие для экспедиции следующего лета. Разумеется, что, отправляя солдат в далекий и пустынный край, следовало больше всего заботиться, чтобы они были хорошо обеспечены продовольствием на возможно долгий срок, снабжены средствами для возведения жилищ, устройства для себя огородов, поддержания в порядке одежды и т. п. Все нужные для того предметы, вместе с порохом и оружием, и составляли военный сплав. Так как число гребцов на нем всегда было значительно, то он в состоянии был плыть скоро и прибыть, например, из Шилкинского завода на Зею (1 000 верст) дней в десять. Солдаты и офицеры 13-го и 14-го сибирских линейных батальонов были уже опытны в деле амурских экспедиций, и потому опоздания этого военного эшелона опасаться было нечего.
Гораздо более забот внушал сплав грузовой. Огромное количество муки, круп, соли, спирта, солонины, живого скота, полотен, сукон, кож, разных инструментов и пр. для войск, находившихся в низовьях Амура, и для крестьян, там недавно поселившихся, занимало множество барок и плотов, для управления которыми рабочих найти было нелегко. Правда, доставка этого груза была отдана с подряда одному купцу, но при неизбежном, по существу дела, содействии военной администрации и под надзором ее. Коммерческая ответственность есть, как известно, имущественная, то есть определяется большей или меньшей неустойкой за неисправность исполнения подряда. Но что пользы было бы взять с неисправного доставителя грузов в Николаевск несколько тысяч рублей, когда от его неаккуратности перемерло бы много людей голодной смертью или безвозвратно пострадали бы многие важные интересы государства? Поправить зло в том же году было бы уже нельзя, потому что ведь не на Уссури же или Гырине {1.20} нашлись бы нужные запасы, суда и рабочие для сформирования нового сплава, а думать о втором рейсе из Забайкалья было бы нелепо. Кроме того, тяжкие опыты прежних годов показали, что на Нижнем Амуре, то есть ниже Сунгари, бывают такие бури, которым не всегда могут противостоять даже хорошо устроенные суда; а тут приходилось часть груза сплавлять на плотах; следовательно, нужно было иметь за сплавом строгий надзор и помощь в виде запасных рабочих-солдат.
Наконец, в 1857 году к названным двум элементам всякой амурской экспедиции присоединился в значительном количестве третий, — именно переселенцы с их имуществом. Отправлялись из состава Забайкальского казачьего войска 450 семейств, долженствовавших занять огромную линию от Усть-Стрелки {1.21} до Хингана — около 980 верст. Сплав их шел по Онону, Шилке и Аргуни, и хотя был оставлен на попечении их собственных казачьих начальств, под общим руководством бригадного командира Хилковского, но в конце концов он озабочивал и общее начальство экспедиции, то есть самого генерал-губернатора. В действительности он причинил ему даже больше забот, чем какое-нибудь другое дело в течение лета 1857 года. Казакам-переселенцам выданы были денежные пособия (очень небольшие в сравнении, например, с кавказскими колонистами 1862—1864 годов), обеспечено на первые 14 месяцев продовольствие (на Кавказе на три года) и обещано содействие регулярных войск для постройки жилищ. Но они должны были селиться там, где им укажут, и в первое лето обстроиться, запастись сеном и даже распахать пашни…
Когда мы прибыли в Шилкинский завод, приготовления к началу экспедиции были подвинуты сильно. Вдоль по реке на большом протяжении стояли плоты, барки и лодки, долженствовавшие поднять отряд и военные грузы. Многие из них были совершенно готовы к отплытию; другие, как к удивлению оказалось, еще не начинали грузиться. И именно не погружена была мука, то есть предмет безусловной необходимости.
«Отчего? Где подрядчик?» — на этот зов явился к генерал-губернатору поверенный подрядчика (помнится, купца Серебрякова) — М. А. Бестужев {1.22}, один из сосланных в 1826 году, и объявил, что барки у него давно готовы, но что интендантские чиновники делают каверзу. В контракте сказано, что подрядчик обязуется на свой счет погрузить на барки хлеб с берега, провиантские чиновники хотели этому слову дать такой смысл, что из магазинов, находящихся, конечно, по-морскому, на берегу, то есть на суше, а не на воде, но на значительном расстоянии от реки; а подрядчик, конечно, толковал контракт по-сухопутному, так как моря в Шилкинском заводе нет и слово берег имеет тут один смысл. Ясно было, что интендантские выжиги хотели прижать подрядчика, чтобы взять с него хоть половину той суммы, в которую бы обошлась перевозка хлеба за несколько сот сажен. А сумма была немалая, потому что подводы в Шилкинском заводе в это время стоили очень дорого. Это вывело из терпения Муравьева, который и решился дать чиновникам гонку. Она состоялась на следующее утро, немедленно после представления всех служащих, находившихся в Шилкинском заводе. Лица эти были выстроены в небольшой генерал-губернаторской приемной по старшинству чинов; подходя по очереди, Муравьев с каждым говорил несколько слов, большею частью очень любезных; но трех интендантских чиновников он миновал, сказав им только: «Вы останетесь здесь, когда другие уйдут», — совершенно так, как, бывало, в блаженные времена субботних экзекуций, говорилось семинаристам. И экзекуция последовала, да такая, что я, посторонний, был ошеломлен. Слова «мошенничество» и «воровство» не были самыми сильными и жесткими в грозной речи. Виновным был обещан солдатский мундир; полицмейстеру завода приказано было безотлагательно и за какую бы ни было цену нанять рабочих и подводы для доставки хлеба к баркам из магазинов, а мне поручено написать обер-провиантмейстеру в Иркутск предписание, чтобы он «выгнал негодяев со службы»… Замечательно, что чиновники выслушали диатрибу {1.23} довольно спокойно; вероятно, они к ней готовились, и, конечно, из всех генерал-губернаторских распоряжений самое неприятное для них было — о немедленном найме на их счет рабочих. Немедленного удаления со службы они не боялись, потому что заменить их было некем[8].
После поучения, данного интендантам, приготовления к отходу сплава оживились и, казалось, новых случаев к задержке не было. Но, по пословице, — одна беда никогда не бывает, а ведет за собою другую. В тот же день мы узнали, что одна из барок, нагруженная порохом для Николаевска, слегка затонула, причем порох хотя и был в бочонках, но, конечно, подмок. Где-нибудь в Англии этот случай был бы пустым, потому что заменить подмокший порох было бы легко. Совсем не то в Восточной Сибири, куда пороховые запасы доставлялись из Казани гужом, так что бочонки бывали в дороге по четыре месяца. Порох был вещью важною. Но, разумеется, с неудачею пришлось помириться. Узнав, что подмочка не особенно велика, я позволил себе предложить пересушку пороха с тем, чтобы потом сдать его в горное ведомство для взрывов скал. Мысль моя была одобрена, но ведь горное ведомство могло заартачиться, сказать, что ему не нужно дряни, или принять запас с оговорками, что в нем лишь столько-то годного материала, а остальное подлежит сложению со счетов, и т. п. На подобные оговорки бюрократы вообще большие мастера, а бюрократы-хозяева в казенных делах — особенно. К счастью, ничего подобного не случилось. Н. Н. Муравьев умел подбирать себе сотрудников, у которых честное отношение к делу было первым законом их службы, а крючкотворство стояло на самом последнем месте. Начальником нерчинских заводов был в это время умный и благородный полковник Дейхман — тот самый, что потом пострадал за человеколюбивое обращение с Михайловым {1.24}. Узнав, в чем дело, он без затруднения согласился принять подмоченный порох в горное ведомство, и таким образом казна избавилась от многих тысяч издержек, а у генерал-губернатора дело ограничилось тремя распоряжениями: Ушакову — сдать, Дейхману — принять и в штаб, в Иркутск — заменить затонувший порох. Власти в Николаевске должны были узнать о случае от самого начальника сплава.
II
Мая 26 и 27 экспедиция, по мере изготовления к отплыву, стала трогаться в путь. Вдоль по Шилке потянулись разбросанные на большом пространстве барки, плоты и лодки. Генерал-губернатор и посланник ехали на двух совершенно сходных катерах с небольшими домиками на палубе; свита графа Путятина — на довольно большой барже, тоже с приспособлениями для жилья, а я и Шишмарев — на маленьких лодочках-душегубках, с одним гребцом каждая. Берега Шилки, обставленные суровыми, скалистыми горами, на которых растет исключительно хвойный лес, представляли зрелище поразительное по своему пустынному величию, особенно вечером, когда в долине реки темнота наступала гораздо ранее, чем по вершинам гор. Часам к пяти пополудни мы прибыли в Горбицу — последний в то время населенный пункт наш по Шилке {1.25}. Тут, на берегу реки, жил в то время в порядочном доме зауряд-войсковой старшина Скобельцин, который сделал в 1851 году экспедицию в восточную часть Станового хребта вместе с полковником Ахтэ и топографом Крутиковым. Однажды ему, тогда простому уряднику, пришлось на могучих плечах своих нести больного начальника экспедиции и вообще, как в это время, так и впоследствии на Амуре, явить столь мужества в перенесении трудов и лишений, столько настойчивости в достижении целей, ему указанных, что генерал-губернатор, не имея возможности повести его далеко по административной дороге, дал ему чин зауряд-войскового старшины (на производство в подобные чины он имел право) и выхлопотал владимирский крест, дававший в то время права дворянства. Подобно другим почетным казакам, Скобельцин жил оборотами по меховой торговле, скупая меха у тунгусов и собственных сослуживцев-охотников. В доме было заметно довольство, но простота господствовала патриархальная. Н. Н. Муравьев остался у него пить чай, вспоминал его службу, спрашивал его указаний насчет хозяйственных условий Амурского края и вообще оказывал столько внимания, сколько мог. Но ночевать у него мы не остались, а поплыли дальше. Ночью экспедиция была еще живописнее, потому что огоньки были рассеяны по реке там и сям, двигались, исчезали за выступами берегов; но скоро мы, то есть два катера, суда свиты и две канонерки, составлявшие конвой, отделились от барж и плотов, далеко их обогнав. Еще день, еще ночь в горной пустыне — и рано утром 26 мая 1857 года мы увидали Амур.
История открытия Америки в повествованиях Вашингтона Ирвинга {1.26} и Прескота, рассказ Мунго-Парко о первом виде на Нигер знакомы с юности каждому образованному человеку. Молодое поколение 1840—1850 годов, кроме того, зачитывалось Гумбольдтом, его странствованиями по Ориноко и Рио-Негро. Мудрено ли, что те из нас, которые впервые увидали Амур, испытывали ощущение, родственное с тем, какое было чувствуемо, например, Васко Нуньесом де Бальбоа, когда он с высот Панамского перешейка увидал впервые Тихий океан. Конечно, Амур не был уже новостью для нас, как для спутников Пояркова и Хабарова {1.27}, но идея, с ним связанная, была так же свежа и величава, как если бы мы сами были первыми открывателями. Смотря на широкий поток, мирно струившийся прямо к востоку, многие из нас думали: там, где-то далеко, почти так же далеко, как от Москвы до Арарата, река эта вливается в море, и это море — Великий океан, единственный открытый путь из России не в Швецию, не в Турцию, не в Персию, а в Америку, Австралию и Южную Азию…
Я с намерением освежаю эти воспоминания, чтобы записать здесь, по поводу их, и другие, которых, конечно, никто не назовет сентиментальными. Еще в Иркутске подполковник Будогосский, мой непосредственный начальник, когда узнал, что ему вообще в течение лета 1857 года не удастся быть на Амуре, стал мне вполголоса говорить, что все амурские экспедиции — фарс, что Амур — дрянная, болотистая река, в которой местами всего на три фута воды, как, дескать, удостоверились в 1855 году спутники адмирала Путятина, что все амурские затеи рано или поздно окажутся затеями. Я не имел тогда достаточно точных сведений о природе Амурского края и хотя, прочтя статьи Пермыкина {1.28} и Аносова и имея в руках съемку Попова (глазомерную, но обстоятельную), не верил Будогосскому, но и не полагал, чтобы его отзывы напоминали отзывы огорченной лисицы о винограде, с придачею еще кое-чего. Теперь я понимаю, что это была ложь, даже намеренная ложь, чтобы вызвать меня на какую-нибудь обмолвку об Амуре, неприятную для генерал-губернатора и, следовательно, долженствовавшую вызвать его нерасположение ко мне… Я немедленно сделал помощью буссоли измерение ширины реки и переехал ее от одного берега до другого с лотом в руках. Оказалось, что ширина достигает 226 сажен, что равно ширине Невы у Литейного моста, а глубина по фарватеру, идущему почти посредине реки, несколько ближе к правому берегу, доходила до 27 футов, то есть почти четырех сажен. Где же правда у тех, которые в Петербурге и даже в Иркутске бросали сомнение на достоинство Амура как водного пути?
Мы простояли часа два в Усть-Стрелочном карауле, расположенном на Аргуни, близ слияния ее с Шилкой, и генерал-губернатор осведомился о том, какие меры приняты, чтобы в этом пункте люди, подлежавшие возвращению с Амура, находили нужные запасы сухарей, спирта, мяса, сухих овощей и пр. Тут следовало бы остаться для наблюдения за сплавом колонистов общему начальнику их, Хилковскому; но Николай Николаевич пригласил его сопутствовать нам в плавании вниз по Амуру теперь же, чтобы осмотреть места, где предназначалось основать станицы, — и сделал ошибку, в которой потом неоднократно раскаивался. Хилковский был умный, точнее — хитрый, казак, которому нравилась мысль попасть на Амур бригадным командиром и развить здесь хорошую торговлю скотом и мехами, уже веденную им в Цурухайту; он был большой домовод, владелец конских табунов; но административные его дарования оказались не особенно великими. Отказаться от сопутствования генерал-губернатору у него недостало или соображения, или воли. Он даже уверял, что караваны переселенцев вполне готовы и плывут — одни по Онону, другие по Аргуни, что все у них в изобилии и пр. Это было далеко не точно.
Плавание наше, то есть генерал-губернатора и посланника с их свитами и двух канонерских лодок с 80 солдатами и двумя пушками, началось от Стрелки часов в 10 утра, и так как Амур был удобнее Шилки, то мы на другой день утром были уже на Кутоманде, небольшом посту, основанном год тому назад и достопамятном в летописях Амура. Здесь мы нашли на якоре пароход «Шилку», чинивший машину. Пароход этот составлял амурский курьез, и потому о нем стоит сказать два слова. В 1854 году, перед первой Амурской экспедицией, были выстроены в Шилкинском заводе два парохода — «Аргунь» и «Шилка», на которые были поставлены кое-какие машины. «Аргунь» сравнительно удалась и плавала несколько лет по Амуру, особенно в низовьях, где течение тихо; но «Шилка» была решительно неповоротливым чудовищем, про которое генерал-адмирал Константин Николаевич {1.29} справедливо сказал, что оно «ходит только по 200 верст в год, да и то по течению». Машина его и котлы занимали чуть ли не две трети емкости корпуса, а сила первой была так мала, что судно решительно не могло ходить против течения. Надеялись помочь горю кое-какими переделками, и с этой целью на Кутоманду, где пароход зимовал, с ранней весны был отправлен капитан-лейтенант Соханский с командой мастеровых и матросов. Он-то нас и встретил теперь, исхудалый, утомленный трудами и лишениями, но не терявший надежды «дать пароходу два узла хода против течения на самом быстром месте Амура». Считая в день средним числом по 14 часов плавания, это дало бы 49 верст в сутки, на более тихих местах, может быть, — 60. Очевидно, игра не стоила свеч, и впоследствии генерал-губернатор приказал сплавить «Шилку» в Николаевск как баржу.
Я сейчас сказал, что Кутоманда достопамятна в летописях Амура; объясню теперь — почему. В 1856 году тут находился склад продовольствия для людей, по окончании сплава возвращавшихся с низовьев Амура. Людей этих было много, и между ними было 600 солдат. Корсаков, за отсутствием Муравьева, уехавшего на коронацию в Москву, распоряжавшийся на Амуре, назначил последним идти вверх по реке, бечевою, по 40 верст в день и даже еще рубить на ночлегах дрова в запас для пароходной навигации следующего года. Это было неисполнимо, но все-таки приказано и, следовательно, предполагалось подлежащим исполнению. И, собственно, беды в таком распоряжении не было бы, потому что от небуквального исполнения его никто бы не потерял, а только люди вернулись бы в Забайкалье неделей-другой позднее. Но беда была в том, что молодой атаман, полагаясь на непогрешимость своих соображений, распределил по Амуру и посты с запасами по такому расчету, что солдаты должны были двигаться по 40 верст в сутки из опасения, что продовольствия, взятого с одного пункта, не хватит до следующего. Ближайший от Кутоманды вниз по Амуру склад продовольствия находился на Кумаре, то есть в 350 или более верстах. Наступил октябрь, когда солдаты достигли последнего склада и получили там сухарей и пр. на десять дней. Приходилось идти по холоду, столь значительному, что на реке каждое утро являлись ледяные забереги. Скоро появилась и шуга, по-русски — сало, то есть мелкий лед, предшествующий замерзанию реки; двигаться не только по 40, но и по 4 версты в день с лодками было нельзя. Приступили к постройке санок, на которых бы можно было везти продовольствие, оружие, кладь и больных; уменьшили дневную дачу и начали подвигаться помаленьку через пеньки, камни, не совсем установившийся лед и пр. Солдатам велено было охотиться в прибрежных лесах; но дичь в этих лесах, постоянно обеспокоиваемая охотниками-тунгусами, держится вдали от реки, и охота солдат была почти бесплодна. Тогда над законами и распоряжениями начальства стал брать верх непреложный закон естественный. Люди начали умирать с голоду, они ели подошвы, ранцевые ремни и т. п. Сам начальник команды подполковник Облеухов съел собственную собаку. Усталые солдаты отказывались идти и ложились умирать; у других являлась мысль питаться человеческим мясом. И несомненно, что случай подобного людоедства был… В 1857 году один из этих людоедов находился на устье Зеи, то есть в теперешнем Благовещенске, и отбывал эпитимию, которая была на него наложена духовными властями. Об уголовном преследовании, разумеется, не было и речи, потому что всякое следствие было бы слишком невыгодно — не для солдата, а для начальников.
Подполковник Облеухов знал, что на Кутоманде есть склад запасов. Он отобрал наиболее сильных людей и послал их вперед известить о несчастье начальника поста. Велика была радость его, когда однажды люди эти вернулись назад и подкрепили отчаявшихся в своем спасении товарищей известием, что хлеб близко… Но на Кутоманду из 600 человек все-таки пришло лишь 330, а 270 остались в холодной пустыне.
Вот этих-то людей могилы мы начали встречать по берегам Амура вскоре после отплытия из Кутоманды. Местами пережившие их товарищи поставили над ними кресты. Завидев такой крест, набожный граф Путятин иногда останавливался и приглашал своего спутника — архимандрита Аввакума прочесть молитву. Но читать над всеми было бы слишком долго, и мы большей частью проплывали мимо них, не останавливаясь… Вечная память этим безвестным страдальцам, жертвам не великого дела, а неумелости тех, кто брался ими распоряжаться…
Плавание наше продолжалось безостановочно, день и ночь. Иногда только мы приставали на короткое время к берегу, чтобы перед обедом или завтраком дать время стянуться всему каравану. Обедали и завтракали обыкновенно на катере Н. Н. Муравьева, где всегда шла живая беседа, прекращавшаяся только на короткое время ночью. А ночи в начале июня так недлинны! Только раз до самого устья Зеи мы встретили людей: это были орочены, ловившие рыбу особого рода снарядами среди реки. На вершине треножника, связанного из жердей, которые воткнуты в дно, сидел косматый тунгус и зорко наблюдал, когда рыба попадет в снасть; тогда другие, на лодочках, подъезжали и выгружали пойманное. Первые следы китайских оседлостей встретились на Улус-Модоне, где был расположен маньчжурский караул, вероятно, для наблюдения за рекой в этом любопытном месте, где она описывает замечательную двойную излучину, почти в виде цифры 8, и где перешейки между кривыми коленами так узки, что каждый из них можно миновать пешком в полчаса, тогда как по реке приходится плыть около 30 верст.
Июня 3, перед вечером, показалась вдали маньчжурская деревня Сахалян. По карте, здесь должен был находиться на левом берегу Амура, то есть против деревни, наш пост; и в самом деле, мы скоро заметили казаков, выстроившихся на площадке. У берега была сделана небольшая пристань из досок на козлах. Мы причалили и вышли на сушу. Пожилой казачий офицер, начальник караула, по обычаю отрапортовал, что «на Усть-Зейском его императорского величества посту {1.30} все обстоит благополучно», и когда генерал-губернатор спросил его: «Сколько у вас умерло за зиму людей?» — с небольшим вздохом, но официально-холодно отвечал: «Двадцать девять, ваше высокопревосходительство!» А у него и вся команда-то состояла из одной сотни!.. Почтенный этот старец был сотник Травин, которого потом мы все научились уважать.
Поздоровавшись с казаками и поблагодарив их за трудную службу, Н. Н. Муравьев захотел посетить кладбище, где были похоронены умершие их товарищи. Архимандрит Аввакум был приглашен на этот раз отслужить уже панихиду. И вот мы собрались, с непокрытыми головами, в одной небольшой пади или лощине, где стояло несколько крестов, прослушали унылую молитву и живо вспомнили, что здесь, на далеком Востоке Азии, все мы, живые и мертвые, правые и левые, красные и зеленые, — члены одной великой русской семьи, что когда-нибудь история вспомнит и о скромном кладбище под увалом левого берега Амура, и о тех, кто в виду его готовились… кто знает? может быть, тоже лечь в могилу в том же далеком от родины краю. Утешением могло быть одно именно, что край этот отныне можно уже было считать несомненно русским.
На другой день, оставив меня распоряжаться нашим водворением на посту, генерал-губернатор отправился лично провожать посланника вниз по Амуру. Скоро начали подплывать солдаты с их барками и плотами. На основании приказаний генерал-губернатора я указал им место, где причаливать, а сам занялся съемкой той обширной равнины, которая составляет стрелку при слиянии Амура с Зеею. Когда Николай Николаевич вернулся с проводов, простиравшихся до Айгуня {1.31} (30 верст) и даже далее, то мы втроем, то есть он, я и Хилковский, пошли осматривать местность, чтобы оценить годность ее под поселение. Так как Хилковский в деле оценки угодьев считался авторитетом, то и признано было генерал-губернатором, что лагерь, а в будущем и город могут быть поставлены на равнине. И хотя можно было опасаться, что она подвергается наводнениям при разливах, но как сотник Травин объявил, что в этом году разлив нигде не распространялся на осмотренную местность, то я получил приказание разбить для пехоты и артиллерийского дивизиона лагерь. Войска, оставленные было мною немного лишь ниже поста, против увалов, сплыли версты на две вниз и приступили к выгрузке тяжестей и к постройке бараков из двойной плетневой ограды, с промежутком, набитым землей.
Работа закипела. Немедленно, верст на десять вверх по Амуру и Зее от места их слияния, был вырублен весь прибрежный тальник, и началось сооружение из него плетней. Ветвям не давали даже увядать, и потому скоро заметили, что по мере того как промежутки между плетнями наполняются землей, самые плетни начинают прорастать и давать большие ветви внутрь и внаружу бараков, что не обещало приятных условий для здоровья солдат. Но так как батальонные начальства, имевшие в своем распоряжении лекарей, не жаловались на это обстоятельство и, напротив, говорили, что это всегда так бывает, то бараки беспрепятственно строились и покрывались тоже плетнем и слоем земли с зеленым дерном сверху. Строился еще дом для будущего начальника отряда и всего края, но это был дом из дерева, даже вполне сухого, потому что здание было перевезено разобранным из Бянкина, где уже служило жилищем бригадному командиру.
Лагерь возникал быстро и скоро принял определенную форму. В нем ежедневно игралась заря, и при этом делался холостой выстрел из пушки. Как ни невинно было это последнее занятие, но на китайцев оно наводило ужас. Жители деревни Сахалян разбегались при выстреле, как, по крайней мере, уверял нас У-бошко, или унтер-офицер китайской армии, проживавший почти безвыездно у нас на посту, конечно, в должности шпиона. Этот У-бошко был преоригинальная личность.
Наблюдатель-философ, знавший два языка — китайский и маньчжурский, он с ученою важностью делал какие-то заметки на одном из них, конечно, для представления их начальству; но в гораздо большей дружбе жил он с нашими людьми, чем со своими. Причина понятна. Патриотическому соглядатаю в бытность на нашем посту не только не угрожали пуля в лоб или хоть плети, но частенько перепадали то плитка серебра рубля в три, то серебряные часы рублей в десять, то кусок синего драдедаму на курму, то какой-нибудь другой подарочек. Все это он принимал, показывая на свою шею, на которую будто бы легко может быть надета петля за дружбу с нами; но все, особенно плитки, с охотою прятал в неизмеримо глубокий и широкий карман и отвозил домой в потайной сундук, чтобы не возбудить зависти соседей и подозрительности начальства, которое бы, конечно, вещи отобрало, а его вознаградило бамбуками. У него был небольшой, но хороший компас в деревянной оправе, на которой имелись солнечные часы, устроенные как раз для параллели 49°, под которой лежит Айгунь. Когда я показывал ему свою буссоль, шмалькальдеровой системы, он хвалил ее отделку, но находил, что медь тут потрачена напрасно, что стрелка теряет часть чувствительности в металлической оправе, что металлы ржавеют и т. п. Откуда он почерпнул такие обширные познания в физике, я не знаю; но он чувствовал свою силу и относился с некоторым пренебрежением к нашим солдатам и казакам, которые хотя компас и видали, даже умели его употреблять на охоте в тайге для узнания, где север, но ценить его качеств не могли. У-бошко у себя дома пил просяную водку, или майгалу, которая прескверно пахнет; вот почему, когда мы познакомили его с европейскими спиртными напитками, он стал откровенно предпочитать их отечественному, хотя никогда не напивался пьяным. Иногда он начинал хвастать величием Небесной империи, но вид заряженного ружья с примкнутым штыком, стоявшего в козлах, обыкновенно скоро возвращал ему смирение, и он замечал, что по части машин и оружия мы в союзе с нечистой силой. Вид парохода «Лена», пришедшего с низовьев Амура и имевшего, по-американски, одно движущее колесо сзади, а на палубе надстройку в виде дома с башней, также заставлял его только помахивать головой и прищелкивать языком, чтобы выразить, что нехорошо честным людям прибегать к помощи дьявола.
Однажды, помнится, дней через 7—8 после нашего приезда, У-бошко возвестил, что айгунский амбань имеет в виду прислать к нам на пост посольство, в составе трех офицеров и множества солдат на джонках, для принесения генерал-губернатору поздравления с счастливым приездом. Хотя парохода, то есть самого чудесного выражения нашего чувственного и вещественного превосходства над китайцами, в то время еще не было на Усть-Зее, но, разумеется, мы отвечали, что будем очень рады послам, и потребовали их списка для приготовления каждому подарка по чину. Когда список был доставлен, то Я П. Шишмарев целый день возился с отмериванием сукна и плиса, счетом плиток, раскладкой по коробочкам часов и т. п. Амбаню был приготовлен большой кубок, или кружка, из золоченого серебра; из надписи на этом сосуде я с удивлением увидел, что он когда-то принадлежал Августу II, королю польскому, и, может быть, наполнялся им вином при дружеских свиданиях с Петром Великим. Подарки ведь присылались из Петербурга, от кабинета, и что мудреного, что какой-нибудь «старый хлам» оказывался там настолько ненужным, что его назначали к ссылке на Амур или в Монголию.
В назначенный день и час посольство прибыло. Мы приготовились встретить его с возможною торжественностью; но надобно заметить, что это, при нашей обстановке, было нелегко. Н. Н. Муравьев жил в палатке шагов в восемь длиною и столько же шириною, да еще и из нее часть была отделена занавеской, за которой стояла кровать. Приемная зала, стало быть, была необширна. Мы же с Шишмаревым помещались в такой низкой и темной землянке, что только после некоторой практики я привык в ней рассматривать предметы и не получать синяков на голове от ударов о крышу и перекладины. К себе мы не могли бы принять с некоторым приличием даже китайского прапорщика. Итак, все подлежавшие приему направились к генерал-губернаторской палатке. В ней прямо против входа стоял у стены диванчик, обитый ситцем, длиною аршина в два; на нем восседал один генерал-губернатор, подобно бурхану в буддийской часовне. Налево от него, то есть на местах по-китайски более почетных, были посажены я, Травин и Шишмарев, а три складные стула на правой стороне были оставлены для китайцев. Когда они вошли, генерал-губернатор приподнялся, дружески приветствовал их и усадил по чинам. Esprit fort {1.32} посольства был, очевидно, майор; но так как он был мал по чину, то впереди его был выставлен амбанем гусайда, то есть полковник, отличавшийся угрюмою молчаливостью. Почтенные послы поспешили высказать чувства самой теплой дружбы и глубочайшего уважения от амбаня к генерал-губернатору и при этом объяснили, что амбань, желая засвидетельствовать их вещественно, просит сделать ему честь — не отказать в принятии некоторых подарков. «Подарки эти, — прибавляли послы, — не богаты; но это лишь потому, что сам амбань недавно в должности и не успел разжиться». К этому спичу пояснением явилась довольно крупная черная свинья, которую два бошко немедленно внесли в палатку и положили перед генерал-губернатором. Свинья была со связанными ногами, между которыми был продернут шест, на котором ее внесли; легкий намордник мешал ей громко визжать в присутствии сановников, но она все-таки издавала глухие звуки, естественные в ее положении. Хотя никто из нас не был предупрежден о таком удивительном подарке, но ни один не позволил себе улыбнуться. За свиньею последовали ящики с конфетами из маковых выжимок на касторовом масле и мешок рису. Это уже от самих послов[9]. После этой части аудиенция началась угощением с нашей стороны. Перед генерал-губернатором на столике были поставлены поднос с винными ягодами, миндальными орехами, изюмом и т. п. да бутылка красного вина. Китайцы и мы угощались с полным уважением к величию обеих дружественных держав, то есть на правах совершенного равенства. Но вдруг плохо цивилизованный гусайда достал кисет, набил трубку и пожелал ее закурить. Это уже выходило из этикета, и генерал-губернатор приказал немедленно подать трубки не только себе, но и нам всем. Нужно заметить, что я и Травин не курили совсем, но тут принесли жертву на алтарь отечества, для поддержания к нему должного уважения в надменных сынах Срединного царства.
Когда аудиенция кончилась, началось наделение всего посольства подарками от имени генерал-губернатора. Гусайда и майор получили золотые часы, прапорщик-секретарь — серебряные; все еще по нескольку аршин сукна на курмы; унтер-офицерам тоже давались сукно или плис и по две плитки серебра, солдатам — по одной плитке. Плут У-бошко и тут успел примазаться для получения подарка, хотя он не принадлежал к составу посольства. Китайцы отвалили от берега на своих джонках совершенно довольные; мы тоже были очень довольны. Ясно было также, что цзянь-цзюнь Муруфу (генерал-губернатор Муравьев) внушает им величайший страх, а следовательно, и уважение. Они даже явились перед ним в роли просителей, именно передали ходатайство амбаня запретить майору в лагере стрелять вечером из пушки, чтобы не пугать народ. «Лучше бы даже было вовсе задвинуть ваши пушки в сарай, — поясняли послы, — ведь вот в Айгуне есть тридцать орудий, однако мы не показываем их вам, чтобы не пугать вас напрасно». Нужны были весь навык Николая Николаевича обращаться с китайцами и все сознание нами торжественности момента, чтобы не хохотать от души.
Но если со стороны Китая дела наши шли хорошо, то со стороны Забайкалья известия были неутешительны, или, лучше сказать, — не было никаких известий. Ни о колонистах, ни о грузовой флотилии Ушакова — ни слуху ни духу, что очень беспокоило Николая Николаевича. Наконец, прибыл курьером с бумагами адъютант его Гвоздев, брат нужного тогда всем провинциальным администраторам директора департамента в Министерстве внутренних дел. Он привез сведения, что транспорт Ушакова идет, но что плавание его совершается очень медленно, потому что барки построены не рационально, слишком громоздки, тяжелы, глубоко сидят, неповоротливы; их часто наносит на отмели, и снимание с таковых отнимает много времени, иногда при этом нужно бывает их разгружать. Это было явлением странным, потому что опыт трех предыдущих лет достаточно показал, какие суда пригоднее всего для Амура. Конечно, слишком мелких строить было нельзя, потому что в низовьях реки бывают такие бури, как на море, и мелкие лодки подвергаются опасности быть залитыми водой прежде, чем достигнут берега; но излишне громоздкие барки составляют затруднение, особенно когда на них мало рабочих, как было в настоящем случае. Возник вопрос, кто строил барки? И оказалось, что корабельный инженер капитан Бурачек, который вскоре и подвернулся под руку, так как изящная его лодка с домиком и другими удобствами прибыла одной из первых. Капитану, человеку очень набожному и потому иногда проводившему за молитвою время, которое могло бы быть употреблено на наблюдение за постройкой судов, сделан был нагоняй, сначала довольно мягкий. Он возражал, оправдывался и не без чувства оскорбленного достоинства утверждал, что строил барки так, как предписывает наука судостроения, как он, специалист, знает и понимает.
«Мало ли как глупые головы могут понимать? — сказал тогда, весь вспыхнув, Муравьев. — Берясь за дело, практически им незнакомое, они должны спрашивать совета у других, людей опытных, а вы этого, видимо, не сделали» и т. д. Это было до такой степени по-генеральски, по-аракчеевски, что у меня что-то оторвалось в груди, и с тех пор я стал холоднее к человеку, в котором дотоле видел почти одни хорошие качества. Бывший камер-паж, очаровательный светский человек, друг декабристов — и такая неблаговоспитанность, наглость!.. Нужно, однако, сказать, что в самом деле никто так много не помешал успешности сплава 1857 года, как капитан Бурачек. Ему было все равно, как и когда дойдут в Николаевск построенные им барки; а между тем несчастные рабочие на этих барках, измученные во время сплава вниз, должны были еще возвращаться по Амуру вверх, в самое неприятное время года, поздней осенью, и с ними могла повториться история прошлого года, хотя теперь число постов на Амуре и было значительно больше.
Вскоре за капитаном Бурачеком явился на Усть-Зею другой виновник медленности отправления амурских грузов — титулярный советник Журавицкий, один из тех трех интендантов, которые уже подверглись экзекуции в Шилкинском заводе. Он тоже плыл на прекрасном баркасе с удобствами, превышавшими комфорт катеров генерал-губернаторского и посланнического. Ему новый гонки уже не было, а вручено рекомендательное письмо к адмиралу Казакевичу такого содержания, что служба его в Николаевске делалась невозможной.
Наконец, явился и сам начальник сплава, почтенный А. М. Ушаков, — усталый, почти разбитый нравственно, потому что он хорошо понимал, какие вредные последствия может иметь запоздание его транспорта, и знал, как близко принимает к сердцу успех порученного ему дела генерал-губернатор. Муравьев долго и не раз беседовал с ним то у себя в палатке, то ходя по берегу реки и глядя на проплывавшие суда. В добросовестности, усердии Ушакова сомневаться было нельзя; достаточно было взглянуть на этого человека, чтобы видеть, что он в порученное ему дело вложил всю душу; но Николай Николаевич, отпустив его, все-таки винил себя, что сделал выбор неудачный, не по характеру лица.
Почти одновременно с начальником сплава прибыла на Усть-Зею и самая курьезная часть его экспедиции — баржа с шестьюдесятью ссыльно-каторжными женщинами, которые отправлялись в Мариинск и Николаевск для поступления в тамошние линейные батальоны… прачками и кухарками. Строгий блюститель целомудрия, Ушаков поставил эту баржу на якоре посреди реки и приказал отвязать лодки, с помощью которых интересный груз мог бы сообщаться с берегом. Но генерал-губернатор смиловался над судьбою заключенных в этом плавучем остроге, и обитательницы его имели возможность выйти на берег и посетить не только пост, но и лагерь, конечно, к немалому удовольствию казаков и солдат, нравы которых начали уже грубеть от отсутствия дамского общества. Я слышал потом, что и на постоянных их квартирах, в казармах 15-го и 16-го батальонов, они производили тоже благодетельное влияние и, под именем «тетенек», приобрели общую привязанность солдат, которым, конечно, не только варили обед и стирали белье, но и оказывали разные другие услуги.
Так как и Ушаков не привез никаких известий о движении колонистов, а между тем уже начинался июль, то, чтобы ускорить постройку домов во вновь предположенных селениях выше и ниже Усть-Зеи, решено было немедленно отправить туда солдат с рабочими инструментами. Люди 13-го линейного батальона, назначавшиеся к возвращению на зиму в Шилкинский завод, потянулись вверх по Амуру; часть 14-го батальона — вниз, на Бурею и к Хингану. С последними генерал-губернатор приказал отправиться и Хилковскому, которому было написано, что «успешный ход колонизации возлагается на его опытность, благоразумие и ответственность». Этого последнего Хилковский не ожидал, потому что, не получая прямого назначения в начальники вновь возникавшей линии, он полагал, что роль его — выбрать места под селения, указать их колонистам-казакам, и самому вернуться в Цурухайту. Соответственно этому он и не увеличивал своего дорожного скарба, — слишком легкого, чтобы с ним проводить на Амуре не только зиму, но и осень. С отплытием большей половины солдат лагерь и пост наш как бы опустели; жизнь становилась скучной, а для Муравьева просто мучительной, как по недостатку для него привычной деятельности, так и потому, что важнейшая задача его трудов нынешним летом — успешное водворение колонистов — решалась очень неудовлетворительно.
Среди этого тоскливого положения прибыл на Усть-Зейский пост давно ожидаемый мною топограф Жилейщиков. Скромный юноша этот был затерт людьми более видными и, можно оказать, забыт при снаряжении сплава, а потому порядочно опоздал на Амур. Рассерженный уже ходом дел и особенно разными запаздываниями, генерал-губернатор, когда я доложил ему о приезде топографа, приказал мне разжаловать его из унтер-офицеров и в ы с е ч ь… Вся кровь хлынула мне к сердцу от досады на такую явную несправедливость. Как! Не спрося даже у человека, отчего он опоздал, распоряжаться им, как пойманным на месте преступления вором? И почему? Потому что адъютант Моллер уверял, будто им были приняты меры к скорейшей доставке на Амур Жилейщикова, но тот сам не хотел… Я промолчал в генерал-губернаторской палатке, но, придя к себе в землянку, с негодованием сказал Шишмареву, что не исполню порученного приказания, хотя бы это стоило мне академических аксельбантов и изгнания из Восточной Сибири. И не исполнил. Жилейщикова я немедленно отправил на съемку, приказав ему носить шинель без погонных галунов и не показываться на посту; и тем дело кончилось. Одумавшись, Николай Николаевич, вероятно, сам понял, что отдал распоряжение сгоряча, а потому не тревожил меня напоминаниями. Но мне казалось, что после этого случая он стал ко мне холоднее, стал скорее начальником, чем человеком, который меня называл своим наперсником, в котором я чтил вовсе не его чины и звания, а внутренние достоинства, и у которого искал себе не награды, а доверия и ничего более.
Вскоре затем прибыл новый курьер, Беклемишев, и рассеял несколько общую грусть. Именно он привез определенное известие, что в некоторых верховых станицах воздвигаются уже постройки, но что движение казачьего сплава потому медленно, что нужно останавливаться рано на ночлеги, чтобы выкормить скот, накосить для него травы на день и т. п. Все подобные обстоятельства, очевидно, можно было предвидеть и принять против них меры, например отделить скот в особый эшелон или отправить вперед, на лодках, косцов и даже рабочих для скорейшего возведения зданий, а главное, нужно было раньше выехать в путь всем вообще. Припоминая уверения Хилковского, сделанные еще в Усть-Стрелке, что все устроено наилучшим образом, генерал-губернатор начинал все более и более негодовать на него.
Беклемишев между другими бумагами привез одну любопытную, из Петербурга. Она касалась железной дороги в Забайкалье. Нужно заметить, что уже со второго года нашего появления на Амуре появились там и американцы, которые смотрят на Тихий океан как на Средиземное море будущего, а на впадающие в него реки — как на законные пути их торговли. Они составили проект соединить железною дорогою Амур с Байкалом и таким образом экономически притянуть всю богатую Восточную Сибирь к Тихому океану. Мысль великая и которая рано или поздно осуществится; но янки мерили вещи слишком американским аршином, полагая, что Амур — эта «азиатская Миссисипи», так же быстро созреет в экономическом отношении, как и большая американская река с ее долиной. В Петербурге, конечно, знали, что у нас дела так скоро не делаются и даже не должны делаться, чтобы колесница цивилизации не пошла слишком быстро вперед и не создала на Амуре новой Калифорнии; а потому приготовили янкам отказ. Поводами к нему были выставлены разные элементарные данные из географии, например, что Восточная Сибирь слабо населена, а берега Амура не заселены и вовсе, что в Забайкалье есть Яблоновый хребет, через который дорога должна переходить, и т. п. Кроме того, прибавлялось, что американцы могут надуть нас: распродать свои акции в России и с вырученными деньгами уехать домой, оставив нас ни при чем. Я уж не помню других доводов, но они были все в том же роде, так что, если бы внимать подобным, то никогда не были бы сооружены ни Суэцкий канал, ни Тихоокеанская железная дорога. Зато заношу здесь, как исторический факт, следующий любопытный отзыв управляющего делами Сибирского комитета статс-секретаря Буткова, данный им Беклемишеву при вручении конверта: «Все это, что написал Чевкин, — вздор, а сущность в том, что нам нельзя пустить американцев на Амур и в Забайкалье. Они разовьют там республиканский дух, и Сибирь отвалится. Вы так и скажите об этом Николаю Николаевичу».
Беклемишев и сказал.
Еще в составе привезенной им корреспонденции было письмо из Парижа. Наверху стояла надпись: «Тюльерийский дворец, 7 мая 1857 года», а внизу — подпись великого князя Константина Николаевича. Это было известное циркулярное письмо ко всем генерал-губернаторам, которые приглашались им сообщать сведения в газету «Le Nord» {1.33}, тогда основанную, по проекту Тенгоборского, в Брюсселе на русские деньги, с целью «просвещать общественное мнение Европы насчет России». Н. Н. Муравьев тотчас же предложил мне писать статьи в этот официальный журнал; но я, отозвавшись малым еще знакомством с Восточной Сибирью, отказался. Мне всегда казалось унизительным писать для света не то, что я думаю и знаю, а что мне прикажут. Поэтому не стал я писать и другой статьи, рекомендованной мне Муравьевым, для напечатания ее уже в Иркутске, именно о бессовестности русских торгашей на Амуре, которые действительно брали, например на Усть-Зее, за сахар по 20 рублей за пуд, тогда как сами покупали его в Николаевске по 7 рублей, а доставка им ничего не стоила, ибо совершалась на казенном пароходе, даром. Впоследствии разные начальствующие лица обращались ко мне с подобными предложениями или, точнее, поручениями, но я всегда воздерживался от роли официоза, конечно, иногда очень выгодной, но нередко опасной и всегда совершенно лакейской.
Наконец, в числе бумаг, привезенных Беклемишевым, были еще два письма из Кяхты. Один местный купеческий старшина и известный аферист, не раз благоразумно банкротившийся, Носков, просил об извещении, каковы вообще наши отношения к Китаю, не доходят ли до войны, так как от этих отношений будет зависеть цена (вымененного уже, то есть русского) чая на предстоявшей нижегородской ярмарке. Если, мол, китайцы дуются, а тем паче грозят, то можно будет на российских потребителей чая накинуть за это процентиков тридцать-сорок против обыкновенных цен. В другом письме местный кяхтинский «либерал из поднадзорных», а в сущности фразер и шляхетский пройдоха, Деспот-Зенович, на нескольких почтовых листах изображал печальное состояние тогдашнего Китая, которое он, по званию пограничного комиссара, наблюдал через маймаченскую заставу. «Перед нашими глазами, — писал он, — разыгрывается последний, замыкающий акт трагедии, где гибнет целый мир, и из-за видимых развалин последнего трудно рассмотреть будущее». Я тотчас узнал по этой фразе о близком знакомстве автора с «Письмами об изучении природы» Искандера {1.34}, и именно с четвертым, в котором речь идет о падении Рима, но промолчал… Носкову было отвечено, что отношения наши с Китаем самые дружественные; либеральный же пограничный комиссар, кажется, не получил никакого ответа на свои выспренние соображения и выкраденные фразы, и мы только про себя посмеялись над ним. Личное знакомство и наблюдение убедило меня потом, что физически из Кяхты можно видеть на юг не далее Гилян-Нора, то есть верст на восемь в пределы Монголии: способен ли был проникать умственным взором в большую даль поднадзорный либерал, — в этом я сомневаюсь. Человек фразы, ходульного величия, академических и губернаторских поз, он умел только рисоваться и заискивать перед начальством, да и то пока оно не разглядывало его, как Хрущев в Западной Сибири; вид же независимости и нравственной честности был напускной, потому что Деспот-Зенович был и есть интриган. А насчет его дальновидности достаточно привести его фразу о предстоящем в 1857 году разрушении Китая, который и доселе благополучно стоит.
За Беклемишевым вскоре прибыл третий курьер, сотник или есаул Кукель, бывший инженерный офицер, скромный как «красная девушка». Он привез, между другими предметами, план предположенной Усть-Зейской станицы, очень изящно начерченный. Тут было все: и церковь, и больница, и дома разных властей, и разные канцелярии (без этого уж нельзя); была даже, кажется, школа (за это, впрочем, не ручаюсь); но проект, совершенно годный для сооружения города на Семеновском плацу или вообще где угодно, не подходил именно к равнине, на которой предполагалось его осуществить. Реки Зея и Амур дали почве этой равнины совсем не то очертание, горизонтальное и вертикальное, какое требовалось по проекту. И вот чертежом полюбовались и свернули его, а первая и до времени единственная улица в новой колонии потянулась, даже не совсем прямолинейно, вдоль гребня небольшой высоты, которую можно было почти с уверенностью считать не заливаемою весенними половодьями, потому что на ней росли крупные березовые деревья. На высоте этой — еще до прибытия колонистов — основано было 18—20 домов по проекту капитана Дьяченко, который прежде служил в южнорусских военных поселениях и был знаком с возведением скороспелых зданий, воздвигавшихся для вида инспектирующему начальству и для первоначального размещения водворенных поселян. Мазанки эти, удобные в сухом климате южной России, оказались, однако же, слишком прохладными в суровой стране устьев Зеи, а их возникновение я извиняю только недостатком более прочного строевого материала и времени на заготовление и подвозку его. Мне потом пришлось видеть эти дома летом 1858 года, то есть после зимовки в них населения: наружный слой глины, которою был обмазан плетень, местами обвалился совсем, и это, к вящему неудобству жителей, случилось именно зимою. Смертность в мазанках была едва ли не сильнее, чем в солдатских бараках.
III
В половине июля, то есть через шесть недель после нашего водворения на устье Зеи, начали прибывать переселенцы. Впереди плыла буреинская сотня, которая должна была водвориться в трех пунктах: на устье Буреи, у входа Амура в Хинганские горы и в какой-нибудь промежуточной точке между этими двумя стратегически важными местностями. Так как не оставалось более сомнения, что и остальные переселенцы, — именно усть-зейская сотня, — должны скоро прибыть на место своего водворения, то генерал-губернатор решился немедленно возвратиться в Иркутск. Меня же он послал осмотреть поселения вниз от Буреи, которых сам посетить не имел уже времени; а на возвратном пути оттуда в Иркутск я должен был сделать подобный же осмотр и съемку местностей во всех остальных, возникших в 1857 году, станицах и поселках. Таким образом, мы расстались на время. Я с топографом и четырьмя солдатами, в виде гребцов, отправился на небольшой лодке и через два дня был на устье Буреи, около того места, где теперь стоит станица Скобельцина. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что чрезвычайно удобный для основания поселка, покрытый дубравою холм, на котором ныне расположено это селение, не имеет и признаков того, чтобы на нем или около него водворились русские!.. Встретившиеся манегры, однако, разъяснили, в чем дело: селение наше возникало не на устье Буреи, а в 26 верстах ниже оттуда. Туда я и отправился, держась неизменно левого берега Амура, чтобы не пропустить возникавшей колонии, так как, с одной стороны, манегры объяснили, что постройки производятся в лесу, несколько в стороне от берега, а с другой — карта показывала, что тут есть острова, за которыми легко было не заметить ни построек, ни стоявших у берега судов, если бы плыть по большому руслу.
К счастью, оказалось, что селение возникало в таком месте, где на Амуре — у левого его берега — нет островов. Река тут течет широким руслом и делает поворот, так что из построенной в вершине угла станицы открывается широкий вид на оба колена, верховое и низовое. С эстетической точки зрения место было выбрано удачно; но озерца, попадавшиеся в окрестном лесу и, очевидно, принадлежавшие к разряду стариц, то есть к составу прежнего русла Амура, заставляли опасаться, что место, выбранное под селение, низко, и если не будет совершенно затопляемо во время полноводий, то легко может обращаться в болотистый остров. Хилковский, которого я тут встретил, был уверен, однако же, в противном, и я не знаю теперь, что в действительности оправдалось: его ли оптимистические предвидения, или мои, — несколько скептические? На вопрос мой от имени генерал-губернатора: почему не возникло селения на устье Буреи? — Хилковский объяснил, что там мало места для ста дворов; оставлять же там 25 семей, для которых холм был достаточен, он не решился потому, что это значило бы вместо трех предположенных деревень расселить буреинскую сотню в четырех, на что у него не было инструкций.
Пробыв в Нижнебуреинской, или, как потом она была названа, Иннокентьевской станице (в честь первого амурского архиерея, потом московского митрополита Иннокентия) около суток, я отправился далее вниз по Амуру. Окружающая его равнина, начавшаяся от самого устья Зеи, была здесь еще роскошнее, чем в окрестностях Айгуня. Я совершенно понял, почему казаки-переселенцы, когда спрашивали их желания относительно места водворения, все желали на Бурею. Таких великолепных угодьев для хозяина-земледельца, как между Зеею и Хинганом, мало в целой России, а в Сибири и совсем нет. Когда я прибыл в станицу Хинганскую — теперь Пашкову — у входа Амура в «щеки», то есть в ущелье, то довольство судьбою у местных казаков-поселенцев бросилось в глаза. Они, только что прибывшие, не упустили случая посадить несколько овощей, которые надеялись собрать осенью, потому что климат тут теплый, особенно по сравнению с Даурским нагорьем. Дуб, вяз, красная береза служили строевым материалом для домов, живописно располагавшихся на возвышенном берегу реки, и работа по основанию колонии кипела.
Недурен был также небольшой поселок, возникавший в пространстве между Хинганом и Иннокентьевской станицей, у Халтана.
Возвратясь с Хингана на Бурею, то есть в Иннокентьевскую, я передал Хилковскому выражение неудовольствия генерал-губернатора на медленность сплава колонистов, сделавшую, очевидно, невозможным «удобное» водворение их на новых местах в текущем году, и приказание ему самому остаться на Амуре на зиму… Это, конечно, огорчило его; но, по-видимому, он был уже предупрежден о своей участи, а равно и извещен о том, что Н. Н. Муравьев, принимая на Усть-Зее тамошних колонистов, наконец прибывших туда после моего отъезда, произнес перед ними речь, не очень лестную для него, Хилковского. Как быть! Не все находили на Амуре обетованную землю, в которой осуществлялись надежды на быструю карьеру… Я забыл еще сказать, что даже Корсаков, забайкальский губернатор, родственник и любимец генерал-губернатора, получил от него, еще до отъезда моего с Зеи, бумагу такого содержания, что потом спрашивал меня: «А что, Николай Николаевич очень на меня сердится?» Бумага была на бланке за номером, а не простое письмо, так что, по справедливости, спуску никому не было.
При обратном плавании с Буреи я держался суши, так что, собственно, плыла одна моя лодка; я же с топографом и одним солдатом, у которого был в руках топор, шел берегом и даже большей частью вдали от реки, чтобы отыскать и наметить дорогу, которая была бы короче, чем вдоль по Амуру, который в этих местах делает многочисленные извилины. Путь в высокой траве, выше человеческого роста, и по лесной чаще утомлял до последней степени; жажда и голод мучили, и в довершение всего, приходя на ночлег к месту, где, по условию, дожидала меня лодка, я не находил спокойствия от комаров, которые не давали спать всю ночь. Четверо суток продолжалось подобное мученье.
На Усть-Зее, разумеется, все обстояло благополучно, как сочли нужным сообщить мне местные власти для доклада генерал-губернатору. И в самом деле, дом начальника отряда был готов и даже меблирован; около него воздвигались кухня и другие пристройки. Лагерь солдат был окончен вполне и если зеленел издали ветвями тальника, выросшего из стен бараков, то в этом беды не виделось, ибо батальонный лекарь рапорта о том не подавал. Только число казачьих домов росло медленно, или, точнее сказать, оставалось неизменным с половины июня, хотя на дворе был и август. Видно было, что с отъездом генерал-губернатора центр тяжести всего амурского дела перешел из жилищ колонистов, составлявших предмет особых забот Н. Н. Муравьева, в батальонные цейхгаузы. Меня это не удивило, но все-таки рассердило, и на прощанье с Усть-Зеей мне пришлось побраниться с бывшим там «за амбаня» майором Языковым из-за установленных им порядков.
Само собою разумеется, что у стесненных в помещении казаков-переселенцев в следующую зиму была сильная смертность, особенно между детьми. Тот рай, о котором они мечтали, собираясь на Амур, для многих из них через несколько месяцев по прибытии туда обратился в могилу.
На Усть-Зее я надеялся найти пароход, который бы мог доставить меня вверх по Амуру в гораздо кратчайшее время, чем лодка, поднимаемая бечевою. Но пароходов не оказалось. А нужно заметить, что их было в это время два — «Амур» и «Лена». Последняя еще в первой половине июня прибыла из Николаевска. Потом она была отправлена вверх по реке до Шилкинского завода, но ходила так медленно, что по возвращении на Усть-Зею вызвала целую бурю у генерал-губернатора против капитана. Последний, капитан-лейтенант Сухомлин, был, вероятно, хороший моряк, но при плавании по реке оказался более осторожным, чем позволяли обстоятельства. Он всякий вечер останавливался на якорь и стоял до рассвета; он плавал медленно, чтобы не въехать где-нибудь на мель с разлета. Результатом было запоздание на Зею и та буря, о которой я сейчас упомянул. Муравьев отрешил его от командования пароходом и дал такую грубую гонку, что у бедного Сухомлина сделалась истерика и пошла горлом кровь. Я застал его на Усть-Зее как бы в заточении, в ссылке, больным, желтым и не могшим говорить о генерал-губернаторе иначе как с чувством непримиримой ненависти. Очень многие ему сочувствовали, да и нельзя было не сочувствовать[10].
Что касается парохода «Амур» и его капитана Болтина, то они были счастливее. По прибытии из Николаевска на Усть-Зею в конце июня они были отправлены на низовье реки, где и плавали как хотели, без понуждений и гонок, до самого конца навигации. Но осенью и с «Амуром» случился грех: он сел на мель в Уссурийской протоке и, за постепенной убылью вод, должен был остаться там и на зимовку. Командир принял меры, чтобы судно не затерло льдом при весеннем вскрытии реки, то есть вбил кругом парохода несколько свай. Но так как в Уссурийской протоке жить было скучновато, то Болтин бросил свое судно и отправился в Иркутск, чтобы… жениться! Дело устроилось как нельзя лучше. Через неделю по прибытии он сделал предложение лучшей иркутской красавице m-lle Геблер, а через две женился. Нужные на свадьбу и медовый месяц деньги дал богатый холостяк, иркутский золотопромышленник С. Ф. Соловьев, и молодая парочка блистала на иркутских балах. Это было совершенно по-амурски. В Иркутске ведь не раз женили амурцев — правда, матросов и кочегаров, — на совершенно незнакомых им женщинах в день или в два, даже великим постом, и обыкновенно откупщик давал при этом новобрачным по ведру водки, а голова — по красненькой ассигнации. Был даже случай, что офицер (Сгибнев) прямо из-под венца с молодой женой отправился на Кругобайкальскую дорогу, которая тогда была не экипажной, а верховой, и — делать нечего! — начало медового месяца провел на почтовых станциях.
Парохода «Лены», как я сказал, не было уже на Зее, когда я прибыл туда. Он, под командой штурманского подпоручика Моисеева (кажется, так), отправился снова вверх по Амуру и первоначально вез Н. Н. Муравьева с его маленькой свитой. Но где-то в окрестностях Албазина он стал на мель, и генерал-губернатор, не желая медлить, отправился далее на лодках, бечевою. На этот раз даже не было катера с построенным на нем домиком, а простая лодка, на которой примостили кое-как навес из досок или из лубка, под которым нельзя было стоять, а только сидеть и лежать… На Амуре вообще не знали той среднеазиатской пышности, которую завел в Ташкенте пожинатель дешевых лавров «ярым-падишах» Кауфман[11]; там уважались только дело и самоотверженная ему преданность, а мишура, фейерверки, колокольный звон в каждом амурце способны были вызвать лишь презрение и насмешки.
Так как на скорое возвращение «Лены» на Усть-Зею не могло быть ни малейшей надежды, «Амур» же еще в июне отправлен был назад, в Николаевск, то и мне предстояло сделать переезд, да еще в целую тысячу верст, бечевою. Дрянная лодчонка, которую мне дали на Усть-Зее, не вмещала под своим лубочным навесом двух; оттого я и топограф, меня сопровождавший, были до крайности стеснены. Еще хорошо было, если места ночлегов приходились около вновь возникавших селений; тогда один из нас уходил спать на берег, в какой-нибудь шалаш. Но это случалось очень редко. Обыкновенно для отдыха солдат-гребцов мы останавливались там, где заставала темная ночь, то есть час десятый вечера, и пристраивались на ночлег как кто знал. Наутро, часа в три, мы просыпались и шли дальше, причем на лодке, в особом котелке на глиняном очаге, варился чай, сначала для солдат — кирпичный, потом для меня с топографом — обыкновенный. Из другой провизии у нас было немного сушеного мяса и ячных круп, из которых мы варили обед, изо дня в день один и тот же и поедаемый с одними и теми же сухарями, которые не следовало рассматривать в микроскоп, особенно там, где они позеленели. Так как был август и ночи становились холодными, а ни у меня, ни у топографа меховой одежды не было, то мы часто дрогли; но молодость, чувство свободы, сознание величия дела заставляли все переносить не только безропотно, но даже без малейшей мысли о недовольстве… Я много работал потом, один и вместе с другими, на разных далеких окраинах России, в Небесных горах, на Кавказе, в Польше; но ничего подобного той общей преданности делу, как на Амуре, — говорю по совести, — не видал; и если эта преданность есть залог успеха дела, если вдохнуть ее в сотрудников есть высшее достоинство вождя, то заслуга Н. Н. Муравьева перед Россией неизмеримо велика. Многие ли бы в состоянии были сделать то, что совершил он, с личным составом помощников до смешного малым, но делавшим многое, во всю мощь нервов и мускулов?
Первый же переезд от Усть-Зеи до Нарасуна, или теперешней станции Бибиковой, около шестидесяти верст, мы совершили с небольшим в сутки, и по прибытии во вновь водворявшееся селение немедленно занялись съемкой окрестностей. Потом я осмотрел работы и расспросил у распоряжавшегося ими лица о плане дальнейшего их производства. Оказалось, что к зиме можно выстроить лишь такое число домов, которое втрое меньше числа семей. Плохо! но все же лучше, чем на Усть-Зее, где один дом приходился на 4—5 семейств; да и нарасунские здания были бревенчатые, а не мазанки. На расспросы мои о хозяйственных удобствах места водворения переселенцы отвечали, что они угодьями довольны, но что на Бурее было бы не в пример лучше. Кто им наговорил о Бурее, — не знаю, но замечу, что на всем Верхнем Амуре отзыв о ней был тот же. Такая, мол, сторонка, что там реки текут медовой сытою в кисельных берегах: бери ложку — и ешь! Я старался разуверить переселенцев, говоря, что, конечно, на Бурее места хорошие, много поемных лугов и пр.; но зато немало болот и нет такого отличного строевого леса, как у них. Они молчали, стало быть, вопреки пословице, не соглашались, а только покорялись, скрепя сердце, воле начальства.
На Улус-Модоне, то есть в знаменитой кривуле, имеющей фигуру цифры 8 или французского «S», та же история. Опять домов гораздо меньше, чем семей, опять толки о Бурее; но тут для разнообразия деревня разделена на два поселка, домика в 3—4 каждый, причем одни построены на южной стороне русского полуострова, а другие на северной, верстах в трех от первых. Строевого леса тут изобилие; солдаты, помогавшие казакам в постройке зданий, гнали из хвойных деревьев смолу. Спрашиваю казаков, довольны ли местом? Отвечают: «Ничего, место просторное[12], только лугов вовсе нет и пасти скота негде, а в лесу много зверья; чуть выпустишь овцу или теленка, ан глядишь — тут и волк. Сено-то на зиму косили вниз по реке верст за пять; ну, а гонять туда скот неспособно через горы и лес».
Хотя был вечер, мы не остались на Улус-Модоне ночевать, а, за окончанием съемки полуострова[13], поднялись еще версты на четыре по Амуру. Ночь была очень свежа, и как только мы пересекли под Улус-Модоном тот кряж, который на картах известен под именем Ильхури-Алиня и который несколько защищает приайгунские местности от северо-западных ветров, то эти ветры отныне начали давать нам себя чувствовать. Это большое неудобство для амурского парусного, да и всякого другого, судоходства, что осенью, то есть когда суда идут обыкновенно вверх по реке, они встречают противный им, верховой, северо-западный ветер. Нигде нельзя поставить парус, чтобы облегчить работу людей, тянущих лодку, или даже совсем усадить их в последнюю. В довершение всего, река тут становится быстрее от более крутого падения ложа. Лодка постоянно «поет», бечева натянута как струна, и рулевому нельзя зевать, потому что иначе нос отвернет течением в сторону и лодку отбросит, а то, пожалуй, и опрокинет. Между Улус-Модоном и Кумарою особенно замечательно в этом отношении одно место, где с правого берега выдалась в реку скала, из-за которой вода стремится с большою силой. Нередко у лодок бечева тут обрывается, и их самих несет потом с полверсты по течению, несмотря ни на какие усилия гребцов. Этот «бык» (скала) и водовороты, которые образуются ниже его и живописного утеса Цагаяна, составляют, по моему мнению, самые трудные места на Амуре для плавающих, впрочем только для низовых, потому что те, которые плывут сверху, напротив, только выигрывают от быстроты течения реки, не подвергаясь ни малейшей опасности.
На Кумаре, то есть точнее — в небольшой, узкой долине левого берега Амура, против устья Кумары, где строилась станица Кумарская, я нашел командовавшего 13-м батальоном капитана Дьяченко. Это был один из наиболее полезных деятелей по заселению Амура. Спокойный, ровный характер, распорядительность, умение обходиться с солдатами и казаками, с начальствами, доставили ему общее уважение амурцев. И у него в станице постройки шли живо, а число домов было значительнее, чем где-нибудь. Он показал мне собственноручный приказ Н. Н. Муравьева о времени и порядке возвращения 13-го батальона в Шилкинский завод. Приказ этот был написан на полулисте бумаги, и на нем сверх месяца и числа стояло: «Пароход «Лена» на мели» — вместо Иркутска или такой-то станицы, то есть вообще взамен обозначения местности, где состоялся приказ.
— Видите, как у генерал-губернатора накипело сердце против моряков: он не утерпел, чтобы не прибавить слов «на мели», — заметил, улыбаясь, Дьяченко. — И я думаю, — продолжал он, — что если бы это не была официальная бумага, то Николай Николаевич написал бы: «разумеется, на мели».
Я готов был разделить это мнение, и вот почему. Приказ был отдан как раз на том месте, где генерал-губернатору пришлось променять пароход на лодку с лубочным навесом, о которой я уже упомянул выше. Кроме того, у него были в свежей памяти: первое плавание той же «Лены», под командой Сухомлина, и полученная на Усть-Зее статья моряка Римского-Корсакова, в которой упоминалось о «счастье вырваться из амурской грязи». Быть может, припоминал он и Невельского, добивавшегося для флота первенствующего значения в Амурском крае, и адмирала Путятина, пустившего на Сахалин японцев и дискредитировавшего Амур в Петербурге, и капитана Бурачека, затруднившего сплав 1857 года неудачной постройкой барок. Причин сердиться на моряков было, следовательно, немало; а затем прибавка к приказу слов «на мели» и даже с «разумеется» очень естественна, хотя и забавна слегка.
Плавание от Кумары до Албазина, где Амур часто разбивается на протоки, иногда очень мелкие, а иногда, в маловодье, и совсем глухие с верхних концов, было очень неприятно, тем более что дни становились все короче, и вечером трудно было идти позднее 8 часов из опасения не различить главного русла от какого-нибудь рукава и попасть в такой, из которого был один выход — назад. Холода по ночам тоже донимали, так что единственным утешением было отсутствие комаров и слепней, которые быстро исчезли при начале свежей погоды. Гребцов мне приходилось менять на постах и селениях, и это было также немалое неудобство. Пока их разыщут, пока они соберутся, а время уходит. На одном посту начальник, какой-то урядник, и вовсе было отказал в гребцах, так что я должен был постращать его арестом. И мне говорили потом многие из посещавших в то время Амур, что с ними случалось то же, так что езда, даже курьерская, не отличалась скоростью. Почему с первого же года водворения русских селений на Амуре не были там устроены хоть небольшие почтовые станции, этого я не понимал тогда, да не вполне понимаю и теперь. Возка почты и курьеров была возложена на жителей, которых это отрывало от работ по устройству домов и хозяйства и, следовательно, разоряло, а я не думаю, чтобы основывать колонии с первого дня разоренные могло быть целью забот государства. Поправлять их, и поправлять сугубыми жертвами, пришлось потом тому же государству. Так не лучше ли было с самого начала устранить причину разорения? Будь на каждом посту хоть по три лошади, по три человека и по одной лодке, это дало бы возможность возить почту (хоть по разу в месяц) и курьеров, если не верхом, то бечевою на лодке, гораздо скорее, чем на людях бечевою же. Да и немедленно были бы набиты вдоль берегов кратчайшие тропинки от одного селения к другому, а у самой реки хоть какие-нибудь бечевники. Там, где бечевника на нашем берегу без работ было сделать нельзя, лошади могли бы объезжать скалы по самым увалам, число которых именно на левой стороне Амура очень незначительно, по крайней мере до входа реки в Хинганские горы. Словом, стоило захотеть, так дело и было бы сделано, как делали его прежде между Красноярском и Туруханском, между Аяном и Якутском, а после — в степях Средней Азии, где даже совершенно ненужный России Зайсанский пост удостоился особого почтового тракта тотчас по своем водворении. Из почтарей-лодочников быстро образовались бы и хорошие лоцманы для пароходов и других судов.
Впрочем, тайна этого неурядья довольно проста: не было денег. Ведь амурские расходы были в то время еще не государственными расходами, а собственно сибирскими или даже только восточносибирскими. Верховное правительство, с обычной ему недальновидностью, не умело ценить важности Амурского края. Слушая сплетни об Амуре графа Путятина и других недругов Муравьева, уверявших, что Амур — болото, в котором всего 3 фута воды и из которого никогда ничего порядочного не выйдет, оно склонно было видеть во всем амурском деле не великую государственную задачу, а «муравьевскую затею», которая, бог весть, удастся ли еще; а потому не давало денег. И это тем более, что после Крымской войны министр финансов, говоря словами Салтыкова, уже «громко вопиял на пустом сундуке», где едва нашел несколько миллионов на церемонии коронации, конечно, более нужные России, чем весь Амурский край. Генерал-губернатору же Восточной Сибири предоставлено было экономничать по разным штатным и вообще местным расходам[14] и сделанные сбережения обращать в «амурский капитал», которым и покрывать все расходы по экспедициям на Амуре и заселению его. Но очевидно, что со страны, в которой было всего 1 000 000 населения, больших экономий сделать было нельзя, а отсюда естественно вытекала скупость в расходовании амурского капитала. Кажется, что весь он в 1857 году состоял из 400 000 рублей, и впереди предстояли большие экстренные расходы по колонизации следующего года. Вот главная причина, что почт, даже в самом зачаточном состоянии, учредить было не на что. Но, впрочем, и тут, по моему мнению, можно было развернуться хоть на один год, чтобы не разорить возникавших колоний. Следовало назначить высокую прогонную плату с версты и лошади или гребца и заставлять проезжих чиновников выплачивать эти прогоны, выдавая им таковые из казны… Впрочем, что толковать о вчерашнем дне? Прошлого не воротишь, и если я говорю здесь об этом предмете, то собственно для того, чтобы объяснить одну из причин, по которым амурская колонизация не вышла такою блестящею, как можно было ожидать по естественным богатствам страны.
На одном из промежуточных пунктов между Кумарою и Албазином мне пришлось воочию познакомиться и с другою из этих причин неуспеха великого амурского дела, быть может, еще более важною, чем недостаток денег. Разумею страшный произвол во всем казачьих начальников. Это давно известно каждому образованному человеку, что военная дисциплина хороша только во фронте и в отношениях чисто служебных, строевых; тут исполнение даже видимо нелепого распоряжения старшего есть безусловная необходимость. Но в сфере экономической, как и в умственной, деспотизм есть нелепость, ничем не извиняемая. Между тем, что же было на Амуре? Вот один сотник, получив в свое управление вновь возникающую станицу, селит ее не при Амуре, а далеко в стороне, под горою, так что занятие рыболовством, самое естественное для жителя берегов большой реки, становится делом трудным, сопряженным с потерею значительного времени. Мало того, поселок свой он строит на болотистой почве и у гнилого озерца, одной из «стариц» Амура, стало быть, в местности гигиенически невыгодной. Генерал-губернатор делает ему замечание, говорит ему даже, что он поступил как азиат-охотник, которому дороже всего быть поближе к лесу и к ловушкам на зверя. Но что будете делать? Деревня строится: она построена там, где пожелал сотник-зверолов. На вопрос мой казакам: довольны ли они своим местом? — я получаю в ответ: «Помилуйте, ваше благородие, разве можно быть довольным болотом?» Не знаю, какова была дальнейшая судьба этого поселка, но, вероятно, его перенесли, на что, конечно, требовались и время, и деньги, и труд, разумеется, самих казаков.
Да мало ли на чем не отзывался со страшною невыгодой военный деспотизм, введенный вместе с казачеством на Амуре. Казак хочет развести свой огород вот там-то — нельзя! Он думает уладить свой дом и двор вот так-то — нельзя! Он собирается на несколько дней на охоту в лес — нельзя! Служба требует пребывания дома. Он хочет съездить в соседнюю станицу, чтобы повыгоднее продать пушнину, за которую местный кулак, станичный начальник, дает очень мало; для отлучки нужно спроситься у того же станичного начальника, и тот, разумеется, говорит: нельзя!.. Словом, чтобы не быть слишком многоречивым на эту тему, расскажу один факт, сообщенный мне в 1868 году в Иркутске бывшим начальником штаба Восточно-Сибирского военного округа, Б. К. Кукелем, в присутствии по крайней мере двадцати человек. Военный губернатор Амурской области Педашенко однажды вздумал посетить староверческие, или раскольничьи, селения, возникшие на призейской равнине, верстах в 50—100 от Амура, и нашел их в цветущем виде уже на второй или на третий год существования.
— Славно вы живете, братцы, — говорил он крестьянам, — гораздо лучше, чем казаки, даром что у них Амур под боком. Отчего бы эта разница?
— А, батюшка, ваше превосходительство, оттого, что мы от начальства подальше, — отвечали крестьяне.
— Гм! — заметил губернатор, — однако же и без властей вам жить нельзя; надобно будет кого-нибудь над вами поставить.
— Отец родной! — закричали крестьяне, — мы люди смирные, между нами ничего худого не случится, а если бы что и вышло, то мы сами выдадим дурня твоему благородию; подати мы платим исправно, повинности отбываем так же; ну, а от начальства избавь!
И толпа бросилась генералу в ноги. Говорят, будто Педашенко упомянул об этой сцене в своем годовом отчете государю, присовокупив, с откровенностью, делающею ему честь, что староверы отнюдь не антихристы, а напротив — образцовые подданные. Недосказанным только остался вывод, что амурские начальства никуда не годятся, но он очевиден сам по себе…
Чем дальше я двигался вверх по Амуру, тем постройки в новых станицах были лучше, потому что везде был вокруг прекрасный строевой лес. Но другие хозяйственные условия представляли мало утешительного. Огородов было разработано мало, полей поднято еще менее. Впрочем, на Верхнем Амуре озимые поля едва ли и теперь в употреблении: там, как и в большей части Сибири, кажется, сеют только яровой хлеб. Скота у поселенцев немного, лошадей в особенности, хотя это были конные казаки. На последнее обстоятельство я невольно обратил внимание, и меня поразила при этом мысль: зачем это в гористой и лесистой Даурии {1.37} мы водворили конницу? Употреблять ее здесь некуда, потому что край — тайга, без всяких дорог; отправлять на службу вниз по Амуру неудобно, а в некоторые времена года даже просто невозможно; движение к Цицикару или хоть к Мергеню {1.38} от Усть-Стрелки, Албазина или Кумары {1.39} немыслимо. Вот если бы конные казаки водворились на Среднем Амуре, от Хингана до Уссури, то они вместе с теми, которые поселились между Зеею и Хинганом, могли бы составить хорошую кавалерию, потому что превосходные луговые равнины в этих местах дают возможность держать многочисленные табуны лошадей. Но случилось на деле, как скажу ниже, совершенно противное: Средне-Амурская низменность занята казаками пешими, а горная страна вниз от Усть-Стрелки — конными.
В Албазине я нашел жилые дома уже оконченными и населенными, и то же было в поселках выше его по Амуру. Число домов, правда, было повсюду меньше числа семей; но важно было уже то, что все люди проводят ночи под кровлей, а не на воздухе или в шалашах, продуваемых ветром. Погода становилась все холоднее, а ночью начинались морозцы, от которых лист немногочисленных здесь нехвойных деревьев желтел и падал. Казаки ждали более глубокой осени и первого снега, чтобы разойтись по лесам на охоту, а тем временем делали загороды около домов, возводили кое-какие домашние постройки, ловили рыбу. Последний промысел велся совершенно на тех же основаниях, как в Забайкалье, то есть ставились снасти из простых жердей с привязанными к ним на веревочках железными крючками или удочками, которые, в числе 15—20, плавали вместе с жердью, в свою очередь привязанною толстой веревкой к тяжелому камню, опущенному на дно реки. На крючки не надевалось никакой наживы, и тем не менее рыба ловилась: так ее было много! Иногда перегораживали легкими сваями какую-нибудь небольшую реку, впадавшую в Амур, и тогда ниже изгороди, в небольшом, обыкновенно искусственном омуте, скоплялось множество мелкой рыбы, которую ели безотлагательно, тогда как крупные породы, пойманные в самом Амуре, частью солились, частью провяливались или коптились и шли впрок. Замечу, что, однако, ни в 1857, ни в 1858 году нельзя было купить на Верхнем Амуре порядочной соленой рыбы, тогда как на низовьях, около Мариинска, приготовлялись хорошие балыки, и еще кем — солдатами!
В Усть-Стрелке я расстался с Амуром, чтобы увидать его не раньше, как через восемь месяцев. Молодцы усть-стрелочные казаки повезли мою лодку по Шилке с быстротою, от которой я уже давно отвык на Амуре, где в последние дни едва успевал делать по 30 верст в сутки. Бросив последний взгляд на великую реку, я засел, согнувшись, под лубочный навес и стал писать отчет о виденном для представления его генерал-губернатору по приезде в Иркутск. Топограф Жилейщиков приводил тем временем в порядок наши общие съемки, и незаметно пролетели три дня, при конце которых лодка моя снова стояла перед домом Скобельцина в Горбице, как три месяца тому назад. Таким образом, поездка моя окончилась, и я пользуюсь этим окончанием, чтобы сказать, что именно было сделано летом 1857 года для заселения Амура.
Казачьи станицы возникли в следующих местах:
1) При устье реки Игнашиной в Амур, в 63 верстах от Усть-Стрелки, теперешняя станица Игнашина;
2) При устье реки Ольдоя, в 27 верстах ниже предыдущей, теперь называется Сгибневой, в память А. С. Сгибнева, командира «Аргуни» — первого парохода на Амуре;
3) Против устья Албазихи, на месте бывшего города Албазина, Албазинская станица, — ныне одно из значительнейших селений на Верхнем Амуре. От предыдущей 83 версты. Внутри ограды старого города были находимы в 1857 году зерна хлеба, брошенного тут русскими в 1687 году перед переселением в Пекин {1.40}; не знаю, пробовали ли новоселенцы сеять эти зерна и получали ли от них урожай, как это бывало в Египте с зернами пшеницы или риса, найденными в развалинах;
4) Против устья Панги, теперешняя Бейтоновская — в память известного героя XVII века Бейтона. От Албазина 39 верст;
5) На устье Буринды, теперешняя станица Толбузина; 78 верст;
6) Близ устья Бусули, Ольгинская — та самая, которую сотник-зверолов построил вдали от Амура; 53 версты;
7) На Ангане, Кузнецова — в честь купца Кузнецова, жертвователя на первую Амурскую экспедицию 1854 года; 63 версты;
8) На Унми, Аносова — в честь горного инженера, составившего первое описание Амура в 1854 году, и потом известного своими геогностическими изысканиями в Амурском крае и в Забайкалье; 75 верст;
9) Кумарская, против устья Кумары, — одна из больших; 87 верст;
10) На Улус-Модоне два небольшие поселка, ныне называемые Казакевичевым и Корсаковым, — в честь двух сотрудников Муравьева по занятию Амура; последний поселок от станицы Кумарской, по реке; 69 верст;
11) На урочище Нарасун, станица Бибикова — в честь бывшего спутника Н. Н. Муравьева в экспедицию 1854 года; 66 верст;
12) При устье Зеи, станица Усть-Зейская, — ныне город Благовещенск; 75 верст от Бибиковой, а от Усть-Стрелки 778 верст, по реке, сухопутно же менее;
13) В 26 верстах ниже Буреи — теперешняя станица Иннокентьевская, от Усть-Зеи, по реке, 268 верст, прямо по равнине не более 170;
14) Халтан, теперь станица Касаткина; 41 верста;
15) У входа Амура в Хинган, станица Пашкова — в память нерчинского воеводы XVII века; от Халтана 50 верст, а от Усть-Стрелки 1 137 верст.
Во всех этих пятнадцати селениях в 1857 году было не свыше 1 850 душ обоего пола, самые большие из них были Усть-Зейская, Иннокентьевская и Кумарская станицы, в которых находились и управления трех переселенных сотен.
К этому оседлому населению нужно присоединить, как первых же русских жителей на Верхнем Амуре, офицеров и солдат 14-го сибирского линейного батальона и дивизиона одной батареи, всего 1 100 человек, так что зимою с 1857 на 1858 год было в теперешней Амурской области около 2 950 русских, разбросанных на протяжении 1 137 верст — расстоянии, равном расстоянию от Москвы до Черного моря. Два небольшие поста, близ устьев Сунгари и на устье Уссури (в теперешней станице Казакевичево), связывали эту длинную линию с небольшой группой русских селений в низовье Амура, возникших в 1855—1856 годах, в пространстве между Мариинском и Николаевском; да было предположено, на том же Нижнем Амуре, но выше Мариинска, основание поселка на Белере, которое, впрочем, было отменено. В общем итоге все русское население на берегах Амура к концу 1857 года не могло превосходить 6 000 душ.
Но горе было в том, что хозяйственные запасы-то колонистов были до крайности скудны. Казаки, прибывшие на Амур из Забайкалья, вообще были снабжены продовольствием на 14 месяцев, и если бы случилась, в течение зимы, какая-нибудь убыль запасов, то пополнить ее не имели возможности, кроме небольшого числа усть-зейцев, у которых в соседстве был город Айгунь с группою маньчжуро-китайских деревень. Ни казна, ни частная русская торговля не могли им подать помощи раньше конца мая следующего, 1858 года. Весь домашний скот и птица должны были кормиться из того же 14-месячного запаса; но первый, разумеется, главным образом, запасами сена, которые населению следовало собрать в первые же недели по прибытии на место, в горячую пору постройки жилищ. Я уже говорил, что в большинстве случаев переселенцы прибыли поздно, и им, по времени года, почти было не до скота. Вот почему часть привезенной из Забайкалья живности была съедена зимою, другая подохла, и рабочая сила к началу рабочей поры 1858 года была в состоянии неудовлетворительном. Этого факта не следует забывать, когда разбирают причины малой зажиточности приамурских жителей. Они, так сказать, были надорваны в силах и средствах для борьбы с природою в самый день их водворения в новом крае.
Отсюда то недовольство, которое видел в 1859—1860 годах Максимов {1.41} и которое дискредитировало Амур и в глазах народа, в первое время увлекавшегося было переселением в Амурский край, и в глазах образованной публики, которая, не имев возможности сама изучать богатые естественные средства новой страны, стала склонною думать, что богатства эти существуют только в воображении некоторых иркутских чиновников, задаренных наградами. Я бы не хотел вдаваться в полемические соображения на этих страницах, однако чувство справедливости требует коснуться как причин, так и результатов этого дискредитирования, отозвавшегося тяжело на Амуре. Замечу именно о Максимове, что доверять ему во всем далеко не следовало: ведь он писал по наказу и с предубеждением. Наказ же был сделан великим князем Константином Николаевичем, который, заступаясь за своих моряков и желая насолить не жаловавшему их Муравьеву, сказал: «А, Муравьев! Он любит рядить всех в шуты: пусть-ка попробует сам побывать в этой роли», — и дал разрешение помещать в «Морском сборнике» разные кляузные против Муравьева статьи. Посланный им с целью изготовления таких статей на самых местах, то есть на Амуре, Максимов широко воспользовался готовыми уже пессимистическими указаниями Завалишина {1.42}, который в 1859—1860 годах стоял в открытой оппозиции Муравьеву и Корсакову, ибо мстил им за равнодушие и даже неблагосклонность, которыми они с 1857 года сменили прежнее к нему доверие. С. В. Максимов, видимо, не хотел принять в соображение, что Завалишин — источник ненадежный уже потому, что сам никогда не бывал на Амуре, а рассказывал со слов каких-нибудь невыгоревших на Амуре плутов, вроде купчишки Ланина, и искателей служебных отличий, огорченных, что не совсем они даются так щедро, как бы желали они. Отношения Завалишина к графу Путятину, бывшему в молодости его товарищем по флоту, а в 1857 году, в бытность в Чите, обласкавшему его, — что не могло быть приятно Муравьеву, — также не были приняты Максимовым во внимание. Мало того, этнограф «Ведомостей Санкт-Петербургской полиции» простер свою бестактность до того, что при самом прибытии в Иркутск нанес Муравьеву личное оскорбление, после которого не мог рассчитывать ни на какое содействие генерал-губернатора к облегчению исполнения своей миссии. Именно, когда Муравьев пригласил наезжего литератора-ревизора к себе обедать, то он отвечал отказом, говоря, что в Иркутске ему делать нечего, что он спешит в Читу, чтобы поскорее увидеться с Завалишиным… Очевидно, что не при таких психологических условиях наблюдения Максимова могли быть беспристрастны, и его поклонникам следовало бы помнить об этом, а не дискредитировать государственное дело большой важности на основании свидетельства фельетониста. Особенно это критическое отношение к максимовским показаниям следовало развить после недобросовестных действий его по отношению к Географическому обществу во время экспедиции в Северо-Западный край. Деньги, и немалые деньги на эту экспедицию Максимов взял, а результатов никаких не дал, вероятно потому, что тут не было никаких Завалишиных и Анучиных, готовыми данными которых можно было воспользоваться, как то было в отчетах о поездке на Амур или в книге «Сибирь и каторга»…
Из Горбицы я тем же способом, то есть плывя на лодке, доехал до Сретенска; но как тут уже можно было ставить на бечеву не людей, а лошадей, то плавание совершилось очень быстро. За всем тем, когда в Сретенске я сел в тарантас и двинулся по сухому пути рысью, делая от 10 до 12 верст в час, то эта скорость показалась мне неблагоразумно большою, и я долго держался за экипаж, опасаясь упасть. Но мало-помалу нервы пришли в порядок, и, несясь на курьерских от Нерчинска к Городищу, я уже заставлял ямщика ехать скорее чем по 15 верст в час.
И скакать было нужно. Уж в Сретенске я узнал, что генерал-губернатор собирается в Петербург. Оставить его без сведения о том, в каком состоянии находился Амур через полтора месяца после его отъезда, значило бы сильно его раздосадовать и даже, вероятно, повредить вообще амурскому делу, потому что и цель его поездки в далекую столицу состояла в докладе о ходе этого дела и получении полномочий, необходимых для его успешного окончания. Переехав на пароходе Байкал, я в ночь двинулся к Иркутску и на заре прибыл в этот город. Экипаж Н. Н. Муравьева был уже подмазан, вещи уложены, и сам он ходил по зале в дорожном платье, когда я явился с докладом частью письменным, частью словесным. Выслушав меня, он приказал начальнику штаба Буссе, — тому самому, который возбудил по смерти своей такую горячую полемику о Сахалине, — прислать меня осенью в Петербург, а сам пошел садиться в тарантас, в котором обыкновенно совершал свой поездки, так как рессорные экипажи мало годятся для езды по дорогам нешоссированным. Это было, сколько помнится, 4 или 5 сентября 1857 года.
IV
Два с половиною месяца, проведенные мною в Иркутске и в Забайкалье (ради составления военной статистики этого края), после отъезда Н. Н. Муравьева в Петербург, были совершенно достаточны, чтобы убедиться, что такое внимание к «новичку», какое оказал мне генерал-губернатор, взяв с собою на Амур, не проходит даром. Не было такой шпильки и даже просто грубости, какой бы не позволил себе Будогосский по отношению ко мне, и если иногда сдерживался, то лишь потому, что знал о предстоявшей мне поездке в Петербург и боялся, что я принесу там на него жалобу генерал-квартирмейстеру и генерал-губернатору. Я молчал, хотя иногда приходилось кусать губы от сдержанного негодования. Чтобы охарактеризовать двумя словами мое положение в это время, скажу, что когда я, для приложения к составлявшемуся мною описанию Забайкалья, начертил маршрутную карту, стоившую мне около месяца работы, то карта эта накануне окончания исчезла со стола, на котором я работал, сидя в штабе. К составленной мною еще в мае карте Маньчжурии и Восточной Монголии, слегка дополненной и налитографированной в мое отсутствие, была изготовлена пояснительная записка и в ней перечислены все мельчайшие сотрудники, а мое имя опущено вовсе. О скрытии от начальства моих амурских съемок уже упомянуто выше. На мои протесты против таких действий, высказанные притом самым деликатным образом, мне были даваемы самые грубые, даже дерзкие ответы.
Тем не менее, 22 ноября 1857 года курьерская тройка понесла меня по направлению к Петербургу, и тот же Будогосский приходил ко мне есть провожальный пирог, желать счастливого пути и даже навязать мне комиссию по покупке шитья, портупеи и т. п. Декабря 9 поутру я был уже в квартире Муравьева, в гостинице Клея. В это время составлялось предположение об экспедиции на реку Уссури для открытия вдоль ее сообщения с теми гаванями Японского моря (Владимирскою и Ольгинскою), которые только что были отысканы пароходом «Америка», возившим адмирала Путятина из Николаевска в Китай. Генерал-губернатор объявил мне, что эта экспедиция будет поручена мне. Лучшей программы деятельности на будущее лето нельзя было придумать, и я с жаром занялся приготовлениями к предстоявшему странствованию: перечитал все, что было писано о Маньчжурии и Японском море, скопировал карты, сделал длинные выписки из Лаперуза {1.43} и Браутона {1.44}, выпросил у барона Ливена дубликаты многих книг о Восточной Азии, находившихся в библиотеке Главного штаба, для доставления их в Иркутск и т. п. Но особенно счастливым я считал себя при этих приготовлениях тем, что имел случай встретиться с двумя знатоками тех местностей, в которые мне предстояло отправиться, — с профессором Васильевым и адмиралом Невельским. В. П. Васильев с обычным ему великодушием сообщил мне опись реки Уссури и даже предложил не переписывать тетрадки, а оставить за собою оригинальную ее рукопись. Это был поступок, достойный истинного служителя науки, чуждого всяких личных расчетов. От него же я получил только что отпечатанное им в «Записках Географического общества» общее описание Маньчжурии, составленное по китайским источникам и во многом дополнявшее Риттера {1.45} даже в переводе его, сделанном в 1856 году с дополнениями по новым источникам. Г. И. Невельской был не менее любезен. Он лично навестил меня в скромной моей квартире в одной из отдаленных частей Петербурга, пригласил к себе, в течение нескольких вечеров беседовал со мною о Нижне-Амурском и Уссурийском краях, о которых имел обширные сведения, частью как очевидец, частью из расспросов у гиляков, мангун и гольдов. Опасаясь, чтобы я чего-либо из сообщенного им не забыл, он начертил на особом листе эскиз страны между Уссури и Японским морем и тут же написал на полях пояснительный текст. Словом, В. П. Васильев и Г. И. Невельской сделали все, что могли сделать люди высокого благородства и любви к делу, так что и теперь, через десятки лет, я не могу без горячего биения сердца вспомнить об их ко мне участии. Их сообщения я храню как святыню.
Геннадий Иванович Невельской, как известно, оставил свои «Записки» о времени первых наших движений в Амурском крае, в которых ему принадлежала столь видная роль. Живя за границей, я не имел случая читать эту книгу, но не сомневаюсь, что она полна занимательности именно потому, что в ней, конечно, рассказана одна правда. Более честного человека мне не случалось встречать, и хотя его резкость, угловатость могли иногда не нравиться, но всякий, кто имел случай ближе подойти к нему, скоро замечал, какая теплая, глубокосимпатичная натура скрывалась за его непредставительной наружностью. Противники его, не имея возможности марать его чести, стоявшей выше подозрений, старались выставить его смешным, ограниченным сумасбродом… Да! И Колумб был сумасброд, и Гарибальди сумасброд, даже очень ограниченный, если верить официальным журналистам и дипломатам. Только для них обоих есть история; есть она и для Невельского[15], а всех официозных журналистов и многих дипломатов что же ожидает, кроме забвения и часто даже презрения?
Впрочем, виноват перед г.г. дипломатами. Именно в воспоминаниях о занятии Амура приходится назвать одного из них, также имеющего права на память в потомстве. Это был, тоже если не «сумасброд», то «эксцентрик», Егор Петрович Ковалевский {1.47}, который управлял Азиатским департаментом Министерства иностранных дел в 1856—1861 годах. Его проницательный ум, его литературные дарования, его злой язык, его отличное знакомство с Востоком, — от берегов Нила и Адриатики до Бухары, Кульджи и Пекина, — его просвещенный патриотизм и широкое европейское образование слишком известны, чтобы мне нужно было напоминать о них; но его участие в деле воссоединения Амура известно далеко не каждому. Между тем оно было очень значительно, и можно даже сказать, что в Петербурге главными двигателями амурского дела были великий князь Константин Николаевич и Ковалевский. Оттого-то, когда за Айгунский договор разрешено было сделать представление к наградам, не стесняясь их качеством и количеством, Н. Н. Муравьев совершенно справедливо выхлопотал Егору Петровичу пожизненную пенсию в 2 000 рублей. Для неизменного посетителя английского клуба, я думаю, это было не лишним, тем более что фортуна, как женщина, не слишком благоволила к старому ворчуну во время любимых им состязаний за зеленым столом — не департаментским, конечно, а клубным[16]. Особенно пенсия стала ему полезна, когда в 1861 году, вследствие удаления брата его, Евграфа, от должности министра народного просвещения, и его спровадили из директоров Азиатского департамента в сенат. В этом случае его непосредственный начальник, князь Горчаков {1.48}, поступил, по моему мнению, не только несправедливо, но непатриотично и отчасти даже неблагородно. Лучшего направителя азиатской политики России, как Егор Ковалевский, не было во все время существования Министерства иностранных дел. И если его не жаловали посредственности, вроде какого-нибудь консула Скачкова, то все умное и любящее отечество сохраняет о нем добрую память. Недаром он был председателем Общества пособия литераторам и ученым, недаром числился почетным членом Географического общества и был в нем помощником председателя (хотя и без дела). Сам император Александр очень ценил знания и ум Ковалевского, который поэтому должен был находиться в царском кабинете всякий раз, когда князь Горчаков делал доклады по азиатским делам. Но это-то последнее и повредило ему больше всего. Министр обижался, что подчиненного ставили с ним на одну доску, даже как будто выше его: отсюда тайное и даже явное нерасположение. В Петербурге даже рассказывали про следующий случай. Однажды Ковалевского не было во дворце при докладе.
— А где же Егор Петрович? — спросил государь Горчакова.
— Он болен, ваше величество.
— Серьезно?
— Да, и очень. Я вчера посылал сына узнавать о его здоровье.
— Сына, а сами вы не навещали его?..
Разумеется, после этого князь отправился сам; но разумеется также, что подобный вынужденный визит только подлил горечи в его отношения к Ковалевскому, и потому удаление последнего не приносит чести канцлеру сугубо. Во-первых, очевидно, что основною причиною его было чувство зависти к превосходству сотрудника, которое едва ли было извинительно и в том случае, если Ковалевский иногда подсмеивался над «людьми белой кости», то есть над аристократами, к которым Горчаков, конечно, себя причислял. Во-вторых, минута удаления полезного, хотя и неприятного, подчиненного была выбрана «аристократом» вовсе не по-барски, не по-княжески, а по-подъячески, именно когда брату Егора Петровича пришлось сойти со сцены при защите либерального университетского устава от нападков таких защитников мракобесия, как Панин, Долгоруков и К0. Если бы князь Горчаков был действительный grand-seigneur {1.49} и на самом деле представлял в составе русского правительства элемент просвещенного либерализма (как он иногда хвалился), то ему следовало бы скорее, при постигшем даровитого помощника семейном огорчении, выдвинуть его вперед, чем втоптать в грязь. Но в том-то и сила, что возвышенной, благородной души он не имел, да не имел и дара проницательности при оценке людей, потому что в преемники Ковалевскому выбрал Игнатьева {1.50}, который потом тринадцать лет досаждал ему гораздо сильнее, чем капризный старик, «путешественник славный». Я лично Ковалевского знал немного; однако, когда приходилось с ним говорить, я всегда чувствовал удовольствие, которое ощущаешь от беседы с человеком большого ума и широких взглядов. Знал я его и директором, в казенной квартире на Мойке, скромно, но оригинально украшенной разными восточными безделками, и сенатором, в небольшом частном помещении по Фонтанке: он неизменно оставался тем же дельным, проницательным и остроумным человеком, ум которого не старел. У меня даже есть от него на память книга о войне 1854 года на Дунае, с оригинальным по смелости предисловием и многими блистательными страницами, свидетельствующими о дарованиях автора. Книгу эту военно-ученые педанты держали целых десять лет под спудом, но, наконец, посовестились похитить совсем и даже предложили автору на издание деньги…
Занятый приготовлением к Уссурийской экспедиции, я не слишком внимательно следил за теми общими вопросами, решение которых вызывало Н. Н. Муравьева на пребывание в Петербурге; но все же знал, что по отношению к Амуру дело идет о двух предметах первостепенной важности, именно о продолжении заселения его в размерах гораздо больших, чем в 1857 году, и о передаче генерал-губернатору Восточной Сибири тех полномочий на заключение с Китаем договора об Амурском крае, которые были даны другому лицу. Подписание трактата с китайцами о признании за нами всего левого и части правого берега Амура должно было явиться венцом многолетней деятельности Н. Н. Муравьева, и понятно, что он не желал отдать этого венца другим. Дело это и устроилось к началу 1858 года, так что я уже в Петербурге знал, что предстоящей весной будут идти у генерал-губернатора переговоры с китайскими уполномоченными. Возникли толки о проведении наилучшей границы с Маньчжурией в теперешней Приморской области. Одни говорили, что достаточно будет нам взять треугольник между устьем Уссури, заливом Де-Кастри и Императорской гаванью {1.51}; другие указывали на Ольгинскую гавань, как на южный предел приобретений, которых нужно желать. Надобно, однако, заметить, что на виду были предположения и еще более смелые. Осенью 1857 года вышла в Лондоне карта всего света, изданная, если не ошибаюсь, официальным английским картографом Станфордом. На ней русская граница в Восточной Азии была проведена по прямой линии от Абагайту к Желтому морю, так что почти вся Маньчжурия признавалась русскою провинциею. Говорили, что границу эту Станфорд провел по указаниям нашего военного агента в Лондоне, Н. П. Игнатьева, а этот последний будто бы только выразил чертежом мысль и предположение императора Николая; но за достоверность этих слухов я не ручаюсь и заношу их сюда лишь как слухи, носившиеся в среде, которая до некоторой степени призывалась к подаче голоса по амурским делам и интересовалась всякого рода относившимися к ним предположениями.
Н. Н. Муравьев уехал из Петербурга вскоре после Нового года; я остался на некоторое время, чтобы получить заказанные мною разные инструменты для штаба и для сахалинских угольных копей, принять из библиотеки Главного штаба выхлопотанные мною на подержание в Иркутске книги и т. п. Долго заживаться, однако, было нельзя, и вот новые 6 000 верст в течение года, так что, считая поездку на Амур и разъезды по Забайкалью, я сделал, с февраля 1857 по февраль 1858 года, более 22 000 верст, из которых около 2 600 верст водою, 18 000 на почтовых или курьерских и только 1 800 верст по железной дороге. Привожу эти цифры, чтобы показать, какова была тогда служба в Восточной Сибири, потому что я далеко не составлял исключения, и многие ездили еще больше меня, особенно адъютанты и чиновники особых поручений генерал-губернатора. Я уже имел случай заметить, что над этими разъездами восточносибирских чиновников смеялись в Петербурге; «Искра» {1.52} напечатала ряд карикатур на этот счет, где представила даже портреты некоторых из курьеров с подписью, что «на привезенных ими бумагах собственною его превосходительства рукою изображено: «к сведению». Но повторяю: разъезды были неизбежны. Я, например, привез важные депеши из Пекина и Тяньцзиня, которые ускорили решение дела о предстоявшем заключении договора об Амуре по крайней мере на две недели. Ведь почта от Иркутска до Петербурга ходила с лишком месяц, а я приехал в 17 1/2 дней. Кроме того, не привези я из Петербурга в Иркутск своевременно инструментов для сахалинских горных работ, последние не могли бы быть начаты в 1858 году и офицер со штейгерами прожили бы на Сахалине даром, без дела. Покупать же такие инструменты заочно значило бы наверное получить дрянь и опять бог знает когда, с обозами. И подобными поручениями сопровождались почти всегда курьерские поездки офицеров и чиновников, отправлявшихся в Петербург, хотя, конечно, бывало курьерам даваемо немало и частных комиссий, как это постоянно делается в России[17].
По возвращении моем в Иркутск опять начались неприятности. Будогосскому было досадно, что генерал-губернатор, не спросясь его, отдал Уссурийскую экспедицию мне. Узнав довольно близко его характер, я опасался с его стороны всякого рода мер к тому, чтобы исполнение моего поручения обставить самыми невыгодными условиями. И что мои опасения могли быть не напрасны, это доказал пример 1859 года с моим товарищем, Ельцом. Его Будогосский так обставил, что он едва не умер с голоду около Владимирской гавани, был спасен от голодной смерти случайно зашедшим в бухту английским судном, а от всех прочих страданий был, наконец, избавлен случайно же транспортом «Байкал», отвезшим его в Николаевск. Еще на пути в Уссурийский край, зимою 1859 года, Будогосский требовал от того же Ельца, чтобы он не ехал в санях, а шел пешком, и когда тот отказался, то публично кричал на него: «Выходите же! Вам, армейской крысе, ведь должно быть привычно месить снег пехтурою…» И Елец писал мне потом: «Что было делать с таким негодяем? Дать ему по роже? Да ведь о такую рожу и рук марать не хотелось: он бы, вероятно, потребовал денежного вознаграждения…»
Со мною, в 1858 году, по счастью дела так далеко не зашли, но это, конечно, лишь благодаря случаю. Именно составление команды для моей экспедиции и снабжение ее запасами поручено было, мимо Будогосского, М. С. Корсакову, то есть лицу, стоявшему вне штабных интриг, и моими спутниками на Уссури явились люди усердные и хорошо всем снабженные. Но в собственно штабной среде Будогосскому таки удалось сделать мне немалую подлость. По распоряжению генерал-губернатора и утвержденной им смете экспедиции предполагалось дать мне в помощь двух топографов. Будогосский распорядился так, что этих топографов я не видел в глаза, и, следовательно, мне приходилось одному сделать то, что должны были делать трое. Мало того, из довольно значительного запаса топографических инструментов, находившихся в Иркутске, мне были отпущены самые дурные, например буссоли с размагнитившимися стрелками и тупыми шпильками. По счастью, я всегда имел, как и теперь имею, этого рода инструменты собственные, разумеется, исправные. С этой стороны, стало быть, маневры были бесполезны. Зато Будогосский не поскупился на личные оскорбления такого свойства, что я дал себе слово: как только окончу экспедицию, уехать из Восточной Сибири, какие бы внешние условия службы ни пришлось принять после отказа от должности старшего адъютанта штаба. Я это потом и сделал.
В половине апреля 1858 года я опять отправился на Амур и опять с любезным Я. П. Шишмаревым, но несколькими днями вперед генерал-губернатора. В Шилкинском заводе я нашел готовою мою команду: почтенного сотника Пешкова, урядника Масленникова, переводчика тунгусского языка, унтер-офицера Карманова и одиннадцать казаков. Со мною был еще крепостной мальчик в виде слуги, так как опыт прошлого года указал на положительную необходимость иметь прислугу, независимую от команды гребцов, далеко не любезно распоряжавшихся вещами, лично мне принадлежавшими. Так как мы прибыли в Шилкинский завод еще в то время, когда Шилка была покрыта льдом, то пришлось дожидаться ее вскрытия. Помню очень хорошо, как по вскрытии, наконец, реки стали хлопотать о скорейшем выводе из гавани парохода «Лены», где он замерз, и как не успели в этом, так что генерал-губернатор с ближайшими своими спутниками уплыл на катере, а нам, то есть Будогосскому, мне, чиновнику особых поручений Карпову и еще какому-то гражданскому чиновнику, имени которого, за бесцветностью лица, не могу теперь вспомнить, дан был огромный баркас, или, точнее, кузов канонерской лодки, на которой смело можно было поместить роту солдат или, еще лучше, семейств тридцать переселенцев, или несколько тысяч пудов муки. Этот баркас был истинным мучением для моей команды, которая одна должна была с ним управляться и, стало быть, понапрасну измучиться прежде, чем начнется собственно Уссурийская экспедиция. Особенно неприятно было присутствие на том же баркасе генерал-губернаторских кур и баранов, которые, во-первых, напоминали, что на нас всех смотрели в Шилкинском заводе как на «задний двор», а во-вторых, доставляли много хлопот по прокормлению и все-таки кончили тем, что большей частью передохли, не доехав до Зеи. Можно, конечно, было поместить этих домашних животных на особую лодку, буксируемую генерал-губернаторским катером, а к нам посадить музыкантов иркутского казачьего полка, ехавших на Амур играть при торжестве заключения договора; но, видно, музыканты были в данное время нужнее Муравьеву, чем даже личные его продовольственные запасы… Эти мелочи я привожу здесь как характеристические вообще для экспедиции 1858 года, в которую, за огромностью ее размеров и цели, очевидно, пренебрегали вещами второстепенными, то есть именно теми, которые ближе всего касаются отдельных исполнителей общего дела.
А цель и размеры экспедиции были действительно огромны. Во-первых, нужно было дополнить колонизацию прошлого года основанием множества новых селений между Усть-Стрелкою и Хинганом, так чтобы вместо прежних трех сотен казаки могли выставить два полка; во-вторых, следовало заселить вновь обширное пространство между Хинганом и Уссури и даже часть берегов этой последней реки; в-третьих, и самое главное, нужно было заключить договор с Китаем. Последняя цель была бы очень труднодостижимой. Мы прибыли на устье Зеи 11 мая; 13-го генерал-губернатор явился перед Айгунем с своим катером и двумя канонерками, а 16-го договор был подписан {1.53}. Я не привожу здесь его содержания, потому что он всем известен; но замечу, что при заключении его было несколько курьезных обстоятельств. Переговоры велись через переводчиков, или, точнее и главным образом, через Я. П. Шишмарева, который получал указания от генерал-губернатора и к которому являлись второстепенные китайские чиновники с такими же наставлениями от князя И Шаня. Последние прибегали к совершенно азиатским хитростям, чтобы добиться нашей снисходительности. Они плакали, уверяя, что не смеют передать предъявленных нами требований своему послу из опасения, что он велит вздуть их бамбуками; уверяли от имени самого посла, что он не решится принять таких-то и таких-то условий, потому что за принятие их ему угрожала бы петля, и т. п.; а когда договор был подписан, то признавались, что их удивила умеренность наших требований, что они ожидали, для начала негоциаций {1.54}, домогательства нашего на все земли до Великой стены и Желтой реки в Ордосе {1.55}, дабы потом, по принятому в дипломатии обычаю, сбавлять эти требования… Спешу, впрочем, оговориться: сам я под Айгунем во время переговоров не был, а узнал эти подробности через несколько дней после заключения договора, когда генерал-губернатор со свитою прибыл на устье Уссури, куда я был отправлен вперед. Помнится, при этом и сам Н. Н. Муравьев смеялся над И Шанем, который хоть и уверял, что боится петли, но на последовавшем за подписанием трактата угощении так усердно пил шампанское, что снял с себя курму и остался только в той части одежды, которая походит на поповский подрясник или, пожалуй даже, на женскую рубашку и которая, я уж забыл теперь как называется по-китайски…
V
Вся поэзия амурского дела кончилась с подписанием Айгунского договора. За исключением одной моей небольшой экспедиции, которая тоже утратила часть своей заманчивости, не оставалось ни одного предприятия на Амуре, которое бы не было самою сухою прозою. Для «видных» дел почти не оставалось места. По этому можно было предвидеть, что тот наплыв энергической молодежи в Иркутск, который в течение нескольких лет совершался под влиянием амурского дела, скоро прекратится, а с ним прекратится и та энергическая жизнь, которая было пробудилась в Восточной Сибири. Так оно и случилось, как известно; но, впрочем, 1858 и 1859 годы были еще годами увлечений для многих, возвращавшихся потом, разумеется, совершенно разочарованными. Колонизация Амура, исследование и заселение Южно-Уссурийского края, тамошних гаваней и т. п. привлекали еще людей, жаждавших деятельности, но недолго. В 1860 году посетил наши порты по берегам Японского моря даровитый путешественник Линдау; он удивлялся их безжизненности и печальной участи людей образованных, которые были брошены судьбой в эту глушь. Тогда же стали описывать самый Амур далеко не розовыми красками даже русские путешественники и исследователи.
Где причина этому? Отчего Амурский край не развился так же быстро и роскошно, как Калифорния, Новая Зеландия, Южная Австралия или хоть Канада?.. {1.56} Точный и подробный разбор этого вопроса занял бы много места, да я его отчасти и сделал в «Обзоре русско-азиатских границ» и в нескольких мелких статьях, а потому теперь вернусь к простому перечню событий 1858 года, насколько они знакомы мне лично.
И, во-первых, скажу несколько слов об «Амурской компании», которая была основана в этом году и возбуждала такие сангвинические надежды. Задачи компании были очень широки, средства значительны, покровительство со стороны высших сибирских властей безусловно, в заключение всего, ведение дел на месте, то есть на Амуре, было вверено лицу, известному в иркутском торговом мире по своему уму и деятельности, — купцу Белоголовому. Н. Н. Муравьев принимал самое близкое участие в судьбах компании. Когда, по заключении Айгунского договора, он встретил Белоголового на Усть-Уссури, в теперешней станице Казакевичево, то на бывшем в генерал-губернаторском помещении (шалаше из коры) завтраке единственный тост, провозглашенный хозяином, был «за процветание «Амурской компании», которая должна была «избавить Амур от мелких хищников-спекулянтов и водворить на нем рациональную торговлю», которая бы содействовала развитию богатств края. Предполагалось, что средства компании дадут ей возможность снабдить край немедленно теми произведениями стран культурных, которых недоставало необработанной еще, хотя богатой от природы пустыне: хлебом, рисом, скотом, сахаром, свечами, готовыми обувью и одеждой, материалами для них, мебелью, посудой, стеклом, железною утварью, земледельческими орудиями, сбруею, веревками и пр. Предполагалось, конечно, что главною заботою компании будет не скупка по дешевой цене соболей, которые бы на ирбитской ярмарке доставляли ей 300—400 процентов барыша[18], а доставка из-за границы морем таких грузов, которые бы могли удовлетворить потребности вновь возникших колоний. Предполагалось, наконец, что местные амурские власти проникнутся теми же взглядами на компанию, как и власти иркутские, и не только не будут делать ей убытков и притеснений, а облегчат ее задачи отводом, например, постоянных мест под магазины товаров, перевозкою более спешных грузов на казенных пароходах, трюмы которых нередко оставались пустыми, и т. п. Но что же случилось не в области предположений, а в действительности? В лавках компании продавались заплесневелые пшеничные сухари и крендели по полтиннику и по трехрублевому за фунт, прогорклое коровье масло — по целковому, червивая колбаса, гнилая даба (низкий сорт китайки) и т. п., а принимались, за исключением денег, одни соболи. С великим трудом я, износивший на Уссури четыре пары обуви, мог достать себе кунгурские простонародные сапоги что-то за 10—12 рублей пару, так что на первый же год существования компании приходилось жалеть об отсутствии тех «мелких хищников», которых могущественная конкуренция компании удалила с Амура. С другой стороны, местные власти вели себя с компаниею возмутительно. Пришли, например, на устье Зеи компанейские лодки, назначенные для развозки товаров, — «Давайте их нам! Они нам нужны для перевозки солдат или казенных тяжестей!» Прибыли на низовья Амура компанейские скот и мука, — «Пожалуйте их нам, а в будущую навигацию мы вам отдадим их натурою!..» Губернатор Буссе, отправляясь в Благовещенск и желая, чтобы этот город был не только просвещен его присутствием, но и освещен фонарями, заказал таковые компании, да, кстати, и пожарные инструменты. И то и другое доставлено из Гамбурга, вокруг света; но тогда его превосходительство отказался от заказа, потому что у города доходов не было, а заплатить было нечем. И, разумеется, компания не смела взыскивать убытков. Мудрено ли после этого, что она кончила свое существование через три-четыре года продажею акций откупщику Бернардаки по 17 копеек за рубль, причем сильно потерпели некоторые вкладчики, пионеры амурского дела, например Невельской, Миддендорф и др.!..
Лично я провел все лето 1858 года, то есть конец мая, июнь, июль и часть августа, на Уссури, занимаясь съемкою долины этой реки и составляя ее описание. Так как отчет об этой экспедиции давно и не раз напечатан {1.57}, то я не буду здесь останавливаться на ней, а расскажу лишь то, что относится к заселению Амура. Когда в августе я плыл вниз по Уссури и приближался к ее устью, то издали заметил несколько свежих, еще не оконченных построек на равнине правого ее берега, тянущейся от подошвы хребта Хехцира к югу. Это был зародыш станицы Невельской, которую потом пришлось перенести с берега внутрь страны, потому что разливы Уссури затопляли дома. Хотя в 1858 году переселенческие сплавы начались гораздо раньше, чем в 1857-м, но по отдаленности Уссури от Забайкалья поселенцы пришли поздно, и состояние их построек внушало опасение, что зимовка будет плоха. В следующем селении, Казакевичево, дело шло несравненно лучше. Тут уже с ранней весны губернатор Приморской области начал возведение казенных магазинов и нескольких жилых построек, и потому селение имело довольно приличный вид. Оно поэтому и сделано было потом местопребыванием командира уссурийского казачьего батальона. Станица Корсакова едва зарождалась; зато Хабаровка {1.58}, поставленная на превосходном, возвышенном берегу, представляла утешительный вид. Здесь работы, под управлением того же Дьяченко, который в прошлом году строил станицу Кумарскую, шли очень успешно, возникали не только дома, но и лавки с товарами, даже, если не ошибаюсь, заложена была небольшая церковь или часовня на пригорке, видном издалека. Купцы своим коммерческим чутьем поняли, что тут в будущем предстояло возникнуть большому торговому городу, и если он долго не возникал, то вот, например, какие обстоятельства мешали ему. Гораздо позднее основания Хабаровки, в 1870-х годах, возникла мысль устроить в ней местопребывание губернатора всего Амурского края, причем Благовещенск остался бы уездным городом по крайней мере до того времени, пока население Амурского края не увеличится настолько, чтобы стоило сделать из него две области. При этом, конечно, губернатору из Благовещенска, где у него есть хороший дом, пришлось бы переехать в Хабаровку, на первое время — в помещение более тесное; пришлось бы и удалиться от Иркутска, где жил нареченный тесть губернатора Оффенберга — генерал-губернатор Фридрихс. Спросили из Петербурга мнения последнего и что же получили в ответ? — «Хабаровка неудобна; она лежит на болоте, отличается нездоровостью» и т. п.
Мне случилось читать этот любопытный ответ, и я не знал, как он мог быть дан вопреки очевидности, — потому что Хабаровка лежит на откосе высокой горы[19] есть одна из лучших по местности колоний Амурского края»,— и какая цель могла быть при его составлении? Только случайно узнав семейные обстоятельства, на которые сейчас указал, я понял, почему хребет Хехцир официально обратился в болото… Что же такое нужды государственные перед семейными некоторых особ?
Я сейчас сказал, что нашел в августе 1858 года в Хабаровке несколько торговцев. Один из них, скорее приказчик или даже «молодец», чем хозяин, узнав, что я прибыл с Уссури, стал при встрече расспрашивать меня, что это за край, чем там можно торговать? и пр. Я отвечал, что на Уссури пока почти совершенная пустыня, что вдоль ее я нашел всего 102 плохоньких домика и что кроме соболей там покупать нечего, а продавать можно дабу, водку, табак, порох и т. п. Соболи, кажется, дешевы.
— Так-с! Ну, а край из себя каков? Говорят, много болот.
— Есть-таки, но ведь без этого не может же быть в стране дикой, лесистой, дождливой. Придут жители, найдут много мест возвышенных, годных для водворения, а когда вырубят леса, то и почва обсохнет даже в долине реки, не только по увалам. Ведь вот и про Амур говорили, что он — болото; а где же вы видели, чтобы дома были поставлены на болотистой почве, кроме разве Бусули?
— Помилуйте! Где же на болоте, а на песке — это точно… Вон извольте посмотреть — на том берегу луг-то весь песчаный, хоть трава на нем и густая. Должно быть, его половодье весь поднимает…
При этом, говоря слова «на песке», мой молодец как-то лукаво улыбнулся, так что конец его речи мне показался лишь оговоркой, долженствовавшей смягчить смысл намека на непрочность русских построек на Амуре… И действительно, значительная часть селений, возникших в 1858 году, была основана «на песке», в том смысле, что они были недолговечны и постепенно были относимы от берега Амура внутрь страны, на места более высокие. Но много было местностей истинно великолепных по положению и угодьям, например станица Екатерино-Никольская, у выхода Амура из Хинганских гор. Я не знаю, кто именно выбирал места под селения; но общий отчет о ходе колонизации того года был возложен на чиновника особых поручений генерал-губернатора, Шелехова, сына известного в свое время писателя по сельскому хозяйству. Что он написал, мне не известно, но вот что я могу сказать со своей стороны, как очевидец.
Летом 1858 года возникло на Амуре и Уссури 35 селений, именно: шесть выше Благовещенска, четыре на Уссури и двадцать пять — на Среднем Амуре, от Благовещенска до Хабаровки. В «Известиях Российского Географического общества» за 1871 год мною был перепечатан список всех в то время существовавших в Амурском крае населенных пунктов, с показанием годов их основания, но я должен здесь оговориться, что, несмотря на сделанные мною поправки, там есть несколько ошибок, именно относительно хронологии. Перепечатка была сделана с официального списка, составленного в 1869 году комиссиею адмирала Сколкова, ездившего на Сахалин, и, конечно, ей было очень немного интереса добиваться точности в хронологии; но если кто вздумает со временем писать подробную историю амурской страны, тот должен это иметь в виду. Станицы были расставлены таким образом, чтобы расстояния между ними были по возможности однообразны и равнялись длине обыкновенного почтового переезда. Я уже заметил, в каких соображениях, губительных для переселенцев, это делалось в 1857 году; здесь прибавлю, что и в 1858 об учреждении почтовых по Амуру не было речи. Странное дело! Основывали мы в киргизской степи ни на что не нужные (и потом брошенные) укрепления Актау и Ултау, в нескольких стах верст от Омска, и сейчас проводили к ним почтовые дороги, по которым едва ли когда-нибудь возилось более десятка казенных и частных конвертов в неделю. А заняли и заселили Амурский край, эту большую дорогу к Тихому океану, — и правильной почты не организовали много лет[20], разрушая, таким образом, одною рукою то, что другою насаждали, то есть систематически разоряя вновь водворяемых поселенцев почтовою гоньбою в неопределенные сроки. Точно будто Восточная и Западная Сибирь принадлежат не к одному государству и управляются по разным началам.
Общее число переселенцев 1858 года мне не известно; но полагаю, что оно простиралось от шести до семи тысяч душ, главным образом пеших казаков из Нерчинского округа. Довольно забавную в военном отношении картину представляли эти побочные сыны, или, точнее, приемыши Марса. До 1851 года они выжигали для горных заводов уголь, возили руду, охотились зимою на белок, занимались сельским хозяйством и военных мундира и амуниции почти не видывали, кроме разве тех, кто жил по этапному тракту, которым следовали арестанты под конвоем солдат. Вдруг — в казаки! Наслали к ним офицеров, начали учить артикулам, собирать на учения, даже, кажется, на маневры (и наверное: в 1858 году под Кумарою, хотя там были лишь конные казаки), выучили ходить в ногу и пр. Но переделать природы в 6—7 лет не могли. Пеший забайкальский казак остался мужик мужиком, только вместо зипуна любил халат и бороду не запускал, а брил поневоле. Фитильная охотничья винтовка была ему милее казенного ударного ружья, потому что она не пугает зверя взводом курка. А что до военной выправки и дисциплины, то он частенько говорил своему начальнику-офицеру «сударь» или «вы, барин» (вместо «ваше благородие») и при этом почесывал затылок. Вот эти-то люди и были призваны заселять Амур не просто, чтобы жить на нем, но чтобы защищать его, от кого? — не знаю. Очевидно, что в данном случае мы слепо следовали преданию, по которому русские окраины должны быть обставлены передовою казачьею цепью.
Всю эту массу переселенцев, двинутую по воле правительства и водворенную не там, где бы она, вероятно, пожелала сама, а там, где было приказано, приходилось кормить на счет казны и, как опыт доказал, не один год. Откуда же было взять хлеба? Разумеется, кроме Забайкалья неоткуда. Но Забайкалье имеет такое малочисленное и редкое население (350 000 душ на пространстве больше Франции), что больших свободных остатков хлеба на продажу у него не могло быть. Тут опять было употреблено насилие в виде реквизиции хлеба у крестьян трех волостей по Ингоде и Онону. Им назначена была цена, — помнится, по 60 копеек за пуд муки, — и они должны были доставить столько-то тысяч пудов. Доставлять хлеб из богатых староверческих селений Верхнеудинского округа, расположенных по Хилоку, Чикою и Селенге, разумеется, было бы слишком дорого. О доставке же на Амур как хлеба, так даже и самих колонистов из России или из-за границы морем в то время — да и гораздо позднее — не было речи, и тех, которые бы надумали предложить этот способ подвоза людей и их продовольствия на Амур, вероятно, сочли бы в Иркутске «недальновидными». Эта недальновидность ведь приписывалась, например, М. В. Петрашевскому {1.59} за то, что он порицал стеснение хлебной торговли на иркутском базаре[21]. Еще с большею откровенностью в ней обвинялись люди, имевшие смелость смотреть на амурское дело не чужими глазами и потому видеть, например, что если из России не просят доставки чего-либо, то это для того только, чтобы в Петербурге не поверили наконец, что Амур не совсем же золотое дно, и чтобы не иметь дела с моряками и с министром финансов.
Как в прошлом году на Усть-Зее, так теперь в Хабаровке парохода не оказалось, и я, дав моей изнуренной команде отдых в два дня, приказал ей готовиться к новому странствованию на бечеве, которое должно было простираться на 2 200 верст. Мы отплыли с устья Уссури после полудня и вечером остановились на ночлег у левого берега Амура, еще в виду Хехцира, но уже верстах в 25-ти от Хабаровки. Назавтра начали мы проходить те селения, которые, по выражению хабаровского приказчика, строились на песке. Превосходные луговые угодья пленяли, однако же, самих переселенцев, и им большею частью в голову не приходило, что луга эти — поемные и что первый большой разлив Амура прогонит их с места. Вода в реке была довольно велика и теперь, от дождей в бассейне Сунгари, а потому бечевник далеко не везде был хорош. Зная, что пароход должен был идти из Николаевска в Благовещенск, я приказывал не заходить в мелкие протоки, а идти главным руслом, чтобы не пропустить парохода; но какова же была моя досада, когда однажды сидевший на руле казак, не исполнив этого распоряжения, зашел вместо Амура в один из его притоков, а когда мы наконец вернулись из него в большую реку, то встретившиеся нам гольды объявили, что пароход тем временем прошел! Только тот, кто четыре месяца шлепал по грязи, по камням, подвергался свирепым укушениям комаров и слепней, питался дрянью, надеялся от всего этого избавиться и вдруг обманулся, — поймет отвратительное состояние духа, в котором я, да и все мои спутники находились. Но вот, мало-помалу на горизонте, у левого берега Амура, там, где виднелись струи дыма, очевидно, из возникавшего русского селения, обрисовался корпус какого-то судна не амурской, то есть не барочной, конструкции, и в подзорную трубу я рассмотрел, что это пароход. О радость!.. Но совершенно напрасная. Пароходик этот был небольшой баркас «Надежда», везший из Николаевска курьера, лейтенанта А. М. Линдена, но попортивший дорогою механизм и потому немогший плыть далее против течения. Вместо получения от Линдена помощи приходилось помогать ему самому. «Надежду», по ее безнадежному состоянию, отправили назад — вниз по реке — в Николаевск, а милого, образованного и симпатичного курьера я пригласил пересесть в мою лодку. От этого, конечно, физически в ней стало теснее, но зато я оживился нравственно. Мы поплыли опять бечевою, то есть способом, который Линден справедливо называл антиделювиальным {1.60} (Ноев ковчег, во время потопа, конечно, плавал без бечевы) и над которым, как кругосветный моряк, привыкший делать по десяти миль в час, хохотал от души. Скоро мы прошли станицу Михайло-Семеновскую, которая на картах малого масштаба представляется расположенною против устья Сунгари, а на самом деле отстоит от него на 17 верст. Я не без удовольствия заметил, что тут не делалось и попыток строить какие-нибудь батареи для «командования» сунгарийским устьем, тогда как, например, в Благовещенске, и Казакевичево, то есть при слиянии Амура с Зеею и Уссури, эти попытки имели место; в двух последних селениях — даже после заключения Айгунского договора, причем, конечно, особенно горячился инженерный офицер, желавший что-нибудь «строить».
По мере приближения к Хингану места становились живописнее и общий уровень равнины сделался несколько выше. Особенно превосходную местность занимала большая станица Екатерино-Никольская, расположенная среди групп дубовых деревьев, недалеко от выхода Амура из Хинганских гор. Эта станица-красавица получила свое имя в память Е. Н. Муравьевой, супруги генерал-губернатора, которая сопровождала его в одну из экспедиций, кажется, в 1855 году. Вообще замечу, что имена большей части спутников и сотрудников Н. Н. Муравьева увековечены им на Амуре в названиях разных селений. Некоторым из этих сотрудников, например Корсакову, Казакевичу, Буссе, «посвящены» даже по два и три селения. Мне была сделана честь наименованием по моей фамилии одной станицы на Уссури, довольно большой, имеющей теперь церковь и даже школу.
Когда мы вступили в ущелье Хингана, где оба берега Амура образованы крутыми, покрытыми лесом горами, то плавание наше сделалось чрезвычайно трудным. Бечевника не было и в помине; приходилось идти на веслах, а река тут отличается особою быстротою, тем большею в данном случае, что вода была большая, от дождей в верховьях реки. Такое путешествие, по 20—22 версты в день, способно было навести уныние даже в присутствии такого всегда хорошо настроенного спутника, как Линден. Но, по счастью, оно тянулось недолго. На другой же день, по входе нашем в Хинган, на заре, когда еще не вся команда проснулась, мы заслышали шум пароходных колес. Немедленно мы стали подавать сигналы, кричать, и, к удовольствию нашему, нас заметили. Через пять минут мы были на палубе парохода, а через час, когда находившиеся уже там пассажиры проснулись, мы нашли среди них очень приятных спутников: архимандрита Аввакума, капитан-лейтенанта барона Шлиппенбаха, пехотного офицера Калитина, двух янки, Якоби и Эша, русского торгаша Ланина и несколько других лиц. Одно из них представляло даже курьез, характеристический для Амура. Это был офицер морских инженеров Шенурин, отличный строитель, но до такой степени поклонник Бахуса, что адмирал-губернатор должен был приставить к нему боцмана, ответственного если офицер напьется, и даже держать его на работах вдали от города Николаевска день и ночь, что бы он не имел возможности доставать водки. Не буду относиться с укором к несчастному. Он не один в своем роде, и даже ныне нередки случаи на Сахалине, что офицеры спиваются, сходят с ума, впадают в белую горячку и т. п. от одиночества, пьянства и монотонной жизни без всякого развлечения. Я не далее 1877 года читал в Тифлисе письмо одного из сахалинцев, убеждавшего одного из бывших своих корпусных товарищей, Старосельского, ставшего влиятельным лицом на Кавказе, «спасти» его, уже 45-летнего полковника и начальника части, от печальной участи умереть нравственно, а может быть и физически, в сырой, холодной пустыне… Петербургские решители судеб, заседающие в разных канцеляриях, всегда трезвые, изысканно приличные, не прощающие человеческой природе ни одного недостатка, если он не ведет к карьере или фортуне, разумеется, с отвращением относятся к таким «погибшим» людям, каков был наш инженер-моряк, но в провинциях, особенно отдаленных, люди были гуманны. На пароходе говорили, что тот же адмирал Казакевич, который держал Шенурина под непрерывным надзором, дал ему на дорогу восемьсот рублей собственных денег и только дружески попросил не истратить их все раньше приезда в Петербург. Больной алкоголист обещал и по крайней мере на пароходе держал свое слово и вовсе не пил.
Несмотря на сильное течение реки в Хинганских «щеках», пароход шел все-таки впятеро скорее, чем лодка, и вот мы скоро поравнялись с избушкою натуралиста Радде. Этот почтенный деятель науки жил одиноко, с двумя лишь казаками-охотниками, среди величавой и богатой природы Хингана, где собрал в течение года великолепную зоологическую и ботаническую коллекцию. Весною 1858 года, плывя по Уссури, я посетил его и нашел настолько отвыкшим от удобств жизни, что он уже не мог пить чай с сахаром. Н. Н. Муравьев, несколькими днями позднее, также останавливался в его хижине и потом шутя рассказывал, что «Радде так влюбился в природу, что просил меня остаться до следующего дня, чтобы видеть, как будут выходить из яичек личинки такого-то Scarabeus'a»… Впрочем, почтенный натуралист был предметом не одних таких шуток, безобидных или даже лестных для его самолюбия как ученого. Были люди, вроде Будогосского, которые с обычным грубым натурам цинизмом уверяли, что «Радде зажился в Хингане потому, что там много соболей, а он готовит приданое своей невесте». Генерал-губернатор, ценя его научную самоотверженность, приказал назвать Раддевкой ближайшую из возникавших станиц, очень живописно расположенную близ впадения в Амур одной небольшой горной речки.
Плывя на пароходе, мы уже далеко не всегда могли видеть вблизи вновь возникавшие по Амуру селения[22], но во всяком случае могли убедиться в одном, а именно, что переселенцы небогаты. С трудом доставал пароходный повар свежую провизию, и наш стол отличался спартанской умеренностью. Зато мы были богаты по части напитков. На пароходе был груз Cherry cordial {1.61}, рому, хересу и пр., и ежедневно вечерком выносился на палубу ящик с бутылками этих жидкостей, особенно первой. Барон Шлиппенбах председательствовал при их опорожнении, которое впрочем не переходило за пределы «одушевления» путешественников. Пели иногда песни, даже духовные… когда приходили в умиление. Зато архимандрит Аввакум платил нам со своей стороны любезностью, подтягивая по временам какую-нибудь «шереметевскую псалму» («Вечер поздно из лесочку я коров гнала домой»). Бывали испивания и по утрам, около полудня, в так называемый адмиральский час. Тогда Шлиппенбах выбивал по столу пальцами вестовую дробь и напевал при этом вестовую же песенку:
Доппель-кюмель, ерофеич, Дрей-мадера, хереса!.. Адмирал наш, Казакевич, — Рому выпить нам пора!Но должно признаться, что Казакевича тут приурочивали к адмиральскому часу напрасно: он был человек трезвый… Утреннее «испитие» бывало, конечно, еще умереннее, чем вечернее; да и вообще попойки и другие немногие развлечения не вредили делу. Я, например, в бытность на пароходе успел перечертить набело всю съемку долины Уссури, которой подлинник желал сохранить за собой.
В Благовещенске пришлось расстаться с пароходом, потому что он требовал для плавания восьмифутовой глубины, а таковую не везде можно бывает встретить на Верхнем Амуре осенью, в межень, особенно между Албазином и Кумарой… Кстати! Когда же Усть-Зейская станица обратилась в Благовещенск? Этого я доселе еще не сказал, и мне не случалось читать о том где бы ни было. Превращение совершилось весною 1858 года, между временем прибытия генерал-губернатора на Усть-Зею и временем отплытия его к Айгуню, кажется 12 мая. Оно, впрочем, было чисто фиктивным. Устроили мачту, подняли на нее огромный флаг, который больше походил на английский, чем на русский, отслушали при этом небольшой молебен, который служил архиерей Иннокентий, бывший потом митрополитом в Москве, — и Усть-Зейская станица произведена была в город Благовещенск, кажется, ввиду предстоявшей «благой вести» о заключении трактата. Впоследствии, для придания городу менее военного характера, перевели из него казаков на шесть верст вверх по Амуру, то есть в соседство места, где в 1857 году стояли казачий пост и генерал-губернаторская палатка. А, в частности, на месте последней усть-зейцы уже в 1858 году поставили небольшой памятник.
Итак, многочисленному пароходному обществу нашему пришлось пересесть на баркас, который тянули бечевою мои казаки и многочисленные матросы Шлиппенбаха, возвращавшиеся через Сибирь на родину. Кажется, это была команда корвета «Оливуцы» или «Авроры» — не помню уже теперь, какого судна, — но бравая команда, которой могло быть несколько обидно после океанских плаваний ходить на бечеве. Для нас, пассажиров, жизнь на баркасе была отчасти продолжением пароходной, только с меньшими удобствами и с гораздо большими издержками. В течение одиннадцати дней мы, в числе семи человек державшие общий стол из двух блюд, израсходовали 287 рублей, то есть по 41 рублю с человека, что дает 3 рубля 75 копеек в день! Были случаи, что за барана платилось жителям селений, водворенных в 1857 году, одиннадцать рублей; за два хлеба, весом фунтов в пять каждый, за бутылку молока и десяток яиц — пять рублей, и т. п. Да и за эти деньги провизия доставалась с трудом, потому что колонисты сами почти ничего не имели и очень опасались на зиму голода. Отпуск казенного хлеба ведь прекратился, а собственные сборы с немногих обработанных и засеянных весною полей едва-едва были достаточны, чтобы прокормиться до следующей жатвы. Утешением в этих экономических невзгодах служила нам только возможность ночью спать во всю длину тела на баркасном помосте, а днем на нем же стоять во весь рост. Но и баркас скоро пришлось бросить, потому что тащить его было очень тяжело. Около Буринды мы встретили сплав лодок, отобрали их, распределили между собою и потянулись вразброд. Моим бедным казакам пришлось особенно жутко. Лодчонка нам досталась прескверная, тесная, так что пока одна смена шла на бечеве, другая должна была сидеть, а не лежать. Дни были короткие (конец сентября), ночи холодные; в начале октября по утрам стали появляться ледяные забереги и резали ноги. Согнувшись, сидел я под своим лубочным навесом, дописывая отчет об Уссурийской экспедиции и обдумывая, когда и как, по сдаче его в Иркутске, доставит меня в Москву желанная тройка…
14 октября мы прошли мимо Усть-Стрелки: прощай, Амур!
26 октября был в Иркутске и, заплатив 25 рублей писарю за перебелку отчета (дарового штабного писца Будогосский мне не дал), сдал его.
Генерал-губернатор был, по-видимому, доволен этой толстой тетрадью и съемкою Уссури[23] и на следующий год предназначил меня опять в экспедицию на Амур и Уссури, где должна была устанавливаться государственная граница с Китаем. Мало того, на домашнем празднике Генерального штаба, 8 ноября, Н. Н. Муравьев был особенно любезен со мною, а 25 ноября, при объявлении полученных из Петербурга наград за присоединение Амура, публично извинялся, что мне дали Анну, а не Владимира, к которому он меня представлял. Я, однако же, остался верен своему решению и воспользовался данным случаем, что бы привести его в исполнение.
Рано утром 26 ноября я пошел к генерал-губернатору в мундире и, в присутствии несколько удивленного инженер-капитана Рейна, сказал ему, что дальнейших интриг против себя, видимо, увенчивающихся успехом и сопровождающихся притеснениями, я терпеть не намерен…
Затем, 6 декабря, на балу в своем доме Николай Николаевич отыскал меня в толпе и, взяв за руку, намеренно ходил по залам, беседуя со мною самым любезным тоном. Тут же он сам представил меня ехавшему в Петербург адмиралу Кузнецову, как «автора поучительного отчета об Уссури».
Решение мое осталось неизменным. И когда, наконец, 3 января 1859 года установился хороший зимний путь, я, сев в повозку, без большого сожаления сказал: прощай, Восточная Сибирь!
А 23 февраля 1859 года генерал-квартирмейстер барон Ливен, ознакомившись с моими работами, объявил мне, что я по высочайшему повелению назначаюсь начальником экспедиции на реку Чу {1.63}, к пределам Коканда.
VI
Двадцать шесть дней, которые я провел в дороге от Иркутска до Петербурга, волею-неволею были наполнены то мечтами о вероятном будущем, то обратными взглядами на только что миновавшее прошлое. По мере удаления от берегов Ангары очерки этого недавнего прошлого становились все более и более определительными, совершенно так, как бывает с очерками отдельных фигур и групп в большой картине, ну хоть в Микеланджеловском «Страшном суде», который вблизи не представляет ничего, кроме труднообозреваемой, хаотической кучи мясистых человеческих тел, а издали является систематически обдуманною картиной, с известным ансамблем. И это сравнение, несмотря на его искусственность, было бы довольно верно, если бы иркутские и вообще восточносибирские «тела» напоминали классические фигуры сикстинского полотна. К сожалению, оно далеко не так, хотя многие из этих довольно невзрачных «тел» стояли у великого дела и влияли на его ход. Единственный же ансамбль, который они способны составить, сам собою понятен для каждого знакомого с русскою жизнью: в центре картины милующий или карающий генерал-губернатор; близ него, на первом плане, справа и слева, люди чиновные, искренне или лицемерно ему поклоняющиеся, и затем внизу и на заднем плане — несколько чуть видных фигур людей независимых или даже представляющих оппозицию и назначенных в преисподнюю; наконец, по сторонам — инертные массы, с которыми сам всеведущий судья не знает, что делать, по их стадоподобной готовности идти туда, куда погонит пастух[24].
Начну ab ovo {1.64}, как говорят классики, желая показать себя людьми образованными, но не всегда зная, что именно значит ab ovo и откуда взялось оно. Так как передовым, базовым концом восточносибирского общества или главными двигателями событий, конечно, считались — если не всегда были — те, которые стояли выше по спискам чиновничьей иерархии, то им первое место и здесь. Вот почтенный председатель Совета Главного управления Восточной Сибири и вместе иркутский губернатор, часто заступавший Муравьева в управлении всем краем, — генерал-лейтенант Венцель. При воспоминании о нем у меня невольно родится улыбка. Добрейший Карл Карлович, — которого Муравьев, не знаю почему, называл шутя Charles le Tèmèraire {1.65}, — был совершеннейший нуль, несмотря на то, что фигура его напоминала худощавую единицу. Вся цель его жизни, — если только она имелась,— состояла в том, чтобы не сделать никому зла, но и это ему не удавалось. Раз, в припадке напускной генеральской свирепости (position oblige) {1.66}, он так накричал на члена сибирской ученой экспедиции астронома Зондгагена, что тот умер от внезапного прилива крови к сердцу и голове. Простодушный, искренний испуг Венцеля при этом был так велик, что его жалели едва ли не столько же, как и убитого им астронома. По какому-то инстинкту он догадывался, что народу тем хуже, чем больше бумаг выходит из губернаторских и всяких других канцелярий, а потому вечно ратовал против большого числа и особенно многоречия разных «входящих и исходящих номеров». Это была бы очень хорошая точка зрения, если бы он умел сознательно держаться на ней; но, к сожалению, этого не было, и в результате получилась одна административная бестолочь. Чиновники иногда бывали в отчаянии от него.
— Что вам угодно? — спрашивает Венцель одного столоначальника, почтительно стоявшего у притолоки с толстым портфелем в руках.
— Да вот, ваше превосходительство, бумаги нужно бы вам подписать по контрольной части.
— А, контроль? Терпеть не могу контроля. И что это вы не вовремя изволили пожаловать? Теперь пора обедать, а не возиться с этой дрянью…
Чиновник, который был любимцем Венцеля и его жены и который почти ежедневно обедал у их превосходительств, сконфуженно направляется за дверь, а Венцель продолжает вслед ему посылать сердитые замечания, а потом опять удивляется за обедом, что такой-то отсутствует. Жена справляется, узнает, в чем дело, и на другой день извиняется за мужа перед обруганным… Вероятно, за такую разумную и плодотворную деятельность, точнее за полное бездействие и, стало быть, отсутствие оппозиции, Муравьев не только держал Венцеля на его немаловажном посту, но и украсил его Белым Орлом по поводу заключения в 1858 году Айгунского договора, хотя Венцель, кажется, даже не бывал на Амуре, а присоединению его если чем содействовал, то разве тем, что разорил в том же 1858 году три волости на Ингоде и Ононе, заставляя крестьян доставлять в казну хлеб для амурского сплава по 60 копеек за пуд и в количестве, какое едва ли было в запасе у них самих.
В списках военных чинов, да, конечно, и вообще в восточносибирском обществе, за Венцелем следовал Михаил Семенович Корсаков, родственник генерал-губернатора, любимец его и в то время забайкальский губернатор и атаман, а позднее генерал-губернатор Восточной Сибири. Я уже привел несколько фактов, доказывающих его нераспорядительность. Не упоминая о многих других, которые мне известны лишь с чужих слов, замечу, что Корсаков хотя отличался бескорыстием и усердием в службе и не был интриганом, но никогда не мог стать в уровень с тем положением, на которое его выдвинули судьба и родство. Он был слишком мало образован для этого. О Китае, Японии и Корее, например, он имел самые слабые понятия и даже не знал политической географии соседних с его областью Монголии и Маньчжурии. О ходе событий в собственно Китае, уже с 1853 года обуреваемом восстанием тайпинов, он не имел ни малейшей идеи; за действиями англичан и французов в 1857—1861 годах не следил сколько-нибудь серьезно. Да что иностранная политика и чужие страны! Он, губернаторствуя и потом генерал-губернаторствуя, никогда не знал порядочно русских законов и не имел никаких понятий о том, что называется государственными принципами (кроме, конечно, формулы: всяка душа властям предержащим да повинуется) и здравыми началами политической экономии (за исключением того, что всякий человек, хотя бы мертвый, но не исключенный из списков по ревизии, есть прежде всего податная единица). Я ставлю ему в немалую заслугу то, что он в 1860-х годах пробовал поднять вопрос о сибирском университете; но, кажется, что главною, если не единственною, побудительною причиною тому было отсутствие в Сибири образованных чиновников, которые массою хлынули оттуда после отъезда Муравьева и которых навербовать вновь в Европейской России Корсаков не умел[25]. Забайкальской областью он управлял плохо, хотя был лично честен и плутов не жаловал… когда успевал их поймать, что случалось очень редко. Его многие любили, как «доброго малого», пожалуй, хорошего товарища и обходительного начальника; но уважать, как руководителя государственной деятельности в стране, его было нельзя. Как истинная посредственность, он не мог выносить критики своих ошибок и сослал, например, Петрашевского и Завалишина, которых Муравьев оставлял в покое. Ни для Чернышевского {1.67}, ни для Михайлова он ничего не сделал и даже допустил, за поблажки последнему, пострадать почтенного Дейхмана. Примера больших нравственных совершенств он подавать не мог; ибо хотя в мое время его и считали, в 35 лет от роду, девственно-целомудренным, но как только он стал генерал-губернатором, то отбил жену у иркутского полицмейстера, на которой, впрочем, потом женился.
За Корсаковым, и по табели о рангах, и по влиянию на ход событий в Амурском крае, в мое время следовал Н. В. Буссе, начальник штаба войск Восточной Сибири, сначала исправлявший должность, а потом окончательно в ней утвержденный. Воспоминание его личности мне не приводит на память почти ничего, кроме штабных интриг между людьми, ненавидевшими друг друга, подкапывавшимися один под другого, но лицемерно любезничавшими при случае, причем, разумеется, эта глухая борьба отражалась особенно на судьбе подчиненных, вечно пребывавших в фальшивом положении и приносимых в жертву как при вспышках взаимной злобы властей, так и при их компромиссах. Разумею в особенности отношения между Буссе и Будогосским. Когда я приехал в Иркутск и явился в штаб, то на вопрос мой Будогосскому, когда же я могу представиться начальнику штаба? — получил ответ: «К Буссе? Да ведь он болен и редко кого принимает теперь. Впрочем, я спрошу его, когда он хоть немного поправится». Затем прошло две недели, в продолжение которых Будогосский не раз говорил мне, что я «ничего не теряю от незнакомства с Буссе», и наконец, уже после назначения меня на Амур, сказал мне с усмешкой: «Господин начальник штаба… то-бишь исправляющий эту должность, желает вас видеть, приезжайте сегодня к нему в 10 1/2 часов…» Я поехал и, прибыв как раз в назначенный час, приказал доложить о себе. Прошло около десяти минут, прежде чем лакей пригласил меня из прихожей, где висели шинели и стояли калоши, в кабинет Буссе.
— Очень, очень рад вас видеть, «молодой человек», — сказал он мне, очевидно желая этим эпитетом сразу поставить меня на почтительную от себя дистанцию, но в то же время молча показывая на стул, так как и сам сел. — Мне так нужны теперь старательные офицеры Генерального штаба. И генерал-губернатор, по моему представлению (?!), дает вам все средства показать себя. Многие и многие из старших вас (намек на Будогосского) сочли бы за счастье сопровождать его на Амур, а вот он берет вас, хотя вы здесь новичок. У вас могут через это появиться враги, но вы не бойтесь этого: я вас не выдам… А знаете ли вы Бянкино?
— Знаю, полковник, — это штаб третьей пешей казачьей бригады, на Шилке за Нерчинском.
— Очень рад, что вы уже успели изучить нашу дислокацию, хотя другие говорят, что она очень сложна (опять намек на Будогосского). Так вот перед отъездом вашим на Амур я дам вам один доклад командующему войсками, который вы и представите ему именно в Бянкине, после представления местного бригадного командира.
Доклад этот был по части Генерального штаба, но изготовлялся либо в дежурстве, либо в казачьем отделении Главного управления, у Кукеля, втайне от Будогосского, которого грамотности и знанию дела не доверяли; и мне содержание его стало известно лишь по выезде из Иркутска. В ту минуту, когда Буссе предупреждал меня о нем, я мог только сказать:
— Слушаю, полковник.
— Ну, а теперь прощайте, молодой человек, — ответил он мне, — вы видите, я не совсем здоров, и мне нужен покой.
По приезде в штаб я был встречен вопросом Будогосского:
— Вы уже от Буссе?
— Да.
— Ну, что, каким вы его нашли?
— Он очень слаб, смотрит развалиной, благодаря худобе и бледности, да, должно быть, и сам считает себя, в тридцать лет, стариком, потому что мне все говорил «молодой человек», хотя мне тоже идет двадцать пятый.
— Каков гусь! Погодите, то ли еще увидите! Он ведь только у Муравьева в кабинете тише воды, ниже травы, а со всеми подчиненными распускает перья, как индюк, которого подразнили свистком.
Важничанье Буссе своим положением и даже какими-то «заслугами» бросалось в глаза каждому, особенно когда он был утвержден в должности и стал носить мундир Генерального штаба.
— Вишь, ворона в павлиньих перьях! — говорил по этому поводу Будогосский. — Как хорохорится! А ведь не умеет отличить мензулы от кипрегеля… Вот тут и проходи академию, когда прихвостничаньем можно и без того добиться штабного мундира.
— Как! Да разве Буссе не был в академии? Мне казалось, что…
— Помилуйте! Это просто гвардейский хлыщ. Должно быть, натолкнулся на скандал у Излера или в танцклассе у Кессених: вот и удрал сюда покорять языци[26]. Ездил ежегодно тысяч по двадцати верст курьером, ну и выездил полковничий чин, хотя бы за одни сахалинские похождения стоило вовсе лишить чинов.
Я не знал тогда, в чем состояли сахалинские похождения Буссе, и потому не продолжал разговора; но впоследствии Невельской и др. разъяснили их печатно, по поводу печатного же хвастовства самого Буссе {1.68}. Хвастовство это вызвало справедливое негодование и во всех, знакомых с истинною историею Амурского края. Тем не менее, когда я уезжал из Восточной Сибири в Петербург, Буссе уже был произведен в генералы, получил 1 500 рублей пожизненной пенсии на службе и отправлялся из Иркутска на губернаторство в Благовещенск. Чуть ли даже не для него и была создана Амурская область[27], в которой и через десять лет по основании Благовещенска было всего 23 000 душ, в 1859 же году не более 10—11 тысяч.
— А ведь наш амбань, пожалуй, не уступит айгунскому, — говорил в то время Будогосский. — Только собольего хвоста на шляпе нет, и павлиные перья заменены петушьими, по достоинству лица. Впрочем, на что ему чужой пушистый хвост, когда есть свой, от природы? (Замечание небезосновательное, но только немного странное в устах Будогосского в то время, когда он уже был в наилучших отношениях с Буссе, ухаживал за ним и, конечно, не без его содействия назначался в пограничные комиссары для установления границы в Уссурийском крае, что доставило ему чин полковника и 500 рублей пенсии на службе.)
Как губернаторствовал Буссе на Амуре, я уже отчасти намекнул, говоря о судьбах «Амурской компании», у которой он отбирал лодки или которую вводил в убытки заказами для Благовещенска пожарных инструментов и фонарей, за которые нечем было платить; но, не быв сам свидетелем этой искусной административной деятельности, не хочу о ней судить. Сочинения Максимова, Завалишина, отчеты комиссии адмирала Сколкова и другие источники, кажется, уже сказали достаточно.
По отъезде Буссе на Амур его заменил в Иркутске Б. К. Кукель, тоже не офицер Генерального штаба, а казак, прошедший, впрочем, кажется, через инженерное училище. Это был очень ловкий, находчивый и усердный чиновник, умевший понравиться не только Н. Н. Муравьеву, но и Д. А. Милютину {1.69}, который считал его одним из лучших начальников окружных штабов. Я хорошо помню, как первый был доволен присланным ему в 1857 году, на Усть-Зею, к подписи проектом рапорта военному министру о вооружении забайкальских казаков.
— Хорошо написано, толково, складно и ничего лишнего; видно перо Кукеля.
И вот, чтобы выдвинуть способного редактора официальных бумаг, Муравьев не затруднился выхлопотать ему в одном и том же году два чина и место начальника штаба, с сохранением притом звания члена Совета Главного управления Восточной Сибири, что давало в сумме до 6000 рублей годового содержания на 28—29 году жизни и на 10—11-м службы. Кажется, что из всех созданных Муравьевым карьер эта была самая блестящая, разумеется после корсаковской. И, говоря сравнительно, она не была оскорбительной для других, но если спросить серьезно, безотносительно, что же сделал Кукель для военного управления в Иркутске, для войск Восточной Сибири, для забайкальских и амурских казаков и для переселенцев на Амуре, судьбы которых были несколько лет сряду в его руках, то придется сказать: не много хорошего. По регулярным войскам в штабе у него были такие беспорядки, что преемник его, Черкесов, нашел в каких-нибудь шести батальонах пятьсот одиннадцать солдат безвестно отсутствовавших, о чем генерал-губернатор Синельников и доносил государю. Это были люди, которых Кукель и его штаб просчитывали, так что правительство отпускало на них одежду, амуницию и продовольствие, но где они были, что делали и даже чем в действительности питались — не знаю. За такие беспорядки, нет сомнения, в любой европейской армии начальник штаба был бы предан суду, а у нас Кукель спасся, потому что умел «влезть в душу», сначала Муравьеву, потом Корсакову, и за ними уже скрывался от всякой ответственности. Казаки забайкальские своим разорением также обязаны, после Корсакова, больше всех Кукелю: ведь он был начальником казачьего отделения в Главном управлении и хозяйственная часть войска была на его попечении. Никогда, разумеется, ему не приходило на ум от красно писаных бумаг о колонизации Амура и о приготовлениях к ней переходить к действительности и отвечать на вопрос: а посильны ли казакам возлагаемые на них натуральные повинности и издержки всякого рода? Да не приходило не потому, чтобы не могло прийти по свойству голоса, а потому, что взвешивать гласно казачьи нужды было нерасчетливо и могло повлечь потерю расположения свыше, чего Кукель никак допустить не мог… «Лови счастье, пока оно дается и «après nous le dèluge» {1.70}— было всегда его девизом, как он доказал и при конце своей карьеры, когда для поддержания блестящего общественного положения сознательно делал долги, которых уплатить был не в состоянии. Правда, исподтишка он иногда посмеивался над «амурским угаром» и его последствиями; но высказать свои сомнения начальству открыто и настойчиво никогда не решался. Вот сделать, в безопасное время, volte-face {1.71} и согласиться с порицателями хода амурского дела,— о чем свидетельствует Завалишин, — это было совершенно в его природе. Я и сам слышал от него в 1868 году насмешливые замечания об амурской колонизации. Впрочем, он тогда смеялся над всем: над ревизором Лутковским, приезжавшим из Петербурга и видевшим амурские селения только с парохода, то есть не видавшим их иногда совсем; над митрополитом Иннокентием, отправлявшимся из Сибири управлять московской епархией по якутским обычаям, из которых главнейший тот, что архиерейская консистория есть ablupatio poporum et diaconorum {1.72}, над губернатором Педашенко, которого раскольники просили не присылать к ним чиновников, и т. д. Во всяком случае, надобно признаться, что Кукель был много выше разных Буссе, Будогосских, Шелашниковых и им подобных «деятелей» в Иркутске. Для начальника штаба в паскевическом смысле, то есть для ловкого, хорошо знающего бумаги писаря, он был хоть куда, и немудрено, что пленил Милютина, который канцелярскую неутомимость и почтительную гибкость нрава всегда считал главными штабными добродетелями, хотя бы отличавшиеся ими занимали очень самостоятельные и ответственные посты.
Дом Кукеля в Иркутске всегда был самым популярным, пожалуй, даже аристократическим; и это не только потому, что сам хозяин был человек приветливый и любезный, а еще и потому, что с ним жил его тесть Клейменов с женою и дочерью, сестрой madame Кукель (а теперь женою посланника Бюцова). Клейменов был горный инженер-полковник, ревизор енисейской золотоносной системы, куда и ездил каждое лето собирать золотую жатву. Так как на приисках у него бывало по 20 000 рабочих, то он, сверх жалованья, получал по крайней мере 20 000 рублей оброка или подушной подати с владельцев приисков. Таков уже был обычай, терпимый даже Муравьевым, который не хотел ссориться с горными инженерами, чтобы не наживать врагов в Министерстве финансов. Благодаря этим доходам Клейменов мог свободно следовать своим природным наклонностям хлебосола; и как в лизоблюдах и прихлебателях недостатка никогда и нигде не бывает, то в доме его и Кукеля всегда были гости. Тут собирались новости, рассказывались анекдоты, происходили толки о том о сем и шла игра в карты. Любопытно, что главными говорунами на этих беседах были мужчины-хозяева; дамы же, то есть их жены и девица, отличались крайнею молчаливостью, особенно молодая жена Кукеля, довольно красивая, полная женщина, которая была влюблена в своего мужа и рожала ему каждогодно детей. Старик В. В. Клейменов был неистощим в рассказах, которым умел придавать довольно забавную форму; да и видал он на своем веку немало, от Тифлиса до Иркутска и Петербурга. Критического разбора деятельности генерал-губернатора и вообще местной администрации в доме Клейменовых-Кукелей, конечно, не допускалось, и оттого человеку, желавшему пользоваться этим «салоном» для приобретения сколько-нибудь дельных сведений о крае и его деятелях, было в нем скучновато. Впрочем, с Клейменовым иногда можно было петь не одни хвалебные гимны начальству; но Кукель всегда только славословил или заминал речи, непристойные в доме члена Совета Главного управления. И хотя ему многое из изнанки текущих дел было хорошо известно, но он тщательно о том умалчивал, и только через десять лет после отъезда моего из Иркутска, когда Муравьев давно сошел со сцены, его бывший советник и начальник штаба довольно насмешливо излагал мне разные эпизоды из времен «муравьевщины», да и не мне одному, а даже Завалишину.
Кукель, как и Буссе, был военным любимцем генерал-губернатора; в гражданском ведомстве наравне с ними стоял Беклемишев. Вся Россия узнала имя этого человека по его печальной истории с Неклюдовым — и, благодаря «Колоколу», узнала с негодованием. Может быть, корреспонденты Герцена были и правы во многом: дело было по отъезде моем, и я лично его не знаю. Но Беклемишева и Неклюдова я знал лично и, признаюсь, — никакого сочувствия к последнему иметь не могу. Это был хлыщ из самых ничтожных, да еще важничавший своим родством и связями. Что мудреного, что Беклемишев сказал ему какую-нибудь колкость, мало-помалу приведшую ко вражде, драке и потом дуэли. Сам он был человек дела, ненавидевший паразитов, ничем дотоле не замаранный. Правда, над ним смеялись, что он при заселении Читинского тракта брал с верхнеудинских староверов взятки не деньгами, а красавицами, семьи которых выселял на большую дорогу, чтобы почаще их навещать; но я не раз говорил о нем с самими староверами, как выселенными, так и оставшимися на местах, и постоянно слышал от них, что время исправничества в Верхнеудинске Беклемишева было для них золотым веком. «Душевный был человек Федор Андреич: никаких поборов сам не брал и другим не позволял брать. Попросишь о чем — коли можно, сейчас сделает. Ни попы, ни заседатели, ни казаки, ни горные чиновники, ни купцы при нем обижать нас не смели». В некоторых избах крестьян я видел его портрет через несколько лет после оставления им Верхнеудинска: это кое-что значит. Конечно, он был скор, слишком энергичен, но безусловно честен и очень распорядителен. Над Кукелем он имел преимущество человеческого сердца, патриотизма и гражданского мужества: говорить правду даже и тогда, когда это могло не нравиться… Таким по крайней мере он представлялся мне. Н. Н. Муравьев, очевидно, готовил его в губернаторы и до члена Совета Главного управления уже довел; но неклюдовская история сильно повредила ему и заставила выехать из Сибири.
Буссе, Кукель и Беклемишев были люди, выдвинутые самим Муравьевым вследствие многолетнего личного знакомства с их деятельностью; но в Иркутске был еще разряд людей, занимавших видное положение в силу петербургских покровительств, начиная с protégé императрицы Александры Федоровны, немецкого дезертира юнкера Коха. Это уже неизбежное зло во всех русских губернаторских и особенно генерал-губернаторских резиденциях. Я упомяну только об одном из этих господ, Извольском, потому что разные Анненковы, Арсеньевы, Бюцовы, Гвоздевы, Гурьевы и пр. не стоят того, чтобы их вспоминать, по ничтожности круга их деятельности, хотя между ними могли быть люди хорошие. Извольский был посредственным офицером Генерального штаба, вышедшим в отставку из подполковников с целью добиться, при помощи дядюшки Сухозанета, военного министра, видного места в гражданской службе. Муравьев, для которого содействие Сухозанета было очень важно, и дал ему таковое, сначала в виде члена Совета Главного управления, а потом иркутского вице-губернатора, причем он часто управлял губернией, ибо Венцель, при отлучках Муравьева, занимал уже его место. Жена Извольского, которая собственно была родственница петербургского «Сатурна, пожирающего своих детей», старалась играть в иркутском обществе роль de la plus grande dame {1.73}, что, за отсутствием генерал-губернаторши, ей и удавалось. Муравьев делал ей подарки в день именин, и она, пользуясь таким вниманием, позволяла себе отправлять с генерал-губернаторскими курьерами к тетушке в Петербург меха, бочонки с кедровым маслом или байкальскими омулями и т. п. С одним таким курьером, Оларовским, я помню, вышла презабавная история: сильно нагруженная кибитка его провалилась на плохо замерзнувшей реке Ие, и горностаи мадам Сухозанет были подмочены. Чуть ли даже он не заменил их купленными на собственные деньги. Поблажки жене, разумеется, отзывались и на муже, которому проходили даром довольно резкие промахи и которого Муравьев таки дотянул до губернаторства, правда, вне Сибири. Так, я помню следующий случай. Извольскому понадобился овес для лошадей, по цене более дешевой, чем базарная. Он сказал о том иркутскому исправнику Гурьеву, а тот «распорядился» через одного волостного голову! История немедленно огласилась, потому что такие вещи в муравьевские времена считались в Иркутске предосудительными; но Извольскому все сошло.
Спускаться далее в мир иркутской бюрократии, современной моему пребыванию в Восточной Сибири, я решительно не в состоянии; да и не стоит. Это была обычная губернская бюрократия николаевского заготовления. Был, например, полицмейстер, разъезжавший по городу в санках с пристяжной на отлете, у него была смазливая жена к услугам… впрочем, на этот раз не начальства, как бывало потом, при Корсакове и Фридрихсе, а одного из молодых носителей аксельбантов. Был жандармский офицер Фохт, дубина вершков десяти росту, с широкими пастью и дланью; как человек, который обязан наблюдать за благим поведением других и для которого нет ни за что ответственности, он ругался площадными словами в иркутском «благородном» собрании… правда, на маскарадах, куда имели доступ горничные местных генеральш. Был инженерный капитан-щеголь Рейн, столь исполненный вечно проповеданных им правил благопристойности, что в том же собрании даже дрался с прислугою. Был советник в Главном управлении, хваставшийся честною бедностью, про которого, однако, общий голос настойчиво уверял, что он взял взятку в 5 000 рублей. Опасаясь последствий такой молвы, честный советник ходил в мундире к Венцелю (за отсутствием Муравьева) с просьбою выслать из Иркутска Петрашевского, который будто бы распространяет слух, прибавляя, что «если так поступить с одним горлодером, то другие замолкнут». Когда же Венцель объявил, что сделать этого не может, а что против Петрашевского, хоть и ссыльного, нужно действовать судом, то обиженный сановник объявил, к немалому удовольствию публики: «Стану я ходить по судам срамиться!» — после чего никто уже не сомневался, что взятка была получена…
Впрочем, да мимо идет чаша, наполненная соком иркутской общественной жизни: ее ведь можно пить в каждом русском губернском городе. Любопытнее вспомнить о том, чем Иркутск в мое время отличался от огромного большинства провинциальных центров, то есть о широком умственном движении и его представителях. Делая сравнение несколько гиперболическое, я могу сказать, что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем же, чем век Екатерины II для всей России и век Людвика XIV для Франции. Не было только поэтов, сочинителей од, хотя, например, 16 мая 1858 года — день заключения Айгунского договора, в память которого в Иркутске были сооружены триумфальные ворота, мог бы дать повод какому-нибудь жрецу Аполлона и муз написать не один десяток строф рифмованной лести. Умственное движение в Иркутске 1850—1860 годов в самом деле было значительно, и Муравьеву в нем принадлежит роль если не возбудителя, то покровителя… в смысле Тамерлана, говорят иные, скорее в смысле Екатерины, скажу я. Генерал-губернатор, начавший свое управление льготами декабристам и даже визитами к ним, оставался и через десять лет «человеком» по отношению к петрашевцам, то есть к людям, заплатившим каторгою за то, что служили честным идеям. В бытность мою в Иркутске все наличные петрашевцы (декабристов уже не было: они в 1856 году получили всепрощение по ходатайству Муравьева же) — Петрашевский, Спешнев, Львов — были ласкаемы генерал-губернатором, а за ним и прочею местною знатью. Первый был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Муравьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены. Он пользовался этим положением, чтобы говорить своему покровителю вещи, которых не смели сказать другие: например, укорял его за стремление удешевить полицейскими мерами хлеб на иркутском базаре, за ложную экономическую политику в Забайкалье, при снаряжении амурских сплавов и т. п. И Муравьев слушал, оспаривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не думал за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал потом Корсаков Львову и Спешневу, людям сравнительно молодым, надеявшимся на реставрацию, он отворил дверь в храмину бюрократии, после чего, мало-помалу, первый из них достиг возвращения чина отставного гвардии штабс-капитана, а последний проник и в высшие, то есть самые бездушные, сферы канцелярии в Петербурге. Спешнев был сделан Муравьевым даже редактором основанной в 1858 году газеты «Амур», хотя это была газета казенная и, следовательно, не должна была издаваться при содействии бывших каторжников. И Бакунин {1.74}, которого император Александр II обещал во все время своего царствования не возвращать из Сибири, нашел себе покровителя в Муравьеве, который доставил ему нечто вроде нештатного, но постоянного и прибыльного места адвоката золотопромышленников при Главном управлении Восточной Сибири, где решались дела об отводе приисков. (Впрочем, это, как говорили, сделано было по родству; и я, никогда не знавший Бакунина лично, не ручаюсь, верно ли переданное здесь мною известие.)
Упомянув о Петрашевском, не могу не вспомнить моих личных к нему отношений, остававшихся наилучшими до самого моего отъезда из Сибири, хотя Михаила Васильевича за его резкую правдивость и иногда злые насмешки многие не жаловали и даже боялись. Когда в ноябре 1857 года я уезжал в Петербург курьером, он передал мне письмо к матери, которое боялся доверить почте, и просил о сообщении ей некоторых подробностей на словах. Я свято исполнил поручение; старушка, богатая домовладелица, помнится, на Торговой улице, при мне спрятала полученное письмо под косынку на груди, расспросила меня о житье-бытье сына, но ответа последнему ни тут, ни после мне не дала. По возвращении моем в Иркутск Петрашевский с грустью узнал об этом; но что было коренною причиною этой грусти, — осталось мне неизвестным. Мои личные отношения к Михаилу Васильевичу оставались прежними, то есть мы часто беседовали о предметах научного и общественного интереса то у меня, то у него, то в Сибирском отделе Географического общества, всего же чаще у Ротчевой. Эта почтенная дама была тоже одною из замечательностей Иркутска. Урожденная княжна Гагарина, она получила прекрасное образование, живала в большом парижском свете, но вышла замуж (вероятно, по любви) за небогатого человека Ротчева. С ним она жила в Русской Америке, именно в колонии Росс на берегу Калифорнии, около самой той местности, где года через два после продажи колонии американцам открыты были богатые золотые прииски; потом поселилась в сибирской глуши и управляла каким-то женским воспитательным заведением, тогда как муж, довольно известный публицист, оставался в Петербурге и служил, кажется, в канцелярии Военного министерства и в управлении Российско-Американской компании. Ротчева имела сына и двух дочерей, из которых одна, редкая красавица, вышла замуж за полковника Заборинского, предместника Буссе, другая оставалась при матери, а сын состоял адъютантом или ординарцем при Корсакове. Сколько раз я просиживал далеко за полночь у почтенной старушки, легко поддерживавшей всякий разговор, знакомой со всеми отраслями человеческих знаний, умевшей сознательно не преклоняться ни перед Гумбольдтом, ни перед Герценом, ни даже перед своим любимцем Вольтером и метко указывавшей достоинства их и недостатки. С ней в последний раз в жизни я вел спор о предмете высшей метафизики, творце и правителе мира, и она сдавалась нелегко, уступая лишь шаг за шагом, по мере того как я развивал ей, как умел, антиномии, неизбежные в вопросах естествознания и морали при допущении гипотезы всемогущего, всеведущего, вездесущего, правосудного и всеблагого бога.
— Опасный вы человек, — сказала она мне после этой беседы, пожимая на прощанье руку. — Вот мне за пятьдесят лет, прожила я и передумала много; а ведь вы затронули такие вопросы, которые мне никогда не приходили в голову, даже при чтении писателей-скептиков. И, право, теперь хоть сначала передумывай все.
Я никогда в жизни не слышал ничего более лестного для себя и спешил ее благодарить так же искренне, как она дала мне аттестат, которого я, впрочем, не добивался. …Ротчеву, я думаю, поминают добрым словом и многие из живших в Иркутске; но, конечно, кроме аристократок-чиновниц, которые не любили ее за превосходство ума и образования и за гордую независимость, с которою она, женщина небогатая, держалась относительно их.
Вот у Ротчевой-то, как я сказал, мне приходилось чаще всего встречаться с Петрашевским и толковать о всевозможных предметах. Узнав таким образом довольно близко этого человека, я могу с совершенной искренностью сказать, что Россия немало потеряла в его, замученном ссылкою, гонениями и лишениями, лице. Ум многосторонний, резко-аналитический и в то же время глубоко сочувствовавший всему гуманному, без фальши, без экивоков, не склоняясь ни перед чьим авторитетом, — он мог бы многое сделать, и не на словах только, а на деле, если бы внешность не задавила его. Что мне в нем больше всего нравилось, — это непреклонность убеждений и воли по отношению к самому себе. Он не польстился на возможность помощью муравьевской протекции и высочайших помилований реставрировать себя в чинах и званиях, а подал в сенат просьбу о пересмотре всего его дела, этой бесчеловечной и беззаконной проделки Николая и его клевретов, испуганных 1848 годом. Разумеется, он получил отказ; мало того, Корсаков сослал его снова в одно из самых глухих мест Сибири; но не лучше ли умереть в глуши, почти без куска хлеба, но с непреклонно-гордым челом, чем с гибкой спиною из почетного сословия русских политических ссыльных перейти в постыдные ряды русской бюрократии и даже, пожалуй, дослужиться до пенсии от тех самых деспотов, с которыми боролся и которых ни любить, ни уважать никогда не мог? В этом смысле разница между Петрашевским и многими его товарищами по истории 1849 года огромна… Львов, Спешнев, Достоевский… что выиграли они морально от своей реставрации?
Я не был ни другом, ни даже приятелем Михаила Васильевича, а только добрым знакомым, который, когда мог, служил ему чем-нибудь, например книгами и журналами, и который иногда пользовался его услугами, например, по переводу с немецкого кое-каких географических сочинений; но нечто хорошее связывало нас настолько, что в день прощания я увидел у Петрашевского на глазах сверкавшие меж ресниц слезы. Мне было приятно оставить ему на память несколько книг, которые увозить с собою из Иркутска я не видел нужды. И когда я приехал в Петербург, у меня из длинной вереницы моих восточносибирских знакомых ярче других рисовались он да еще madame Ротчева.
Эту последнюю ее иркутские недоброжелательницы иногда называли «синим чулком» и «академиком в чепце»; но то была неудачная ложь. С тактом светски образованной женщины Ротчева всего менее походила на «синий чулок», на «семинариста в женской шали» и даже на «академика в чепце». А вот кто в Иркутске был академиком, хоть не в чепце, а в панталонах, с Анной на шее, — это Илларион Сергеевич Сельский. Он тоже принадлежал к сибирской интеллигенции и даже стоял официально в центре местного ученого кружка, то есть Сибирского отдела Географического общества. Несмотря на свой пожилой возраст и долгое пребывание в чиновничьей среде, он любил науку, и хотя был отсталым по многим ее отраслям, но все-таки сохранился открытым для всяких научных вопросов, особенно географических. Восточную Сибирь он знал, я думаю, лучше, чем кто-нибудь, как по личному осмотру значительной части ее, так и по книгам и документам, которых в отделе было немало и часть которых он собрал сам в разных архивах и от разных местных писателей. При нем отдел Русского Географического общества жил полной жизнью, издавал исправно книжки «Записок» и служил сборным пунктом всех, кто в Иркутске интересовался знанием. Сельский был, во-первых, отец-архивариус и, во-вторых, непременный секретарь этой походной академии, которая так часто менялась в своем составе. Как член Совета Главного управления, он едва ли имел серьезное влияние на ход дел в Сибири, потому что боялся Муравьева; но все же лишнею спицею в колеснице не был. Он возбуждал насмешки своим скопидомством; но никто не смел бы сказать, что им что-либо приобретено нечестным путем… кроме разве рукописей, про которые Н. Н. Муравьев как-то говорил мне на Зее, что «если распорядиться немного деспотически с Илларионом Сергеевичем, то у него можно открыть немало вещей из якутского и других архивов…». Может быть, даже почти наверное, так; но хищничества Сельского не имели характера личного присвоения, а служили на пользу науки, спасая от забвения и гибели многие интересные документы. Я бы мог лично претендовать на «скопидома» за продажу им Бенардаки, за 225 рублей, моего отчета об Уссури без моего согласия; но он сам заплатил мне за рукопись 150 рублей из сумм отдела. Если затем он соспекулировал на 75 рублей, то я готов думать, что не в собственную пользу, а для казны отдела. Притом он уже не возражал, когда я, узнав о его «обороте», передал статью секретарю самого Географического общества Ламанскому, в Петербурге, для «Вестника» общества, гораздо более распространенного в ученом мире, чем «Записки» Восточно-Сибирского отдела.
Из членов или постоянных посетителей этого отдела — настоящей иркутской академии муравьевского времени, можно бы вспомнить Шварца, Рашкова, Радде, Крыжина и Усольцева, то есть членов сибирской географической экспедиции 1855—1859 годов; доктора Кашина из Забайкалья; священника Аргентова из Нижне-Колымска; местных иркутских чиновников Маака, Гаупта и Пермыкина; горных инженеров Аносова, Баснина, Клейменова, Фитингофа; моих штабных сослуживцев — Будогосского, Турбина и Сгибнева, из которых последний был преемником Сельского в отделе; инженера Романова, столь прославившегося статьями об Амуре; купца Соловьева, который дал 15 000 рублей на исследование Амура натуралистом Мааком и на великолепное издание его отчета; купца же Пежемского, ведшего летопись Иркутска, и пр. Но что можно было сказать об их научной деятельности, — они сказали сами, и мне прибавлять, кажется, нечего. Довольно того, что их в муравьевское время было немало и что стоило Муравьеву уйти из Сибири, чтобы и они мало-помалу рассеялись по обширному пространству России: одни, — чтобы трудиться по-прежнему в области знания, другие, — чтобы заглохнуть в бюрократическом омуте. Самый блистательный представитель науки в послемуравьевское время — Н. М. Пржевальский {1.75} недолго оставался в Восточной Сибири, да и покамест был там, — сторонился или был отстраняем от местных влиятельных сфер. За довольно ярким днем, осветившим Сибирь и Амур в 1850—1860 годах, скоро наступила почти непроглядная ночь, которой, по счастью, я уже не был личным свидетелем. В этой ночи светилами явились лишь некоторые ссыльные поляки — Годлевский, Дыбовский, Чекановский да будущий эмигрант князь П. А. Кропоткин.
ОБОЗРЕНИЕ РЕКИ УССУРИ И ЗЕМЕЛЬ К ВОСТОКУ ОТ НЕЕ ДО МОРЯ
В конце 1857 года, с получением в Санкт-Петербурге известия об открытии на западном берегу Японского моря заливов Владимира и Ольги, решено было открыть сообщение с этими местностями от Амура по реке Уссури, которой верховья должно было предполагать по близости моря, а именно невдалеке от той его части, где, по наблюдениям на пароходе «Америка» {2.1}, лежит Владимирский порт.
В то же время генерал-губернатору Восточной Сибири угодно было изъявить намерение командировать (меня] с этой целью на реку Уссури, почему я и счел долгом немедленно заняться собранием и изучением источников, какие только существуют для географии этой далекой и малоизвестной страны {2.2}, и озаботиться доставлением тех из них в Иркутск, которые можно было достать только в богатой учеными средствами столице.
Состав экспедиции, мне порученной, по самому назначению ее был очень немногочислен. Один зауряд-офицер как начальник команды, один переводчик гольдского языка {2.3}, моя прислуга и двенадцать казаков — таковы были мои спутники. Предполагалось, кроме того, дать мне в помощь двух топографов, находившихся уже в Приморской области {2.4} и хорошо знающих свое дело; но топографы эти не прибыли к должному времени на Уссурийский пост {2.5}, потому что распоряжение о них из Иркутска {2.6} было сделано несвоевременно и получено в Николаевске слишком поздно. Таким образом, весь труд съемки и других подробностей обозрения лег на меня одного. Не желая, чтобы составленная мной карта оставляла в недоразумении тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться ею, я не позволял себе определять расстояния на глаз, а прошел все пространство от Уссурийского поста до устья Лифулэ {2.7} пешком, ведя счет шагам; это значительно замедляло ход наш, потому что, оставаясь бессменным съемщиком, я должен был несколько сберегать свои силы, преимущественно для проходов через горы, и потому идти средним числом по 20—22 версты в сутки, редко более 25-ти. Путь по высокой, густой траве на берегах, местами по грязи, крупным каменьям или лесной чаще очень утомлял меня, так что я иногда засыпал немедленно по окончании съемочной работы, успев лишь написать дневник. Но главное, чего лишала меня необходимость беспрерывно производить одну работу самому, это было собирание местных произведений и более подробное ознакомление с внутренностью страны и ее обитателями. Желая проверить, хотя отчасти, подробности д'Анвилевой карты {2.8} наглядным обозрением предмета, лежащего в стороне от русла Уссури, я поручил однажды вместо себя другому осмотр на некоторое расстояние одной из побочных рек; но так как посланный не умел хорошо руководствоваться компасом, то я не смею сказать, чтобы поправки, сделанные мною в очертании правых притоков Уссури, имели какое-либо другое основание, кроме показаний местных жителей, которые я пролагал на карту. Имея в виду для расчета времени и средств заменить чем-нибудь недостаток астрономических инструментов, я вел ежедневно сложное меркаторское счисление {2.9} своего пути, и оно-то заставляет меня думать, что старые определения иезуитов должны быть очень близки к истине, почему и карта д'Анвиля может считаться более верною, чем все другие, доселе изданные.
Мы отправились из Уссурийского поста в числе шестнадцати человек на двух лодках утром 1 июня и скоро прошли горы, находящиеся на правом берегу Уссури и известные под именем хребта Хехцира (Хухчир-Хургин). Кряж этот, сколько кажется, составляет оконечность довольно высокой цепи, которая направляется от устьев Уссури к востоку и отделяет притоки Амура (Дондон) от уссурийских (Кий) и океанических (Эле-бира) {2.10}. Там, где он составляет горный узел с береговым меридиальным хребтом, известным под именем Сихотэ-Алинь, вероятно, и лежат источники этих рек. Спуски с хребта везде круты и одеты лесом, который состоит из ильма, грецкого ореха, дуба, березы черной и белой, осины, пробкового дерева, ясеня, черемухи и отчасти кедра. Поросли леса состоят большей частью из явно цветных растений, между которыми можно заметить виноград и жасмины. Яблони[28] и даже бергамоты растут по южной опушке лесов, одевающих Хехцир, так что растительная природа этой местности напоминает лучшие части Средней Европы. За Хехциром начинаются по обеим сторонам Уссури очень низкие равнины, однообразно покрытые злаками и небольшими перелесками из дуба, вяза, осин и разных ив. Вся почти прибрежная местность, верст на 50 по Уссури, затопляется в большие воды, которые здесь бывают в июле, то есть в самой средине лета. Она поэтому мало способна для заселения. Зато многочисленные ее озера и болота содержат огромное количество дичи. Около озер водятся также черепахи (из семейства Eluviatiles){2.11}, которых окрестные гольды употребляют в пищу. Яйца этих черепах, которые зарываются ими в песок по берегам озер и реки, в огромном числе истребляются разными хищными животными, которые из лесов приходят к воде. Обилие рыбы в нижних частях Уссури изумительно. Бывали случаи, когда мы проходили особенно тихие места, что сазаны {2.12} целыми стадами начинали прыгать на поверхности воды и иногда попадали в лодку. У окрестных гольдов рыба составляет главную пищу; но одежды из ее кож они приготовляют немного, а преимущественно употребляют для того грубые бумажные материи. Вообще их китайское название «Юй-пьхи-да-цзы» (рыбокожие инородцы) мало имеет значения.
Со второго дня нашего плавания начался дождь, который потом почти преследовал нас на всем протяжении пути в продолжение целых сорока пяти дней. Это обилие падающих вод, обусловливаемое недалеким расстоянием от моря, есть отличительная черта всей Уссурийской долины. Оно делает реку Уссури и некоторые ее притоки очень многоводными, относительно их длины. Для меня это обилие дождя было крайне неприятно, потому что очень затрудняло съемку и заставляло рано останавливаться на ночлеги, чтобы дать людям время перед сном просушить одежду. Берега реки, местами песчаные, большей же частью иловато-глинистые, сделались очень грязными, так что идти по ним было весьма трудно. Травы по берегам, до того мягкие, хотя и довольно высокие, быстро начали от дождей делаться жесткими. Так как подобная погода периодически возобновляется каждое лето почти в одно и то же время, то надобно думать, что будущим земледельцам на берегах Уссури придется делать уборку сена в конце мая с тем, чтобы в сентябре вторично косить траву. По низменности долины Уссури размыла ее во многих направлениях и образовала множество островов, между которыми протоки частью были еще без воды. Справа, верстах в 22 от устья, впала в Уссури речка Кий, которая, по словам гольдов, вытекает из гор и имеет длины до 130 верст {2.13}. Близ устья ее еще в 1855 году стояла деревня Кинданэ, нанесенная на карту г. Максимовичем, но теперь она сгорела, и гольды переселились на левый берег Уссури, назвав две бедные свои хижины деревней Хунгари. Вообще в первые два дня нам встретилось по Уссури всего три поселения: Турме, Джачжа (Дзоадза) и Хунгари. Во всех их вместе не более 8 домов; жители — гольды.
В первые два дня мы прошли два больших острова, каждый по нескольку квадратных верст, образовавшиеся в русле Уссури; на третий к вечеру миновали устье чрезвычайно быстрой реки Хоро, или Холо, неправильно известной у нас под названием Пора {2.14}. Даже в устьях своих эта довольно большая река мчится, как горный ручей. Начавшись в высоких горах, верст за 250 от устья, она и по равнине бежит очень стремительно, раздробляясь на множество рукавов и нанося высокие груды щебня и упавших деревьев. В Уссури она впадает пятью устьями, из которых два северные, особенно быстрые, приносят наибольшее количество вод. Температура этих струй в начале июня была на целых три градуса меньше теплоты воды в Уссури[29]. С приближением к Хоро на правом берегу стали попадаться места, удобные для заселения. Деревня Хойчу, лежащая верстах в 40 от устьев Уссури, растянулась по обеим берегам, особенно по правому, версты на четыре. Впрочем, она вся состоит из 9 домов, разбросанных в разных местах по лесу, и жители ее, во время нашего плавания, наполовину были в отсутствии. Пользуясь этим, мы посетили один из домиков, с тем чтоб поближе ознакомиться с утварью, которая вся оставалась незапертой и состояла из небольшого числа деревянной и глиняной посуды, кое-каких принадлежностей рыбной ловли и небольшого котла, вмазанного в кухонную печку. В высоком чулане, устроенном, в предосторожность от крыс, на столбах, мы заметили висевшую пару лебедей и следы хранившихся мехов.
4 июня на устьях реки Сима {2.15}, не означенной ни у д'Анвиля, ни у Бергхауза, мы встретили, посреди семейства гольдов, одного ороча, жителя верховьев Хоро, бывавшего и на море. Он говорил, что если по Хоро подниматься с месяц на шестах в долбленой лодке, то дойдешь до самого его источника в высоких горах и потом, дня четыре идя пешком, достигнешь моря. Соображая скорость хода по чрезвычайно быстрой реке и потом обыкновенную походку звероловов, можно полагать, что Хоро-бира имеет до 300 и не менее 250 верст длины, а перевал от ее вершин к Японскому морю — до 120 верст. По другим сведениям, полученным, впрочем, не от орочей, а от гольдов, не живущих по Хоро, в верхних частях этой реки впадает в нее слева небольшой приток Черпай {2.16}, с которого есть перевал на значительную, текущую в море реку Самальгу {2.17}; но сколько времени требует этот путь — неизвестно. Г. Максимович свидетельствует еще, что с верховьев Хоро есть проход через высокие горы к речке, впадающей в Амур (не в Дондон ли?) {2.18} и названной у него Пахсу. Контр-адмирал Невельской также знал о существовании этого пути, и у него речка называется Пекша. Река Сим, близкая к Хоро при устьях, течет с юго-востока и имеет длины до 120 верст, она вытекает из гор невысоких.
На следующий день, 5 июня, сильный дождь, шедший с раннего утра, заставил нас остановиться с обеда, чтобы принять меры против подмочки провизии, так как часть сухарей уже успела отсыреть и заплесневеть, а часть подмокла. Во время этой остановки я имел случай в первый раз ознакомиться с отношениями гольдов к маньчжурам {2.19}. Рыболовы-гольды, около юрты которых мы пристали, завидев наши лодки, испугались чрезвычайно. Сначала они хотели бежать, но потом, подумав, решились отдаться на произвол судьбы, то есть на волю маньчжуров, за которых они нас приняли. Когда, к удивлению их, мы заплатили им за принесенную рыбу в подарок два или три аршина дабы, радость их была чрезвычайна. Спрятанная дотоле женщина вышла к нам с трехлетним ребенком своим и воспевала нашу щедрость. Толпа детей, обыкновенно робких, смело стояла около нас. Между этими бедными людьми я заметил одного, физиономия и телосложение которого резко отличались от обыкновенного типа гольдов и вообще тунгусского племени. Он не был худощав, а мускулист и жирен. Длинные усы, совершенно европейские, и окладистая борода придавали ему вид русского крестьянина, одетого в чужое платье. Только глаза, впрочем, большие и круглые, отдаленностью своей друг от друга напоминали монгольскую расу. Можно думать, что такие исключительные особи между гольдами имели когда-нибудь в числе своих предков наших первых завоевателей Амура. Никакого ясного понятия о прошедшем своей семьи гольд, впрочем, не имел, он слыхал, что есть русские, что они водворяются на Амуре. Он ходил вместе с семейством одного родственника и своим отыскивать себе пропитание и одежду на берегах реки и потом собирался на охоту в леса. Начинавшаяся прибыль воды заставляла их торопиться ловлею, чтобы успеть насушить достаточный запас рыбы. Около берестяной юрты их висело уже множество добычи, убитой меткою острогою, все были заняты ее приготовлением.
6 июня после обычного утреннего тумана установился было порядочный и не жаркий день, но часу в третьем пополудни внезапно собрались тучи, полился дождь и заблистала молния. Это была уже вторая гроза со времени нашего отплытия из Уссурийского поста. Дождь, впрочем, скоро перестал, но небо было мрачно, и постоянно дувший юго-восточный ветер не подавал надежды на скорое исправление погоды.
В этот же день мы прошли устье реки Аома {2.20}, имеющего до 120 верст длины. На всем протяжении правого берега Уссури видны были горы, которые местами подходили и к самому руслу. Здесь мне удалось собрать между береговыми наносами несколько кусков окаменелого дерева, в которых древесная ткань так ясно сохранилась, что окаменелость больше походила на недавний отломок от живого растения, чем на ископаемое. К удивлению моему, все соседние высоты состояли притом из пород, в которых ничего подобного не встречалось. Нужно думать, что эти куски дерева, явственно хвойного, занесены из какой-нибудь боковой пади вытекающей оттуда речкой. Весь вид долины правого берега Уссури с этого дня изменился. На краях горизонта постоянно виднелись зубчатые вершины гор, все более и более возвышающихся во внутренность страны, то есть к востоку. На левом берегу еще тянулась обширная равнина, но в отдалении уже начинали синеть холмы. Мест, удобных для заселения, на восточной стороне Уссури встречалось гораздо больше, чем прежде. Луга и перелески сменились большими лесами из дуба, березы, ильма, осины. Прекрасные лилии, оранжевые и желтые, были в полном цвету, яблони и розы также; черемуха отцветала. Мы прошли в этот день, не обеспокоиваемые непрерывным дождем, более 26 верст и остановились ночевать в виду холмов, соседних Нору {2.21}.
Следующие два дня, 7 и 8 июня, были употреблены на то, чтобы пройти устье Нора, текущего в Уссури с юго-запада, и дать отдых людям, которые от непривычки к походу и от тяжести лодок, шедших против ветра, как и против течения, очень устали. Вместе с тем нам удалось хорошо сойтись с гольдами, которые живут около устьев Нора. Недоверчивые и осторожные сначала, эти люди разболтались без умолку, как только им было поднесено по рюмочке спирту, а за привезенную рыбу заплачено щедро дабой. От них я узнал, что на реке Нор, близ ее вершин, стоит город, который они называли просто: Хотонь, но который вовсе не есть Саньсинь, лежащий на Сунгари {2.22}. К этой последней реке есть с верховьев Нора перевал, требующий трех дней пути, но куда приводит он, гольды не знали. Как ни старался я выведать от гольдов какие-нибудь подробности о городе, находящемся на Норе, они отказывались сказать что-либо кроме того, что это пункт, составляющий средоточие некоторого рода управления ими, то есть, вероятно, военный пост, обстроенный несколькими купеческими домами и лавками. Во всяком случае, город этот невелик. Длину Нора гольды определяли двадцатью днями хода в лодке; это дает около 300 верст, потому что при быстроте течения реки в верховьях едва ли можно положить более 15 верст для ежедневного перехода.
Китайская география {2.23} определяет эту длину в 600 с лишком ли (более 300 верст); источники Нора, по ее свидетельству, лишь одной горой отделены от вершин реки Вокэнь, притока Сунгари. Гольды, которым переведено было китайское описание, сказали, что оно верно, но что они многого не знают и что названия предметов у них не те.
9 июня около полудня мы прошли устье реки Абдэри {2.24}, которая течет более 100 верст, но при устьях переходима вброд. Вода в ней холодна и очень мутна, впрочем, вероятно, от прибыли вследствие дождей. Несколько выше небольшой речки Сибку {2.25} встретилась деревня того же имени — самая большая из всех, которые до сего времени встречались, потому что состоит из 7 домов. Гольды здесь имеют порядочное огородничество и даже хлебопашество, потому что они сеют ячмень, бывший в эпоху солнцестояния уже совершенно выколосившимся.
Выше Сибку горы правого берега Уссури часто приближаются к самому ее руслу и вообще идут невдалеке, оставляя местами долины версты в две шириной, очень удобные для заселения. Около устьев Бикини {2.26} кряж этот достигает наибольшей высоты. Во время нашего плавания вершины гор часто бывали одеты туманом, который поутру спускался и в равнину. Река Бикинь, протекающая одним, нераздельным, руслом верстах в 180 выше устьев Уссури, также идет в долине несколько верст шириной. Она, впрочем, кажется, по крайней мере на низовьях, судоходной рекой, а не горной, как быстрая Хоро. Местные жители определяют ее длину двенадцатидневным пешеходным путем. Китайская география дает 50 ли; оба эти показания довольно согласны, потому что в двенадцать дней можно пройти именно около 250 верст. От верховьев Бикини есть перевал к морю, требующий пяти дней хода, то есть длиной до 140 верст. Как он удобен и по какой местности проходит, этого мне не удалось узнать, но, судя по направлению течения Бикини, можно полагать, что ее источники лежат невдалеке от верховьев той же Самальги, на которую есть дорога с Хоро, и нужно думать, что путь к океану лежит долиной этой реки. Во всяком случае, при конце перехода от Бикини на берегах Японского моря находится небольшой залив или бухта, близ которой расположена деревенька. По Бикини живут в пяти или шести селениях орочи, китайцев же нет.
Следующая за Бикинью часть течения Уссури, верст на 70, представляет на обоих берегах долину, обнесенную с востока и запада живописными горами. Тут представляются превосходнейшие местности для поселения, так, например, верстах в пяти выше Бикини, на устьях речки Ханкули, у деревни Нейзе и пр. При впадении небольшой реки Цифаку {2.27}, которая имеет гораздо меньше длины, чем показано в китайской географии и на карте д'Анвиля (именно один день ходу), но отличается широким устьем, горы правого берега Уссури оставляют ее русло и отходят к востоку, так что эта река течет уже по необозримой, большей частью лесной долине. В промежутке от Цифаку до Бикини впадают в Уссури слева две реки: Думань {2.28} и Киркинь {2.29}, обе длиной до 100 или 90 верст (4 дня ходу). Они текут в нешироких долинах между горами, богатыми жень-шенем, и потому берега их обитаемы китайцами. Между домами тамошних колонистов проходят тропинки, которые уходят и на западную сторону кряжа, дающего начало Думани и Киркини: это, следовательно, второй и третий перевалы с Сунгари по Уссури. Впрочем, может быть, что тут есть только один горный переход, потому что Думань и Киркинь, по словам местных жителей, имеют вершины свои в очень близком соседстве.
15 июня, верстах в 12 выше Цифаку, нас догнали гольды, ехавшие в оморочках (берестяных лодках) с устья Уссури на Нимань. Это были единственные люди, которые доставили нам сведения о русских во все время нашего плавания. Впрочем, они вышли из Турме не более, как три дня спустя после нас.
На ночлегах между Бикинью и Ниманью {2.30} мы имели довольно времени разговаривать с гольдами, которые проезжали навстречу, и несколько познакомиться с образом их жизни и нравами. Увидав серебро, один из них предлагал немедленно променять его на соболей, и когда я спросил, зачем ему этот металл, когда у него есть меха, — он сказал, что у него есть мать, которая скоро должна умереть, и что ей по обычаю их нужно сделать серебряный браслет, который наденется ей в день смерти. Другой гольд явился к нам с отрезанной косой: это был знак печали его по умершей матери. В брачных отношениях гольды дозволяют себе многоженство, и даже в некоторых случаях оно у них обязательно. Так, глава одного многочисленного семейства, мужчина лет тридцати, имел трех жен, из которых две достались ему после смерти младших братьев. Он считал обязательностью оказывать всем им равное внимание, но старшей в семье, как бы матерью, считалась его первая жена, которую прочие должны были слушаться. Как все народы, придерживающиеся многоженства, гольды очень ревнивы. Только по особому доверию ко мне и к переводчику наш знакомый позволил нам сидеть в юрте во время его отсутствия; людей же по возможности из команды устранял.
В течение двух недель, с 1 по 15 июля, только один день, первый, был без дождя; в прочие же он шел более или менее сильно и часто. Река от этого заметно стала прибывать, с приближением нашим к Нимани, и закрыла много мелей, которые без этой водополи были бы видны. Впрочем, важнейшие отмели на всем протяжении я успел нанести на карту. Дождь постоянно наносился юго-восточным ветром; когда же начинал дуть другой, то появлялись грозовые тучи и гремел гром, что также случалось нередко. От прибыли воды в половине июня рыбные ловли почти прекратились, и гольды довольствовались лишь небольшой добычей сазанов, не имея рыбы для продажи. Это для нас было не совсем хорошо, потому что лишало части обычного продовольствия и заставляло быть постоянно на соленой пище. К счастью, все были здоровы, за исключением лишь нескольких случаев головной боли и рези в желудке.
17 числа мы прошли устье Нимани, самого многоводного из правых и, может быть, из всех вообще притоков Уссури. Течение все время было очень тихое, но река, уже от впадения Думани, сделалась очень извилистой. Для судоплавания, даже для пароходства, это, впрочем, не будет составлять препятствия, и на всем протяжении от Нимани до устья Уссури представляется в этом отношении очень удобною рекою. Плавание по ней гораздо легче, чем по Амуру в средних его частях, потому что нет таких разветвлений и длинных песчаных кос, а сравнительно с верховьями великой реки, от Зеи, то есть с той ее частью, которая по количеству вод равна Уссури, эта последняя представляется в еще более выгодном свете. Река Нимань, насколько это позволяет судить взгляд на ее устье и равнинное свойство берегов, вероятно, также судоходна на довольно большом расстоянии от слияния с Уссури, но насколько именно нельзя сказать положительно. До настоящего времени никакие другие суда, кроме легких лодок, не ходили по ней. Общая длина этого главного притока Уссури, по словам жителей и показаниям китайской географии, простирается до 300 верст; главное направление течения с востока или востоко-юго-востока. Впадающая в Уссури Имма[30] составляется, и очень невдалеке от устья, из двух рек: собственно Нимани и Акули {2.31}. Оба эти притока почти одинаковой величины; следовательно, каждый из них вполовину меньше общего русла. Принимая в соображение длину их и направление, можно сказать, что источники Нимани лежат несколько западнее верховьев Бикини, но от моря их расстояние почти одинаково. По словам жителей, перевал Нимани к берегам морским требует около пяти дней хода пешком; только горы чрезвычайно высоки и путь очень утомителен. Верхние части реки обитаемы только орочами. Числа семейств последних гольды не могли мне определить, но сказывали, что есть пять или шесть деревень — вероятно, такие же, как и гольдские, то есть в один или два дома. Это очень слабое население для такого большого пространства, как долина Нимани. Вся местность по Уссури выше и ниже Иммы совершенно равнинная, даже низменная, только на север от Нимани тянется с востока на запад довольно высокий кряж, не доходящий до Уссури. По словам туземцев и согласно с показаниями китайской географии, Акули и Нимань также разделены горами, а в своих верховьях обе текут постоянно между хребтами, становясь очень быстрыми, и имеют вполне характер горных речек. Прибыль воды в них, по-видимому, случается одно временно с уссурийской, то есть в половине лета, и бывает очень обильна. Когда мы плыли обратно, Нимань была в таком же разливе, как Уссури, и затопила косу или мыс при их слиянии. При этом цвет воды в ней все еще оставался отличным от уссурийского, и темные струи ее текли версты три, не смешиваясь с мутными волнами Уссури. Это обстоятельство я привожу здесь как доказательство, что ширина устья Нимани при нашем возвращении не была результатом притока вод уссурийских. Вообще, соображая все сведения об Имме, можно полагать, что она заслуживает особого внимания со стороны будущих исследователей края и что близ устья ее должен возникнуть один из важнейших центров населения на всей Уссури {2.32}.
Против устья Нимани, на склоне небольших высот, сложенных из красного мергеля, довольно твердого, чтобы образовать скалистые обрывы, расположена двумя частями китайская деревня Нимань, при которой учрежден маньчжурский военный пост или караул. Нижняя часть деревни, в которой мы остановились, не зная еще о существовании верхней, состоит из одного большого дома, обитаемого многочисленным обществом китайцев, у которых есть вокруг пространные огороды и даже хлебные поля. Зажиточные хозяева содержат, по-видимому, что-то вроде постоялого двора, харчевни или трактира. По крайней мере мы встретили у них целую толпу китайцев и гольдов, гостей и работников. Убранство комнат также напоминает пекинские трактиры низшего разряда, знакомые одному из моих спутников. Здесь уже встречаются плантации знаменитого жень-шеня, но еще в малом размере, вероятно потому, что жителям нет выгоды разводить большие в соседстве с корыстным маньчжурским начальством. Самое селение это я прошел не останавливаясь и заметил в нем только лошадей, содержимых в довольно большом количестве, и быков, очень хорошей породы. Быки, по обычаю китайцев, служат исключительно для земледельческих работ и перевоза тяжестей на дальнее расстояние, но лошади имеют, кроме того, особое назначение: поддерживать сообщение с внутренностью страны, то есть собственно с Маньчжурией. Для этого и проложена здесь тропинка на юго-запад, к устью Мурени {2.33}, где начинается настоящая конная дорога в Саньсинь. Нет никакого сомнения, что это тот самый путь, по которому вышли на Уссури де ла Брюньер и за ним Вено {2.34}; но позволительно сомневаться в положении г. Семенова {2.35}, что дорога последнего лежала вдоль реки Kelin. Единственная река сходного названия (Киркинь) впадает целыми восемьюдесятью верстами севернее Нимани, никаких же других рек ниже Мурени и в окрестностях Ниманского поста мне не известно.
Небольшие, сложенные из рыхлой, красноватой породы увалы встречаются по Уссури и выше Нимани, по правому берегу. Ими обозначаются, впрочем, не оконечности горной страны, а окраины несколько повышенной равнины, очень удобной для земледелия, хотя и поросшей ныне лесами. Возвышенность эта, названная в китайской географии Доцили-офоро, местами подходит к самому руслу Уссури, местами отделяется на несколько верст внутрь страны. Прекрасные места для заселения встречаются везде в соседстве с ней на целый день пути от Нимани. Выше долины река опять становится совершенно плоской, местами болотистой и почти сплошь лесной и низкой.
В расстоянии не более 25 верст от устьев Нимани вливается в Уссури слева северный рукав Мурени, большого притока которого дельта занимает, вероятно, около 20 квадратных географических миль. Это самая длинная побочная река Уссури, река, которой источники находятся в очень высоких горах на востоке от Нингуты. Китайское описание дает очень подробные сведения о ней. Не перечисляя здесь всех притоков ее и соседних ей гор, замечу только, что она разветвляется верстах в десяти выше устьев на два и потом на три русла. Это и служит причиною того, что из них ни одно не представляется так многоводным, как, например, Нимань или даже Бикини. Северный рукав Мурени, главный, сливается с Уссури почти тупым углом, то есть против течения последней; он не шире 20 или 25 сажен. Река Уссури, протекая равнину между Муренью и Сунгачанью {2.36}, становится быстрее и быстрее к югу, отчего и промыла себе очень извилистое ложе. Как велики эти извилины, можно судить по тому, что, например, от третьего устья Мурени до Сунгачани, по прямой линии, расстояние всего до 15 верст, а по реке более 36. Но хотя Уссури здесь и извивается подобно небольшой реке, она все еще многоводна и, главное, течет почти везде одним руслом, то есть всею неразделенною массою своих вод. Это значительно может облегчить плавание судов и особенно пароходов, которые в состоянии будут преодолевать силу ее течения. Отличительной чертой этой части Уссури служит образование по берегам многочисленных заливов, по которым после большой прибыли сбегает вода с окрестных равнин. Можно сказать, что нет ни одной излучины, при начале которой, с выпуклой стороны, не было бы такого залива. Вода стоит в таких бухточках, как естественных гаванях, целое лето; но ошибиться во время плавания по реке и зайти в них нельзя, потому что они не имеют течения. Главный улов рыбы гольды производят по таким заливам. Средняя ширина Уссури в этих местах до 100 сажен, иногда менее 70, но глубина все еще значительна, достигая по фарватеру до 7 и 9 футов в мелкую воду.
С устья Нимани до самой Сунгачани нам постоянно сопутствовали китайцы, в числе четырех, предводимые маньчжурским солдатом. Это были наши конвойные или, правильнее, надсмотрщики над нами, шпионы, посланные начальником маньчжурского караула. Они вели себя по наружности очень дружески, но везде заезжали вперед нас к гольдам и запрещали им соглашаться быть нашими провожатыми, так как уже в это время я стал заботиться о приискании проводника. До какой степени нашим спутникам удалось их дело, можно видеть из того, что единственный человек, не прямо отказавшийся идти с нами, был старик, житель деревни Чуборки, уже не дороживший своей жизнью.
— Маньчжуры, — говорил он, — запрещают нам оказывать вам помощь, и, конечно, тот дорого поплатится, кто нарушит их приказание. Но я уже так стар, что готов бы был пренебречь даже смертью от них и идти с вами, если бы у меня не болела левая нога (она была действительно сильной опухшей). Я знаю, что вы только передовые люди, что за вами придет много русских, которые избавят нас от негодяев-маньчжуров, но пока эти звери здесь, нам быть друзьями вашими опасно.
Что слова старика о степени опасности, которой они подвергаются со стороны маньчжуров, были не преувеличением, я убедился после из слов одного гольда, жившего уже выше Сунгачани. При приближении нашем к юрте он весь дрожал от страха, считая нас за маньчжурских чиновников. Когда же мы ласково расспросили его о некоторых предметах и заплатили за взятое небольшое количество проса, он рассказал нам, что ему есть отчего бояться маньчжуров. Два его брата, отец и даже мать — женщина! — удавились с отчаяния, возбужденного притеснениями маньчжурских сборщиков дани. Эти властители бедных гольдов, навещая их раз в год (а иногда и дважды), ознаменовывают свои посещения тем, что бьют их жестоко палками, требуя соболей и притом всех, какие есть. По своей подозрительности, они никак не верят человеку, если он сразу отдал всю свою добычу, и потому бьют его еще, в надежде вытребовать то, что считают спрятанным. Иногда гольды, чтобы отделаться от двукратных побоев, сами выносят им часть соболей, и тогда их бьют только для получения другой части. После, при возвращении, я узнал, что маньчжуры, в числе пяти, ездили с Нимани вверх по Уссури и взыскивали с гольдов за внимание к нам.
Устье мутной Сунгачани, истока озера Хинькай (Синькай — у китайцев из северных провинций и Кенка — у гольдов) {2.37}, мы прошли 22 июня вечером. Плавание наше становилось все более и более трудным. Несмотря на то, что Уссури течет в этих местах по равнине и даже низменности, она уже очень быстра. Основываясь на китайской географии, я полагал, что воды реки, за впадением Сунгачани, уменьшатся почти наполовину, но ошибся, потому что приток этот дает главной реке едва ли четвертую часть ее вод. Но следующий смысл можно дать показанию Шуй Дао-тигана {2.38}, что Уссури от Сунгачани становится очень большой рекой: вытекая из огромного озера, Кенка-бира отличается постоянством своего уровня и потому поддерживает этот уровень и в Уссури. Такое положение кажется тем более справедливым, что последняя река, по словам местных жителей, имеет местами, выше Кенки, в мелководье, не более 2 1/2 футов глубины. Быстрота и извилины русла Уссури возрастают за Сунгачанью все более и более.
Здесь не излишними будут подробности о большом водоеме, лежащем в особой котловине посреди нагорной юго-восточной части Маньчжурии. Озеро Хинькай, следуя китайскому описанию, лежит между 44°36' и 46°5' северной широты[31]. Оно имеет 78 верст длины и около 40 ширины; в окружности 250 верст (10 дней ходу). Вся поверхность его, при этих размерах, может занимать до 65 квадратных географических миль, то есть оно в пять раз более Женевского озера. Семь значительных речек (Учжаху, Мунь, Лэфу, Саньци, Тэкэй, Эргэ, Салиму)[32] впадают в него с запада, юга и юго-востока. Между ними наибольшая есть Лэфу, имеющая до 180 верст протяжения. Местность по берегам первых четырех рек гориста, а при впадении Лэфу частью болотиста. Напротив, с юго-востока и северо-востока берега Хинькая имеют равнинный характер, а на севере в одной с ними котловине лежит даже другое большое озеро, Сийку {2.39}, отделенное от Кенка только песчаной косой. Берега Хинькая в тех местах, где к ним подходят горы, приглубы и направляются довольно прямо; на равнине же они очень извилисты, и озеро имеет здесь много заливов. Около десяти селений разбросаны в разных местах его прибрежья; между их обитателями находятся пять семейств гольдов, крайних представителей своего племени в направлении к юго-западу. Их быт совершенно таков же, как и на берегах Уссури, потому что озеро обильно снабжает их рыбой, а окрестные горы, покрытые лесом, богаты зверями. С берегов Хинькая пролегает, вероятно вдоль реки Лэфу, тропинка к берегам моря, она выходит на большую Хуньчунскую дорогу, направлявшуюся от корейской границы к берегам Уссури. Так как эта тропинка пересекает любопытную местность Чакиримуден (Чацилимодунь), по которой на европейских картах проводят земляной вал, а по описанию китайцев протекает подземная река Ань, то я особенно интересовался расспросить подробно об ее качествах. К сожалению, мне не удалось найти очевидцев, посещавших те края, но, сколько можно понять из слов многочисленных рассказчиков, Чакиримуден есть просто невысокий, с плоской вершиной кряж, постепенно понижающийся к юго-востоку и очень грязный на всем протяжении. Тропинка с берегов Хинькая, пересекая Чакиримуден, выходит в долину Суйфун-биры близ какого-то древнего города, вероятно Фурданя, показанного на карте д'Анвиля, другая направляется в Нингуту, на запад.
23 июня, после долгих соглашений, нам, наконец, удалось убедить одного гольда быть нашим проводником, но не далее как до устья Кубурхани {2.41}, то есть верст на 35 пути. Собственно говоря, мы не нуждались еще в проводнике, разве только для того, чтобы знать удобнейшие для плавания протоки, но я счел нужным воспользоваться случаем к сближению с нами гольдов настолько, чтобы они не боялись сопутствовать нам в то время, когда это будет нужно. Трудное по быстроте реки и отсутствию бечевников плавание до Кубурхани мы совершили при помощи гольда в два с небольшим дня, и в это время я убедился, что нам уже невозможно идти далее в том составе, в котором мы находились. Две лодки, из которых одна вмещала до 60 пудов груза и сидела в воде около 1 1/2 фута, были не по силам команде в 12 человек, которую надобно было, разумеется, делить на смены. Случайное уменьшение воды в Уссури в несколько вершков, которое мы приняли за начало общей большой убыли, заставляло также опасаться, что наша большая лодка не будет проходить по некоторым рукавам реки. По всем этим причинам я решился оставить часть людей и запасов вместе с этой лодкой поблизости Кубурхани и 25 июня остановился в нескольких верстах выше устья этой реки.
Местность от Сунгачани до Кубурхани представляется почти везде очень удобной для заселения. Небольшие отлогие холмы уже нередко виднеются по равнине; ближе к Кубурхани встречаются по Уссури даже высокие увалы на берегах. Поросшие прекрасным дубовым лесом, эти высоты очень удобны не только к разработке под поля, но и для разведения садов. Виноград и грецкие орехи встречаются по этим лесам в большом количестве. Замечу здесь, что показание китайской географии о том, будто Уссури лишь около устьев Кубурхани выходит из соснового леса, совершенно несправедливо: ни одного хвойного дерева мы не встречали не только здесь, но и далее к юго-востоку, на более высоких горах, до самого почти перевала в верховьях реки.
Вообще относительно растительности по долине Уссури до Кубурхани можно заметить следующее. Ниже Нимани в лесах, особенно по высотам, преобладает дуб. Если же лес разросся по долине, то в нем много осины, ильма, орешника (грецкого) {2.42}, березы черной и белой; ясень, клен и иногда липа также встречаются. От Нимани главными породами деревьев становятся орешник, ильм и пробковое дерево. Поросли лесов везде одинаковы; между ними, особенно по опушкам, встречаются виноград, розы, огромное число лилий. На лугах, кроме злаков, много полыни и мелколистных бобовых растений, часто переплетающихся до того, что по траве, при двухаршинном ее росте, идти бывает чрезвычайно трудно. Встречаются полевые гвоздики, трилистник, лютики, некоторые из сложноцветных, напоминающих отчасти флору восточноевропейских равнин. Вообще растительность лугов на Уссури много походит на нижнесунгарийскую, но леса отличаются от амурских. Ильм достигает здесь иногда очень больших размеров, так как деревья до 100 футов вышины и 10 футов в окружности на высоте человеческого роста не составляют редкости. Грецкий орех, пробковое дерево и липа тоже бывают очень велики, но, к сожалению, первая из этих пород редко приносит плоды. Быть может, она даже не цветет, так что вся сила растительности обращается на увеличение ствола и листьев. По крайней мере мне цветы и плоды орешника встречались очень нечасто. Явление это, впрочем, не единственное в своем роде. «Удивительно, — говорит Гумбольдт, — что некоторые растения, при сильнейшем росте, в иных местностях не цветут. Таковы, например, европейские маслины по тропикам, столетия уже разведенные близ Квито на высоте 9 тысяч футов, грецкий орех, орешник, опять маслины на Иль-де-Франсе и проч.» Быть может, причиной этому влажность климата и холодные ночи.
Решаясь оставить лодку на Кубурхани, я, естественно, должен был предложить себе вопрос о том, что не будет ли опасно неизбежное в этом случае разделение и без того немногочисленной моей команды на две части. Этот вопрос кажется для меня теперь не имеющим почти никакого значения; но в то время, когда я впервые проник в страну, отдаленную от русских селений на сотни верст, он представлялся мне не лишенным важности. Возраставшая уверенность в доброжелательстве к нам гольдов дала мне возможность расстаться с частью моих спутников без опасения за их участь и за успех нашего дела. Я оставил на Кубурхани при сотнике П. всего трех человек и с ним все наше продовольствие, за исключением взятого на месяц с собой, большую часть наших ружей и запасов пороху и свинца. 26 июня, окончив снаряжение меньшей лодки, я отправился в дальнейший путь по Уссури, имея в команде своей, кроме переводчика, только десять казаков.
Через двое суток, то есть 28 июня, около полудня мы достигли устья небольшой реки, отличающейся бурым, почти черным цветом своих вод. Река эта, по-видимому, та самая, которая названа на карте д'Анвиля и в китайской географии Гармою, но местные жители называют ее Малой Ситуху (Нючи-Ситуху) {2.43} . Она втекает в долину Уссури из боковой пади в горах, и при устьях ее находится превосходнейшее место для заселения, лучшее из всех, которые я видел по Уссури и вообще на запад от Приморских гор. Окрестные высоты, которые тянутся верстах в трех и четырех от правого берега Уссури, все покрыты лесами, в которых между господствующими лиственными породами деревьев изредка начинают попадаться и хвойные растения — кедр и ель. Течение реки становится здесь все более и более быстрым, а глубина ее менее значительною. В малую воду, то есть в мае и первой половине июня, глубина эта простирается местами только до трех и даже двух футов; но в то время, когда мы плыли и когда река была на прибыли, промеры показали нам фарватер в 8 и 10 футов. Замечательно, что эта часть Уссури, от Сунгачани и до самого устья Нынту {2.44}, очень мало населена, почти слабее низовьев.
29 июня мы прошли мимо невысокой, но замечательной скалы, которая возвышается совершенно отдельно на острове, образуемом рукавами Уссури. Это едва ли не единственный в своем роде пример на всей системе Амура. Уссури здесь, как и выше, совершенно лесная река. Множество наносных деревьев разбросано по ее руслу и чрезвычайно затрудняет плавание. Часто нет никакой возможности идти иначе, как толкаясь шестами или даже ведя лодку руками, потому что иначе при малейшей неосторожности ее отбросит быстрым течением на кучи наваленных карчей и разобьет или опрокинет. 29 числа и в следующие двое суток мы едва могли делать по 12 верст в день и то с помощью проводника, который хорошо знал свойства протоков и умел ловко править рулем на опасных местах.
1 июля мы миновали устье значительной реки Ситуху {2.45}, которая течет в Уссури справа и названа у д'Анвиля Курму, или Кулэму.
2 июля мы перешли за 45° широты, достигли устьев Добиху (Хуэбиры) {2.46} и здесь нашли проводника, который был нам очень полезен своей услужливостью и знанием мест. Но, впрочем, проводник мог лично сопровождать нас только до устьев Нынту; далее же он обещал нам в спутники одного своего родственника из орочей — и сдержал свое обещание. Обласканный нами, получив щедрую плату, этот гольд честно исполнял все свои обязанности и сообщал немало сведений не только об Уссури и Добиху, но и о недалеком от его жилища озере Хинькай, о пути по Добиху к морю, о промышленном значении Хуньчуня {2.47}.
От устья Добиху к юго-востоку мы вступили в страну, по которой изредка виднеются следы высшей образованности и большей населенности края. Я говорю здесь о развалинах старинных городов и укреплений, которые встречаются местами по Уссури между 22° и 45° широты. Эти «балапти-хотон'и» (старые города), вероятно, принадлежат к первым временам династии Гинь, или Нючжень, то есть к XII столетию {2.48}. Против кого сооружались их земляные валы, иногда на вершинах высоких гор, иногда в равнинах, — трудно сказать теперь, но несомненно, что это были правильные укрепления, часто расположенные в связи один с другими. Быть может, что династия Гиней опасалась здесь соседства приамурских мэн-гу, вероятных предков нынешних мангун, с которыми нючжи нередко воевали и которыми были даже побеждаемы. Во всяком случае несомненно, что под защитою земляных укреплений существовали обширные города.
После трудного плавания в течение пяти дней {2.49} мы, наконец, достигли устьев Нынту и здесь остановились в ожидании провожатого из орочей, которого нам обещал проводник наш гольд. В то же время я занялся приготовлениями к сухопутному странствованию, так как идти на лодке было чрезвычайно трудно, а по опасности возвращаться по быстрой реке и совершенно невозможно. Проводник наш гольд скоро привел молодого своего родственника из орочей, ежегодно посещавшего морские берега по нескольку раз, но убедить этого ороча идти с нами стоило большого труда. Целый день 8 июля мы употребили на это и только с помощью гольда, за весьма дорогую плату сумели нанять его. Но и тут он настаивал на том, что поведет нас не туда собственно, куда мы желаем (то есть прямо во Владимирскую гавань), а к той части моря, куда ему известна дорога. Делать было нечего; необходимость заставила согласиться, потому что других проводников поблизости не было, да, по расспросам, и не предвиделось[33]. 9 июля утром мы тронулись в путь. Достать лошадей было нельзя. Поэтому мы пошли, имея вьюки на себе; тяжесть каждого из этих вьюков простиралась до 70 фунтов, и сам я, для облегчения других, должен был взять ружье, патронташ и кое-что другое, что составляло до 30 фунтов. Первые переходы вследствие этого были очень трудны. Уже на другой день по выступлении один казак не в состоянии был нести своей ноши, чувствуя сильное стеснение в груди и колотье. Напрасно старался я нанять небольшую лодку, чтобы хотя на некоторое время везти по реке наравне с нами часть наших вещей. Приходилось идти по-прежнему и, к довершению трудностей, не раз бродить через глубокие, от прибыли воды, быстрые речки. 11-го вечером оказалось необходимым, вследствие этого, оставить одного заболевшего казака и при нем часть продовольствия и вещей, которых некому было нести. Лишаясь, таким образом, четвертой доли провизии, которая и без того уже уменьшилась значительно от подмочки, мы, естественно, должны были торопиться ходом, чтобы не подвергнуться при возвращении голоду; но, к несчастью, обстоятельства и тут не благоприятствовали нам и замедляли наше движение. 12 июля останется особенно памятным для нас в этом отношении. В этот день, перед самым обедом, орочен привел нас к весьма глубокому и быстрому броду на Фудзи {2.51} и заставил его перейти, уверяя, что затем нам придется бродить уже только через верховья реки. Мы согласились, перебрели по грудь и только что стали раскладывать огонь, как убедились, что впереди есть еще река, потом еще, еще и еще. Наконец, главное русло Фудзи, изогнувшееся в этом месте лукой, загородило нам дорогу, и сделалось ясно, что мы зашли на остров, с которого выйти предстоял немалый труд. Возвращаться назад мне не хотелось, потому что там было пять бродов, и я приказал построить плот. Часа три мы работали, наконец, посадили на него троих и пустили на воду. Мгновенно его отнесло вниз по реке, стало бросать по быстринам и, наконец, выкинуло на островок, где и разбило. Тяжелые минуты проводили мы в ожидании, пока посланные берегом отыскивать уплывших возвратились с известием, что все люди спаслись, хоть и выброшены на противоположный берег. Начали принимать меры, чтобы перевезти их назад, но все было напрасно. Огромное дерево, срубленное у одного берега и упавшее более чем на три сажени на другой, мгновенно было унесено течением; конец веревки не долетал. Необходимо было перебросить к озябшим хоть огня, которого они при себе не имели; это, к счастью, удалось, как и снабжение их небольшим количеством сухарей. После этого, уже около времени солнечного заката, мы могли лишь подумать о пище, которой целый день не принимали, и легли утомленные трудами, совершенно промокшие от дождя и разделенные надвое, без надежды соединиться, потому что река беспрерывно прибывала и грозила уничтожить даже и те пять бродов, по которым мы могли возвратиться, чтоб обойти по горам и присоединиться к нашим людям, неожиданно очутившимся впереди.
Рано утром 13 июля мы пустились назад, перешли все пять бродов, еще более глубоких, чем вчера, и часам к двум пополудни вышли снова на тропинку, где и соединились опять все вместе. Как трудно было пробираться по утесистому косогору, составляющему правый берег Фудзи, можно судить по тому, что мы шли по нем полторы версты долее пяти часов, большею частью ползком и поодиночке, чтобы падение одного не было причиной гибели другого. Достигнув благополучно прежней тропинки, я спросил проводника, точно ли он уверен, что не будет впереди таких трудных мест, и приведет ли он нас туда, куда мы желаем, то есть во Владимирскую гавань, фигура которой была объяснена чертежом. Он отвечал утвердительно; к сожалению, последующее движение вперед убедило меня совершенно в противном.
Здесь необходимо объяснить, каким образом перешел я с берегов Уссури в долину Фудзи и почему, заметив это отступление, не исправил его немедленно возвращением на настоящий путь. Сущность дела состоит в том, что между туземцами Уссури носит это название лишь от слияния своего с Фудзи, далее же вверх называется Сандугу {2.52}. Когда мы договорились с орочем идти к морю, я требовал, чтобы он вел нас по Уссури, а не по Нынту, где существует также тропинка. Уговор этот действительно исполнялся в первые полтора дня, почему я и не имел причины быть строго придирчивым к указаниям проводника. Когда же 11 числа я заметил, что мы постоянно подвигаемся на восток, вместо того, чтобы идти на юг, я допросил подробно ороча, по какой реке он нас ведет, и оказалось, что мы идем по Фудзи. Сначала я хотел вернуться назад к Сундугу; но соображая, что карта д'Анвиля показывает вершину Фудзи даже в более близком расстоянии от Владимирского порта {2.53}, чем самые источники Уссури, и имея в виду пользу от ознакомления со всеми окрестностями гавани, я решился не изменять начатого раз пути и уже при возвращении проникнуть от моря на берега собственно Уссури. Сверх того, все местные жители утверждали единогласно, что тот перевал, к которому мы идем, есть удобнейший из всех и при переходе через него легко даже не заметить горы. Поэтому я и продолжал следование безостановочно, не опасаясь даже за продовольствие, которое казалось возможным приобрести у жителей Владимирской гавани. 15 июля мы действительно перешли невысокий и грязный хребет, отделяющий Фудзи от берегов океана, и вступили в долину Лифулэ, текущей в море.
Вся пройденная нами местность от устьев Нынту до самого перехода в горах представляет непрерывную долину, шириною от полуверсты до четырех верст и очень удобную для поселения. Она покрыта преимущественно отдельными группами вязовых и дубовых деревьев, иногда рощицами, которые на горах переходят в сплошные смешанные леса. Чем ближе подходишь к перевалу через горы, тем чаще встречаются, среди берез, ильмов, осин и других лиственных пород, хвойные деревья — кедр и отчасти лиственница и ель. Великолепные кедровники достигают здесь особенно исполинского роста. Часто над массой берез, ильмов и дубов, в просветы между их ветвями, виднеются высокие стволы этой хвойной породы с увенчанными зеленью вершинами, как бы один лес над другим. Самый хребет порос исключительно елью, а по скатам березой. Длина Фудзи от источников до слияния с Сандугу составляет около 75 верст.
Вступив в долину Лифулэ, называемой орочами Тадуху, я с удовольствием заметил, что эта долина направляется к юго-востоку, то есть не отделяет нас от Владимирской гавани, как было я думал, основываясь на карте г. Ладыженского {2.54}. Однако же не было никакого сомнения, с первых же шагов, что мы выйдем к морю севернее нашей цели. Вознаграждением за эту неудачу служило отчасти открытие прекраснейших мест для поселения почти в самых верховьях реки, так что расстояние между возможными в будущем соседними поселениями по Лифулэ и Фудзи не будет достигать и 20 верст. Первоначально я надеялся, со слов проводника, достигнуть моря 17 числа, так как вся долина реки не превосходит 55 верст, но по многочисленности рек, которые приходилось перебредать с осторожностью, мы достигли морского берега лишь 18-го утром. Этот день был очень радостным для нас как потому, что мы видели себя у давно желаемых берегов моря и почти у цели своих странствований, так и потому, что, наконец, впервые с самого отбытия из Уссурийского поста мы не подвергались промоканию от дождя. Сильный ветер, дувший с северо-востока параллельно общему направлению морского берега, не только разогнал тучи, но и очистил весь горизонт от облаков и тумана, которые дотоле носились по горам. Волны моря, гонимые этим ветром, с шумом выбегали на каменистый берег и песчаный бар, где дробились, образуя полосу бурунов. Дав отдых команде, я сам занялся съемкой местности и обозрением ее, по возможности на дальнее расстояние, с высоты одной горы, которая находится к северу от устьев Лифулэ. Но стоять на вершине этой горы не было никакой возможности, потому что ветер имел там силу урагана, сдувавшего камни. Спускаясь вниз, я пытался было перейти на правый берег Лифулэ, но это мне не удалось по глубине реки и отсутствию лодок. Возвратясь к нашему огню, я приказал поставить на небольшом холме крест и сделать на нем надпись, объясняющую, что я был в этом краю 18 июля 1858 года. Между тем казаки, ободренные после утомительного похода видом моря, деятельно приготовлялись к дальнейшему пути: чинили платье и обувь, охотились на тюленей, приводили в порядок свои вьюки. Проводник-орочен скитался по берегу, собирая хай-цай, известную морскую водоросль, которая имеет форму волнообразно изогнутых лент кофейного или бурого цвета, длиною до трех аршин.
Утро 19 числа мы провели все еще на берегу морском с целью окончить наше снаряжение в дальнейший путь. После обеда мы успели до вечера сделать около 15 верст и надеялись на другой день рано утром переехать на правый берег Лифулэ и направиться прямо к югу, через горы, чтобы выйти к Владимирской гавани. Так как расстояние до нее от места нашего ночлега, и по моим соображениям, и по словам жителей, едва ли могло превышать 35 верст, то я не сомневался, что 22-го мы достигнем окончательной цели нашего странствования. Снабдив команду продовольствием взамен израсходованного и испорченного, я уже думал перейти Лифулэ и углубиться в горы, как вдруг неожиданное происшествие совершенно расстроило это предположение и заставило нас принять возвратный путь в долину Фудзи.
20 числа орочен наш, износив всю обувь, просил меня обождать с выступлением часов до 11 утра, чтобы успеть сшить на скорую руку бродни или башмаки. Согласясь на его просьбу, я в то же время приказал людям пораньше отобедать, чтобы не останавливаться в тот день уже до ночлега, и пообедал сам. Но едва мы кончили еду и вышли на дорожку, как я почувствовал сильную тошноту, потом шум в ушах и резь в желудке, как бы от употребления чего-то ядовитого. Несколько ковшей холодной воды, выпитые один за другим, заглушили на время припадки, но потом они возобновились с новой силой и перепугали всю команду. Сильный прием рвотного порошка доставил мне облегчение[34], но слабость после этого была так велика, что я почти уже не мог идти и в следующие два дня шел, опираясь на руку казака. В то же время, когда я лежал на траве, верстах в двух от нашего ночлега, мы услышали большой шум сзади нас и вслед за тем увидели большую толпу китайцев, громко ругающихся с нашим ороченом, которого, по счастью, в это время сопровождал переводчик и один вооруженный казак. Когда подошли они ближе, я узнал, что китайцы, в числе более 30 человек, собрались убить нашего проводника за то, что он показал нам дорогу, и навели на него страх, что он почернел весь, как бы от антонова огня, и совершенно потерял язык. Переводчик, понимавший угрозы китайцев, которые говорили по-ороченски, объяснил мне, в чем состояло дело, и в то же время передал требование их — показать им мою работу. На такие дерзости я мог бы отвечать и выстрелами, не боясь изменить общему миролюбивому характеру наших отношений с туземцами; но китайцы предпочли остановиться от нас в некотором отдалении и уже оттуда повторяли свои угрозы орочену-проводнику. Великого труда после этого стоило нам вести его за собой; сопровождать же нас до Владимирской гавани он решительно отказался и в случае насилия с нашей стороны угрожал бежать, оставив нас без возможности отыскивать дорогу и нанимать китайцев. Хотя последнее обстоятельство и не казалось мне важным, потому что за ороченом легко было строго присматривать, однако же, соображая, с одной стороны, возможность лишиться провожатого, с другой — необходимость не раздроблять более команды, как бы я думал сделать для отправления оставшегося на Фудзи больного казака к Нынту[35], и, наконец, не чувствуя в себе самом достаточно сил, чтобы перенести утомительное странствование, — я решился возвратиться в нашей лодке на устье Нынту и, взяв на себя ответственность за не совершенный успех дела, начать возвращение в Уссурийский пост. С глубоким сожалением, разделенным всею командою, повернули мы на прежнюю дорогу и 23 числа пришли в тот китайский дом, где оставили слабого казака и где нашли его теперь совершенно оправившимся.
Этим собственно окончилось мое обозрение реки Уссури и пути от ее верховьев по долинам Фудзи и Лифулэ к морю. Но я не мог остановиться на столь неудовлетворительном решении своей задачи и потому спешил воспользоваться всеми предстоящими способами для пополнения сведений о всей вообще приуссурийской стране и особенно о верховьях самой реки Уссури и соседних морских берегах. Многочисленные показания местных жителей единогласно убеждали меня, что Владимирский порт действительно находится недалеко от источников Сандугу. Но вместе с тем все расспросные сведения заставляют полагать, что перевал от верховья Уссури к морю гораздо труднее, чем на Фудзи, как по высоте горного прохода, так и, в особенности, по изобилию на нем грязи. Характер верхнего течения Уссури совершенно таков же, как Лифулэ и Фудзи, то есть река течет постоянно в долине, суживающейся к югу, и отличается очень быстрым течением, как настоящий горный поток. Из всех побочных рек ее, поименованных у д'Анвиля и в китайской географии, местные жители узнавали только Изцинь и Фалаху (Фарку), прочие же (Этуми, Эйху и др.) называются ими просто «нючи-бира», то есть маленькая речка. Что касается до долины Уссури от устьев Нынту до самых верховьев, то она немного превосходит расстояние от того же пункта до вершины Фудзи. Проводник наш еще на третий день пути говорил нам, что по Фудзи семь дней хода до моря, а по Сандугу — девять, и то лишь вследствие того, что перевал очень грязен. Что касается до окрестностей Владимирской гавани, то, во-первых, между ею и устьем Лифулэ впадают в море еще две небольшие реки, во-вторых, тропинка с верховьев Сандугу действительно выходит к морю около нее. О пребывании наших судов во Владимирской бухте летом 1857 года вся окрестная страна наполнена слухами и все жители знают, что там поставлен был крест, который и упал впоследствии. В течение первой половины лета настоящего года судов наших там и вообще на соседних водах не было, но пастухи на устьях Лифулэ видели иногда невдалеке от берегов корабли, направляющиеся от севера к югу.
Вообще берег Японского моря, на протяжении от залива Посьета, то есть от корейской границы, до Императорской гавани {2.55}, очень интересовал меня. Пустынная страна эта со времени Лаперуза и Браутона до последних годов не посещалась ни одним европейцем, и география ее составляет один из самых темных отделов общего землеведения Азии. Совершенное прошлым летом обозревание здешних вод офицерами парохода «Америка» привело к открытию двух превосходных портов: Владимира и Ольги, между 43° и 44° северной широты, но весь берег от 44-й параллели все еще остается очень малоизведанной страной {2.56}.
К показаниям французского мореплавателя, сделанным 70 лет назад, немного можно прибавить по современному состоянию знаний о прибрежье Японского моря. Прежде всего надобно заметить, что французы ошибались в описании конфигурации морских берегов {2.57}: множество мелких бухт, способных быть превосходными гаванями, вдается во внутренность земли на протяжении от Де-Кастри до устья Суйфун-биры {2.58}. В настоящее время (1859 год) мы знаем от корейской границы до 45 1/4° северной широты следующие бухты: залив Посьета (рейд Наполеона), порт Брюса, залив Герэн, залив Виктории, бухту Горне, порт Исле, порт Кастль, залив Ольги (порт Михаила Сеймура), залив Владимира, бухту Шельтер, бухту Сивиллы, Буллок и Тернай[36], — тринадцать хороших, часто первоклассных по своим удобствам портов на пространстве 2 1/2 градусов широты. Даже классическая страна природных гаваней — южный берег Австралии, прославленный Флиндерсом, не представляет такого богатства. Понятно, почему так дорог юго-восточный берег для нас.
Общий топографический характер прибрежья именно таков, каким изобразили его Лаперуз и Браутон и каким он представляется в Татарском проливе, между устьем Амура и Императорской гаванью. Большое нагорье Восточной Азии здесь обрывисто спускается в морские бездны. Скалы высятся беспрерывно и берегам отлогим оставляют немного места. Во внутренность края нагорье возвышается все больше и больше и везде имеет характер настоящей альпийской страны, то есть не представляет больших возвышенных плоскостей, а волнообразно изрытую почву. С высоты прибрежной горы на устьях Лифулэ окрестная местность представлялась именно такой. Общая ось поднятия этого нагорья составляет с меридианом угол 20° и обозначается почти прямолинейным водоразделом между притоками Уссури и Японского моря. Вся поверхность его, на восток от долины Уссури и низовьев Амура, занимает около 3 600 квадратных географических миль {2.59}, то есть равняется поверхности Англии и Шотландии вместе. На этом пространстве только немногие долины врезываются глубоко в общий рельеф почвы. Эти долины вообще шире на западной стороне нагорья и в двух местностях по берегам Уссури образуют настоящие низменности. Первая из этих низменностей начинается в широте 45° и объемлет низовья Ситуху, Кубурхани, Сунгачани, Мурени, Нимани и Шибкэли, распространяясь особенно по левую сторону Уссури. Вторая, соединенная с первой широкой долиной Уссури, лежит на низовьях этой реки, особенно по западной ее стороне, против устьев Хоро и Кия. Я не могу определить величины поверхности этих равнин, но во всяком случае несомненно, что они, простираясь на сотни квадратных миль, совершенно отделяют Восточно-Маньчжурское нагорье от хребтов правого берега Сунгари и средних частей Амура. Уссури является здесь тем же, что представляет Рейн от Базеля до Майнца относительно Вогезов и Черного Леса. На юге, при верховьях Уссури, Добиху и притоков Хинькая, горный массив принимает направление, параллельное экватору и, вероятно, помощью Чакиримудена, сливается с восточным концом Чаньбошаня.
Эти общие черты орографии крайнего Востока Средней Азии, вместе с положением страны по близости моря определяют собой как характер системы вод, так и климатические условия края. Как на противоположной стороне Тихого океана, у западных берегов Америки, горная цепь Кордильеров отделяет близкие к этому морю верховья рек, текущих в Атлантический океан, так и кряж Сихотэ-Алинь разграничивает узкую прибрежную полосу Японского моря от бассейна реки Уссури. Но существенное различие состоит здесь в том, что на азиатском материке возвышенности, вместо одной узкой цепи, образуют сплошное нагорье, тогда как Анды, например, в Чили идут просто непрерывным валом. Размеры приморской полосы Восточно-Маньчжурского нагорья определяются тем, что если взять последовательно расстояния от берегов морских до верховье Уссури, Фудзи, Нынту, Ситуху, Нимани, Бикини, Хоро, то получится ряд цифр: 45, 55, 70, 90, 120, 140, 120, выражающих эти расстояния в верстах и вместе показывающих расширение всего нагорья к северу до 48° северной широты. На параллели устьев Уссури, там, где проходит от востока к западу поперечный хребет Хехцир, расширение это достигает своего maximum'а {2.60}, так что от деревни Хабаровки до Императорской гавани расстояние не менее 340 верст.
Река Уссури, начавшись у южной оконечности горного кряжа Сихотэ-Алинь, стремится слабо изогнутой к западу дугой почти прямо на север. Источники ее и устье лежат почти в одном меридиане — 132°30' к востоку от Парижа. Наиболее западное положение имеют точки на ней, лежащие между Кубурханью и Сунгачанью. Общая длина всего потока, считая от вершин Сандугу до слияния с главным руслом Амура у деревни Хабаровки, составляет около 750 верст {2.61}; это расстояние по прямой линии не превышает 450. Если сравнить Уссури с какой-нибудь из наиболее известных рек Европейской России, например с Окой, то, конечно, по длине своей она представляется малозначительной, но по многоводью, которым одолжена началу в горах и многочисленным притокам, она нимало не уступит Оке. По крайней мере, это можно сказать про часть течения с устьев Нимани на север (350 верст). Выше этого устья она уже менее способна к судоходству, но не столько по недостатку воды, сколько по быстроте течения. За Сунгачанью эта быстрота и огромное число отмелей и наносного леса отнимает у нее даже значение хорошей сплавной реки. Таким образом, служить естественным путем сообщения между северо-западным прибрежьем Японского моря и рекой Амуром она не может. Но взамен того долина ее представляется одной из лучших областей Восточной Азии для успехов земледелия во всех его отраслях. Труду же человека будет предстоять: устройством железных дорог, так сказать, придвинуть эту страну к самому морю и развить в ней через это все роды деятельности, какими богата европейская гражданственность.
Долина Уссури очень неширока на пространстве от истоков до устья речки Вонго {2.62} или почти до 44°40' северной широты. Местами эта ширина достигает 10 верст, но часто она значительно меньше. Несколько ниже устья Вонго горы на левом берегу исчезают, а стрелка при слиянии Уссури с Добиху представляет совершенную равнину на довольно большое пространство. За холмами, которые подходят к руслу Уссури между Кубурханью и Сунгачанью, река окончательно вступает в равнину. Здесь течение ее чрезвычайно извилисто, берега лесисты и масса вод быстро увеличивается от притока Кубурхани, Сунгачани, Дамугу, Мурени и, наконец, Нимани, долина Сунгачани с восточной стороны Хинькая сливается непосредственно с уссурийской; она вся поросла лесом.
Тотчас за устьем маленькой речки Цифаку горы снова подходят к Уссури, и течение ее заметно изменяет характер; делается менее извилистым, спокойным и направляется почти прямо к северу. Вся длина этой новой узкой части уссурийской долины, до устья Аома, простирается свыше 150 верст. Горы этих мест, покрытые лесом, представляют много живописных видов, луга в долине почти беспрерывны; растительность, несмотря на приближение к северу, так же хороша, как и в широте 44°. С выходом из гор, вплоть до устья, Уссури орошает уже низменность, которая имеет много общего и по топографическому характеру, и по своей природе со среднеамурскими равнинами около Сунгари.
Климат долины Уссури умеренный и влажный. Никаких точных данных для определения средней температуры, барометрического давления и степени сырости воздуха мы, однако же, не имеем.
Очень заметное отличие по своей флоре, так много зависящей от климата, представляет береговая полоса, соседняя Японскому морю. Закрытая от дуновения холодных северо-западных ветров, она, без сомнения, немало разнствует по теплоте с соседней на западе приуссурийской страной. Что касается до гигроскопических свойств атмосферы в осмотренном мною краю, то он в этом отношении напоминает Западную Европу, а прибрежья Японского моря — даже береговую полосу Перу на запад от Кордильеров. Но последняя местность, обильная туманами, почти вовсе не знает дождя, тогда как на востоке густые туманы часто сменяются проливными дождями. Прибыль воды в реках от этих дождей бывает так велика, что, например, на устье Уссури, в Турме, разность между самым низким и самым высоким уровнем летних вод достигает 19 футов.
Относительно растительности и фауны бассейна Уссури и береговой полосы Японского моря мне не много остается прибавить к тому небольшому числу замечаний, которые я сделал местами выше. Недостаток времени, повторяю еще раз, лишив меня возможности собирать растения и животных, воспрепятствовал более близкому знакомству с органической природой страны[37]. Что касается до млекопитающих животных, то я могу упомянуть о медведях двух пород — больших серых и малых черных[38], ирбизах (Velix irbis), обыкновенно называемых в Приамурье барсами[39], собаках, лисицах, особенно красных, которых не раз видал сам в лесной равнине Верхней Уссури, соболях, впрочем, не драгоценных по меху, выдрах, барсуках (Melesannakuma, Siebold), тюленях, белках, очень сходных с нерчинскими, бурундучках (Tamia) {2.64}, изюбрах, диких козах (сайгах), коровах, лошадях и в особенности об огромном количестве крыс. Собаки употребляются здесь везде для езды, и не только зимой в нартах, но и летом на бечеве при плавании в лодках. Птицы малочисленны, как везде в пустынных странах, но водяные — разные виды уток, гуси, лебеди — встречаются целыми стадами. Жители рассказывали, что в некоторых местах эти утки не улетают на зиму к югу, а остаются круглый год: это очень вероятно, если вспомнить, что часть Уссури находится в одних широтах с Азовским морем, где зимовка уток обстоятельно и вместе поэтически описана г. Радде {2.65}. Фазанов, о которых говорят Лаперуз и миссионеры, путешествовавшие по внутренней Маньчжурии, мне не случалось видеть, но из порядка куриных встречались голуби и обыкновенные куры, очень большие. Класс гадов имеет представителями множество черепах, не встречающихся, впрочем, южнее Нимани, и змей нескольких пород, между которыми, по словам туземцев, есть и ядовитые. Рыбы в Уссури множество, особенно хрящескелетных. Осетры и белуги составляют главную пищу гольдов. С начала весны и во все время большой воды, то есть до августа, они идут из Амура вверх по Уссури и там мечут икру; с убылью вод они спускаются вниз и тут делаются жертвами промышляющих туземцев, которые в эту пору безотходно сторожат их на отмелях и бьют острогами. Гольды рассказывают, что стоит только заметить в половодье, каким рукавом реки шла рыба вверх, чтобы потом, при убыли воды, наловить в том рукаве огромное ее количество, потому что обратное плавание рыб совершается с точностью по прежней дороге. Что это замечание справедливо, мне удалось убедиться близ Кубурхани, где мы случайно убили на мели веслами белугу пудов в пять весом. Когда ее привезли к гольдам, они сразу угадали место, где мы ее поймали, и сказывали, что сами ждут в этом году обильного улова на этом же месте. Про осетров еще миссионеры-иезуиты рассказывают, что им никогда не случалось видеть такого множества их, как на Уссури. Сомы, сазаны и лещи почти так же многочисленны. Все они ловятся для того, чтобы сушить их мясо на зиму.
В обширных лесах Уссурийского бассейна роится несметное множество насекомых. Эти насекомые составляют настоящее зло для местных жителей и особенно для путешественников. Чтобы сколько-нибудь быть спокойным от них, необходимо носить на лице сетку, а голову и шею прикрывать вдвое сложенной и довольно частой легкой материей. Когда в солнечный день нет ветра, то главными врагами человека являются слепни, под вечер же, особенно после дождя, налетают мучительные стаи комаров и мошек. Ни одно животное, какой бы толстой кожей не было прикрыто оно, тем более человек, не может уснуть в это время. Огромные дымовые костры и душные, герметически запирающиеся палатки составляют в этом случае совершенную необходимость. До какой степени комары могут приводить в самозабвение животных, наиболее осторожных, мне случалось видеть на одной дикой козе, которая позволила подойти к себе стрелку не более как на 10 шагов, именно потому, что была, по-видимому, в совершенном беспамятстве от их ужалений. Моя команда, как я и сам, сильно страдала также от этого рода неприятеля, особенно от комаров. Но, впрочем, нельзя сказать, чтобы их было больше, чем, например, на Среднем Амуре. Если уметь хорошо выбрать ночлег на песке, в отдалении от леса и высокой травы, с вечера выкурить дымом из палатки всех насекомых и потом запереть ее, то можно довольно спокойно проспать по крайней мере третью часть ночи. Местные жители, особенно орочи, для предохранения себя от комаров на ночь все спят в маленьких ручных палатках, вроде большого, распоротого вдоль мешка, края которого они подвертывают под себя. Орочи же целое лето не снимают с головы убора, несколько похожего на дорожные капоры.
Население берегов Уссури и всех виденных мною местностей очень малочисленно. Если взять в расчет, что большая часть деревушек, разбросанных на протяжении 770 верст, состоит из одного дома и только в редких случаях из трех, четырех или более, то можно положить, что во всех мне встретившихся 102 населенных пунктах число жителей не простирается свыше тысячи четырехсот душ. И эта цифра мне кажется вероятною только потому, что в южной части моего пути, по долинам Лифулэ и Фудзи, а также на жень-шеневых плантациях по Уссури, я встречал собранными в одном доме иногда до двадцати человек вместе. Вообще говоря, это малочисленное население распределено довольно ровно по всему протяжению моего пути; но нельзя не признать некоторого сосредоточения его на юге, вверх от впадения в Уссури Нынту. Наиболее же слабообитаемую местность составляют прибрежья Уссури между устьем Нынту и впадением Кубурхани. Самые большие из всех деревень, в которых есть свыше трех домов или пятнадцати душ населения, нанесены мною на общую карту Уссурийского бассейна: их всего 24. Если принять во внимание те населенные пункты, которые, по расспросам, находятся в стороне от Уссури, на ее притоках и в береговой полосе, то едва ли все число обитателей крайнего Востока Азии между Уссури и морем, от 44° параллели до Императорской гавани, будет простираться более чем до трех тысяч душ. Взяв в расчет пространство этих земель, получим менее двух человек на квадратную милю {2.67}, то есть население здесь в восемь раз слабее, чем средним числом в Сибири со включением ее пустынного севера до Ледовитого моря. Такой вывод кажется с первого взгляда невероятным, потому что приуссурийская страна лежит в одних широтах с Ломбардией и Южной Германией, по близости моря, следственно, представляет выгодные условия для обитания многочисленных человеческих обществ. Но здесь во всей силе проявляется тот непреложный закон, по которому успехи человечества, даже в размножении рода, находятся в прямом соотношении с массой благ, доставляемых цивилизацией. Народы-звероловы, населяющие весь Восток Азии, по невежеству своему ограниченные в своих потребностях, скитающиеся в обширных лесах, между дикими горами, подвергнуты всем разрушающим влияниям внешней природы и, наконец, не выдерживающие жестокого прикосновения с организованными племенами, — эти народы никогда не могут возрастать даже и в своей численности.
С 1858 года здесь начали селиться и русские, о которых будет упомянуто в приложении. Гольды, наиболее многочисленное племя, распространены по всей Уссури, от Амура до притока Добиху и потом вверх по этой реке. На Уссури, от Добиху до вершин, большинство туземцев составляют орочи. Вся приморская полоса нагорья, особенно к северу от 46 параллели, преимущественно обитаема орочами. Уссурийские гольды ничем почти не отличаются от своих амурских единоплеменников. Несколько десятков других слов для названия предметов[40] — вот все отличие их языков между собой. Что же касается до физиологических признаков, типа жилищ гольдов, их одежды, обычаев и поверьев, то уссурийские и амурские единоплеменники ничем не разнствуют один от другого. Однообразие условий быта — на реках и в лесах — наложило на них печать строгого единства, поддерживаемого притом родственными связями {2.68}.
Соседние морю орочи, при большом сходстве с гольдами, отличаются, однако, от них как чертами лица, так и языком, а отчасти и внешней обстановкой своего быта. В устройстве лица орочей уже очень мало заметно этих резких угловатостей, которые так поражают в других народах монгольской расы, например в наших бурятах и более в западных калмыках. Скулы их меньше, нос вовсе не плоский, глаза недалеко отстоят один от другого. Цвет волос их, как и гольдов, черный; но глаза нередко встречаются серые, что менее обыкновенно у гольдов. Подобно всем тунгусским племенам, рассеянным от Енисея до берегов Восточного океана, они имеют сложение худощавое; но уже мышцы рук и ног их не так тощи, как, например, у тунгусов забайкальских. Орочи, как и гольды, носят косы, но остальных волос они не бреют, а подстригают, впрочем, довольно коротко. Женщины у тех и других носят длинные волосы на всей голове. Замечательную черту в устройстве головы орочей составляет большое отношение между вертикальным и горизонтальным ее поперечниками: оттого лицо орочей продолговато, тогда как у гольдов оно гораздо круглее.
С языком орочей я не имел времени достаточно познакомиться, но, приобретя навык понимать гольдов, понимал и их, потому что множество слов у них общих. Только в выговоре орочей заметна значительная разница: они, например, говорят «ламу» вместо «наму» (море), «била» вместо «бира» (река) и вообще имеют гораздо больше мягких звуков в составе своих слов. Потеря словаря их, взятого мной из «Путешествия» Лаперуза, лишила меня возможности проверить его; составить же новый, хотя бы и самый маленький, я не успел. Проводник мой, знакомый со всеми почти тунгусскими наречиями — собственно тунгусским в Забайкалье, солонским, гольдским и мангунским, говорил мне, что язык орочей ближе всего подходит к солонскому.
Гольды, как и орочи, почти все имеют дома; но все они летом предпочитают юрты, с которыми и кочуют по берегам реки. Юрты гольдов большей частью камышовые и соломенные; юрты орочей берестяные. У гольдов юрты часто плетеные, переносные в полном составе и имеющие форму домиков с дверью и вертикальными стенами. Орочи и многие другие гольды живут в конусообразных шалашах, основа которых из жердей всякий раз новая. Дом гольда обыкновенно невелик и не имеет того большого окна во всю стену, которое составляет необходимую принадлежность жилища собственно китайцев. Кан, или низкая печь, с вмазанным в нее котлом и длинной трубой под кирпичными нарами вокруг стен, делается точно так же, как и у китайцев {2.69}. Кирпич приготовляют из глины с соломой, а под и стены печи одевают обыкновенным. Кроме большой канной печи, есть еще почти всегда маленькая, переносная, вроде употребляемой в химических лабораториях или вроде жаровни, на ней непрерывно тлеют уголья и греется небольшое количество воды. Бедные гольды заменяют эту печь очагом посреди комнаты, составленным иногда из двух камней, иногда из деревянного ящика, обмазанного глиной. Кроме ящиков для хранения одежды, провизии и воды, кроме небольших шкафчиков для посуды, почти всегда у гольдов есть небольшая образница, перед которой на поперечных балках дома развешаны цветные бумажки с вырезанными на них узорами. Поклоняются ли гольды этим картинкам у себя в домах каждый день или нет — мне не удалось заметить; что подобные же изображения в отдельных часовенках, особенно на вершинах гор, пользуются их уважением, это я видел не раз. Как перед домашними божками, так и перед покровителями гор всегда стоит маленький ящичек или корытце, наполненные иногда ячменем или просом, иногда же просто песком. При таких часовенках стоят чугунные горшки, в которые звонят перед поклонением небольшой палочкой. Перед кумиренками около домов обыкновенно находится два шеста для вешания фонарей в большие праздники, которые у гольдов, впрочем, не совпадают с китайскими. Множество лоскуточков, веточек, соломинок и других мелочей всегда навалено в часовенке проходящими, которые ищут покровительства местных духов, подобно тому, как это делают у нас буряты, еще верные шаманству. Вообще шаманство есть, по-видимому, господствующая система религиозных понятий у гольдов. Шаманы имеют свой особенный костюм, в котором железные остроконические колокольчики без языков и медные бляхи играют главную роль, так что подобная одежда весит очень много и бренчит при малейшем движении. При исполнении обряда призывания духов шаманы употребляют бубен и вообще совершают свое дело точно так же, как оно делается у всех тунгусских племен Северо-Востока Азии. Существует ли у шаманов (как у нас) своя особая практическая медицина, или же они исцеляют все болезни только молитвами и заклинаниями, — это мне не случилось узнать.
Одежду уссурийские гольды носят такую же, как и амурские, то есть коротенькую рубашку, еще более короткую куртку, узенькие панталоны и ботинки из рыбьей кожи, выше которых, до колен, ноги обвертываются холстинными онучами вроде бинтов. Большую часть года гольды не носят, впрочем, никакой обуви, а дома у себя и всегда ходят босиком. Платье у женщин длинное, вроде блузы или шлафора, всегда окаймленное понизу узорчатым шитьем или тесьмой. В ушах носят серьги и волосы заплетают в несколько кос. На руках, как у женщин, так и у мужчин, часто встречаются браслеты; они большей частью медные, но у богатых гольдов бывают и серебряные. Я уже имел случай упомянуть, что браслеты надевают и мертвым, вероятно, как символ чего-либо, нужный в загробной жизни. Некоторые из ороченов носят, как украшение, серьги в носу, но у гольдов этого обычая нет.
Необходимую принадлежность гольда-промышленника составляют оружие для охоты и разного рода снаряды для рыбной ловли. Несмотря на то, что звериный промысел у них составляет одно из главных занятий, которое доставляет часть пищи и зимнюю одежду, они мало имеют ружей и часто ограничиваются употреблением лука со стрелами и копьями. Как только осенние морозы заставят пожелтеть листья на деревьях и несколько подсушат влажную почву в лесах, гольды всей массой уходят в эти леса и деятельно преследуют зверей, мелких и больших, смотря по силам и средствам каждого. Белки, соболи и лисицы составляют преимущественный предмет этой осенней ловли. Когда период этой охоты кончится, тогда продолжают заниматься ловлей зверей разными снастями или ловушками, которые в большом употреблении, особенно на соболей. В то же время промышляют медведей, которые еще не успевают истощать в своих берлогах. Преследование других больших зверей — ирбизов, диких коз, изюбрей — продолжается круглый год. Их кожи, после незначительной выделки, употребляются на обувь и на зимнюю одежду. Что гольды ценят эти предметы, видно из того, что они охотно покупали их у казаков, когда этим последним удавалось что-нибудь добыть с ружьем. Другие меха, напротив, дешевы, так что белку, например, гольды отдают по 1 1/2 и 2 копейки серебром за штуку. Мясо убитых зверей, почти всех пород, обыкновенно употребляется в пищу самими туземцами Уссури, но некоторые части составляют исключительную принадлежность собак. Эти собаки в большом количестве находятся почти у всех гольдов; кроме охоты, они употребляются и для езды, но обыкновенно охотничья собака не возит уже своего хозяина, а обязанность эта лежит на нескольких других, совершенно из той же породы. Мне не удалось видеть зимних экипажей и упряжи гольдских собак, но взамен того я был свидетелем, как эти собаки тянули бечевою лодки и таскали вдоль ручьев толстые кедровые доски и бревна, нужные для лодок и на другие поделки. При всех этих работах они держатся в большом порядке и имеют к ним особый инстинкт или понятливость. Я не знаю, так ли злы собаки гольдов в запряжке, как гиляцкие и камчатские, но когда их отпускали с бечевы, то они робко убегали в сторону при встрече с нами. Взамен того, собаки эти составляют очень хорошую стражу при домах и юртах гольдов, где встречают приходящих всегда громким лаем. Некоторые из них держатся хозяевами на цепи, и такие, разумеется, особенно злы. Как приучают гольды езжалых собак к охоте и охранению домов, этого мне не удалось узнать, но во всяком случае видно, что уссурийская порода имеет (более) многосторонние наклонности, чем камчатская. Собаки на Камчатке, как говорит отец протоиерей Громов, не имеют инстинкта сторожить, а родятся с инстинктом возить, они, кроме того, и не лают.
Для рыбной ловли каждый гольд, куда бы ни ехал по реке, имеет всегда с собой острогу, которой бьет не только крупных осетров и белуг, но и более мелких сазанов, лещей и пр. Искусство их в этом случае удивительно. Сидя в маленькой берестяной лодочке (оморочке), гольд тихо подъезжает, с лопатками в руках вместо весла, к месту, где надеется найти рыбу, и зорко сторожит ее. Едва увидел он добычу, на приличной глубине, как уже трезубец его остроги достигает ее, и гольд вытаскивает рыбу из воды или же ждет, когда она утомится и перестанет водить его по реке, как это бывает в том случае, когда попавшаяся рыба — большая белуга или осетр. Кроме остроги, гольды употребляют и сети. Вода вообще такая стихия, на которой гольды проводят едва ли не столько же времени, как и на земле. Во всякую погоду и на каком угодно месте реки они пускаются плавать в легоньких лодках, иногда с безрассудной отвагой. Еще на Амуре, ниже Сунгари, во время бури, которая произвела такое волнение, что палубу высокого парохода беспрерывно обливало брызгами, я видел двух гольдов, пожилого и мальчика, которые быстро неслись по реке в маленькой лодке, беспрерывно захлестываемой валами. У лодки этой недоставало даже носовых досок, а парусом служил мешок, который надувался ветром наподобие пузыря. Необходимость спасти установленные на противоположной стороне реки снасти заставила их решиться на подобное плавание.
Кроме звериной и рыбной ловли, гольдам знакомы немногие лишь отрасли промышленности. Они сеют ячмень, просо, кукурузу, картофель, огурцы и табак. Табак составляет для них необходимость и возделывался ими еще во времена иезуитов XVIII столетия.
Таковы главные черты ежедневного, или домашнего, быта гольдов на Уссури. Они, можно сказать, исчерпывают и все содержание их жизни. Никаких признаков общественного устройства у них незаметно. Не только государственные организации, но и патриархальный родовой быт у них не созрели. Семейные связи заметнее, но и они, по-видимому, не имеют очень большого значения. Молодые люди до известного возраста, конечно, состоят на попечении и в послушании родителей; но как только они становятся способными сами независимо заниматься промыслами, зависимость эта исчезает и отец с сыном становятся в отношения совершенного равенства, подобно двум братьям. Только в тех случаях, когда они живут в одном доме, старший пользуется некоторыми признаками особого уважения; но и тут он ничем не распоряжается, ни в чем не является главою семьи. Всякое дело, всякое предприятие начинается с общего согласия, и при исполнении никто не принимает роли руководителя, а каждый делает, как находит лучше. Гольды-соседи, хоть бы и родственники, никаких старшин между собой не имеют и как разбирают случайные неприятности одного с другим, трудно сказать. Вероятно, дело решается по праву сильного. Впрочем, надо сказать, что и поводов к ссорам у них бывает очень немного. Право собственности каждого, по обычаю, уважается так свято, что в этом смысле преступлений между гольдами бывает, вероятно, очень немного; а затем, что может возжечь вражду между людьми, которые редко и видят друг друга? Конечно, и в этом младенческом состоянии народа среди него неизбежны преступления и дела против обычаев и совести, но кто карает их и имеют ли гольды понятие о суде третьего лица над двумя враждующими, этого я не могу сказать. Во всяком случае, можно не без удовольствия заметить, что кровожадные обычаи не проникли на Уссури. Тихие, даже робкие гольды с покорностью судьбе выносят ее удары, и кровавая месть есть дело им совершенно неизвестное.
Важным условием, связывающим разбросанных на обширном пространстве туземцев Уссурийского края в одно племя, являются родственные связи, особенно браки. Браки между гольдами устраиваются преимущественно по согласию родителей. Отец мальчика еще в отроческих летах последнего находит ему невесту, которую с согласия ее родителей и берет к себе в дом. Молодые люди растут вместе, как брат с сестрой, до известного возраста; когда же наступит пора совершеннолетия, их свадьба справляется пиром, и после этого они вступают во взаимные отношения супругов. Пора эта наступает для гольдов рано: лет в 18 для мужчин и лет в 15 для женщин. Это обстоятельство производит то, что гольды впоследствии скоро старятся и вообще редко достигают совершенного развития. Дети молодых супругов редко бывают долговечны, а потому смертность между гольдами велика. Благоразумные старики понимают это и женят своих сыновей лет в 20 и позже.
Но кроме этих условий, кроме общих религиозных поверий и одного языка, неужели туземцы Приуссурийского края не имеют других оснований для признания себя единоплеменниками? Самое единообразие языка не поддерживается ли в них чем-нибудь? У большей части народов в этом случае является сильным связующим средством одна общая поэзия. Песни и сказки до такой степени свойственны всем младенчествующим племенам, что было бы трудно привести несколько примеров совершенного их несуществования у самых забытых историей народов. Уссурийские гольды и орочи, по-видимому, представляют, однако же, пример такой бедности словесных произведений фантазии. Конечно, при коротком, двухмесячном знакомстве с ними я не мог узнать их словесности; но мне ни разу не удалось слышать что-либо похожее на цельное, хотя нестройное и необработанное, создание их поэзии. Когда проводники мои, из орочей или гольдов, начинали однообразным напевом выражать поэтическое настроение своей души, я внимательно прислушивался к их словам, но ничего, подобного законченной и связной песне, мне не удавалось слышать. Чувство свободной природы, ее красот и ужасов, чувство любви или родственных привязанностей оживляет грудь обитателя Крайнего Севера Азии, но оно всегда совершенно лично, преходяще, и ему чужда стройная форма выражения. Когда при возвращении моем с Фудзи я вышел в долину Уссури и отправил моего проводника-ороча на лодке, вместе с больным, к Нынту, где был его дом, он пел, что Сандугу быстрая река и по ней недолго будет плыть, что он скоро будет дома, что жена его хорошая и пригожая, давно ждет его, что мать его плачет в разлуке с ним, но ни малейших следов поэтического построения в его песне не было. Эта импровизация представлялась просто произведением взволнованного чувства, и с успокоением его при свидании все произведение фантазии ороча было им безвозвратно забыто. К этому можно прибавить, что он во все продолжение своего то заунывного, то радостного пения беспрестанно примешивал к предметам, им воспеваемым, то нас, русских, то встречавшиеся горы и долины, то испытанные на пути трудности — и все это без малейшего порядка и связи, так, как предметы появлялись в его воображении.
Этими немногими подробностями о жителях берегов Уссури я мог бы окончить мои заметки, если бы не было необходимости сказать еще несколько слов о китайцах. Переселенцы эти из Срединного царства одолжены своим пребыванием на Уссури или бегству от преследований законов, или стремлением нажиться на счет туземцев и через отыскивание жень-шеня. Сообразно с этим они и представляют три различия как бы класса местных обитателей Уссури. Одни живут постоянно в домах, большими артелями, и кроме земледелия, а зимой звероловства ничем не занимаются — это беглые китайцы верховьев Уссури, Лифулэ и Фудзи. Они почти не имеют женщин в своем обществе и женятся иногда лишь на ороченках. Другие, жалкие искатели орходы (жень-шеня), проводят жизнь летом в горах и лесах, а зимой на работе у более оседлых своих единоплеменников. Третьи, наконец, и очень немногие, промышляют покупкой соболей и жень-шеня, взамен которых дают туземцам дабу, холст и кое-какие мелочные изделия. Некоторые из них бывают с теми же коммерческими целями на Амуре, и я знаю одного, в деревне Нимань, который живал в Мариинске и говорит несколько по-русски. Торгаши эти, впрочем, занимаются и земледелием, но они производят работы не сами, а с помощью гольдов или менее состоятельных своих единоплеменников. Для торговых целей они находятся в сношениях с Саньсином на западе и с Хуньчунем на юге. Каковы их обороты и скоро ли они наживаются от них — это мне неизвестно.
Река Амур.
Август и сентябрь
1858, а исправлено
11 декабря 1863.
О РУССКОМ НАСЕЛЕНИИ НА УССУРИ В 1862 ГОДУ. Приложение.
Наиболее подробные сведения о русском населении берегов Уссури были собраны и сообщены Географическому обществу в рукописи бывшим начальником уссурийских казаков фон Стенбоком. Г. Стенбок изложил при этом много экономических подробностей о состоянии нового края; но здесь приводятся лишь важнейшие данные.
Общее число душ русского населения в долине реки Уссури простиралось в конце 1862 года до 6000. Люди эти жили в 26 станицах, начиная от устья Сунгачани до впадения Уссури в Амур. Центр управления этим населением составляет станица Казакевичево, возникшая еще в 1858 году.
Все поселенцы — казаки, составляющие особый пеший батальон и обязанные в случае войны выставлять даже два батальона (что едва ли возможно при 6000 душ), в мирное же время ограничивающиеся только высылкою на местную службу 250 человек. Состав этого населения двоякий. Семейные поселяне суть бывшие забайкальские казаки, бессемейные — солдаты гарнизонных батальонов, сосланные на Амур в 1859—1860 годах, весьма порочные и мало пригодные для оседлой земледельческой жизни. Они здесь, как и на Амуре, известны под именем «сынков», потому что первоначально были распределены по семействам казаков для помощи им в работах. В двух станицах они образуют артели, пользующиеся правами семейств, так что правительство этим артелям дает то же вспоможение, как казакам, то есть земледельческие орудия и рабочий скот. Но эти артели составляют ничтожное исключение из массы солдат-холостяков, между которыми 635 человек совершенно праздношатающихся {2.70}.
Земледелие в Уссурийском крае развивается медленно, столько же по бедности жителей, неизбежной, пока они останутся казаками, как и по случайностям сплавов семян и от бывших наводнения в 1861 году и засухи в 1862. Однако в последнем году были разработаны уже 1 184 десятины и из них 781 засеяны. Работы частью производятся еще руками людей, а не орудиями, запрягаемыми рабочим скотом, — по недостатку последнего. Но это не мешает европейским хлебам в первый уже год давать урожай сам-восемь и больше.
Правительство, ценя важность скорого заселения Уссурийского края, дозволило в нем частным лицам искать золото, что запрещено в других частях Приамурья. Доселе, однако, не слышно о промышленных предприятиях в этом роде. Казенные поисковые партии ходили в южной части Уссурийского края и нашли золото, но разработка его пока не может окупиться.
ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ И ЯПОНИЮ
I
Пароходы компании «Messageries Francaises» {3.1}, с их всегда многочисленным и этнографически-пестрым населением, были уже мне хорошо знакомы, а потому я нисколько не удивился, что на нашем «Moeris'e» {3.2} была самая разнообразная и, по несчастью, многолюдная толпа. Целые шесть дней пришлось чуть не задыхаться в каютах, прежде чем высадиться в Египте. Меня судьба поместила в одну каюту с целым обществом итальянских и французских гренеров, то есть купеческих приказчиков из Генуи, Милана, Лиона и Марселя, ехавших в Иокогаму покупать яички шелковичных червей. Так как эти люди уже не раз бывали в Японии и знали ее не по одной Иокогаме, то я надеялся сначала многое узнать от них о современном состоянии этой страны, но ошибся: во всем, что не относилось до их специальности, они были классически невежественны. Грамотнее других оказался некто Шеврье, поверенный и даже член одного торгового дома в Лионе, и я избрал его в соседи по table d'hôte'y {3.3}, чем он, по-видимому, был очень доволен, ибо сначала считал меня (благодаря бархатной жакетке и ленточке в петлице) за какого-то дипломатического агента, едущего на Восток с тайными целями… В самом деле: зачем русский путешественник, без мундира, на французском пароходе, едущем в Иокогаму? Какую отрасль человеческой деятельности может представлять он, если не дипломатическую или шпионскую? У России нет нигде интересов культурных, в буржуазном смысле. Она только завоевывает или подготовляет завоевания. Ни в науку, ни в индустрию общечеловеческую она не вносила и не вносит ничего прогрессивного или хоть просто гуманного… Чтобы не быть оглашенным на пароходе за русского шпиона, я сказал моему лионскому негоцианту, что собственно еду на Сахалин, чтобы видеть, можно ли будет снабжать тамошним углем японские и китайские порты, а до того полагаю посетить самые эти порты. Так как сообщение было сделано по секрету, чтобы не узнал кто из английских или других торговцев углем, то оно скоро стало общеизвестным, и ему верили, чем я был очень доволен.
Александрия {3.4} весною 1869 года еще жила полною жизнью большого приморского города и первоклассной станции для путешественников и товаров, направляющихся из Азии и Африки в Европу или обратно. Пристани и склады были завалены тюками, бочками, ящиками, мешками и пр.; целый флот кораблей и особенно пароходов стоял в гавани и деятельно разгружался или грузился. На площади Мехмеда-Али, этом промышленном центре города, поутру до 8 часов и вечером после 4-х толпились кучи купцов и совершались большие сделки. Но уже в воздухе носилось предчувствие скорого упадка или по крайней мере ослабления этой бойкой торгово-транзитной деятельности. Открытие Суэцкого канала ожидалось осенью того же 1869 года, и многие александрийские купцы задумывались над своим будущим. Содержатели гостиниц были особенно мрачно настроены, так как с направлением по каналу всех проезжих англичан и других европейцев заведения их должны были опустеть. Содержатель «Hôtel d'Angleterre» {3.5}, издавна славившийся не только своею столовою под навесом зелени на берегу моря, но и отличными кушаньями и вином, в ней подаваемыми, на этот раз накормил завтраком и обедом очень посредственными, прямо заявляя, что теперь дела его приближаются к ликвидации. Эта бесцеремонная откровенность не удивила меня: я уже привык к взглядам и теориям европейских коммерсантов на Востоке, идеал которых всегда один и тот же и всегда очень прост: в пять, а много в десять лет сколотить всеми правдами, а особенно неправдами, капитал и потом возвратиться на родину, куда-нибудь в Лондон, Марсель, Бремен, Женеву, для занятия «почетного положения» оптового барышника, фабриканта, обсчитывающего рабочих, директора компании, надувающего акционеров, или даже банкира, легально обворовывающего всех и вся. Голландия, Бельгия, Швейцария, отчасти Англия, Шотландия, Франция, прирейнская и приморская Германия, Милан, Генуя, Ливорно и пр. почти уже не имеют другой аристократии, как эта банда бывших chevaliers d'industrie {3.6} откуда-нибудь из Леванта, из Индии, из Китая, из отдаленных европейских колоний. Разные Джардини, Матисоны, Форбесы, Кнопы, Гирши, Сасуны, Бравэ, сведенные Альфонсом Доде {3.7} к одному типу «набоба», суть наиболее известные представители этого разряда аристократов, а недавнее (1881 год) дело о подделке в Женеве, по заказу александрийских и марсельских финансовых тузов, турецкой монеты на 13 000 000 франков дает верное понятие о путях, которыми эти аристократы создают свое «почетное» положение.
В мае жара в Египте так велика, что днем никто не показывается на улицу, и даже поезда железных дорог с европейскими путешественниками отправляются только вечером, чтобы совершать переезды в течение ночи. Так было и с нами, причем мы имели случай видеть патриархальные порядки на египетских линиях, эксплуатируемых, разумеется, европейцами. На станциях не было другого освещения, как железные конические жаровни, насаженные на палки и наполненные горящими угольями и щепками. Ни одна не имела буфета, и даже трудно было достать свежую воду. Но это было еще ничего: ведь и в европейской Турции железнодорожная обстановка немногим лучше. Но вот что уже совершенно оригинально. Обер-кондуктор нашего, курьерского, поезда, заметив как-то в степи огонек, двигавшийся из стороны в сторону, догадался, что это, должно быть, какой-нибудь пассажир, опоздавший на станцию, машет, чтобы привлечь на себя внимание. Немедленно поезд был остановлен среди дороги и в один из товарных вагонов принят феллах {3.8}, да не один, а с десятью-пятнадцатью баранами, которых он гнал в Каир. Остановка для приема этих случайных путешественников, разумеется, потребовала минут десять времени; и вот, чтобы наверстать его, поезд двинулся далее с такой быстротою, что у всех щемило сердце. Вагоны прыгали и раскачивались справа налево, как не бывает этого даже в Испании или у нас, на дорогах Варшавского, Полякова и Блиоха {3.9}. Слететь с плохо положенных и крайне изъезженных рельсов было чрезвычайно легко, и мы провели un quart d'heure de Rabelais {3.10} прежде, чем прибыли, кажется, в Булак. Разумеется, плату за провоз феллаха и баранов разделили между собой европейские кондуктор и машинист: они ведь тоже прибыли в Египет не даром, а с целью сколотить капитал.
Но вот утро, и мы в Суэце. Жара становится нестерпимою, и нездоровые испарения поднимаются с илистого морского дна, обнаженного по случаю отлива. В ожидании маленького парохода, который должен перевезти нас на большой, стоящий вдали на рейде, мы изнемогаем под навесом железнодорожной станции и соседней гостиницы, откуда часто приносят лимонад и другие прохладительные. Я вспоминаю, что Суэц — ворота в тропическое пекло, и ухожу в гостиницу надеть фланелевую рубашку, эту защиту от солнечных ударов и тропических лихорадок.
— Что это вы делаете? — спрашивает меня неопытный, а потому удивленный Шеврье.
— Да вот гарантирую себя от перемен тропической погоды, так как не хочу ни быть убитым солнечными лучами, ни получить лихорадку вроде той, которую схватил в прошлом году на Панаме и которая держала меня недели три между жизнью и смертью.
— Так фланель есть средство против этих невзгод?
— Разумеется. Вы спросите ваших соотечественников-гренеров: они ведь, я думаю, тоже променяли полотняные рубашки на шерстяные, как люди, бывалые в жарких странах.
— Ах, боже мой! а у меня нет фланели!.. — И Шеврье, под зонтиком от палившего солнца, бросился в Суэц, откуда через час принес две вязаные шерстяные фуфайки, чуть ли уже не бывшие в употреблении, но обошедшиеся ему франков по тридцати каждая.
— Это вы что же разлеглись так неудобно? Ноги выше головы… — спросил он снова меня. — Или это тоже гигиеническая мера против жары? Ведь вам, должно быть, очень неловко на таком кресле.
— Напротив, кресло отличное, и я вам советую приобрести такое же: стоит всего три рупии. — (Кресло было из бамбука, с длинным сиденьем, или точнее — лежаньем, выгнутым посредине протяжения кверху, так что, раз улегшись в нем и привязав самое кресло хоть к борту парохода, можно было безопасно переносить качку, не рискуя быть выбитым из позиции и даже не ощущая позыва на рвоту.)
— Вот что значит опытность! Иду искать себе такое же сиденье.
Но в продаже такового не оказалось более, и Шеврье не раз потом сожалел об этом, пока не купил бамбукового же, но простого кресла, кажется, у одного миссионера, высадившегося в Цейлоне.
Этот миссионер был одним из курьезов нашего пароходного общества. Член базельского протестантского союза, он ехал в Индию проповедовать христианство тамильцам, язык которых изучил и для которых вез целый ящик печатных евангелий и других богословских книг. Как истинный протестантский моралист, он имел при себе и законную жену, а не бонну, как то делают католические монахи, попы и епископы. Эта жена в их брачном союзе, очевидно, составляла не половину, а по крайней мере две трети, если не целых три четверти. Вопреки апостолу Павлу, она держала мужа в полном повиновении себе. Еще на «Moeris'e» она сшила для него штаны из остатков легкой серенькой шерстяной ткани, которая главным образом была употреблена на широчайшую юбку для нее самой. Штаны были коротки, и бедный пастор подвергался громким насмешкам. Шеврье особенно потешался над ним, благо почтенный проповедник базельской морали и лютеранских догматов был его vis-à-vis {3.11} за обедом. Вот одна из его шуток, для объяснения пикантности которой нужно сказать, что пастор за столом обыкновенно помещался между своею женою и молоденькой французской монашенкой, ехавшей в Сайгон наставлять в нравственности аннамитских девочек, а на досуге, может быть, и французских морских офицеров. Шеврье читает обеденную карту и на ней видит poularde au riz {3.12}.
— Что такое пулярка? — внезапно обращается он к богослову. — Господин пастор! Вы так хорошо знакомы с домашним хозяйством: объясните мне, пожалуйста, что это за птица? Вот я часто ем ее, но в учебнике зоологии, которую я проходил в колледже, ни разу мне не встречалось это название.
Оконфуженный пастор не знает как вывернуться из затруднения, тем более что жена с боку метает на него молниеносные взгляды.
— Это, это, как вам сказать?.. Это, — заключает он после многословной диссертации, которую Шеврье слушает не моргнув глазом, — курица, которая не может иметь цыплят…
— А, понимаю! Это, в своем роде, монахиня, — замечает Шеврье к общему смеху соседей и в том числе самой двадцатилетней католической «сестры», которая дотоле безмолвно сидела, опустив глаза вниз, наподобие Гольбейновой мадонны из Дрезденской галереи. Свирепая пасторша не могла пропустить мужу даром такого скандала: тотчас после обеда она заперла его в каюту и не выпускала до следующего утра.
Шеврье преследовал своими забавными выходками не одних протестантского пастора и католическую монахиню, но и вообще попов, которых на «Camboge'e» {3.13}, по обыкновению всех французских океанских пароходов, было немало. Один из этих попов, ехавший на остров Соединения {3.14} (Reunion), усердно ухаживал за молоденькой вдовушкой, отправлявшейся с маленьким сыном туда же. Барыня хоть и скучала от этих приставаний, но, имея в виду, с одной стороны, спасение души в будущей жизни при посредстве молитв и отпущений кюре, а с другой — неизбежность дальнейшего плавания с ним в гораздо менее разнообразном обществе от Адена до самого своего острова, не прогоняла его от себя. Шеврье тотчас прикинулся влюбленным в нее; и как он был моложе, красивее и умнее попа, то возбудил в последнем злобу ревности, в самой же вдовушке — приветливое внимание. Раз он сидел около нее и городил такие jolies petites blagues {3.15}, что вдовица, несмотря на траур, хоть и сдержанно, но искренне хохотала. Это взбесило попа, и он тотчас же сел с другой стороны заблудшей овцы своего стада и начал какую-то скучную мораль. Тогда Шеврье отодвинулся от искусительницы и, облокотясь о стол, принял крайне унылый, задумчивый вид, почти как человек, у которого болят зубы или, по крайней мере, которому изменила жена.
— Что с вами, monsieur {3.16} Шеврье? Вы так печальны: уж не заболели чем? — спросил я его, слабо догадываясь в чем дело. — Или, быть может, вспомнили что-нибудь грустное?
— Ах! — отвечал он, — как же мне не печалиться? Ведь я, с небольшим лишь в двадцать лет, — сирота.
Et ma mère est enterrèe Dans le jardin de monsieur le curé… {3.17}Это двустишие он произнес речитативом с такою, свойственною лишь парижским гамэнам иронией, что все присутствовавшие, не исключая и вдовушки, покатились со смеху, а поп вскочил от бешенства и скрылся в каюту… Эти веселые шалости, не совсем, конечно, согласные со строгими правилами салонных приличий, дают мерку одушевленной вольности французского общества, в противоположность напускной, чопорной важности англичан. Какая разница тона на «Camboge'e» и на каком-нибудь пароходе «Peninsular and Oriental Company» {3.18}, где люди дуются и скучают целую неделю, чтобы в воскресенье под предводительством капитана в мундире читать библию и распевать, по молитвеннику, псалмы!
Но не потому ли эти святоши ex officio {3.19}, эти фарисеи религии cant'a {3.20} так грубо эгоистичны в жизни? Считая преступлением шутку на словах, не занимаются ли они на деле травлей новозеландцев собаками, отравлением китайцев опиумом и вымогательством, вооруженною рукою, контрибуций где только можно? Ведь им с совестью примиряться очень легко: для этого не нужно даже платить попу за исповедь, как у католиков и у нас. Взял «Prayer book» {3.21}, пропел псалом — и дело кончено.
И хваленая чистота их домашних нравов нынче уже не секрет. Не у них ли, в лондонских вертепах разврата, «высокопочтенные» члены аристократических клубов, чтобы привести свои изношенные особы в любовную ярость, секут обнаженных женщин до крови? Не у них ли женатый наследник престола с компанией содержит в особой холе кавендишских мальчиков-телеграфистов? Не их ли mistrisses, misses или даже ladies {3.22} наполняют европейский «континент» для отыскания эротических похождений, а то и возможности выжать, с помощью шантажа, весь сок (металлический) из какого-нибудь неопытного, но богатого маменькина сынка, неосторожно с ними забывшегося?
Относительно лицемерной «гуманности» англичан, которою они так любят хвалиться, выставляя напоказ Вильберфорса, Говарда и др., но забывая Чатама и Клейва {3.23}, я имел случай во время путешествия 1869 года узнать любопытный и малоизвестный факт. Мне говорили про объявление в местной аденской газете, сделанное одним капитаном из английской флотилии, крейсирующей у восточных берегов Африки, который, по случаю отъезда в Европу, продавал с аукциона свое место, заявляя, что оно приносит столько-то годового дохода. Дело в том, что для возбуждения охоты к крейсерству английское правительство уплачивает премии капитанам и экипажам тех судов, которые изловляют арабских негроторговцев во время перевозки ими морем «живого груза». Эти премии, по закону, пропорциональны: 1) числу освобожденных невольников и 2) величине пойманного судна, — но в действительности всегда больше легальных. Для достижения последнего результата капитаны крейсеров поступают так. Поймав негроторговца, они топят его корабль, показав в протоколе тонновую его вместимость гораздо больше действительной: это, следовательно, обман казны[41]; но он далеко еще не определяет своими размерами действительных доходов крейсерских капитанов и их подчиненных. Весь вещевой и часто товарный груз утопленного ими корабля идет в их пользу и продается в Адене, Занзибаре или одном из портов Индостана {3.24}. Но и это еще не все. «Гуманизм» англичан не позволяет им высаживать освобожденных невольников на африканском берегу, где-нибудь поблизости их родины, где будто бы они опять непременно попадут в рабство. Живой товар везется в Бомбей или Мадрас и там поступает на сахарные, кофейные или хлопчатобумажные плантации, хоть и под именем свободных людей, но в действительности как закрепощенная за очень низкую плату толпа рабов. За эту услугу плантаторам из англичан и шотландцев крейсерские капитаны получают от них также плату. Вот он и гуманизм!
Впрочем, что говорить о подвигах отдельных лиц и сословий, когда вся английская нация, с правительством во главе, не церемонится нарушать самые общепринятые правила нравственности, чести и даже положительного закона, если ей это выгодно. Вот мы проходим остров Перим, командующий Баб-эль-Мандебским проливом. В 1856 году, на Парижском конгрессе {3.25}, Англия особенно настаивала на нерушимой целости Оттоманской империи, а в 1861-м, среди полного мира с Турцией и не спросясь никого из соподписчиков договора, взяла — да и завладела Перимом, то есть стратегически одною из важнейших местностей не только Турции, но и целого света. Теперь на острове сооружено сильное укрепление, и над ним развевается британский флаг; на стенах виднеются орудия большого калибра, могущие обстреливать обе части пролива — азиатскую и африканскую. Гарнизон в совершенно мирное время, впрочем, невелик: всего 200 человек; но он может быть при нужде усилен до 1 000 и даже более из Адена. Не держат англичане сильного гарнизона на Периме, во-первых, потому, что служба там убийственна для людей, ибо на острове нет ни малейшей тени, да и вообще растительности и даже воды для питья; во-вторых, потому, что все нужное для гарнизона — пищу, одежду, топливо, посуду, мебель и пр. должно привозить издалека, часто из самой Англии, ибо соседние Африка и Аравия не в состоянии доставлять почти ничего, потребного европейцам.
Забавно было видеть, как наполеоновская Франция тоже хотела командовать южным выходом из Красного моря и создала было там «станцию» для судов или даже порт, которого, впрочем, никто не посещал, не исключая и пароходов «Messageries Impèriales Francaises» {3.26}. Только при Тьере, после разгрома 1871 года {3.27}, эта глупая затея была оставлена, но и доныне (1881) французы нередко говорят о Шейх-Саиде как о своем колониальном владении.
Мы шли из Суэца до Адена пять с половиною суток — ужасных суток, ибо майские жары были невыносимы. Уже на другой день после нашего выхода из Суэцкого порта один пассажир, выглядывавший из-под тента парохода на вершины Синая, был убит солнечным ударом. Это произвело на всех тяжелое впечатление, которое нисколько не рассеялось с выходом из Суэцкого залива в открытое море. Напротив, истома от жары только усиливалась с движением парохода к югу. Мы не видели более берегов, но мы чувствовали соседство раскаленных африканских и аравийских пустынь. Около полудня воздух так нагревался, что пароходная тяга заметно ослабевала, и мы шли тише, несмотря на совершенно спокойное море. Тент поливали водой раза три в день, и все же солнце пропекало сквозь него, несмотря на то что он был двойной: это ведь было не осеннее, а майское солнце, которое уже из параллели Мекки являлось у нас в полдень почти в зените. Трудно понять, как древние, с их отсутствием паровых двигателей, могли плавать по Красному морю, где безветрие есть обыкновенное состояние атмосферы, по крайней мере в течение большей половины года. И не случайно, что потребность в Суэцком канале была сознана не ранее, как по развитии пароходства: ведь если бы канал и был прорыт, например, в XVIII веке, то пользы от него было бы мало. Парусное судоходство по Красному морю оставалось бы чистым мученьем и, следовательно, не могло бы составить серьезного противника плаванию вокруг мыса Доброй Надежды.
С выходом из Адена в Индийский океан обстоятельства изменились к лучшему; термометр упал, и мы вздохнули свободнее. Но ненадолго. За Сокоторою, которую мы видели издали, неудобства жары и безветрия сменились неудобством сильной боковой и даже диагональной качки парохода от свежего муссона. Постепенно крепчая, он, наконец, на меридиане Мальдивских островов достиг такой силы, что волны ходили у нас через палубу и в одну прескверную ночь четырех пассажиров снесло ими за борт. Я тоже рисковал быть унесенным в море и той же самой волной; но отделался душем из соленой воды, которая забралась мне в рот, в нос и в уши, но не оторвала меня от палубы, потому что я крепко держался за каютную дверь… Когда-то человечество дойдет до устройства судов, в которых бы внутренность не следила за раскачиваниями наружного корпуса кораблей, чтобы избавить путешественников от мучений качки и риска летать в море с палубы, где приходится оставаться за невозможностью, при теперешних условиях, жить в духоте кают? Впрочем, попытка была уже сделана Бессемером; да только, после случайной неудачи, естественной при первом начинании, она не вызвала подражания… Еще бы! Ведь всем пароходным компаниям пришлось бы тогда или бросить свои теперешние суда, или переделать их, то есть лишиться года на два-три доходов, в пользу нововводителей. Это то же явление, что сию минуту совершается в мире газовых обществ, при их борьбе с электрическим освещением; но тут скорая победа света над тьмой вероятнее, потому что превосходство первого очевиднее для народных масс.
С особым удовольствием наше пароходное общество увидело Цейлон, обрисовавшийся сначала как густое облако на горизонте. Кажется, уж на что хуже порта Point-de Galle {3.28}, с его вечною толчеею воды от проливов, отливов и ветра, а все были рады отдохнуть хоть немного от качки. Разумеется, все посещавшие городок в первый раз немедленно отправились осматривать окрестности, то есть пальмовые леса, рисовые поля, буддийский храм, бунгалоу (ферму) какого-то шотландца, ботанический сад с чувствительными мимозами и пр. Были даже простодушные новички, которые занимались покупкою за два шиллинга, — если не за два соверена, — «золотых» перстней с большими «корундами и сапфирами», будто бы находимыми и обделываемыми на Цейлоне. Я предпочел осмотреть казармы солдат, замечательные по обилию и свежести в них воздуха, да укрепления города; а потом отправился пообедать в дорогую, но посредственную «Oriental-Hôtel» {3.29} и, наконец, уже поехал на прогулку за город, по береговой дороге на Коломбо. Как известно, эта местность пользуется славою одного из «уголков земного рая», и, в самом деле, море, пышная растительность и поразительная красота и статность молодых сингальцев (особенно происшедших от помеси с португальцами) способны напоминать об Эдеме. Только и тут не обходится без misères humaines {3.30}: на каждом пальмовом дереве путник, возмечтавший о рае, видит венкообразную связку сухих листьев, окружающую ствол на высоте нескольких аршин. Если ночью вор полезет на дерево за кокосами, то шелест обламываемого им сухого венка разбудит хозяев, которые обыкновенно живут неподалеку, в убогой хижине… В раю, вероятно, этого не было.
В Цейлоне мы распрощались с частью наших спутников, направлявшихся кто в Коломбо и Канди, кто в Пондишери, Мадрас и Калькутту {3.31}, а кто и в Австралию. На пароходе стало просторнее, и оттого плавание поперек Бенгальского залива и Малаккским проливом было самым приятным. Молодежь только жалела об отъезде двух очень красивых дам, которые, хотя имели билеты второго класса, но всегда как-то умели уставлять свои кресла на палубе так, что их можно было считать за первоклассных. Обману содействовало и то, что все первоклассные денди усердно окружали эти два блестящие светила… конечно, из полусвета. Ехали они в Австралию, потому что там, на проселочном пути и между богатыми золотопромышленниками и овцеводами, услуги их ценятся выше, чем на большой дороге через Сингапур, Гонконг и пр., где живут главным образом знающие цену деньгам торговцы… Замечу, что этому цветку запрещено появляться в Батавии и вообще в нидерландских колониях Малайского архипелага. И это не потому, чтобы отеческое правительство короля-акционера и его пуританских советников боялось за нравственную гибель молодых голландских чиновников — приказчиков на Яве и Целебесе, а потому, что нужно спасти белую расу от упреков в безнравственности со стороны малайцев, имеющих на веки веков пребывать илотами амстердамских, гаагских и роттердамских спартанцев. Факт годится, пожалуй, и в историю того, что англичане называют the christian civilisation {3.32} Востока.
Всякому проезжавшему Малаккским {3.33} проливом известно явление почти непрерывных и очень ярких молний без грома, то есть зарниц, которыми блестят обе стороны горизонта, восточная и западная, иногда одновременно, иногда через промежутки в несколько секунд и даже минут. Чем объясняется это явление? — Нахождением пролива между двух частей тропической суши. Однако в Баб-эль-Мандебском проливе {3.34}, который лежит всего под 13° широты, эти зарницы совсем неизвестны. Значит, для их образования нужна еще влажность атмосферы, которой недостает странам, соседним Периму. Совершенно верно; ну, а потом? Как же все-таки объяснить эти непрерывные электрические разряды, которые освещают небо каждую ночь, изо дня в день и из года в год?.. Вообще жаль, что тропическая метеорология плохо еще изучена; а между тем ведь тропический пояс есть лаборатория погоды для всего земного шара, где притом всякого рода метеорологические процессы совершаются с особою силою. Пора в земной физике и в теории электричества перестать играть словами: электровозбудительная сила, потенциал, индукция, полярность и пр., вовсе ничего не объясняющими. Частичную физику сюда на сцену, механическую теорию молекулярных движений и особенно сотрясений да массу ежечасных наблюдений над подобными сотрясениями в воздухе и других газах! Для таких наблюдений Малаккский пролив особенно выгоден.
По мере приближения к Сингапуру общее внимание пароходной публики к окружавшей нас экваториальной природе возрастало. Все бросили свои обычные занятия: дамы — шитье, вязанье и чтение книг, мужчины — игру в диск, писание писем и дневников, козыряние за зеленым столом и пр.; все толпились на палубе и любовались живописным видом архипелага мелких островов, которые окружают сингапурский рейд с запада.
— Хорош ли вид самого Сингапура? — спрашивает меня Шеврье.
— Недурен, — отвечаю я, — но сегодня мы его не увидим с моря, потому что пароход остановится не доходя города, в узком проливе, где находится пристань Борнеоской компании.
— Как же быть, чтобы увидеть город?
— Очень просто: взять на пристани дрожки с зонтиком, да и ехать туда… А есть ли у вас деньги для расплат с извозчиком и в лавках, гостиницах и т. п.? Здесь ведь проходит монетный первый меридиан, и что годилось западнее его, то не годится восточнее.
— Как это так?
— Да очень просто. На Западе, отсюда до Атлантического океана, — пестрая республика фунтов стерлингов, франков, талеров, гульденов, рублей, пиастров, рупий и пр.; отсюда на Восток, через весь Великий океан и Америку, — царство одного доллара, да притом в Азии почти исключительно мексиканского. Вы видите, что это царство занимает едва ли не больше места на земле, чем все франковые и пиастровые республики вместе.
— Как это удобно! Отчего бы, наконец, и всем не принять одного монетного царя?
— Да, конечно, отчего бы? Но что бы тогда делали менялы, банкиры и другие благодетели человечества, торгующие деньгами?
— Где же здесь найти долларов и сколько они стоят?
— Найдете на самой пароходной пристани, но только остерегайтесь: огромная масса фальшивых. В самом Сингапуре, в Шанхае и особенно в Гонконге их фабрикуют в огромном количестве. Если у вас французское золото, то поберегите его до Сайгона: там банк меняет наполеондоры на пиастры почти без лажа {3.35}.
Мы провели в Сингапуре уставные сутки, побывали везде, где обыкновенно бывают туристы, то есть в ботаническом саду, в китайских лавках, в европейской гостинице и пр., и, наконец, отправились далее, сделав запас мангустанов — этого «райского» плода, который по вкусу, конечно, превосходит все другие произведения растительного царства и, к сожалению, растет только в самом соседстве экватора. Ни одна европейская теплица, ни один ботанический сад умеренного пояса не воспитывает мангустанов, да и в самом жарком поясе их можно найти только на полуострове Малакке и соседних Зондских островах. Даже на Цейлоне (7° широты) их нет.
Разумеется, после сингапурской остановки последовала обычная перемена нескольких пассажиров, то есть одни съехали с парохода, другие прибыли на него. В числе последних был один богатый китаец, откупивший для себя одного целую каюту в первом классе, впрочем, только до Сайгона, что не особенно дорого. Высокий ростом, довольно тучный, с большими, наблюдательными глазами, щегольски одетый во все белое, не только надушенный парижскими ароматами, но и умытый парижским мылом, с огромным бриллиантом на перстне, он немедленно обратил на себя внимание всех, тем более что порядочно говорил по-французски.
— Кто это такой?
— А это откупщик опиума в Сайгоне. Французское правительство, соблазняясь тем, какой доход извлекают англичане из продажи ост-индского опиума в Китай, развело и у себя, в Кохинхине, опиумные плантации. Китаец — оптовый скупщик этого опиума, нечто вроде бомбейского Сасуна {3.36}, и, разумеется, очень богат. Одной пошлины с вывозимого им товара поступает в сайгонскую таможню около двух миллионов франков.
— Браво! Вот так гуманизм, на этот раз уже католический и тем более гнусный, что в Европе французы постоянно укоряют англичан за отравление опиумом китайцев!.. Где капитан S.?
Господин S. на палубе, тоже интересуется китайским откупщиком и готов бы порицать и его, и свое правительство; но position oblige {3.37}. Он ведь только что назначен временным начальником французской эскадры в японских и китайских водах и, следовательно, при случае должен будет своими пушками служить интересам откупщика-отравителя. Но как он прежде не раз выражал мне свое негодование на торговлю опиумом, то я без церемонии спрашиваю его: что думает он о данном случае?
— Видите ли, — отвечает он, сильно сконфуженный, — в первые годы утверждения нашего в Кохинхине {3.38} доходы колоний были так малы, что правительство склонилось на представление губернатора: допустить разведение мака в этой стране, запретив, впрочем, продавать опиум дома, а только на вывоз, для чего и отдало последний в руки монополиста, ответственного за соблюдение условия. Потом уже трудно было разрушить раз установленное…
— В особенности, когда оно дает два миллиона в казну, — замечает какой-то немец из Франкфурта или Гамбурга, уже не раз попрекавший французов захватом не только Кохинхины, но даже Эльзаса…
Я заминаю беседу, очевидно готовую перейти в колкости и неприятную для будущего французского адмирала. Ведь грубый немец мог бы этак добраться и до грабежа французами дворца Юань Мин-юань {3.39}, доставившего столько интересных вещиц не только капитану S., несколько непоследовательному, подвижному в своих убеждениях, но и всегда верной себе благочестивой императрице Евгении {3.40}.
В Сайгоне монополиста-китайца встретили с почетом его друзья, не только из «небесных», то есть из его соплеменников, но и из простых смертных в европейских костюмах. Видно, что он — особа. Да, ему принадлежит и самый огромный дом в городе, отчасти занимаемый полицейскою префектурою. Эта префектура, монастырь, губернаторский дом и жандармская казарма составляли в 1869 году, так сказать, редуты {3.41} европейской цивилизации, введенной французами в Сайгоне и вообще в Кохинхине. Думаю, что главным образом благодаря им Сайгон и напоминал собою отчасти наши Варнавин и Аягуз, где прогуливающийся по улицам приезжий думает среди белого дня: верно, жители все ушли на покос или спят после обеда. Деятельный, торговый элемент населения, китайцы поселились в стороне, верст за семь, в посаде Шо-лоне, где мы наблюдали их муравейник; а в самой столице французской Кохинхины оставались несколько тысяч аннамитов в соломенных хижинах да с десяток французских авантюристов, содержавших два-три кафе, плохую лавку со всяким гнильем, цирюльню для бритья местных чиновников и офицеров и кабак для матросов. Были еще в городе солдаты, жившие в каких-то сараях вместо казарм, моряки, для которых стояли на реке несколько полурасснащенных парусных судов, таможенные досмотрщики, крейсировавшие на паровых катерах, и жандармы, важно измерявшие каждого встречного с целью решить вопрос: следует или не следует схватить его за шиворот и представить начальству? Более ничего не было… Какая разница с великолепным Гонконгом, который, однако же, построен на голом, скалистом острове, а не среди плодороднейшей в мире равнины!
Я старался узнать, что сделано французами для умственного развития сравнительно, впрочем, образованных аннамитов, для их сближения с европейцами; но оказалось, что очень немного. Во-первых, губернатор предписал им (это я сам читал в местной официальной газете) строить дома по планам и не иначе, как с разрешения начальства, как у нас было при Николае Павловиче {3.42} по городам; во-вторых, для них заведены были две-три школы, где обучали католическому катехизису и истории Меровингов {3.43}… Одна, впрочем, назначалась для приготовления переводчиков, необходимых французским администраторам из морских офицеров и родственников бюрократии Министерства колоний в Париже; но она плохо преуспевала. И завоеватели сердились, что трудно «цивилизовать» аннамитов, которые-де заражены конфуцианством и предпочитают китайскую грамотность европейской. Полицейская жилка французов также трепетала от негодования, когда аннамиты, во избежание подушных налогов, целыми сотнями записывались в реестры населения под одним именем, которое притом для них ничего не значит, ибо они меняют его раз пять в жизни: при замене молочных зубов настоящими, при достижении половой зрелости, при женитьбе, при назначении на какую-нибудь должность и пр. Французские офицеры и чиновники откровенно сознавались, что, выведи сегодня правительство из Сайгона войска, завтра от французского господства не останется и следа или, пожалуй, одни насмешки.
А поводов к последним немало. Я уже не говорю о Меровингах и катехизисе, преподаваемом последователям Конфуция; это — дело, над которым потешаются и сами французы, не монахи и не патеры. А вот, например, администрация и торговля — занятия серьезные, и которые европейские цивилизаторы не прочь бы монополизировать, чтобы показать азиатам, как их нужно вести. Случилось раз, что китайцы из Шо-лона вывезли с сайгонского рынка весь свободный рис, и адмиралу-губернатору стало нечем кормить солдат и матросов. Как тут быть? В странах, управляемых не бюрократически, дело было бы устроено просто: собрался бы местный правительственный совет, разыскал бы соседний рынок, где есть в продаже рис, и послал бы туда покупщиков с теми самыми деньгами, которые назначались на продовольствие солдат. Легко могло бы при этом случиться, что покупка риса обошлась бы дешевле сметных цен, и тогда администрация торжествовала бы. Но не то бывает и было при французских колониальных порядках. Губернатор-адмирал телеграфировал морскому министру в Париж, что-де «грозит голод солдатам, нужны покупки рису». Министр, долго не думая, то есть спеша удовлетворить телеграфное требование подчиненного, послал телеграмму же в Гавр: «Закупить целый корабельный груз рису и немедленно отправить в Сайгон». Сказано — сделано; деньги заплачены огромные, и через два месяца рис, слегка подмоченный и прогорклый, прибыл в Сайгон. Оказалось при этом, что он воротился на родину, и между туземцами смех был всеобщим… Я тоже улыбнулся этому рассказу, но при этом не мог не вспомнить, что и у нас население южной части Приморской области долго кормилось мукой, доставляемой контрагентом морского ведомства Паллизеном, который привозил ее из Кронштадта. И, в то же время, адмиралы-губернаторы во Владивостоке жаловались, что хлебопашество в русских южноуссурийских колониях не развивалось, ибо колонисты не видели, куда им сбывать свой хлеб. Нужно было, чтобы в край прибыл, из-за 4 000 верст, генерал-губернатор, который, наконец, разрешил покупать для солдат и матросов во Владивостоке хлеб у соседних русских земледельцев в долине Суйфуна.
На пути из Сайгона в Гонконг проливные дожди сопровождали нас почти всю дорогу, причем замечу, что хотя начало каждого сопровождалось небольшим порывом ветра, но самое падение капель совершалось по отвесным линиям, то есть при полной тишине воздуха. Нередко дождь переставал, но солнца мы не видали за сплошной массой облаков. На поверхности моря мы не раз замечали широкие полосы плавучих водорослей или чего-то вроде желатина, слизи — «протоплазмы», как шутя говорил один спутник, голландец Герст, не совсем веривший в нахождение последнего вещества в природе. По этому поводу у меня с ним завязалось довольно тесное знакомство, которое поддерживалось и впоследствии, в Нагасаки, где он был врачом при японской больнице и вместе наставником юношества по математике и химии. Как кровный голландец, он любил науку, но любил и металлы, притом не столько тунгстеп {3.44}, молибден и стронций, сколько золото и серебро, принадлежащие к иной химической группе. Впоследствии он написал любопытную книгу о Японии; но, вероятно, полюбил эту страну не с одной химической точки зрения, а и с экономической, потому что услуги его ценились там хорошо. Должно было привлекать его к этой стране и другое обстоятельство: для скорейшего изучения японского языка он, немедленно по прибытии в Нагасаки, завел учительницу, довольно красивую мусме {3.45}, которую нанял сначала на год, но которая, вероятно, удерживала его при себе и потом. Таковы уж обычаи европейцев в стране восходящего солнца, не лишенные интереса и в антропологическом смысле, ибо они создали среди сплошь черноглазых и черноволосых японцев новую расу, рыжеватую, иногда почти совсем белокурую.
Между Сайгоном и Гонконгом мы встретили пароход «Тигр», принадлежащий той же компании «Des Messageries Francaises». Произошел обмен каких-то сигналов, и через несколько минут капитан «Камбоджи» сообщил мне, что на «Тигре» отправляется в Европу русский посланник в Китае, Влангали. Это известие напомнило мне родину и заставило болезненно сжаться сердце. Я рассчитывал на генерала Влангали как на единственное лицо на крайнем Востоке, которое могло мне покровительствовать в моих работах; он ведь был ставленником и даже другом Е. П. Ковалевского {3.46} и слыл за человека хорошего, не теснившего соотечественников, как это делают все русские дипломаты за границею, а помогавшего им по мере возможности. И его положение в Пекине как старшины европейского дипломатического корпуса, очень уважаемого как европейцами, так и китайцами, обеспечивало мне возможность увидеть и узнать многое, что непременно должно было ускользнуть от меня при других условиях. И кто-то его заменил? И надолго ли? У нас всякая soi-disant {3.47} самостоятельная деятельность, то есть не простая переписка бумаг, так зависима в действительности от произвола и вкуса ближайшей по месту власти, что будь семи пядей во лбу — ничего не сделаешь, если эта власть вздумает противодействовать, особенно исподтишка, дипломатически или по-штабному, то есть с улыбкою на устах и с фразами сочувствия на языке…
С самого почти Сайгона мы следовали на северо-восток, сначала в виду берегов Индокитая, и раз ночью увидели город с довольно ярким уличным освещением. Это, конечно, был Биньтуань, и мы сначала были удивлены такою вовсе не азиатскою роскошью, как множество уличных фонарей, которые одни могли производить виденный нами отблеск освещения в воздухе; но оказалось, что это были огни рыбаков, которые во множестве плавали по бухте и в устьях реки, ловя рыбу в тихой воде острогами, так как рыба шла на огонь. Через сутки после этого мы различили на севере, в тумане, остров Хайнань. Это уже передовой пост Китая, а стало быть, недалеко начало моей деятельности — не книжной, которой я предавался в Петербурге и во все время плавания, а наблюдательной и разыскивающей действительность. Видя по карте, что мы идем скорее, чем можно было ожидать по расписанию движения, я спросил капитана, когда мы будем в Гонконге. Он отвечал, что часами двадцатью раньше, чем следовало бы, потому что находившийся у нас на пароходе временный начальник французской эскадры в китайско-японских водах пожелал сделать из Гонконга поездку в Кантон, чтобы посмотреть, в каком виде находится там европейская колония после войны 1857—1860 годов, во время которой Кантон был, правда, взят и разграблен союзниками, но от которой досталось и европейским факториям. Для такой поездки нужно на местном пароходе около тридцати часов времени, а если осматривать город, то и больше; но так как мы должны были простоять в Гонконге по расписанию сутки и имели еще двадцать часов, выигранных на переходе от Сайгона, то нечего было опасаться опоздать возвращением на «Камбоджу». Я немедленно условился с начальником французской эскадры ехать вместе, что было тем выгоднее для меня, что почтенный капитан S. бывал уже в Кантоне в 1857 году, при разгроме его, и мог мне дать самые обстоятельные сведения о его укреплениях и о порядке овладения им. С его стороны любезность простерлась так далеко, что он предложил мне дать из французского консульства (или духовной миссии, не помню уж теперь) проводника по Кантону, знающего французский язык. Этого мне потом никогда не удавалось получить ни от русских консулов, ни от русского поверенного по делам, несмотря на данные им свыше предписания о всяческом содействии мне! А консул в Тяньцзине, Скачков (старый знакомый по Западной Сибири), отказал мне даже в такой простой вещи, как содействие к осмотру строившегося там порохового завода, и я получил это содействие от американского представителя Медоуса, вместе с двумя янками.
II
Мы прибыли в Гонконг довольно рано поутру и через полчаса уже плыли на высоком, американской системы пароходе по направлению к Bocca-Tigris {3.48}, то есть к устью Кантонской реки. Было время, когда эта «Тигровая пасть» была очень страшна, потому что с обеих сторон была обставлена пушками, на которых, положим, литейщиками-иезуитами нередко вычеканивалась по-латыни христолюбивая надпись: «Иисус — спаситель мира», но которые могли не пожалеть даже самых преданных последователей христианства. С 1860 года эта опасность уничтожилась: англичане обязали китайцев не восстанавливать батарей, разрушенных союзниками в 1857 году. Итак, Кантон ныне открыт для нападений с моря, если только китайцы не вздумают накласть в русло реки и многочисленных ее рукавов подводных мин. Мы миновали сначала архипелаг мелких, но высоких островов, рассеянных по морю перед дельтою Кантонской реки и на картах редко отличаемых от низменных островов, образующих самую дельту; потом прошли в Восса-Tigris, достигли Вампу и, повернув на запад, подошли к самому Кантону и лежащей около него, на острове, «европейской концессии», или кварталу, населенному европейцами и американцами. Число их в это время было уже невелико, потому что крупные негоцианты предпочитали жить в Гонконге, а в Кантоне водворены были приказчики да миссионеры. Так как временем нужно было дорожить, то я немедленно взял рекомендованного проводника, паланкин с носильщиками и отправился в путь. Соображая, что в эту пору года (июнь) день в Кантоне оканчивается в семь часов, я надеялся увидеть значительную часть города и коснуться северной и восточной части его стены, которую штурмовали англо-французы. И ожидания мои не только оправдались, но были превзойдены. Долговязые и хотя худощавые, но мускулистые носильщики ходили крупной рысью, так что, измерив потом по плану пройденное ими расстояние, я убедился, что они делали около семи верст в час. Остановки были самые кратковременные: только чтобы дать проводнику время указать предмет, заслуживавший внимание, а мне — взглянуть на него снаружи и очень редко внутри, лишь бы убедиться, что имевшееся у меня описание из «Treaty Ports» {3.49} соответствует современности. Я вообще должен сказать, что эта превосходная книга да еще «Путешествие» Девэ, сделанное лишь за три-четыре года до меня, были мне преполезными пособиями, только, к сожалению, не по моей специальности, то есть военной части. Для последней все приходилось добывать личным трудом, за что, впрочем, я и благодарен судьбе, потому что, вследствие этих личных обзоров, я приобрел большой навык в короткое время узнавать многое, да не только узнавать, а и запоминать раз навсегда[42]. Для Кантона у меня был еще ментором капитан S., который хотя и не сопровождал меня во время осмотра, но объяснил потом все, что могло интересовать меня с военной точки зрения. Оттого мое описание этого города вышло довольно объемистым и составило мой первый отчет в Главный штаб. Отчет этот, правда, не был никогда обнародован, но я его видел, по возвращении моем с Востока, в канцелярии военно-ученого комитета; только куда он, да и многие другие донесения мои девались потом — не знаю. Чиновник Барун, заведовавший этой канцелярией, тоже объяснить мне этого не мог… или не хотел. Быть может, об этом когда-нибудь и что-нибудь скажут генералы Обручев и Фельдман. Полковник же Гельмерсен, я знаю, читал мои донесения и, письмом в Шанхай, предлагал мне даже немедленно печатать их в «Русском инвалиде» и «Военном сборнике», с уплатою гонорара; но предложение это вовсе не было осуществлено до самого моего возвращения в Петербург, когда некоторые из моих рукописей я уже сам передал редактору, генералу Менькову, да и то списав их с черновых, у меня сохранившихся, а не с беловых, штабных.
Кантон некогда был богатейшим городом Китайской империи. Об этом свидетельствуют Стаунтон и все другие путешественники XVIII и первой половины XIX столетий. В 1869 году это было уже не так. Открытие европейцами, по Нанкинскому миру 1842 года {3.50}, Шанхая и других северных портов нанесло первый и очень сильный удар столице двух Куанов {3.51}, а война 1856—1860 годов довершила ее падение. За кантонцами осталась слава первостепенных торгашей и ремесленников; но достатки их сильно уменьшились с уничтожением монополии на внешнюю торговлю. Особенно же вредит Кантону соседство Гонконга: там, на почве «свободного обмена», цветет контрабанда, рядом с которой никакая правильная, то есть легальная, торговля невозможна. А тут еще пиратство в устьях Кантонской реки, откровенно поддерживаемое англичанами из того же Гонконга. Это пиратство нисколько не опасно для больших английских пароходов, посещающих Кантон; но оно очень опасно для китайских джонок, которые не могут бороться с разбойниками, всегда хорошо вооруженными винтовками и даже пушками, купленными в том же Гонконге. (Кажется, что оно не совсем исчезло и теперь, когда центр его, Тонкин, стал французским владением.)
В Кантоне мне впервые удалось видеть образец плавучего города. Хотя я знал о его существовании еще со школьной скамьи, но не имел верного понятия о его наружности, считая самое название города метафорою. Между тем в действительности это настоящий город, вроде Венеции, только без домов и площадей на сваях, а исключительно из лодок, стоящих почти плотно одна к другой. Есть улицы и кварталы, есть своя полиция, свое право собственности не только на лодку со всем, что она содержит, но и на известное место на реке. Китайцы на своих лодках держат и живность, особенно уток и кур, яйца которых частью едят, частью употребляют на вывод цыплят. Да они и своих детей родят и воспитывают там же, из поколения в поколение.
По возвращении в Гонконг мы увидели, что впереди у нас остается еще несколько часов времени, и потому, естественно, отправились в город, на этот раз многочисленным обществом. Нам советовали даже и не разделяться на мелкие кучки, а тем более не ходить в одиночку, по крайней мере в китайской части города, то есть на девяти десятых его протяжения. Китайские «дельцы», населяющие Гонконг, знамениты своими воровскими и даже разбойничьими проделками. Одинокого европейца, если он не вооружен порядочно, они останавливают среди белого дня на улице, бросают ему в глаза табаку, обирают и потом скрываются. Никто из соседних лавочников в свидетели грабежа не пойдет; напротив, все будут утверждать, что никакого подобного события не было на их улице. Мало того, иногда они завяжут ограбленному глаза и рот, выведут его за город, да и бросят где-нибудь в стороне от дороги: ищите, мол, разбойников где хотите. Даже в самом Гонконге, то есть в европейской части города, они сумели обокрасть банк, проведя издали, в каменистом грунте, подземный ход в кладовую и вытаскав по нему огромные суммы в серебре, то есть металле довольно громоздком и тяжелом. Для производства последней операции они воспользовались воскресеньем, когда все английские банки и конторы бывают заперты и совершенно пусты. Были ли участниками в этом монументальном воровстве китайские компрадоры, то есть счетчики банка, никогда не было дознано. Англичане знают китайцев хорошо и соответственно тому обходятся с ними. Как только смеркалось, ни один китаец не смеет показаться на улице без фонаря и без билета от полиции; а последний выдается только домохозяевам и ими может быть передаваем на время лишь жильцам их домов в случае крайней надобности, например, для выхода за лекарством или врачом. На городской пристани, где все лодочники — китайцы, полиция, в предупреждение воровства с их стороны, приказывает им держаться на их лодках в нескольких шагах от берега и только тогда дозволяет коснуться последнего, когда торг с нанимателем сампана (лодки) кончен в присутствии полицейского агента, а принесенные нанимателем вещи сложены у самого места нагрузки, откуда носильщики немедленно прогоняются… При таком порядке вещей естественно возникает вопрос: зачем же англичане позволяют жить китайцам в Гонконге, и притом в огромном числе — 115 000 душ на 2 500 европейцев? А это уже коммерческий расчет! Помощью этих-то «небесных» (celestials) негодяев {3.52} совершается большая часть нечистых дел, которыми обогащаются английские купцы-князья, дворцы которых составляют европейский квартал города и которых именитейшие представители заседают уже в британском парламенте. Гонконг, как и Сингапур, есть один из важнейших мировых центров контрабанды и даже пиратства, а местные китайцы суть главные агенты по производству этих благородных промыслов, во славу of the christian civilisation. Только бы эти китайцы не делали мерзостей британскому населению города, а там пусть творят что хотят! Если же некоторые из них по неловкости попадутся, так что скрыть дела будет нельзя, то можно немедленно повесить их десяток-другой: перед этим здесь, как и в голландских колониях Зондского архипелага, не останавливаются, благо китайцев много, счета им никто не ведет и заступиться за них официально некому.
Меня очень интересовали в Гонконге Абердинские доки, выстроенные из гранита и служащие местом всяких исправлений и снабжений для английской эскадры в китайско-японских водах, которая в 1869—1870 годах достигала до 24 судов, в том числе нескольких броненосцев. Но время не позволило мне побывать там, ибо эти доки лежат вдалеке от города; да и доступ туда иностранцам, не принадлежащим к командам чинимых судов, затруднителен. Зато я мог посетить превосходный английский морской госпиталь, который помещен на трех больших старых кораблях, стоящих на якоре против самого города. Опрятность, чистота воздуха и даже свежесть его в больничных каютах поразили меня. Английские матросы и солдаты во время болезней помещаются едва ли не лучше, чем русские офицеры в наших пресловутых военных госпиталях, где и здоровый человек в два-три дня пребывания может легко заболеть. Как это достигнуто в жарком климате Гонконга, я не вполне понимаю; но очевидно, что система наружных галерей (балконов или веранд), — завешенных легкими бамбуковыми шторами, которые, не пропуская солнечных лучей, дозволяют, однако же, воздуху проникать всюду, — играет тут главную роль. Лед, как привозимый с Аляски, так и приготовляемый искусственно в самом Гонконге, также служит к немалому облегчению страданий больных, особенно лихорадочных и горячечных. Наконец, важным условием скорого выздоровления больных служит простор их размещения и возможность выходить из больничной палаты на верхнюю палубу, где, под полотняным навесом, можно прогуливаться, играть в шашки, читать или просто беседовать с товарищами. Плавучий госпиталь есть предмет особенного внимания и забот как губернатора Гонконга, так и адмирала, командующего флотом в Китайском море, и это не на словах или на бумаге, как бывает у нас, а на деле. Смертность в госпитале очень мала; гораздо меньше, чем даже в санаториях английской Индии.
Ну, а опиум, создавший величие и богатство Гонконга, где же он?.. Его уже почти нет или по крайней мере есть не больше, чем в Шанхае, Кантоне, Фучжоу и других открытых китайских портах. От времен, когда Гонконг пользовался монополией опиумной торговли, остались только великолепные памятники в виде дворцов Дента, Джардиня, Росселя и других отравителей Китая, да из этих дворцов первый, то есть, Дентов, обращен в гостиницу. Обширный дом Джардиня с великолепным парком, разведенным на голых некогда скалах, красуется несколько в стороне от города; но сам хозяин его живет в Лондоне и состоит членом парламента, как и товарищ его по фирме, Матисон. А сын великого отравителя, который держал тринадцать клиперов {3.53} для развозки контрабанды по китайским портам, уже принадлежит к сословию ученых и составил себе известность путешествиями в Австралию. Дома Джардиня, Росселя, Герда и пр. имеют свои отделы почти во всех портах Китая и Японии. Это ведь, собственно говоря, паевые товарищества, где всякий приказчик или конторщик, если, по испытании, найден надежным, получает пай или становится associe {3.54}. В этом безвестном звании он может сделаться богачом и потом стать основателем собственной фирмы; но обыкновенно этого не бывает, а разбогатевший пайщик только становится официальным представителем своего «дома» в одном из портов и тогда великолепно живет и пользуется почетом между собратьями, торговыми parvenus {3.55}. Чтобы достигнуть этого величия, нужно только не кутить смолоду и быть «хорошим», то есть плутоватым и наглым, приказчиком; затем два-три хороших надувательства китайцев или даже европейских собратьев — и репутация дельца установлена. Его ищут, как гения, для руководства делами какого-нибудь банка или огромной торговой фирмы, пароходной компании и т. п. Я знал потом одного такого «почетного» афериста в Шанхае. Он два раза спасался в Америку от расчетов за его коммерческие мерзости, но оба раза был выписываем снова в Китай, как «умнейшая голова», знавшая, кого, когда и на сколько можно обобрать безнаказанно. В шанхайском отделении «Hong-Kong and Shangai bank'a» {3.56} он был чуть ли не директором, и грудь его была украшена одним иностранным крестиком, потому что он был в то же время чьим-то вице-консулом, или, как говорилось, chargè des affaires {3.57} одного посольства, чинам которого платил по 18 процентов годовых за вверяемые ему на текущий счет их капиталы… Другой подобный коммерческий гений — уже не из янок, а из макаоских португальцев — привел к банкротству колоссальный дом Дента и, ничего, продолжал пользоваться уважением торгового мира! О коммерсантах из евреев, вроде Сасуна и Ландштейна, или персов, вроде Фрамжиев, Новроджиев и пр., я уже не говорю: это народ, при приближении к которому нужно зашивать карманы, если в них что-либо есть. Это они-то доныне отстаивают теорию, которую так наивно высказал в английском парламенте бывший гонконгский губернатор Джон Боуринг, что «опиум — это предмет роскоши у китайцев, как у нас табак или херес: зачем же воспрещать его продажу, в ущерб бюджету Индии?».
Я запасся в Гонконге кое-какими книгами и картами, которых мне недоставало, и вечером, на самом заходе солнца, мы двинулись в путь. «Камбоджа» значительно опустела, потому что с нее сошли все пассажиры, ехавшие в Гонконг, Кантон, Макао, Манилу и северокитайские порты. Для последних был назначен особый пароход той же компании «Messageries Francaises», который и шел за нами следом, пока в Формозском проливе не отделился от нас на запад, тогда как мы держали курс на северо-восток. Формозский пролив не без основания пользуется дурной репутацией между моряками: подобно Ла-Маншу, он вечно в волнении от ветров. Но еще хуже репутация Китайского моря, начинающегося по выходе из него: тут находится область знаменитых тайфунов, которые приводят иногда море в состояние бешенства или кипения, без всяких признаков правильности в направлении огромных пенистых волн. Наш капитан часто заглядывал на барометр и в книгу Пиддингтона о теории штормов, иногда покачивал боязливо головой, но вообще вел корабль твердой рукою. В этом отношении нужно отдать справедливость компании «Messageries Francaises»: не пожалев денег на жалованье капитанам, она привлекла к себе на службу лучших офицеров французского флота, и оттого с ее пароходами случается гораздо меньше несчастий, чем, например, с судами английской «Peninsular and Oriental Company» или американской «Pacific Mail Steamship Company» {3.58}. Впрочем, сомнения нашего осторожного командира не оправдались: штиль сопутствовал нам от берегов Формозы до самого почти входа в Вандименов пролив. Мало того, с приближением к последнему нас охватил такой туман, что нужно было сначала уменьшить ход, а потом и вовсе повернуть на запад, чтобы не наткнуться на скалы, которые лежат в соседстве пролива. Благодаря этим слишком уж осторожным маневрам мы потеряли целых десять часов, но зато, когда погода прояснилась, имели удовольствие видеть себя вдали от опасности. Скоро я мог показать Шеврье и другим спутникам превосходный, чисто геометрический конус пика Горнера, и затем мы уже вообще начали следить за живописными берегами Японии, которые от времени до времени появлялись на горизонте, иногда очень близко от нашего пути. «Quel beau pays!» {3.59} — было почти постоянным и всеобщим восклицанием, к которому присоединилось и другое: «Какой приветливый народ!» — когда мы перед входом в Иедоский залив увидели несколько японских лодок, находившиеся на которых рыбаки любезно раскланивались с нами. Да, есть огромная разница в темпераментах и обычаях трех соседних наций: японской, китайской и малайской, несмотря на то, что они часто живут и издавна жили в тесном соприкосновении, подчинялись влиянию одного и того же буддизма, одной и той же китайской грамотности и плавали по одному и тому же морю на одинаковых джонках.
Но вот и Иокогама, с целым флотом судов перед ней и с построенным на холме домом английского посольства над ней. Ведь это уж самый «крайний Восток»; ехать далее некуда. В прежние, поэтические времена сколько бы радостных чувств излилось по этому случаю, а теперь даже поэт Колон, лет 19 от роду, занимается в минуты окончания 45-дневного странствования чем же? — сведением счета расходов от Марселя!.. Правда, он швейцарец и приехал в Японию сколотить капитал продажей и починкой часов. А о Шеврье и говорить нечего: он стал серьезен и больше всего интересуется тем, какие цены на шелк стоят в Иокогаме и как велик будет учет в местном отделении «Учетной конторы».
По приезде в Иокогаму, как ни был я доволен концом полуторамесячного плавания и достижением первой цели путешествия, я не мог не поставить себе еще раз вопроса: что меня ожидает тут и позднее в других местах, где предстояло мне жить? Так как в Иокогаме и Иедо {3.60} не было русской миссии, ни даже консульства, то я становился единственным русским, обитающим вблизи японской столицы, без всяких практических занятий. Затянись такое пребывание надолго, и подозрение в том, что я — тайный русский агент, попросту a russian spy {3.61}, непременно укрепилось бы, как в иокогамских европейцах, так и еще более в японцах; а такое подозрение было бы слишком для меня невыгодно, даже опасно ввиду того, что еще недавно японцы вырезывали неприятных им европейцев, а со мной могли расправиться тем легче, что за меня некому было бы заступиться. Вот почему положил я себе на этот раз не жить долго в Иокогаме, а, познакомившись с начинавшимися у японцев военными реформами и с ходом продолжавшейся еще у них междоусобной войны, уехать в Шанхай и Пекин. Полагаю, что это решение было благоразумно, хотя и опрокидывало мой первоначальный план, по которому первый год моей командировки я полагал посвятить Японии, а второй Китаю. Итак, на другой же день по моем водворении в «Hôtel des Colonies» {3.62} начал я искать способов ознакомиться: 1) с современным японским государственным устройством и 2) с состоянием флота, войск и военных учреждений в Японии. На первый вопрос, к сожалению, ниоткуда удовлетворительного ответа я получить не мог. Ни иокогамские европейцы-купцы, ни иокогамские английские и американские журналы «Japan Herald» и «Japan weekly Mail» {3.63}, ни даже дипломатические и консульские чиновники, с которыми удалось познакомиться[43], ничего определенного не знали сами. Им, конечно, было известно, в общих чертах, что тайкунат опрокинут и микадо сам взялся за управление государством, но и только {3.64}. Чем заменен многовековый феодальный строй и заменен ли еще чем? кто наиболее влиятельные лица около микадо? и как зовут его самого? и что он за человек? — я ни от кого узнать не мог, хотя много было в Иокогаме лиц, видевших, как микадо был пронесен через Канагаву в Иедо в золоченом домике, или клетке, с наглухо завешенными окошками. Иные, видя под редкими заявлениями правительства подпись Даи-зиокан, думали и уверяли меня, что это — официальное имя микадо, подобно тому, как в Китае богдыхан Жень-ди официально назывался Кхан Си и с последним именем перешел в историю; настоящего же собственного имени микадо никто не знал, ибо таков был древний обычай в Японии — скрывать священное имя главы государства от подданных, чтобы не подвергнуть его профанации. Кое-что, да и то смутно, узнал я о роли в японской революции Сацумы, Тозы, Нагато, Айдзу; упоминали передо мной имена Санжо-дайнагона и Ивакуры-цюнагона {3.65}; но какой исход имела их деятельность, — мне никто объяснить не мог. Лето 1869 года вообще было смутной, переходной эпохой в японской истории.
Скоро, впрочем, разнесся слух, что последние защитники тайкуната, находившиеся в Хакодате под предводительством адмирала Еномато, взяты в плен и что, следовательно, междоусобная война кончилась. При этом рассказывали, что во время борьбы двух сторон войска микадо, видя, что их противникам нечего есть, посылали им продовольствие и что, когда зашла речь о сдаче тайкунцев, почти поголовно израненных, то им дозволено было сначала израсходовать все патроны, чтобы сохранить военную честь. Эти два рассказа казались сначала анекдотами, но они были подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев и дали мне высокое понятие о рыцарском духе японского народа и, в частности, сословия саймураев {3.66} (шляхты), из которого тогда формировались войска как микадо, так и сиогуна.
Около Иокогамы, несколько севернее ее, были казармы одного батальона победителей; и когда он, наконец, вернулся с театра войны, то я пошел посмотреть жилища, служебные порядки и ход военного образования героев. Оказалось, что по отношению к помещению все европейские солдаты, кроме английских, могли бы позавидовать японцам, потому что эти помещения были необыкновенно опрятны, достаточно просторны и пользовались совершенно чистым воздухом. Последнее, впрочем, неудивительно, потому что в Японии и самая невзрачная хижина крестьянина-бедняка проветривается отлично, благодаря обычаю иметь днем все двери настежь; но казармы, благодаря присутствию в них множества людей и особенно их одежды и амуниции, в целом свете (опять-таки, кроме Англии и ее владений) отличаются известным запахом, и вот этого-то запаха не было в иокогамских. Постелями солдат служили, как везде в Японии, широкие нары, днем прикрытые одними бамбуковыми циновками, чрезвычайно чистыми, а ночью — войлочными и ватными подстилками и одеялами, которые хранились в самих нарах. Вместо подушек были обычные у японцев скамеечки или обрубки дерева с выемкой для головы; они тоже днем сохранялись внутри нар. Так как казармы были разделены на мелкие комнаты, человек на десять каждая, то сохранение постелей, запасной одежды и других вещей не требовало сундуков с замками, потому что однокомнатные товарищи хорошо знали друг друга, и воровство между ними было неизвестно. Оружие и амуниция висели на стенах, у изголовья каждого солдата; другие вещи, если имелись, находили себе место в небольшой мансарде, которая обычна во всех японских домах и иногда служит жилищем-спальней для стариков и детей, а у солдат заменяла кладовую. Ранцев — этого ярма европейских воинов — у японских не было вовсе. Одежда их состояла из сюртука и панталон легкой черной шерстяной ткани без всяких кантов, обращающих военный мундир в ливрею. Она была настолько широка, что не теснила солдата при самых трудных движениях. Обувь, по дороговизне европейской, была японская, то есть сандалии и чулки; головной убор — картуз того фасона, как у моряков, то есть невысокий цилиндр (а не безобразный и вредный конус, как в кепи) с плоским козырьком. Он прикрывал, в большей части случаев, нелепую японскую прическу с сосискою из волос; но встречались уже солдаты, стригшие волосы по-европейски. Самое небольшое количество галунов служило для отличия офицеров и унтер-офицеров от солдат; о бессмысленных эполетах, разумеется, не было и речи. Амуниция состояла из двух патронных сумок, поясной и через плечо, да национальных сабель — неизбежного еще остатка шляхетных традиций, с которыми расстаться саймураи не соглашались, как с символом их дворянского достоинства. Ружья у иокогамского батальона были системы Снайдерса; но в других, как мне говорили, были употребляемы и иные системы, потому что японское правительство, по незнанию военного дела и неимению собственных оружейных заводов, покупало тогда всякое скорострельное оружие, какое доставляли ему европейские купцы в Иокогаме и Нагасаки. Поддержка оружия в исправности оставляла желать многого, так как японские солдаты не забывали, что они — саймураи, то есть благородные, и чисткой занимались неохотно. Учебная стрельба производилась редко, вероятно по недостатку или дороговизне патронов; самые фронтовые учения не были часты, гораздо реже, чем у нас или в Пруссии; оттого фронт не был щеголеват. Зато караульная служба составляла упражнение постоянное и приучавшее солдат к одним из главных трудностей военного дела: перенесению устали и к бдительности.
Наблюдая занятия японских солдат во время караулов, я не без удовольствия заметил, что те из них, которые не стояли на часах, а оставались в караульном доме, не предавались азартным играм, спанью или выпивке, как у нас, а предпочтительно читали книги или просто беседовали. Конечно, тут многое могло зависеть от устава, запрещающего те или другие развлечения и дозволяющего лишь известные; но мне не раз приходил в голову, и притом совершенно серьезно, вопрос: когда-то русские солдаты будут в караульных домах заниматься чтением, а не битьем друг друга по носам картами, игрой в орлянку или курением вонючей махорки? Двадцать пять, пятьдесят или сто лет потребуются для такой перемены нравов? И я готов был отвечать сам себе: пожалуй, более ста, потому что в это время граф Д. Толстой {3.67} употреблял все меры, чтобы «мужичье» оставалось безграмотным. С другой стороны, меня занимало то обстоятельство, что в японской армии вовсе не было и помину о телесных наказаниях, хотя бы расштрафованным, а между тем солдаты вели себя примерно: ни драк, ни буйств, ни воровства, ни нарушений дисциплины, сколько-нибудь выдающихся. Самым жестоким наказанием за порочное поведение было изгнание из роты или батальона по приговору товарищей. При мне был один такой случай в Иокогаме, не знаю уж, чем обусловленный. Провинившийся и осужденный плакал, как ребенок, валялся по земле, умоляя сослуживцев о прощении, но все было напрасно. С него сняли мундир, оружие и выпроводили за калитку казарменного двора, не нанося ему, однако, ударов. Так по крайней мере мне рассказывал очевидец.
Наравне с ознакомлением с японской армией я старался ознакомиться с путями ее перемещения в случае войны. Оказалось, что главный из них — морской, как оно и естественно и даже выгодно в стране, омываемой морем и раздробленной на множество островов. Чтобы пользоваться им независимо от иностранцев[44], японские даймиосы, или удельные князья, накупили множество пароходов и даже парусных судов европейской постройки, а правительство бывшего сиогуна Хитоцу-баси (Стоцбаши) приобрело даже броненосец, из числа распродававшихся американцами после междоусобной войны в Соединенных Штатах. Денег на это было истрачено массу и часто вполне бесполезно, потому что европейцы продавали всякую дрянь, слегка лишь покрасивши корпус судна, другой раз совершенно гнилого. Да и японцы были несведущи в мореплавании по-европейски, особенно на пароходах. В Иокогаме все помнили, как они, пустив в ход машину на первом купленном ими пароходе, не умели ее остановить и потому все делали круги по рейду и, наконец, подали сигнал об опасности, к общему смеху европейцев, стоявших на берегу и на палубах кораблей, бывших в порту. Итак, морской путь для перевозки войск был хоть и главный, но не всегда надежный, а при войне с какой-нибудь сильною морскою державою и просто невозможный. Нужно было обратить внимание на дороги сухопутные, и я занялся их изучением и, во-первых, с точки зрения проходимости для войск всех родов оружия. Оказалось, что даже пресловутые семь больших дорог (Токаидо, Ханкаидо и пр.) не везде годны для движений кавалерии и артиллерии, потому что на них, как и на всех прочих, в гористых частях края встречаются лестницы, доступные только пешеходам. Это было повторением системы шоссейных дорог, построенных по другую сторону Тихого океана — в Перу, инками и так затруднявших движение конницы Пизарро и Альмагро. О мелких, проселочных дорогах нечего и говорить: они в Японии сплошь и рядом обращаются в лестницы, хотя устроены с немалыми издержками на камень, часто даже плитняк, которым вымощены. Большие дороги по большей части обставлены рядами деревьев, предпочтительно хвойных, которые не теряют листвы зимой. При разнообразии форм и цвета этих деревьев это делает японские дороги очень живописными, а в жаркое время доставляет путникам и прохладу; но зато в дождливую пору не позволяет грязи высыхать с достаточной скоростью. Мосты, где они есть, почти все деревянные, очень выпуклые в средине и узкие; но на больших реках переправы делаются предпочтительно на паромах, а иногда и вброд, причем у перевоза всегда есть толпа носильщиков, опытных в деле и хорошо знающих русло реки. Японские паромы обыкновенно невелики. Не нужно забывать, что в Японии, как во всякой гористой стране, иногда даже ничтожнейшие ручьи так вздуваются от дождей, что переправа через них становится невозможной.
Большую часть всего сейчас сказанного мне легко было узнать по личным наблюдениям вокруг Иокогамы и Иедо и из книг европейских путешественников, проникавших внутрь страны, от Кемпфера до Олкока. Но иное было дело относительно направления дорог, так как все европейцы, бывавшие в Японии, путешествовали почти постоянно лишь по одной линии из Осаки в Иедо — по так называемой Токаидо, с придачей еще небольшого пространства от Кокуры до Нагасаки на острове Кюсю. Даже у Зибольда сведения по этой части очень несовершенны, а все прочие путешественники по Японии, кроме Кемпфера, видимо, пренебрегали этой, конечно очень сухой, но важной частью географии. По счастью, у японцев есть немало карт специально дорожных, а между географическими находятся столь значительного масштаба (например, Ино, 10 1/2 верст в 1 дюйме), что нет особого труда отыскивать важнейшие пути по стране. Я немедленно купил целую коллекцию этих карт и отправил их в Петербург, присовокупив и таблицу расстояний между важнейшими городами Нипона и Кюсю. Для составления последней, которая в печати заняла потом всего одну страницу, пришлось работать более недели, так как нужно было сначала списать маршруты по кратчайшим путям, перевести японские ри в версты и сделать массу сложений, а иногда еще брать расстояния с карт циркулем по масштабу, так что для какой-нибудь одной цифры, потом исчезавшей в ряду других слагаемых, тратилось нередко пять-шесть минут времени, не говоря уже про плату переводчику, работавшему по часам.
Покупая японские карты, не мог я обойти и планов хотя бы важнейших городов: Иедо, Осаки и т. п., которые все составлены японцами очень тщательно и отлитографированы иногда с изяществом. Вообще любопытно, что хромолитография очень развита у японцев и приложение ее к картографии сделано ими едва ли не раньше, чем европейцами. Можно иногда упрекнуть их в излишней яркости красок, в неудачном выборе условных знаков, слишком грубых и не довольно вразумительных; но сказать, что японцы не умели литографировать карт, никак нельзя. Да не только литографировать, а и составлять, что гораздо труднее, потому что требует знания геодезии и топографии. Полагаю, что на всех японских картах астрономические пункты нанесены по европейским определениям главным образом Крузенштерновым {3.68}; но все, что внутри береговой линии, конечно, основано на японских съемках. Эти съемки были отчасти маршрутными, отчасти кадастровыми, но не топографическо-инструментальными; оттого горизонтальные очертания рек и дорог по большей части верны, а ситуация плоха да в придачу еще испорчена рисованием гор в полуперспективе, а не в плане.
Покупая карты в магазинах, где вместе с тем продаются и картинки, не мог я, разумеется, не обратить внимания на последние. Их рисунок и окраска известны всем, но не все обращают внимание на две особенности японской хромолитографии, да и живописи, которые, однако же, очень замечательны. Первая состоит в необыкновенном уменье художников представлять падающий снег и дождь, чего европейские артисты, даже первоклассные, делать не умеют. Вторая особенность, тоже техническая, но в другом роде, состоит в уменье японцев приготовлять цветные эстампы, сжимающиеся или растягивающиеся. Вы покупаете картинку вершка в четыре длиной и вершка три шириной, отпечатанную как будто на крепе или шагреневой, матовой бумаге; потяните ее — и поверхность ее удвоится, утроится, даже учетверится, с сохранением полной пропорциональности частей рисунка и взаимных отношений теней и красок. Вы можете наклеить вашу картину в таком растянутом виде; но если перестанете ее растягивать, она сожмется почти до прежнего объема. Как это достигается, я не знаю, но несомненно, что для подобных картинок приготовляется особая бумага из очень крепких, растяжимых, но упругих волокон. Шагреневая же поверхность может сообщаться и прессованием уже отпечатанной картинки, как то делается с японскими крепами или кисеями.
Изучение японской картографии, а вместе и географии, не мешало мне заниматься и статистикой Японии. На первый раз я избрал предметом изучения японскую внешнюю торговлю, быстрое развитие которой составляло самый выдающийся факт из экономической истории страны. Шеврье помог мне своими связями в иокогамском коммерческом мире; из торговой палаты я достал ведомости привоза и вывоза; новые знакомцы-купцы пояснили мне обычный ход их негоциаций с японцами, значение на японском рынке разных предметов привоза из Европы и Америки и значение для Европы и Соединенных Штатов некоторых статей отпуска, например, шелка, яичек шелковичных червей, чая, лакированных изделий и пр. Нетрудно было заметить, что японская внешняя торговля совершенно изменилась не только по объему, но и по характеру с того еще недавнего времени, когда единственными европейскими торговцами в Японии были голландцы, содержимые почти под арестом в Дециме. Европейско-американские купцы теперь командовали рынком, несмотря даже на то, что работали каждый про себя, тогда как у японцев все делалось с общего согласия. Имея в своем распоряжении морские перевозочные средства, которых совершенно лишены еще были японцы, английские, американские и французские торговые дома ставили цены, определяли размер ввоза так, чтобы рынок был далек от переполнения европейскими продуктами, и делали все возможное, чтобы заставить японцев отдавать их произведения по низким ценам. Три или четыре банка с крупными капиталами помогали им изворачиваться в трудных обстоятельствах, когда упорство японских торговцев грозило задержкой в операциях и, следовательно, убытками. Словом, торговля для иностранных купцов была вполне активной, тогда как для японцев она оставалась пассивной. Величайшей, самой трудной заботой для европейцев было собрание сведений об урожае чая и шелковичного червя. Проникать внутрь страны, чтобы видеть на местах размеры производств, им было нельзя; а иокогамские японцы из года в год повторяли, что ныне — полный неурожай на чайных плантациях и половина шелковичных червей погибла от холода или неурожая шелковицы. Гренеры {3.69} бывали нередко в отчаянии оттого, что в продаже вовсе не было картонов[45], за которыми они прибыли издалека, хотя, в сущности, у японских купцов магазины уже были полны этим товаром. «Открыть цену» на яички шелковичных червей, то есть совершить первую сделку, было делом такой же важности, как некогда в Кяхте или Нижнем Новгороде открыть цену на чай. Торговец, которому это удавалось, да еще на выгодных условиях, считался героем, почти как сапер, которому удалось подвести мину под неприятельский редут и взорвать его прежде, чем противник успел разрушить всю подземную работу камуфлетом. В торговле шелком затруднений было меньше, потому что цены на него регулировались известиями из Шанхая — главного рынка для этого товара на всем «крайнем Востоке», однако и тут без борьбы и уловок не обходилось. То же почти было и с чаем, покупка которого была, впрочем, монополизирована двумя-тремя американскими домами. О мелочах, вроде лаковых изделий, фарфора и пр., я не говорю: торговля ими предоставлялась третьестепенным барышникам и подвергалась всевозможным колебаниям от разных случайностей. Стоило, например, прийти в порт двум-трем иностранным военным судам, офицеры которых бросались на покупку портсигаров, перчаточных ящиков, вееров, бронзовых игрушек и пр., чтобы цены на все эти предметы возросли в японских лавках Иокогамы на 20 процентов. Оптовой торговли ими ни один большой европейский дом не вел.
Одной из любопытных особенностей иокогамского рынка было важное значение на нем китайцев. Эти «небесные» торгаши пришли в Иокогаму на хвосте европейцев, без всяких трактатов поселились в сторонке в европейском квартале и скоро превысили числом всех западных негоциантов, взятых вместе.
Желая сохранить вид человека, превыше всего заботящегося о судьбе сахалинского каменного угля, я намеренно расспрашивал кого мог о порядке снабжения минеральным топливом европейских пароходов, машинного завода в Иокогаме и пр., о ценах на разные сорта угля, о способе его доставки, о принадлежности угольных складов разным владельцам и вообще обо всем, что касается до этого товара. Начальник французской военной эскадры нешутя спрашивал меня: нельзя ли будет заключить контракт о снабжении его судов сахалинским углем, к кому по этому делу следует обратиться, где будут учреждены склады и какие примерно будут установлены цены? Легко себе представить, в какое щекотливое положение ставили меня эти вопросы. Придавая, однако, себе серьезный и даже таинственный вид, я отделывался уклончивыми ответами вроде того, что все дело получит организацию лишь тогда, когда русское Министерство торговли (!) по моим донесениям изучит вопрос всесторонне, то есть когда я успею объехать все китайские и японские порты и вернусь, через Владивосток, Сахалин и устье Амура, в Россию. Мистификация эта, сверх ожидания, удавалась как нельзя лучше, так что иногда мне самому становилось смешно. Но не все мои собеседники были простодушны. Один янки, бывший во Владивостоке и хорошо знавший японские порты, говорил мне, улыбаясь: «А кто же у вас будет комиссионером по продаже угля? трактирщик Алексеев[46], что ли, делающий в Хакодате обороты тысячи на три долларов в год? или вы пришлете чиновника с вахтерами для заведования складом? Так не было бы случаев самовозгорания каменного угля…».
Месяца времени было за глаза довольно «для изучения каменноугольного вопроса» в Иокогаме, и потому я, осмотрев еще береговые укрепления Иедо, но отказавшись от поездки в Иокосуку, как в местность, где «нет ничего, кроме неинтересующего меня японского адмиралтейства», — решился выехать в Нагасаки и Шанхай. К этому, впрочем, побуждали меня не одни дипломатические соображения, а и недостаток денег: у меня оставалось в кармане всего полтораста долларов. Сто из них нужно было заплатить компании «Pacific Mail Steamschip», а затем с пятьюдесятью добраться из Шанхая в Пекин, будь это возможно. Итак, распростившись с моими иокогамскими знакомыми, французами, швейцарцами и американцами, я переехал в один прекрасный вечер на пароход «Нью-Йорк» и назавтра поутру, часу в восьмом, проснулся уже в открытом море. Погода была прекрасная, и мы делали по десяти миль в час. Капитаном у нас был некто Фурбер, столь искусный и деятельный, что компания не страховала его парохода от случайностей в море. Плавание шло превосходно.
На пароходе, сверх нескольких европейцев, было два-три японца, ехавших в Нагасаки, в том числе мальчик лет четырнадцати, который удивлял меня познаниями в географии и европейских языках, французском и английском. Когда я показал ему русскую карту России, он без малейшего затруднения показывал на ней и называл главные города, горы, реки и пр., произнося притом названия лучше, чем это делают многие европейцы, хотя и не умея читать по-русски. Из математики он знал стереометрию и умел не только написать, но и вывести отношение между шаром, цилиндром и конусом; задача о двух светящихся точках, видимо, занимала его, и он бойко составлял уравнения как для нее, так и для знаменитых «собаки и лисицы». Живой, вертлявый, но грациозный, с умными глазами и страшной любознательностью, он производил на меня самое отрадное впечатление, но скоро я добрался и до слабой его стороны. Развитость его распространялась не на одну научную область, а и на эротическую. Он спрашивал меня, бывал ли я в иокогамском «иосиваре»? {3.70} и на вопрос мой: что это такое? — отвечал, что это жилище красивых женщин, занятие которых состоит вот в чем… И он показал целый ряд картинок самого откровенного содержания, вроде тех картин, которые показываются «по секрету» туристам в Помпее и свидетельствуют о нравственности «классического» мира.
— Где вы достали это? — невольно сорвалось у меня с языка.
— А в иосиваре же; мне это подарили там на память.
Замечательно, что на картинках изображались не только японцы, но и европейцы, с необыкновенной верностью типов английского, французского и пр. Я жалел потом, что не накупил этих картинок и не передал их на хранение… ну, хоть в азиатский музей Академии наук, если не в публичную библиотеку. Стоило бы даже их выставить где-нибудь в Хрустальном дворце или Кенсингтонском музее как доказательства «христианской цивилизации» просветителей крайнего Востока, какими считают себя особенно англичане.
Спускаясь с палубы в столовую залу, я уже морщился заранее от супов с перцем или с устрицами, от недожареной говядины и от сладких пирогов с инбирем, которые мне опротивели на американских пароходах еще в прошлом году. К удивлению моему, стюард «Нью-Йорка» не следовал этой американской системе кормления людей пряностями и сырьем, а дал нам очень удовлетворительный завтрак в общечеловеческом вкусе. Дело в том, что в Иокогаме и Шанхае сами янки делают уступки европейским привычкам, и повара на их пароходах не так свирепо атакуют желудки пассажиров перцем и инбирем. Сам капитан Фурбер вовсе не жаловал пряностей и признавался, что мнение его соотечественников, будто в море, да еще в жаркую пору, нужно употреблять перец, есть предрассудок. Однако от противного curry, то есть риса с зеленоватой перечной подливкой, мы не ушли. Это уж повседневное, любимое блюдо англичан на всем Востоке, начиная с Адена; а так как они везде составляют большинство путешественников, то для них и готовят эту не жидкую, а полутвердую перцовку.
— Видите: оно и дешево и сердито, — как говорил мне потом один соотечественник в Шанхае, тоже вошедший во вкус к curry.
— Да, так сердито, — отвечал я, — что собаки отказываются его есть, когда бывают голодны.
За завтраком, кроме curry, я увидел еще одну противную вещь: европейского пройдоху из титулованной знати… Впрочем, был ли этот авантюрист аристократом, это еще вопрос, но в Японии он ходил за графа де Мон-Блана и держал себя с поразительной надменностью. Начать с того, что он явился к столу лишь при самом конце завтрака, конечно, чтобы показать свою важность, чтобы дать себя заметить как не простого смертного. Затем он уселся особо, на другом конце общего, не совсем полного стола, vis-à-vis с капитаном, и имея около себя только своего «домашнего секретаря», чрезвычайно подобострастного, но с глазами бойкого травленого плута, едва ли не командовавшего своим принципалом. После этого начался придирчивый осмотр стоявших перед тарелками стаканов и рюмок, причем «граф» корчил недовольную мину и в то же время сверкал камнями, а может быть и подкрашенными стеклами, многочисленных перстней, которыми были украшены его далеко не аристократические костлявые руки с мозолистой кожей на суставах и с заусеницами. Затем на предложение «секретаря» потребовать к завтраку «романеи или кло-де-вужо» его сиятельство громко отвечал, что на американских пароходах не может быть порядочных вин, а потому потребовал пива, по полбутылке на брата. Съев после этого кусок ветчины и бросив в глаз монокль, он громко спросил капитана через весь стол:
— А что, мы будем тогда-то в Нагасаки? — и, не дав ему ответить, прибавил: — Князь Сацума высылает для меня туда пароход, и мне бы не хотелось заставлять его ждать меня в Нагасакской гавани.
Хладнокровный янки-капитан не дал себя в обиду: он сначала договорил, что было нужно, со своим собеседником, а потом уже сказал г. де Мон-Блану:
— Сэр, я никогда не опаздываю против расписания; если же состояние моря или судьба потребует захода в какой-нибудь промежуточный порт, то, конечно, зайду.
И, отвернувшись, опять продолжал разговор с соседом, не обращая внимания на молниеносные взгляды его сиятельства, недовольного, что с ним обошлись как с простым смертным. Надменно-заносчивое поведение графа продолжалось во все время плавания, причем он добивался даже, чтобы другие пассажиры при встрече с ним на лестнице, в проходах и даже на палубе давали ему дорогу, на что однажды какой-то янки и ответил ему тем, что, взяв за плечи, отвел слегка в сторону от прохода, прибавив сухо, плохим французским языком: «Monsieur, on ne s'arrête jamais sur le passage» {3.71}. Я был очень доволен этим нравоучением, после которого де Мон-Блан скрылся в свою каюту и не показывался до самого Нагасаки, куда князь Сацума никакого парохода за ним, конечно, не присылал. По сходе с «Нью-Йорка» этой надменной особы в публике говорили, что это просто авантюрист, которого французские посланник и даже консул не принимали к себе и если не арестовывали за самозванство, то лишь потому, что списки савойской знати им были не довольно известны[47]. Относительно же Сацумы поведение де Мон-Блана состояло просто в надувательствах этого богатого феодала, который покупал много оружия, пароходов, машин и других европейских произведений по рекомендациям савойского графа, конечно, заставлявшего платить себе за факторство и князя, и тех купцов, которых рекомендовал ему. Фразы о благе Японии, о прогрессе японской нации и о блистательной роли, выпадающей при этом движении вперед на долю князей сацумских, не сходили при этом с языка пройдохи.
Кобе, около которого мы сделали первую остановку на 5—6 часов, был в 1869 году только что возникшим маленьким городком, очень красивым и подававшим надежду перещеголять Иокогаму даже торговыми оборотами. В самом деле, соседняя Осака искони считалась первым торговым городом Японии, портом Киото и самых богатых центральных провинций Ниппона {3.72}. Однако надежда эта не оправдалась потом, и не только Иокогама, но и Нагасаки перетянули. Впрочем, большого убытка европейским негоциантам, основавшимся в Кобе, оттого не было: это ведь были отделы тех же самых фирм, что находились в Шанхае, Иокогаме, Нагасаки и пр., так что в сумме обороты их не только не страдали от скромности торговли в Кобе, но во всяком случае возрастали. Я не помню теперь, в том ли же самом порядке, как в Иокогаме и Шанхае, стояли вдоль набережной дома коммерческих тузов Кобе; но вообще порядок этот был во всех китайско-японских портах таков: Джардинь — Матисон, Гловер, Россель или Пустау, Уольш — Холл, Герд, Адамсон-Бель и так далее, соответственно богатству фирмы, причем дом Джардиня был всегда ближайшим к таможне или к английскому консульству. Любопытной и притом очень приятной особенностью Кобе являлся сад для прогулок, составленный из вековых, очень тенистых деревьев. Этой почти необходимой принадлежности цивилизованной жизни не имела в 1869 году никакая другая европейская «концессия» (квартал) в портах крайнего Востока. В Шанхае, правда, развели маленький садик на набережной, но это было жалкое подобие публичного гульбища: ни малейшей тени, теснота, ни буфета, ни музыки, и только в известные часы толпа китайских «нянек», или, как англичане попросту говорили, «of Chinese girls» {3.73}. В Кобе сад представлял все условия стать действительным местом отдохновения и от жары, и от трудов, хотя и в нем не было ни музыки, ни буфета. Это был прежний сад какого-то князя, земля которого была отведена правительством под европейский квартал.
Так как в маленьком Кобе, кроме сада, смотреть было нечего, то мы прогулялись в соседний большой японский город Хиого, знаменитый своими каменными набережными, на постройку которых один сиогун высылал тысячи народа и затратил большие деньги. Хиого действительно и доселе имеет удобный порт, глубокий и достаточно закрытый от ветров, тогда как Осака доступна только легким баркам, а других гаваней в окрестностях нет совсем. Сёгуны высоко ценили важность Хиого, и потому вход в порт издавна охранялся береговыми батареями, из которых одна имела даже центральный редут, в виде каменной башенки, — все очень игрушечное и неспособное бороться даже против одного европейского корабля с современной артиллерией. Гораздо большей защитой от огня с моря служил для Хиого лесок, который рос на плоской косе между городом и прибрежными укреплениями. С основанием Кобе, уже в 1869 году была речь о соединении города с Осакою мирным рельсовым путем в 28 или 30 верст длиной. Он вскоре и был сооружен, даже продолжен до Киото, а теперь, если не ошибаюсь, и до прибрежья Японского моря.
Плавание по Внутреннему морю (Суво-нада) было истинным наслаждением. Вид за видом, один живописнее другого, открывались перед нашими глазами, постепенно изменялись и скрывались за горизонтом, уступая место другим. Наконец мы приблизились к Симоносекскому проливу, этому Босфору Японии. Вход в него с востока очаровательно хорош; недостает только живописных построек по скатам соседних гор и у самого моря, чтобы местность эта заставила забыть о Константинопольском проливе, которому недостает больших лесных масс, чтобы взор мог отдыхать от излишней пестроты построек и полуголых скал. Особенно поразительна высота, ограничивающая пролив с юга и принадлежащая к составу гористого острова Кюсю: она покрыта лесом. На противоположном берегу, то есть на Ниппоне, мы видели издали развалины замка Чосиу, принадлежавшего одному из известнейших патриотов Японии — князю Нагато. Это разрушение, как известно, было произведено в 1864 году англичанами {3.74}, добившимися при этом от Нагато подписки, что Симоносекский пролив всегда будет свободен для плавания иностранных судов и никогда не будет укреплен. Конечно, такая подписка, взятая от местного правителя, а не от главы государства, по силе европейского международного права ничего не значила, не стоила той бумаги, на которой была написана; но англичане умели воспользоваться смутными обстоятельствами в Японии 1860-х годов, чтобы заставить и микадо признать силу подписки, данной одним из его подданных без всякого согласия верховного правительства страны и под влиянием самого вопиющего насилия… «Сила есть право», — как сказал еще Протагор {3.75}.
Вот вдали растянутый узенькой полосой вдоль берега пролива город Симоносеки; вот с другой стороны Кокурская бухта. Быстрое течение в проливе на этот раз идет против нас, но оно периодически сменяется другим, противоположным, так как все явление зависит от океанского прилива-отлива. В Японии эти случаи смены течений в проливах не редкость и, например, в Сангарском проливе делают подход к Хакодате очень нелегким для парусных судов; на северо-востоке от Сикокфа есть даже местность, где два встречающиеся прилива производят водоворот, небезопасный и для пароходов. По выходе из Симоносеки мы постепенно стали поворачивать к югу, следуя в виду берегов Кюсю, с одной стороны, и многочисленных островов — с другой. Приближалась ночь, и многие мнительные пассажиры «Нью-Йорка» побаивались легкой возможности наткнуться где-нибудь на скалу, тем более что маяков на этих водах в то время еще не было. Но на мостике парохода бодрствовал Фурбер, и мы на другой день проснулись рано утром у входа в Нагасакскую бухту.
Дождь лил без перерывов все время, пока мы стояли в Нагасаки, а потому для прогулки по очаровательным окрестностям этого города не было никакой возможности. Самые вершины соседних гор чуть виднелись сквозь дождевую мглу, и даже северного конца гавани различить было нельзя. Оставалось осмотреть только ближайшие части города, начиная со знаменитой Децимы, да те места, где находятся какие-нибудь военные сооружения, которые здесь, как и везде, составляли предмет моих первых забот ex officio. Я так и сделал, причем не мог не заметить, что оборона города и порта очень несовершенна. Особенно странной казалась батарея из больших бомбовых орудий, поставленная не впереди, а сбоку и даже почти сзади города: отвечая на ее огонь, то есть совершая военное действие бесспорно позволительное, неприятельский корабль, ворвавшийся в бухту, мог как бы ненамеренно сжечь самый город. И пароходный завод в Аконуре охранялся более выступом соседней горы, чем какими-нибудь укреплениями. Вообще овладеть Нагасаки с моря в 1869 году не могло составить большого труда, и это, конечно, было одной из причин боязливой политики японцев по отношению к бессовестным и свирепым представителям «христианской цивилизации».
III
— Что, каков «Сын океана»? — спросил меня случайно открытый мною среди пассажиров «Нью-Йорка» соотечественник мой, г. Олларовский, который, если не ошибаюсь, провожал до берегов Японии любимое им семейство бывшего американского посланника в Пекине, отъезжавшее на родину. «Сын океана» — это Янцзы-цзян, попросту Да-цзян (Великая река), у нас — Голубая река.
— Да, огромная масса текучей воды, — отвечал я, — только за что ее назвали Голубой, когда она серо-желтая?
— Полагаю, за то, что в верховьях, где она течет по гористым странам, цвет ее воды синий, как в Роне…
Такой коротенькой беседой открылось мое знакомство если не с почвой, то хоть с водами средней части Срединного царства. Скоро мы свернули в Вусун, который хотя не меньше Невы, но казался небольшой речкой по сравнению с Да-цзяном. До Шанхая оставалось лишь несколько верст, но мы не могли идти туда немедленно, потому что на баре в Вусуне, по случаю отлива, было мало воды. Ходя по палубе и осматривая видневшиеся на берегу Вусуна остатки китайских батарей, которые восстанавливать китайцы не могли по трактату 1860 года {3.76}, я невольно спрашивал себя: зачем европейцы основались в Шанхае, а не в Вусуне? Ведь таким образом они стеснили собственное судоходство, ограничив его лишь такими судами, которые сидят в воде не более 12 футов, тогда как в Янцзы-цзян имеют доступ большие корабли, с осадкой до 23 футов. Но этот вопрос, в сущности, был праздным, потому что если не логический, то фактический ответ на него скоро показался в виде длинного ряда огромных домов или дворцов опиумо-чайной аристократии Шанхая, и думать, чтобы когда-нибудь эти денежные тузы вздумали перенестись на берег Да-цзяна, было бы очевидной нелепостью.
В Шанхае первое, что невольно обратило мое внимание, было грубое, чтоб не сказать зверское обращение европейцев с сынами приютившего их Срединного царства. Лодочник, который довез меня с парохода до пресловутого «Astor-house'a» {3.77}, требовал уплаты, и так как у меня не было мелочи, то я поручил хозяину гостиницы удовлетворить его, то есть дать ему условленные два шиллинга. Китайцу я показал при этом два пальца и особу хозяина, за которым тот и последовал, понимая, в чем дело. Но каково же было мое удивление и отчасти негодование, когда через три-четыре минуты я увидел моего лодочника спасающимся во все лопатки от «директора» гостиницы, который, оттаскав его за косу, гнался еще за ним с бильярдным кием, нанося по временам удары.
— В чем дело? — А в том, что китаец требовал двух шиллингов, а мистер Смит давал ему две какие-то дрянненькие мелкие монеты, находя, что с него и этого за глаза довольно и что «баловать эту сволочь» не следует. Последовал спор, конец которого я и наблюдал из окна. Так как действительной причины побоища я в ту минуту не знал, то и не принял никаких мер к вознаграждению побитого китайца. Через полчаса же, когда дело было мне объяснено одним соседом за столом и бывшим пассажиром на «Нью-Йорке», поправлять было поздно: китаец исчез бесследно. Я думал сначала, не принес ли он жалобы на мистера Смита, да и на меня подлежащим консулам, но ничего подобного не было. «Небесные» хозяева страны уже привыкли, точнее были приучены не тратить понапрасну времени на попытки жаловаться консулам, из опасения, что те к полученным уже ударам прибавят еще несколько новых или добьются от китайской администрации посажения жалующегося на цепь, с деревянной доской на шее, у ворот обидчика. Это-то ведь и называется у европейцев в китайских портах «внушением варварам уважения к представителям европейской цивилизации и их интересам…» Любопытно, что мне в счет хозяин «Astor-house'a» поставил два полных шиллинга, вероятно, чтоб вознаградить себя за труд по исправлению китайца от алчности.
На другой день по приезде в Шанхай я отправился в русское консульство справиться: не получен ли там для меня вексель? Ведь был уже август по новому стилю. В консульстве, которое, в сущности, было американским домом Герда под русским флагом для внушения вящего уважения к богатому хозяину, мне сказали, что нет. Тогда пришлось, с первого же шага на китайскую почву, стать в неприятное положение и просить вице-консула Диксвелла открыть мне кредит долларов на триста, которые он мог покрыть тотчас по получении моего векселя, который не мог миновать его рук. Деньги были даны, но и немедленно же был принят высокомерный тон, дошедший до того, что торгаш-янки не отдал мне визита и даже не спросил: думаю ли я жить в Шанхае или отправляюсь куда-нибудь далее? Для сношений со своей важною особою он указал мне одного из своих конторских писцов, уроженца Финляндии и бывшего боцмана на каком-то «российском» корабле, заходившем в Шанхай… Нетрудно было догадаться, что этот тон был предписан ему свыше, не только из Пекина, но из самого Петербурга. Это отзывались обстоятельства, предшествовавшие моей командировке.
Сображая, что в Шанхае летом жарко, а в Пекине зимой холодно и что, следовательно, лучше август и сентябрь провести в последнем городе, а осень и зиму в первом, я решился безотлагательно ехать на север. Пробыв дня три в Шанхае для осмотра собственно города, я сел на пароход, отходивший в Тяньцзинь. Это было любопытное судно, потому что представляло смесь морского типа с речным; ибо хотя оснастка его была чисто морская, но дно почти плоское и осадка с полным грузом не более девяти футов, чтобы можно было переходить в Дагу через бар, а потом двигаться по Пейхо. Так как вместимость парохода была значительна (до 2 000 тонн), а борты и палубные надстройки высоки, то легко себе представить, каков должен был быть крен при хорошем боковом ветре и как легко было утонуть с подобным кораблем на бурном море, каково Желтое. Я думаю, что в Европе не было бы позволено такому судну перевозить пассажиров… разве если бы оно принадлежало Русскому обществу пароходства и торговли, издевающемуся над всеми мореходными правилами. В Китае г.г. Траутман и К°, конечно, не стеснялись европейскими предрассудками и имели целью только одно: на мелкосидящем и скороходящем пароходе перевозить возможно большее количество грузов, а проезжих людей принимать чуть не из милости, хотя за четверо суток плавания с них бралось по сто долларов. Товар при этом всегда можно было застраховать, хоть бы в том же обществе, в котором г. Траутман был директором; а пассажиры если бы и погибли даром, то небольшая беда… По счастью, в наше плавание погода была совершенно тихая, и так как мы не заходили в Чифу, то были исправно в назначенный час перед устьем Пейхо.
Я описал в «Очерках Китая» курьезные укрепления в Дагу, наружный осмотр которых сделал во время стоянки парохода в устье реки, около самых фортов. Забавно было видеть глиняные форты вооруженными дальгреновскими орудиями, точно они собирались и надеялись с успехом выдержать борьбу с броненосцами. Китайцы из современных опытов и наблюдений не научились почти ничему. Для них как будто не существовало воспоминаний о взятии дагуских «твердынь» штурмом с фронта — взятии, произведенном англо-французами, которые даже не имели дальнобойных броненосцев, а только небольшие канонерские лодки. В тех же глиняных стенах были возобновлены те же, быстро разрушенные перед штурмом, амбразуры с деревянными потолками вместо сводов; те же мортиры стояли сзади верков, для навесной стрельбы… не знаю уж в кого, потому что, конечно, ни один корабль, бомбардируя Дагу, не приблизится к нему на расстояние навесного выстрела из мортиры, а будет разрушать стены фортов прицельно… Только лет через пять после посещения мною Китая Ли Хун-чжан {3.78} догадался изменить систему обороны Хайхэ, то есть водной дороги к Пекину, заготовив большое количество подводных мин для погружения их в реку перед вторжением неприятельского флота; но остались ли в прежнем виде «твердыни» Дагу или их заменили чем-нибудь более серьезным, я не знаю.
Перед приближением к Дагу и во время плавания по реке Хайхэ на пароходе было немало толков о том, будет ли открыто для европейцев вновь образовавшееся устье Желтой реки. Известно, что в 1860-х годах Хуанхэ прорвала плотину около города Кайфына и ушла на северо-восток, в Печилийский залив, вместо того чтобы впадать в Желтое море, где устья ее были почти занесены песками. Два англичанина из Шанхая, Ней-Илаяйс и Кингсмилл, ездили осматривать новое русло реки, но устьев ее не видали, а потому вопрос о судоходстве по нижней ее части остался под сомнением. Большая часть пароходной публики думала, что и в Печилийском заливе устье Хуанхэ так же мелководно, как было в Желтом море, а потому торговых выгод новое направление реки не представляло. В таком виде дело остается и до настоящей поры.
Около самого Тяньцзиня, версты за полторы, пароход наш стал на мель; и так как капитан не надеялся сняться скоро, то многие пассажиры, в том числе я, решились немедленно уехать в город по сухому пути. Китайские одноколки тотчас явились к нашим услугам; я взял часть своих пожитков и отправился отыскивать русское консульство. Найти было нелегко, потому что, хотя дом находился не очень далеко от пристани, в европейском квартале, но, вопреки общепринятому в Китае обычаю, отличался таким низким флагштоком, что его издали вовсе не было видно. Да и самый флаг, сшитый из каких-то тяжелых дерюг, висел вдоль флагштока в виде шерстяного одеяла, полосы которого различить было трудно. Наконец, при помощи одного встретившегося англичанина мы нашли консульский двор и постучались у ворот. Их отворил сторож-китаец, который и ввел меня на передний двор. Я, однако же, принял его сначала за задний: до того много в нем было навоза, иссушенного солнцем, и мух, которые носились тучами. Несколько кур, находившихся тут же, еще более убеждали меня, что это именно la basse-cour {3.79}, и я хотел было уже повернуть назад, чтобы поискать другого, более приличного входа в российско-императорское консульство, но китаец-сторож давал знаками понять, что других ворот нет. Делать нечего, пришлось достать карточку и послать почтенного стража известить консула о моем прибытии. Он не торопился с этой миссией, а сначала вызвал помощника, вероятно для наблюдения, чтобы мы с кучером-китайцем не покрали кур, и только тогда отправился через калитку в садик, предшествовавший консульскому жилищу. Прошли добрых четверть часа, пока он вернулся и показал мне путь, выгнав в то же время моего кучера за ворота, так что последний мог бы, в мое отсутствие, уехать с моей кладью вполне незамеченным. Я миновал садик и через отворенную дверь передней увидел консула Скачкова занимающимся осмотром и описью каких-то чемоданов.
— А! Вот и вы! — сказал он, увидев меня. — Нам об вас писали из Петербурга, и я все дивился, как это Военное министерство посылает в Китай агентов, которые не знают китайского языка.
— Я думаю, это потому, что в армии нет таких офицеров; те же лица, которые знают китайский язык и состоят на службе в Китае, никогда ничего нужного военному ведомству не доставляли.
— Ну, а как же вы доставите, не умея ни о чем спросить китайцев? Если вы надеетесь на нас, то ошибаетесь. Я свои сведения держу для себя и даю лишь тем, кому хочу.
— Не беспокойтесь, вашего содействия по собиранию военных сведений я не попрошу, так как вы не специалист по военному делу.
— Ошибаетесь: я сам служил в военной службе.
— Да? Где же и когда?
— Я был юнкером на Черноморской береговой линии; только там один бездельник майор, заметив, что у меня есть деньги, обыграл меня до нитки, что и заставило меня пойти в студенты в Пекине.
— А! Ну, я этого не знал. Во всяком случае, в данную минуту я вас беспокоить никакими вопросами не буду, ибо знаю уже, что в Тяньцзине есть образцовые китайские войска, арсенал и пороховой завод, которые я постараюсь осмотреть на возвратном пути из Пекина. А теперь вот мой паспорт: благоволите сделать на нем визу и содействовать моему отъезду в Пекин.
— Хорошо-с. Паспорт ваш я доставлю вам в гостиницу, где рекомендую вам остановиться и куда вас проводит вот этот китаец.
Я раскланялся и последовал за проводником, не успев проникнуть у консула дальше передней.
Этот грубый прием, без сомнения, имел в основе инструкции из Петербурга; но в нем сказались и старые личные счеты. Дело в том, что в 1859—1860 годах, когда я управлял 2-м отделением Генерального штаба в Омске, Скачков был консулом в Чугучаке {3.80}, и вся переписка с ним генерал-губернатора Западной Сибири находилась в моих руках. Однажды получена была от него эстафета с донесением (в открытом конверте) в Азиатский департамент, что «по распространившимся в Чугучаке слухам Большая киргизская орда взбунтовалась, ей на помощь пришли кокандцы, укрепление Верное {3.81} взято ими и казачьи станицы в Заилийском крае разрушены». Генерал-губернатора Гасфорта это взбесило. Мне приказано было приложить к донесению консула бумагу в Азиатский департамент, что все скачковские доносы — вздор, и что было бы желательно, чтобы на будущее время консулы в Чугучаке и Кульдже {3.82} относились менее доверчиво к среднеазиатским базарным слухам, всегда почти преувеличенным, а часто и просто выдуманным. Было даже прибавлено, что едва ли дело консулов, живущих за границей, делать донесения о событиях внутри России и что было бы лучше, если бы они сообщали сведения о странах, в которых служат, чего, к сожалению, не делается.
Ковалевский, который был тогда директором Азиатского департамента, оценил справедливость этих замечаний и хотя не любил Гасфорта, но дал хорошую гонку Скачкову и велел ему извиниться. Это повело за собой пресмешное объемистое письмо консула к генерал-губернатору, в котором он старался объяснить промах, сделанный им два месяца назад. Главною извинительною причиною выставлялось рождение консульской женой ребенка, вследствие чего отец был впопыхах и не имел возможности серьезно заниматься делами… Гасфорт, справедливо обиженный тем, что «коллежский асессор Скачков извинился лишь тогда, когда получил нагоняй из Петербурга, да и то представил доводы глупые», велел мне «написать ему бумагу на бланке за номером, по возможности краткую, но поучительную». Я и написал следующее:
«Консулу в Чугучаке, коллежскому асессору Скачкову.
На письмо вашего высокоблагородия от такого-то числа имею честь ответить, что Министерство иностранных дел было мною своевременно уведомлено о неосновательности дошедших до вас слухов о бунте в Большой киргизской орде, вторжении кокандцев, разрушении Верного и пр. И я пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам ныне, что подобные базарные слухи нередко распространяются в Средней Азии то людьми злонамеренными, которые на это имеют свои расчеты, то легковерными, без всякого основания. Поэтому доверять им следует с осторожностью».
Вот эта-то пилюля, полученная десять лет назад, отзывалась, без сомнения, на прием меня Скачковым в 1869 году в Тяньцзине, так как он очень хорошо знал, что автором ее был я. Узнав из слов его, что сведений, мне полезных, я от него не получу, я решился не посещать его более и, по возвращении им моего паспорта, немедленно уехать в Пекин и оттуда написать одному лицу в Главном штабе о характере консульского приема. К сожалению, эта первая, самая естественная и рациональная мысль была мною потом оставлена только потому, что мне не хотелось в первых же моих сообщениях касаться личных дрязг. Скачков, впрочем, и сам догадался о невежливости своего поведения, вследствие чего на другой день сделал мне визит, просидел часа полтора и при этом вручил мне не только мой паспорт, но и открытый лист, или подорожную, для следования в Пекин, выданную от тяньцзинского губернатора. Мало того, он сообщил мне, что завтра к моим услугам будет лодка с гребцами, которая меня доставит в Тунчжоу, оттуда уже рукой подать до Пекина. Я невольно смягчился и раскланялся с консулом возможно приветливо, сообщив ему в разговоре немало интересовавших его новостей из России. Доверие восстановилось настолько, что консул вручил мне связку долларов с просьбой передать их одному лицу в Пекине, и мне казалось, что отклонить от себя исполнение этого частного поручения г. Скачкова было бы грубостью. Притом, постоянно думал я, к несимпатическим приемам дипломатов и консулов я давно готов: зачем же растравлять и без того недружелюбные отношения, конечно, во вред и моему делу, и мне самому, потому что при первом промахе с моей стороны, какого бы рода он ни был, обо мне немедленно полетели бы в Петербург многочисленные изветы, с влиянием которых я, человек одинокий, без протекций, бороться не мог.
На другой день, поутру, лодка с шестью гребцами явилась перед гостиницей, и, погрузив вещи, я тронулся в путь, сопровождаемый одним забайкальским казаком, который был прислан в консульство с почтой и теперь возвращался в Пекин. Хотя он знал говорить только по-русски и по-монгольски, но это не помешало ему немедленно вступить в командование китайскими гребцами, с которыми он и успевал как-то объясняться. Присутствие его на лодке было полезно; ибо едва мы, после множества хлопот, причиненных стоявшими вдоль обоих берегов реки джонками, подошли к плавучему мосту, связывающему город Тяньцзинь с его восточным предместьем, как один из плотов немедленно вывели в сторону, чтобы пропустить нас, тогда как десятки лодок туземцев долго ждали понапрасну этого развода моста, да и теперь не были пропущены. Четыре полицейских солдата, с толстыми бамбуками в руках, наблюдали мой проход через отверстие моста, и едва моя лодка проскользнула, как они принялись тузить по чем попало тех лодочников-туземцев, которые было сунулись в открытый проход. Выглянув из-под навеса лодки, чтобы узнать, отчего поднялись крики побиваемых, я увидел моего казака важно стоящим около рулевого в походной форме и при сабле: он мне объяснил, в чем дело.
За мостом плавание стало легче, ибо хотя число джонок на реке не уменьшалось, но хозяева их, видев, как почтительно отнеслась к нам полиция, не только не препятствовали нашему плаванию, но помогали двигаться вперед. Скоро мы дошли до места слияния Императорского канала с рекой Байхэ, в которую и повернули. Слияние это любопытно в гидрологическом отношении, ибо два потока, довольно быстрые, приходят тут с двух совершенно противоположных сторон[48] и, не образовав никакого водоворота, круто поворачивают под прямыми углами в русло Хайхэ, которое очень глубоко, но мало отличается по ширине от каждого из двух составляющих. Вообще бассейн Хайхэ заслуживает серьезного изучения в гидрологическом и геологическом смысле. Реки, его составляющие, не имеют своих долин, а орошают одну равнину, в почве которой и прорыты их русла. Идешь по равнине и не догадываешься, что вблизи река, потому что оба берега последней совершенно на одном уровне, невысоки, но обрывисты и, что всего замечательнее, составлены отнюдь не из твердого камня, а из глинистого ила, или того, что Рихтгофен называет лёссом. Река промывает в нем глубокое, но обыкновенно неширокое ложе, и тут опять странность: иногда прибыль воды от дождей бывает так велика, что она разливается по соседним полям, а долины все-таки не образуются, и, по стоке избытка воды, река опять течет среди невысоких, но обрывистых берегов. Берега эти иногда так низки, что китайцы укладывают на них оси не очень больших наливных колес, которыми черпают из реки воду для отвода ее, помощью желобов, на поля. Местами, впрочем, береговой обрыв возвышается до двух-трех сажен, и тут обыкновенно стоят китайские деревни, так как на этом уровне им уже не угрожают разливы реки. В одном только месте я заметил начатки образования речной долины у Байхэ, в том смысле, что береговой обрыв уходил вдаль от русла: тут между рекой и обрывом расстилается широкое, покрытое тростником болото.
Глинистый (а отчасти и слегка известковый) ил, или лёсс, есть ли продукт одних речных наносов, или в образовании его принимала участие и пыль, приносимая ветрами с монгольских степей? — я не берусь решать, но вероятно, что и то и другое вместе. Плодородие его известно, но только и тут нужно воздержаться от решительного суждения, то есть от приписывания этого плодородия исключительно естественным качествам почвы. Искусство, то есть удобрение, разрыхление и орошение полей, значит чрезвычайно много, и мне не раз, глядя на эти китайские поля, приходило в голову: что если бы хозяева их взглянули на наши великорусские пашни? какими варварами или лентяями обозвали бы они наших крестьян! А между тем рабочий скот — быки и лошади — у китайских хлебопашцев редкость; да и употребляют они его лишь для поднятия нови или пара, а чаще для углубления распахиваемого уже слоя земли; обыкновенно же все возделывание поля есть дело рук человеческих, вооруженных лопатой и иногда киркой… Я сказал: «пара или нови», и отнюдь не оговорился: это только иезуит Риччи и его подражатели уверяют, что в Китае постоянно возделывается вся почва; на самом деле мне не раз приходилось видеть пустыри как в Чжили, то есть около Пекина и Тяньцзиня, так и в Цзянсу, вблизи Шанхая. Быть может, впрочем, виной образования этих пустырей было Тайпинское восстание {3.83}, истребившее массы народа и обратившее в пустынные развалины даже часть самого Пекина. Но кроме этих случайных пустырей есть и постоянные, особенно в местах болотистых, каменистых или там, где были кладбища. Последнее обстоятельство объясняется чрезмерным уважением китайцев к мертвым их предкам и совершенно согласно с общим строем их понятий, консервативных до косности.
Дорогой до Тунчжоу мне приходилось довольно близко наблюдать быт китайского народа, и здесь, под самой столицей Срединного царства, он совершенно тот же, что в кяхтинском Маймачене… Припоминая, что и в Сингапуре, Сайгоне, Иокогаме, то есть даже вне Китайской империи, «небесные» ее сыны остаются верными исконным своим обычаям и притом именно в силу этого единообразия жизни чувствуют себя членами одной семьи, я понял их этнографическую устойчивость, которая не имеет себе подобной нигде, кроме Англии и ее колоний. С этим антропологическим фактором должны будут считаться едва ли не десятки поколений грядущих, и он служит залогом, что китайцы, сильные притом числом, не так легко поддаются обезличивающему влиянию западной цивилизации, как, например, японцы или, еще лучше, как мы. И, признаюсь, как ни люблю я Запада, но эта устойчивость крайнего Востока меня радует. Когда обе стороны, теперь далеко отстоящие одна от другой, сблизятся, узнают друг друга, скольким хорошим вещам передовые сыны человечества научатся у отсталых теперь китайцев! Одни рабочие, промышленные и торговые товарищества китайцев дадут немало примеров для подражания людям, среди которых много, но почти втуне, работали Муры, Бриссо, Фурье, Сен-Симоны, Лассали и пр {3.84}.
В Тунчжоу мой казак чувствовал себя уже почти как дома и скорехонько подыскал извозчиков, которые должны были доставить меня, его и мою кладь в Пекин. Эта сноровистость русского человека давно известна не только нам самим, но и чужеземцам, из которых, например, геолог Мурчисон приходил от нее в восторг. Но отчего, оставаясь исконной принадлежностью простолюдинов, она совершенно утрачивается нами, русскими в сюртуках и жакетах, то есть цивилизованными? Не оттого ли, что цивилизация наша — полицейская, обезличивающая нас, лишающая способности личного почина? Какой-нибудь моралист может написать об этом предлинную диссертацию, где, вероятно, не будут забыты люди «личного почина», которых у нас так мало и значительная часть которых населяла и населяет нерчинские рудники, Сахалин, берега Мезени и Печоры, а теперь даже, кажется будет населять и Новую Землю (о Европе и Америке я уже не говорю)…
Отъехав верст восемь от Тунчжоу, я завидел вдали высокие стены Пекина. Солнце было близко к закату, и на ярко-оранжевом фоне западной части неба столица Китая чернела, как огромная крепость-тюрьма, тем более занимавшая воображение, что из-за стен не было ничего видно: ни башен, ни куполов, ни высоких колонн, по которым издали угадываешь наружность большого европейского города. Налетела гроза с проливным дождем и временно придала еще более мрачный вид городу-тюрьме; когда она перестала, я был у ворот Пекина.
IV
Когда мы подъехали ко двору русского посольства, было около половины шестого часа. На вопрос мой: дома ли наш поверенный по делам, г. Бюцов, и можно ли его видеть, — мне отвечали, что «дома, но собирается на обед во французское посольство, и потому я могу представиться ему лишь завтра». Соображая, что в самом деле то было 3 (15) августа, то есть в именины Наполеона, я удовольствовался этим ответом, хотя и не мог не видеть в нем намека на то, что мне нужно представляться перед ясные очи г. поверенного по делам не иначе как в мундире и в служебные утренние часы. А между тем я эту «особу» знавал в Иркутске десять лет тому назад безусым мальчиком, только что выпущенным из лицея. И времени на то, чтобы принять меня не по-чиновничьи, а по-человечески было достаточно, потому что обед во французском посольстве был назначен на семь часов и самое здание посольства расположено недалеко от нашего. Но пусть будет так! Это даже лучше, ибо дает мне возможность умыться и переодеться с дороги. Любезный секретарь миссии, г. Гладкий, немедленно указал мне очень приличную квартиру в одном из флигелей посольского двора, где, вопреки отзыву Азиатского департамента, оказалось столько свободных помещений, что в одном из них жил даже иностранный торговец, соплеменник г. Бюцова, скупавший китайские редкости. Я успел засветло переменить туалет и даже сделать небольшую прогулку вокруг дома посольства, причем с удивлением увидел в соседней, наполненной грязью улочке китайского бедняка, вытаскивающего из этой вонючей грязи остатки животных и растительных веществ, выброшенных из соседних домов, по китайскому обычаю, прямо на улицу. Он, очевидно, отнимал пищу у многочисленных пекинских уличных собак и потому был вооружен палкою, ибо две-три из них держались неподалеку и неприязненно ворчали. Так вот она, китайская бедность! Известна ли такая в Европе? Я думаю, что да, потому что парижские и лондонские ветошники ведь тоже добывают свой насущный хлеб из уличного сора, хоть и не так буквально, как мой китаец… Правда, их не атакуют собаки…
Без пяти минут в семь часов поверенный в делах в паланкине отправился на обед к французам, а меня секретарь пригласил обедать за общий стол холостых членов посольства, к числу которых, кроме его самого, принадлежал доктор Бретшнейдер и почтовый агент Харрис. Я поблагодарил за любезность и при этом узнал, что все названные лица обедают на счет главы посольства, который, уходя, велел пригласить и меня. Это по-посольски или даже по-игнатьевски, потому что другие русские послы и посланники на Востоке тщательно уклоняются от такого пышного гостеприимства. За обедом я, естественно, стал центром беседы и, несмотря на то, что начальства и дам не было, сразу увидел, что ко мне относятся очень сдержанно, без той приветливости, с которой обыкновенно принимается новоприезжий соотечественник в отдаленных от Европы краях. Зная, откуда дует ветер, я старался показать, что не замечаю этого «дипломатического» приема, но тоже принял меры, чтобы не проговариваться кое о чем. Отсюда натянутость и скука нашей первой беседы, которые сохранились и позднее, во все время моего пребывания в Пекине, и с особенной яркостью обнаруживались при встречах плохо отесанных «студентов» миссии, то есть молодых людей, изучавших китайский язык для поступления потом на службу драгоманами и консулами. Я очень благодарен этим студентам, г.г. Ленцу и Беберу, за их откровенность: они мне служили флюгерами, а вместе и вольтманскими вертушками, по которым я безошибочно узнавал не только направление, но и силу посольского ветра, постоянно, впрочем, северо-западного, то есть самого холодного из всех пекинских. Вот доктора Бретшнейдера было труднее понять: он вставлял мне шпильки — и охотно пользовался моими книгами; брал у меня небольшие уроки по географии и топографии — и отказывал мне в лекарстве, когда у меня заболело горло…
«Представление» мое Бюцову, состоявшееся на другой день поутру, было совершенно в тон с событиями, следовавшими непосредственно за приездом. Заставив меня надеть мундир, бывший безусый лицеист сам при приеме меня оставался в туфлях и полотняном пиджаке, с сигарой в зубах. Я уже достаточно изучил русскую чиновничью сволочь, чтобы понимать смысл всех приемов и изворотов ее. Прими меня так старый товарищ — я был бы очень рад; но когда подобная фамильярность допускалась человеком, который вчера не хотел меня видеть в дорожном костюме, то тут очевидно был умысел. Чтобы не оставить в том сомнения, Бюцов на мой парадный визит к нему отвечал тем, что часа через два подошел из сада к окну моей квартиры и опросил через окно: чем я занят?.. Я со своими писцами в Люблинской по крестьянским делам комиссии был вежливее, не говоря уже про бывших подчиненных офицеров в полку, штабе и военно-уездном управлении.
Мне противно теперь вспоминать о всех этих мерзостях, и будь я частный человек, я никогда не пропустил бы их без немедленной оплаты той же самой монетой; но что было мне делать в моем официальном положении с моим официальным «покровителем», особенно зная, какая почва подо мной в Петербурге, и не сомневаясь, что и Бюцов знает ее?.. Вот почему я несказанно обрадовался, когда узнал, что в недальнем расстоянии от посольства один повар-француз открыл небольшой трактир, где за два доллара в день можно было иметь сносные европейские обед и завтрак. Это дало мне возможность не появляться более за «посланническим столом», где вечно шли кляузные толки о разных, частью даже известных мне, лицах и где я ни разу не слыхал сколько-нибудь интересного общечеловеческого разговора на темы научные, литературные или хотя бы бытовые. О Китае говорилось всего менее; о политике не говорилось совсем.
Моя эмиграция сопровождалась частыми посещениями того же французского трактира секретарем посольства Гладким, который, кажется, тоже не очень жаловал посланнические хлеб-соль. Но его служебное положение обязывало все-таки держаться посольской столовой; я же отсутствовал систематически и потому иногда не видел Бюцова по два-три дня сряду. Жалеть об этом было бы нечего, если бы нерасположение этого господина не выражалось разными выходками, в которых чувство приличия отсутствовало в высочайшей степени. Так, квартирка, данная мне секретарем, была заменена другой, несравненно худшей и вовсе не запиравшейся, так что при каждом моем отсутствии из нее начальническое око и даже лапа могли проникать в нее и видеть, чем именно я занимаюсь, не пишу ли доносов или хоть не веду ли дневника, который, по содержанию своему, естественно не мог быть приятным для посольства. Чтобы напомнить мне сущность стремоуховского отзыва о неимении для меня в зданиях посольства удобного помещения, не забыли оставить в моей новой квартире два стекла разбитыми, вследствие чего пыль свободно проникала в нее со двора, а по ночам было так холодно, что я, в августе, должен был спать под шубой и сильно простудил горло. (Вот тут-то Бретшнейдер отказал мне в лекарстве[49].) Чтобы защититься от холода и пыли, я закрыл у разбитого окна ставни, и тогда моя комната обратилась в полутемную, так что для письменных и чертежных занятий я должен был расположиться у самого другого окна, от которого сильно дуло. Пробовал я топить находившийся к комнате камин, но он так дымил, что не желая к физическим неудобствам от холода присоединять еще и химическое — угар, я бросил заботиться об улучшении своего логовища и только мечтал о скорейшем отъезде из Пекина.
Отъезд этот был, однако же, почти невозможен. Из взятых в Шанхае взаймы трехсот долларов у меня не оставалось и половины, а между тем о векселе для меня не было ни слуху ни духу, хотя наступил уже сентябрь по новому стилю. Я отыскал несколько остававшихся у меня наполеондоров и продал их повару-французу по три доллара за штуку; несколько русских целковых тоже были променены на мексиканское серебро с убытком около 25 процентов, но все же у меня набралось едва двести долларов, из которых 120 предстояло издержать на переезд в Шанхай. Так как в первых числах русского сентября ожидалось прибытие тяжелой почты из Кяхты, то я решился дожидаться этого прибытия и затем уже не оставаться более ни дня в Пекине. В ожидании я делал частые прогулки по городу, с планом в руках, причем имел случай убедиться в его верности, а также и в том, что некоторые чины посольства, живя по нескольку лет в городе, не знали, например, где Пекинский университет, точнее здание для экзаменов тех молодых людей, которые готовятся в мандарины, хотя это здание отмечено на плане и занимает большое место. Посетил я и нашу монашескую миссию, при которой находилась еще метеорологическая обсерватория, заведываемая немцем Фричче, но из этого посещения тоже не много вынес пользы. От главы миссии, достопочтенного отца Палладия, я узнал только, что ему, при его долголетних занятиях историей Средней Азии, не удалось разъяснить вопроса: что такое Алматы, местность замечательная в историческом смысле? И когда я заметил достойному синологу, что наше Верное называется по-киргизски Алматы и лежит при речке того же имени, то он был очень доволен и признался, что никогда не заглядывал на русскую карту западносибирских степей, где имя Алматы прописано en toutes lettres {3.85}. Да и карты этой — ценой всего в три рубля — у него не было, как и в посольстве. Астроном-метеоролог Фричче тоже жаловался мне на отсутствие порядочных карт Китая, вследствие чего я уступил ему карту Бергхауза, получив в обмен координаты двух точек в Монголии: Шара-Мурени и Саир-Усу, определенные самим г. Фричче. В библиотеке и канцелярии посольства я, к удивлению, не нашел ни одной карты того государства, в котором посольство жило и действовало[50], кроме небольшой карточки Уэлса-Виллиамса, выдранной из книги его «The Middle Kingdom» {3.86}, четвертый том Дюгальда, в котором помещается атлас Китая д'Анвиля, давно куда-то исчез; да и вообще библиотека находилась в жалком состоянии, так что у меня с собой было более европейских и даже русских трудов о Небесной империи, чем в императорско-российской дипломатической миссии при дворе богдыхана.
Невольное пребывание в Пекине, из которого я не мог даже делать разъезды по окрестностям опять-таки по недостатку денег, привело меня к неожиданным открытиям и относительно других сторон посольской жизни. Прежде всего меня удивляла чрезвычайная редкость посещений нашего посольства иностранцами, то есть членами других дипломатических миссий, которые, однако же часто видались друг с другом. Эта загадка, однако же, объяснилась тотчас, как только я стал посещать французский трактир. Из разговора между какими-то двумя чиновниками английского и германского посольства, для практики говоривших по-французски во все время обеда и не знавших еще, что я — русский, мне стало ясно, что русского посольства все избегают потому, что оно служит центром грязных сплетен. Семейство американского посланника Брауна потому и покинуло Пекин, что русские его «друзья» и соседи были слишком беззастенчивы по отношению к чести двух молодых дочерей посланника. (Этот факт подтвердили мне и некоторые члены самого нашего посольства, не упустившие случая посвятить и меня, человека им постороннего и даже неприятного, в их личные дрязги.). Никакой общеинтересной беседы члены русских миссий поддерживать не могли по недостатку образования, а сам поверенный в делах Бюцов представлял смешное зрелище молодого человека с лысиной, безнадежно ухаживавшего за дочерью английского посланника Олкока, который относился к нему с британским высокомерием. Единственным приятелем г. Бюцова был французский поверенный в делах Рошешуар, которого незадолго перед тем китайцы отколотили на улице и которого поэтому большая часть европейцев сторонилась. Но и Рошешуар знал себе цену по сравнению с представителем России и высказал это, между прочим, следующим поступком, бывшим при мне. Я уже упомянул, что в день моего приезда Бюцов ездил на обед во французское посольство по случаю именин Наполеона. Он был при этом в официальном костюме, а утром даже в мундире, чтобы поздравление было как можно торжественнее. На этом наполеоновском празднике он предупредил Рошешуара, что и у нас будет такой же 30 августа (11 сентября). Но 30 августа (11 сентября) пришло, а никто, абсолютно никто из иностранных дипломатов, ни сам званый Рошешуар, не явился с поздравлением, даже не прислал карточки. Мы провели этот день одни, и за обедом Бюцов, красный как рак, публично объявил, что он «этого афронта Рошешуару никогда не простит». Но что же случилось? На другой день, сидя с Бюцовым на балконе его дома и толкуя о книге Юзефовича «Сборник трактатов России с Востоком», которую в посольстве не знали до моего приезда, я увидел вдали господина в пиджаке, с хлыстом в руках и сигарой во рту, быстро приближавшегося к нам от главного входа в посольство, куда проник он без доклада, очевидно как свой человек. Это был Рошешуар.
— Ah, mon chèr Butzow {3.87}! извините: я и забыл совсем, что вчера были именины царя! Но зато как мы охотились: просто прелесть!..
И не дав Бюцову одуматься, чтобы принять обещанную вчера надутую физиономию, он повел шутливый разговор, быстро приведший и нашего дипломата в веселое расположение духа. Я был познакомлен при этом с Рошешуаром, но не счел нужным вступать с ним в беседу и ушел с балкона, предоставляя нашему представителю одному показывать перед битым французом, как он ему «не прощает вчерашнего афронта».
Но, кроме Рошешуара, и другие дипломаты давали Бюцову чувствовать расстояние между им и ними, да еще в какой оскорбительной форме! Австрийский чрезвычайный посол барон Пец только что заключил, в конце лета 1869 года, с китайским правительством договор об открытии китайских портов австро-венгерским судам. Все его поздравляли с успехом, Бюцов в том числе. На другой день по подписании трактата, Пец, желая как можно скорее, вернее и дешевле доставить экземпляр его и всех относящихся к нему бумаг в Вену, пришел к нам в посольство, в сопровождении вновь назначенного в Китай генерального своего консула Каличе, просить об отправлении довольного большого пакета через Кяхту и Петербург, то есть по русской почте. Пакет должен был ехать в русской обложке, как казенная корреспонденция, до Петербурга, а там поступить в местное австрийское посольство. Разумеется, Бюцов немедленно согласился исполнить просьбу и при этом, видя довольную улыбку австрийского дипломата, пригласил его на завтра к себе, чтобы «выпить вместе бокал шампанского за здоровье императора Франца-Иосифа и его представителей в Пекине». Я никогда не забуду последовавшего при этом быстрого обмена насмешливых взглядов Пеца и Каличе и последовавшего затем отказа под тем предлогом, что им уже делает такую честь английский посланник Олкок. Вся моя внутренность перевернулась при этом, и я более чем когда-нибудь спешил оставить «российско-императорское» посольство в Пекине, составленное из таких «русских», как г.г. Бюцов, Бретшнейдер, Харрис, Вебер, Фричче и Ленц. Ожидать этого отъезда долго, по счастью, не пришлось.
Прибыла из Кяхты почта, привезла мне несколько номеров «Голоса», две книжки «Revue des deux Mondes» {3.88}, одно частное письмо — и, конечно, ни слуха о векселе. Я на другой же день отправился в путь, причем некоторое внимание оказано было мне опять только секретарем Гладким, пришедшим в трактир вместе позавтракать и потом пожелать доброго пути. Доктор Бретшнейдер, как я уже упомянул, спрятался, чтобы не принимать от меня прощального визита; студенты тоже куда-то исчезли. Трактирный повар-француз и чиновник немецкого посольства Бисмарк были вежливее всех прочих случайных моих пекинских знакомых: они пожелали мне успеха в моих занятиях.
Я выехал в Тунчжоу на этот раз один, без казака, с простым китайским возницей, которому было объяснено в посольстве, что он должен мне приискать лодку для сплава в Тяньцзинь. Все прошло как нельзя лучше. Не стесняемый никакими русскими соглядатаями, с английской картой в руках, я ехал как хотел, останавливался где хотел, местами даже делал буссольную съемку, чтобы пополнить и исправить карту, и через полтора суток по выезде из Пекина опять водворился в гостинице у пароходной пристани в Тяньцзине. Чтобы очистить совесть исполнением официального долга, я вновь посетил консула Скачкова, попросил у него отчета о ходе русской торговли и содействия к осмотру местного порохового завода, получил отказ и решился более не прибегать к услугам русских чиновников, даже сторониться от них. Существенных невыгод от этого быть не могло, потому что без особого труда их можно было заменить другими лицами, частью русскими же, частью иностранными. В Тяньцзине, например, по вопросам о русской торговле с Китаем мне дал очень обстоятельные разъяснения богатый купец Старцев, который, торгуя через Монголию и Кяхту, конечно, знал все относящееся до этого коммерческого пути лучше, чем Скачков. И в самом деле, из его слов уже в 1869 году я был убежден, что сухопутная русская торговля с собственно Китаем недолговечна. Провоз тонны товаров из Шанхая в Москву через Тяньцзинь, Калган и Кяхту обходится ровно в восемь раз дороже, чем провоз той же тонны через Суэц и Одессу. По соображению данных Старцева оказывалось, что точка, в которой кяхтинские и одесские чаи одного и того же сорта могут продаваться по одной и той же цене, лежит на востоке от Уральских гор, приблизительно около Тюмени; и в самом деле мы видим ныне, что одесский чай продается в этом городе. И сам Старцев бросил Тяньцзинь, находя, что там торговать невыгодно, особенно русскими сукнами, которые в 1869 году еще не совсем были изгнанными с китайского рынка, а теперь уже исчезли совсем от соперничества английских. Умный торговец говорил мне даже, что если он удержит за собой известную долю в снабжении мануфактурными товарами Калгана, то есть Южной Монголии, то будет покупать эти товары не в Москве или Нижнем Новгороде, а в Шанхае, у англичан; караванную же дорогу через Монголию бросит совсем, как слишком полную случайностей и риска. Прежде, когда мы были одни в связях с Северным Китаем, торговать было можно, потому что мы ставили цены; теперь это вещь невозможная.
И не по экономическим только вопросам оказалось очень возможным обойтись без содействия Скачкова и братии. Захотел я осмотреть пороховой завод, только что возникший и еще не вполне доконченный, — стоило только обратиться в бюро г. Медоуса, строителя завода и вместе американского консула, чтобы получить carte blanche {3.89} на подобный осмотр. Нужно мне было видеть образцовые китайские войска во время учений — один из европейских инструкторов этих войск, ходивший в гостиницу играть на бильярде, немедленно пригласил меня бывать на ученьях хоть ежедневно и даже указал место, где они производятся. Мало того, когда, после трех-четырех подобных инспекций в качестве зрителя, я заметил, что он, по-видимому, намеренно кое-чему недоучивает китайцев, то получил сказанный с усмешкой ответ:
— Разумеется! Какое нам дело, что китайские солдаты не уважают своих офицеров, разговаривают с ними и между собой во фронте и т. п.? Нам лишь бы они знали ружейные приемы, маршировку и эволюции — а там, чем скорее они разбегутся от первых европейских выстрелов, тем лучше.
Артиллерийский арсенал, где отливались орудия и делались лафеты, я посетил и подробно осмотрел без всяких дозволений кого бы то ни было, просто под прикрытием моего европейского костюма; арсенал же лежит недалеко от европейского квартала и устроен в бывшем буддийском монастыре.
Так прошло более недели, во время которой я, без малейшей помощи официальных представителей России, узнал о Китае очень многое из того, что возложено было на меня инструкцией. Консул, видя, что я к нему не заглядываю, сам пришел ко мне в гостиницу, но был очень сухо мной принят, причем я даже сказал ему, что он значительно постарел и подурнел со времени «блаженного» пребывания в Чугучаке, что вызвало у него краску досады. Желая, вероятно, поэкзаменовать меня в знании китайщины хоть по европейским источникам, он завел речь о Станиславе Жюльене, Абеле Ремюза и Клапроте; я поддерживал разговор, но напомнил, что есть авторитеты поновее из английских ученых, которых труды конечно-де он знает a fond {3.90}, все эти Моррисоны, Уэльс-Виллиамсы, Адкинсы, Уайлы, Медгерсты и т. д.
Видя, что и тут я не совсем отстал от науки, и не имея, со своей стороны, возможности судить о малопонятных ему английских авторах, Скачков пустился ценить собственные заслуги по изучению Китая, хотя, кажется, главнейшие из них состояли в переводах с китайского статей о шелководстве и о приготовлении туши. Я, разумеется, не возражал, и это поощрило консула расхвастаться до того, чтобы уверять меня, что он много содействовал установлению правильных взглядов на Азию у Гумбольдта {3.91}, которому будто бы доказал все ничтожество Клапрота. Я едва удерживался от смеха и только поглядывал по временам на часы, давая понять, что аудиенция затянулась. Мы расстались, наконец, полными антагонистами, чтоб не сказать врагами, особенно после того как я пожалел о выходе из Азиатского департамента Ковалевского, которого Скачков искренне ненавидел. Достойный наставник Гумбольдта потом, года через три, излил свою злобу на меня в статье одного московского журнала, но я промолчал в ответ, то есть посторонился, и консульская желчь, которой он думал отравить мое существование и повредить мне по службе, попала туда, куда ей следовало, то есть в помойную яму забвения…
Тяньцзинь в 1869 году был связан с Шанхаем двумя пароходными линиями: росселевской и траутмановской, рейсы которых были периодичны, именно раз в неделю, поочередно, иногда, впрочем, и чаще, если было достаточно грузов. Я приехал в августе на траутмановском пароходе, теперь возвращался на росселевском. Он имел те же качества, но только сверхпалубные надстройки пониже. Мы шли очень спокойно, и если бы не побоище, учиненное капитаном над несколькими китайскими матросами, то мир наш был бы ничем не нарушен до самого Шанхая. Мы заходили в Чифу, и тут я был поражен превосходным военным положением английского консульства, которое имеет вид форта или замка, командующего и портом, и городом. Я уже знал по примерам Иокогамы, Кобе, Шанхая и Тяньцзиня, что англичане везде на крайнем Востоке устраивают свои посольства и консульства на самых видных и стратегических местах; но с такою поразительною откровенностью, как в Чифу, они не поступали нигде. На рейде, разумеется, красовался английский военный корабль, как во всех китайских портах, а кроме того в скором времени ожидалась целая летучая эскадра, которая, ежегодно «показывает британский флаг» не по-русски, стоянием одного какого-нибудь клипера в «приятном» порту данной страны по целым месяцам, а по-английски, то есть переносясь с места на место целой массой судов, причем и политическая внушительность достигается, и команды моряков получают большую опытность в плавании. Великая мировая сила эта Англия, к сожалению, часто направленная на служение интересам самого низкого нравственного достоинства!
«Twenty six! Twenty six! Twenty five! Twenty four! Twenty one!» {3.92} — выкликал меланхолическим, но довольно резким голосом матрос-малаец, бросая в воду лот при входе нашем в устье Янцзы-цзяна. Когда он случайно провозгласил: двенадцать! — капитан скомандовал: «Stop», и мы некоторое время двигались только по инерции, каждую минуту ожидая, что вот нам объявят, что мы на мели. Но все прошло благополучно, и скоро машина опять начала работать, а далекие берега реки очерчивались все с большей и большей ясностью. Мы прибыли в Шанхай около полудня, и я еще успел застать завтрак в гостинице, на этот раз не в пресловутом «Astor-house», а в более скромном отеле французского квартала, где и водворился с лишком на месяц. Немедленно попросил я хозяина-француза достать мне грамотного переводчика из китайцев, и дело это на другой день удачно устроилось. Ко мне явился молодой китайский щеголь в светло-голубой шелковой кофте, с длиннейшими ногтями: ясный признак не только благовоспитанности, но и ума, или по крайней мере классической учености. Мы очень скоро сговорились об условиях, которые состояли в том, что он будет ходить ко мне хоть каждый день, по востребованию, на полтора часа перед обедом, а я ему буду платить за работы каждый раз полтора лана (3 рубля медью). Работы должны были состоять в переводах с китайского языка на французский китайских названий из атласа Небесной империи, изданного ху-гуанским {3.94} генерал-губернатором, и из официального дорожника. Если бы понадобилось делать другие переводы, то он должен был сам писать их по-французски, что мог делать умело, потому что служил во французском консульстве, но в таком случае плата удваивалась. Более недели он посещал меня аккуратно, но потом стал опаздывать, требуя, однако, полной платы за полтора часа, а в извинение, разумеется, приносил службу в консульстве. Я сначала терпел, ввиду того, что мы успели уже перевести маршруты по Маньчжурии, Монголии и Джунгарии, но потом заметил щеголю, что если ему дорого время, то мне дороги деньги. Он отвечал, что и без того рискует многим, посещая меня, ибо о занятиях его с иностранцем, да еще русским, стало известно консулу, и последний, через секретаря, уже сделал ему замечание. Тогда я поручил ему делать для меня переводы у себя дома и приносить мне их, когда смеркнется; он взялся, но скоро объявил мне, что не всегда может ручаться за точность правописания «застенных» названий, потому что иногда они чисто китайские по происхождению, иногда представляют только китайскую транскрипцию туземных имен (Килинь вместо Гиринь), а иногда являются переводом туземных названий на китайский язык (Хэйлунцзян-чэн вместо Сахалян-ула-Хотонь, то есть «Чернореченск»). Тогда я, дороживший больше всего изучением застенных китайских владений, отказал моему щеголю.
Эту потерю сотрудника, хоть не совсем удовлетворительного, но все же полезного, я полагал возместить двумя новыми знакомствами, сделанными мной при посредстве секретаря русского консульства. Один из этих знакомых был немец-полиглот, знавший даже несколько по-русски и хвалившийся, что может читать «отче наш» на 34 языках, а на многих понимать книги или даже говорить. Я, конечно, обрадовался предложению такого знакомства; но секретарь сам выражал какие-то таинственные сомнения на его счет и, наконец, только как бы скрепя сердце, свел нас, предупредив меня словами: «Ну, да ведь вам с ним не детей крестить». Полиглот был библиотекарем зарождавшейся шанхайской библиотеки, и это-то особенно соблазняло меня ибо через него я получал доступ в эту библиотеку, составлявшую прежде собственность известного синолога Уайли (Wylie). Но, походив несколько времени в это книгохранилище, я стал замечать нечто странное в поведении моего немца: он очень часто приходил и уходил в ту же библиотеку-комнату, где занимался я, но, уходя, постоянно уносил под полою или в кармане книги. Я, опасаясь быть замешанным в грязную историю, перестал посещать библиотеку, успев, впрочем, почерпнуть из нее материалы для очерка восстания тайпинов.
Другой мой знакомый был россиянин, сын богатого московского купца, посланный отцом в Шанхай учиться торговому делу и даже определенный в местную таможню, где обязательно изучал китайский язык; но он оказался таким пустым хлыщом, что я, накормив его раза два обедом и пообедав столько же раз у него, прервал с ним всякие связи. Малый он был добрый, но ограничен по уму и познаниям до последней степени. Китая он вовсе не знал, по крайней мере с научной точки зрения, и все, что мне удалось сделать при его помощи, это достать печатные английские отчеты китайских таможен о внешней торговле Китая.
Я уже забыл теперь имена обоих этих сотрудников, доставленных мне консульством, да, по правде, могу и не сердиться в этом случае на мою память, так часто изменяющую мне вообще в деле собственных имен. Нашлось и без них немало знакомств, корыстных и даже бескорыстных. Первые были самые полезные. Захотел я осмотреть в подробности шанхайский арсенал, обширное учреждение, где не только выделывались ружья и пушки, но строились корабли, — и хозяин-француз подыскал мне из европейских техников арсенала господина, который за десять долларов стал моим проводником, да таким внимательным, что я к концу осмотра едва волочил ноги от усталости, а придя домой мог составить описание виденного в объеме целой тетради. Нужно было мне видеть казармы, или, точнее, барачный лагерь местных китайских войск европейского образца, — тот же хозяин познакомил меня с одним инструктором, ходившим обедать в гостиницу, — и осмотр лагеря был сделан со всей подробностью, а плата за то состояла из обеда и двух бутылок шампанского, выпитых вместе. Потом тот же инструктор, хорошо помнивший еще восстание тайпинов, рассказал мне многие эпизоды его, которые я внес в мое описание.
Когда мне вздумалось посетить иезуитский монастырь — завод Сикавей, — для меня немедленно приготовлена была колясочка с проводником-французом, который у патеров был на отличном счету… Конечно, за нее приходилось платить, и это при плохом состоянии моих финансов было нелегко, иногда даже невозможно, но по крайней мере я был избавлен от оскорбительного, покровительственного содействия, точнее вмешательства русских чиновников-соглядатаев, которые притом постоянно добивались, чтобы я смотрел на все их глазами.
Чтобы иметь возможность держаться как можно независимее от консульства, я вскоре по прибытии в Шанхай постарался уплатить мой долг в триста долларов. Для этого пришлось заложить в банке несколько процентных бумаг, составлявших мою собственность. Условия займа были тяжелы уже по одному тому, что мои бумаги были русские, хотя написанные на металлические деньги, а потому, чтобы не нести больших потерь, я взял ссуду только на месяц и теперь имею удовольствие видеть нередко свою закладную между другими бумагами, потому что и к концу октября содержание мое из Петербурга не было получено и выкупить залога мне было нечем. Эта подлость штабных чиновников приводила меня в состояние, близкое к бешенству, и чтобы не зависеть уже совсем от казенных покровителей и друзей, я продал затем и остальные собственные процентные бумаги, именно билеты выигрышных займов, которые в это время стоили в Петербурге по 150 рублей, но за которые мне купец-немец, имевший в России дела, дал только 80 рублей, которые, будучи переведены по курсам: бумажного рубля на фунты стерлингов, фунтов на ланы (taels) и ланов на доллары, составили в результате едва по 40 долларов за штуку… Могу сказать смело, что торжественное воззвание: «Твоя от твоих тебе приносяще!» было мною в этом случае буквально исполнено по отношению к русской казне. Все, что оставалось у меня от бывшего председательского жалованья {3.95}, отдано было мною сполна на выполнение моей новой службы.
Зато некоторое время я отдохнул в моей независимости: купил недостававшие мне книги о Китае, заменил часть сгнившего еще от тропической сырости белья и платья и даже некоторые безделки для подарков знакомым в Петербурге. Обработка собранных сведений шла довольно успешно, так что вся книжка изданных мною потом «Очерков Китая» была в первоначальном виде написана мною в Шанхае; да и не только написана, а и переписана для штаба. К сожалению, это нравственное спокойствие и даже довольство продолжалось очень недолго. 29 октября 1869 года в Шанхай прибыл сын английской королевы Виктории герцог Альфред Эдинбургский, и тогда случилось вот что. Фрегат герцога «Галатея», по глубине осадки, не мог прийти в самый Шанхай, и потому для доставки его королевского высочества в город, в Вусун был выслан нанятый городским обществом речной пароход, несший на корме одновременно английский и американский флаги (он принадлежал американцам), а на мачтах и по снастям украшенный всевозможными другими флагами, кроме русского, ибо не считалось приличным напоминать английскому принцу-моряку, что существует русский флот и вообще русская национальность. На набережной Шанхая, почти около дома нашего консульства, устроена была другая декорация, тоже оскорбительная для России; именно: вдоль пристани расставлены были попарно флаги разных наций в следующем порядке: английский и американский, французский и германский, итальянский и испанский, голландский и бельгийский, португальский и греческий, наконец, русский и сиамский. Я полушутя, полусерьезно сказал находившемуся на встрече секретарю нашего консульства:
— А ведь в Петербурге могут обидеться, если узнают, что в Шанхае русский флаг в таком загоне, и даже рассердятся, приняв во внимание, что один из членов распорядительного комитета по приему английского принца был русский вице-консул, допустивший такое унижение того самого флага, который прикрывает его дом от вторжений китайской таможенной стражи.
Это замечание имело самые неприятные для меня последствия. В тот же день дотоле непосещавший меня вице-консул Диксуелл заходил в мою гостиницу и, не найдя меня дома, прислал потом секретаря пригласить меня на бал, который будет дан городом в честь высокого гостя. Я категорически отказался, сказав, что «являться на официальный бал во фраке мне не приходится, а надевать мундир я не хочу ввиду неуважения, оказанного и принцем, и городом русскому флагу». С этой минуты разрыв мой с консульством был полный, и я вскоре заметил его последствия. В городе стали считать меня за русского шпиона, намеренно живущего в глухом квартале, чтобы быть незаметным. В ответ на это я немедленно переселился в «Astor-house», то есть на толкучку туристов, посещающих Шанхай, где моя личность исчезала в толпе. Слухи на время умолкли, тем более что в новом жилище я приобрел несколько новых знакомств: ученого-путешественника Рихтгофена, австрийских дипломатов Каличе и Шлика и пр., из которых Рихтгофен сам мне сделал первый визит, хотя и не жил в гостинице. В «Astor-house» останавливался также приезжавший на время из Фучжоу один из французских техников фучжоуского арсенала, от которого я успел добыть несколько достоверных сведений об этом учреждении, давшем Китаю много хорошо устроенных судов и даже сведущих морских офицеров и техников. На замечание мое, почему для этого огромного и важного учреждения выбрано крайне невыгодное место под горой и в такой части речного прибрежья, что неприятель, придя с моря и сделав в нескольких верстах от арсенала небольшую высадку, может в несколько минут разрушить здания и не допустить вывоза из них имущества, — француз с иронической улыбкой отвечал, что не знает, что это не его дело… В 1889 году французский адмирал Курбе, легко разрушивший фучжоуский арсенал, сказал, в чем тут было дело: арсенал стоил китайцам 20 000 000 рублей, и теперь, в 1896-м, будет восстановлен французами же, вероятно, за еще большую сумму.
Я думал в этот период пребывания в Шанхае сделать поездку в Ханькоу, чтобы ознакомиться с этим центром чайного мира. Но, сосчитав наличные деньги, увидел, что это невозможно без большого риска остаться в один прекрасный день на финансовой мели. Жизнь в «Astor-house» была отвратительно дорога: сто двадцать долларов в месяц за пансион, доллар в день за топливо камина, который, однако, вовсе не грел, полдоллара за мытье каждой рубашки, полтора доллара за ванну, в которой трудно было не простудиться, доллар за два стакана чая с несколькими английскими сухарями и т. д., в том же роде. Если бы к этим расходам присоединить издержки на поездку в Ханькоу, то к новому, 1870 году у меня казна по-прежнему была бы почти пуста, несмотря на прибытие, наконец (в ноябре вместо июля), моего жалованья в виде векселя на Лондон, реализованного с потерей лишь 4 1/2 процентов. Да и почтенный наш консул в Ханькоу, купец Иванов, доставил мне достаточные для моей цели сведения по вопросам, которые я ему предложил; а что оставалось затем неясным для меня, то дополнили словесно два других русские торговца из Ханькоу, приезжавшие в Шанхай и останавливавшиеся в «Astor-house» (имена их, к сожалению, забыл). Словом, мне казалось, что провести зиму, до февраля, лучше всего будет в Шанхае, а с началом более долгих дней и теплой погоды — переехать в Японию. Но давно известно, что человек предполагает, а бог располагает; последний же был ко мне постоянно неблагосклонен во все время моей китайско-японской командировки. Не ограничиваясь той частью своей воли, которую он, по теории Ястржембского, передавал мне, за номерами и без номеров, через разные начальства, он сделал мне личную неприятность в виде сильной простуды горла и возобновления жестоких припадков ревматизма, полученного мною в 1860 году на Каскеленском проходе, в горах Алатау. Я попробовал обратиться к одному ученику Эскулапа, но и тот ничего не сделал, да и не мог сделать. В комнате моей, выходившей окном на северо-восток, были щели, через которые холодный декабрьский ветер проникал без затруднений. Тщетно я не снимал шубы и помещался с рабочим столом у самого камина: в то время, как правая рука моя, согреваемая огнем трещавшего кокса, писала, на всю левую половину тела действовала температура 3—4° Реомюра, и ревматизм, насморк и кашель усиливались. Ночью, когда камин не топился, термометр падал до 2°, и я должен был дышать этим холодным воздухом, дрожа от стужи, ибо если шуба защищала сверху, то жидкий тюфяк вовсе не защищал снизу. Я протянул так почти весь декабрь, издержал пропасть денег на доктора, аптеку и топливо, но, наконец, увидел необходимость переселиться безотлагательно в более теплую местность, именно в Нагасаки, который хотя лежит севернее Шанхая, но имеет очень теплую зиму.
V
На переезде из Шанхая в Нагасаки я разобрался с добытыми мною данными по изучению Китая в тех отношениях, которые были мне указаны инструкцией. Оказалось, что в течение пяти месяцев моего пребывания в Срединном царстве мне удалось собрать и частью даже обработать следующие материалы:
1) О племенном составе населения Китайской империи;
2) О выселениях китайцев в Америку, Австралию и разные азиатские страны;
3) О европейских поселениях в Китае и флотах в Китайском море;
4) О русских чаепромышленниках в Хунани;
5) О путях, ведущих в Китай со стороны русской границы;
6) О внешней торговле Китая, особенно с Россией;
7) О пиратстве на китайских водах;
8) О восстании тайпинов;
9) О китайских войсках, устроенных по европейскому образцу;
10) О распределении по гарнизонам китайских войск в застенных владениях: Маньчжурии, Монголии, Чжунгарии и Восточном Туркестане;
11) О вновь возникших в Китае военно-технических и учебных заведениях в Тяньцзине, Шанхае, Нанкине, Фучжоу;
12) Об укреплениях Дагу и Кантона, единственных, какими в то время Небесная империя была защищена или, по крайней мере, думала быть защищенной с моря;
13) О китайском флоте, как вновь возникшем в Шанхае, Фучжоу и Кантоне из судов европейского типа, так и старом, чисто национальном и рассеянном по прибрежьям моря и по рекам.
Таким образом, на все пункты данной мне инструкции я мог уже дать определенные, иногда совершенно полные ответы, достаточные, чтобы удвоить размеры описания Китая в «Военно-статистическом сборнике». Оставалась нетронутой одна задача: изучить восстание дунганей. Но не в Шанхае же и даже не в Пекине можно было изучать события, совершившиеся в северо-западной части Небесной империи, большей частью за Великой стеной. Им я думал посвятить последние месяцы моей командировки или время моего возвращения в Россию. Надеясь, что к той поре возвратится в Пекин генерал Влангали, я был уверен, что эта часть моей программы будет исполняться при лучших условиях, чем было до сих пор. Теперь же, в Нагасаки, я снова вернулся к изучению Японии, с целью составить полное ее описание.
Чудесный, полный нравственного спокойствия месяц провел я в «Hôtel de Belle-vue» {3.96}, расположенном в европейской части Нагасаки, среди тенистого сада. Правда, тень от широковетвистых, большей частью хвойных и потому вечно зеленых деревьев не была сама по себе нужна в январе, но деревья защищали от ветров, и это уже было удобством в доме, наполовину состоявшем из оконных и дверных рам с одиночными стеклами. В чистом воздухе, после прогулок по очаровательным окрестностям Нагасаки, как славно работалось, по сравнению с Пекином и даже Шанхаем! А за материалами дело не стояло: у меня были под руками не только старые классические писатели о Японии: Кемпфер, Тунберг, Зибольд, но и все новейшие — от Перри до Диксона и Линдау. Да, кроме того, были все европейские газеты, издававшиеся в Иокогаме и Нагасаки, и, наконец, важнее всего — возможность поверять многое из прочитанного личным наблюдением или расспросами у европейцев — старожилов в Японии. В Нагасаки их было больше, чем где-нибудь, особенно между голландцами, а с одним из последних, Герстом, я познакомился уже с весны 1869 года на «Мерисе» и «Камбодже». Хотя он лично был новичок в стране, как и я, но у него, как у врача местного госпиталя и профессора математики и химии в местной медицинской школе, была масса знакомых и между европейцами, и между японцами, и это давало мне возможность узнавать многое из первых рук. Только о политических переменах в строе Японии в Нагасаки, как городе провинциальном, знали мало, но политика на этот раз и не занимала меня. Я больше интересовался экономической статистикой страны и вопросами, относящимися к ее общественному и умственному перерождению, чем борьбой партии при дворе микадо и столкновениями японского правительства с иностранными посольствами в Иедо и Иокогаме.
И было чем интересоваться в той сфере, которую на этот раз я отвел себе! Вот, например, факты из истории умственного прогресса японцев того времени. Герст прибыл в Нагасаки только в июле 1869 года, а в январе 1870-го я был у него на лекции математики и видел, как ученики его бойко решали задачи из геометрии и алгебры, несмотря на то, что преподавание последних шло через переводчика и что от начала курса прошло всего полгода. Из химии успехи были еще поразительнее. Юноша лет семнадцати, сын солевара, увидев в учебнике химии (французском) рисунки градирен, немедленно попросил у Герста объяснений (хотя еще очередь до хлористого натрия не дошла) и потом убедил отца безотлагательно ввести европейский способ обогащения маточного рассола взамен туземного, который состоял в поливании этим рассолом куч крупного песка, причем, конечно, соль получалась худшего качества и в меньшем количестве. Другой подобный химик en herbe {3.97} изучил голландский способ очищения камфары и тотчас сообщил его соотечественникам, которые до этого должны были продавать свою камфару европейцам в сыром, неочищенном виде. И туземная перегонка началась, к немалому огорчению голландца-доктора, который увидел в своей «неосторожности» поступок антипатриотический, потому что отныне амстердамские очистители камфары должны были лишиться дохода. Улучшение приемов по разработке каменноугольных копей на острове Такасиме также занимало японцев; но на этот раз они не успели сами ввести эти улучшения и попали в руки англичанина Гловера. Кусок был слишком лаком для того, чтобы европейские просветители-хищники не захватили его в свою пользу, во имя «христианской цивилизации». Немедленно целая толпа авантюристов, якобы техников каменноугольного дела, водворилась на Такасиме, и бедный князь Хизен, владелец острова, тотчас почувствовал ценность цивилизаторских услуг. Когда тот же Гловер доставил ему в январе 1870 года заказанный прежде броненосный корвет, то казна феодала оказалась пуста, и во все время моего пребывания в Нагасаки вопрос о принадлежности броненосца оставался нерешенным, пока не взялось за дело покупки само правительство микадо.
И во многих других отношениях научное и промышленное преуспевание японцев наглядно обнаруживалось в Нагасаки. Пароходный завод в Аконуре, еще летом 1869 года работавший под управлением голландских техников, теперь уже не имел ни одного иностранца. От последнего кузнеца до директора — все в нем трудившиеся были японцы. Мортонов эллинг приглашал европейские суда, нуждавшиеся в починках, воспользоваться удобствами, которые он доставляет, и притом за гораздо меньшую плату, чем доки в Шанхае. Развозка европейских товаров из Нагасаки по другим портам острова Кюсю делалась помощью японских пароходов, и вообще нигде в то время японцы так не вошли во вкус европейской цивилизации, как в этом городе, где они с лишком двести лет сряду держали голландцев как пленников, а прочим европейцам заявляли категорическое non possumus {3.98} на домогательства их торговать с Японией. Зато и европейская колония в Нагасаки теснее, чем в других открытых портах, сблизилась с туземцами. На улицах и в домах встречались дети, очевидно, смешанного происхождения — плоды морганических браков пришельцев с мусме, из которых иные имели порядочное общественное положение. Даже наша русская народность, невидимая или забитая в других портах Востока, напоминала о себе в Нагасаки если не русскими торговыми домами и консулами, которых не было, то целым населением деревни Инасы, говорившим по-русски, иногда очень порядочно. Деревня эта была облюбована русскими военными моряками со времени стоянки около нее судов эскадры адмирала Попова {3.99}, и близ нее находились бывший адмиральский домик, в виде польского чворака, и русское кладбище. Я посетил оба эти памятника пребывания в Нагасаки моих соотечественников и на крыльце домика встретил при этом японского каменотеса, который по-русски говорил совершенно правильно, хотя и позабыл некоторые слова. Он объяснил мне, что прислан своим начальством починить ступеньки лесенки, которая вела в чворак, ибо японцы заботились, чтобы русский домик, в случае прихода русских моряков, был ими найден в полной исправности.
В Нагасаки я достал от представителя американского дома Walsch {3.100} список европейских кораблей, разновременно купленных японцами. Документ этот, единственный в своем роде, приложен к моему «Обозрению Японского архипелага», но, к сожалению, я до обнародования имел неосторожность сообщить его встреченному в Иокогаме русскому офицеру, лейтенанту Старицкому, и тот напечатал его прежде меня в «Морском сборнике», причем даже не упомянул об источнике, хотя это и было поставлено у нас условием. Это был один из случаев, доказывающих, как нужно стеречься наших соотечественников, делясь с ними сведениями. Но, по счастью, еще прежде, чем показать список г. Старицкому, я послал копию с него в Петербург, и таким образом, по крайней мере, предупредил нарекание, что я заимствовал факты от случайно заезжих в Японию. Впрочем, Старицкий со своей стороны был мне полезен сведениями о Сахалине, только я об этом не промолчал, а с благодарностью упомянул в предисловии к моей книге.
И список японских князей, с обозначением их доходов, список гораздо подробнее олкоковского (в «The Capital of the Tycoons» {3.101}), был мною добыт в Нагасаки, впрочем, без всяких хлопот. В Японии были отлитографированы на длинных полосах бумаги гербы и флаги всех владетельных особ, с присовокуплением имени самих особ и годовых их доходов. Ввиду любопытства европейцев к этого рода статистическим документам, надписи на них были сделаны по-английски, и мне оставалось только удостовериться, что мое собрание полосок было полно и что надписи не перевирали собственных имен, что и сделал с помощью одного молодого японца, служившего, кажется, в таможне. Полоски эти были потом переданы мною адмиралу С. И. Зеленому {3.102}, вместе с подробным планом Иокогамской бухты, и поступили первые в морской музей, а второй — в «секретное» отделение морских карт, как уведомил меня о том почтенный адмирал особой запиской, любопытной в том отношении, что она не подписана конечно потому, что в России адмирал или генерал унизил бы себя, поставив свою подпись на бумаге, адресованной к подполковнику и не составляющей предписания ему…[51]
Желая ближе изучить окрестности такого важного в военно-морском, торговом и промышленном отношениях пункта, как Нагасаки, я делал довольно дальние поездки в окрестности его, большею частью верхом, с одним бетто, то есть пешим конюхом, который бегал за мною, когда лошадь шла рысью. Это сословие бетто было очень многочисленно в Японии и служило самому правительству вместо курьеров. Совершенно нагой, с небольшой палкой через плечо, на которой подвязывался ящичек с письмами или посылками, бетто отправлялся в путь рысью и делал по 8—10 верст в час, так что почта проходила до 200 верст в сутки, причем курьеры-возчики сменялись по станциям, как у нас ямщики и лошади, совокупность которых они заменяли собой. У частных людей, не исключая европейцев, водворившихся в Японии, бетто был просто конюх, обязанный кормить, чистить, седлать лошадь и следовать за ней безотлучно, куда бы и каким бы аллюром ни отправился на ней господин. Это последнее условие должно бы было казаться варварским, бесчеловечным для представителей «христианской цивилизации», и они его порицали, но никогда сами не отказывались от услуг бетто в их полном размере. Замечу, что бетто, благодаря их профессии, были самыми крепкими людьми в Японии, с широкой грудью и толстыми мускулами, только были ли они долговечны, этого я дознаться не мог, несмотря на многие расспросы. Обыкновенно бетто с летами повышался по лестнице домашних слуг и кончал жизнь на каком-нибудь спокойном месте, но многие ли из них доживали до этого?
В Нагасаки при мне была одна из последних вспышек ненависти японцев к католицизму. Вероятно, еще с XVII столетия, несмотря на симабарскую резню 1636 года {3.103}, на острове Кюсю оставались тайные последователи христианства; после 1859 года католические патеры, получив снова доступ в японские порты, успели подновить усердие своих тайных агентов, и одна японская деревня к северу от Нагасаки гласно заявила себя католической. Тогда правительство велело деревню эту сжечь дотла, а жителей выселить внутрь страны, рассеяв их по частям. Патеры, я думаю, радовались в душе, ибо это было наилучшее, испытанное веками средство распространять их учение; но на словах они негодовали и даже довольно недвусмысленно обвиняли «в злодеянии» представителя еретической Англии Паркса, который в самом деле накануне сожжения деревни еще был в Нагасаки, где провел несколько времени и имел свидания с губернатором. Быть может, в таком обвинении была и доля правды: ведь католическое влияние на Востоке есть влияние Франции, а Паркс слишком ярый пальмерстоновец, чтобы не быть ревнивым к успехам французской политики. Совпадение его приезда в Нагасаки с данным эпизодом останавливало внимание не одних патеров.
Умеренность зимы в Нагасаки так велика, что бамбуки остаются зелеными, а снег даже на горах лежит лишь по нескольку часов. Имея жительство в солидно построенном доме, можно почти и не топить комнат или довольствоваться японскими очагами, вносимыми на самое короткое время; но, к несчастью «Hôtel Belle-vue», как я уже упомянул, был построен слишком легко и напоминал стеклянную оранжерею, окруженную галереями, или верандами: оттого приходилось часто топить, что, впрочем, обходилось не так дорого, как в Шанхае. Несмотря на это неудобство, я быстро вылечился от одолевавшего меня в Китае кашля, и самый ревматизм возвращался лишь по временам в слабой степени. С восстановлением здоровья возвратилась и психическая бодрость, и я только ждал известия о получении моего содержания за текущее полугодие[52], чтобы начать исполнение широкого плана, который придумал в Нагасаки. План этот состоял в том, чтобы отправиться через Иокогаму на север Японии, в Хакодате, а оттуда на Сахалин или во Владивосток, далее в Маньчжурию или Монголию и из Урги на запад к берегам Верхнего Иртыша. Таким образом, я осмотрел бы все японские и китайские земли, прилегающие к России, а их изучение, конечно, было главной целью моей командировки. На последней части предположенного маршрута я коснулся бы окраины местностей, обуреваемых дунганским восстанием {3.104}, и, следовательно, мог бы собрать о нем обстоятельные известия. Для такого путешествия, конечно, нужны были значительные наличные деньги именно в серебряной монете, и я послал докладную записку министру финансов об ассигновании мне содержания за второе полугодие 1870 года серебряными рублями с доставкой их в Ургу. До русских же владений в Приморской области я рассчитывал доехать без больших издержек при помощи клипера «Всадник», плававшего в это время в Японском архипелаге. С этой целью я написал капитану клипера в Иокогаму письмо, прося его известить меня, может ли он доставить меня на Сахалин, во Владивосток или хотя бы в Хакодате. В ожидании ответа я торопился привести в порядок все данные, привезенные из Шанхая и собранные в Нагасаки.
Дней через десять или более пришел из Иокогамы ответ: капитан-лейтенант Михайлов извещал, что он сам не знает, когда пойдет на север и пойдет ли еще, что притом на военные корабли посторонние пассажиры не допускаются без предписания высшего морского начальства, но что при личном свидании в Иокогаме он объяснит, что в состоянии будет для меня сделать. Это был отказ, вежливый, но несомненный. Я впал в уныние.
Вечером того же дня почта из Шанхая привезла еще более неприятную новость. Из Петербурга мне писали, что так как кредит даже на первое полугодие 1870 года не может быть открыт в 1869 году, то вексель для меня не будет написан ранее января, следовательно, не дойдет до меня раньше конца марта или начала апреля.
Это был последний удар. Я чуть не плакал. Все мои предположения разлетались в прах. Я был осужден влачить печальное существование человека, заброшенного на чужбину и вечно ожидающего денег, а в ожидании связанного в каждом малейшем движении или обязанного делать займы у людей, едва знавших меня по имени. Продать своего у меня ничего уже не было, и наличных средств не могло достать долее, как до конца февраля, если бы даже остаться в Нагасаки, а за расходами на переезд в Иокогаму осталось бы и того менее.
Только тот, кто долго, многие и лучшие годы своей жизни мечтал об исполнении какого-нибудь серьезного плана, кто не жалел ничего для исполнения, начал уже это исполнение, презирая много препятствий, — и вдруг увидел, что все планы его разбиты, в состоянии понять, что происходило во мне… Бедность! бедность! с неизбежным при тебе отсутствием связей и поддержек — ты губишь самые чистые, самые святые начинания!.. Длинная ночь прошла для меня без сна, и к утру я написал докладную записку начальнику Главного штаба графу Гейдену, прося его отозвать меня ранее срока, в том внимании, что все нужное относительно Японии будет мною окончено к лету и что Южного Китая мне тоже посещать более незачем, а посетить Северный можно будет на обратном пути. Я промолчал о том, что действительною причиною моего желания воротиться поскорее домой было постоянное запаздывание моего содержания, ибо это было бы принято за жалобу на штаб и, следовательно, увеличило бы только злобу на меня, а мне и без того было ясно, что записка моя — мой приговор. За десять тысяч верст от Петербурга по прямой линии мне как бы слышались насмешливые замечания «друзей»: «Ну, наконец, доконали этого выскочку! Вперед не будет соваться туда, куда охотно пошел бы и каждый из нас…»
Посылать изготовленную записку по адресу я, однако же, приостановился, в том соображении, что личное свидание с командиром «Всадника» могло еще изменить дальнейшие условия моего существования. А так как срок пребывания клипера в японских водах был мне неизвестен, то я и поспешил в Иокогаму, чтобы застать его там. По прибытии туда я сделал визит капитану Михайлову, словесно объяснил ему во всей подробности то, что излагал прежде в письме, показал свои бумаги и, конечно, получил тот же отзыв, то есть что путешествовать по морю на «Всаднике» мне рассчитывать нельзя.
Тогда записку свою к Гейдену я сдал не то на английскую, не то на американскую почту (чтобы избавиться от прочтения ее пекинскими покровителями) и принялся за работы с фатализмом доброго мусульманина, очень хорошо, впрочем, зная, что пословица «За богом молитва, а за царем служба не пропадают» есть чистейшая ложь и что в России она давно заменена другой: «Бог предполагает, а чиновники располагают», и притом всегда под влиянием чувства зависти.
Две главные невыгоды истекали в данную минуту для меня из безденежья: во-первых, я не мог делать разъездов по стране, даже на небольшие расстояния, например в Иокосуку, в Иедо; во-вторых, должен был отказаться от возобновления многих прошлогодних знакомств с французами, которые, однако же, могли быть мне очень полезными, особенно по изучению японских военных сил и средств. Пользоваться гостеприимством иностранцев и не платить им тем же казалось мне неприличным с моей частной точки зрения и унизительным с точки зрения русского. Через две недели после водворения моего в «Hôtel des Colonies» оказалось, что и на текущие домашние расходы у меня остается какой-нибудь десяток пиастров. Нужно было достать денег quand-même {3.105}. Возможных источников было два: дом Герда, через который ex officio шла моя корреспонденция, и касса «Всадника», про которую капитан Михайлов мне говорил, что она полна. Я обратился сначала туда, куда следовало по моему официальному положению, то есть к консулу Герду, получавшему мои векселя в Шанхае и уже открывавшему мне кредит на 300 пиастров в прошлом году, но получил отказ. Тогда пришлось просить Михайлова, и от него, к счастью, я получил ответ: «Сколько хотите!» Соображая, что по закону мне уже в январе должно было получить из казны 150 фунтов стерлингов, то есть 1 100 долларов, и что если «Всадник» уйдет из Иокогамы, то я могу остаться без всяких средств к жизни и к возвращению домой, я попросил прямо отпуска всех 1 100 долларов и на другой день имел удовольствие их получить. Терзаниям моим наступил конец.
Я немедленно переехал на две с лишком недели в Иедо и здесь, благодаря французу дю Буске, значительно пополнил мои сведения о военных силах и средствах Японии, а также о составе правительственных сфер в Иедо, о главных деятелях переворота 1868 года и пр. В то время еще не вполне улеглись тревоги, сопровождавшие падение тайкуната, и во владениях князя Мито произошли беспорядки в смысле оппозиции новому государственному строю: они, впрочем, были тотчас подавлены, причем один феодальный замок сожжен. В Иедо это произвело впечатление, но нисколько не отозвалось на судьбе бывшего тайкуна, мирно проживавшего в философском уединении в провинции Суруге, — факт, делающий честь правительству Санжо и Ивакуры, руководивших молодым микадо. В то же время в Иедо случилось событие, напомнившее о прежних бытовых порядках, именно публичное кровомщение за обиду, очень давно нанесенную, — о нем тоже толковали, но не более, как теперь толкуют в Париже о дуэлях, столь частых между журналистами и членами клубов, парламента и пр. В данном случае дети мстили за отца, уже умершего. Совершив месть, они сами явились в полицию заявить об этом и, кажется, остались безнаказанными, потому что обида их была заранее занесена в особую книгу, чем самым им давалось право мстить. Это право было особенностью японских законов, сколько мне известно, не повторявшейся нигде: ни в средневековой Европе, ни у народов других частей света, допускавших кровомщение. Реформирующееся правительство микадо в 1870 году еще не касалось его, да и коснулось ли теперь — не знаю. Оно, по совести, мне кажется недурным, ибо поддерживает взаимное уважение и вежливость между людьми гораздо действительнее, чем современные законы о взысканиях за обиды, клевету и пр. в Европе. Сколько мне помнится, право мстить безнаказанно было ограничено, однако же, в Японии сроком двух лет, после чего, если кровомщение совершалось, то рассматривалось уже как преступление, только, вероятно, сопровождаемое «смягчающими обстоятельствами» в глазах судей. Удержано ли оно в современном японском законодательстве, я, к сожалению, не знаю.
По возвращении из Иедо, через некоторое время, я сделал поездку к Иокосуку. Чтобы быть там принятым без всяких подозрений, я предварительно познакомился с одним местным техником, французом Деспанем, который когда-то служил в России при постройке железных дорог пресловутым «Главным обществом» времен Колиньона. Он пригласил меня приехать к нему обедать и ночевать, причем обещал показать все части арсенала, адмиралтейства и даже снабдить планом его и всей Иокосукской бухты.
— Вам ведь, как военному агенту, эти вещи должны быть известны, — прибавил Деспань.
— Помилуйте! — с улыбкой отвечал я. — Кто это вам сказал, что я военный агент? Я просто турист, имеющий единственной практической целью изучение каменноугольного вопроса в китайско-японских портах.
— Так, так! Мы с Шеврье вот и говорим так, да никто нам не верит. Ваше же консульство в Шанхае распустило слух, что вы — военный агент и вместе ревизор, которого цель — ознакомиться с политическим и военным положением Японии и решить, какой политике следовать по отношению к последней.
— Что за вздор! Я никакого отношения к политике и Министерству иностранных дел не имею.
— Нет, имеете, и оттого-то ваши теперешние агенты в Китае и Японии смотрят на вас косо и даже распускают про вас невыгодные слухи… Я вам говорю об этом откровенно потому, что надеюсь, что вы моих услуг не забудете и замолвите обо мне словечко Стремоухову.
— Стремоухову? Да я его почти не знаю совсем.
— Полноте притворяться! Вы только напишите ему два слова, что вот, мол, г. Деспань, француз, живший в России и знающий по-русски (Деспань забыл прибавить, что очень мало и плохо), может быть полезным русским агентом в Японии, а я уж устрою, чтобы добиться звания… ну хоть вице-консула вашего здесь. Я ведь скоро кончаю мою службу в арсенале и возвращаюсь в Европу, откуда если вернусь сюда, то лишь для основания торгового дома и не иначе, как под прикрытием консульского флага какой-нибудь державы. Вот тут вы и можете быть очень полезны.
И Деспань, чтобы задобрить меня, велел подать шампанского, так как весь разговор наш шел после обеда в моей гостинице, где он тоже всегда останавливался, когда приезжал из Иокосуки, и где жил потом около месяца по окончании расчетов с арсеналом и до отъезда во Францию.
Не воспользоваться предложением Деспаня для осмотра Иокосуки было бы странно, и вот в один прекрасный день я взял лошадь и бетто и отправился на полных рысях по назначению. Так как был четвертый час вечера, то нужно было спешить, и я не останавливал коня ни у одного чайного дома, как это обыкновенно делается в Японии для доставления бетто возможности проглотить чашечку чаю. Мой бетто, хоть и был этим недоволен, но не отставал, пока, наконец, на 12-й или 13-й версте я не погнал лошадь в галоп. Таких сильных легких и мускулов, как у этого конюха, я уже не видал потом до 1879 года, когда в Женеве один скороход сделал, в присутствии многочисленной публики, верст 16 не более как в час, беглым шагом, по-видимому, не очень быстрым, но широким и не ослабевшим в скорости.
В Иокосуку мой бетто прибыл через какие-нибудь 15 минут после меня и все боялся, что я пожалуюсь потом хозяину лошади, что он отстал от нее. Пол-ичибу (20 копеек) успокоили его, и он очень был рад, что мог провести ночь на воле, то есть в Иокосуке, а не на иокогамской конюшне. Мы с Деспанем немедленно отправились осматривать все, что было можно, и вернулись к обеду лишь тогда, когда солнце село. Я не мог не отдать справедливости французским инженерам-строителям и руководителям арсенала: они вели дело добросовестно, хотя Верни, директор, брал с японцев по 25 000 рублей серебром в год. Мне жаль было потом, что не удалось посетить Иокосуку вторично, во время посещения ее японским императором, который при этом впервые показывался перед европейцами вне дворца и не в парадной одежде. Тогда можно бы было увидеть не только этого японского подражателя Петра Великого, но и то, как представители европейской цивилизации эксплуатировали даже его личность. Именно в Иокосуку в это время прибыл иокогамский фотограф Беато и тайком снял с микадо портрет, хорошо зная, что это было запрещено и что ни в коем случае ему не удастся сбывать своей фотографии японцам. Полиция, конечно, узнала немедленно о «профанации» императорского величия и подняла тревогу. Микадо был недоволен «воровским» способом воспроизведения своей личности и приказал во что бы то ни стало добиться уничтожения портрета. Этого только и хотел цивилизованный артист. Он немедленно высчитал перед японскими чиновниками, сколько барышей может доставить ему продажа карточек микадо в одной Европе, где им все интересовались, и потребовал, чтобы соответственная сумма была ему немедленно уплачена. Иначе-де с первой почтой негатив будет отправлен в Лондон. Делать было нечего: японцы уплатили требуемые деньги и получили во владение негатив, но, конечно, бессовестный и наглый спекулянт-художник оставил другой у себя и потом воспроизводил с него портреты Муцухито, принимая только предосторожность не продавать их в Японии.
Бесцеремонность «синьора» Беато по отношению к микадо дает понятие о том, как европейцы вообще вели себя в Японии в 1860—1870 годах; но, конечно, она ничто в сравнении с той наглостью, которую позволяли себе «цивилизаторы» по отношению к японцам — частным людям. Войти в чужой дом, пересмотреть там все и всех, сделать вслух несколько грубых и насмешливых замечаний, иногда переворочать домашнюю утварь и даже допустить нескромности по отношению к женщинам — было делом совершенно обычным у этих гнусных образчиков европеизма. Они даже и не ставили себе вопроса: может ли подобное поведение чужестранцев не оскорблять японцев, хотя и знали, что последние в деле приличий и в вопросах чести рыцарски щекотливы. Как только среди обиженных находились мстители, употреблявшие, по местному обычаю, в дело меч, так оскорбители начинали кричать о варварстве японцев, о неуважении ими трактатов и о необходимости примерно их наказать за якобы «политическое» убийство, целью которого будто бы было вселить европейцам ужас и заставить их очистить Японию. Посланники вроде Олкока горячо схватывались за случай и требовали удовлетворения… разумеется, деньгами, крупными деньгами. Отсюда народная ненависть у японцев к европейцам, образцы которой я видел еще в 1870 году, хотя в это время убийства уже не повторялись. Стоило отойти от Иокогамы верст на пять и заглянуть в какую-нибудь деревню в стороне от больших дорог, чтобы возбудить крик и ужас детей и женщин и нескрываемое недоброжелательство взрослых мужчин. А между тем японцы — самый вежливый, гостеприимный и ласковый народ в мире. Я не знаю, как теперь японский народ смотрит на людей Запада, но в 1870 году он их только терпел, как неизбежное зло.
Впрочем, японцы еще не столько натерпелись от европейских лавочников, матросов, консулов, солдат и посланников, сколько китайцы. При воспоминании об отношениях к последним западных цивилизаторов, особенно англичан, меня и до сих пор охватывает негодование. Вот, например, случай, бывший в начале 1860-х годов в Шанхае. Два английских миссионера, прогуливаясь в окрестностях города, вздумали заглянуть в дом одного земледельца; последний вежливо встретил их у порога, но внутрь жилища не приглашал. Когда же они хотели войти туда без спросу, то стал в дверях, упершись расставленными руками в притолоки. Миссионеры вздумали его оттолкнуть, и тогда он крикнул о помощи. Немедленно собрались соседи, которые хотели оттащить наглецов от чужого им дома, но проповедники евангелия пустили в ход палки, и последовала порядочная драка, результатом которой, конечно, явилось поражение их, как слабейших числом. Вернувшись в Шанхай, христианские нравоучители, разумеется, обратились с жалобой на «попытку грабежа, убийства» и пр. к своему консулу Олкоку, и последний, не долго думая, поставил поперек реки военный корабль с заряженными пушками и послал переводчика к губернатору с объявлением, что если немедленно не будет уплачено сто тысяч ланов (200 тысяч рублей) штрафу за оскорбление миссионеров, то все стоящие под городом джонки с казенным рисом, числом до 600, будут сожжены, а город — бомбардирован. Разумеется, беззащитные китайцы должны были заплатить, и этот наглый грабеж так понравился лорду Пальмерстону {3.106}, что он для вознаграждения «отличившегося» негодяя-консула сделал его посланником в Японии… Я сказал: «негодяя» и не беру этого слова назад, ибо вот что знаю про Олкока независимо от данного случая. Он был еще «неотличившимся» консулом, когда в Шанхае умер один миссионер, за женой которого мистер Олкок ухаживал и, кажется, не безуспешно. Жениться на молоденькой вдовушке было можно и даже, вероятно, должно; да у нее не было ничего. Тогда рыцарский покровитель несчастной пасторши открыл подписку между богатыми английскими купцами Шанхая, и чтобы вызвать их на крупные «вспомоществования», сам подписался во главе листа на 500 долларов. Когда же подписная сумма достигла 18 000 рублей, то брак не замедлил состояться, чуть ли не к удовольствию подписывавшихся негоциантов, которые увидели, что Олкок «сделал славное дельце»… Но и это еще не все. Став впоследствии посланником в Японии и потом в Китае, мистер, а наконец сэр Рутефорд Олкок пустил свои 3 000 фунтов стерлингов в оборот по торговле фарфором и лаковыми вещами, которые отправлял и ввозил в Англию беспошлинно, как официальную корреспонденцию. Австрийский поверенный в делах Каличе сделал ему намек на эту неприличную дипломатам торговлю, но он и ухом не повел, напротив, похвалил практический реализм того «третьего лица», о котором, разумеется, шла речь… Что натерпелись от Олкока японцы, об этом я отчасти рассказал в «Обозрении Японии», но и он сам не умолчал кое о чем в любопытной своей книге «The Capital of the Tycoons».
Само собой разумеется, что такой хищный посланник был по душе хищникам-коммерсантам, состоявшим под его покровительством и занимавшимся одним с ним делом — наглой эксплуатацией Японии и Китая. Однако времена переменчивы, и те же самые шанхайские купцы, которые когда-то не могли нахвалиться Олкоком, так сильно охладели к нему под конец, что когда в 1869 году он оставлял Китай, то в бытность свою проездом в Шанхае не счел возможным сходить с парохода, ибо общее нерасположение к нему соотечественников не осталось ему неизвестным. Никаких проводов ему не было сделано, а шанхайцы только со смехом рассказывали, что князь Гун на прощальной аудиенции сказал ему:
— Ну вот, наконец вы уезжаете от нас! Жаль только, что вы не увозите с собой опиума и миссионеров.
Откуда шла неприязнь купцов к прежнему их идолу — я не знаю, но, быть может, и из торгового соперничества. Ведь Олкок, по собственному сознанию, успел с помощью беспошлинной торговли свои 3 000 фунтов стерлингов обратить в 20 000, что показывает, что он получал ежегодно 50—60 процентов барышей, тогда как купцы по профессии в 1869—1870 годах едва ли имели более 30 процентов[53] . О пресловутых барышах времен тайпинской инсуррекции, а тем более периода опиумной контрабанды, когда Джардини и Денты получали по 250—300 процентов в год, разумеется, давно уже не было речи, и 60 процентов могли возбуждать если не «благородное», то справедливое негодование у людей, получавших вдвое меньше. Впрочем, официально ему ставили в упрек заключение с Китаем каких-то конвенций, невыгодных будто бы для торговли, то есть, вероятно, стеснявших контрабанду. Нравственные сочувствия и отвращения шанхайцев ничем, кроме карманных дел, никогда не определялись. Правда, и не одних шанхайцев.
Тон отношений англичан к японцам, установившийся при Олкоке и совершенно тождественный с тем, который высказался в приведенном выше случае с шанхайскими миссионерами и губернатором, продолжался и при преемнике Олкока, Парксе, хотя этот последний, долго остававшийся английским посланником в Иедо, принял за правило, что не везде же следует употреблять волчий зуб, а иногда лучше показывать лисий хвост. Насилия англичан, особенно солдат и матросов, продолжались почти безнаказанно. Впрочем, что я говорю: «безнаказанно?» — даже с известной выгодой для наглецов и их национальной казны. Вот пример, бывший на моих глазах. Двое пьяных английских солдат разбили пивную лавочку японской торговки и исколотили ее саму. Она жаловалась английскому консулу, привела свидетелей, высчитала убытки. На разбирательстве перед судом все ее слова подтвердились, но что же? Вознаграждения ей не дано никакого, а два виновных негодяя осуждены на тяжелые работы в течение недели… в английском консульстве, которое в это время отстраивалось! Выгоду от процесса, выходит, получила королева Виктория, заменившая на неделю двух наемных работников даровыми. Случаи этого рода бывали постоянно, и особенного труда стоило иокогамской полиции предупреждать и останавливать дебоши англичан в иосиваре, то есть в квартале публичных домов. Там неизменно стоял многочисленный караул из вооруженных солдат, и самый квартал был обведен каналом, через который существовал всего один мост, чтобы беспорядки не могли переходить в город и вести за собою резню.
В феврале или марте 1870 года английская юстиция показала свою «справедливость» и не над одними японцами, а даже над янками, перед которыми англичане, однако, не позволяют себе забываться. Вся Иокогама, даже, пожалуй, весь «крайний Восток» были взволнованы в это время позорным делом утопления английским пакетботом американского корвета «Энеида». Дело было так. Железный пакетбот компании «Peninsular and Oriental Company», имея у себя в числе пассажиров жену английского посланника Паркса, спешил в Иокогаму, чтобы доставить эту леди к обеду супруга. Начинало смеркаться. В это время на высоте Иокосуки, в Иедоском заливе, встретился американский корвет, перед которым англичанин, разумеется, не пожелал своротить. Последовало столкновение, и у американца была отрезана часть кормы. Немедленно янки подали сигнал о несчастье несколькими пушечными выстрелами, которые были слышны в Иокосуке и даже на иокогамском рейде, но которых не слыхал будто бы капитан пакетбота. «Энеида» пошла ко дну со всем грузом и 123 человеками экипажа, и несомненно, что англичане это видели, но не остановились, чтобы спустить лодки хотя бы для спасения людей. Мало того, достойный их начальник, прибыв в Иокогаму и зайдя в «International hôtel» выпить brandy {3.107}, сам говорил, что «утопил какого-то проклятого янки» и что «помогать ему было некогда, потому что нужно было спешить доставлением посланницы…» Назначен был суд, разумеется, под председательством английского консула, процесс занял, для приличия, несколько дней и, конечно, кончился оправданием британского пирата или, нет, лишением его на полгода права командовать пароходом. Оправдать совсем оказалось невозможным ввиду показаний пяти спасшихся при крушении американцев, рассказывавших подробности столкновения, и нескольких европейцев, которые слышали выстрелы утопавшей «Энеиды»… Негодование было всеобщее, но дело так и кончилось консульским приговором. Капитан-пират, вероятно, потом был повышен по должности, ибо нет ничего приятнее для англичан, как «утопить хоть одного проклятого янки», и кто оказал британской нации такую услугу, тот, конечно, заслуживает награды.
Японцы усердно следили за ходом процесса; но какое впечатление вынесли они из зала суда, я не знаю. Ругать гласно англичан они, конечно, боялись.
Продолжая жить в Иокогаме, я был свидетелем любопытной религиозной церемонии, а вместе и народного праздника японцев, так называемых мацури. Эти церемонии были много раз описаны европейскими путешественниками, даже представлены на картинках, и все-таки оставалось неизвестным их происхождение и самое значение. Некоторые процессии, совершавшиеся в средние века в городах католической Европы и даже доныне происходящие где-нибудь в Обер-Амергау, пожалуй, напоминают мацури; но тут мы знаем происхождение этих зрелищ, ныне ставших окончательно корыстным предприятием католических попов и местных трактирщиков, а в Японии — нет. Что мацури не буддийская церемония, можно заключить из того, что они справлялись в 1870 году с особой торжественностью именно потому, что правительство микадо хотело оживить в народе национальную религию синто. А между тем в длинной процессии, ходившей по улицам Иокогамы, я заметил между носимыми предметами один, несомненно напоминающий о буддизме, именно огромный картонный penis, возложенный на мальчика-подростка. Что этот символ плодородия не имел в глазах японцев ничего противонравственного или противоэстетического, видно из того, что в церемонии принимали участие и девочки, дочери лучших семейств, великолепно разряженные. Названный предмет столь же мало поражал их, как у нас, в христианской церкви, портрет сатаны на образе Михаила-архангела или голый ребенок Иисус на руках у женщины, не от мужа его родившей. Кого я ни спрашивал о значении различных частей процессии, никто (из европейцев, конечно) не мог мне дать порядочных объяснений. Местные газеты также описали празднество очень поверхностно, а два-три японца, к которым я обращался с вопросами, отделывались незначащими, большей честью насмешливыми фразами. Правда, это были скептики, вкусившие от плодов европейской науки и не верившие ни в синтоизм, ни в буддизм. Они, очевидно, хотели дать понять, что мацури — смешная церемония, назначенная для поддержания в народе суеверия, мистицизма и преклонения перед авторитетами небесными, а через них, и пуще всего, — земными, то есть разными ками и самим микадо, потомком богов…
Но вольнодумство уже съедало не одних японских джентльменов, начинавших носить западные костюмы (не по мерке) и не брить головы, а и низшие классы народа. Иокогамские торговцы и даже их рабочие никаким религиозным усердием во время мацури не отличились. Напротив, к чисто светской стороне трехдневных празднеств они отнеслись с видимым сочувствием. Иллюминация была превосходна; балаганы и выставки акробатов и фокусников — набиты народом; наряды женщин, особенно девочек, — очень красивы. Я никогда не видывал таких изящных подборов разноцветных тканей самого воздушного свойства. И ни одного браслета, ни одного ожерелья, даже ни одной серьги из золота или драгоценных камней, а между тем все увлекательно хорошо. Если эта теория нарядов осталась у японских дам и доныне, то можно поздравить их самих с сохранением здравого смысла и изящного вкуса, а их мужей — со значительными сбережениями денег, идущих у «цивилизованных» народов на погремушки. Мужчины по случаю мацури были также в лучших одеждах, но стоимость их так невелика, что праздник для них самих был, конечно, не разорителен. Главные расходы их, я, полагаю, были на визитные карточки и бесчисленные поклоны знакомым: это уж условия японского общежития, соблюдаемые очень строго.
По поводу религиозных церемоний во время мацури, естественно, шла нередко речь о положении в Японии разных религий и особенно буддизма, к которому без сомнения принадлежит, хоть на словах, огромное большинство японцев. Я уже упомянул, что правительство, придавая особенную торжественность мацури 1870 года, хотело поднять старую веру синто, и это, конечно, для того, чтобы ослабить буддизм. К последнему оно чувствовало в 1870 году видимое нерасположение, теснило бесчисленных тунеядцев — буддийских монахов и даже помышляло о продаже в лом или на вывоз в Европу главной буддийской святыни в стране, камакурского Дайбудза. Называли уже и покупщика, того самого Гловера, который хозяйничал на Такасиме и доставлял в Японию броненосные корабли. Англичане гордились, что их Кенсингтонский музей скоро украсится одним из семи чудес Востока, но почему-то покупка бронзового идола не состоялась. А идол действительно любопытен по размерам: внутри головы его устроена часовня, в которой может поместиться с десяток людей стоя. После колосса Родосского это, кажется, самое крупное произведение ваяния, не отличающееся, впрочем, особым изяществом ансамбля или тонкостью работы в деталях.
Как бы в pendant {3.108} к пышным японским мацури, весной 1870 года состоялся в Иокогаме скромный европейский праздник, который тоже привлек меня, и уже не зрителем, а участником. То был швейцарский национальный тир. Японское правительство, желая нравиться европейцам, отвело представителям двух европейских наций места для их любимых забав: англичанам — скаковое поле, швейцарцам — глубокий и длинный овраг, вдоль которого они и устроили тир. Собственно швейцарская колония в Иокогаме была немногочисленна, человек двадцать, не более, но к ним примкнуло немало французов, немцев, я, русский, и, кажется, даже два англичанина, несмотря на то что британцы редко нисходят до сближения с «континентальной сволочью». Праздник прошел оживленно; стреляли, занимались гимнастикой, пели и, разумеется, порядком выпили. Я не мог не улыбнуться на скаредность свободолюбивых гельветов: пригласив нас, иностранцев, на торжество, устроенное в складчину между ними, они нас заставляли при входе в ограду платить по два доллара, и я думаю, что этим способом они все свои хозяйские издержки перевели на нас, гостей, и даже, пожалуй, остались в барышах.
Швейцарская стрельба не была единственною военною забавою, которую я видел в Иокогаме в 1870 году. Напротив, было еще несколько, и самых разнообразных. Во-первых, стрелял залпами в честь королевы Виктории английский батальон, по случаю дня ее рождения. Матушка-командирша, жена полковника, объезжала при этом, в амазонке, фронт батальона в свите своего мужа, что порядком смешило европейцев, смотревших на парад издали. Надо заметить, что до 1870 года оставался еще в Иокогаме англо-французский гарнизон, поставленный туда союзниками еще в начале 1860-х годов, без согласия японского правительства, и занимавший командующую над городом высоту. Французы скоро низвели свою часть этой военной силы до одной роты, но англичане неумолимо оставались в составе батальона. Как солдаты их представляли европейскую цивилизацию перед лицом японцев, я уже упомянул; но нелестное понятие об old merry England {3.109} давали они своими нравами и европейцам. Плети были у них в большом ходу для взысканий, к невыразимому омерзению французских солдат да и всей европейской колонии в Иокогаме. И не одни плети, а даже железные клейма с буквами В и С (bad conduit) {3.110}, которые в раскаленном виде прикладывались к плечам штрафованных несколько раз и потом растравлялись порохом, который оставлял неизгладимые черные следы. Такую церемонию клеймения ходил я раз смотреть с двумя-тремя французами, после чего у нас пропал аппетит на целый день.
Другое, более гуманное военное зрелище представляли американцы в день празднования годовщины их независимости. У них не было солдат, а только моряки, но праздник вышел отличный, особенно вечером, когда суда были иллюминированы по бортам и снастям; музыка их гремела на весь рейд, а в полдень шла такая канонада, что, я думаю, микадо в Иедо спрашивал себя: уж не сражение ли идет в Иокогаме? А сражение было возможно, именно между янками и их старшими братцами — англичанами. Последние, чтобы не салютовать американскому флагу в день ненавистного им провозглашения независимости от Англии Союзных Штатов, ушли, в полном составе эскадры из пяти судов, еще накануне в открытое море, под предлогом морских маневров. Посланник же Паркс уехал из Иокогамы в Иедо в самый день американского празднества, и притом, чтобы показать, что это не по какому-нибудь официальному поводу, нарочно верхом в домашнем костюме. Офицеры английского гарнизона, английский консул — словом, никто из британского служебного люда — не прислали даже поздравить американцев с их национальным праздником, тогда как представители всех прочих наций, как моряки, так и дипломаты, спешили с поздравлениями. Так как дело об «Энеиде» было еще у всех в свежей памяти, то негодованию и злобе американцев на англичан не было пределов, и столкнись они в этот день хоть где-нибудь в кабаке в лице двух-трех матросов, не миновать бы общей большой потасовки. Эта взаимная ненависть двух ветвей англо-саксонской расы, ненависть чисто политическая, так велика, что даже в больших дипломатических комбинациях ее можно смело принимать в расчет, как величину реальную и очень значительную. Со времени истории «Алабамы» {3.111} янки притом не скрывают некоторого презрения к англичанам и нередко, так сказать, подносят кулак к самому носу ненавистного им Джона Буля.
Но самым любопытным из военных зрелищ 1870 года в Японии был, конечно, смотр японских войск, произведенный самим микадо под Иедо. В строю было тысяч до пяти с половиной, составлявших несколько батальонов пехоты, помнится, две батареи и два эскадрона гусар или просто конницы, — всех людей, одетых, вооруженных и обученных по-европейски. Только честь императору они отдавали еще несколько по-японски, коленопреклонением, а прочее все было как у французов в Булонском лесу или у нас на Царицыном лугу. Выправка, маршировка, эволюция — все было очень удовлетворительно, и микадо был вправе остаться довольным смотром. Европейской публики на этом зрелище было довольно, не столько, впрочем, ради парада войск, сколько для того, чтобы видеть молодого императора, которого до этого знали в лицо только немногие дипломаты и высшие военные чины, свита герцога Эдинбургского и еще с десяток европейцев.
VI
Жизнь моя в Иокогаме весной и летом 1870 года была довольно однообразна, но ни разу я не скучал. Занятия шли своим чередом, и я уже тогда переписал набело значительную часть «Обозрения Японского архипелага», которое потом имел неосторожность начать печатать за границей, чего, конечно, никогда не могло простить мне начальство, если не свое, военное, то самое высшее в тогдашней России — Третьеотделенское {3.112}. Летнее время в Иокогаме превосходно, и если бы я был свободен выбирать местожительство на всем земном шаре, то, право, остановился бы на этом чудесном его уголке, особенно после того, как в нем завелись ученые общества, телеграф сообщает новости со всего света и сами японцы вошли сполна в интересы науки и всемирной гражданственности. Что бы там ни говорили спиритуалисты о независимости человеческого «духа», то есть настроения организма и его нервной деятельности, от внешних условий, но я ни одной минуты не сомневаюсь, что человек — почти раб этих условий, особенно климата, и что умеренно теплый климат есть высшее благо, которого может желать личность, которой «ничто человеческое не чуждо». Японцы, в 1870 году уже порядочно ознакомившиеся с Европой, Южной Азией и Северной Америкой, громко заявляли об этом превосходстве своей земли, и если в их похвалах родине слышалось некоторое увлечение, то не я стану упрекать их за это. «Дай-Нипон есть прекраснейшая страна в мире!» — восклицал автор одного памфлета, переведенного, сколько помнится, в «Japan Weekly Mail», и с патриотическим рвением он старался высказать, что нужно сделать, чтобы человеческая жизнь была в гармонии с этой прекрасной природой. В Японию в это время уже проникали демократические идеи Запада, и потому естественно, что автор памфлета громко требовал их приложения к делу: «Чем даймио отличается от рабочего? разденьте их обоих — и вы не узнаете, кто из них князь, кто крестьянин. А часто бывает, что здоровый, честный плотник или лодочник красивее и даже умнее хилого и развращенного аристократа. Будь у него наследственные достатки, как у даймио, он бы превзошел его во всех отношениях. Стало быть, первое, к чему мы теперь должны стремиться — это уничтожение неравенства состояний, так долго тяготевшего над нашим даровитым, прекрасным народом». Я уж не помню, как далеко заходил в своем народолюбивом увлечении автор, сам дворянин и чиновник, но он усердно просил микадо положить предел аристократическим привилегиям и позаботиться о народных массах. А массы эти, как раз в ту пору, нуждались в сильной материальной помощи. 1869 год был неурожайный в Японии, и число голодавших к весне 1870 года сделалось огромным. По дороге от пристаней до хлебных магазинов в Иокогаме постоянно теснились бедняки с корзинками и мешочками в руках, чтобы собирать с улицы зерна риса, высыпавшиеся сквозь мешки во время перевозки. За Канагавою, по Токаидо, мне раз пришлось видеть целую шеренгу бедняков, истощенных голодом и лежавших без движения у дороги в ожидании… не знаю уж, смерти или подачки от прохожих: просить словами, а тем более протягиванием руки они уже не могли…
— Вот вам и блага государственной жизни, союза людей для общего счастья под покровительством благожелательного и всесильного правительства, — сказал я своему спутнику, не помню уж, Шеврье, Колону или какому другому. А ведь даймиосы, только что раздиравшие страну междоусобиями, только что уложившие тысячи людей для удовлетворения своим политическим целям, были целы, пили, ели, хорошо одевались, ездили на пышно оседланных лошадях с большими свитами приживателей-тунеядцев, вроде какого-нибудь Радзивилла или Демидова {3.113}, благожелательное правительство и не думало их стеснять или требовать от них прокормления бедняков, их подданных, почти крепостных. Впрочем, молодому микадо и его советникам в то время было не до экономических и социальных переворотов: они едва успели произвести переворот политический, объявив феодалов не наследственными владетелями их уделов, а только губернаторами, которых и начинали понемногу пересаживать с места на место, а то и вовсе увольнять от должностей. Объяви они сразу всех князей заштатными чиновниками — вспыхнул бы новый мятеж, гораздо более опасный, чем в 1868—1869 годах, и многовековая монархия вероятно бы рухнула. Ведь массы народа были воспитаны в безусловной преданности и верности удельным князьям, от которых зависела их участь: они, вероятно, стали бы в большинстве случаев за своих помещиков-государей. Саймураи, то есть шляхтичи, и без того местами бунтовались, видя, как феодальный строй начинает пошатываться. Один из таких бунтов был при мне, так что из Иокогамы отправляли войска в Нагато, на место происшествия, и усмирить бунтовщиков стоило крови. Да и в целом японском народе уважение и даже привязанность к знати были еще велики. Я помню, как иокогамские купцы почтительно склонялись перед молодым князем Сацумы, когда тот прогуливался по улицам города один, в простом домашнем платье, имея на случай лишь трех-четырех саймураев позади себя, шагах в двадцати.
— Сам! — говорил мне лавочник, у которого я в то время торговал, помнится, запонки. Кто «сам» — он не считал нужным прибавлять, ибо сацумские гербы на рукавах одежды князя выдавали его происхождение из Сацумы, а что он был князь, об этом следовало догадываться по общему почтению лавочников и проходящих.
Вооруженная борьба 1868—1869 годов до некоторой степени помогла правительству микадо начать общественное переустройство нации. Выйдя из нее победителем, оно немедленно распорядилось отнятием уделов у одних князей, уменьшением территорий у других: это было так естественно, так законно, что никто не возражал. Но саймураи, вассалы разжалованных князьков, скоро почувствовали невыгоду этой меры: они остались без мест, не у дел, без жалованья, то есть без средств к жизни. К труду ручному они не были приучены с детства, да и находили для себя унизительным заниматься чем-нибудь, кроме службы военной и канцелярской. И как число их было очень велико, то конкуренция в приискании мест у центрального правительства или у оставшихся еще de facto {3.114} феодалов была огромна. Стать рядовым солдатом императорской армии стало идеалом многих двухсабельников, но попасть в ряды ее было нелегко, ибо она состояла из каких-нибудь 15—20 тысяч человек, а сословие саймураев слагалось из миллиона с лишком душ обоего пола. Не раз носились поэтому слухи, что правительство, для доставления занятия шляхте и вместе для уменьшения ее численности, затеет войну с Кореей, под предлогом наказания последней за отказ от дани. Но на войну нужны были деньги, а их у микадо не было. Страна была наводнена «кинсацами», то есть ассигнациями, иногда ценою в каких-нибудь 20 копеек, и для покрытия самых неотложных расходов приходилось делать внешние займы, из которых по первому, всего в миллион долларов (больше банкиры не давали), приходилось платить девять процентов годовых да еще дать единовременно три процента комиссии. Разные Леи, Пальмеры и другие английские биржевые хищники поживились при этом немало на счет Японии.
Несмотря на эти трудности, финансовые и политические, правительство микадо, или, точнее, Ивакуры-Санжо, не останавливалось ни минуты перед исполнением таких мер, которые должны были обновить страну, дать ей новую жизнь. Сверх переустройства армии, заведения флота, арсеналов, училищ и пр., оно озаботилось началом устройства железнодорожной сети. На первый раз решено было проложить рельсы между Иедо и Иокогамой, и в 1870 году последовало заложение иокогамской железнодорожной станции, а через год, если не ошибаюсь, по дороге началось и движение. Кобе соединен был с Осакой и Киото немногим лишь позднее. Тогда же начертан был план большой линии между Иокогамой и Осакой с огромным туннелем в Хаконе, но эта линия долго оставалась в проекте. Гораздо скорее подвинулось более дешевое дело — телеграфное. Станции в Иедо и Иокогаме были открыты при мне и на первый раз действовали с неутомимым, даже излишним, рвением. Так, вскоре после их основания в Иедо был аукцион на продажу мест в европейском квартале: иокогамская телеграфная станция каждые десять минут вывешивала цифры денег, выторгованных за то или другое место, что едва ли было особенно любопытно для тех из иокогамских иностранцев, которые не поехали на торги. Иокогамские купцы-японцы также не давали отдыха телеграфистам, и говорилось в публике, что даже любовная корреспонденция нередко вверялась скромности телеграфных агентов. Последнее, впрочем, вероятно было шуткой, а что разные поздравления и приветствия по телеграфу были многочисленны, так это наверное: японцы, веселые и любезные по природе, забавлялись телеграфом как новой игрушкой. Плата же за депеши была очень низка.
Летние месяцы 1870 года я жил на берегу моря, в «International Hôtel», куда переселился после того, как новый хозяин «Hôtel des Colonies», какой-то корсиканец, слишком жадный до денег, обратил свое заведение почти в кабак. Чудная это была жизнь на набережной, как раз против порта, наполненного судами. С раннего утра слышались крики японских лодочников, перевозивших товары на корабли или с кораблей: крики эти были мерными, в каданс с усилиями гребцов, и потому не производили неприятного, раздражающего действия. «Ай-хи, и-хай-ху! — раздается у меня в ушах и теперь, и я как будто вижу лодку, несущуюся вдоль рейда со скоростью, почти равной пароходной. Лодочники стоят лицом к носу, а не к корме, и не гребут веслами, попеременно вынося их на поверхность воды и потом погружая, а только виляют ими, как рыба хвостом, и лодка, очень примитивного устройства, «поет», скользя по морской зыби. Очевидно, что при этом способе гребли значительная часть силы гребцов пропадает даром или идет на бесполезное сжимание и разжимание лодки; но, по общему отзыву моряков, редкая европейская военная шлюпка в состоянии угнаться за японской лодкой с равным числом гребцов. Отчего бы это так? Видно, наши шлюпки строятся по слишком ученым теориям, почти как печи в Collège de France {3.115}: эти последние дымят и не греют, а те плавают не довольно скоро и с вечной опасностью наткнуться на что-нибудь, если, кроме гребца, нет еще рулевого, который бы смотрел не назад, а вперед. И места внутри лодки японские гребцы и весла не занимают, а держатся по краям, оставляя средину для груза. Правда, зато в дурную погоду стоячего японского лодочника не оторвешь ни за какие деньги от пристани: он боится быть опрокинутым.
Я не помню, принимали ли японские гребцы участие в лодочной гонке, которая была устроена весной 1870 года командирами военных судов, стоявших на иокогамском рейде; кажется, что нет. Зато наши русские гребцы со «Всадника» отличились и пришли, кажется, первыми. Но англо-иокогамские газеты умолчали об этом мирном торжестве русских моряков, как умолчали и о другом их подвиге: быстром прибытии с корабля на один пожар в городе. Расхвалив команды английских и других судов, участвовавшие в тушении пожара, они умолчали о русских, и капитан Михайлов должен был сам напомнить о заслугах своих подчиненных особым письмом в одну из редакций.
Это уже общая участь всех русских на Востоке и Западе: быть неумолимо затираемыми во всех случаях, когда нельзя их выбранить. Зато, что они допускают у себя господство деспотизма и через то являются опорой его в целом мире, все относятся к ним с ненавистью, переходящей, где только возможно, в презрение.
Всегда оживленный иокогамский рейд, сверх неустанного движения лодок, представлял и много других любопытных для наблюдателя предметов. Благодаря прекрасному климату Иокогамы и близости ее к столице Японии, тут всегда находилось до десятка военных судов всех наций, отчасти, чтоб отдохнуть на приятной стоянке, отчасти, чтоб «показать флаг» или зубы японцам и не японцам. Вот английский броненосец «Ocean», как скала неподвижный во время самых сильных ветров: до того хорошо рассчитано в нем положение метацентра и так он тяжел для мелких волн Иедоского залива, хоть и смотрит молодым, легким щеголем. Вот английская же канонерская лодка, пришедшая из Портсмута вокруг Африки, чтобы доставить экипажу океанскую практику; ее бы можно было назвать чайкой, если бы она не была вся желтой, как канарейка. Зачем желтая? почему это исключение из общего правила военных судов краситься сажей? — А это для предохранения людей от жары, потому что черные стены гораздо сильнее накаливаются тропическим солнцем, чем желтые. У англичан в Индийском и Тихом океане многие суда покрываются желтой краской. Вблизи этой желтой кокетки, которую шутя моряки называют дамой легкого поведения, стоит несколько пожилой французский фрегат «Dupleix» с невероятно высокими мачтами и широкими парусами, хотя он и имеет паровой двигатель. Над ним слегка смеются, говоря, что горе тому матросу, которого капитан посадит на салинг, и что когда фрегат поставит все паруса, то он будет напоминать павлина, у которого за распущенным хвостом не видно самого тела. Как бы в противоположность «Dupleix'y», около него расположилась громадная масса тихоокеанского пакетбота «America», почти вовсе без мачт. «America» вдвое длиннее и выше большинства военных судов, не говоря про коммерческие. Ее передние каюты без труда вмещают население целого квартала в китайской части Сан-Франциско, куда «небесные» пассажиры стремятся, чтобы не умереть с голоду дома, вздохнуть от отеческих попечений мандаринов и зашибить копейку. Ее необъятные трюмы напоминают сараи, в которых бесследно исчезают сотни ящиков чая и кучи пассажирской клади; на обратном пути из Америки она привозит горы картофеля и других овощей, яблок, мебели и машин. У нее есть две сестрицы — «China» и «Japan», столь же дородные, как и она сама, то есть имеющие вместимость более 4 000 тонн, да младший братец — «New-York», в 2 000 тонн. В месяц раз вся эта семейка съезжается в Иокогаме, стоит сутки и потом, оставив очередного члена на отдых, едет бороздить океан по направлениям в Гонконг, Шанхай и Сан-Франциско. В обычае янок делать отъезд всех трех судов одновременно, по сигналу, при громких криках «ура!» как с палуб отходящих судов, так и с других наличных носителей звездно-полосатого флага, причем американские военные матросы залезают на реи и ванты. Когда эти три парохода уйдут, то обыкновенно рейд в первое время кажется пустоватым, хотя на нем и стоят по-прежнему десятки судов. «Америке», впрочем, не посчастливилось в Иокогаме. Раз она пришла под вечер, стала на якорь, а к утру уже представляла один обгорелый скелет. Говорили, будто китайские пассажиры, выкрав перевозившуюся на пароходе большую сумму денег золотом и желая скрыть следы преступления, подожгли корабль, а сами спаслись в квартале соотечественников в Иокогаме, но доказать это было невозможно.
Прибытие каждого пакетбота в Иокогаме, как и вообще в портах Китая и Японии, сопровождалось вестовым пушечным выстрелом, по которому все ожидавшие каких-нибудь знакомых или гостей садились в лодки и ехали навстречу прибывшим, а все ждавшие писем отправлялись в соответственную почтовую контору — английскую, французскую или американскую, — где почти каждый имел свою клетку (case) за номером в большом открытом шкафу конторы. С конца мая 1870 года и я стал посещать конторы, хотя не заводил в них клеток. Мне казалось, что трех месяцев довольно, чтобы решить мою участь по записке, посланной графу Гейдену в феврале. Но ожидания мои были долго совершенно напрасными. Почта из Шанхая, Пекина и России, адресуемая на имя Aug. Heard'a, по обычаю привозила мне газеты, журналы, изредка частные письма, но никаких официальных бумаг. Наконец, однажды я получил письмо от Вл. Ал. Ровинского, которого своевременно просил сходить в Главный штаб и узнать, в каком положении мое дело; он писал, что говорил с полковником Фельдманом и что последний, иронически улыбаясь, передал ему об исполнении моей просьбы, то есть о скором отозвании меня с Востока. Прекрасно! Я стал готовиться к отъезду, но куда? Если мне предпишут вернуться через Сибирь, то, ввиду приближавшейся осени и зимы, необходимо будет купить шубу; если же оставят путь на мой выбор, то в летнее время лучше будет ехать через Северную Америку, чтобы избежать тропической жары. Тихоокеанская железная дорога в это время уже была открыта, и путь до Парижа из Иокогамы мог быть совершен в те же 44 дня как через Гонконг, так и через Сан-Франциско. Если последний мог стоить несколько дороже по причине тяжелой клади, за которую бы взяли немало между Сан-Франциско и Нью-Йорком, то зато я избавился бы от качки в полосе муссонов и от зноя в Красном море. Я уже справился в бюро «Pacific Mail Steamship Company» об условиях прямой перевозки до Нью-Йорка и даже Гавра, приготовил нужную сумму для уплаты за билет и передал кое-кому из знакомых, что скоро уезжаю в Америку, как шанхайская почта 1 августа привезла мне конверт от Бюцова с депешей графа Гейдена такого содержания: «Предоставляется подполковнику Венюкову возвратиться в Россию ранее срока; содержание ему прекращено с 15 июля, а что осталось неотпущенным, будет выплачено по прибытии в Петербург». Тут уже стало необходимым беречь каждую копейку, и я вынужден был сесть снова на пароход «des Messageries Francaises» и даже во втором классе. К счастью еще, что он отходил скоро, и не нужно было проживаться дольше в иокогамских гостиницах.
Ну вот и вечер 3 августа; все пассажиры заняли свои каюты на «Неве», и я, по счастью, оказался в своей один. Это была маленькая, полутемная конурка, всего с двумя койками, а не с четырьмя, как везде; но все же лучше хозяйничать в этом карцере одному, чем попасть в соседи на целых полтора месяца какому-нибудь католическому монаху сомнительной опрятности, дурных ночных привычек и еще худших дневных собеседований. Я благословил небеса.
И вот, вскоре после полуночи, мы подняли якорь, через полчаса миновали ярко светившийся маяк между Иокосукою и Урагою, а когда, на заре, выходили в открытое море, я уже спал настолько крепко, насколько может человек, над которым экзекуция совершилась…
При редкостно тихой погоде, без малейшей качки, совершалось наше плавание до Гонконга. Публика была немногочисленна, разговоры незначущи, прогулки по палубе однообразны, чтение утомительно. Глядя в последний раз на постепенно уходивший под горизонтом и скрывавшийся в тумане пик Горнера, я сказал самому себе: «Прощай, Япония, да прощай и еще одна мечта в жизни, одно упование, которое поддерживало нравственный быт, указывало что-то вроде цели, которую так жадно ищет человек». Без малейшей натяжки, как-то сам собою вспомнился «Парус» Лермонтова:
Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой, А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
«ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ АМУРА В 1857—1858 ГОДАХ»
«Воспоминания о заселении Амура в 1857—1858 годах» впервые были опубликованы с цензурными урезками в журнале «Русская старина» за 1879 год, том XXIV. Позднее включены в изданный автором в 1895 году в Амстердаме труд «Из воспоминаний М. И. Венюкова. Книга первая. 1832—1867», в качестве самостоятельной главы под названием «1857—58 года. Восточная Сибирь и Амур».
В амстердамском издании автором восстановлены все цензурные изъятия и, кроме того, внесено несколько дополнений.
В настоящем сборнике весь текст очерка воспроизводится с незначительными сокращениями по этому последнему изданию, причем сверка проводилась по хранящейся в Хабаровской краевой библиотеке книге с авторской надписью «Мой экземпляр». При этом внесены все рукописные поправки, сделанные автором по печатному тексту. Выделения в тексте произведены автором. Даты указываются М. И. Венюковым по старому стилю.
1 Иркутск в те годы представлял административный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока.
2 Муравьев Н. Н., позднее Муравьев-Амурский (1809—1881), — генерал-губернатор Восточной Сибири, один из главных инициаторов воссоединения Приамурья с Россией и заселения края русскими переселенцами. «Человек с государственным смыслом», — по отзыву Герцена, — Муравьев-Амурский «безо всякого сравнения, умнее, образованнее и честнее кабинета (министров. — А. С.) совокупно». Отмечая эти качества, Герцен одновременно разоблачал деспотические замашки восточносибирского генерал-губернатора и дал ему меткую характеристику: «демократ и татарин, либерал и деспот». Демократические высказывания, связи Муравьева-Амурского с декабристами, отбывавшими ссылку в Восточной Сибири, не прошли ему даром. По настоянию царской охранки — Третьего отделения — он был в 1861 году снят с генерал-губернаторского поста и закончил жизнь в добровольной эмиграции.
3 Путятин Е. В. (1803—1883) — адмирал, дипломат. В качестве представителя России в 1855 году заключил трактат с Японией. В 1857 году направлялся для дипломатических переговоров с китайским правительством. После неудачных попыток проникнуть в Пекин сухопутным путем отправился морем через Шанхай. С 1861 года был назначен министром народного просвещения и пытался репрессиями подавить студенческое движение, но вскоре под давлением демонстраций учащейся молодежи был смещен со своего поста.
4 Д'Анвиль Ж. Б. (1697—1789) и Клапрот — западноевропейские географы и картографы, использовавшие китайские источники для составления карт Маньчжурии и Китая.
5 Иоакинф (Н. Я. Бичурин) (1777—1853) знаменитый русский китаевед, в 1805—1822 годах был начальником русской духовной миссии в Пекине. Будучи прекрасным знатоком китайского языка, литературы, истории, социального строя, оставил после себя многочисленные сочинения, в которых впервые в мировой науке дал правильное представление о великом китайском народе. Его работы наносили удар по западноевропейскому китаеведению, третировавшему китайский народ как «неполноценный». За атеистические взгляды подвергался гонениям со стороны церковных властей.
6 Кяхта, тогда торговая слободка, находившаяся в трех километрах от окружного центра — города Троицкосавска, — единственный пункт торговли русских с Китаем до 1858 года. Против Кяхты располагался китайский пограничный торговый пункт Маймачен.
7 Урга — прежнее название города Улан-Батора, ныне столицы Монгольской Народной Республики.
8 Нессельроде К В. (1780—1862) — царский министр иностранных дел с 1816 по 1856 год, поддерживал европейскую реакцию, ярый противник воссоединения Приамурья с Россией.
9 Невельской Г. И. (1813—1876) — адмирал, знаменитый русский географ, исследователь Дальнего Востока, открывший устье Амура и установивший островное положение Сахалина. Один из главных инициаторов решения амурского вопроса.
10 Бенкендорф А. X. (1783—1844) — один из реакционнейших министров Николая I, шеф жандармов, организатор и начальник Третьего отделения.
11 Николай I (1796—1855) — российский император и отъявленный крепостник, душитель революционного движения, отличался исключительным лицемерием. Вот его резолюция по поводу одного солдатского дела: «В России, слава богу, нет смертной казни — дать ему 12 тысяч палок».
В данном случае М. И. Венюков принял лицемерие за подлинную монету. Отношение же автора к Николаю I было совершенно ясное, как к душителю свободной мысли, как к «венчанному вахмистру» («Из воспоминаний», книга первая, стр. 74).
12 Errare humanum est (латинск.) — человеку свойственно заблуждаться.
13 Ингода, река Амурского бассейна, — один из истоков реки Шилки.
14 Клейнмихель П. А. (1793—1869) — главноуправляющий, а затем министр путей сообщения, «прославился» казнокрадством, чрезвычайной расточительностью и бесчеловечным обращением с рабочими.
15 Суворов А. А. (1804—1882) — внук великого русского полководца, генерал-губернатор Прибалтийского края, а затем петербургский военный генерал-губернатор.
16 Raison d'être (французск.) — разумное основание, смысл.
17 Porto-franco (итальянск.) — порт или приморская область, пользующиеся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.
18 Status in statu (латинск.) — государство в государстве.
19 В 1854—1855 годах, во время войны с Россией (Крымская война) англо-французский флот большими силами нападал на русский Дальний Восток. В результате героической обороны Петропавловска и своевременно предпринятых мер по укреплению морского побережья эти нападения были полностью отбиты.
20 Река Гырин — Горин.
21 Усть-Стрелка — пост на месте слияния рек Шилки и Аргуни, откуда начинается собственно Амур; Хинган — имеется в виду район, где Амур прорывается через Хинганский хребет; река Онон — один из истоков Шилки.
22 Бестужев М. А. (1800—1871) — декабрист и писатель, сослан был в Сибирь не в 1826 году, как указывает М. И. Венюков, а в 1827 году.
23 Диатриба — резкая придирчивая речь с нападками личного характера.
24 Михайлов М. Л. (1826—1865) — поэт-переводчик, революционер. В 1861 году за составление и распространение революционных прокламаций был сослан на каторгу в Нерчинский округ, где и умер.
25 Нерчинский договор между Россией и маньчжурской Цинской империей был подписан 27 августа 1689 года. Он последовал за вооруженным конфликтом, вызванным стремлением маньчжурской династии, поработившей китайский народ, к захвату русского Приамурья. Стойкость русских гарнизонов, оборонявших Приамурье, и противоречия с северомонгольскими и джунгарскими феодалами заставили маньчжурских завоевателей отказаться от далеко идущих захватнических планов. Несмотря на то, что русское посольство в Нерчинске (центр Нерчинского воеводства), как и сам город были фактически осаждены превосходящими силами маньчжурской армии, Россия по Нерчинскому договору закрепила за собой верхний бассейн Амура и открыла возможности для русско-китайской торговли. Однако Албазин и другие населенные пункты по Амуру, Зее, Бурее и ряду других рек пришлось временно оставить. Пограничная линия, по Нерчинскому договору, оказалась крайне неопределенной из-за плохого представления о географии края и расхождений в названиях рек и гор в русском, латинском и маньчжурском экземплярах договора. Фактически Среднее и Нижнее Приамурье оставались почти пустынной, незаселенной ничьей землей. Длительный процесс освоения Амура русскими подготовил пересмотр территориальных статей Нерчинского договора, что было и произведено в 1858—1860 годах по Айгунскому договору и Пекинскому трактату между Россией и Китаем.
26 Ирвинг У. (1783—1859) — американский писатель; Прескот У. X. (1796—1859) — американский историк. Оба много писали о появлении европейцев в Америке; Гумбольдт А. (1769—1859) — выдающийся немецкий географ и естествоиспытатель; Бальбоа В. (1475—1517) — испанский конкистадор; Нигер — река в Западной Африке; Ориноко — река в Южной Америке.
27 Поярков В. Д. и Хабаров Е. П. — знаменитые вожаки русских землепроходцев, присоединивших к России в середине XVII века Приамурье.
28 Пермыкин Г. — чиновник Департамента уделов; весной 1856 года он проплыл от Усть-Стрелки до Николаевского поста (позднее город Николаевск-на-Амуре); Аносов Н. П. — горный инженер, также проплыл по Амуру до его устья.
29 Романов К. Н. (1827—1892) — второй сын царя Николая I, управляющий морским министерством.
30 Усть-Зейский пост — сейчас город Благовещенск, административный центр Амурской области.
31 Айгунь — китайский город на правом берегу Амура.
32 Esprit fort (французск.) — «сильный ум».
33 «Le Nord» (французск.) — «Норд», «Север».
34 Искандер — литературный псевдоним великого русского революционера-демократа, философа и писателя А. И. Герцена.
35 «Морской сборник» — специальный журнал Морского министерства.
36 Protègès (французск.) — протеже, лица, находящиеся под чьим-либо покровительством.
37 Даурия — старое русское название южной части Забайкалья и Верхнего Приамурья.
38 Цицикар, Мергень — города в Маньчжурии.
39 Албазин и Кумара — русские селения на Амуре.
40 В 1650 году на месте нынешнего села Албазина знаменитый русский землепроходец Е. П. Хабаров основал острог, ставший вскоре административным и хозяйственным центром русского Приамурья. Посевы хлеба вокруг города превышали тысячу десятин. Дважды Албазин подвергался осаде со стороны маньчжуров, причем им удалось увести в плен часть его населения. Потомки этих албазинцев и до сих пор живут в Китае.
41 Максимов С. В. (1831—1901) — этнограф, беллетрист, автор книг «На Востоке. Поездка на Амур», «Сибирь и каторга» и др.
42 Завалишин Д. И. (1802—1892) — декабрист, приговоренный к каторжным работам. Автор «Записок декабриста», подробных, но мало достоверных.
43 Лаперуз Ж. Ф. (1741—1788) — французский мореплаватель, руководивший кругосветной экспедицией (1785—1788), описавшей также и часть побережья Северо-Восточной Азии.
44 Браутон У. Р. — английский мореплаватель, плававший в 1793 году в Японском море.
45 Риттер К. (1779—1859) — известный немецкий географ. Русский перевод его описания Азии издавался с дополнениями, внесенными русскими учеными и путешественниками.
46 Милютин Н. А. (1818—1872) — в 1859 году товарищ министра внутренних дел, просвещенный представитель дворянско-буржуазного либерализма, энергично боролся за отмену крепостного права. В 1861 году, под влиянием реакционеров, получил отставку.
47 Ковалевский Е. П. (1792—1866) — писатель и путешественник, производил геологические изыскания в Египте и Абиссинии, первым определил истоки Белого Нила, путешествовал по Китаю, позднее — директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел.
48 Горчаков А. М. (1799—1883) — дипломат и государственный деятель, с 1856 года министр иностранных дел.
49 Grand-seigneur (французск.) — большой барин.
50 Игнатьев И. П. (1832—1908) — дипломат и государственный деятель. В 1860 году подписал Пекинский договор с Китаем, закрепивший за Россией Уссурийский край. В 1861 —1864 годах — директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел.
51 Де-Кастри — залив Чихачева, Императорская гавань, ныне Советская Гавань, — советские порты на Тихом океане.
52 «Искра» — лучший сатирический журнал своего времени. Выходила с 1859 года. Одним из редакторов-издателей был Вас. Курочкин, талантливый поэт и переводчик, учившийся вместе с Венюковым в корпусе. Журнал имел прогрессивное направление. В «Искре» участвовали Н. А. Добролюбов (1859), А. И. Герцен (1860) и др.
53 Подписанный 28 мая (16 мая по старому стилю) 1858 года Айгунский договор был подготовлен всем процессом освоения русским народом Дальнего Востока. Заселение южной половины Дальнего Востока русскими крестьянами и казаками привело в XVII веке к образованию в составе русского государства обширного Албазинского воеводства. Вторжение в русские пределы маньчжурской армии вызвало в 1689 году заключение Нерчинского договора, по которому русским представителям были насильственно навязаны условия, вынудившие русских переселенцев оставить многие обжитые земли, а русское правительство — перенести административный центр юга Дальнего Востока из Албазина в Нерчинск.
По Айгунскому и Пекинскому договорам старые русские земли на юге Дальнего Востока вновь вошли в состав России.
Айгунский договор подтвердил государственную принадлежность России всего Амурского левобережья от реки Аргуни до устья Амура. Пекинский трактат (1860 г.) определил восточный участок русско-китайской границы по рекам Амуру, Уссури, Сунгача, озеру Ханке и горным хребтам до реки Тумыньцзян (Туманган). Этими межгосударственными договорами, таким образом, была окончательно установлена государственная граница русского Дальнего Востока и Китая.
54 Негоциации — деловые переговоры.
55 То есть вся Маньчжурия и значительная часть Внутренней Монголии.
56 Причины, тормозившие развитие края, целиком заключались в природе самодержавно-крепостнического, а позднее буржуазно-помещичьего строя в стране. Основным вопросом для края являлся вопрос его заселения. Однако вместо организации переселенческого движения на Дальний Восток правительство крепостников всячески его тормозило.
«Русские государственные люди, — писал Ленин, — не церемонятся выражать чисто крепостнические взгляды: крестьяне созданы для работы на помещиков, и потому крестьянам не следует даже «разрешать» переселяться, куда они хотят, если от этого помещики лишатся дешевых рабочих».
Лишь много позднее — с 1906 года, положение несколько изменилось. Стремясь предотвратить революционные выступления крестьянства и ослабить кризис, царское правительство и помещики были вынуждены «немножечко «при-открыть» клапан и, вместо прежних помех переселениям, постараться «разредить» атмосферу в России, постараться сбыть побольше беспокойных крестьян в Сибирь», — отмечал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 23, стр. 265).
Развитие на Дальнем Востоке промышленности, сельского хозяйства, культуры также тормозилось самодержавным строем. В качестве одного из примеров можно назвать тарифную политику. На одном и том же расстоянии завоз товаров в край обходился значительно дешевле, чем вывоз. Это обеспечивало фабрикантам центральных районов рынок для сбыта продукции и закрывало возможность встречной перевозки дальневосточного сырья и изделий.
57 «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» впервые было опубликовано в «Записках Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества», а затем в «Вестнике Русского Географического общества» за 1859 год, том XXV, отд. II, стр. 185—240.
58 Хабаровка, военный пост, позднее город Хабаровск, — нынешний административный центр Хабаровского края. Хабаровка была заложена в 1858 году солдатами 13-го линейного сибирского батальона. М. И. Венюков, прибыв к началу строительства первых зданий поста, участвовал в выборе места и распланировке его.
59 Петрашевский М. В. (1821—1866) —– русский социалист-утопист. Социализм и атеизм уживались в Петрашевском с идеалистическим пониманием законов общественного развития. Приговорен царским правительством к расстрелу, который был заменен вечной каторгой. В 1856 году переведен на поселение и жил в Восточной Сибири.
60 Антиделювиальный — допотопный.
61 Cherry cordial — название вина.
62 Кропоткин П. А. (1842—1921) — видный русский географ, исследователь Дальнего Востока. С 1862 по 1867 год занимался географическими и геологическими изысканиями в Восточной Сибири. Позднее стал одним из крупных теоретиков анархизма.
63 Чу — река в Средней Азии, берет начало в горах Тянь-Шаня в Киргизской ССР. В 1859 году М. И. Венюков производил съемку реки и ее верховья.
64 Ab ovo (латинск.) — «с яйца», с самого начала.
65 Charles le Tèmèraire (французск.) — Карл Смелый.
66 Positior oblige (французск.) — «положение обязывает».
67 Чернышевский Н. Г. (1828—1889) — великий русский революционер-демократ, в 1864 году был приговорен к каторжным работам и отправлен на Нерчинские рудники (поселок Кадая). По докладу генерал-губернатора Восточной Сибири М. С. Корсакова и шефа жандармов П. А. Шувалова в 1870 году, царь Александр II признал опасным освобождение Чернышевского. По предложению Корсакова в том же году решено было поселить Чернышевского в Вилюйске. Таким образом, Корсаков не только ничего не сделал для Чернышевского, но являлся одним из рьяных его жандармов. Впрочем, Венюков об этих фактах знать не мог.
68 В 1853 году по распоряжению Г. И. Невельского майор Н. В. Буссе был назначен начальником Муравьевского военного поста на южном Сахалине. Однако пост этот, в связи с началом войны 1854—1855 годов, он самовольно снял. Дезертирство Буссе прошло безнаказанно ввиду его связей с придворными кругами. Книга Буссе о Сахалине, в которой он пытался обелить себя и выставить крупным деятелем Амурской экспедиции, вызвала суровое осуждение всей географической общественности.
69 Милютин Д. А. (1816—1912) — военный министр. При нем была реорганизована русская армия и введена всеобщая воинская повинность.
70 «Après nous le dèluge» (французск.) — «после нас хоть потоп».
71 Volte-face (французск.) — быстрый поворот, перемена убеждений.
72 Oblupatio poporun et diaconorum (шутка) — обдирание попов и дьяконов.
73 De le plus grande dame (французск.) — самая важная дама.
74 Бакунин М. А. (1814—1876) — идеолог анархизма, в 1857 году был выслан на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1861 году. Племянник генерал-губернатора Муравьева-Амурского.
75 Пржевальский Н. М. (1839—1889) — выдающийся русский путешественник, в 1867—1869 годах совершил свою первую экспедицию в Уссурийский край.
«ОБОЗРЕНИЕ РЕКИ УССУРИ И ЗЕМЕЛЬ К ВОСТОКУ ОТ НЕЕ ДО МОРЯ»
Как уже указывалось в примечании 57 к «Воспоминаниям о заселении Амура в 1857—1858 годах», отчет об Уссурийской экспедиции М. И. Венюкова «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» публиковался вначале в Иркутске — в «Записках Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества», а русской и зарубежной научной общественности он стал известен по «Вестнику Русского Географического общества». В настоящем издании воспроизводится с сокращениями текст «Обозрения», помещенный в сборнике сочинений М. И. Венюкова «Путешествия по окраинам русской Азии и записи о них», Спб., тип. Академии наук, 1868. Сокращениям подверглись описание источников, которыми М. И. Венюков пользовался при подготовке Уссурийской экспедиции (см. примечание 2), некоторые малозначительные подробности из дневниковых записей, отрывки из записей Лаперуза, часть приложений (перечень определенных астрономических пунктов, словарь уссурийских гольдов). Стиль автора всюду сохранен в неприкосновенности, исправлены только явные описки и опечатки. Даты даются по старому стилю.
1 Заливы Ольга и Владимир на побережье Приморского края были открыты в июле 1857 года при следовании русского посольства в Китай из Николаевска-на-Амуре, на пароходо-корвете «Америка» и тендере «Камчадал».
2 При всей тщательности поисков отечественных и зарубежных источников, освещающих географию реки Уссури, таковых оказалось очень мало. Нижний бассейн Уссури, примерно на 150 км от устья до впадения в нее левого (китайского) притока Наоли-хэ, был описан летом в 1855 году известным русским ботаником К. И. Максимовичем (1827—1891). «Конечно, сведения, сообщенные г. Максимовичем, относились не ко всему протяжению моего пути, но они были важны тем, что представляли свидетельство единственного человека, обозревавшего Уссури в новое время, свидетельство, которое служило мне опорной точкой для оценки других источников», — писал М. И. Венюков.
«Очень важным запасом сведений… об Уссури и ее притоках, а равно и о путях, ведущих через горы к берегам морским», поделился с руководителем научной экспедиции знаменитый исследователь Дальнего Востока Г. И. Невельской. И хотя эти данные были расспросными, точность их до деталей подтвердилась во время экспедиции. «Мои проводники нередко удивлялись, откуда я знаю такие подробности, которые, по-видимому, требуют личного обозрения места», — писал позже М. И. Венюков. Обстоятельными «для уразумения настоящего положения обитателей страны» оказались сведения, разработанные академиком В. П. Васильевым (1818—1900), и собранные выдающимся русским географом П. П. Семеновым Тян-Шанским (1827—1914) данные, пополнившие перевод труда К. Риттера «Землеведение Азии».
Новые труды русских морских офицеров ознакомили М. И. Венюкова с характером побережья Японского моря, куда ему предстояло выйти.
Из зарубежных источников использовались «Путешествия» Лаперуза и Браутона (см. примечания 43, 44 к «Воспоминаниям о заселении Амура»), хотя М. И. Венюков и предполагал (что и подтвердилось) «в обоих сочинениях ошибки относительно определения астрономических пунктов», а также работы иезуитов и католических миссионеров первой четверти XVIII и первой половины XIX веков.
По трудам Н. Я. Бичурина (см. примечание 5 к «Воспоминаниям о заселении Амура») и В. П. Васильева исследователь Уссури получил исчерпывающие данные об имевшихся сведениях в китайских источниках. Оказалось, что наиболее полный из них — глава Шуй Дао-тигана об Уссури, составившая часть официального описания Маньчжурии, — не являлся оригинальной работой. К IV тому книги дю Гальда «Описание Китая и Китайской Татарии» была приложена карта Ж. Б. д'Анвиля (1697—1782) — члена парижской и почетного члена петербургской Академий наук, в которой содержались все данные, приведенные в Приамурской части официального китайского описания Маньчжурии. «Позволительно даже думать, — замечал М. И. Венюков, — что именно эта карта или данные, по которым она составлена, то есть съемки иезуитов в первой четверти XVIII столетия, были главным источником, по которым сочинена глава Шуй Дао-тигана об Уссури, переведенная г. Васильевым. По крайней мере все ошибки карты совершенно повторены в описании или наоборот». Незнание китайскими географами Приуссурья отрицательно сказалось на китайских картах Маньчжурии, в чем М. И. Венюкова убедили снятая с китайского оригинала карта, приведенная у Бичурина, и рукописная карта Ладыженского. По этому поводу он писал: «Данными китайской картографии надобно пользоваться как можно менее, даже если бы они служили только для пополнения других». Настолько плохо была ведома Пекину далекая река, бассейн которой составлял часть русского Приамурья!
3 Современное название гольдов — нанайцы.
4 Приморская область образована в 1856 году — с административным центром в г. Николаевске-на-Амуре, позднее переведенным в г. Владивосток.
5 Уссурийский пост — первоначальное рабочее название русского населенного пункта.
6 Иркутск — в начале второй половины пятидесятых годов XIX столетия административный центр Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, объединявшего Приамурскую, Амурскую, Якутскую, Забайкальскую области, а также Иркутскую и Енисейскую губернии.
7 Лифулэ — р. Тадуши, впадающая в Японское море.
8 См. примечание 2.2.
9 Меркаторское счисление — топографическое описание.
10 Предположения М. И. Венюкова о географическом положении хребта Хехцира (Большой и Малый Хехцир), в частности, что этот хребет составляет горный узел с Сихотэ-Алинем, позднее оказались неточными. Реки Дондон — Анюй, Кий — Кия, Эле-бира — очевидно Самарга. Водораздел бассейнов Амура, Уссури, Японского моря находится у истоков рек Анюя, Хора и Самарги.
11 В Уссурийском крае встречаются черепахи, принадлежащие к семейству Trionychidae.
12 Речь идет о толстолобике (максун) из того же семейства карповых, к которому принадлежит сазан.
13 По современным данным, р. Кия имеет протяженность 173 км, устье ее находится в 32 км от устья Уссури.
14 Хоро, Холо, Поро — река Хор, протяженность водотока по современным данным 453 км.
15 Сима — р. Подхоренок, длина 112 км.
16 Черпай — очевидно, левый приток Хора — река Чуи.
17 Самальга — река Самарга; перевал между Левым Чуи и Самаргой носит название Муравьев-Амурский.
18 Из р. Правой Чуи в р. Анюй (Дондон) ведет перевал Солонцы.
19 Маньчжуры — коренное население Северо-Восточного Китая, живут в основном в Южной Маньчжурии. Язык тунгусо-маньчжурской группы алтайских языков. В XVII веке основали империю Цин, завоевавшую Китай, Корею и Монголию. В Приуссурье проникали с грабительскими целями.
20 Аом — возможно, р. Седьмая Вторая, протяженностью, по современным данным, 50 км.
21 Нор — река Наолиха, левый (китайский) приток Хора.
22 Хотонь — очевидно г. Баоцин; Саньсин — г. Илань. Ближайший к русскому Приамурью из этих городов — Илань — отстоит от устья Сунгари более чем на 250 км.
23 Китайской географией М. И. Венюков считает официальное описание Маньчжурии (фактически с прилегающими к ней землями), названное в примечании 2.2.
24 Абдэри — р. Бира, правый приток Уссури, протяженностью 61 км.
25 Сибку — р. Шивки (36 км).
26 Бикини — р. Бикин, длина водотока 560 км.
27 Цифаку — Черная речка (35 км).
28 Думань — р. Далайхэ, левый (китайский) приток Уссури.
29 Киркинь — очевидно р. Цилибихэ, левый (китайский) приток Уссури.
30 Нимань — р. Иман, длиной 440 км.
31 Акули — р. Вака (Вак, Ваку), длиной 111 км.
32 Ныне здесь расположен г. Иман, один из центров деревоперерабатывающей промышленности Приморского края.
33 Мурень — р. Мулинхэ, левый (китайский) приток Уссури, длина около 450 км.
34 Де ла Брюньер — французский миссионер, незадолго до путешествия М. И. Венюкова отправившийся вниз по Уссури и убитый местными жителями; Вено — также миссионер, о путешествии которого М. И. Венюков имел самые отрывочные сведения.
35 См. примечание 2.2.
36 Сунгачань — р. Сунгач (Сунгача), длиной 212 км.
37 Хинькай — оз. Ханка. Приведенные ниже М. И. Венюковым координаты, как начальные, так и последующие, позднее при проведении точных съемок значительно изменились. Площадь зеркала озера, по данным 1966 года, составляет не «до 65 квадратных географических миль» (3579 кв. км.), а 4190 кв. км, из которых 3030 кв. км составляют советские воды.
38 Шуй Дао-тиган — см. примечание 2.2.
39 Сийку — оз. Малая Ханка (Сяоху), находится на китайской территории.
40 Наиболее крупные притоки оз. Ханка находятся на советской территории. Это — Лефу (длина 220 км), Синтуха (111 км), Мо (67 км), Большие Усачи (46 км), Хантахеза (32 км), Сантахеза (31 км).
41 Кубурхани — р. Кабарга (Большая Кабарга), протяженностью 80 км.
42 Грецкий орех — маньчжурский орех.
43 Малая Ситуху — р. Малая Шетуха, длина 20 км.
44 Нынту — р. Нотто, длина 114 км, правый приток р. Улахе, слияние которой с р. Даубихе и образует р. Уссури. Длина р. Уссури от слияния рек Улахе и Даубихе — 588 км. Принимая за начало реки исток р. Улахе, длина составляет 897 км.
45 Ситуху — р. Шетуха, длина 72 км.
46 Добиху — р. Даубихе, длина 190 км.
47 Хуньчунь — маньчжурский город, расположенный недалеко от р. Тумыньцзян.
48 На территории ряда районов современного Приморского края к настоящему времени описаны многие памятники раннефеодальных государств: Бохая (698—926 годы) населенного тунгусскими племенами мохэ, а также когурёсцами; Цзинь (1115—1234 годы), или «Золотой империи», созданной чжурчжэнями — племенами тунгусского происхождения. Названная М. И. Венюковым династия Гинь, или Нючжень, — чжурчжэньская династия Цзинь.
49 М. И. Венюков, миновав устье р. Даубихе, поднимался по р. Улахэ; местное население отрезок р. Улахэ между устьем ее притока Фудзина и местом ее соединения с р. Даубихе называло рекой Уссури.
50 По законам, установленным в Китае правящей маньчжурской династией, вплоть до 1878 года переход китайцев за Великую китайскую стену, проходящую менее чем в ста километрах от столицы государства г. Пекина, строжайше запрещался. Первоначально китайцы попадали в Маньчжурию лишь в качестве военнопленных и рабов маньчжурских феодалов. Систематический, из года в год, из месяца в месяц, голод толкал китайцев на нарушение закона, приводил к массовому проникновению китайского населения в Южную Маньчжурию. К этому же стремились и предпринимательские элементы в самом Китае, опутывавшие сетями экономической зависимости хозяев страны за Великой китайской стеной — маньчжуров. Неукротимая алчность китайских торговцев жень-шенем оказывалась сильнее всяких административных запретов и застав. Китайские авантюристы, торгаши, хунхузы и прочий сброд, просачивавшийся в бассейн Уссури, не ограничивались основанием своих колоний по левобережью, в пределах современной китайской части бассейна на Уссури. М. И. Венюков во время своего путешествия как раз и сталкивался порой с китайскими беглецами, скрывавшимися в южной части Приморского края. Он отмечал их независимость от маньчжуров, считал разбойниками-беглецами и, заключая свои материалы об Уссури, при анализе населения бассейна сообщал, что китайцы «одолжены своим пребыванием на Уссури или бегству от преследований законов, или стремлением нажиться за счет туземцев и через отыскивание жень-шеня».
51 Фуцзи — р. Фуцзин (длина 110 км).
52 Сандугу — р. Сандагоу.
53 Владимирский порт — залив Владимира в современном Ольгинском районе Приморского края.
54 Рукописная карта, имевшаяся у М. И. Венюкова (см. примечание 2.2).
55 Императорская гавань — ныне Советская гавань.
56 Далее у М. И. Венюкова следовали отрывки из записей экспедиции Лаперуза.
57 Экспедиция Лаперуза отмечала, как пишет М. И. Венюков, что «на протяжении 200 верст не было замечено ни одной реки и берег шел прямою линиею, так что судам негде было стать на якорь с достаточною безопасностью от ветров». Ошибочность этих утверждений была вскрыта работами Г. И. Невельского и других русских моряков — исследователей Японского моря.
58 Суйфун-бира — р. Суйфун, впадающая в Амурский залив.
59 Географическая миля равна 7,42 км.
60 Maximum (латинск.) — наибольшая величина.
61 О длине р. Уссури по современным данным см. примечание 44.
62 Вонго — р. Ванга (Правая Ванга), протяженностью 17 км.
63 Максимович К. И. — см. примечание 2.2; Маак Р. К. (1825—1886) — русский географ и натуралист, исследователь Сибири и Дальнего Востока.
64 В настоящее время для указанных М. И. Венюковым животных приняты несколько иные латинские наименования видов.
65 Радде Г. И. (1831 —1903) — русский естествоиспытатель, путешественник и этнограф.
66 Шренк Л. И. (1830—1894) — русский географ и этнограф, исследователь Дальнего Востока, академик.
67 Квадратная миля = 55,8 кв. км; плотность населения Уссурийского края перед заселением его русскими, таким образом, по М. И. Венюкову составляла около 0,03 человека на 1 кв. км.
68 К числу нанайцев (гольдов и орочей) М. И. Венюков причисляет также удэгейцев и тазов.
69 Точнее сказать, что китайцы следовали нанайцам в устройстве канов, а не наоборот, поскольку далекие южане-китайцы не нуждались у себя на родине в устройстве обогревателей, подобных канам.
70 К 1863—1864 годам в Приамурье было переселено до 15 тысяч штрафных солдат. Многие из них расценивали свое переселение как кару.
«ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ И ЯПОНИЮ»
Очерк опубликован во второй книге «Из воспоминаний М. И. Венюкова», Амстердам, 1896, в качестве отдельной главы под названием «1869—70 года. Китай и Япония».
Путешествия по окраинам русской Азии (1857—1863) возбудили у М. И. Венюкова горячий научный интерес к зарубежным азиатским странам, результатом которого явились многочисленные труды исследователя о Китае, Японии и Индии. При этом книги М. И. Венюкова трактовали не о далеком прошлом, а о наиболее актуальных вопросах современности этих стран, и явились своего рода открытием для русского общества. Свое первое путешествие в Японию М. И. совершил в 1868 году на собственный счет. Несмотря на наличие официальной подорожной до Пекина, местные русские власти задержали Венюкова у самой русско-китайской границы, и ему пришлось совершить кругосветное путешествие через Европу и Америку, чтобы попасть на зарубежный Дальний Восток.
Недостаток средств и окончание отпуска вынудили М. И. Венюкова сократить намеченную программу работ, однако он сумел все же подготовить и выпустить книгу «Очерки Японии». Работа эта обратила на себя внимание военного министра Д. А. Милютина, одного из прогрессивных русских государственных деятелей своего времени. Вопреки сопротивлению со стороны Министерства иностранных дел и военно-ученого комитета, Милютин добился посылки Венюкова в Китай и Японию на этот раз уже на казенные средства. 28 (16) апреля 1869 года М. И. Венюков выехал из Петербурга в Марсель (Франция), откуда 3 мая отплыл на французском пароходе в Александрию.
Полностью осуществить свои планы по изучению зарубежного Дальнего Востока М. И. Венюкову не удалось из-за отсутствия средств, однако путешествие оказалось все же чрезвычайно плодотворным. Результатом его явился ряд книг и статей о Китае и Японии, а также курс лекций, прочитанный в Академии Генерального штаба.
Текст очерка сверен с рукописью, хранившейся в Хабаровской краевой библиотеке, и воспроизводится с незначительными сокращениями. Выделения в тексте произведены автором.
1 «Messageries Francaises» — французская пароходная компания.
2 «Moeris» — «Мерис», название парохода.
3 Table d'hôte (французск.) — общий стол.
4 Александрия — город и порт в Египте.
5 Hôtel d'Angleterre (французск.) — гостиница «Английская».
6 Chevaliers d'industrie (французск.) — мошенники.
7 Альфонс Доде (1840—1897) — французский писатель, в своем сатирическом романе «Набоб» вывел тип разбогатевшего выскочки.
8 Феллах — египетский крестьянин.
9 Дороги Варшавского, Полякова, Блиоха — частновладельческие железные дороги в России.
10 Un quart d'heure de Rabelais (французск.) — «четверть часика Рабле», неприятное время.
11 Vis-à-vis (французск.) — напротив.
12 Poularde au riz (французск.) — пулярка с рисом, пулярка — холощеная и откормленная курица.
13 «Camboge» — «Камбоджа», название парохода.
14 Острова Соединения, или Токелау — английская колония на Тихом океане.
15 Jolies petites blagues (французск.) — хорошенькие шуточки.
16 Monsieur (французск.) — господин.
17 Et ma mère est enterrèe dans le jardin de monsieur le curé… — «Моя мать погребена в саду господина священника».
18 «Peninsular and Oriental Company» (английск.) — «Полуостровная и Восточная компания», английская пароходная компания.
19 Ex officio (латинск.) — по должности, по обязанности.
20 Cant (английск.) — ханжество.
21 «Prayer Book» (английск.) — молитвенник.
22 Mistrisses, misses, ladies (английск.) — дамы, барышни, леди.
23 Вильберфорс — английский общественный деятель, боровшийся за освобождение негров; Говард — известный английский демократ; Чатам (Питт) — один из наиболее воинственных руководителей английских колониальных захватов; Клейв — деятель английской Ост-Индской компании, прославившийся особым коварством.
24 Аден — полуостров на юго-западе Аравии, центр английского влияния на Аравийском полуострове; Занзибар — острова у восточного берега Африки, позднее перешли под английский протекторат; Индостан — полуостров в Индийском океане, почти весь входил в Британскую Индию. Прикрываясь флагом борьбы с работорговлей, англичане обеспечивали рабами-неграми свои владения.
25 На Парижском конгрессе 1856 года был подписан трактат, положивший конец Восточной (Крымской) войне 1853—1856 годов, между англо-франко-турецкой коалицией и Россией.
26 «Messageries Impèriales Francaises» (французск.) — «Французская имперская пароходная компания».
27 Тьер — организатор кровавого подавления Парижской коммуны в 1871 году. Разгром 1871 года — поражение Франции в войне с Пруссией в 1870—1871 годах, закончившееся уплатой Пруссии пятимиллиардной контрибуции и передачей Эльзас-Лотарингии.
28 Point-de Galle — Пуант-де-Галль, порт в юго-западной части острова Цейлон.
29 «Oriental-Hôtel» (французск.) — гостиница «Восток».
30 Misères humaines (французск.) — человеческие несчастья.
31 Коломбо — главный город Цейлона; Пондишери — главный город французских колоний в Индии; Мадрас и Калькутта — города в Индии.
32 The christian civilisation (английск.) — христианская цивилизация.
33 Малаккский пролив между полуостровом Малакка и Суматрой соединяет Индийский океан с Китайским морем.
34 Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное и Аравийское моря.
35 Лаж — отклонение курса денежных знаков, векселей, ценных бумаг от нарицательной их стоимости в сторону повышения.
36 Сасун — арабский еврей, наживший огромное состояние на торговле опиумом.
37 Position oblige (французск.) — «положение обязывает».
38 Кохинхина — часть Индокитая.
39 Юань Мин-юань — дворец около Пекина, разграбленный и сожженный англо-французами во время грабительского похода на столицу Китая.
40 Евгения — жена французского императора Наполеона III.
41 Редут — укрепление с обороной на все стороны.
42 Николай Павлович — царь Николай I.
43 Меровинги — франкская королевская династия (середина V века — середина VIII века).
44 Тунгстеп — вольфрам.
45 Мусме (японск.) — девушка.
46 См. примечание 47 к очерку «Воспоминания о заселении Амура».
47 Soi-disant (французск.) — так сказать.
48 Bocca-Tigris (французск.) — «Пасть тигра», укрепления на Жемчужной реке.
49 «Treaty Ports» (английск.) — «договорные порты».
50 Нанкинский договор — первый неравноправный, грабительский договор, навязанный Англией Китаю, он положил начало закабалению Китая капиталистическими странами.
51 Столица двух Куанов, то есть двух провинций — Гуандун и Гуанси.
52 Презрительная кличка, данная китайцам англо-французскими захватчиками.
53 Клипер — быстроходное парусное судно.
54 Associe (французск.) — компаньон.
55 Parvenus (французск.) — выскочки.
56 Hong-Kong and Shangai bank (английск.) — Гонконг-Шанхайский банк, филиал «Банка Англии», один из главных рычагов закабаления Китая.
57 Chargè des affaires (французск.) — поверенный в делах.
58 «Pacific Mail Steamship Company» (английск.) — Тихоокеанская компания почтовых пароходов (американская).
59 Quel beau pays (французск.) — какая красивая местность!
60 Иедо — старое название Токио.
61 A russian spy (английск.) — русский шпион.
62 «Hôtel des Colonies» (французск.) — гостиница «Колониальная».
63 «Japan Herald» (английск.) — газета «Японский вестник». «Japan Weekly Mail» (английск.) — журнал «Японская еженедельная почта».
64 М. И. Венюков посетил Японию в то время, когда в стране происходила буржуазная революция 1868 года, внешний толчок которой дали попытки иностранных капиталистических стран превратить Японию в колонию. Завершилась падением власти сёгуната, или тайкуната, как называет его М. И. Венюков, то есть феодального абсолютизма. Сёгун — титул японских военных диктаторов, в процессе войн и ослабления власти микадо (императора) захвативших фактическую государственную власть. В результате ликвидации сёгуната была восстановлена императорская власть.
Японская буржуазная революция была половинчатой, она дала возможность сохраниться значительным пережиткам феодализма и передала власть в руки помещичье-буржуазного блока.
65 Санжо — Сандио. Ивакура и Санжо являлись представителями придворной аристократии, то есть феодальных элементов. В этом сказывалось взаимопроникновение феодально-помещичьей и торгово-промышленной групп, создавшее непреодолимое препятствие к завершению в Японии буржуазной революции.
66 Саймураи — самураи, одно из господствующих сословий в Японии, в то время низшие слои дворянства, составлявшие военные дружины феодалов. В буржуазной революции 1868 года выступали против феодального режима.
67 Толстой Д. А. (1823—1889) — царский министр народного просвещения, реакционер, ярый противник обучения народа.
68 Крузенштерн И. Ф. (1770—1846) — знаменитый русский мореплаватель, руководил вместе с Ю. Ф. Лисянским (1773—1837) первой русской кругосветной экспедицией. Экспедиция Крузенштерна произвела многочисленные съемки побережий Тихого океана.
69 Гренеры — скупщики; грена — яички шелковичных червей.
70 Иосивара — отдельный квартал домов терпимости в японских городах.
71 Monsieur, on ne s'arrête jamais sur le passage (французск.) — «господин, не стойте никогда в проходе».
72 Ниппон — старое название острова Хонсю (Хондо), крупнейшего из японских островов.
73 Of Chinese girls (английск.) — китайских девушек.
74 В 1864 году англо-франко-американский флот подверг варварской бомбардировке берега Японии. На Японию была наложена огромная контрибуция, в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, за то, что японцы начали обстреливать американские и французские суда и убили загулявшегося англичанина Ричардсона.
75 Протагор — древний греческий философ.
76 Пекинский договор, последовавший за третьей войной Англии и Франции против Китая. Этот договор способствовал дальнейшему закабалению китайского народа англо-американо-французскими капиталистами.
77 «Astor-house» — гостиница «Астор».
78 Ли Хун-чжан (1823—1901) — китайский государственный деятель, проводивший политику китайской реакции и иностранных капиталистических держав.
79 La basse-cour (французск.) — задний двор.
80 Чугучак (Да-чэнь) — китайский пограничный город в Синцзяне.
81 Укрепление Верное — ныне город Алма-Ата, столица Казахстана.
82 Кульджа — китайский город в провинции Синцзян, расположенный недалеко от русско-китайской границы.
83 Тайпинское восстание, проходившее в 1851—1864 годах, было беспощадно подавлено объединенными силами маньчжурско-китайской реакции и американо-англо-французских войск. Бесчинства карателей нанесли огромный урон городам и селам Китая.
84 Мур — английский поэт, либерал по политическим взглядам; Бриссо — деятель французской революции 1871 года, выразитель интересов крупной буржуазии; Фурье и Сен-Симон — представители утопического социализма; Лассаль — основатель первой рабочей партии в Германии и вместе с тем основоположник реформизма в германском рабочем движении, в частности, проповедовал создание рабочих производственных товариществ, материальную помощь которым должно было оказать прусское правительство.
Взгляды М. И. Венюкова на общественный строй тогдашнего Китая отражали его неуменье понять законы общественного развития. Там, где он видел «антропологический фактор», «устойчивость крайнего Востока», на деле сказывалось тормозящее влияние феодализма.
85 En toutes lettres (французск.) — «всеми буквами», прописью.
86 «The Middle Kingdom (английск.) — «Серединное царство», Китай.
87 Ah, mon chèr Butzow! (французск.) — «А, мой дорогой Бюцов!».
88 «Revue des deux Mondes» (французск.) — «Обозрение Старого и Нового Света» — известный французский толстый журнал.
89 Carte blanche (французск.) — неограниченное полномочие, полная свобода действий.
90 A fond (французск.) — основательно.
91 Гумбольдт — см. примечание 26 к «Воспоминаниям о заселении Амура».
92 Twenty six! Twenty six! Twenty five! Twenty four! Twenty one! (английск.) — «Двадцать шесть! Двадцать шесть! Двадцать пять! Двадцать четыре! Двадцать один!».
93 Stop (английск.) — остановка, стоп.
94 Генерал-губернатор южных провинций — Хубея, Хунани, Гуандуня, Гуанси.
95 Венюков имеет в виду свою службу председателем Люблинской крестьянской комиссии в Польше (по проведению земельной реформы).
96 «Hôtel de Belle-vue» (французск.) — гостиница «Бель-Вю» («Красивый вид»).
97 En herbe (французск.) — начинающий.
98 Non possumus (латинск.) — «не можем».
99 Адмирал Попов командовал русскими военными кораблями на Тихом океане.
100 Walsch — Уолш, название фирмы.
101 «The Capital of the Tycoons» (английск.) — «Столица тайкунов».
102 Зеленой С. И. — адмирал, участник экспедиции по определению долгот в Балтийском море, читал в университете астрономию и геодезию, позднее директор Гидрографического департамента.
103 Религиозное восстание японцев-христиан, жестоко подавленное правительством.
104 Дунгане — народность китайского Туркестана, восставшая против притеснений со стороны богдыханского правительства. После жестокого усмирения восстания китайским правительством часть дунган выселилась в Россию.
105 Quand-même (французск.) — во что бы то ни стало.
106 Пальмерстон — премьер-министр и руководитель внешней политики Англии, добивавшийся установления мирового господства английского капитализма.
107 «International hôtel» — гостиница «Интернациональная», brandy (английск.) — коньяк.
108 Pendant (французск.) — соответствие.
109 Old merry England (английск.) — «старая веселая Англия».
110 Bad conduit (английск.) — дурное поведение.
111 Во время гражданской войны в США между Северными и Южными штатами английское правительство явно поддерживало рабовладельцев юга, которым передало военный корабль «Алабама», использованный для пиратских действий на море. После победы северян Англия была вынуждена уплатить Соединенным Штатам Америки 15,5 миллиона долларов за учиненный ущерб.
112 Третье отделение — высший орган полиции, царская охранка.
113 Радзивилл и Демидов — польский и русский богачи.
114 De facto (латинск.) — фактически, на деле.
115 Collège de France — известное французское учебное заведение.
Сноски
1
А нужно заметить, что мы, с своей стороны, делали все, чтобы показать китайцам особую исключительную важность посла. Для этой цели, например, в Троицкосавске, по приказанию генерал-губернатора, музыка местного линейного батальона ежедневно, в известные часы, играла перед окнами «высокой особы из Петербурга», что, конечно, приводило в истерическое раздражение г. посла, но зато внушало маймаченским китайцам понятие о нем как о самом высоком сановнике, достойном богдыхана.
(обратно)2
Одному из советников Главного управления Муравьев, на первых же порах, бросил в лицо его доклад, направленный по корыстным расчетам в неправую сторону, и приказал «убираться вон».
(обратно)3
Так говорил мне сам Муравьев; но не смешал ли он тут Бенкендорфа с Перовским или Орловым, — не могу сказать. Кажется, что Бенкендорфа в 1848—1849 годах уже не было у дел. Впрочем, сущность дела от этого не изменяется и мнение Николая I о декабристах остается в своей силе. Не ему ли они обязаны тем, что к ним в Читу был назначен комендантом Лепарский, которого сами они и члены их семей хвалят? В таком случае это любопытный психологический факт: с одной стороны, виселицы и разные свирепости против побежденных врагов, с другой — уважение к личностям их, поблажки {1.11}. Впрочем, вся человеческая жизнь обыкновенно слагается из подобных противоречий… Не нужно еще забывать и того, что Муравьев был почитателем Николая именно как нравственного лица, у которого будто бы за жесткими формами скрывалось доброе сердце.
(обратно)4
Впрочем, на одной станции, под Читою, содержатель ее, еврей Шмыйлович, угостил нас шампанским.
(обратно)5
Не все члены последнего знали, однако же, о свойствах обеда; например, барон Остен-Сакен, тогда юноша лет 20-ти, ничего не слыхал о перце до 1878 года, как удостоверил меня в том письменно. Зато были господа, говорившие еще в 1857 году на Амуре, что «генерал-губернатор кормит посланника и его свиту дрянью, которую бы следовало выбросить в воду, как, например, заплесневевшими страсбургскими паштетами и гнилыми консервами». И музыку, которая играла в Кяхте под окнами посла, для отдания ему почета перед глазами китайцев, считали сибирским маневром, чтобы надосадить графу Путятину и выжить его из Сибири.
(обратно)6
Правда, Клейнмихель в это время уже не был министром путей сообщения, но он продолжал состоять членом Государственного совета.
(обратно)7
Примеры подобных порок чиновников бывали в Восточной Сибири. В Кяхте генерал-губернаторский чиновник особых поручений Сычевский высек полицмейстера, явившегося на пожар пьяным. В самом Нерчинске один городничий высек исправника на могиле своей жены, чести которой исправник позволил себе неосторожно коснуться. По последнему делу было следствие, которое, кажется, нашло, что порка была произведена «по ошибке, в потемках». Пьяный исправник был-де принят за бродягу или вора, скрывавшегося на кладбище.
(обратно)8
Вероятно по причине невозможности этой замены, Муравьев отменил и предписание обер-провиантмейстеру, объяснив мне, что изложит свою волю в частном к нему письме. Мне казалось также, что эту отмену Николай Николаевич сделал еще и потому, что в нем заговорил голос совести: ошельмовав чиновников, он одумался и не пожелал их губить: дело обыкновенное у людей вспыльчивых, но не злых; только оно может кончиться убийством оскорбителя или самоубийством ошельмованного, если он прав и имеет чувство чести.
(обратно)9
Принесение в дар свиньи и рису можно было, кажется, приписывать советам У-бошко, который, шляясь к нам, давно заметил скромность наших продовольственных запасов. Впрочем, черная свинья, по-китайски, есть действительно подарок почетный.
(обратно)10
Своими резкими поступками с моряками Муравьев нажил среди них много врагов, которые и успели, наконец, охладить к нему великого князя Константина Николаевича, который дал разрешение редакции «Морского сборника» {1.35} пощипывать «забывавшегося сатрапа». И хотя амурское дело продолжало находить поддержку в генерал-адмирале, но против распорядителя его он имел зуб.
(обратно)11
Ярым-падишах — половина царя. «Которая же?» — спросил император Александр II, когда до него дошла молва о ташкентском титуле его ташкентского наместника, причем ударил себя рукою по одной из половин заднего фаса.
(обратно)12
Еще бы! Площадь, равная Петербургу, на двадцать семейств.
(обратно)13
Все основанные в 1857 году русские селения на Амуре с их окрестностями были сняты на план мною и топографом Жилейщиковым; но Будогосский не позволил мне потом взять эти планы в Петербург, боясь, что они привлекут на меня внимание генерал-квартирмейстера. А Муравьев очень жалел, что я не привез их с собою в Петербург для показания подлежащим властям, скептически относившимся к амурской колонизации.
(обратно)14
С точки зрения государственного хозяйства и управления любопытно, что главная часть этих экономий составлялась из сметных остатков по интендантскому ведомству и от намеренного несодержания полного комплекта чиновников по управлениям, что все зависело от самого Муравьева, под условием, конечно, чтобы министры и директоры департаментов смотрели на действия его сквозь пальцы. Для достижения этой-то последней цели Муравьев и ездил часто в Петербург, принимал к себе на службу разных министерских и директорских protègès {1.36} и даже кривил душою, утверждая справочные цены на овес, сено, муку, сукно и пр. далеко выше действительных.
(обратно)15
Мое уважение к памяти Невельского не исключает признания за ним некоторых недостатков; он, например, не только не сочувствовал крестьянской реформе, но пытался, до известной степени, противодействовать ей, не любил Н. Милютина {1.46} и т. д.
(обратно)16
Эти-то неудачи в карточной игре и сопровождавшее их раздражение Ковалевского воспел Некрасов при изображении петербургского английского клуба, говоря:
Чу, наш друг, путешественник славный, Монотонно и дерзко ворчит. Дух какой-то враждой непонятной За игрой омрачается в нем. Человек он весьма деликатный, С добрым сердцем, с развитым умом; Несомненным талантом владея, Он прославился книгой своею; Он из Африки негра-лакея Вывез… Но свиреп Он в гневе, как гиена… и пр. (обратно)17
В бытность двора в Крыму, в 1871 году, курьеру военного ведомства навязано было столько царского черного белья, что он не мог везти его на одной тройке и попросил у графа Адлерберга дополнительных прогонов на другую. Прогоны были даны, но Адлерберг взыскал их потом с военного министра. Что же удивительного, что иркутский курьер, капитан Оларовский, возил меха и кедровое масло из Иркутска, от Извольских, в Петербург, Сухозанету? Притом он не брал лишних прогонов.
(обратно)18
Соболи покупались в 1858 году на Амуре по 2—4 рубля, а продавались в Ирбите по 12—15, даже по 20 рублей.
(обратно)19
Что, к довершению курьеза, доказывалось и присланным в то же время из Иркутска в Санкт-Петербург планом Хабаровки, за подписью начальника штаба (бумага же генерал-губернатору была составлена в Главном управлении Восточной Сибири).
(обратно)20
Из представления генерал-губернатора Анучина об отпуске денег на почтовые станции по Амуру, сделанного в 1882 году, можно видеть, что правильной почтовой организации на Амуре не было целых 25 лет.
(обратно)21
Муравьев не раз поручал полиции смотреть на заставах и на базаре, чтобы купцы не покупали возов с хлебом ранее полудня; оттого иногда продавец-мужик не успевал вовсе найти покупателя или, после полудня, отдавал хлеб купцу же за полцены, чтобы успеть вернуться домой к вечеру.
(обратно)22
Этот дар видеть во всех мелочах далекие предметы свойственен только казенным ревизорам высших рангов, как, например, генерал-адъютанту Лутковскому, который, быв послан для осмотра амурских колоний в 1860-х годах, не сходил с парохода ранее Мариинска и, однако, представил потом императору «обстоятельный» отчет о них. Бывший адъютант тогдашнего генерал-губернатора Корсакова князь П. А. Кропоткин {1.62} упомянул об этом в корреспонденции в одну из петербургских газет и тем навлек на себя грозу… «Как могли вы выставить ревизора таким болваном? — сказал ему с досадою ревизованный начальник края. — После этого вы не можете быть у меня адъютантом». И Кропоткин должен был оставить службу в Восточной Сибири, где уже заявил было себя прекрасными научными работами в Саяне и на Витиме.
(обратно)23
Будогосский пытался, однако, подорвать доверие к моему описанию Уссури, поручив одному из своих прихвостней, в 1860 году, напечатать неблагоприятный для меня отзыв в одной жалкой газетке; но астроном Шварц в своем ученом отчете об экспедиции Русского географического общества, которою он управлял, восстановил истину. Потом мой отчет находил постоянно подтверждение в трудах других путешественников по Уссури.
(обратно)24
Для довершения сходства иркутской и римской картин можно бы еще сказать, что около Муравьева стояла женщина, — хоть и не мать его, а жена — и тоже, как в Буанарротиевской композиции Богородица, являлась ходатайницей за караемых. Известно, например, что она в 1855 году спасла жизнь адъютанту своего мужа Сеславину, которого тот хотел расстрелять за неисполнение какого-то приказания в виду неприятеля, в заливе Де-Кастри.
(обратно)25
Собственно говоря, высшее умственное развитие он не ценил, как доказывают примеры Кропоткина, Петрашевского, Пржевальского и др.; но ему нужны были «бойкие перья», то есть грамотные писаря.
(обратно)26
Доказать это Будогосский едва ли мог; но приводимые здесь буквально слова его доказывают ожесточенную его ненависть к Буссе в это время.
(обратно)27
Завалишин в «Русской старине» за 1881 год говорит, что у него «в числе документов находилось требование (чье?) от Будогосского искажения карты Амура: «отодвинуть горы, чтобы показать, что тут может быть область», а не просто линия. От кого было это требование, Завалишин, к сожалению, не объясняет. Если сведение основано на одних словах Будогосского, то можно ему не верить, хотя бы он и говорил о «документах». Первую карту амурской страны Будогосский и без того обезобразил по невежеству в геодезии, как отлично доказал Шварц в критике источников карты Юго-Востока Сибири; но могло быть, что и желание подслужиться властям подвинуло его на некоторые неточности.
(обратно)28
Яблоки из Уссурийского края были на выставке Вольного экономического общества в 1861 году.
(обратно)29
То же замечено и г. Мааком, который 2 июля 1859 года наблюдал в устье реки Хоро температуру в 13,7°, тогда как в самой Уссури против этого места вода имела теплоту 16,7°.
Вообще реки, текущие в Уссури с востока, имеют более холодную воду, чем самая эта река; в доказательство вот несколько наблюдений того же г. Маака:
Уссури у Хехцира 17,9°.....ручей там же….. 10,1°
против Хора 16,7°............Хоро при устье 13,7°
близ Бикини 17,1°.............Бикинь при устье 16°
близ Цифаку 18,2°............устье Цифаку 18°
Данные эти показывают, кроме того, что разность температур Уссури и ее притоков уменьшается с приближением к югу без сомнения оттого, что сама Уссури тут становится ближе к горам, из которых питается столь же прохладными источниками, как и притоки ее (1863).
(обратно)30
Под этим названием она более известна у местных жителей, чем под именем Нимани.
(обратно)31
Теперь известно, что это озеро простирается от 44°33' до 45°16'.
(обратно)32
Теперь эти речки называются: Тур, Усачи, Сиан, Мох-Лефу, Сандака {2.40}.
(обратно)33
Впрочем, я выговорил условие, чтобы идти с нами и во Владимирский порт, если не попадем к нему сразу. Проводник обязан был также быть нашим переводчиком в сношениях с китайцами {2.50}.
(обратно)34
Мы обедали в этот день в доме одного китайца, который из гостеприимства непременно требовал, чтобы употреблять для пищи его припасы. Его соль, быть может, и не имела ничего ядовитого, но без сомнения заключала в себе какую-нибудь непривычную для европейцев примесь, потому что имела странный, сладковатый вкус, вероятно, и была причиной болезненных припадков моих.
(обратно)35
Казаку этому приказано было дожидаться прибытия нашего, чтобы вместе вернуться к Нынту. Полагая потом идти во Владимирскую гавань и оттуда по Сандугу, я необходимо должен был отправить к нему известие о том и, для безопасности, послать с этой целью на Фудзи двух казаков.
(обратно)36
Бухты эти получили теперь от русских мореплавателей названия:
Залив Герэн Залив Амурский
Порт Брюса Славянский
Залив Виктория Уссурийский
Бухта Горне Америка
Шельтер Опричник
Сивиллы Пластун
Буллок Джигит
(обратно)37
Богатые данные об органической природе Уссурийского края собраны г.г. Максимовичем и Мааком {2.63}, труды которых и должны быть руководством для лиц, желающих ближе узнать ее (1863).
(обратно)38
Кажется, что разность цвета виденных мной медвежьих шкур происходит не от того, что неделимые одной и той же породы имеют в молодости шерсть темнее. Если медведь в приуссурийской стране и не представляет двух видов (species), то, вероятно, две разности (varietas).
(обратно)39
Туземцы говорили о тиграх, но их шкур и их самих я не видел. Г. Шренк {2.66} полагает, впрочем, что тигры встречаются и севернее по Амуру, до устьев Горина.
(обратно)40
Например, амурские гольды называют рыбу — «сукда», верхнеуссурийские — «имаха»; змей первые — «муйки», вторые — «дзабза»; кормовое весло у лодки первые — «шу», вторые — «кудуку», и т. п.
(обратно)41
На эту плутню, известную властям, последние смотрят снисходительно, потому что истребление арабских судов уменьшает конкуренцию для английских.
(обратно)42
Способность эта, впрочем, была у меня всегда, и я доселе хорошо помню подробности местностей, виденных мною на Амуре, в Небесных горах, на Кавказе, в Польше, в Швейцарии и пр.; но с физиологической точки зрения любопытно, что, помня хорошо виденные предметы, я часто забывал и забываю название их и вообще собственные имена. То же и относительно книг: помню их содержание, объем, характер печати, но забываю заглавия и имена авторов.
(обратно)43
С этой целью, по просьбе моей, был устроен Шеврье обед, на который были приглашены некоторые его знакомые из французских консульства и посольства, между прочим известный знаток Японии и японского языка дю Буске.
(обратно)44
Которых обойти, однако же, было трудно, например при возвращении войск из Хакодате в Иедо.
(обратно)45
У японцев яички шелковичных червей отлагаются не на кусках полотна, а на кусках картона, длиною вершков семь и шириною четыре.
(обратно)46
Простолюдин Алексеев, державший харчевню в Хакодате, был единственный русский торговец в Японии в 1869—1870 годах. Не знаю, больше ли их теперь?
(обратно)47
Савойя была очень недавним приобретением Франции, и предполагать существование в ней графов де Мон-Блан естественно.
(обратно)48
Северная часть системы Императорского канала образуется рекой Юнхэ, которая впадает в Байхэ, принимающую после этого название Хайхэ.
(обратно)49
Этот личный счет с Бретшнейдером не мешает мне признать, что он все-таки был самым дельным членом посольства и поделом был сделан академиком, хотя бы в силу пословицы «на безрыбье — и рак рыба, на безлюдье — и Фома дворянин». Работы его по истории географии Китая хороши, хотя нельзя сказать того же про его карту этой страны (1896).
(обратно)50
Случай не единственный в своем роде. В 1874 году у русского посланника в Тегеране, ведшего переговоры о Туркмении, не было русской (да и никакой) карты этой страны, вследствие чего он думал что Гюргень течет севернее Атрека (см. официальное донесение генерала Франкино).
(обратно)51
Я слишком уважаю С. И. Зеленого, чтобы последнее замечание отнести лично к нему; нет, таков вообще порядок вещей в России. Адмирал, вероятно, приказал благодарить меня запиской; в канцелярии написали, а к подписи его превосходительства не подумали подать, согласно обычаю.
(обратно)52
Я имел право надеяться на такое получение, во-первых, потому, что таково было высочайшее повеление, а, во-вторых, потому, что, зная, что в России все зависит не столько от царя, сколько от чиновников, я еще в августе 1869 года, из Пекина, просил об ассигновании моего жалованья, и мне оно было обещано письмом Гельмерсена.
(обратно)53
Банки, одно из выгоднейших коммерческих предприятий, знали только по 10—12 процентов дивиденда.
(обратно)ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ АМУРА В 1857-1858 ГОДАХ
1.1
Иркутск в те годы представлял административный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока.
1.2
Муравьев Н. Н., позднее Муравьев-Амурский (1809—1881), — генерал-губернатор Восточной Сибири, один из главных инициаторов воссоединения Приамурья с Россией и заселения края русскими переселенцами. «Человек с государственным смыслом», — по отзыву Герцена, — Муравьев-Амурский «безо всякого сравнения, умнее, образованнее и честнее кабинета (министров. — А. С.) совокупно». Отмечая эти качества, Герцен одновременно разоблачал деспотические замашки восточносибирского генерал-губернатора и дал ему меткую характеристику: «демократ и татарин, либерал и деспот». Демократические высказывания, связи Муравьева-Амурского с декабристами, отбывавшими ссылку в Восточной Сибири, не прошли ему даром. По настоянию царской охранки — Третьего отделения — он был в 1861 году снят с генерал-губернаторского поста и закончил жизнь в добровольной эмиграции.
1.3
Путятин Е. В. (1803—1883) — адмирал, дипломат. В качестве представителя России в 1855 году заключил трактат с Японией. В 1857 году направлялся для дипломатических переговоров с китайским правительством. После неудачных попыток проникнуть в Пекин сухопутным путем отправился морем через Шанхай. С 1861 года был назначен министром народного просвещения и пытался репрессиями подавить студенческое движение, но вскоре под давлением демонстраций учащейся молодежи был смещен со своего поста.
1.4
Д'Анвиль Ж. Б. (1697—1789) и Клапрот — западноевропейские географы и картографы, использовавшие китайские источники для составления карт Маньчжурии и Китая.
1.5
Иоакинф (Н. Я. Бичурин) (1777—1853) знаменитый русский китаевед, в 1805—1822 годах был начальником русской духовной миссии в Пекине. Будучи прекрасным знатоком китайского языка, литературы, истории, социального строя, оставил после себя многочисленные сочинения, в которых впервые в мировой науке дал правильное представление о великом китайском народе. Его работы наносили удар по западноевропейскому китаеведению, третировавшему китайский народ как «неполноценный». За атеистические взгляды подвергался гонениям со стороны церковных властей.
1.6
Кяхта, тогда торговая слободка, находившаяся в трех километрах от окружного центра — города Троицкосавска, — единственный пункт торговли русских с Китаем до 1858 года. Против Кяхты располагался китайский пограничный торговый пункт Маймачен.
1.7
Урга — прежнее название города Улан-Батора, ныне столицы Монгольской Народной Республики.
1.8
Нессельроде К В. (1780—1862) — царский министр иностранных дел с 1816 по 1856 год, поддерживал европейскую реакцию, ярый противник воссоединения Приамурья с Россией.
1.9
Невельской Г. И. (1813—1876) — адмирал, знаменитый русский географ, исследователь Дальнего Востока, открывший устье Амура и установивший островное положение Сахалина. Один из главных инициаторов решения амурского вопроса.
1.10
Бенкендорф А. X. (1783—1844) — один из реакционнейших министров Николая I, шеф жандармов, организатор и начальник Третьего отделения.
1.11
Николай I (1796—1855) — российский император и отъявленный крепостник, душитель революционного движения, отличался исключительным лицемерием. Вот его резолюция по поводу одного солдатского дела: «В России, слава богу, нет смертной казни — дать ему 12 тысяч палок».
В данном случае М. И. Венюков принял лицемерие за подлинную монету. Отношение же автора к Николаю I было совершенно ясное, как к душителю свободной мысли, как к «венчанному вахмистру» («Из воспоминаний», книга первая, стр. 74).
1.12
Errare humanum est (латинск.) — человеку свойственно заблуждаться.
1.13
Ингода, река Амурского бассейна, — один из истоков реки Шилки
1.14
Клейнмихель П. А. (1793—1869) — главноуправляющий, а затем министр путей сообщения, «прославился» казнокрадством, чрезвычайной расточительностью и бесчеловечным обращением с рабочими.
1.15
Суворов А. А. (1804—1882) — внук великого русского полководца, генерал-губернатор Прибалтийского края, а затем петербургский военный генерал-губернатор.
1.16
Raison d'être (французск.) — разумное основание, смысл.
1.17
Porto-franco (итальянск.) — порт или приморская область, пользующиеся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.
1.18
Status in statu (латинск.) — государство в государстве.
1.19
В 1854—1855 годах, во время войны с Россией (Крымская война) англо-французский флот большими силами нападал на русский Дальний Восток. В результате героической обороны Петропавловска и своевременно предпринятых мер по укреплению морского побережья эти нападения были полностью отбиты.
1.20
Река Гырин — Горин.
1.21
Усть-Стрелка — пост на месте слияния рек Шилки и Аргуни, откуда начинается собственно Амур; Хинган — имеется в виду район, где Амур прорывается через Хинганский хребет; река Онон — один из истоков Шилки.
1.22
Бестужев М. А. (1800—1871) — декабрист и писатель, сослан был в Сибирь не в 1826 году, как указывает М. И. Венюков, а в 1827 году.
1.23
Диатриба — резкая придирчивая речь с нападками личного характера.
1.24
Михайлов М. Л. (1826—1865) — поэт-переводчик, революционер. В 1861 году за составление и распространение революционных прокламаций был сослан на каторгу в Нерчинский округ, где и умер.
1.25
Нерчинский договор между Россией и маньчжурской Цинской империей был подписан 27 августа 1689 года. Он последовал за вооруженным конфликтом, вызванным стремлением маньчжурской династии, поработившей китайский народ, к захвату русского Приамурья. Стойкость русских гарнизонов, оборонявших Приамурье, и противоречия с северомонгольскими и джунгарскими феодалами заставили маньчжурских завоевателей отказаться от далеко идущих захватнических планов. Несмотря на то, что русское посольство в Нерчинске (центр Нерчинского воеводства), как и сам город были фактически осаждены превосходящими силами маньчжурской армии, Россия по Нерчинскому договору закрепила за собой верхний бассейн Амура и открыла возможности для русско-китайской торговли. Однако Албазин и другие населенные пункты по Амуру, Зее, Бурее и ряду других рек пришлось временно оставить. Пограничная линия, по Нерчинскому договору, оказалась крайне неопределенной из-за плохого представления о географии края и расхождений в названиях рек и гор в русском, латинском и маньчжурском экземплярах договора. Фактически Среднее и Нижнее Приамурье оставались почти пустынной, незаселенной ничьей землей. Длительный процесс освоения Амура русскими подготовил пересмотр территориальных статей Нерчинского договора, что было и произведено в 1858—1860 годах по Айгунскому договору и Пекинскому трактату между Россией и Китаем.
1.26
Ирвинг У. (1783—1859) — американский писатель; Прескот У. X. (1796—1859) — американский историк. Оба много писали о появлении европейцев в Америке; Гумбольдт А. (1769—1859) — выдающийся немецкий географ и естествоиспытатель; Бальбоа В. (1475—1517) — испанский конкистадор; Нигер — река в Западной Африке; Ориноко — река в Южной Америке.
1.27
Поярков В. Д. и Хабаров Е. П. — знаменитые вожаки русских землепроходцев, присоединивших к России в середине XVII века Приамурье.
1.28
Пермыкин Г. — чиновник Департамента уделов; весной 1856 года он проплыл от Усть-Стрелки до Николаевского поста (позднее город Николаевск-на-Амуре); Аносов Н. П. — горный инженер, также проплыл по Амуру до его устья.
1.29
Романов К. Н. (1827—1892) — второй сын царя Николая I, управляющий морским министерством.
1.30
Усть-Зейский пост — сейчас город Благовещенск, административный центр Амурской области.
1.31
Айгунь — китайский город на правом берегу Амура.
1.32
Esprit fort (французск.) — «сильный ум».
1.33
«Le Nord» (французск.) — «Норд», «Север».
1.34
Искандер — литературный псевдоним великого русского революционера-демократа, философа и писателя А. И. Герцена.
1.35
«Морской сборник» — специальный журнал Морского министерства.
1.36
Protègès (французск.) — протеже, лица, находящиеся под чьим-либо покровительством.
1.37
Даурия — старое русское название южной части Забайкалья и Верхнего Приамурья.
1.38
Цицикар, Мергень — города в Маньчжурии.
1.39
Албазин и Кумара — русские селения на Амуре.
1.40
В 1650 году на месте нынешнего села Албазина знаменитый русский землепроходец Е. П. Хабаров основал острог, ставший вскоре административным и хозяйственным центром русского Приамурья. Посевы хлеба вокруг города превышали тысячу десятин. Дважды Албазин подвергался осаде со стороны маньчжуров, причем им удалось увести в плен часть его населения. Потомки этих албазинцев и до сих пор живут в Китае.
1.41
Максимов С. В. (1831—1901) — этнограф, беллетрист, автор книг «На Востоке. Поездка на Амур», «Сибирь и каторга» и др.
1.42
Завалишин Д. И. (1802—1892) — декабрист, приговоренный к каторжным работам. Автор «Записок декабриста», подробных, но мало достоверных.
1.43
Лаперуз Ж. Ф. (1741—1788) — французский мореплаватель, руководивший кругосветной экспедицией (1785—1788), описавшей также и часть побережья Северо-Восточной Азии.
1.44
Браутон У. Р. — английский мореплаватель, плававший в 1793 году в Японском море.
1.45
Риттер К. (1779—1859) — известный немецкий географ. Русский перевод его описания Азии издавался с дополнениями, внесенными русскими учеными и путешественниками.
1.46
Милютин Н. А. (1818—1872) — в 1859 году товарищ министра внутренних дел, просвещенный представитель дворянско-буржуазного либерализма, энергично боролся за отмену крепостного права. В 1861 году, под влиянием реакционеров, получил отставку.
1.47
Ковалевский Е. П. (1792—1866) — писатель и путешественник, производил геологические изыскания в Египте и Абиссинии, первым определил истоки Белого Нила, путешествовал по Китаю, позднее — директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел.
1.48
Горчаков А. М. (1799—1883) — дипломат и государственный деятель, с 1856 года министр иностранных дел.
1.49
Grand-seigneur (французск.) — большой барин.
1.50
Игнатьев И. П. (1832—1908) — дипломат и государственный деятель. В 1860 году подписал Пекинский договор с Китаем, закрепивший за Россией Уссурийский край. В 1861 —1864 годах — директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел.
1.51
Де-Кастри — залив Чихачева, Императорская гавань, ныне Советская Гавань, — советские порты на Тихом океане.
1.52
«Искра» — лучший сатирический журнал своего времени. Выходила с 1859 года. Одним из редакторов-издателей был Вас. Курочкин, талантливый поэт и переводчик, учившийся вместе с Венюковым в корпусе. Журнал имел прогрессивное направление. В «Искре» участвовали Н. А. Добролюбов (1859), А. И. Герцен (1860) и др.
1.53
Подписанный 28 мая (16 мая по старому стилю) 1858 года Айгунский договор был подготовлен всем процессом освоения русским народом Дальнего Востока. Заселение южной половины Дальнего Востока русскими крестьянами и казаками привело в XVII веке к образованию в составе русского государства обширного Албазинского воеводства. Вторжение в русские пределы маньчжурской армии вызвало в 1689 году заключение Нерчинского договора, по которому русским представителям были насильственно навязаны условия, вынудившие русских переселенцев оставить многие обжитые земли, а русское правительство — перенести административный центр юга Дальнего Востока из Албазина в Нерчинск.
По Айгунскому и Пекинскому договорам старые русские земли на юге Дальнего Востока вновь вошли в состав России.
Айгунский договор подтвердил государственную принадлежность России всего Амурского левобережья от реки Аргуни до устья Амура. Пекинский трактат (1860 г.) определил восточный участок русско-китайской границы по рекам Амуру, Уссури, Сунгача, озеру Ханке и горным хребтам до реки Тумыньцзян (Туманган). Этими межгосударственными договорами, таким образом, была окончательно установлена государственная граница русского Дальнего Востока и Китая.
1.54
Негоциации — деловые переговоры.
1.55
То есть вся Маньчжурия и значительная часть Внутренней Монголии.
1.56
Причины, тормозившие развитие края, целиком заключались в природе самодержавно-крепостнического, а позднее буржуазно-помещичьего строя в стране. Основным вопросом для края являлся вопрос его заселения. Однако вместо организации переселенческого движения на Дальний Восток правительство крепостников всячески его тормозило.
«Русские государственные люди, — писал Ленин, — не церемонятся выражать чисто крепостнические взгляды: крестьяне созданы для работы на помещиков, и потому крестьянам не следует даже «разрешать» переселяться, куда они хотят, если от этого помещики лишатся дешевых рабочих».
Лишь много позднее — с 1906 года, положение несколько изменилось. Стремясь предотвратить революционные выступления крестьянства и ослабить кризис, царское правительство и помещики были вынуждены «немножечко «при-открыть» клапан и, вместо прежних помех переселениям, постараться «разредить» атмосферу в России, постараться сбыть побольше беспокойных крестьян в Сибирь», — отмечал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 23, стр. 265).
Развитие на Дальнем Востоке промышленности, сельского хозяйства, культуры также тормозилось самодержавным строем. В качестве одного из примеров можно назвать тарифную политику. На одном и том же расстоянии завоз товаров в край обходился значительно дешевле, чем вывоз. Это обеспечивало фабрикантам центральных районов рынок для сбыта продукции и закрывало возможность встречной перевозки дальневосточного сырья и изделий.
1.57
«Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» впервые было опубликовано в «Записках Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества», а затем в «Вестнике Русского Географического общества» за 1859 год, том XXV, отд. II, стр. 185—240.
1.58
Хабаровка, военный пост, позднее город Хабаровск, — нынешний административный центр Хабаровского края. Хабаровка была заложена в 1858 году солдатами 13-го линейного сибирского батальона. М. И. Венюков, прибыв к началу строительства первых зданий поста, участвовал в выборе места и распланировке его.
1.59
Петрашевский М. В. (1821—1866) —– русский социалист-утопист. Социализм и атеизм уживались в Петрашевском с идеалистическим пониманием законов общественного развития. Приговорен царским правительством к расстрелу, который был заменен вечной каторгой. В 1856 году переведен на поселение и жил в Восточной Сибири.
1.60
Антиделювиальный — допотопный.
1.61
Cherry cordial — название вина.
1.62
Кропоткин П. А. (1842—1921) — видный русский географ, исследователь Дальнего Востока. С 1862 по 1867 год занимался географическими и геологическими изысканиями в Восточной Сибири. Позднее стал одним из крупных теоретиков анархизма.
1.63
Чу — река в Средней Азии, берет начало в горах Тянь-Шаня в Киргизской ССР. В 1859 году М. И. Венюков производил съемку реки и ее верховья.
1.64
Ab ovo (латинск.) — «с яйца», с самого начала.
1.65
Charles le Tèmèraire (французск.) — Карл Смелый.
1.66
Positior oblige (французск.) — «положение обязывает».
1.67
Чернышевский Н. Г. (1828—1889) — великий русский революционер-демократ, в 1864 году был приговорен к каторжным работам и отправлен на Нерчинские рудники (поселок Кадая). По докладу генерал-губернатора Восточной Сибири М. С. Корсакова и шефа жандармов П. А. Шувалова в 1870 году, царь Александр II признал опасным освобождение Чернышевского. По предложению Корсакова в том же году решено было поселить Чернышевского в Вилюйске. Таким образом, Корсаков не только ничего не сделал для Чернышевского, но являлся одним из рьяных его жандармов. Впрочем, Венюков об этих фактах знать не мог.
1.68
В 1853 году по распоряжению Г. И. Невельского майор Н. В. Буссе был назначен начальником Муравьевского военного поста на южном Сахалине. Однако пост этот, в связи с началом войны 1854—1855 годов, он самовольно снял. Дезертирство Буссе прошло безнаказанно ввиду его связей с придворными кругами. Книга Буссе о Сахалине, в которой он пытался обелить себя и выставить крупным деятелем Амурской экспедиции, вызвала суровое осуждение всей географической общественности.
1.69
Милютин Д. А. (1816—1912) — военный министр. При нем была реорганизована русская армия и введена всеобщая воинская повинность.
1.70
«Après nous le dèluge» (французск.) — «после нас хоть потоп».
1.71
Volte-face (французск.) — быстрый поворот, перемена убеждений.
1.72
Oblupatio poporun et diaconorum (шутка) — обдирание попов и дьяконов.
1.73
De le plus grande dame (французск.) — самая важная дама.
1.74
Бакунин М. А. (1814—1876) — идеолог анархизма, в 1857 году был выслан на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1861 году. Племянник генерал-губернатора Муравьева-Амурского.
1.75
Пржевальский Н. М. (1839—1889) — выдающийся русский путешественник, в 1867—1869 годах совершил свою первую экспедицию в Уссурийский край.
ОБОЗРЕНИЕ РЕКИ УССУРИ И ЗЕМЕЛЬ К ВОСТОКУ ОТ НЕЕ ДО МОРЯ
2.1
Заливы Ольга и Владимир на побережье Приморского края были открыты в июле 1857 года при следовании русского посольства в Китай из Николаевска-на-Амуре, на пароходо-корвете «Америка» и тендере «Камчадал».
2.2
При всей тщательности поисков отечественных и зарубежных источников, освещающих географию реки Уссури, таковых оказалось очень мало. Нижний бассейн Уссури, примерно на 150 км от устья до впадения в нее левого (китайского) притока Наоли-хэ, был описан летом в 1855 году известным русским ботаником К. И. Максимовичем (1827—1891). «Конечно, сведения, сообщенные г. Максимовичем, относились не ко всему протяжению моего пути, но они были важны тем, что представляли свидетельство единственного человека, обозревавшего Уссури в новое время, свидетельство, которое служило мне опорной точкой для оценки других источников», — писал М. И. Венюков.
«Очень важным запасом сведений… об Уссури и ее притоках, а равно и о путях, ведущих через горы к берегам морским», поделился с руководителем научной экспедиции знаменитый исследователь Дальнего Востока Г. И. Невельской. И хотя эти данные были расспросными, точность их до деталей подтвердилась во время экспедиции. «Мои проводники нередко удивлялись, откуда я знаю такие подробности, которые, по-видимому, требуют личного обозрения места», — писал позже М. И. Венюков. Обстоятельными «для уразумения настоящего положения обитателей страны» оказались сведения, разработанные академиком В. П. Васильевым (1818—1900), и собранные выдающимся русским географом П. П. Семеновым Тян-Шанским (1827—1914) данные, пополнившие перевод труда К. Риттера «Землеведение Азии».
Новые труды русских морских офицеров ознакомили М. И. Венюкова с характером побережья Японского моря, куда ему предстояло выйти.
Из зарубежных источников использовались «Путешествия» Лаперуза и Браутона (см. примечания 1.43, 1.44 к «Воспоминаниям о заселении Амура»), хотя М. И. Венюков и предполагал (что и подтвердилось) «в обоих сочинениях ошибки относительно определения астрономических пунктов», а также работы иезуитов и католических миссионеров первой четверти XVIII и первой половины XIX веков.
По трудам Н. Я. Бичурина (см. примечание 1.5 к «Воспоминаниям о заселении Амура») и В. П. Васильева исследователь Уссури получил исчерпывающие данные об имевшихся сведениях в китайских источниках. Оказалось, что наиболее полный из них — глава Шуй Дао-тигана об Уссури, составившая часть официального описания Маньчжурии, — не являлся оригинальной работой. К IV тому книги дю Гальда «Описание Китая и Китайской Татарии» была приложена карта Ж. Б. д'Анвиля (1697—1782) — члена парижской и почетного члена петербургской Академий наук, в которой содержались все данные, приведенные в Приамурской части официального китайского описания Маньчжурии. «Позволительно даже думать, — замечал М. И. Венюков, — что именно эта карта или данные, по которым она составлена, то есть съемки иезуитов в первой четверти XVIII столетия, были главным источником, по которым сочинена глава Шуй Дао-тигана об Уссури, переведенная г. Васильевым. По крайней мере все ошибки карты совершенно повторены в описании или наоборот». Незнание китайскими географами Приуссурья отрицательно сказалось на китайских картах Маньчжурии, в чем М. И. Венюкова убедили снятая с китайского оригинала карта, приведенная у Бичурина, и рукописная карта Ладыженского. По этому поводу он писал: «Данными китайской картографии надобно пользоваться как можно менее, даже если бы они служили только для пополнения других». Настолько плохо была ведома Пекину далекая река, бассейн которой составлял часть русского Приамурья!
2.3
Современное название гольдов — нанайцы.
2.4
Приморская область образована в 1856 году — с административным центром в г. Николаевске-на-Амуре, позднее переведенным в г. Владивосток.
2.5
Уссурийский пост — первоначальное рабочее название русского населенного пункта.
2.6
Иркутск — в начале второй половины пятидесятых годов XIX столетия административный центр Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, объединявшего Приамурскую, Амурскую, Якутскую, Забайкальскую области, а также Иркутскую и Енисейскую губернии.
2.7
Лифулэ — р. Тадуши, впадающая в Японское море.
2.8
См. примечание 2.2.
2.9
Меркаторское счисление — топографическое описание.
2.10
Предположения М. И. Венюкова о географическом положении хребта Хехцира (Большой и Малый Хехцир), в частности, что этот хребет составляет горный узел с Сихотэ-Алинем, позднее оказались неточными. Реки Дондон — Анюй, Кий — Кия, Эле-бира — очевидно Самарга. Водораздел бассейнов Амура, Уссури, Японского моря находится у истоков рек Анюя, Хора и Самарги.
2.11
В Уссурийском крае встречаются черепахи, принадлежащие к семейству Trionychidae.
2.12
Речь идет о толстолобике (максун) из того же семейства карповых, к которому принадлежит сазан.
2.13
По современным данным, р. Кия имеет протяженность 173 км, устье ее находится в 32 км от устья Уссури.
2.14
Хоро, Холо, Поро — река Хор, протяженность водотока по современным данным 453 км.
2.15
Сима — р. Подхоренок, длина 112 км.
2.16
Черпай — очевидно, левый приток Хора — река Чуи.
2.17
Самальга — река Самарга; перевал между Левым Чуи и Самаргой носит название Муравьев-Амурский.
2.18
Из р. Правой Чуи в р. Анюй (Дондон) ведет перевал Солонцы.
2.19
Маньчжуры — коренное население Северо-Восточного Китая, живут в основном в Южной Маньчжурии. Язык тунгусо-маньчжурской группы алтайских языков. В XVII веке основали империю Цин, завоевавшую Китай, Корею и Монголию. В Приуссурье проникали с грабительскими целями.
2.20
Аом — возможно, р. Седьмая Вторая, протяженностью, по современным данным, 50 км.
2.21
Нор — река Наолиха, левый (китайский) приток Хора.
2.22
Хотонь — очевидно г. Баоцин; Саньсин — г. Илань. Ближайший к русскому Приамурью из этих городов — Илань — отстоит от устья Сунгари более чем на 250 км.
2.23
Китайской географией М. И. Венюков считает официальное описание Маньчжурии (фактически с прилегающими к ней землями), названное в примечании 2.2.
2.24
Абдэри — р. Бира, правый приток Уссури, протяженностью 61 км.
2.25
Сибку — р. Шивки (36 км).
2.26
Бикини — р. Бикин, длина водотока 560 км.
2.27
Цифаку — Черная речка (35 км).
2.28
Думань — р. Далайхэ, левый (китайский) приток Уссури.
2.29
Киркинь — очевидно р. Цилибихэ, левый (китайский) приток Уссури.
2.30
Нимань — р. Иман, длиной 440 км.
2.31
Акули — р. Вака (Вак, Ваку), длиной 111 км.
2.32
Ныне здесь расположен г. Иман, один из центров деревоперерабатывающей промышленности Приморского края.
2.33
Мурень — р. Мулинхэ, левый (китайский) приток Уссури, длина около 450 км.
2.34
Де ла Брюньер — французский миссионер, незадолго до путешествия М. И. Венюкова отправившийся вниз по Уссури и убитый местными жителями; Вено — также миссионер, о путешествии которого М. И. Венюков имел самые отрывочные сведения.
2.35
См. примечание 2.2.
2.36
Сунгачань — р. Сунгач (Сунгача), длиной 212 км.
2.37
Хинькай — оз. Ханка. Приведенные ниже М. И. Венюковым координаты, как начальные, так и последующие, позднее при проведении точных съемок значительно изменились. Площадь зеркала озера, по данным 1966 года, составляет не «до 65 квадратных географических миль» (3579 кв. км.), а 4190 кв. км, из которых 3030 кв. км составляют советские воды.
2.38
Шуй Дао-тиган — см. примечание 2.2.
2.39
Сийку — оз. Малая Ханка (Сяоху), находится на китайской территории.
2.40
Наиболее крупные притоки оз. Ханка находятся на советской территории. Это — Лефу (длина 220 км), Синтуха (111 км), Мо (67 км), Большие Усачи (46 км), Хантахеза (32 км), Сантахеза (31 км).
2.41
Кубурхани — р. Кабарга (Большая Кабарга), протяженностью 80 км.
2.42
Грецкий орех — маньчжурский орех.
2.43
Малая Ситуху — р. Малая Шетуха, длина 20 км.
2.44
Нынту — р. Нотто, длина 114 км, правый приток р. Улахе, слияние которой с р. Даубихе и образует р. Уссури. Длина р. Уссури от слияния рек Улахе и Даубихе — 588 км. Принимая за начало реки исток р. Улахе, длина составляет 897 км.
2.45
Ситуху — р. Шетуха, длина 72 км.
2.46
Добиху — р. Даубихе, длина 190 км.
2.47
Хуньчунь — маньчжурский город, расположенный недалеко от р. Тумыньцзян.
2.48
На территории ряда районов современного Приморского края к настоящему времени описаны многие памятники раннефеодальных государств: Бохая (698—926 годы) населенного тунгусскими племенами мохэ, а также когурёсцами; Цзинь (1115—1234 годы), или «Золотой империи», созданной чжурчжэнями — племенами тунгусского происхождения. Названная М. И. Венюковым династия Гинь, или Нючжень, — чжурчжэньская династия Цзинь.
2.49
М. И. Венюков, миновав устье р. Даубихе, поднимался по р. Улахэ; местное население отрезок р. Улахэ между устьем ее притока Фудзина и местом ее соединения с р. Даубихе называло рекой Уссури.
2.50
По законам, установленным в Китае правящей маньчжурской династией, вплоть до 1878 года переход китайцев за Великую китайскую стену, проходящую менее чем в ста километрах от столицы государства г. Пекина, строжайше запрещался. Первоначально китайцы попадали в Маньчжурию лишь в качестве военнопленных и рабов маньчжурских феодалов. Систематический, из года в год, из месяца в месяц, голод толкал китайцев на нарушение закона, приводил к массовому проникновению китайского населения в Южную Маньчжурию. К этому же стремились и предпринимательские элементы в самом Китае, опутывавшие сетями экономической зависимости хозяев страны за Великой китайской стеной — маньчжуров. Неукротимая алчность китайских торговцев жень-шенем оказывалась сильнее всяких административных запретов и застав. Китайские авантюристы, торгаши, хунхузы и прочий сброд, просачивавшийся в бассейн Уссури, не ограничивались основанием своих колоний по левобережью, в пределах современной китайской части бассейна на Уссури. М. И. Венюков во время своего путешествия как раз и сталкивался порой с китайскими беглецами, скрывавшимися в южной части Приморского края. Он отмечал их независимость от маньчжуров, считал разбойниками-беглецами и, заключая свои материалы об Уссури, при анализе населения бассейна сообщал, что китайцы «одолжены своим пребыванием на Уссури или бегству от преследований законов, или стремлением нажиться за счет туземцев и через отыскивание жень-шеня».
2.51
Фуцзи — р. Фуцзин (длина 110 км).
2.52
Сандугу — р. Сандагоу.
2.53
Владимирский порт — залив Владимира в современном Ольгинском районе Приморского края.
2.54
Рукописная карта, имевшаяся у М. И. Венюкова (см. примечание 2.2).
2.55
Императорская гавань — ныне Советская гавань.
2.56
Далее у М. И. Венюкова следовали отрывки из записей экспедиции Лаперуза.
2.57
Экспедиция Лаперуза отмечала, как пишет М. И. Венюков, что «на протяжении 200 верст не было замечено ни одной реки и берег шел прямою линиею, так что судам негде было стать на якорь с достаточною безопасностью от ветров». Ошибочность этих утверждений была вскрыта работами Г. И. Невельского и других русских моряков — исследователей Японского моря.
2.58
Суйфун-бира — р. Суйфун, впадающая в Амурский залив.
2.59
Географическая миля равна 7,42 км.
2.60
Maximum (латинск.) — наибольшая величина.
2.61
О длине р. Уссури по современным данным см. примечание 2.44.
2.62
Вонго — р. Ванга (Правая Ванга), протяженностью 17 км.
2.63
Максимович К. И. — см. примечание 2.2; Маак Р. К. (1825—1886) — русский географ и натуралист, исследователь Сибири и Дальнего Востока.
2.64
В настоящее время для указанных М. И. Венюковым животных приняты несколько иные латинские наименования видов.
2.65
Радде Г. И. (1831 —1903) — русский естествоиспытатель, путешественник и этнограф.
2.66
Шренк Л. И. (1830—1894) — русский географ и этнограф, исследователь Дальнего Востока, академик.
2.67
Квадратная миля = 55,8 кв. км; плотность населения Уссурийского края перед заселением его русскими, таким образом, по М. И. Венюкову составляла около 0,03 человека на 1 кв. км.
2.68
К числу нанайцев (гольдов и орочей) М. И. Венюков причисляет также удэгейцев и тазов.
2.69
Точнее сказать, что китайцы следовали нанайцам в устройстве канов, а не наоборот, поскольку далекие южане-китайцы не нуждались у себя на родине в устройстве обогревателей, подобных канам.
2.70
К 1863—1864 годам в Приамурье было переселено до 15 тысяч штрафных солдат. Многие из них расценивали свое переселение как кару.
ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ И ЯПОНИЮ
3.1
«Messageries Francaises» — французская пароходная компания.
3.2
«Moeris» — «Мерис», название парохода.
3.3
Table d'hôte (французск.) — общий стол.
3.4
Александрия — город и порт в Египте.
3.5
Hôtel d'Angleterre (французск.) — гостиница «Английская».
3.6
Chevaliers d'industrie (французск.) — мошенники.
3.7
Альфонс Доде (1840—1897) — французский писатель, в своем сатирическом романе «Набоб» вывел тип разбогатевшего выскочки.
3.8
Феллах — египетский крестьянин.
3.9
Дороги Варшавского, Полякова, Блиоха — частновладельческие железные дороги в России.
3.10
Un quart d'heure de Rabelais (французск.) — «четверть часика Рабле», неприятное время.
3.11
Vis-à-vis (французск.) — напротив.
3.12
Poularde au riz (французск.) — пулярка с рисом, пулярка — холощеная и откормленная курица.
3.13
«Camboge» — «Камбоджа», название парохода.
3.14
Острова Соединения, или Токелау — английская колония на Тихом океане.
3.15
Jolies petites blagues (французск.) — хорошенькие шуточки.
3.16
Monsieur (французск.) — господин.
3.17
Et ma mère est enterrèe dans le jardin de monsieur le curé… — «Моя мать погребена в саду господина священника».
3.18
«Peninsular and Oriental Company» (английск.) — «Полуостровная и Восточная компания», английская пароходная компания.
3.19
Ex officio (латинск.) — по должности, по обязанности.
3.20
Cant (английск.) — ханжество.
3.21
«Prayer Book» (английск.) — молитвенник.
3.22
Mistrisses, misses, ladies (английск.) — дамы, барышни, леди.
3.23
Вильберфорс — английский общественный деятель, боровшийся за освобождение негров; Говард — известный английский демократ; Чатам (Питт) — один из наиболее воинственных руководителей английских колониальных захватов; Клейв — деятель английской Ост-Индской компании, прославившийся особым коварством.
3.24
Аден — полуостров на юго-западе Аравии, центр английского влияния на Аравийском полуострове; Занзибар — острова у восточного берега Африки, позднее перешли под английский протекторат; Индостан — полуостров в Индийском океане, почти весь входил в Британскую Индию. Прикрываясь флагом борьбы с работорговлей, англичане обеспечивали рабами-неграми свои владения.
3.25
На Парижском конгрессе 1856 года был подписан трактат, положивший конец Восточной (Крымской) войне 1853—1856 годов, между англо-франко-турецкой коалицией и Россией.
3.26
«Messageries Impèriales Francaises» (французск.) — «Французская имперская пароходная компания».
3.27
Тьер — организатор кровавого подавления Парижской коммуны в 1871 году. Разгром 1871 года — поражение Франции в войне с Пруссией в 1870—1871 годах, закончившееся уплатой Пруссии пятимиллиардной контрибуции и передачей Эльзас-Лотарингии.
3.28
Point-de Galle — Пуант-де-Галль, порт в юго-западной части острова Цейлон.
3.29
«Oriental-Hôtel» (французск.) — гостиница «Восток».
3.30
Misères humaines (французск.) — человеческие несчастья.
3.31
Коломбо — главный город Цейлона; Пондишери — главный город французских колоний в Индии; Мадрас и Калькутта — города в Индии.
3.32
The christian civilisation (английск.) — христианская цивилизация.
3.33
Малаккский пролив между полуостровом Малакка и Суматрой соединяет Индийский океан с Китайским морем.
3.34
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное и Аравийское моря.
3.35
Лаж — отклонение курса денежных знаков, векселей, ценных бумаг от нарицательной их стоимости в сторону повышения.
3.36
Сасун — арабский еврей, наживший огромное состояние на торговле опиумом.
3.37
Position oblige (французск.) — «положение обязывает».
3.38
Кохинхина — часть Индокитая.
3.39
Юань Мин-юань — дворец около Пекина, разграбленный и сожженный англо-французами во время грабительского похода на столицу Китая.
3.40
Евгения — жена французского императора Наполеона III.
3.41
Редут — укрепление с обороной на все стороны.
3.42
Николай Павлович — царь Николай I.
3.43
Меровинги — франкская королевская династия (середина V века — середина VIII века).
3.44
Тунгстеп — вольфрам.
3.45
Мусме (японск.) — девушка.
3.46
См. примечание 1.47 к очерку «Воспоминания о заселении Амура».
3.47
Soi-disant (французск.) — так сказать.
3.48
Bocca-Tigris (французск.) — «Пасть тигра», укрепления на Жемчужной реке.
3.49
«Treaty Ports» (английск.) — «договорные порты».
3.50
Нанкинский договор — первый неравноправный, грабительский договор, навязанный Англией Китаю, он положил начало закабалению Китая капиталистическими странами.
3.51
Столица двух Куанов, то есть двух провинций — Гуандун и Гуанси.
3.52
Презрительная кличка, данная китайцам англо-французскими захватчиками.
3.53
Клипер — быстроходное парусное судно.
3.54
Associe (французск.) — компаньон.
3.55
Parvenus (французск.) — выскочки.
3.56
Hong-Kong and Shangai bank (английск.) — Гонконг-Шанхайский банк, филиал «Банка Англии», один из главных рычагов закабаления Китая.
3.57
Chargè des affaires (французск.) — поверенный в делах.
3.58
«Pacific Mail Steamship Company» (английск.) — Тихоокеанская компания почтовых пароходов (американская).
3.59
Quel beau pays (французск.) — какая красивая местность!
3.60
Иедо — старое название Токио.
3.61
A russian spy (английск.) — русский шпион.
3.62
«Hôtel des Colonies» (французск.) — гостиница «Колониальная».
3.63
«Japan Herald» (английск.) — газета «Японский вестник». «Japan Weekly Mail» (английск.) — журнал «Японская еженедельная почта».
3.64
М. И. Венюков посетил Японию в то время, когда в стране происходила буржуазная революция 1868 года, внешний толчок которой дали попытки иностранных капиталистических стран превратить Японию в колонию. Завершилась падением власти сёгуната, или тайкуната, как называет его М. И. Венюков, то есть феодального абсолютизма. Сёгун — титул японских военных диктаторов, в процессе войн и ослабления власти микадо (императора) захвативших фактическую государственную власть. В результате ликвидации сёгуната была восстановлена императорская власть.
Японская буржуазная революция была половинчатой, она дала возможность сохраниться значительным пережиткам феодализма и передала власть в руки помещичье-буржуазного блока.
3.65
Санжо — Сандио. Ивакура и Санжо являлись представителями придворной аристократии, то есть феодальных элементов. В этом сказывалось взаимопроникновение феодально-помещичьей и торгово-промышленной групп, создавшее непреодолимое препятствие к завершению в Японии буржуазной революции.
3.66
Саймураи — самураи, одно из господствующих сословий в Японии, в то время низшие слои дворянства, составлявшие военные дружины феодалов. В буржуазной революции 1868 года выступали против феодального режима.
3.67
Толстой Д. А. (1823—1889) — царский министр народного просвещения, реакционер, ярый противник обучения народа.
3.68
Крузенштерн И. Ф. (1770—1846) — знаменитый русский мореплаватель, руководил вместе с Ю. Ф. Лисянским (1773—1837) первой русской кругосветной экспедицией. Экспедиция Крузенштерна произвела многочисленные съемки побережий Тихого океана.
3.69
Гренеры — скупщики; грена — яички шелковичных червей.
3.70
Иосивара — отдельный квартал домов терпимости в японских городах.
3.71
Monsieur, on ne s'arrête jamais sur le passage (французск.) — «господин, не стойте никогда в проходе».
3.72
Ниппон — старое название острова Хонсю (Хондо), крупнейшего из японских островов.
3.73
Of Chinese girls (английск.) — китайских девушек.
3.74
В 1864 году англо-франко-американский флот подверг варварской бомбардировке берега Японии. На Японию была наложена огромная контрибуция, в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, за то, что японцы начали обстреливать американские и французские суда и убили загулявшегося англичанина Ричардсона.
3.75
Протагор — древнегреческий философ.
3.76
Пекинский договор, последовавший за третьей войной Англии и Франции против Китая. Этот договор способствовал дальнейшему закабалению китайского народа англо-американо-французскими капиталистами.
3.77
«Astor-house» — гостиница «Астор».
3.78
Ли Хун-чжан (1823—1901) — китайский государственный деятель, проводивший политику китайской реакции и иностранных капиталистических держав.
3.79
La basse-cour (французск.) — задний двор.
3.80
Чугучак (Да-чэнь) — китайский пограничный город в Синцзяне.
3.81
Укрепление Верное — ныне город Алма-Ата, столица Казахстана.
3.82
Кульджа — китайский город в провинции Синцзян, расположенный недалеко от русско-китайской границы.
3.83
Тайпинское восстание, проходившее в 1851—1864 годах, было беспощадно подавлено объединенными силами маньчжурско-китайской реакции и американо-англо-французских войск. Бесчинства карателей нанесли огромный урон городам и селам Китая.
3.84
Мур — английский поэт, либерал по политическим взглядам; Бриссо — деятель французской революции 1871 года, выразитель интересов крупной буржуазии; Фурье и Сен-Симон — представители утопического социализма; Лассаль — основатель первой рабочей партии в Германии и вместе с тем основоположник реформизма в германском рабочем движении, в частности, проповедовал создание рабочих производственных товариществ, материальную помощь которым должно было оказать прусское правительство.
Взгляды М. И. Венюкова на общественный строй тогдашнего Китая отражали его неуменье понять законы общественного развития. Там, где он видел «антропологический фактор», «устойчивость крайнего Востока», на деле сказывалось тормозящее влияние феодализма.
3.85
En toutes lettres (французск.) — «всеми буквами», прописью.
3.86
«The Middle Kingdom (английск.) — «Серединное царство», Китай.
3.87
Ah, mon chèr Butzow! (французск.) — «А, мой дорогой Бюцов!».
3.88
«Revue des deux Mondes» (французск.) — «Обозрение Старого и Нового Света» — известный французский толстый журнал.
3.89
Carte blanche (французск.) — неограниченное полномочие, полная свобода действий.
3.90
A fond (французск.) — основательно.
3.91
Гумбольдт — см. примечание 1.26 к «Воспоминаниям о заселении Амура».
3.92
Twenty six! Twenty six! Twenty five! Twenty four! Twenty one! (английск.) — «Двадцать шесть! Двадцать шесть! Двадцать пять! Двадцать четыре! Двадцать один!».
3.93
Stop (английск.) — остановка, стоп.
3.94
Генерал-губернатор южных провинций — Хубея, Хунани, Гуандуня, Гуанси.
3.95
Венюков имеет в виду свою службу председателем Люблинской крестьянской комиссии в Польше (по проведению земельной реформы).
3.96
«Hôtel de Belle-vue» (французск.) — гостиница «Бель-Вю» («Красивый вид»).
3.97
En herbe (французск.) — начинающий.
3.98
Non possumus (латинск.) — «не можем».
3.99
Адмирал Попов командовал русскими военными кораблями на Тихом океане.
3.100
Walsch — Уолш, название фирмы.
3.101
«The Capital of the Tycoons» (английск.) — «Столица тайкунов».
3.102
Зеленой С. И. — адмирал, участник экспедиции по определению долгот в Балтийском море, читал в университете астрономию и геодезию, позднее директор Гидрографического департамента.
3.103
Религиозное восстание японцев-христиан, жестоко подавленное правительством.
3.104
Дунгане — народность китайского Туркестана, восставшая против притеснений со стороны богдыханского правительства. После жестокого усмирения восстания китайским правительством часть дунган выселилась в Россию.
3.105
Quand-même (французск.) — во что бы то ни стало.
3.106
Пальмерстон — премьер-министр и руководитель внешней политики Англии, добивавшийся установления мирового господства английского капитализма.
3.107
«International hôtel» — гостиница «Интернациональная», brandy (английск.) — коньяк.
3.108
Pendant (французск.) — соответствие.
3.109
Old merry England (английск.) — «старая веселая Англия».
3.110
Bad conduit (английск.) — дурное поведение.
3.111
Во время гражданской войны в США между Северными и Южными штатами английское правительство явно поддерживало рабовладельцев юга, которым передало военный корабль «Алабама», использованный для пиратских действий на море. После победы северян Англия была вынуждена уплатить Соединенным Штатам Америки 15,5 миллиона долларов за учиненный ущерб.
3.112
Третье отделение — высший орган полиции, царская охранка.
3.113
Радзивилл и Демидов — польский и русский богачи.
3.114
De facto (латинск.) — фактически, на деле.
3.115
Collège de France — известное французское учебное заведение.

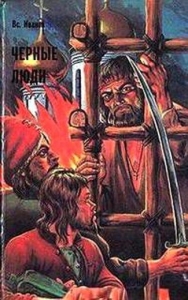


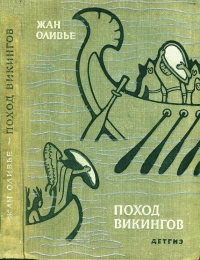

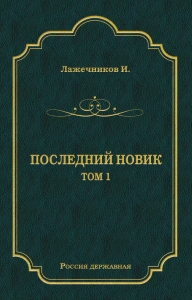

Комментарии к книге «Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии», Михаил Иванович Венюков
Всего 0 комментариев