Уго Ди Фонте Дегустатор
Предисловие
Пять лет назад мой друг, у которого я гостил в Барге, деревушке на севере Тосканы, познакомил меня со своим соседом Джанкарло Тула (имя я изменил). Коренастый, располневший, с копной нечесаных седых волос и полной золотых зубов пастью, Джанкарло родился в семье цыган-акробатов в Болгарии. Он хвастался, что они объездили весь мир и дважды выступали в шоу Эда Салливана. Как-то раз, рекламируя будущее представление на манеже 69-й улицы, Джанкарло прошел по канату над Уолл-стрит с завязанными глазами на высоте тридцатого этажа. Но вскоре после этого, мучимый зубной болью, упал и сломал ногу в трех местах.
Он начал снимать порнографические фильмы, женился на актрисе со студии Энди Уорхола и стал отцом. В конце семидесятых вернулся в Европу (а может, его туда вернули) и обосновался в Париже, занимаясь тем же низкопробным бизнесом. Снова женился — и благодаря своей второй жене, с которой позже развелся, увлекся коллекционированием антиквариата.
Сейчас он страдал от эмфиземы, и за ним ухаживала симпатичная блондиночка Берта из Австрии. (Как подобные типы умудряются обворожить хорошеньких блондинок — это выше моего понимания!) Я пил с ним граппу, а он травил мне байки из своей жизни, одну невероятнее другой: как-де он с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо ходил на Кубе по приемам и вечеринкам, загорал на юге Франции с Миком Джаггером и шлялся по борделям Бангкока с шейхом из Саудовской Аравии.
Мой друг сказал Джанкарло, что я тоже интересуюсь раритетами. Тот сразу же заявил, что у него есть одна вещица, которая меня наверняка заинтригует. Я ответил, что не прочь на нее взглянуть. Тут он начал мяться и жаться: это, мол, единственная по-настоящему ценная вещь, которая у него осталась, ему нужно посоветоваться с адвокатом, и прочая, и прочая. Приняв его рассказ за очередную небылицу, я не стал настаивать. Кроме того, его бахвальство меня изрядно утомило, так что я вообще не собирался более с ним встречаться.
В тот день, когда я хотел возвращаться в Штаты, нас разбудила Берта и сказала, что Джанкарло испарился в ночи. Мы немедленно пошли с ней. В доме все было перевернуто вверх дном: Берта искала деньги, которые обещал ей Джанкарло, но так и не нашла. Она хотела отдать мне «вещицу», о которой говорил беглец: старую потрепанную рукопись. Зная Джанкарло, я решил, что это наверняка подделка, однако взял ее с собой.
Я показал рукопись экспертам в Нью-Йорке и сотрудникам музея Гетти в Лос-Анджелесе. К моему изумлению, они заверили меня, что манускрипт подлинный, и даже предложили его продать. Я отказался, решив перевести рукопись сам. Я изучал итальянский язык и жил некоторое время в Италии, так что в течение следующих четырех лет потихоньку занимался переводом.
Поскольку действие книги в основном происходит в городе Корсоли, расположенном на границе трех провинций — Тосканы, Умбрии и Марша, я несколько раз ездил туда в надежде найти его следы. Однако, судя по архивным записям, в конце семнадцатого века город был стерт с лица земли в результате землетрясений, а его обломки, очевидно, растаскали жители окрестных деревень.
Год назад я закончил перевод. Я старался как можно точнее передать дух подлинника, слегка модернизировав для современного читателя некоторые фразы и синтаксис, и хотя какие-то страницы были утеряны, а другие напрочь испорчены, надеюсь, что своей цели я достиг, причем довольно успешно. Насколько мне известно, это единственная уцелевшая рукопись, принадлежащая перу Уго ди Фонте.
Переводчик Питер Элблинг
1 – Апрель 1534
Долгие годы после того, как повесилась моя мать, я жалел, что был тогда слишком мал и слаб и не смог ей помешать. Увы, мне оставалось лишь беспомощно смотреть, пока она не затихла.
Накануне мы праздновали день святого Антония и до отвала наелись свинины с капустой и бобами, полакомившись на десерт полентой с орехами. Наелись, как говорится, от пуза — и все потому, что в нашей долине уже несколько недель свирепствовала чума, сражая кого ни попадя. Никто из нас не знал, доживет ли он до утра.
Вечером мы с мамой стояли, глядя на вершину холма, где отец с моим старшим братом Витторе устроили фейерверк. Я предпочел остаться с матерью. Мне нравилось, когда она чесала мне голову и обнимала, приговаривая: «Мой маленький принц!» А кроме того, этот подонок Витторе приложил меня в тот день башкой о дерево, и она до сих пор болела.
Было темно и безлунно, но я слышал зычный голос отца, выкрикивавшего команды. Ветер трепал зажженные огоньки, как человек, который дразнит собаку, пытаясь вырвать зажатую у нее в зубах палку. Когда петарды взлетели в воздух, я мельком увидел муравьиные фигурки людей, стоящих на вершине холмов. Неожиданно один из огненных шаров упал на землю и покатился, подпрыгивая на ухабах, по склону. Он крутился все быстрее и быстрее, сминая кусты и натыкаясь на деревья, так что казалось, будто им управляет сам дьявол.
— Матерь Божья! — воскликнула мама. — Он сожрет нас живьем!
Она схватила меня за руку и потащила в дом. Через пару секунд горящее колесо прокатилось как раз по тому месту, где мы стояли, и в самой середине я увидел обрамленный языками пламени лик Смерти, глядящей прямо на нас. А потом оно скрылось внизу, оставив за собой след из выжженной листвы и травы.
— Мария! Уго! Вы целы? — крикнул отец. — Вас не задело? Отвечайте же!
— Stupido! [1] — заорала мама, выбежав из дома. — Ты чуть не убил нас! Ce uno bambino qui [2]. Чтоб дьявол насрал на твою могилу!
— Я малость промахнулся! — крикнул в ответ отец, вызвав в толпе взрывы смеха.
Мама продолжала осыпать его проклятиями, пока у нее не иссяк запас ругательств. Говорят, я пошел в нее, поскольку язык у меня острее бритвы. Потом она повернулась ко мне и сказала:
— Я устала. Мне надо прилечь.
Когда отец приплелся домой — глуповато улыбаясь, из-за чего его орлиный нос еще ближе прижался к острому подбородку, — у мамы под мышками выросли шишки размером с куриное яйцо. Глаза глубоко запали, зубы торчали наружу, и все, что я любил в ней, таяло на глазах, так что я сжал ее руку покрепче, чтобы она не исчезла совсем.
К восходу солнца Смерть уже ждала у дверей. Отец сидел на полу возле кровати, закрыв большими ладонями глаза и тихо плача.
— Вынеси меня на улицу, Висенте, — прошептала мама. — Давай-давай! И уведи ребят.
Я забрался на ореховое дерево у дома, оседлав увесистый сук. Отец положил мою бедную маму на землю и поставил рядом с ней чашку с полентой и воду. Витторе велел мне спуститься и идти с ним пасти овец.
Я помотал головой.
— Слезай! — крикнул отец.
— Уго, ангел мой! Иди с ним! — взмолилась мать.
Но я никуда не пошел. Я знал, что если уйду, то никогда больше не увижу ее. Отец попытался залезть ко мне на дерево, однако у него ничего не вышло, а поскольку Витторе боялся высоты, то стал кидать в меня камнями. Они били меня по спине, один со стуком ударил в голову. Я обливался слезами, но не двинулся с места.
— Ступайте без него, — велела мама.
Отец и Витторе пошли вверх по косогору, время от времени останавливаясь и что-то крича. Ветер относил их слова, так что они казались мне звериным воем. Мама начала кашлять кровью. Я сказал, что молюсь за нее и скоро ей станет лучше.
— Mio piccolo principe! [3] — прошептала она.
А потом подмигнула и сказала, что знает секретное лекарство.
Она разорвала простыню пополам, бросила мне один конец и велела завязать вокруг ветки. Я был счастлив, что могу помочь ей. И только когда мама обмотала другим концом шею, я почуял что-то неладное.
— Mamma, mi displace! [4] — завопил я. — Mi displace!
Я попытался развязать узел, но руки у меня были слишком маленькие, а кроме того, мама затянула его, подпрыгнув и прижав колени к груди. Я позвал отца, но ветер швырнул мой крик обратно мне в лицо.
Когда мама подпрыгнула в третий раз, раздался звук, похожий на треск сломанного дерева. Язык у нес высунулся наружу, мне в ноздри ударил запах кала.
Не знаю, как долго я кричал. Знаю только, что, не в силах шевельнуться, я просидел на суку до утра — открытый всем ветрам, под равнодушными звездами, задыхаясь от смрада, исходившего от разлагающегося тела матери, — пока не вернулись отец с Витторе.
Под небом, покрытым хмурыми серыми тучами, соседи вырыли маме могилу. Отец рухнул на колени и, потеряв от горя голову, прижал ко рту ладони с горстями земли так, словно это была мамина плоть. Кто-то из соседей рассказал анекдот. Я был слишком мал и не понял его, но засмеялся со всеми вместе. Почти в ту же секунду сверкнула молния. Послышались еще анекдоты и шутки, сопровождаемые взрывами хохота, которым вторили громовые раскаты в горах. Отец поднялся с колен и рассказал сквозь слезы свою любимую фацецию о кардинале, пукнувшем кому-то в лицо. Мы слышали ее тысячу раз, но на сей раз наш смех был стократно усилен вспышкой молнии. Она пронзила тучи, небеса разверзлись, и хлынул ливень. Мы недвижно стояли, промокшие и нахохленные, как птицы, и смотрели, как мой отец хоронит маму в сырой могиле.
Потом мы побрели домой и сгрудились вокруг котла, кутаясь в овчину, чтобы согреться. Небо стало таким темным, что пришлось зажечь свечи. Женщина с шестью пальцами на одной руке испекла хлеб из каштановой муки. Она велела мне нарисовать на корочке кресты, чтобы отвести порчу. Мы поели minestra [5] из турецкого гороха и бобов, запивая суп терпким старым вином из кружек. Время от времени отец начинал так горестно стонать, что сердце у меня разрывалось на две половинки, и я не мог сдержать слез. Соседи продолжали травить анекдоты, а наши жутковатые тени на стене перемешались со слезами и смехом, образовав в моей голове, которая уже разболелась от вина, сплошную кашу.
Зачем я все это пишу? Боль от воспоминаний свежа во мне, как ножевая рана. И хотя эти слова пронзают меня насквозь, я чувствую, что должен написать их, потому что иначе мои потомки не поймут, как я стал тем, кем стал. Я должен поблагодарить служаночку с мягкими губами и сладкими, как дыня, грудями, которая помогла мне это понять.
Прошлой ночью, поцеловав меня на прощание, она окинула взором мою комнату и сказала:
— Я люблю приходить сюда. У тебя так чистенько и уютно!
Я ответил, что очень старался и мне приятно, что она это заметила. Да, все в моей комнате дышало гармонией, каждая вещь стояла на своем месте. Кровать была покрыта новыми темно-синими одеялами, под которыми скрывались тончайшие льняные простыни. В углу стоял сундук, украшенный чудесными охотничьими сценками. Над ним на стене висело изображение моего любимого святого Франциска. Я коснулся пальцами шелкового халата в шкафу, затем бархатных штор, сшитых Висконти из Флоренции — если это имя вам что-нибудь говорит. Я вдохнул аромат духов, благодаря которым от меня пахнет лучше, чем от задницы куртизанки, и тут в моих ушах раздался громкий голос: «Уго! Ты понимаешь, что твои молитвы не остались без ответа? Теперь ты видишь, как Бог вознаграждает тех, кто верует в него?»
Я бухнулся на колени и воздал Господу хвалу за его бесконечную любовь. Я поклялся ему, что отныне сделаю все, чтобы восславить его имя, а также имя Сына Божьего Иисуса Христа и Пресвятой Девы Марии. Даже когда я сомневался в нем (а такое бывало), даже когда я проклинал его (и такое бывало тоже), он никогда меня не покидал. Это отнюдь не значит, что я преуменьшаю свои собственные волю и мужество. Мне пришлось преодолеть множество препятствий, которые могли сломить более слабого человека. Я пал жертвой злобной клеветы, меня оболгали и даже покушались на мою жизнь. Но я победил всех врагов — да, всех до единого! — потому что Господь хранит тех, кто помогает себе сам и говорит правду.
Вот тогда-то я и подумал: «Запиши историю своей жизни, дабы те, кто подобно тебе родился в нищете, могли сказать: «Посмотрите, чего добился Уго! Пусть даже я не настолько смел и ловок — я тоже выбьюсь в люди, черт побери!» Если хоть один человек испытает такое чувство, значит, мои усилия (Potta! [6] Это действительно стоит мне немалых усилий, поскольку я научился писать всего два года назад!) не пропадут втуне».
В коридоре раздались шаги герцога Федерико. Я узнал его по своеобразной трехногой поступи — тук! тук! тук! — две ноги и палка. Задув свечу, я улегся на кровать и громко захрапел. Я чувствовал, как он смотрит на меня во тьме. Он позвал меня по имени. Я притворился, что не слышу. Наконец герцог ушел, так что я могу продолжить свою историю.
Глава 2
До того как умерла моя мать, я знал лишь одну разновидность чувства голода, но после ее смерти сердце мое стало еще более пустым, чем желудок, и только милосердная ночь прекращала мои рыдания. Я молил Бога, чтобы он взял меня к себе, потому что отца словно подменили. Он стал едким и раздражительным. Я ничем не мог ему угодить: то у меня полента подгорела, то птицы улетели из силков. Что бы я ни делал, что ни говорил, все было не так. «У тебя такой же поганый язык, как у твоей матери! — орал он на меня. — Ты плохо кончишь!»
Чтобы не попадаться ему под руку, я целыми днями пас отару, иногда подменяя Витторе. Брат был на пять лет старше меня, а благодаря высокому росту и стройной фигуре выглядел еще взрослее. Его длинный нос нависал, как у отца, над губами, а подбородок был маленький и плоский, как у мамы, так что казалось, он вот-вот расплющится под тяжестью лица. Когда брат хвастался, что выиграл в карты или трахнул какую-нибудь девчонку отец хлопал его по спине. Порой они уходили на рыбалку, и мне приходилось ночевать одному в обществе овец. Я не возражал. Я всех их знал по именам, разговаривал с ними, пел им. Как-то раз — прости меня, Господи! — я даже трахнул одну из них. Я вовсе этим не горжусь, но что было, то было. Зачем мне писать историю моей жизни, если я буду скрывать правду? А кроме того, все пастухи трахают овец. Если они это отрицают, поверьте мне, они просто лжецы и будут гореть в аду. Как бы там ни было, по сравнению с Витторе я сущий ангел. Когда он приближался к овцам, те, как правило, разбегались во все стороны.
Я разводил костер, чтобы не замерзнуть ночью, и пускай овцы не говорили со мной, но они меня и не били. Хотя однажды я чуть было не угодил в зубы волку, утащившему ягненка. За это меня тоже отругали.
Через пять лет после маминой смерти нашу долину поразил голод. Урожай засох на корню, куры так отощали, что не могли нести яйца, а поскольку наши овцы принадлежали владельцу долины, нам не разрешалось есть даже их какашки. Я часто молил Бога помочь мне уснуть, чтобы забыть о голоде, но желудок у меня болел все время, а ноги так ослабли, что я не мог стоять.
Отец пек лепешку из каштановой муки на камнях возле очага, напевая при этом: «Я разрежу свой хлеб пополам и отдам половину котам. А второй я заткну себе зад, чтоб жратва не поперла назад!»
Мне снилось, что мама печет мои любимые пирожки с фигами и яблоками. Запах печеных яблок раздразнил меня, и я попросил ее дать мне малюсенький кусочек. Она улыбнулась и отломила мне румяную корочку. Но когда я протянул руку, то проснулся и увидел, что отец с Витторе уже едят.
— А где моя порция? — спросил я.
Отец показал на маленький подгорелый кусочек лепешки, лежащий на камне.
— И это все?
— Ты спал.
На глаза у меня навернулись слезы.
— Ты будешь есть или нет? — рявкнул Витторе. Я схватил лепешку. Брат стиснул мою руку железной хваткой.
— Это мое! — воскликнул я.
Лепешка жгла мне руку, но я не отпускал ее. Отец крикнул: «Basta! [7]» — и разжал мой кулак. Лепешка превратилась в шарик, съежившись в размерах наполовину. Отец разломал его и отдал часть Витторе.
— Он больше тебя! Ешь, пока я не отнял остальное!
— Когда-нибудь у меня будет столько еды — хоть завались! — крикнул я. — Ты будешь помирать с голоду, но я не дам тебе ни крошки!
— Ты не мой сын! — заявил отец и влепил мне оплеуху.
Лепешка вылетела у меня изо рта. Витторе расхохотался, отец тоже. Слова отца намертво врезались мне в сердце, так же как их смеющиеся лица — в мою память. С той поры много воды утекло, но я никогда не забывал этого мгновения. «Не рой другому яму — сам в нее попадешь!» — говаривала моя матушка. Однако я благодарил Бога за то, что не мог забыть обиду. Я думал о ней каждый день и молил о мщении. И Господь в милости своей вознаградил мое терпение.
Глава 3
После смерти мамы отец взвалил бремя забот и печалей на свои плечи. Со временем оно согнуло его пополам. Когда он был уже не в состоянии ходить на пастбище, Витторе унаследовал отару. Поскольку я часто ухаживал за овцами, то попросил брата дать мне несколько животных, чтобы основать где-нибудь свою ферму. Он отказался. Testa di cazzo! [8] Проклятая ciacco! [9] Уговаривать его было бесполезно, так что наутро, еще до рассвета, я связал свою одежду в узел и, не сказав отцу и брату ни слова, ушел. Было мне тогда лет четырнадцать. Помню, как стоял на вершине холма, глядя на облака, спешившие по небу так, словно они опаздывали в церковь.
— Они уносят с собой мою старую жизнь, — сказал я и сразу же воспрянул духом.
Сияло солнце, в воздухе витал опьяняющий аромат розмарина и фенхеля. Господь благословил меня! Я запел и продолжал бы петь до самого Губбио, где надеялся найти работу, не заметь я на тропинке девушку.
Сперва я увидел ее волосы, темные, как чернозем, заплетенные в косу, которая раскачивалась у нее за спиной, словно конский хвост. Не знаю почему, но мне захотелось схватить эту косу и сжать в ладонях, впиться в нее зубами и провести теплым шелком по щеке. Кто из вас меня осудит? Мне было четырнадцать, и всю свою жизнь я провел среди овец.
Я не знал, что сказать девушке, а потому подкрался и спрятался за шелковичным деревом, чтобы рассмотреть ее получше. Примерно моего возраста, с мохнатыми черными бровями — такими же, как волосы. Полные красные губы, прямой нос, а щеки круглые, как яблоки. Грудь, если она вообще у нее была, скрывалась под свободной блузкой, и я не мог ее разглядеть. Маленькие ладошки рвали фенхель и голубую герань, подносили их к носу, чтобы вдохнуть аромат, а затем клали в корзинку. Я слыхал, как люди говорили и пели о любви, но до того момента не понимал, что это такое. А теперь меня точно околдовали. Каждая частичка моего существа неудержимо рвалась к ней, хотела быть рядом.
Девушка напевала песню о женщине, которая ждет, когда ее любимый вернется с войны. У меня поначалу екнуло сердце, поскольку я подумал, что она поет о реальном человеке. Но потом я вспомнил, как матушка напевала о женщине, ждущей возвращения возлюбленного с моря. Моя мама выросла в Бари, и я знал, что отец моря в глаза не видал.
Хотя это придало мне храбрости, я по-прежнему молчал. Девушка выглядела такой безмятежной, что мне не хотелось ее пугать. Честно говоря, я боялся, как бы она не рассердилась, узнав, что я подсматривал за ней, а потому сидел, не шевелясь, хотя вокруг моего лица летали и жужжали пчелы, а в задницу впивались камни. По ногам даже пополз скорпион, но я все равно затаил дыхание и не двинулся с места.
Девушка пошла домой, и я последовал за ней, как тень. Весь день до вечера я прятался в дубовой просеке неподалеку, придумывая, что бы ей такое сказать, и одновременно борясь с ногами, которые так и хотели броситься наутек. Но когда солнце село за холмами, я испугался, что так никогда и не осмелюсь заговорить с ней. Поэтому я постучал в дверь и, когда она открыла, попросил ее выйти за меня замуж.
— Если бы ты предложил на холме, — лукаво ответила она, — я, возможно, согласилась бы. Но ты слишком долго ждал.
И захлопнула дверь прямо у меня перед носом!
Potta! Мне хотелось наложить на себя руки! Но прежде чем закрыть дверь, она улыбнулась, и поэтому, когда ее отец, коренастый коротышка с огромными, словно кочан капусты, ладонями, пришел вечером домой, я сказал ему, что ищу работу. Он спросил, умею ли я рубить лес, и я ответил, что лучшего дровосека ему не найти. Он глянул на меня, сплюнул и заявил, что если я валю деревья так же ловко, как вру, ему вообще больше не придется работать. Тем не менее он меня нанял.
Дни мои проходили в тяжких трудах, но отец Элизабетты всегда хотел иметь сына и обращался со мной по-божески. Пусть я не мог есть от пуза, однако мне теперь не приходилось отдавать еду Витторе или отцу. А летом, когда вырубку прекращали и мы отправлялись на поля к северу от Ассизи помогать с уборкой пшеницы, я лопал, как свинья. Нас кормили не раз, а семь раз в день! Макарон было хоть отбавляй, а кроме того — хлеб, испеченный в форме penes [10] и bосса senza difetti [11], жареная телячья печенка, цыплята и, конечно, полента. Мы пили и плясали, пока не падали с ног. Женщины задирали платья и показывали свои culos. Боже правый! Чтоб я сдох, если вру! Мужчины бросались на них и трахали у всех на виду.
На третье лето я взял Элизабетту за руку, и мы, вдыхая терпкий аромат шалфея и тимьяна, пошли к деревьям на краю поля, где я попросил ее стать моей женой.
Мы были счастливы вначале. Потом отец Элизабетты нечаянно угодил топором себе по бедру. Рана не заживала, началась гангрена. Элизабетта забеременела. Ее отец знал, что умирает, и хотел дожить хотя бы до появления внука, но скончался, так и не дождавшись наследника. Хороший он был человек.
Как-то вечером, когда я вернулся домой, Элизабетта громко кричала от боли. Ее прекрасные волосы намокли от пота. Искусанные губы почернели от запекшейся крови. Она рожала весь день и всю ночь. Повивальная бабка, скрюченная старушенция, сказала:
— Она слишком тонкая. Я могу спасти либо ее, либо ребенка.
— Спаси Элизабетту, — отозвался я. — Дети у нас еще будут.
Услышав это, моя жена приподнялась и схватила меня за руку.
— Обещай, что позаботишься о ребенке! — крикнула она. — Обещай!
Я взмолился, чтобы она не думала об этом, но она трясла мою руку и вопила: «Обещай!» — так громко, что я сдался. Как только я пообещал, Элизабетта упала на подушки и произвела ребенка на свет, тут же отдав Богу душу. Комочек окровавленной орущей плоти — взамен моей Элизабетты!
Два дня я даже не глядел на младенца. Мне казалось, что он виновен в смерти Элизабетты, и, поскольку я хотел отдать ребенка волкам, повивальная бабка прятала его от меня. На третий день она положила Миранду — это имя Элизабетта прошептала перед смертью — мне на руки. О miraculo! О чудо! Это крохотное создание превратило мое горе в радость, какой я прежде не испытывал никогда! Копия Элизабетты — такие же большие темные глаза, такие же ямочки на щеках, такой же прямой носик. Она даже губки покусывала в точности как ее мать! Я месяцами просил у Господа прощения за те слова, что вырвались у меня в приступе отчаяния.
Когда Миранде исполнился годик, я услышал, что овцы у Витторе все подохли и он ушел в солдаты. Я подумал, что отцу, наверное, очень одиноко. Самое время отвезти ему Миранду — его первую внучку. Он будет рад ее увидеть.
Я стер себе ноги до кровавых волдырей, пока шел к отцовскому дому, и проклинал себя за то, что затеял это путешествие. Но когда наконец я увидел его сгорбленную фигуру, сидящую на солнышке (он стал таким маленьким!), меня захлестнул прилив нежности. Держа Миранду на руках, я подбежал к нему с криком:
— Babbo! [12] Это я, Уго!
В первый миг он меня не узнал, поскольку глаза у него сильно ослабели, но когда я приблизился и до него дошло, кто перед ним стоит, он обругал меня за то, что я не проведал его раньше. Опять я был виноват!
Ему было голодно, холодно, и у него почти не было денег.
— А где Витторе? — спросил я, притворившись, что ничего не знаю.
— Он сражается за венецианцев, — с гордостью ответил отец. — У него под началом сотни солдат!
— Тот, кто назначил Витторе командиром, просто дурак, — откликнулся я.
— Ты завидуешь! — крикнул отец. — Он заслужил эту честь и прославил имя ди Фонте! Он станет кондотьером.
Мне хотелось сказать: «Ты, глупый осел! Ты сам виноват, что так влип. Витторе разорил тебя, и ты прекрасно это знаешь. Но тебе, видите ли, хочется думать, что он — армейский капитан. А пошел ты!»
Вслух я этого не сказал. Я вообще ничего не хотел говорить. Я надеялся, что он обрадуется мне, возьмет на руки свою единственную внучку, поцелует ее и ущипнет за щечку, как другие дедушки. Я хотел, чтобы он показал Миранду своим соседям и заявил, что это самый прекрасный ребенок на свете…
Не тут-то было. Он посмотрел на нее и хмыкнул:
— Девчонка!
Глава 4
После этого я перестал рубить лес и занялся выращиванием овощей в долине Корсоли. В основном они уходили во дворец, как и все остальное. Но остатков хватало, чтобы прокормиться и даже продать кое-что на рынке. Кроме того, у меня, слава Богу, были коза, овца, несколько кур и Миранда, которую я любил больше жизни.
Моя Миранда! Che bella raggazza! [13] Небесный ангел. Губы цвета зрелого красного винограда, щеки — такие же яблочки, как у ее мамы. Нежная кожа, блестящие, как бриллианты, карие глаза под черными бровями. Она часто хмурилась, но от этого становилась мне только дороже. Волосы у нее были густые, как у меня, только светлее. Она любила смеяться и петь. А почему нет? У нее с детства был прекрасный голос — чистый и ясный, словно у птички весной. Я понять не мог, откуда она знает столько песен! Некоторым, естественно, я научил ее сам, но остальные, очевидно, были навеяны ветрами, дувшими из церквей Ассизи или с фестивалей в Урбино. Ей достаточно было всего лишь раз услышать мелодию, и, клянусь, она могла в точности повторить ее через месяц.
Как говорят, кто смеется, тот никогда не бывает одинок, а потому она не бывала одна. Животные обожали ее и порой даже сбивали с ног — так им хотелось быть к ней поближе. Если она плакала, они слизывали ее слезы, и моя малышка начинала хихикать. Когда ей стукнуло три годика, я заметил, что она нарочно падает, чтобы зверушки пожалели ее. Она подражала пению птиц и дразнила козу, которая гонялась за ней по полям. Я ловил ее, щипал за щечки и говорил: «Это самые чудные яблочки в долине Корсоли!», а потом щекотал до упаду, пока она не начинала молить о пощаде.
Когда Миранде исполнилось одиннадцать, у нее, словно почки, проклюнулись грудки и начались месячные. Я брал ее с собой на рынок, но мальчишки не давали ей проходу, так что она частенько оставалась на несколько дней в бенедиктинском монастыре, где монашки гладили ее по головке и спорили, кто будет учить ее читать, писать и прясть шерсть.
Однажды вечером, когда я возвращался с рынка со своими друзьями Джакопо и Торо, на нас напали разбойники. Джакопо сбежал, однако нам с Торо не удалось улизнуть, поскольку мы скакали вдвоем на одном коне. Громко выругавшись, Торо спешился и всадил саблю в живот лошади одного из бандитов. Та рухнула и придавила своего всадника. Поскольку мой нож был слишком мал, чтобы сражаться с их саблями, я бросил в воздух кошелек и крикнул: «Вот вам деньги!» Другой кошелек с большей частью дукатов я привязал для сохранности к животу скакуна. Двое разбойников бросились к кошельку, а я повернулся, чтобы помочь Торо. Но в этот момент четвертый бандит уже вытаскивал саблю из живота Торо. От резкого движения капюшон разбойника упал на спину, я увидел изможденное лицо — и сразу узнал его, даром что прошло больше десяти лет. Витторе!
Я выкрикнул его имя, и он бросился на меня, но Господь послал мне ангела-хранителя, а потому я увернулся от его сабли и побежал в лес, оплакивая Торо. Я вдруг испугался, что больше не увижу Миранду — в точности как тогда, в детстве, когда заболела мама и я испугался, что потеряю ее навсегда.
Монашки были на вечерне. Аббат Тотторини сказал, что грешно увозить Миранду из монастыря, однако я сбил его с ног и побежал по коридору, открывая все двери, пока не нашел свою дочь — в его келье. К счастью для него, этот жирный гаденыш исчез прежде, чем я до него добрался.
— Ты привез меня домой, чтобы уморить голодом, — попрекнула меня Миранда через несколько недель.
Бог свидетель, я этого не хотел, но мои силки были пусты, урожай погиб, а наши животные так отощали и расхворались, что не могли пастись. У нас даже пары паршивых каштанов не было, чтобы испечь хлеба!
«Горе тому, кто родился бедным и невезучим! — говаривала моя матушка. — Хлеб он добывает в поте лица своего, и одному Богу известно, как часто ему приходится поститься».
На заре я отвел Миранду в лес и велел ей подманить птиц пением. Когда на соседнее дерево уселся зяблик, я убил его и попросил Миранду спеть еще. Она покачала головой.
— Какая разница, как мы их ловим? — спросил я.
Она ничего не ответила.
— Если мы не будем есть, мы умрем! — заорал я на нее.
Она запела, чтобы угодить мне, но птицы услышали в ее голосе слезы и улетели.
Я приготовил зяблика с зеленью и сказал Миранде, что она может поесть, если хочет, а если ей приспичило рыдать, пускай идет на улицу. Она вышла из дома. Меня охватило отчаяние. Я подумал было, не пойти ли мне в Корсоли поискать работу, но я не был ремесленником и членом гильдии. И ничего такого не умел. Я позвал Миранду. Она со страхом глянула на меня из-под темных бровей. Я обнял ее — она так исхудала, что я без труда обхватил ее тельце ладонями, — и рассказывал ей о том, как мы познакомились с ее мамой, пока она не уснула.
Я проснулся, когда над холмами показались первые солнечные лучи. Пошел на огород с высохшими овощами и, упав на колени, взмолился: «Пресвятая Богородица! Я прошу тебя помочь не мне, а моей Миранде. Если она не поест, то скоро умрет!»
Не успел я договорить, как земля подо мной задрожала. Я ничего не видел, но слышал, как за деревьями трещат ветки кустарника и заливаются гончие. Внезапно из леса выскочил великолепный олень — с ошалелыми от страха глазами и вывалившимся изо рта черным языком. Он мчался так быстро, что я даже глазом моргнуть не успел, как он перепрыгнул через меня и скрылся в дубраве напротив. В тот же миг воздух наполнился кровожадными воплями, от которых у меня похолодело в груди. Я побежал к своей лачуге, и тут из леса с громким лаем и ворчанием вылетели сотни гончих, а за ними — громадный человек на черном коне. Федерико Басильоне ди Винчелли, герцог Корсольский.
Я видел герцога Федерико пару раз в Корсоли, издалека — и это было безопаснее всего. Чтобы стать герцогом, он убил своего отца и отравил брата Паоло. Это знали все. А до того он был кондотьером (говорят, как-то в бою он собственноручно убил тридцать человек) и служил разным принцам в Италии и Германии. Все также знали, что он предавал каждого, кому служил. Из-за этого ему пришлось покинуть Италию, и он провел пять лет в Турции на службе у султана. Ходили слухи, что он всегда ходил в шелках, боялся цифры «семь», поскольку седьмого числа убил своего брата, и однажды заставил своего врага съесть его собственного ребенка. Не знаю, правда ли это, но — porta! — когда я столкнулся с ним лицом к лицу, то поверил всему, что слышал.
Начнем с того, что выглядел он как ошибка природы. Его черты были сплошным диссонансом. Лицо круглое, словно пирог, а нос, рассекавший лицо пополам, — тонкий и острый, как шпага. Глазки маленькие и свирепые, точно у ястреба, а нижняя губа отвисшая, как у дохлой рыбы. Толстая бычья шея — и маленькие ладони.
Однако напугал меня не только его внешний вид. Я видал людей и с более странной наружностью. Неподалеку от Губбио жил мельник, у которого под правым ухом росло третье, а в Корсоли была женщина без носа. Меня потрясло то, с каким надменным видом герцог Корсольский промчался по моей ферме — так, словно ему принадлежала не только земля, но и самый воздух.
Не спрашивайте меня, как это случилось, но лошадь герцога споткнулась о бобовые стебли и так резко встала на дыбы, что Федерико чуть не свалился. Изрыгая проклятия, он выхватил шпагу и изрубил несколько съежившихся стручков — все, что у меня осталось — на тысячу кусочков. Потом поднял глаза и увидел в дверях хибарки меня.
— Avanzarsi! [14] — крикнул он таким голосом, что мне показалось, будто одним ножом скребут по другому.
«Sono fottuto! [15] — пронеслось у меня в голове. — Я покойник».
— Не выходи, пока они не уедут, — шепнул я Миранде и зашагал по своему высохшему истоптанному огороду навстречу герцогу.
К этому времени из леса выехали другие охотники, человек десять. Одетые в темно-зеленые охотничьи куртки, обутые в черные сапоги, блестящие на солнце, они сидели на гарцующих конях и пялились на меня сверху вниз. Собаки оскалили зубы и залаяли, когда я прошел мимо них. Громадный мастифф в инкрустированном рубинами ошейнике прыгнул и наверняка разорвал бы меня на части, не крикни герцог: «Нерон!»
Я хотел облобызать герцогу сапоги, но Нерон стоял рядом с ними, так что я просто бухнулся на колени. Поскольку в руках у герцога была шпага, я решил, что голову лучше не склонять.
— Кто позволил тебе разводить огород в моих охотничьих угодьях? — рявкнул герцог Федерико.
— Никто, ваша светлость. Покорнейше прошу прощения…
— Из-за тебя я упустил оленя, — сказал Федерико и поднял над головой шпагу.
Я услышал душераздирающий вопль, и в тот же миг Миранда выбежала из дома и бросилась мне на шею. Зная, что герцог служил туркам, я не сомневался, что он без колебаний убьет ребенка, а потому оторвал от себя ее руки и крикнул:
— Беги отсюда! Беги!
— Он мог бы нам пригодиться, — сказал вдруг охотник с длинной седой бородой и печальным лицом.
— Пригодиться? — переспросил Федерико. — Зачем?
— Он может занять место Лукки, ваша светлость.
— Да! — сказал я и, схватив Миранду за руку, встал с колен. — Я займу его место.
У Федерико расширились глаза, он пронзительно рассмеялся. Охотники немедленно последовали его примеру. Шпага Федерико была занесена над головой, ручонки Миранды обхватили меня за пояс, а я стоял и думал, что это, наверное, Бог говорит моими устами, ибо я совершенно не соображал, что несу!
— Взять его! — приказал Федерико. Потом, посмотрев на Миранду, добавил: — И ее тоже.
Глава 5
Охотник с длинной седой бородой посадил Миранду перед собой, а потому я не сетовал на то, что мне несколько часов пришлось бежать в гору с веревкой на шее. Каждый миг жизни был даром Божьим — и кто я такой, чтобы искушать его вопросами? Он совершил чудо. Я займу место Лукки.
Как я уже писал, мне часто приходилось ездить в Корсоли на рынок, но на сей раз я увидел и услышал то, чего ранее не замечал: громадную каменную стену Западных Ворот, сбившиеся в кучку дома, извилистые улицы, ведущие к вершине холма, цокот конских копыт по булыжной мостовой. Мы проскакали по площади Сан Джулио, посреди которой бил фонтан, а затем направились по Лестнице Плача к палаццо Фицци. Дворец стоял справа от нас, а напротив него возвышался собор Святой Екатерины с прекрасной золотой статуей Мадонны над воротами, которую я шепотом попросил спасти и сохранить Миранду.
Снаружи палаццо Фицци выглядел как обычный замок, но внутренний двор был разделен колоннами и арками на три части. Я быстро окинул его взглядом. Боже правый! Казалось, что во дворец перенесли самый настоящий уличный рынок. Господи, сколько еды! Я за всю свою жизнь не видал столько съестного. Вон женщины склонились у кипящих котлов и вертелов с жареным мясом, там молодые девушки разбирают фрукты и овощи из корзинок, а несколько мужчин посреди двора разделывают туши…
— Что сегодня за праздник? — спросил я охотника. — В честь какого святого?
Тот ответил, что нынче день святого Микеле, а также день рождения герцога, и стукнул меня по голове за то, что я этого не знаю. Porta! Откуда мне было знать? В последнее время развелось столько новых святых! Я понятия не имел, что существует святой Микеле.
Мы поравнялись с конюшнями, и тут двое солдат подтащили к герцогу Федерико одного из слуг.
— Он сознался? — рявкнул герцог.
Солдаты закивали.
— Это неправда, ваша светлость! — простонал слуга. Герцог спрыгнул с коня и велел несчастному высунуть язык. Во дворе воцарилась тишина, и, подняв глаза, я увидел лица во всех окнах. Слуга медленно и робко высунул язык. Герцог Федерико схватил его левой рукой, а правой, вытащив кинжал, отрезал язык и бросил его Нерону.
Изо рта бедняги прямо герцогу на ноги хлынула кровь. Федерико повернулся к охотникам.
— Сперва он мне врет, а потом пачкает мои сапоги!
Искалеченный слуга жалобно стонал, протягивая руки к Нерону, который, съев язык, начал деловито слизывать кровь.
Федерико пнул раненого.
— Заткнись! — гаркнул он и пошел прочь.
Но бедолага не мог заткнуться. Словно сочувствуя его горю, котлы, вертела, гарцующие кони и лающие собаки умолкли, так что крики увечного разносились по двору, эхом отдаваясь от стен дворца. Федерико остановился.
— Господи, прошу тебя, пускай он замолчит! — прошептал я.
Однако ужас затмил раненому рассудок. По лицу его струились слезы, изо рта лилась кровь, а из горла рвались хриплые рыдания. Федерико выхватил шпагу, не глядя развернулся и ткнул ее бедолаге в спину так, что клинок прошел прямо через сердце. Красное от крови острие вылезло с другой стороны. Все охотники зааплодировали. Я почувствовал, как напряглось тельце Миранды, и прижал ее к себе, чтобы она не закричала. Кудрявый юнец, который, как я заметил, не сводил с Миранды глаз, кивнул, словно подтверждая, что я правильно сделал.
Герцог Федерико вытащил шпагу из спины убитого, вытер ее о тело несчастного и зашагал в замок. Те же солдаты, что притащили беднягу, отволокли его труп к забору и сбросили вниз, в долину. Я почти физически ощущал, как тело подскакивает на утесах, слышал, как трещат его кости по пути в пропасть. Через миг слуги вернулись к своим делам — так, словно ничего не случилось, но когда мы зашли во дворец, я почувствовал, как мне в спину ударила волна всеобщей ненависти.
Нас с Мирандой заперли в башне с другой стороны замка. В каморке были железные двери с огромными замками, крохотное оконце у потолка и несколько охапок грязной соломы.
— Где мы, babbo? — прошептала Миранда, все еще дрожа от пережитого кошмара.
— Во дворце герцога Федерико. Скоро нам дадут большую комнату с кроватями и слугами, — заявил я с притворным весельем.
— Это еще почему?
— Почему? Да потому, что я займу место Лукки. Разве ты не слышала, что сказал тот охотник?
Девочка подумала немножко и спросила:
— А кто такой Лукка?
Я не знал ответа и испугался, что она вот-вот заплачет. Прижав Миранду к себе и глядя в ее бархатистые темные глаза, я пообещал ей, что Бог нас не оставит, ибо мы — его создания. Я велел ей прочитать все молитвы, которые она знала, а сам тем временем спросил у Господа, не спутал ли он нас с кем-нибудь, а если спутал, то пускай исправит свою ошибку, пока не поздно.
В конце концов, прочитав все молитвы, мы съежились вместе в углу каморки и притихли. Я слышал лишь биение наших сердец — и, клянусь, на какой-то миг даже оно умолкло.
— Прошу вас! — взмолился я, когда за мной пришла стража. — Не оставляйте мою дочь здесь одну!
— Мы будем делать, что захотим, — ответил стражник. Но капитан, у которого было доброе сердце, сжалился:
— У меня тоже есть дочь. Я отведу твою малышку наверх.
Меня привели в комнату с большой ванной, наполненной ароматной водой, и велели соскрести грязь и вымыть волосы. Другие слуги пробегали мимо, готовясь к банкету. Курчавый юноша прошел с корзиной яблок.
— Эй! — окликнул я его. — А где Лукка?
Но он ничего не ответил. В комнату заглянул седобородый охотник и сказал слугам:
— Убедитесь, что у него чистые руки.
Эти идиоты скребли мои ладони, пока те не опухли. Еще немного — и они содрали бы мне кожу до крови, однако тут я пригрозил им, что окуну их в ванну. Меня вытерли и причесали. Потом побрили, выдали красные лосины, белую рубашку, жилет и пару туфель. После чего слуги поднесли ко мне зеркало и начали хихикать:
— Он себя не узнает!
Они были почти правы. В конце концов я все-таки узнал себя — не потому, что представлял, как я выгляжу, а потому, что был очень похож на маму. Такие же прямые волосы, как у нее, такие же блестящие глаза, левый чуть больше правого. Не помню, как выглядели мои ноздри. Миранда говорит, они мясистые, но только матушка знает, были они такими от рождения или стали от того, чем я занимаюсь. Тем не менее я не слишком отличатся от людей, которые меня окружали. Тоньше, это точно, а так — самый обычный человек. Поэтому, судя по внешности, я не мог понять, почему меня выбрали на место Лукки.
— Чья это одежда? — спросил я.
— Лукки, — ответил слуга.
У меня были еще вопросы, однако все кругом суетились и сердито огрызались, говоря, что спрашивать — не моя забота. Потом мне пришлось одеться. За исключением туфель, которые оказались впору, Лукка явно был куда крупнее меня. Я утонул в его жилете, рукава рубашки висели ниже пальцев. Впрочем, моя рубаха в любом случае была гораздо хуже. Стражник отвел меня к Миранде, которая сидела в уютной комнате и смотрела на сад, утопавший в цветах.
— Babbo! — выдохнула она. — Ты настоящий принц!
— Видать, этот Лукка был не последней спицей в колесе, — отозвался я. — Кто знает — возможно, у него была дочка? Тогда тебе тоже дадут новую одежду.
Когда стражники снова пришли за мной, солнце давно уже село. Я поцеловал Миранду и сказал, что люблю ее и верю в Бога. Меня провели наверх по каменным коридорам, освещенным канделябрами с горящими факелами. Я услышал какой-то шум, сопровождаемый запахами съестного; они становились все явственнее, пока мы не завернули за угол, а там… Святые угодники! Что за зрелище! В коридоре сновали слуги, все нарядные, все одетые в красное и белое, с подносами, на которых громоздились те самые продукты, что я видел раньше во дворе, но уже приготовленные, поджаренные, сваренные и стушенные самыми разнообразными способами.
Прямо передо мной слуги несли на подносах лебедей с серебряными коронами на головах. Глаза у птиц были такие блестящие, оперение такое живое, что я сказал себе: «Это самые дрессированные птицы во всей Италии!» Матерь Божья! Святая наивность… Лебеди, естественно, не были живыми, просто, как я узнал впоследствии, их освежевали так аккуратно, что перья остались на коже. Когда внутренности выбрали и тушки нафаршировали яичными белками и мелко молотым мясом, их поджарили, а затем приклеили шафранной пастой перья, лапки и клювы. Чудеса, да и только!
Другие слуги несли жаренные на вертеле козьи ноги, нежные ломтики телятины, куропаток с баклажанами и блюда с рыбой, посыпанной петрушкой и укропом. Oi me! [16] У меня подкосились ноги. Запахи проникали в нос, затмевая рассудок и соблазняя желудок. Въевшиеся в мою плоть голодные годы, проникшие до мозга костей муки недоедания пробудились с таким воплем, что мне пришлось прижаться к стене, иначе — porta! — я набросился бы на слугу, который нес баранью ножку.
Свирепый низенький человечек с кустистыми бровями и зобом у левого уха сердито протиснулся мимо меня и побежал от одного блюда к другому, принюхиваясь, пробуя и помешивая. Это был Кристофоро, тогдашний шеф-повар. Тут затрубили трубы, забили барабаны, послышались смех, лай и отчаянное предсмертное блеяние овцы. Потом оно прекратилось, по коридорам пронесся громкий гул.
Кудрявый юнец просеменил мимо меня с чашкой салата.
— Ты видел Лукку, — бросил он на ходу. — Ему отрезали язык.
Я чуть не обделался. Чудо вдруг превратилось в кошмар. Когда кучерявый прошел мимо снова, я схватил его за руку:
— За что?!
— За попытку отравить Федерико.
У меня язык присох к нёбу.
— Он был дегустатором.
— Дегустатором!
И я собирался занять его место! Мне хотелось сорвать с себя одежду, выпрыгнуть в окно и бежать куда глаза глядят — но кругом стояли стражники.
— Adesso! [17] Пошли, живо! — крикнул кто-то.
Снова зазвучали фанфары, и мы зашагали к просторному залу, причем я был четвертым в ряду!
Святые угодники! Еще утром я думал, что стою на пороге смерти — и вот теперь я входил в рай. В воздухе витал аромат фиалок и розмарина. На стенах висели разноцветные флаги и прекрасные гобелены. Длинные столы были покрыты белыми скатертями и уставлены вазами с цветами, подобранными столь искусно, что этим букетам могла позавидовать сама природа. За столами сидели гости в шелках и расшитом золотом бархате. Шеи дам украшали драгоценности, сверкавшие на белоснежных грудях. Музыканты наигрывали веселую мелодию. Из-под столов вылезли собаки и уставились на нас. На убитой овце, обливаясь потом, сидел карлик. Мы смотрели прямо вперед, высоко подняв головы, хотя из-за слов курчавого задница у меня напряглась и сжалась до предела.
Тут мы подошли к столу Федерико, стоявшему в конце зала. Одетый в мантию с горностаем и буфами на рукавах, герцог откинулся на спинку огромного кресла, буравя нас всех бусинками глаз. На груди у него висел золотой медальон с его же портретом. Слуга поставил перед ним блюдо с самым большим лебедем. Гости притихли. Нерон, лежавший у ног герцога, зевнул. Повар Кристофоро шагнул вперед. В правой руке у него был длинный нож, в левой — короткий двузубец. Сощурившись, он окинул лебедя взглядом, глубоко вдохнул и, вонзив в птицу двузубец, поднял ее в воздух на уровне груди. А затем, коснувшись вначале лебедя ножом, чтобы прицелиться, отсек шесть ровнехоньких ломтей от правой стороны грудинки — вжик! вжик! вжик! — по-прежнему держа птицу на весу, да так ловко, что куски упали на тарелку герцога в рядок, словно их положили туда рукой.
— Stupendo! Meraviglioso! [18] — закричали гости.
Кристофоро поклонился.
Кто-то вытолкнул меня вперед, так что я оказался прямо напротив Федерико. Между нами в собственном соку плавали шесть кусков коричневато-красного мяса. А потом…
Кристофоро поднял тарелку и, протянув мне нож, сказал:
— Попробуй!
Глава 6
«Ellе S’fortunato sorpresa», — как сказала бы моя матушка. «Весьма неприятный сюрприз». Неприятный? Oi me! Куски грудинки стали такими огромными, что затмили весь мир. Мне казалось, я вижу, как в них копошатся личинки, ползают черви, сочится зеленый гной… Я глянул на Федерико. На нижней губе у него повисла слюна. Все в зале уставились на меня — вельможи, рыцари, их жены, придворные, слуги. Я вспомнил выражение ненависти на лицах слуг во дворе. А вдруг кто-нибудь из них отравил еду? Миранда уже лишилась матери, так что без меня ей не выжить. И хотя мне не хотелось раздражать Федерико (Бог свидетель, я искренне жаждал ему угодить), тем не менее я положил нож на стол и сказал:
— Спасибо, ваша светлость, но я уже поел.
Лицо герцога исказилось от ярости. Он скрипнул зубами, нижняя губа отвалилась на подбородок.
— Попробуй, ради Бога! — воскликнул Кристофоро.
Федерико резко отодвинул кресло и склонился над столом, подняв вверх нож. Люди вокруг меня кричали:
— Пробуй! Пробуй!
Я не сомневался, что Федерико владеет ножом так же ловко, как и шпагой, а потому быстренько подхватил кусок грудинки и впился в нее зубами.
Мясо я ел всего несколько раз в своей жизни: свинину на праздник святого Антония, пару цыплят и однажды — овцу, которая охромела, когда мы перегоняли стадо. Отец в таких случаях всегда говорил: «Жаркое удалось на славу!» — просто потому, что это было мясо. Но случалось это настолько редко, что я не мог толком запомнить его вкус. Однако эту грудинку… эту грудинку я не забуду никогда. О Боже! Как только мои зубы впились в нее, нежная плоть растаяла у меня во рту. По языку, словно весенний ручей, побежал восхитительный сок. Кто-то застонал от наслаждения. Это был я!
Герцог Федерико стукнул кулаком по столу.
— Глотай! — гаркнул он.
Дважды ему повторять не пришлось. Господи Иисусе! Будь моя воля, я съел бы всю птицу целиком. Глотка у меня открылась, желудок подпрыгнул, чтобы принять еду, но грудинка не тронулась с места. Как страстно ни желала часть меня проглотить ее — другая часть сопротивлялась. Другая часть меня твердила: «А что, если грудинка все-таки отравлена? Интересно, скоро я это почувствую? И что это будет за ощущение? А может, уже поздно?» В горле у меня защекотало. Наверное, это было лишь мое воображение, но, почувствовав щекотку, я попытался вытащить мясо изо рта. Тарелки свалились на пол, собаки залаяли, гости в панике повыскакивали из-за столов. А затем мне заломили за спину руки и, словно животному, протолкнули мясо в глотку.
Однажды я видел, как умирал мельник, выпивший отравленной воды. Он катался по земле, пытаясь вырвать руками собственный желудок. Глаза у него вылезли из орбит, язык во рту распух. Он кричал, что завещает мельницу тому, кто принесет ему нож, чтобы погасить пожар в животе, однако его злодейка жена запретила нам помогать бедняге. Он кричал до утра, а потом затих, напрочь отъев себе губы.
Но это мясо не обжигало мне рот и не разрывало глотку. В желудке не было такого ощущения, что его терзают копи грифа. Я не чувствовал ничего, кроме блаженства. Каждая частичка моего тела вздохнула от удовольствия. Факелы замерцали, вспыхнули и успокоились. Все глаза были прикованы ко мне и герцогу, перебегая с одного на другого. Когда прошло несколько минут и ничего не случилось, Федерико крякнул, придвинул к себе тарелку, взял остальные ломти руками и съел их. Для гостей это послужило сигналом к началу пиршества. Только что все пялились на меня — и вдруг я стал невидим.
— Ты что — смерти моей хочешь? — заорал Кристофоро, когда мы вернулись на кухню. Он так разозлился, что зоб его стал таким же красным, как лицо. — Делай, что тебе велят! Иначе, клянусь, если Федерико тебя не убьет, я прикончу тебя сам!
Позже я узнал, что должность герцогского повара была не менее опасна, чем должность дегустатора, поскольку, когда дело касалось еды, Федерико становился подозрительнее, чем старый дурак с молодой женой, и сперва наносил удар, а уж потом задавал вопросы. Но у Кристофоро не было времени устроить на кухне разнос, поскольку повара спешно готовили следующие блюда. Мой желудок время от времени начинал урчать, и я думал: «Вот оно! Это яд!» Однако плохо мне не становилось, и наконец я понял, что урчит он оттого, что пытается привыкнуть к еде.
Кучерявый юноша, которого, как выяснилось, звали Томмазо, сказал:
— Не уходи далеко. Ты понадобишься герцогу снова.
Я стоял у сервировочного стола, где готовили мясо и другие лакомства, и смотрел, как гости надкусывают тонкие нежные колбаски, жуют цыплячьи ножки, заглатывают ломтики телятины и высасывают мозги из костей. Их рукава становились то красными, то горчичными — в зависимости от того, в какой соус они макали мясо. Разговаривали гости о’ политике, искусстве и войне. Когда кто-то чихнул, горбун-очкарик с большой головой, большими ушами, черной бородой и выпученными глазами начал рассуждать о правилах поведения за столом.
Как раз в тот момент, когда я проходил за его спиной, он сказал: «В Венеции принято сморкаться таким образом!» — и, зажав нос большим и указательным пальцами, этот гаденыш отвернулся от стола, так что громадная сопля приземлилась аккурат мне на ногу. Я рассвирепел, поскольку мне дали только одни лосины и я не знал, где взять другие.
Меня еще пять раз вызывали пробовать для герцога еду. Там были соленые свиные языки, жаренные в кроваво-красном вине, рыба в желе, посыпанные сыром равиоли с овощами, farinata [19], густой пудинг из пшеничных зерен с миндальным молоком и шафраном, поданный в качестве гарнира для дичи. И конечно же, каплуны. Каплуны с оладьями, каплуны с лимоном, каплуны с баклажанами, каплуны, испеченные в собственном соку. Гостям нравилось все! Боже правый! И как им могло это не нравиться? Что до меня, то каждый раз, пробуя очередное блюдо, я боялся умереть. Желудок у меня рычал, как обозленный медведь, но ничего плохого не случилось.
Поэтому, отведав несколько блюд без печальных последствий, я сказал себе: «Уго! Возможно, еда не отравлена. А поскольку не исключено, что ты в первый и последний раз пробуешь такие яства, — наслаждайся!»
Как раз в это время Кристофоро подал герцогу неаполитанские слойки со сливками и сахаром и пирожные с грушами, залитые марципаном. Рот у меня так наполнился слюной, что в ней мог утонуть целый бык. Я молился про себя, чтобы Федерико выбрал для начала пирожные с грушами.
Он так и сделал. Сдерживая нетерпение, я поднес лакомство ко рту и надкусил.
Хвала вам, святые угодники! Тем, кто говорит, что кулинария — не такое высокое искусство, как живопись и скульптура, я. могу сказать, что у них задницы вместо голов! Оно гораздо выше! Работы скульптора вечны, в то время как величие повара измеряется тем, насколько быстро исчезают его творения. Истинный мастер должен создавать шедевры каждый день. А этот подлец Кристофоро был настоящим мастером. Вообразите теплую сдобу, рассыпающуюся по краям неба, сахарную мякоть золотистой груши, лежащей на вашем языке подобно удовлетворенной женщине, райский сок, заполняющий щелочки между зубами… Вы все равно не догадаетесь, что я тогда почувствовал. Вы небось подумали, что я, никогда не пробовавший таких деликатесов, радостно отдамся наслаждению и, быть может, рискуя жизнью, откушу еще кусочек. Но я этого не сделал. Не потому, что я не хотел, поверьте! Просто не смог. Что-то во мне изменилось. Я не получил от пирожного никакого удовольствия. Никакого. Nientc! [20] Мои вкусовые бугорки утратили всякую способность наслаждаться. Я отошел от стола, глядя на грушевые пирожные с таким разочарованием, что у меня на глазах закипела слеза.
Так продолжается и по сей день. Яства, вдохновляющие мужчин на сочинение стихов, яства, ради которых женщины раздвигают ноги, а министры продают государственные секреты, оставляют меня равнодушным. Даже когда я не пробую блюда для герцога, а сижу один в своей комнате при свете одинокой свечи, с кусочком хлеба и сыра на тарелке, я ничего не чувствую. Но это не такая уж большая цена. Если бы все эти годы я наслаждался едой, то со временем потерял бы бдительность, а враги герцога только этого и ждут. Ну уж нет! Как бы ни хотелось мне получать удовольствие от еды, жизнь я люблю все-таки больше.
Было уже так поздно, что начали пробуждаться птицы, а банкет все еще не кончился. Щуплый человечек с желтыми зубами, большущими бровями и сопливым носом встал из-за стола, готовясь произнести речь. Я заметил, что слуги выскользнули из зада, и попытался последовать за ними, но они захлопнули дверь прямо у меня перед носом, и я услышал, как они прыснули там со смеху. Человечек откашлялся и начал:
— Септивий, смиреннейший, из ораторов, выражает тебе, о величайший из владык, герцог Федерико Басильоне ди Винчелли, свою горячую признательность.
Я точно не помню, что именно сказал Септивий той ночью, но с тех пор я слышал столько его речей, что могу пересказать их во сне. Во-первых, он превознес герцога Федерико так, словно тот был Иисусом Христом и Юлием Цезарем одновременно. Потом он заявил, что, будь тут Цицерон, он не сказал бы: «Давайте есть, чтобы жить». Нет! Он сказал бы: «Давайте жить, чтобы есть!» — поскольку это самый великолепный банкет на свете.
— Он освобождает наши чувства, и, вкушая фрукты, которые Господь насадил в садах Корсоли, мы поглощаем самый рай!
Мало того, что я не мог наслаждаться едой — теперь мне пришлось слушать, как этот кретин ее восхваляет!
— Этот чудесный пир, — заливался Септивий, — не только позволяет нам ощутить гармонию с природой, но и соединяет наши сердца. Все раны сегодня затянулись, все ссоры забылись, ибо пища — лучший лекарь!
Я так и слышал, как ворчит мой отец: «Вот придурок! Что за чушь он мелет?»
Затем Септивий принялся восхвалять рот, поскольку в благодарность за еду тот рождает слова.
— Слова, сдобренные яствами символизируют союз человека и природы, человека и общества, а также тела и духа. Разве Христос не сказал: «Сие есть Тело Мое… Сие есть Кровь Моя» [21]? Соединение тела и духа вызывает в нас иной голод, утолить который способен только Бог!
Он сделал паузу и отхлебнул вина.
— Разговоры на действительно удачном банкете не бывают ни слишком глупыми, ни слишком умными. Они текут так, что к ним может присоединиться любой. Ибо нет ничего хуже, чем положение, когда инициативу за столом перехватывает кто-то один и произносит длинные скучные речи, которые сводят на нет наслаждение от еды…
— Ты прав. Нет ничего хуже, — перебил его герцог Федерико. — Я пошел спать.
Он встал и зашагал через зал, как пьяный. Через мгновение гостей как ветром сдуло.
Розовые пальчики зари уже просунулись между холмов, когда Томмазо сказал:
— А теперь мы поедим!
И повел меня в столовую для прислуги.
Глава 7
Интересно, что сказал бы Септивий о пище для слуг. О пище? Какое там! Пищу готовят на кухне, а эту дрянь готовили на погосте. От каждого перепела или каплуна, которые подавали на банкете, нам достались клювы и когти. От каждой козьей ноги — копыто, от каждой колбаски — хвостик. Все молчали. Никто не произносил речей и не шутил. У всех были усталые лица. Сидя при бледно-желтом свете свечи из свиного сала, мы из последних сил притворялись, что наши «блюда» так же великолепны, как и те, которые мы подавали гостям. Я вдруг вспомнил о Миранде.
— Моя дочь! Я должен найти ее…
— Она уже поела, — сказал Томмазо, обсасывая скрюченную черную куриную лапку так, словно это был самый лакомый кусочек на свете. — Попробуй десерт.
Он поставил на стол чашку с фигами, виноградом и сливами, такими гнилыми, что их трудно было отличить друг от дружки. А потом, взяв какую-то помятую гадость в форме яблока, добавил:
— Пойдем, я отведу тебя к ней.
Он пошел пружинящей самоуверенной походкой по лабиринту коридоров и лестниц, вгрызаясь в яблоко и плюясь семечками в других мальчишек. Наконец мы оказались в маленькой комнатушке напротив конюшни, где на соломенных тюфяках спали трое парней. Миранда, кутаясь в ветхое одеяло, свернулась калачиком на таком же тюфяке. Я схватил своего поводыря за руку.
— Спасибо тебе за доброту!
Томмазо смотрел на лицо Миранды, которое даже в зеленоватом свете факелов было нежным и прекрасным.
— Buona notte! [22] — отозвался он и, склонив голову набок, ушел, насвистывая себе под нос.
Я лег рядом с Мирандой и обнял ее. Меня окутал запах свежести и чистоты. Я прижался лицом к ее щечке и возблагодарил Господа за то, что он уберег мою дочурку от напастей. И все же, несмотря на крайнюю усталость, уснуть я не мог.
Oi me! Мне доводилось спать с овцами, козами и свиньями, но даже вместе взятые они не воняли так мерзко, как мальчишки в этой каморке! Мало того; они то и дело вскрикивали во сне, что-то бормотали, всхлипывали и лягались, точно пытаясь отогнать ночные кошмары.
Впрочем, если бы все было тихо и эта выгребная яма пахла, как турецкий гарем, мне все равно не дали бы заснуть мысли, теснившиеся в голове. Я хотел знать, как Лукка пытался отравить Федерико. Я хотел знать, почему, раз уж я должен пробовать еду, Господь не позволяет мне наслаждаться ею. И если кто-нибудь спрыснет ядом мясо или пудинг — как я об этом догадаюсь? Potta! Как мне помешать отравителям?
Несмотря на голод, в деревне я был свободен. А теперь я чувствовал себя птицей, попавшей в силки и ожидающей, когда вечный охотник по имени Смерть придет за мной. И этот день мог настать завтра! Или послезавтра. Или еще через день. Боже! Каждая трапеза могла стать для меня последней. Сердце у меня билось так громко, что его удары отдавались в ушах. Я встал в двери, ведущей во двор, чтобы в голове немного прояснилось. Во дворце было тихо. Лик луны тускло мерцал сквозь облака. Вдруг ее лик сменился лицом моего отца, а потом — проклятого братца Витторе. Он засмеялся: «Вокруг Уго столько жратвы — а он ни фига не чувствует!» Все, что я съел, подступило к горлу.
После того как меня вырвало, я взял Миранду на руки и унес из каморки. Люди спали везде, свернувшись рядышком в коридорах, нишах, под скамейками. В каждом помещении виднелись спящие, кто под одеялом, а кто и без. Миранда открыла глаза и, когда я сказал ей, что мы возвращаемся домой, дернула меня за руку и заявила:
— Нет, мне тут нравится, babbo. Я ела мясо…
— Миранда, — прошептал я. — Меня назначили новым дегустатором герцога Федерико. А бывший, Лукка, это тот самый бедняга, которому отрезали язык.
Миранда тут же проснулась. Я поставил ее на пол.
— Я не хочу, чтобы тебя отравили, babbo!
— Я тоже не хочу. Именно поэтому мы должны…
Кто-то вдруг зарычал, и в свете факелов я увидел, как собака Федерико, Нерон, оскалившись и прижав уши, крадется к нам. Миранда любила животных, но испугалась не меньше моего и спряталась за мою спину.
— Нерон! — позвал голос из темноты.
Сердце мое выпрыгнуло в окно. К нам, хромая, приближался герцог Федерико.
— Scuzi [23], ваша честь. — Я отвесил низкий поклон. — Моей дочери что-то приснилось…
— Ты дегустатор, — перебил меня герцог.
— Si [24], ваша светлость. Уго ди Фонте.
— Подойди ко мне!
Я замялся, и он повторил:
— Подойди ко мне! Я стараюсь не убивать больше одного за день.
Опершись на мое плечо, он скривился и сел на скамейку.
— А теперь подними мою ногу.
Она была забинтована и распухла от гноя, и я не знал, в каком месте и как ее подхватить.
— Снизу! — рявкнул герцог. — Снизу!
Молясь про себя, как бы не уронить ногу, я взялся за ступню (то, что морда Нерона была в нескольких дюймах от моего лица, не облегчало мне задачу) и поднял ее.
— Осторожно! — прорычал Федерико.
Нерон громко залаял. Пот заливал мне глаза, так что я почти ничего не видел. Осторожно, как новорожденного, я положил ногу на скамью. Федерико прислонился головой к стенке и глубоко вздохнул. Я не знал, то ли мне уйти, то ли стоять на месте. Тут он спросил:
— Что ты делаешь?
Я понял, что он смотрит не на меня, а на Миранду, которая гладила Нерона по массивной голове. Она сразу отдернула руку.
— Любишь собак? — поинтересовался герцог.
— Я люблю всех животных, — кивнула Миранда и вновь протянула ручонку к Нерону.
Святые угодники! Видали вы когда-нибудь такое смелое дитя?
— Жаль, у меня не дочка, — проворчал Федерико. — Мой старший сын скоро захочет прикончить меня.
Я хотел спросить, не думает ли он, что сын его отравит, но тут Федерико поскреб большой палец ноги и выругался с такой злостью, что я решил промолчать. Потом, словно только что вспомнив о нашем присутствии, герцог резко сказал:
— Идите спать.
Мы поспешили обратно в комнату.
Миранда вскоре уснула, а я лежал и думал. Пускай Федерико и вправду зол и жесток, однако у него есть на то веская причина, раз его пытаются отравить. У всякой монеты две стороны, и я только что мельком увидел вторую. Герцогу нравились дети если не его собственные, то маленькие девочки — безусловно. Во всяком случае, он не испытывал к ним неприязни. Это хороший знак. А кроме того, он сказал, что старается не убивать больше одного человека за день. Конечно, это была шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Porta! Это должно быть правдой, иначе Корсоли давно бы вымер.
Поразительно, как Господь направил меня по этому пути! Он дал мне возможность поступить в услужение к великому герцогу и занять такое высокое положение, о каком мои отец и брат даже мечтать не могли. Без сомнения, именно поэтому Федерико убил Лукку. Именно поэтому олень промчался по моему огороду, а седобородый предложил взять меня вместо Лукки. Господь услышал мои молитвы. Я спас Миранду от голода. И я поклялся, что оправдаю любовь Всевышнего, став самым лучшим дегустатором на свете!
Глава 8
Наверное, я все-таки уснул, поскольку, когда Томмазо разбудил меня, солнце уже сияло вовсю, а гости собирались разъезжаться.
— Я хочу тебе кое-что подарить, — сказал он.
Я не стал будить Миранду и пошел за ним по оживленным коридорам. Юноша шагал все той же самоуверенной походкой, приветствуя всех, будь то лакеи, придворные или служанки, громким высоким голосом. Голос у него ломался, а потому надменность Томмазо выглядела еще смешнее. Проходя мимо челядинцев, он бросал мне на ходу: «Эта прачка была рабыней из Боснии. Это вор. А это сплетница». Судя по словам Томмазо, все, кроме него, были либо ворами, либо сплетницами.
Он привел меня на кухню, где слуги сновали между рядами плит и котлов. У стены виднелись вертела для птицы и другие, для более крупной живности. Из кипы сена в углу торчали ложки и ножи, а на ближайшем столе лежали орудия для резки, разделки и приготовления фарша. Кроме того, там рядами стояли горшки для тушения и жарения, формы для равиоли, разнокалиберные сита, скалки, ступки и пестики, прессы, кувшины, мутовки, терки, ложки, половники и дюжина других предметов утвари, чье предназначение осталось для меня загадкой.
Томмазо залез на невысокий шкаф и бросил мне кожаный мешочек. Я развязал его. По столу покатились три камешка и кусочек кости. Камешки были маленькие, темные и круглые и выглядели как тысячи камней, которые я видел каждый день, разве только были более гладкими.
— Что это? — спросил я.
— Амулеты. Они принадлежали Лукке.
Один из мальчишек, работавших на кухне, взял самый мелкий черный камешек.
— Это не амулет, а овечья какашка.
Другие поварята засмеялись. Я бы охотно посмеялся вместе с ними, но, поскольку Томмазо сказал, что амулеты принадлежали Лукке, не смог выдавить из себя даже улыбку.
— Они приносят удачу! — заявил Томмазо, отобрав камешек у поваренка. — Вот эта косточка — часть рога единорога. Если окунуть ее в отравленное вино, она меняет цвет.
— На какой? — спросил я.
Томмазо пожал плечами.
— Знаю только, что единорога должен убить девственник, а их трудно найти.
— Не так уж и трудно! — заявил поваренок, показывая на Томмазо.
Остальные снова прыснули со смеху. Томмазо залился краской.
— Заткнись! — крикнул он.
Но поварята продолжали дразнить его: «Девственник! Девственник!»
— Не обращай на них внимания, — сказал я, положив ладонь ему на руку.
Томмазо обернулся ко мне. Глаза у него горели, однако юноша старался сохранять самообладание.
— Кубок Федерико сделан из золота и серебра. Если кто-нибудь насыплет туда яд, он меняет цвет, а вино закипает, как вареные макароны.
— Кто это здесь варит макароны?
Проклятый Кристофоро вернулся на кухню, размахивая длинной деревянной ложкой. Поварята уворачивались от его ударов, но он был куда более ловок, чем казался, и стукнул нескольких мальчишек по головам и рукам.
Томмазо сгреб амулеты.
— Пошли, мне надо отлить.
Мы выскользнули из кухни, прошмыгнув мимо двоих парнишек, которые сидели на полу и со слезами потирали головы.
— Я бы дал тебе посильнее! — заявил Томмазо и пнул поваренка ногой.
Пока мы шли по коридору, Томмазо снова здоровался со всеми, кого мы встречали на пути, как со старыми друзьями.
— Ты всех знаешь, — заметил я.
— А как же? Я здесь родился. Я схватил его за руку.
— Лукка действительно пытался отравить Федерико? Ты в курсе или нет?
Он пожал плечами и выдернул руку. Мы подошли к забору, возведенному на краю утеса. Мужчины испражнялись в желоб, бежавший вдоль забора вниз, в долину. Некоторые болтали о банкете, хвастаясь тем, что они сделали или сказали; остальные оправлялись молча, все еще не проснувшись как следует.
С трех сторон нас окружали холмы, на вершинах которых в утреннем свете виднелись деревушки. Внизу раскинулся город Корсоли — улочки, извивающиеся между башнями и появляющиеся вновь, словно весенние ручьи, а за стенами к городу спешили путники, похожие на муравьев. Еще вчера я выглядел таким же маленьким и ничтожным, но сегодня Господь в милосердии своем поместил меня на крышу мира.
— Эй, martori [25]! — окликнул меня Томмазо. — Если хочешь посрать, тут есть солома.
— Меня зовут Уго! — громко ответил я.
Всю мою жизнь меня звали крестьянином — и стражники, когда я приходил в город, и купцы, обманывавшие меня, и мытари, и священники. Теперь, когда я оказался во дворце, мне хотелось, чтобы меня называли по имени.
— Хорошо, Уго. — Томмазо показал на верхний этаж дворца. — Там живет герцог Федерико. А под ним живет горбун Джованни, шурин Федерико.
— Тот, который высморкался на меня? — спросил я.
Томмазо кивнул и добавил, что Джованни — посол Корсоли в области торговли шерстью и без его связей долина погибла бы от голода.
— Он хочет стать кардиналом, — продолжал Томмазо. — Но Федерико не желает платить, поскольку каждое скудо, которое он дает папе, тот использует против Корсоли. Поэтому герцог ненавидит папу, а все остальные ненавидят Федерико.
— Быть может, Лукка и Джованни…
— Нос тебе нужен для того, чтобы нюхать, а не вынюхивать, — предупредил меня Томмазо. — Это не твое дело.
— Как это не мое? Potta! Если какой-нибудь дурак решит…
— За брань — штраф десять скудо! — перебил меня Томмазо. — Давай мне десять скудо.
— Десять? Да у меня и одного-то скудо нет…
Томмазо уставился на меня карими глазами из-под черной курчавой шевелюры, грызя ноготь мизинца (он обкусал все ногти до мяса). Глаза у него были посажены слишком близко, а два передних зуба казались чересчур большими для рта. На лице у него было несколько оспин. Матушка предупреждала меня, что оспинки появляются тогда, когда человек лжет.
— Значит, будешь моим должником, — заявил Томмазо. — Пошли!
Порой после дождей, когда из земли вылезала травка и расцветали цветы, я мечтал о том, что когда-нибудь у меня будет огород с грядками цветной капусты, головками чеснока, рядами морковки, похожими на марширующих солдат, и прочими овощами. Томмазо привел меня на огород, где росли все овощные культуры, которые я знал, а также множество неизвестных мне растений. Бобы, чеснок, капуста, морковь, лук, кучерявый салат, баклажаны, мята, фенхель, анис — все это аккуратно росло на грядочках, разделенных узкими проходами.
— Здесь я работаю, — хвастливо заявил Томмазо. — Эти овощи предназначены только для Федерико и его близких.
— И ты тут всем заправляешь?
— Я и еще одна старуха. Но работаю в основном я. Даже у папы римского нет такого огорода. Ты никогда не видал ничего подобного, верно?
Я согласился. Он снова стал хвастаться тем, насколько важна его работа, и продолжал бы так без устали часами, если бы я его не перебил.
— Томмазо! — сказал я. — Ты прожил во дворце всю жизнь. Ты всех знаешь. Мне все равно, что со мной будет — я верю, что Господь убережет меня, — но моя дочь, Миранда… Она так молода! Она…
— Тебе нужна моя помощь?
— Ты выращиваешь овощи. Я подумал…
— Ты хочешь, чтобы я помог тебе? — снова спросил он, скрестив на груди руки.
— Да, но я не могу тебе заплатить. Если мы договоримся…
— Сколько Миранде лет?
— По-моему, одиннадцать.
Томмазо склонил голову набок.
— Выдай ее замуж за меня, когда ей будет тринадцать, и я буду твоими ушами и глазами на кухне.
— Замуж? — рассмеялся я.
Он покраснел.
— По-твоему, я недостаточно хорош для нее?
— Не в этом дело. Просто она еще ребенок.
— Моя мать вышла замуж, когда ей было четырнадцать.
— Значит, когда Миранде исполнится пятнадцать, — сказал я.
— Тьфу ты! — Он сплюнул на землю. — Я дал тебе амулеты! Я, по доброте души своей, накормил твою дочь. Ты видишь, как много я знаю о дворце. Ты просишь меня о помощи-и вот твоя благодарность?
За одну секунду он так завелся, размахивая руками и покраснев, как свекла, что я едва мог его узнать. На нас стали обращать внимание. Я вспомнил матушкину поговорку: «Будешь часто кипятиться — быстро сваришься!» — и подумал, что за четыре года многое может случиться. Вся моя жизнь переменилась за четыре минуты, так зачем спорить понапрасну?
— Хорошо. Когда ей будет четырнадцать.
Томмазо рывком протянул мне руку. Я пожал ее.
— Только молчок.
Он пожал плечами.
— Как знаешь.
Юноша попытался было высвободить руку, но я крепко ее сжимал.
— Ты должен хорошо с ней обращаться. Если ты обидишь ее, я тебя убью.
— Я буду обращаться с ней, как с принцессой, — ответил он. — Пока она будет вести себя соответственно.
Тут нас позвали двое слуг, сказав, что Томмазо нужен на кухне, а я должен попробовать завтрак герцога.
— О чем вы разговаривали с Томмазо? — спросил слуга с подносом, пока мы поднимались по лестнице к покоям Федерико.
— Он рассказывал мне о дворце и о людях, которые в нем живут.
— А ты что ему рассказывал? — спросил другой.
— Ничего. Мне нечего рассказывать.
— Ну-ну, — многозначительно протянул первый.
Второй кивнул.
У меня похолодело в груди.
— А что?
— Niente. Ничего.
Мне хотелось задать еще пару вопросов, однако стражники уже повели нас через приемную Федерико к его спальне.
Глава 9
После того как нас обыскали на предмет оружия, мальчики-подавальщики постучали в дверь спальни герцога Федерико. Нам ответил его врач Пьеро. Низенький толстый еврей, Пьеро был лысым, если не считать нескольких волосинок на макушке. От него пахло жиром, который он смешивал с молотыми орехами и втирал в череп, чтобы сохранить оставшиеся волоски.
— Завтрак, мой повелитель! — рассмеялся Пьеро.
Он всегда смеялся после того, как говорил что-нибудь, независимо от того, было это смешно или нет.
— Жратва! — взревел герцог. — Я не срал три дня, а ты хочешь, чтобы я снова жрал?
У Пьеро задергалась правая щека. Кто-то сказал несколько слов более тихим и спокойным голосом. Что именно — я не разобрал.
— Несите его сюда! — вновь послышалось рычание герцога.
Мы вошли в спальню. Такой комнаты я в жизни не видал! Пол покрывали разноцветные ковры, на стенах висели гобелены с изображениями мужчин и женщин, занимающихся любовью. Посреди комнаты стояла кровать — такая большая, что на ней уместилась бы вся моя семья. Ее закрывал темно-красный бархатный балдахин, а на постели виднелись шелковые подушки и простыни, сиявшие в солнечных лучах. Кровать стояла на возвышении, и когда герцог сидел, как сейчас, он был вровень со стоявшими рядом с ним людьми. Тонкие всклокоченные волосы на голове у Федерико напоминали мокрую лапшу, глаза слезились, лицо опухло, а из-под ночной рубашки торчала густая шерсть. Он совсем не походил на герцога — скорее на торговца рыбой, с которым я встречался на рынке.
Федерико слушал серьезного седобородого мужчину по имени Чекки, своего поверенного и главного советника, который говорил:
— Я сказал ему, что, поскольку у вас был день рождения, вы решили, что конь — это подарок, а потому, если он потребует его назад, ваша дружба не пострадает.
— Хорошо, — буркнул Федерико. — Я проедусь на нем чуть позже. Бернардо!
Неряшливый субъект с растрепанными волосами и огромными, как капустные листья, ушами выплюнул в ладонь семечки фенхеля, подбежал к кровати и разложил перед герцогом карты.
— Ваша честь! Марс сейчас в огне, в то время как Меркурий и Сатурн холодны как лед. Но поскольку Марс…
— Это хорошо? — вопросил герцог, хлопнув по карте ладонью.
— Хорошо для войны, — протянул Бернардо. — А во всем остальном — лучше ничего не делать.
Герцог откинулся на подушки.
— Будь твоя воля, ты вообще заставил бы меня весь день проваляться в постели, да?
Бернардо нахмурился и сунул в рот горсть семечек фенхеля, словно это освобождало его от необходимости отвечать.
— Ваша честь! — сказал Пьеро, на цыпочках выйдя вперед. — Я думаю…
— Ты думаешь? — перебил его герцог. — Нет, ты не думаешь! Ты не умеешь думать. Оставьте меня! Вы все! Пошли вон!
— Тебя это не касается, — прошептал мне подавальщик. Он сунул мне в руки чашку и поспешил за остальными из спальни, оставив нас с герцогом Федерико наедине.
Поскольку ночью мы разговаривали в коридоре, я думал, что герцог узнал меня. Поэтому я поклонился и сказал:
— Доброе утро, ваша светлость. Надеюсь, вы хорошо почивали? Да благословит вас Господь!
Он уставился на меня так, словно видел впервые.
— Ты не разговаривать сюда пришел, а пробовать мою еду! Ты уже сделал это?
— Нет, я…
— Так чего же ты ждешь?
Я поднял крышку и увидел полную чашку дымящейся поленты, усыпанной изюмом. От нее поднялся пар, обжигая мне лицо. Ложка была только одна. Когда я поднял руку, герцог завопил: «Вымой их!» — и показал на кувшин с ручкой в виде обнаженной женщины.
Боже правый! До вчерашнего дня я мыл руки раз в месяц, а теперь мне приходилось мыть их дважды в день. Скоро я узнал, что Федерико так боялся отравиться, что требовал от всех чистоты и опрятности. Он переодевался несколько раз на дню, а если замечал хотя бы тень пятнышка на одежде, скатерти или занавеске, их немедленно отправляли в стирку. Я не понимал, какое отношение это имеет к ядам, но меня никто не спрашивал, а раз ему так хотелось, кто я такой, чтобы делать замечания?
Я налил в чашу воды и вымыл в ней руки. Краешком глаза я заметил, что герцог вылез из кровати и отдернул вышитую бисером занавеску. Приподняв ночную рубашку, он уселся на стул с ночным горшком внизу. Он кряхтел, стонал и пердел, как из пушки. Я вытащил из мешочка амулет и окунул косточку в кашу, чтобы посмотреть, не изменит ли она цвет. Но я не знал, как долго полагается ее там держать ;и должен ли я спросить позволения у герцога. А что, если он запретит? Он снова пукнул, да так, что все арабские духи не смогли бы заглушить эту вонь. Я по-прежнему держал амулет в каше.
Герцог застонал. Он сидел ко мне спиной, задрав рубашку до пояса. Потом встал и нагнулся, разглядывая содержимое ночного горшка между ногами. Увидев его громадную белую задницу, я так ошалел, что уронил косточку в кашу. Нужно было немедленно ее вытащить, но полента была такая горячая, что я чуть не завопил от боли.
— Что ты делаешь? — спросил герцог.
Я сунул пальцы в рот.
— Пробую, ваша честь.
Герцог снова взобрался на кровать. В ту секунду, когда он повернулся ко мне спиной, я сунул пальцы в воду.
— Давай ее сюда! — велел Федерико.
Я дал ему чашку с полентой. Герцог поднес ложку ко рту и проглотил. Я молился Богу, чтобы он не подавился косточкой.
— Мой бывший дегустатор пользовался амулетами, камешками и кусочками рогов, — сказал он. — Не смей этого делать. Я хочу, чтобы ты пробовал ВСЁ. — Он съел еще ложку и скривился. — Иди! Забери это с собой.
Он показал на горшок. Мысли у меня в голове метались, как летучие мыши под солнцем. Если герцог найдет косточку, я скажу, что ее положил туда Кристофоро. Я поднял ночной горшок.
— Возьми ее тоже, — сказал Федерико и протянул мне чашку с кашей.
Чудесным образом он не заметил косточку!
Выйдя за дверь, я сразу же выудил амулет. Цвет его не изменился, так что каша не была отравлена. Но какого цвета он должен стать, если в каше будет яд? И если бы косточка поменяла цвет, что тогда? А вдруг Федерико все равно заставил бы меня попробовать поленту? Каждый вопрос вызывал уйму новых, и ни на один я не находил ответа.
Глава 10
Прошло несколько месяцев, и я понял, что, хотя у многих людей были причины желать Федерико смерти, никто не осмеливался его убить. При нем всегда была охрана — дегустаторы вроде меня или стражники, сопровождавшие его повсюду. Они стояли у него за дверью и под окнами. Они слушали сплетни и бродили по городу, выискивая убийц. Они заглядывали герцогу под кровать, прежде чем он ложился спать. Porta! Они бы и в зад ему заглянули, если бы он заподозрил, что там кто-то прячется. А кроме того, у него были соглядатаи. Шпионом мог стать любой, если у него была ценная информация, так что, несмотря на смену времен года, во дворце всегда царила атмосфера страха.
Не боялись Федерико только горбун Джованни и его сестра Эмилия, жена герцога. О Джованни я уже рассказывал, так что расскажу об Эмилии — только немного, поскольку она представляла собой не более чем маленький жирный шарик с голосом вороны и грудями, торчащими из декольте, как свиные пятачки. Она проводила время, собирая коллекции картин и скульптур, рисуя цветочные клумбы, которые сажали в ее саду, и строча письма родственникам во Флоренции и Германии, где жаловалась на то, что Федерико якшается с городскими шлюхами. И они, как утверждала Эмилия, пытались его отравить. Правда это или нет, я не знал. Я только радовался, что не должен пробовать ее еду.
Хотя теперь Томмазо был на кухне моими глазами и ушами, я тем не менее обмирал от страха, пробуя каплунов, или козлятину, или дичь, а также спаржу, баклажаны, посыпанные солью и политые соусом огурцы без кожуры, фасоль, зобную и поджелудочную железу, макароны, миндаль в молоке, пироги, торты и тысячи других блюд, которые ел Федерико.
Любой, кто это читает, решит, что я вскоре разжирел, но поскольку от каждого блюда я пробовал понемножку, а многие из них, такие как яблоки и вишни, прочищали желудок, да к тому же еда мне не доставляла ни малейшего удовольствия, остается удивляться, как я не умер с голоду. Я все такой же худой, как и пять лет назад, когда меня приволокли во дворец. Но через два месяца, то есть после свадьбы, я сяду за стол и наемся в свое удовольствие. Одно блюдо за другим… Я буду есть до отвала!.. Однако вернемся к моей истории.
Мои нервы во время трапез немного успокаивало чтение Септивия. Именно от него я узнал о Юлии Цезаре, от которого, как утверждал Федерико, произошел его род, о Сократе, Гомере, Цицероне, Горации, а также услышал некоторые истории из Библии. Вернее, начала этих историй, поскольку, когда Федерико становилось скучно, он приказывал Септивию переключиться на что-нибудь другое. Только когда Миранда научила меня читать, я обнаружил, что Одиссей таки благополучно вернулся домой, а Юлия Цезаря убили.
Но даже когда Федерико не было скучно, у него так часто менялось настроение, что предугадать его никто не мог, за исключением тех дней, естественно, когда герцога мучил запор или воспалялась нога. Тогда он становился опаснее голодного волка. Поваренка избили плетьми за то, что он положил в поленту семь изюмин. Псаря, осмелившегося возразить господину, скинули со скалы. Лучше всего было держаться от Федерико подальше, но он требовал, чтобы мы не отходили от него ни на шаг, так что мы переминались с ноги на ногу, пытаясь угадать, куда бежать, если гнев повелителя обрушится на наши головы.
Впрочем, если он был в хорошем расположении духа, это ничего не меняло. Тогда он развлекался тем, что бросал на улицах Корсоли золотые монеты и смотрел, как крестьяне дерутся за них в грязи, или же велел придворным бороться за его благоволение. Помню, как-то вечером, когда Федерико доел блюдо из жареных артишоков, приготовленное по новому рецепту (ненавижу новые рецепты, потому что не знаю, каким должно быть блюдо на вкус), он не велел, как обычно, Септивию почитать, а, отодвинув поднос, заявил:
— Я тут подумал, что мир треугольный. А вы что скажете?
Бог ты мой! Я прямо-таки услышал, как в головах у придворных зазвенели мозги, точно на колокольню церкви Святой Екатерины забрался сумасшедший! Они уставились на недоеденные артишоки так, словно ответ находился на тарелке. У Пьеро начался жуткий тик.
— По словам бессмертного Данте, — сказал Септивий, — три — самое главное число, поскольку оно олицетворяет Бога-Отца, сына его Христа и Святой Дух. Таким образом, вполне справедливо, если наш мир, отражая Троицу, имеет форму треугольника.
Федерико кивнул и впился зубами в апельсин.
Чекки расправил бороду и нахмурил брови. (У него всегда был такой вид, словно перед ним разыгрывалась какая-то трагедия.)
— Не могу не согласиться, — заявил он. — Наша жизнь делится на три части — прошлое, настоящее и будущее. А поскольку мы являемся зеркалом вселенной, естественно, что вселенная тоже имеет три стороны — как в треугольнике.
Поскольку Федерико не возразил против умозаключения Септивия, Чекки решил, что самое мудрое — разделить его точку зрения.
— Я тоже согласен, — сказал Бернардо, выплюнув семечки фенхеля через плечо, — но по другим, более научным причинам. В нумерологии, которая тесно связана с астрологией, тройка представляет собой высшую силу. В наше время уже хорошо известно, что Землей управляют звезды, Луна и Солнце. Таким образом, Земля отражает мудрость небес, поэтому она безусловно треугольная.
— И не просто треугольная, — хихикнул Пьеро, испугавшись, как бы не отстать от других. — Это особый треугольник, с двумя длинными сторонами и одной короткой. А Корсоли, — добавил он, когда в зале стало так тихо, что мы слышали, как переваривается апельсин в желудке у Федерико, — находится на самой его высокой точке.
Федерико уставился на него так, словно тот заговорил по-гречески. Потом окинул взором стол, откусил еще дольку апельсина и сказал:
— Это была глупая мысль.
Все снова умолки, словно набрав в рот воды. А затем покатились со смеху, хлопая себя по бокам и вытирая глаза так, словно никогда не слыхали ничего более смешного. Федерико приподнял скатерть, чтобы утереть подбородок, и я, стоя у него за спиной и чуть сбоку, увидел, как он улыбнулся.
— Позвольте мне от имени моих друзей сказать, что герцог выставил нас круглыми дураками! — произнес Пьеро. — Однако мы не обижаемся на него, поскольку это был великолепный и очень остроумный розыгрыш.
Остальные закивали. Федерико проглотил дольку апельсина — и закашлялся. Глаза у него вылезли из орбит, лицо побагровело. Он громко захрипел и вскочил, размахивая руками. Бернардо ринулся к нему, однако Федерико саданул ему локтем по лицу и сшиб с ног. Из носа у герцога текли сопли, глаза закатились. Он метался из стороны в сторону, в то время как придворные застыли, парализованные страхом.
Я выжидал мгновения, дабы доказать свою преданность. Как только герцог отвернулся от меня, я шагнул вперед и обоими кулаками ударил его по спине, как это сделала моя матушка, когда отец подавился куриной косточкой.
Изо рта у Федерико вылетел кусок полупережеванного апельсина. Герцог упал лицом на стол. Все уставились на меня — кто с изумлением, кто со страхом. Поднявшись, Федерико повернулся кругом с открытым ртом и выпученными глазами. Я думал, он меня поблагодарит, но Пьеро и Бернардо (у которого из носа хлестала кровь) выбежали вперед и наперебой закричали:
— Это было необходимо, чтобы спасти вас, ваша светлость! Сядьте, пожалуйста. Выпейте это! Отдохните, прилягте!
И так далее, и тому подобное — так, будто это они его спасли!
Федерико оттолкнул их и захромал из зала. Пьеро, Бернардо и другие придворные засеменили следом. Остались только Септивий и Чекки. Септивий глянул на меня, обнажив в улыбке мелкие, как у хорька, зубки. Потом вздохнул и покачал головой.
— Разве не я… — начал было я.
— Да-да, ты, — быстро проговорил Чекки и поспешил за остальными.
— Но раз это я его спас, — сказал я позже Томмазо, когда мы играли в карты, — он должен меня наградить. Я скажу ему за завтраком.
— Держи-ка ты лучше язык за зубами, — сдавая, посоветовал мне Томмазо.
Я бросил карты на стол.
— С какой стати? Он будет хвалить Пьеро и Бернардо за то, что сделал я!
— Сближаться с Федерико — скорее проклятие, чем благословение.
— Откуда ты знаешь?
Похоже, он боялся моего возвышения — ведь тогда он мог потерять Миранду.
Глаза у Томмазо бегали из стороны в сторону.
— Делай что хочешь, — сказал он, швырнув карты в воздух и перевернув пинком стол.
Глава 11
Мы с Томмазо разругались уже не в первый раз. Бог ты мой! Да его невозможно было спросить, встало ли солнце, чтобы тут же не поссориться. Вскоре после того как я пообещал ему Миранду, он заявил Кристофоро, что ему нужен помощник на огороде. Кристофоро, который спал и видел, как бы сделать мне какую-нибудь гадость, согласился, что из Миранды выйдет хорошая помощница. Дни становились короче, и солнце, растратив свою летнюю силу, спрятало усталое лицо за покрывалом из мрачных туч. Миранда часто возвращалась в нашу комнату промокшая и продрогшая. Она не жаловалась, но по ночам, когда я прижимал к себе ее дрожащее тело, по щекам у нее то и дело катились слезинки. Я сказал Томмазо, что она заболеет, если будет работать не во дворце.
— Где? В прачечной? — заорал он. — Чтобы ослепнуть от щелока?
Я больше не обращал внимания на его крики, а кроме того, по-моему, он хотел, чтобы Миранда работала на огороде, поскольку боялся, что ей понравится какой-нибудь мальчишка в замке. Наверное, именно поэтому он никому не сказал о помолвке, хотя обычно держал рот на замке с таким же успехом, с каким я мог бы удержать муравья на проволоке.
— Возьми у меня все, что ты мне дал, — молил я Бога, — если это облегчит жизнь Миранды!
Господь в милосердии своем ответил на мою молитву. Как-то вечером, когда Септивий читал поэзию Катулла, герцог перебил его:
— Пусть лучше меня вздернут на дыбу, чем слушать эту дрянь!
— Ребенок, и тот бы понял, — проворчал Септивий, когда мы вышли из зала.
— У меня есть такой ребенок! — отозвался я и рассказал ему о Миранде, которая научилась в монастыре читать и писать, а также умела петь и прясть шерсть.
Несмотря на то что громадные брови придавали Септивию грозный вид, он был добрым по натуре, поскольку сказал:
— Я учу только детей придворных. Однако если она и впрямь такая, как ты говоришь, я могу сделать исключение. Пришли ее ко мне.
Я побежал на огород и, не сказав Томмазо ни слова, схватил Миранду за руку и потащил в библиотеку. Прежде чем она вошла в комнату Септивия, я сказал ей: «Вспомни, чему тебя учили монашки, — и все будет хорошо!», — а затем втолкнул ее внутрь и прижал к двери ухо. Я услышал, как она что-то говорит своим нежным голоском — очевидно, читает. Потом она запела. Через несколько минут дверь открылась, и из комнаты вышел Септивий, держа Миранду за плечико.
— Я поговорю с Чекки. Пусть начинает завтра.
В спешке я ничего не объяснил Миранде, так что она закричала:
— Что начать? Что я должна делать?
Септивий ответил, что она будет учиться с другими детьми.
— И больше не буду работать на огороде? Лицо у нее засияло, как свечечка во тьме.
— Будешь, но понемножку, — сказал Септивий. — Я все устрою.
— Ты видишь, как Господь помогает тем, кто ему служит? — спросил я Миранду, когда мы шли обратно на огород. — Ты должна отблагодарить его усердной учебой. А потом, это хорошо, что ты познакомишься с другими детьми. Когда-нибудь ты станешь горничной и тебя увидят богатые знатные мужчины.
Я не сказал ей о своем обязательстве перед Томмазо, а если этот дурак ей проболтается, я буду все отрицать. Раз Миранда в состоянии устроить свою судьбу получше — почему бы и нет? Как я уже говорил, за четыре года многое может случиться.
Однако Миранда не сумела скрыть своего возбуждения. Повернувшись, я тут же услышал, как она заявила Томмазо, что он не будет больше командовать ею, поскольку скоро она станет принцессой.
Но назавтра Миранда забилась в угол комнаты и, ожесточенно царапая струпья на коленках, отказалась идти заниматься.
— Что стряслось? Вчера ты так радовалась!
Она ничего не ответила. Я пригрозил, что, если она не передумает, я схожу пописаю, а потом волоком оттащу ее на урок. Когда я возвращался через огород, Томмазо срывал с грядки морковку и капусту. Я сказал ему, что Миранда не желает заниматься, и спросил, знает ли он почему.
Он пожал плечами и уставился на меня распахнутыми невинными глазами.
— Хотя где-то она права, — заявил он. — Иначе она загордится и забудет о тех, кто ей помогал.
Я перепрыгнул через грядку и схватил его за шею.
— Говори сейчас же, что ты ей сказал! Иначе я так тебе врежу, что ты заикой станешь!
— Я сказал, что над ней будут смеяться из-за ее одежды, — заикаясь, выдавил юноша.
Я надрал ему уши, и он убежал, угрожая, что отомстит. Вернувшись к Миранде, я сорвал с нее платье и отнес его в прачечную.
Когда глаза привыкли к едкому щелоку и клубам пара, я увидел, что над дымящимися котлами трудятся совсем молоденькие девочки, не старше Миранды. Кроме того, там были старая, почти слепая карга и высокая блондинка, о которой Томмазо сказал, что она была рабыней из Боснии. Лица у них у всех раскраснелись и вспотели, руки были розовыми, грубыми и морщинистыми. Я спросил, кто из них не откажет мне в любезности постирать платье Миранды.
Агнес, высокая блондинка с широким лицом и носиком не больше пуговки, подняла руку и откинула волосы с печальных серых глаз. Этот жест чем-то тронул меня. Не говоря ни слова, она взяла у меня платье и выстирала его. Когда она закончила, я увидел на нем краски, которых прежде не замечал. Поблагодарив прачку, я вернулся к Миранде. Моя девочка осыпала меня восторженными поцелуями и принялась танцевать, держа перед собой платье, как будто и впрямь стала принцессой. Еле сдерживая слезы, я лег на кровать и поклялся сделать все, чтобы она была счастлива, даже если это будет стоить мне жизни.
На следующий день Миранда пошла на занятия. Все дети, кроме хромоножки Джулии, дочери Чекки, делали вид, что не замечают ее. Но Миранду это не волновало, поскольку уроки ей нравились, и она продолжала заниматься в нашей комнате, особенно игрой на лире, которую полюбила больше всего. Она по-прежнему каждый день работала на огороде — причем Томмазо оставлял для нее самую черную работу, — но поскольку он частенько удирал к своим друзьям на кухню, Миранда тоже не особо усердствовала и сбегала к Джулии, где обе девочки играли в куклы.
Казалось, Томмазо вообще забыл о Миранде. Мягкий персиковый пушок с его щек как ветром сдуло, над верхней губой пробились усики, а голос уже не ломался. Он расхаживал по замку в новом голубом бархатном камзоле и таких же голубых лосинах, хвастаясь, что скоро станет придворным. Поварята, естественно, дразнились: обещали разрезать камзол, так что Томмазо носил его все время — даже спал в нем. Вскоре тот сильно пообносился. Томмазо боялся его испортить, но не решался снять. Со временем ему пришлось-таки постирать камзол, и он спрятал его подальше, чтобы высушить. Однако кто-то, очевидно, следил за ним, поскольку, когда Томмазо вернулся, камзол был разрезан на тысячу кусочков. Томмазо впал в буйство. Он обливался слезами и грозился убить тех, кто испортил его одежду — а поварята (я абсолютно уверен, что именно они разрезали камзол) дразнили его еще пуще.
Я наткнулся на юношу в конюшне. Лицо у него покраснело и опухло. Он держал остатки своего любимого камзола в руках, словно умершего ребенка. Я сказал ему, что скоро он получит новый, однако Томмазо разразился рыданиями и убежал.
Над ним смеялся весь замок — даже Миранда, хотя, когда мы остались наедине, она, к моему удивлению, сказала:
— Жаль, что я не могу купить ему новый! Он такой несчастный… Мне тяжело это видеть.
Я все еще не сказал ей о помолвке, и чем дольше я тянул, тем труднее мне было открыть ей наш с Томмазо секрет. Но сейчас, когда она так жалела его, я решил, что пора ей все рассказать. Тут она промолвила:
— Если бы только он не хвастался все время! Я этого терпеть не могу!
Момент был упущен. Мне нужен был чей-то совет, и я вспомнил о прачке по имени Агнес.
Если честно, мне просто хотелось поговорить с ней. Я подарил ей ленту за то, что она выстирала Миранде платье, но позже другая прачка вернула мне подарок со словами:
— Она все еще оплакивает мужа и ребенка.
— Скажи ей, что со мной она забудет свое горе, — ответил я.
Увы, Агнес была глуха к моим посулам.
Ее руки, ее подмышки и печальные светлые глаза являлись мне во сне, и порой, когда я проходил мимо прачечной, желая хоть мельком увидеть ее сквозь клубящийся белый пар, мой член становился таким твердым, что мне пришлось натягивать вниз рубаху. Я часами думал, как найти к ней подход. Однажды вечером, когда Федерико поужинал и велел мне отнести поднос на кухню, я сунул под рубаху кусок недоеденной телятины, принес его в прачечную и отдал Агнес.
— Non е velenoso [26], — сказал я и откусил, чтобы доказать ей, что мясо можно есть.
Девушки закричали, чтобы она попробовала телятину. Агнес протянула руку — ее пальцы и кисти были прекрасны, хотя и мускулисты — и положила в рот маленький кусочек. Она разжевала его, закрыв глазами медленно двигая челюстями вверх и вниз, так, словно не привыкла это делать. В конце концов, прожевав телятину, проглотила ее и тихо рыгнула. Потом разделила мясо на равные части и предложила его подружкам. Она подвинулась, освободив мне место на скамейке, и я сел рядом с ней во тьме, окруженный дымящимися котлами и кучами грязного белья, глядя, как девушки поглощают телятину. Они не разговаривали и не шутили, как гости на банкете. Они смаковали каждый кусочек так, словно он был последним, а когда закончили трапезу, то поблагодарили меня, расцеловали в щеки и вернулись к стирке.
— Grazie. Multo grazie [27], — сказала мне Агнес так искренне, что у меня земля ушла из-под ног.
Мне хотелось обнять ее и поцелуями прогнать печаль из ее глаз, но я просто кивнул и ответил:
— Prego. [28]
После этого я то и дело воровал разные яства — ножки каплунов, ломтики свинины, птичьи крылышки и маленькие пончики с семечками фенхеля. Мне нравилось, как девушки прекращали работу при моем появлении. Я млел от того, как Агнес распахивала глаза при виде меня. Мне нравилось, как она облизывала губы, чтобы не уронить ни крошки, и похлопывала себя по животу, закончив есть, а потом прислонялась к стене и сдувала со лба пряди волос.
На праздник Вознесения я стащил колбасу с укропом, двух зажаренных птиц и баранину в чесночно-розмариновом соусе. «Меня могут за это повесить!» — сказал я себе, но мне было все равно. Девчонки взвизгнули и кинулись к двери, чтобы посмотреть, не идет ли стража арестовать меня. Агнес положила ладонь мне на руку (она впервые прикоснулась ко мне) и сказала:
— Attenzione. [29]
— Не беспокойся за него! — рассмеялась старая прачка. — Он такой ловкий, что нимб у ангела может стащить!
Агнес предложила постирать мою рубашку, поскольку та была испачкана соусом. Другая девушка вызвалась простирнуть мои лосины, но Агнес ей не позволила. С тех пор она часто стирала мою одежду, и, благодаря ее любви ко мне, та стала мне почти впору. Я был так счастлив, что дальше, казалось, некуда, пока Федерико, вдруг схватив подавальщика за руку, не спросил:
— Почему ты не можешь быть таким же опрятным и чистым, как Уго?
Господи Иисусе! Герцог заметил меня не из-за того, что я спас ему жизнь, а потому, что я ходил в чистой одежде!..
Я поспешил к Агнес, чтобы поблагодарить ее за свой успех. Но как только я начал говорить, она закрыла мне рот рукой, показав на других девушек, которые прилегли поспать. Ее рука была такой теплой, что я нежно куснул ее за ладонь. Она ахнула, но не убрала руку. Я лизнул то место, которое укусил. Она глянула на свою ладонь и на меня, словно пытаясь что-то решить. Потом, взяв меня за руку, повела мимо спящих тел через сад Эмилии в горы, вздымавшиеся над замком.
Глава 12
Агнес не сказала мне, куда мы идем, и я был благодарен ей за молчание, поскольку желание так переполняло меня, что я не смог бы выдавить ни единого членораздельного звука. Господь благосклонно взирал на нас, заставляя нас склонять головы и подталкивать друг друга вверх, положив руки на бедра. Козы, спавшие под фиговым деревом, не обратили на нас никакого внимания. Сумчатая крыса промелькнула за камнями и исчезла в пурпурных зарослях герани. В кронах деревьев заливались вьюрки и малиновки, по голубому небу, гонимое невидимом ветерком, проплыло серое облачко. Склон был крутой, так что я протянул Агнес руку, однако ее рука была не слабее моей, так что, когда я оступался, это она помогала мне не упасть. Мы карабкались все выше, и наше дыхание смешивалось все больше, пока не только дыхание, но также наши шаги и мысли стали едины. И когда мы добрались до просеки между деревьев, то, упав на землю, обнялись так крепко, что даже воздух и тот не мог проникнуть между нами.
Я целовал ее губы и подмышки, расстегнул ей рубашку, выпустив на волю ее маленькие груди. Она изголодалась не меньше моего и, резко притянув меня к себе, кусала мои губы, издавая нежные мяукающие звуки и обхватывая меня ногами. От нее пахло щелоком, а когда я заглянул ей в глаза, в них больше не было печали.
Неожиданно Агнес оттолкнула меня и, усевшись, изогнулась, чтобы посмотреть на два своих белых полумесяца. Они покрылись красными пятнышками, поскольку мы впопыхах упали на муравейник и насекомые остервенело кусали нас обоих. Но мы были так охвачены желанием, что не могли остановиться, а потому быстро поползли по траве, подыскивая удобное местечко, и там, перевернув Агнес и поставив ее на колени, я оседлал ее сзади.
Боже! Какое же наслаждение мы оба испытали! Мы так долго ждали друг друга, что не могли остановиться. Солнце скрылось за тучи… мы ничего не замечали. Поднялся ветер, а мы все стонали от наслаждения. На нас упали капли дождя — сначала медленно и неохотно, а затем тучу словно прорвало под собственным весом, и ливень стекал струями с моего лица на лицо Агнес, а с ее спины на землю. Когда выглянуло солнце, мы все еще занимались любовью — и взорвались вместе, как фейерверк во время летнего солнцестояния.
Потом Агнес лежала в моих объятиях, а я говорил ей о любви. Она хмурила брови, будто не понимая. Я повторил все от слова до слова, и только тут до меня дошло, что она посмеивается надо мной, потому что Агнес широко улыбнулась мне — я впервые увидел ее улыбку — и страстно меня поцеловала. Я ласкал ее груди, а потом поцеловал в живот, где остались следы от рождения ребенка.
— Ему сейчас было бы семь, — сказала она, перестав улыбаться.
Она вскочила и заставила меня танцевать до тех пор, пока мы не забыли обо всех своих напастях. Поймав бабочку, Агнес показала ее бьющиеся крылья и промолвила: «Это мое сердце», — а потом подбежала к дереву и взобралась на него, ловко перебираясь с одной ветки на другую. Оседлав крепкий сук, она тихо спела мне грустную монотонную песенку.
— Che с’е dimale? [30] — спросил я.
— Niente, — ответила она и спрыгнула в мои объятия. После чего, крепко сжав в ладонях мое лицо, добавила: — Ты никому не расскажешь об этом.
— Но я хочу рассказать всему миру!
Она покачала головой.
— Мир отнял у меня мужа, сына и мою страну. Я не хочу, чтобы он отнял тебя тоже.
— А Миранда? Могу я ей сказать?
— Только Миранде.
Я положил ее на землю, сгорая от желания сунуть ей голову между ног, чтобы насладиться ее прелестью, потому что, не считая свежеснесенных яиц, это было единственное лакомство, которое никто не мог отравить. Но стоило мне нагнуться между ее колен, как по моему лицу пополз муравей. Агнес расхохоталась так звонко, что ее смех разнесся по холмам. Она поджала ноги и смеялась, пока не выбилась из сил. А потом протянула ко мне руки.
Мы почти уже подошли к дворцу, когда мимо проскакала лошадь.
— Это горбун Джованни, — сказала Агнес и уткнулась лицом в мое плечо.
— Он вернулся вчера. Нам не стоит его бояться.
— Но никто не должен знать! — воскликнула она с тревогой в глазах.
— Он нас не заметил, — сказал я ей. — Без очков он слеп, как летучая мышь. Иди вперед, а я пойду следом, так что никто не увидит нас вместе.
Я тихо прокрался на кухню, напевая про себя монотонную песенку Агнес. Кровь у меня бурлила от восторга. Поварята сразу же догадались, что я кого-то трахнул, но не знали кого.
— Тебе понравилось, да? — со смехом спрашивали они. Поскольку я обещал Агнес хранить тайну, то ничего не сказал и, опасаясь проболтаться от счастья, быстро ушел из кухни в свою комнату.
Миранда стояла у окна, разговаривая с птицами. Увидев меня, она передернулась, как Пьеро, и, заикаясь, спросила:
— Г-г-где ты был?
А потом закряхтела, как Федерико, расхвасталась, как Томмазо, и я рассмеялся до слез. Мне хотелось рассказать ей об Агнес, но поскольку Миранда впервые так развеселилась, я решил сначала выслушать ее.
— Тебе нравится моя прическа?
Она убрала волосы со лба, как диктовала современная ода.
— Ты очень хорошенькая!
На самом деле ее прическа мне не понравилась, поскольку голова у нее стала похожей на яйцо, однако это не имело никакого значения.
— Все девочки так причесываются! — сказала Миранда, глядя в ручное зеркальце. — Я хотела бы, чтобы у меня волосы были посветлее. Я каждый день сижу на солнце, но все зря. Может, мне нужны накладные волосы?
Похоже, она готова была щебетать так весь вечер, так что я перебил ее:
— Миранда! Я познакомился с одной женщиной.
— С женщиной?
— Агнес. С прачкой из Боснии.
— А-а, с этой блондинкой! И что дальше? Она будет… — Миранда вдруг напряглась, положила зеркальце и повернулась ко мне. — Она будет жить с нами?
— Я еще об этом не думал…
— Нет! Я не хочу!
— Но…
— Нет!
— Миранда…
— Нет! — крикнула она и топнула ножкой.
Я даже сам не ожидал, но ее выходка так меня разозлила, что я крикнул в ответ:
— Если я этого захочу и она согласится, мы тебя спрашивать не станем!
Миранда сверкнула на меня глазами и отвернулась. Я положил ей руку на плечо, она ее стряхнула. Я схватил ее за плечи, повернул к себе и, взяв за подбородок, заставил посмотреть мне в глаза.
— Ты думаешь, я забуду твою маму?
Она медленно кивнула.
— Я никогда ее не забуду. Обещаю! Но ты тоже должна мне кое-что пообещать. Не говори никому об Агнес, ладно?
Миранда удивленно глянула на меня:
— Хорошо, я обещаю.
Я весь день спрашивал себя, почему Миранда мне солгала. Даже слепому было видно, что она не думала о матери.
За ужином в тот же самый вечер Джованни взахлеб рассказывал, какие выгодные сделки с шерстью ему удалось провернуть. Он одарил прислугу всякими безделушками, привез герцогу Федерико из Германии золотой шлем с драгоценными камнями и вовсю похвалялся своей новой одеждой, особенно английским камзолом, который сшили так искусно, что он скрывал его горб.
— Я пробыл в Лондоне всего неделю. — Джованни вздохнул. — Посол в Париже давал обед в мою честь, n’est-ce pas [31]? Одна голландская графиня хотела выйти за меня замуж, но — s’blood! [32] — там жуткая холодина, n’est-ce pas?
Каждое предложение начиналось или кончалось словами «n’est-ce pas», «Voila!» [33] или «s’blood!», так что слуги еще долго называли его за спиной «мисс Неспа». Он сказал Федерико, что пора заплатить папе индульгенцию за его, Джованни, кардинальскую шапку. Герцог пожевал губу и ничего не ответил, но, как говорится, его молчание было красноречивее слов, и с этого началась моя дорога в ад. Что ж, на все воля Божья, конечно.
Вернувшись из дальних краев, Джованни привез с собой кукол, одетых по последней моде. Его сестра Эмилия отдала их своему портному, чтобы тот скопировал фасон, а затем подарила кукол дочери придворного. В прошлый раз повезло Джулии, подружке Миранды. На сей раз куклы достались дочке Пьеро.
— А мне никогда не подарят кукол, — надулась Миранда.
— Почему ты так решила?
— Потому что ты дегустатор!
Она выплюнула эти слова так, словно они были отравлены.
— Неблагодарная! — крикнул я, схватив ее за руку. — Ты ешь дважды в день и спишь на кровати под крышей! Трижды в неделю ты ходишь на занятия. А я, между прочим, каждый день сталкиваюсь лицом к лицу со смертью! Ты поэтому не хочешь, чтобы Агнес жила с нами? Потому что она прачка, да?
Миранда прикусила губку. На глазах у нее выступили слезы.
— Моя рука! — прошептала она.
В гневе я так крепко сжал ее руку, что аж косточки затрещали. Я отпустил ее, и Миранда выбежала из комнаты. После этого она не разговаривала со мной несколько дней.
— У тебя нет оснований дуться, — сказал я. — На самом деле это ты меня обидела!
И тем не менее она отказывалась со мной говорить. Спасла меня Агнес, которой в голову пришла замечательная идея.
— Ты говорил, что был дровосеком, — сказала она. — Вырежи ей куклу из дерева!
Несмотря на то что Миранда не хотела ее признавать, Агнес по доброте душевной придумала, как ее утешить. Забравшись вместе с ней в тот день на вершину холма, я нашел старый ольховый сук и, пока Агнес спала, вырезал из него куколку. Потом, взяв на кухне ягодного сока, нарисовал нос и рот, раскрасил ноги, руки и волосы. Агнес нарумянила кукле щеки, и когда та была готова, я положил ее на кровать Миранды, а сам спрятался неподалеку. Я услышал, как Миранда вошла в комнату — а через миг дверь распахнулась, и она выбежала с криком:
— Babbo! Babbo! Какая прелесть!
Она держала куклу в руках, покрывая ее поцелуями.
— Феличита! Я назову ее Феличита!
И закружилась по коридору с сияющими глазами, как обычно, когда была счастлива.
Я хорошо помню тот день, поскольку за ужином Джованни вновь потребовал, чтобы Федерико заплатил индульгенцию за его кардинальский сан. Он говорил с таким жаром, что у него запотели очки. Сняв их, чтобы протереть, Джованни уставился на Федерико полными злобы выпученными глазами. Федерико доел мясо, а затем, бросив кость Нерону, заявил:
— Я не дам этому козлу ни единого скудо, и точка!
— Ты нас оскорбляешь! — заверещала Эмилия. — Если бы не мое приданое и не мой брат, этот замок погряз бы в нищете!
Федерико медленно поднялся, утирая рукавом жир с подбородка. Я стоял у него за спиной. Он резко развернулся, стукнул меня кулаком по лицу и сбил с ног. Не откатись я в сторону, он зашагал бы прямо по моему телу, клянусь! Придворные быстренько побежали за ним. Никто не хотел оставаться с Джованни, который задумчиво сидел за столом, в то время как Эмилия что-то шептала ему на ухо.
Porta! Сколько можно держать крышку на кипящем котле? Что-то должно было случиться. Я не знал, что и когда, но был уверен, что добром это не кончится. Хуже того — я нутром чуял, что мне достанется по первое число. Я не мог спать. Любая мелочь — дырочка на лосинах, слишком горячее блюдо, резкое слово, — на которую раньше я не обратил бы внимания, задевала меня. Поэтому, когда Миранда со слезами заявила, что Томмазо бросил Феличиту на пол и сломал ей руку, я готов был убить его.
Я нашел юношу прямо перед вечерней в маленькой часовенке собора Святой Екатерины.
— Уго! — сказал он, проглотив кусок яблока. — Я ждал тебя.
Я не ответил. Томмазо оглянулся, чтобы удостовериться, что мы одни.
— Федерико опять отказался платить индульгенцию за Джованни.
Если этот плут думал, что я попадусь на его дурацкие уловки, то он глубоко ошибался.
— Подожди! — воскликнул он, когда я взобрался на скамью. — Ты знаешь, что из Венеции едет мать Джованни Пия?
— Ну и что?
— Из Венеции! — повторил он так, словно я никогда не слышал это название. — Это город отравителей. У них есть прейскурант. Двадцать золотых за убийство торговца, тридцать — за солдата, сотня — за герцога.
— Откуда ты знаешь?
Он пожал плечами с таким видом, словно об этом знали все.
— Мне Лукка говорил.
— Эта Пия везет с собой отравителя?
— Как знать? Разве ты на месте Джованни…
Он осекся, но я и так все понял.
— Мне кажется, ты все это придумал, чтобы избежать порки.
Томмазо хлопнул ладонью по лбу, а потом всплеснул руками так, словно я ужасно его обидел.
— Ты же сам просил меня быть твоими глазами и ушами!.. Что ж, дело твое. — Он выбрался в проход между скамьями и направился к двери. — Только не говори, что я тебя не предупреждал!
Я не погнался за ним, поскольку по крайней мере часть его слов была правдой. Все знали, что в Венеции больше отравителей, чем в Риме — римлян. Они целыми днями придумывали все новые отравы и жаждали их испробовать. Купить яд мог любой вельможа или богатый купец — были бы деньги. А у Пии они были. Я закрыл глаза, чтобы помолиться, однако передо мной появился не лик Божий или Пресвятая Богородица, а ухмыляющаяся физиономия моего брата Витторе.
Ужин был похож на мой первый банкет во дворце. Я жевал, как обреченный. Желудок у меня съежился. Каждое новое блюдо вызывало у меня все больше подозрений, и я так перетрясся от страха, что, когда подали молочный пудинг, я его понюхал, поднес поближе к глазам, повернул чашку другой стороной, снова понюхал, подцепил чуточку на палец, попробовал и сказал:
— Молоко сдохло.
Нижняя губа Федерико упала на подбородок.
— Сдохло? Как это понимать?
— Оно прокисло, ваша светлость. Боюсь, у вас от него разболится желудок.
Я думал, он поблагодарит меня, вышвырнет пудинг и поест фруктов, но герцог, смахнув со стола несколько подносов, позвал повара Кристофоро.
— Уго говорит, что молоко сдохло.
— Чтоб он сам сдох! — огрызнулся Кристофоро, принюхиваясь к пудингу. — Ваша светлость! Этот придурок Уго слишком много о себе возомнил.
— Я пробую блюда для герцога вот уже почти год, — заорал я на него, — и знаю желудок его светлости не хуже своего собственного! Если я придурок, то ты злодей. Бог, он все видит!
— Ты обвиняешь меня в том, что я сделал что-то с едой? — взревел Кристофоро, угрожая мне кухонным ножом.
— Я тебя не обвиняю. Хотя, если подумать…
— Basta! — сказал Федерико и протянул повару чашку. — Ешь!
Кристофоро моргнул. Его зоб раздулся на глазах.
— Ваша светлость! Разве не он должен…
— Ешь! — гаркнул Федерико. Кристофоро съел ложку пудинга.
— Пальчики оближешь! — Он съел еще две ложки и рыгнул. — Если вы желаете, чтобы я доел его, ваша светлость…
— Нет! — рявкнул Федерико и выхватил чашку у него из рук.
— Приготовить вам еще?
— Да, — буркнул герцог.
Я хотел незаметно выскользнуть из зала, пока Федерико не кончил ужин, но стоило мне шевельнуться, как он спросил:
— Куда ты?
— Он пошел поесть пудинга, — под всеобщий хохот ответил Кристофоро.
Мальчишка-подавальщик сказал мне потом, что, когда я ушел, они продолжали судачить обо мне. Кто-то заявил, что слуга, позволяющий себе говорить, когда его не спрашивают, явно спятил. По словам Пьеро, мне повезло, что герцог не убил меня за наглость, а Бернардо добавил: если, мол, стулья начнут запрыгивать на стол, настанет конец света. Но мне все равно, что они там болтали, поскольку Федерико сказал: «Чем больше он хочет жить, тем лучше для меня. Но если он еще раз выкинет такой же номер, я заставлю его съесть все до последней крошки — просто чтобы убедиться».
Чекки дал Кристофоро несколько монет, чтобы загладить обиду. Короче, хотя насчет пудинга я ошибся, все обошлось. Я облегченно вздохнул, и мне вдруг ужасно захотелось взять Агнес в горы и любить ее, пока член не обмякнет. Мы давно не были вместе, так что я с ума сходил от желания.
Но ворота были уже заперты на ночь, а во дворце Агнес не давала мне тронуть ее пальцем.
Если Федерико и беспокоил приезд Пии, виду он не подавал. Правда, он убил человека на поединке и сжег деревню, предварительно конфисковав у крестьян все добро, но это было в порядке вещей. Герцог нашел себе новую шлюху по имени Бьянка, красивую (если не считать родимого пятна на лбу) и хорошо сложенную. Она всегда носила шарф или шляпу, надвинутую на самые брови, и при определенном освещении казалась похожей на арабку.
— Он и использует ее, как арабку, — взвизгнула Эмилия, когда они уходили из-за стола.
Я понимаю, почему Федерико предпочитал Эмилии потаскух. Я понял бы его, даже если бы он предпочел овец, коз или кур. В этой женщине не было ни единой привлекательной черты — ни в фигуре, ни в лице, ни в голосе. Говорят, в молодости она была тоненькой, миловидной и заводной. Однако жизнь с Федерико ожесточила ее, и я не сомневался, что она пыталась отравить других его шлюх и попробует отравить Бьянку, а если сможет, то и самого герцога.
Мысли о яде преследовали меня. Я лежал на просеке вместе с Агнес, и мне приснилось, что я ем какую-то гниль, в которой копошатся личинки, а потом у меня лопнул живот и оттуда выползли змеи и драконы. Когда я проснулся, Агнес сидела на своем любимом дереве.
— Я вижу Боснию, — сказала она и принялась фантазировать, что делал бы ее сын, будь он жив.
Обычно эти разговоры меня не раздражали, но сейчас у меня в мозгу теснились мысли о недовольстве Федерико, воплях Эмилии и приезде из Венеции ее матери Пии, и я отвернулся от Агнес.
Я днями ломал голову, маясь от мигреней, как вдруг меня осенило. Я же могу испытать свои амулеты! Почему я раньше до этого не додумался, не знаю, но Господь в мудрости своей дал мне ответ именно тогда, когда я в нем нуждался. Однако чтобы испытать их, мне нужны были яды.
При первой же возможности я спустился по Лестнице Плача в Корсоли. Лестницу построил брат герцога, Паоло, и, говорят, после того как Федерико отравил его, по ступенькам, несмотря на летнюю жару, начала стекать вода — в точности как слезы.
Вечер был теплый, последние лучи осеннего солнца окутали город оранжевым сиянием. Эхо лениво разносило по улицам ребячьи крики, из окна доносилась колыбельная. Свернув за угол, я увидел Пьеро, задремавшего на стуле. Я стоял и думал, будить ли его, — и тут он внезапно открыл глаза, как будто я вошел в его сновидение.
— Уго! — хрипло сказал он. — Что ты тут делаешь? Отбросив колебания, я попросил его рассказать мне о действии ядов и противоядий.
— Ядов? Я ничего не знаю про яды.
Потирая голову, словно в надежде нащупать там еще прядь волос, он поднял стул и вошел в свой магазин. Я последовал за ним. Все полки были забиты банками и чашками с травами и пряностями, костями, высушенными растениями, органами животных и прочими непонятными штуковинами.
Пьеро нервно передвинул стоящие на прилавке весы.
— Если бы герцог узнал, о чем ты спрашиваешь, через час у него был бы новый дегустатор.
— Послушай, ну кому повредит, если ты научишь меня паре вещей, которые спасут жизнь мне и моей дочери? А может, и тебе. Или ты не скажешь мне, потому что ничего не знаешь?
Прежде чем он успел ответить, я добавил:
— Ты каждую неделю приносишь герцогу новое снадобье, а он все жалуется, что не может просраться. Но ведь трахаться он тоже не может!
Последнее было неправдой:
— Это тебе герцог сказал?
— Нет, Бьянка.
На улице стемнело. Зазвонил колокол, предупреждая всех, что сейчас закроют ворота. До нас донеслись голоса стражи.
— Ты врешь! — нервно засмеялся Пьеро.
Стража прошла мимо дверей.
— Нет, не вру! — громко ответил я.
В дверь постучали.
— Пьеро! Все нормально?
Пьеро уставился на меня. Если бы меня застукали в магазине, нам обоим не поздоровилось бы. Я открыл рот, словно намереваясь сказать что-то еще, и тут Пьеро крикнул:
— Все в порядке!
— Buona notte.
Мы стояли во тьме, пока голоса не смолкли.
— Меня могут убить за такие штучки, — сказал Пьеро. — Если люди увидят нас вместе, они решат, что мы замышляем заговор против Федерико.
На это я ответил, что я соглядатай герцога. Иначе разве я осмелился бы так разговаривать с ним? А потом поклялся, что сохраню свой визит к Пьеро в тайне, о которой не проболтаюсь даже самому себе.
Но он все мялся и жался.
— Если ты хочешь узнать о болиголове, почитай про смерть Сократа. Это все, что я могу тебе сказать.
— А кто такой Сократ?
— Грек, которому приказали выпить яд в наказание за преступления против государства. Прежде чем выпить яд, Сократ произнес тост. Да, он был настоящий храбрец! — Я кивнул, хотя мне это казалось глупым. — Умирая, он велел своим друзьям отдать один из его долгов.
Это звучало еще глупее, но я придержал язык.
— Что это? — Я взял с полки сосуд с розовыми лепестками. — Я видел его раньше.
— Поставь на место! — Пьеро протянул ко мне толстенькие ручки и выхватил склянку. — Это шафран луговой. Смертельно опасен. Смертельно. Одна капля — и во рту у тебя горит, как в аду. Три дня ты мучаешься жуткими болями в желудке. А потом умираешь.
Стало быть, ему известно кое-что о ядах! Надо слегка польстить ему и сказать, что я буду счастлив, если он научит меня всему, что знает сам.
— Ты, должно быть, очень смелый, если живешь в окружении таких смертельно опасных веществ. Я бы побоялся.
— Уго! — сказал он с улыбкой. — Мы же не дураки, верно? Пока человек знает, что делает, ему ничего не грозит.
— Но разве всегда должно пройти несколько дней, прежде чем яд…
— …убьет кого-нибудь? Нет. — Пьеро осторожно поставил сосуд на место. — Горький миндаль убивает за несколько часов, и мучения при этом еще сильнее. Я никогда не использовал их, — торопливо добавил он, — но мне говорили, что одна женщина в Губбио так отравила своего мужа.
— Федерико тоже отравил брата этим ядом?
— Нет, это был аконит. Но я не…
— А Лукка? — перебил я его.
— Лукка? Он был неряхой. Редко мылся, и под ногтями у него была грязь. Федерико просто сказал всем, что Лукка пытался его отравить, чтобы запугать… — Он снова осекся. У него задергалась щека. — Я слишком много болтаю.
— Это я тоже видел, — сказал я и быстро взял другую склянку.
— Обычный одуванчик, ничего особенного. А вот это… — Пьеро взял другую банку, — волчья ягода. Ты наверняка их видел, они растут повсюду. От них все тело начинает зудеть, а руки словно покрываются волчьей шерстью. Потом ты умираешь. В принципе от ядов всегда умираешь. Порой истекая кровью, порой мучаясь от поноса, порой изнемогая от того и другого одновременно. Но умираешь всегда, причем с ужасной болью. Вот это белена. — Он показал на пахучее зеленое растение. — Лучше всего она растет на человеческом дерьме. — Пьеро так разошелся, что жаждал поделиться со мной всеми своими познаниями. — Ты слыхал о Цезаре Борджиа? Он придумал отраву, названную тарантеллой. — Пьеро закрыл глаза, словно стряпал зелье. — Это слюна свиньи, подвешенной вниз головой, которую бьют до тех пор, пока она не взбесится.
Я спросил, как можно узнать, что свинья взбесилась. Пьеро хихикнул.
— Дня через три, не больше. Ты бы тоже сошел с ума, если б тебя подвесили вверх ногами и избивали, верно? Но все отравы вместе взятые не так ядовиты, как эта. — Он взял маленькую склянку с серебристо-серым порошком. — Мышьяк. Доза размером в полногтя может убить человека. Мало того: он безвкусен и не имеет запаха. От него сразу же начинаются рвота и неудержимый понос, а также безумная головная боль. Тебе кажется, будто тебе в череп забивают гвозди. Да, и еще ужасный зуд. Кроме того, некоторых людей мучают головокружения и кровотечение сквозь кожу. А в конечном итоге — полный паралич.
Он облизнул губы, кивая в такт своим словам, словно стараясь убедиться, что ничего не упустил.
— Императоры в древнем Риме принимали по нескольку крупинок в день, чтобы выработать иммунитет.
— И это помогало? — спросил я.
— Кто знает? — хихикнул он. — Они все давно мертвы.
— А что мог бы применить отравитель из Венеции?
— Из Венеции? — Пьеро повернулся ко мне лицом. — Кто-то едет из… — У него опять задергалась щека. Он окунул пальцы в банку с жиром, рассеянно втирая его в лысину. — Что ты слышал?
— Ничего. Я просто спросил. Buona none.
Я возвращался во дворец, сжимая в руках горстку украденного мышьяка, и все вспоминал, какое лицо сделалось у Пьеро, когда я сказал ему о Венеции. На кратчайший миг в глазах его мелькнул лучик надежды — как птичка, пролетевшая мимо на фоне заката. Этот лучик надежды напомнил мне еще раз: как бы я ни старался спасти Федерико, никто не станет оплакивать его смерть.
Глава 13
Пия приехала прохладным сентябрьским днем с целым обозом придворных и слуг. Она была вся сморщенная, жирная и ростом даже меньше Эмилии. Издалека казавшаяся похожей на белую изюмину, она привезла Федерико коня, Эмилии — платья, а также подарки их сыновьям Джулио и Рафаэлло. Поселилась теща герцога в покоях Джованни, хотя и заявила, что там слишком тесно, и в первый же вечер потребовала, чтобы Федерико пристроил к замку еще одно крыло.
— Возьми моего архитектора, он учился у Кандоччи. Все говорят, что мой дворец — самый прекрасный в Венеции.
Пия шаталась по замку, разговаривая со всеми подряд, хватая людей за локти, спрашивая, чем они занимаются, и рассказывая, насколько лучше и проще это делается в Венеции. Голос ее, громкий, как труба, и вдвое более пронзительный, эхом отдавался от стен. Она играла в триктрак с Эмилией и Джованни или в карты со своим главным советником Алессандро. Я внимательно присмотрелся ко всем ее придворным и решил, что если среди них есть отравитель, то это, без сомнения, Алессандро. Он одевался в черное с головы до пят, у него был громадный, как мраморная глыба, лоб и серебристые волосы, ниспадавшие на плечи. В зубах, словно ветка из незаконченного гнезда, вечно торчала золоченая зубочистка. Однажды, когда он, Джованни, Эмилия и Пия сидели вместе, я увидел, как над ними витает Смерть.
Пия велела, чтобы еду ей готовили не на оливковом, а на сливочном масле. Она сказала, что это модно в Германии, где жили ее двоюродные братья, а кроме того, ко всем ее блюдам нужно добавлять орехи.
— Они полезны для крови, — верещала она. — Почему ты не ешь кальмаров, Федерико? Прикажи своему повару разрезать их, сварить вместе с петрушкой, поджарить, а потом спрыснуть немножко апельсиновым соком. Мой повар Паголо — как жаль, что я не взяла его с собой! — подает мне их дважды в неделю. Я могла бы питаться исключительно кальмарами! Эмилия говорит, ты не ешь персики. Это правда?
— Он думает, они ядовитые, — прокаркала Эмилия.
— Только потому, что один древний царь, который не мог победить египтян, послал им отравленные персики, — сказал Джованни…
Нижняя губа Федерико свалилась на подбородок. Пия, Эмилия и Джованни не заметили этого — или же им было наплевать.
Два дня спустя Томмазо сказал мне, что видел, как Кристофоро шептался с Алессандро.
— Господи! Я нутром чуял, что он предатель! — ответил я и велел Томмазо быть поосторожнее с овощами.
— Сам будь осторожнее! — огрызнулся он.
Что же, он прав. Мне некогда было проводить опыты с обезумевшими свиньями. Дни порхали быстрее, чем веретено ткачихи. Н-да… Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.
Я выпил вина с Потеро, хранителем герцогского кубка, а когда он уснул, открыл его ключом шкафчик Федерико. Какой прекрасный кубок, Господи! Я в жизни таких не видал. Изящная серебряная ножка, золоченая крышка, а на ней — лев, единорог и рак… Я налил туда вина и бросил несколько крупинок мышьяка. Яд растворился. Я ждал, что сейчас на поверхности вина появится радужное пятно или же вино зашипит и заискрится огоньками… Ничего не случилось. Я окунул в вино косточку единорога. По словам Томмазо, вино должно было закипеть. Но какое там! То ли мышьяк не действует, то ли Томмазо ошибся… Скорее всего этот придурок все перепутал!
Я нашел голодную кошку и предложил ей вина. Она с жадностью бросилась лакать, а потом вытянула передние лапы и, довольная, ушла прочь. Стоило ей сделать несколько шагов, как она споткнулась, задние лапы у нее подкосились. Она вопросительно поглядела на меня во тьме желтыми глазами. Потом легла, жалобно мяукая, выгнула спину, вздохнула, задрожала — и замерла без движения. Боже милостивый! Мышьяк действовал без осечки. Дело не в нем — это амулеты! Все они бесполезны! Более того — вредны, ибо внушили мне ложную надежду.
Я держал в руках кубок, не зная, что делать дальше. А потом меня осенило. Что, если я оставлю в кубке немного мышьяка и Федерико выпьет вино? Как изменится моя жизнь? Если смерть Федерико никого не огорчит, я стану героем. Но если она кого-нибудь заденет, будет объявлена охота за убийцей. Я подумал: видел ли меня кто-нибудь вместе с Потеро? Пьеро расскажет, что я расспрашивал его о ядах. Меня вздернут на дыбу и оторвут конечности. А тело разрежут на кусочки, как Федерико отрезал язык у Лукки, и сбросят со скалы.
Как ни пугали меня эти мысли, однако удержали меня не они. Нет! Я не оставил в кубке мышьяк потому, что первым наверняка умер бы Потеро, а он никогда не делал мне ничего плохого. Больше того — как бы ни бесчинствовал герцог Федерико с другими, именно он спас нас с Мирандой от голода. Я обещал оберегать его и не мог нарушить клятву, данную перед Богом. Поэтому, тщательно вымыв и вытерев кубок, я положил его на место.
Томмазо я наплел, что отнес в полнолуние косточку единорога в церковь Святой Екатерины и протянул ее Золотой Мадонне. Оглянувшись вокруг и убедившись, что мы одни, я прошептал:
— Когда часы пробили полночь, косточка разогрелась у меня в ладони и засияла во тьме!
— А дальше что? — недоверчиво глянул на меня Томмазо.
— Мадонна сказала, что наделила кость единорога невиданной силой. Если кто-нибудь надумает отравить еду, косточка сама расколется пополам.
— Покажи мне это чудо! — попросил Томмазо, протянув руку.
— На вид в ней нет ничего особенного, — ответил я, показав ему темно-коричневую кость.
— Тогда откуда мне знать, что ты не врешь?
— Господь был моим свидетелем.
Как любой обитатель дворца, города Корсоли и всей Италии, Томмазо обожал посплетничать. Даже если он не сомневался, что я все придумал, ему не хватило бы сил устоять перед искушением почесать языком. Кто из нас способен не поделиться захватывающей дух небылицей? Я был уверен, что моя история того стоит, а потому к вечеру о косточке узнают все и уже завтра она достигнет ушей Алессандро. Похоже, мне отчасти передалось коварство Федерико.
В тот вечер герцог лакомился смешанными с яйцами, уксусом и перцем, а затем слегка обжаренными телячьими мозгами и угощал ими Бьянку.
— Ты, жирная свинья! — взвизгнула Пия. — Ты посадил шлюху за один стол с моей дочерью!
Федерико, зарычав, вскочил на ноги. Нерон залаял, и Пия поняла, что совершила ошибку. Показывая на нее пальцем и вонзив в столешницу нож, герцог заорал так, что его, наверное, было слышно в Урбино:
— Как ты смеешь оскорблять меня, кусок свиного сала?! Отныне до самого отъезда будешь жить в башне!
Джованни встал и загородил собою мать. Рьяный молоденький стражник, желая произвести впечатление на герцога, кинулся к горбуну, но быстрый, как змея, Джованни выхватил из-за пояса короткий кинжал и трижды ударил юнца. Первый удар пришелся в грудь. Бедняга был уже мертв, когда Джованни нанес ему рану в бедро. Третий удар пронзил покойнику правый глаз. Глазное яблоко шлепнулось на стол. Стражник обмяк и мешком свалился к ногам Джованни. Остальные охранники застыли, глядя на Федерико, который, похоже, был удивлен не меньше них.
Не сводя с герцога глаз, Джованни заявил очень спокойным тоном:
— Герцог Федерико Басильоне ди Винчелли! Я верой и правдой служил вам много лет, но я не позволю вам оскорблять мою мать и сестру. Будет лучше, если мы как можно скорее уедем из Корсоли. Прошу вас только обеспечить нам безопасный отъезд.
Вот это да! Именно в такие мгновения познаются люди. Красноречивое обращение Джованни, то, как он назвал все титулы Федерико… Potta! Кто бы мог подумать, что у этого маленького содомита столько мужества! Любопытно, однако я мог поклясться, что по губам герцога скользнула улыбка, словно он наконец нашел достойного противника. Он кивнул Джованни, и тот, все еще сжимая в руке кинжал, вышел вместе с матерью и сестрой из зала.
Случись в Корсоли землетрясение, мы и то не были бы так поражены. Во дворце только об этом и говорили. Все заключали пари, пытаясь угадать, что будет дальше. Одни считали, что Федерико сожжет их в башне, другие — что он убьет их в постелях. Герцог не сделал ни того, ни другого. Он велел Чекки организовать отъезд Эмилии, Пии и Джованни. Детям, как сказал Федерико, придется остаться в качестве гарантии, чтобы Джованни не расстроил сделки с шерстью. Эмилия умоляла и рыдала, но Федерико был непреклонен. Зато, не скупясь в расходах, выделил им для путешествия в Венецию обоз из двадцати мулов, отряд солдат и немалое число слуг.
— Он очень щедр, — заметил я. — Боюсь, он что-то затевает.
— Для Федерико это капля в море, — возразил мне Томмазо. — Он просто счастлив, что может избавиться от них.
Над горами пронеслась первая зимняя гроза. Она вырвала с корнем деревья, изменила русла рек и утопила уйму животных. Промокшие голодные крестьяне наводнили Корсоли, осаждая приюты и церкви, поскольку больница была уже забита метавшимися в жару людьми. Potta! Мы никак не могли согреться. От костров не было никакого проку, поскольку казалось, что отсырел сам воздух. По комнатам гулял ветер, градины размером с кулак били в окна. Дождь лил через дырки в крыше, и Федерико послал слуг ее починить. Один из них погиб от удара молнии.
Через три дня двор был по колено в грязи. Федерико не мог ни охотиться, ни сражаться в поединках. Его мучила подагра, и он проклинал все на свете. Бернардо сказал, что, судя по расположению звезд, дождь прекратится спустя двое суток, на Ognissanti (День всех святых), и если Эмилия именно тогда отправится в дорогу, то благополучно доберется до дома.
— Герцог наверняка устроит прощальный ужин, — сказал я Агнес. — Скорей бы они уехали! Я жду не дождусь.
Мы стояли во дворе, глядя на холмы, где горели призрачные костры. Парад в честь Ognissanti отменили из-за дождя.
Агнес взяла мою руку и положила себе на живот.
— У меня будет ребенок, — сказала она.
— Ребенок! Боже милостивый, какая радость!
Я прижал Агнес к себе, поцеловал ее маленький, как пуговка, носик, и грустные серые-глаза, и широкий рот.
Она отодвинулась от меня и кивком показала на башню, откуда Джованни наблюдал за нами из окна.
— Почему ты так боишься его? — спросил я.
Агнес пожала плечами.
— Потому что он горбун?
Она снова пожала плечами и зарылась лицом в мое плечо.
— Он обычный человек. Карлик. Плюнь на него, он завтра уедет. — Чтобы показать ей, что мне на него плевать, я показал Джованни фигу и крикнул: — Я буду отцом! — Я снова поцеловал Агнес. — Надо сказать Миранде. Скоро об этом узнает весь мир!
Я бросился в замок. Мимо меня из кухни скользнула какая-то фигура. Я был слишком счастлив и не обратил на нее внимания. Мне надо было спросить у Чекки, не может ли он выделить нам с Агнес отдельную комнату, и попросить у Федерико другую должность. И только тут до меня дошло, что человек, вышедший из кухни, был Алессандро, советник Пии. Но он же должен сидеть в башне вместе с Джованни!.. Меня обуял такой страх, что я забыл, какую новость собирался сообщить Миранде.
Бернардо ошибся. В День всех святых по-прежнему шел ливень, однако решение было принято, и Пия с детьми хотела поскорее уехать из замка, пока Федерико не передумал. Все утро слуги грузили сундуки Эмилии и Джованни в коляски и на лошадей. Солдаты точили сабли и украшали коней флажками. В полдень Джованни, Пию, Эмилию и их придворных, бледных, однако гордых на вид, вывели из башни. Агнес таки заразила меня своими страхами, поэтому я попросил ее не выходить из прачечной, пока они не уедут.
— Теперь, когда у нас будет ребенок, ты должна быть еще осторожнее.
Она улыбнулась и поцеловала меня, а остальные девушки закричали, что я буду хорошим отцом, поскольку действительно люблю ее. Я поискал Томмазо, но увидел его, только когда входил в зал. Он прошел мимо меня и еле слышно шепнул:
— Яд!
Глава 14
Правда, мы чувствуем себя более живыми, когда нам грозит смертельная опасность? Все наши ощущения — зрение, слух, осязание, обоняние — обострены до крайности. Нервы на пределе. Мы не видим ничего, кроме самого главного, остальное отпадает, как хорошо прожаренное мясо от кости. Во рту у меня стало сухо, под мышками — влажно. Да, я испытал амулеты, проделал опыты с ядами, подружился с соглядатаями, но был тем не менее беспомощен, как крыса в зубах у собаки. Можно было, конечно, поделиться опасениями с Федерико, однако поскольку он сказал, что в следующий раз, когда я заподозрю что-то неладное, мне придется попробовать все блюда, я не стал к нему обращаться. Желудок у меня свело. В горле застрял комок. Сердце колотилось как бешеное. Я еле дышал!
Федерико сел рядом с Бьянкой во главе стола. Эмилия, Джованни, Пия и ее советники, все в дорожной одежде, уселись по другую сторону. Сначала — в честь усопших — подали суп из белой фасоли, заправленный, как это принято в Тоскане, оливковым маслом. Затем Кристофоро поставил перед герцогом поднос с каплунами. Федерико протянул их мне и сунул язык Бьянке в ухо. Я посмотрел вслед Кристофоро, выходящему из зала. Зоб у него был, как всегда, розоватый. Стало быть, повар ничем не взволнован. Блюдо выглядело аппетитно, а пахло еще лучше. Кристофоро сдобрил его маслом больше обычного. Вот оно! Масло замаскирует яд. Я понюхал поднос. Неужели каплун отравлен? Я повернул поднос и принюхался снова. Голос Федерико долетел ко мне, как в тумане:
— Что-то не так?
— Нет, ваша светлость.
Хотя я сам придумал байку про то, что кость единорога расколется надвое, если еда будет отравлена, как же я хотел сейчас, чтобы это было правдой! Вонзая зубы в каплуна, я воззвал к Богу Отцу, Иисусу Христу, Мадонне и всем святым. Потом я попробовал птицу на вкус. Спасибо тебе, Господи! Я уже говорил, что утратил вкус к яствам, и это чистая правда, однако стоило мне попробовать первый кусочек, как давно утраченное наслаждение разлилось по всем жилкам.
Мясо таяло — да-да, таяло! — у меня на языке. Идеально поджаренное на оливковом масле с капелькой горчицы, добавленной Кристофоро. Сочетание было столь неожиданным, что мои вкусовые бугорки не выдержали. Я замер, ожидая, что яд вот-вот обожжет мне нёбо. Но все было нормально. Я протянул поднос Федерико. Герцог взял в руку кусок грудинки и разделил его с Бьянкой. Эмилия с негодованием отвернулась. Я смотрел, как Джованни, Эмилия и Пия пробуют каплунов. Может, я ослышался? Или же Томмазо решил посмеяться надо мной?
Я вышел из зала, решив разыскать подлеца. Ни в коридорах, ни на кухне его не было. Гремел гром, ливень становился все сильнее. Неудивительно, что этот проклятый Сократ произнес тост! Он знал, что ему дали отравленный кубок. Но я не мог пойти к Кристофоро и сказать: «Ты, трус несчастный! Скажи мне, какое блюдо ты отравил, или я оторву тебе яйца, зажарю их в масле и втолкну тебе в глотку! Да, кстати… Ты положил туда болиголов или мышьяк?»
— Пора идти! — послышался чей-то голос. — Сейчас подадут второе блюдо.
На второе подали зобную и поджелудочную телячью железу с баклажанным соусом, суп из капусты, любимые колбаски Федерико и фаршированного гуся по-ломбардски, посыпанного толченым миндалем, тертым сыром, сахаром и корицей. Очень аппетитно выглядела также гусиная печенка, вымоченная в вине и сдобренная медом.
— М-м-м! — простонал Федерико и, протянув мне поднос, приказал: — Скорее!
Руки у меня тряслись, как с похмелья. Я попробовал кусочек мяса, ложку супа из капусты и откусил кусочек колбасы. Ничего особенного. Значит, гусь! Ну конечно, гусь! Федерико любил гусятину, это знали все. Я снова глянул на Эмилию с Пией. Обычно они вели себя за столом громко и шумно, но сейчас притихли, явно не желая привлекать к себе внимание.
Гуся поставили перед Федерико. В наступившей тишине раздавалось лишь чавканье гостей да шум дождя, барабанившего по окнам. Джованни почти ничего не сл. Над горами громыхнул гром.
— Еще вина! — крикнул Федерико, вытирая рот рукавом.
Я боялся, что, если он велит мне попробовать остальные блюда, я умру от страха. Откусив кусочек гуся, я сунул его под язык, готовый выплюнуть при малейшем подозрении. Когда я протянул поднос Федерико, он даже не взглянул на меня. Бьянка жадно поглощала то, что было у нее на подносе.
Я вдруг подумал, что если умру, то никогда больше не увижу Миранду. Мне необходимо было увидеть ее прямо сейчас, и, поглощенный этой мыслью, я перебил Федерико.
— Досточтимый герцог! — воскликнул я, показав жестом, что вот-вот описаюсь.
— Нет, — заявил Федерико и громко рыгнул. — Погоди до десерта.
Кристофоро сам внес в зал поднос с пирожными. И тут я понял: это десерт! Идеальное блюдо для того, чтобы подсыпать яд! Все знали, что Федерико любит сласти больше, чем гусей и каплунов вместе взятых. Каждому из присутствующих подали пирожные, испеченные в виде бобов и маленьких скелетиков из миндальных орехов и сахара.
— Ossi da morte! [34] — улыбнулся Федерико. И протянул мне поднос. — Живо! — сказал он, нетерпеливо облизывая слюну с жирных губ.
Сверкнула молния. Снова громыхнул гром, Нерон залаял.
Я взял пирожное. Интересно придумал этот горбун! Скелетики… Я решил, что голову есть не буду, потому что головы любит Федерико — и любой, кто хоть немного пожил во дворце, как Алессандро, например, это знал и вполне мог положить туда яд. Я поднес ко рту крохотную ступню. И вдруг увидел, как с другой стороны зала на меня уставился Томмазо. Лицо его застыло, словно маска. Я понюхал фигурку, не в силах заставить себя открыть рот.
— Давай! — рявкнул Федерико.
— Ваша светлость! У меня есть основания предполагать, что Кристофоро…
Федерико бросил на меня такой злобный взгляд, что у меня слова застряли в горле.
— Ешь! — прорычал он.
Пия с Эмилией смотрели на свои фигурки. Джованни Иалил себе вина.
— За здоровье Миранды! — шепнул я и откусил у скелетика ступню.
Не помню, была она сладкой или нет. Я проглотил ее. За окном сверкнула молния, осветив желтые зубы, маленькие пронзительные глазки и надменные носы. Гром потряс фундамент замка, залаяли все собаки. Я сглотнул слюну. Мое горло! Я схватился за шею. Руки у меня дрожали. Тело сотрясалось, словно что-то пронзило его. Я поднял руку и показал пальцем:
— Джованни!
Изрыгая проклятия, я отпрянул назад, наткнулся на слугу и упал на пол, прижимая к животу колени и выгибая спину, как это делала отравленная кошка. Я задыхался. Мой язык молил о воде! Воды, воды! Я не мог совладать со своими ногами. Чтоб им пусто было! Они дергались взад-вперед, как бешеные. Я закричал. Стулья полетели на пол, стол перевернулся и встал на дыбы. Я услышал, как Федерико грозным голосом позвал Кристофоро, как визжали Эмилия и Пия, заглушая громовые раскаты. А потом раздался сабельный звон и такие душераздирающие вопли, от которых у меня застыла кровь.
По залу пронесся ветер, смешиваясь со вздохами умирающих. Чьи-то руки попытались меня поднять. Я поскользнулся и упал в лужу крови. Меня подняли снова и унесли из зала в комнату. Слуги бросились врассыпную, кто куда. Доносились крики и стоны мечущихся по коридорам людей. Потом дверь открылась, и я услышал два голоса.
— Боже правый! Ты когда-нибудь такое видал? — Я не сразу узнал дрожащий от страха голос Пьеро. — Он только в лицо нанес ей шесть ударов!
— И ее матери тоже, — отозвался Бернардо.
— А Кристофоро-то за что?
— Раз Уго отравился, стало быть, Кристофоро поменял скелетики.
— Но зачем?
— Не вижу никакого смысла. А как Алессандро?
— Он все еще умоляет его пощадить.
— А Джованни?
— Кто знает?
Шаги приблизились к моей кровати. Очевидно, Пьеро склонился надо мной, потому что я вдруг почувствовал запах жира, которым он смазывал волосы. Мне пощупали шею.
— Еще дышит.
Пьеро приподнял мне веко, затем другое и пристально вгляделся мне в глаза. Потом нагнулся послушать мое сердце, и запах жира от его лысой головы ударил мне в ноздри. Меня чуть не стошнило. Рвота подступила к самому горлу, но я не решился блевануть. Я сед и, вспомнив историю о Сократе, выдавил дрожащим голосом:
— Отдайте Томмазо десять скудо, которые я ему должен. После чего снова, как мертвый, упал на подушки.
— Что он сказал? — удивленно прошептал Бернардо.
Тут дверь отворилась, и Миранда с криком: «Ваbbо! ВаЬЬо!» — бросилась мне на грудь.
Она кричала так жалобно, что у меня разрывалось сердце.
— Дьявол борется за его душу, — сказал Бернардо. — И дьявол побеждает.
— Нет, babbo, нет! — крикнула Миранда.
— Так ему и надо! Он все испортил, — проворчал Бернардо, выходя за дверь.
Я услышал, как Пьеро шепчет Миранде:
— Пойдем со мной. Я дам тебе оливкового масла. Если ты вольешь ему в глотку масла, то, возможно, спасешь его.
— Скорее, прошу вас! — взмолилась Миранда.
— Не беспокойся, — хихикнул Пьеро. — Он выживет. Из коридора все еще доносились шаги снующих людей, крики и стоны. Слуги, заскочив посмотреть на меня, тут же убегали, будто опасаясь что-нибудь пропустить. Вскоре Миранда вернулась, приподняла мне голову и влила в рот оливковое масло. Через пару минут у меня началась такая рвота, что я мог бы изрыгнуть самого Иону. Миранда смеялась сквозь слезы и целовала меня.
— Babbo жив! — твердила она.
В комнату зашел Томмазо, брезгливо отвернувшись от моей блевотины.
— Что стряслось? — подозрительно спросил он.
— Что стряслось? — выдохнул я. — Дурак! Меня отравили!
— Еда Федерико не была отравлена, — нахмурился Томмазо.
— Нет, была! — сердито отрезала Миранда. — Что ты несешь? Babbo чуть не умер!
Она едва не набросилась на него с кулаками, но я прошептал:
— Принеси мне, пожалуйста, кусочек хлеба, Миранда!
Как только она вышла из спальни, я спросил:
— В чем дело? Ты же сам сказал мне: «Яд!»
Томмазо изумленно уставился на меня широко раскрытыми глазами.
— Да ты что? Будь еда Федерико отравлена, я предупредил бы тебя. Он отравил их пирожные!
Господи Иисусе! Выходит, все наоборот! Теперь я понял, почему Федерико не скупился на подарки и почему он был так удивлен, когда я в корчах упал на пол. Он собирался отравить Джованни, Эмилию и Пию, и то, что я притворился умирающим от яда, спутало ему все карты. Однако я по-прежнему никому не мог открыть правду.
— Но почему герцог убил Кристофоро? — спросил я.
Томмазо пожал плечами.
— Очевидно, он подумал, что Кристофоро предал его.
— Разве не Алессандро…
— Алессандро работал на герцога с той самой минуты, как приехал.
Откуда Томмазо это знал? Желая убедиться, что меня не заманивают в западню, я сказал:
— Мне действительно стало плохо! И косточка у меня в руке потеплела…
— Дай-то Бог, чтобы Федерико поверил тебе! — фыркнул он в ответ.
Федерико сидел за столом в доспехах, с саблей на боку. Я никогда раньше не видел его в военном обмундировании и сразу понял, каким грозным он кажется в бою врагам. За ним стояли Бернардо, Чекки и Пьеро. Алессандро не было — Федерико заточил его на время, пока не разберется в точности, что же произошло. Я медленно подошел к герцогу, поскольку совершенно обессилел от рвоты. Когда я встал перед ним, он вдруг вскочил, схватил меня обеими руками за шею и поднял вверх.
— Почему ты жив, черт возьми, в то время как мой лучший повар мертв?
У меня все поплыло перед глазами.
— Ваша светлость!
Я задыхался. Стук сердца отдавался у меня в ушах, я ощущал во рту вкус собственной крови.
— Это благодать Божья, ваша светлость! — воскликнул Чекки.
— Благодать?
Федерико отпустил меня, и я, харкая и откашливаясь, шлепнулся на пол.
— Если бы Эмилия и ее мать были отравлены, папа римский обвинил бы вас, — объяснил Чекки. — Но поскольку Уго стало плохо, теперь все знают, что злоумышленники покушались на вашу жизнь. Вам просто пришлось принять ответные меры. И отъезд Джованни послужит доказательством его вины!
Я готов был облобызать Чекки туфли! Неудивительно, что его называли корсольским Цицероном. Идея была поистине блестящая, и я возблагодарил Господа за то, что этот уважаемый и благородный синьор во второй раз встал на мою защиту.
— Жаль, что Уго не помер, — проворчал Бернардо. (Вот сволочь!) — Его смерть была бы самым убедительным доказательством намерений Джованни. Хотя… мы еще можем убить Уго.
— Но если его спросят, он скажет, что был отравлен, — сказал Чекки.
— Меня действительно отравили! — воскликнул я и, с трудом встав на ноги, протянул косточку, которую сам заранее разломал пополам. — Пресвятая Дева Мария сказала: если меня отравят, кость единорога сломается…
Федерико одним ударом выбил косточку у меня из рук.
— Оставьте меня! — приказал он. — Все, кроме Уго.
Дождь прекратился, но ветер все еще гулял по замку, словно пытаясь убедиться, что никому не удалось сбежать. Федерико откинулся на спинку кресла и опустил подбородок на грудь, сверля меня маленькими свирепыми глазками.
— Кристофоро положил яд в три скелета, предназначенных для Эмилии, Пии и Джованни.
Он умолк, ожидая моей реплики.
— Очевидно, он отравил ваше пирожное тоже, ваша светлость.
— Ты имеешь в виду вот это? — Федерико нагнулся и положил передо мной скелетик без ступни.
— Да, ваша светлость! — возмущенно воскликнул я. — Именно это!
— Ты правду говоришь?
Он вопросительно наморщил лоб.
— Святую правду, ваша светлость!
— Если нет — на дыбе ты все равно сознаешься!
— На дыбе я сознаюсь даже в том, что самолично распял Иисуса Христа, ваша светлость!
Федерико почесал нос и облизнул губы.
— Есть только один способ узнать правду. — Он подвинул скелетик ко мне. — Съешь его!
— Но если пирожное отравлено, вы потеряете своего лучшего дегустатора!
Федерико не сводил с меня глаз.
— Ты либо очень умный, либо очень везучий. А?
— Мне очень повезло, что я попал к вам в услужение, ваша светлость!
Федерико помрачнел.
— Я надеялся, что ты умный. Меня окружают одни идиоты. Я выругал себя за трусость. Федерико встал из-за стола, взял ключ, подошел к шкафчику и отпер его. Часть стены справа от меня скользнула в сторону. Я думал, что Федерико нечаянно открыл ключом тайный ход в стене, но он даже не обернулся. Чей-то глаз заглянул в зал, увидел меня и скрылся во тьме. Стена бесшумно встала на место. Я чуть было не вскрикнул, однако тут же умолк, заметив кучи золотых монет на полке в шкафчике, открытом Федерико. Он взял две монеты и бросил их мне.
— Сшей себе новое платье. Скажи Чекки, что я велел переселить тебя в другую комнату.
— Mille grazie [35], ваша светлость, mille grazie!
Я распластался на полу, и он позволил мне облобызать его ступни.
Выйдя из покоев герцога, я чувствовал себя так, словно короновал самого папу римского.
— Посмотри на меня, Витторе! Ты, вшивый козел! И ты тоже, отец! — крикнул я. — Посмотрите на меня!
Миранда сидела на кровати, раскачиваясь взад-вперед и прижимая к груди Феличиту. Я бросил ей на колени золотую монету.
— У нас будет новая спальня! И новая одежда! — крикнул я и стащил Миранду с кровати, закружив ее по комнате. — Я должен найти Агнес.
— Нет, babbo! — воскликнула Миранда.
— Ты не хочешь братика? Ладно, у тебя будет сестричка!
Миранда схватила Феличиту за горло так, словно это была не ее любимая кукла, а простая деревяшка.
— В чем дело? Говори!
— Агнес мертва, — прошептала она.
— Мертва? Нет, она в прачечной!
Миранда покачала головой.
— Говори! — крикнул я.
Из глаз у нее хлынули слезы. Она заговорила взахлеб, но я ничего не мог понять, и мне пришлось заставить ее трижды повторить все сначала.
— Когда Агнес услышала, как ты кричишь, она выбежала из прачечной и столкнулась с Джованни, который вышел из зала. Конюхи говорят, он пырнул ее кинжалом просто так, без всякой причины.
Oi me! Сколько раз можно разбивать сердце человека, не убив его? Моя мать. Мой лучший друг Торо. Элизабетта. Агнес. Мой неродившийся ребенок. Все, кого я любил — все, кроме Миранды, были мертвы. Что хотел сказать мне Господь? Что я не должен любить? Значит ли это, что я потеряю и Миранду тоже? Я взмолился, задавая Всевышнему эти вопросы, но он не ответил, и я проклял его. Я проклял все свои мольбы, обращенные к нему, а потом, испугавшись возмездия, разрыдался, моля Господа о прощении. Я просил его защитить Миранду от меня — и в то же время с ужасом произносил имя Божье вместе с именем моей дочери, поскольку как раз его я боялся больше всех.
Глава 15
Я не писал несколько дней, потому что у меня кончилась бумага. Септивий не давал мне больше, пока не получил приказа от Фабриано. Сегодня бумагу принесли, так что я постараюсь быстренько описать все события, случившиеся за это время.
После убийств все в замке переменилось. Алессандро убедил герцога, что не предавал его, и был вознагражден комнатой Джованни и его посольской должностью. Тем не менее я не доверял ему, поскольку человек, перебежавший на другую сторону однажды, может сделать это снова. Поэтому я держался от него подальше. Томмазо перевели работать на кухню, а я погрузился в пучину отчаяния. Епископ хотел похоронить Агнес на погосте, однако я настоял, чтобы ее зарыли в землю на просеке, где мы провели вместе столько счастливых часов. Я ползал по разрытой земле, рыдая и выдирая на голове волосы, в точности как отец. Потом спел ее печальную песенку, хотя не понимал ни слова, и прижал к себе Агнес, чтобы вспомнить ее запах и тело. Я отрезал прядь ее волос… И снова зарыдал — о ребенке, которого мне так и не довелось увидеть. Тут пришел Чекки и сказал, что Федерико собирается ужинать.
Я послал Федерико подальше и заявил, что мне плевать. Пускай он посадит меня в темницу. Чекки сказал, что герцог так и сделает, и увел меня во дворец. Он велел мне спрятать слезы, поскольку они могли рассердить Федерико, но когда я попробовал каплуна под лимонным соусом, горе переполнило мою душу. Чекки что-то шепнул Федерико. Тот поглядел на меня и сказал:
— Я не знал, что Джованни убил твою amorata [36], Уго. Он злой человек, и ты будешь отомщен.
— Grazie, — прошептал я сквозь слезы. — Mille grazie!
— Есть боль, которую время не лечит, — сурово произнес Федерико, обращаясь ко всем присутствующим за столом.
Все как один кивнули, восхваляя его мудрость. Федерико повернулся ко мне и добавил:
— А потому прекрати рыдать!
И впился зубами в кусок мяса.
Лицо Агнес являлось ко мне во сне и наяву. Ее голос звал меня из-за колонн и дверей. Я зажигал свечи в соборе Святой Екатерины и молил Бога простить меня за ту роль, которую я сыграл в убийстве Пии и ее близких, поскольку был уверен, что Агнес погибла за мои грехи.
Я погрузился в отчаяние и лишь значительно позже заметил, что незнакомые мне слуги называют меня по имени и спрашивают, хорошо ли я спал. Они делали мне комплименты, говорили, что я хорошо выгляжу, предлагали свои услуги и просили моего ходатайства перед Федерико. Как-то утром новый повар Луиджи, сутулый мужичок с козлиной бородкой, взял меня за руку и прошептал:
— Клянусь жизнью, я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы повредить герцогу Федерико или вам.
— Они думают, тебя спасло чудо, — фыркнул Томмазо. — Знай они, что ты их разыграл…
— Но ты же им не скажешь! Если все будут меня бояться, они оставят попытки отравить Федерико.
Томмазо сложил руки на груди, а потом развел их в стороны, показав мне язык, трепетавший, как флаг на ветру, тем самым давая мне понять, что он не способен хранить секреты. Только тут я понял, что именно его глаз я видел в стене. Он шпионил для Федерико! Именно поэтому подавальщики с первых же дней предупреждали меня, чтобы я держал с ним ухо востро. И именно поэтому он предупредил меня, чтобы я не старался сблизиться с Федерико. А кроме того, именно так он узнал, что пирожное Джованни было отравлено. Я не сказал ему, что все понял. В отличие от него я умею хранить тайны.
Томмазо стукнуло пятнадцать, он становился выше с каждым днем. Ему не нравилось работать на кухне — он вечно чихал от специй, — но он был мне нужен, так что я попробовал к нему подольститься:
— Когда-нибудь ты станешь шеф-поваром Федерико!
— И тогда Миранде придется относиться ко мне с уважением, — заявил он в ответ.
Oi me! Я надеялся, что он забыл о Миранде. Однако она с каждым днем становилась все красивее, мальчишки увивались за ней, и это, без сомнения, подогревало страсть Томмазо.
Нам с Мирандой дали новую комнату с двумя кроватями, затейливо раскрашенным сундуком и солидным дубовым столом. Окна выходили в сад Эмилии, который теперь, после ее смерти, порос шиповником, ромашками и другими дикорастущими цветами. Ночью их аромат воспарял к окну и наполнял благоуханием мои сны.
Самые большие перемены наступили благодаря Бьянке, новой потаскушке Федерико. Она вела себя так, словно была рождена принцессой. Смотрела на всех надменно, но когда отдавала приказы, мурлыкала, как котенок, и никто не мог понять, какая же она на самом деле. Благодаря долгим годам распутной жизни (говорят, она начала в двенадцать лет) Бьянка точно знала, о чем думают мужчины, когда устремляют на нее взгляды, — а следовательно, умела исподволь заставить их делать все, что ей хотелось. Луиджи ежедневно расспрашивал, какие блюда ей приготовить. Бернардо каждое утро бегал к ней, чтобы рассказать о расположении звезд, и даже придумывал предлоги, чтобы видеться с ней почаще. Даже Чекки заказал для нее вина из Овьето, Урбино и Рима.
Она покупала новые наряды и драгоценности, переставляла мебель и устраивала вечеринки для своих старых подружек. Шлюшки сплетничали, жены придворных зеленели от ревности, однако мужчины молчали. Бьянка была осторожна и никогда не оскорбляла Федерико. Но если по каким-то причинам его нижняя губа отваливалась на подбородок, Бьянка брала герцога за руку и вела в спальню. Не знаю, что они там вытворяли за закрытыми дверями. Порой Федерико так уставал, что не выходил оттуда несколько дней. И наконец появлялся — с улыбкой на устах. Е vero! [37] Святая правда! Наш повелитель охотился, тренировал соколов, забавлялся, как мог (однажды он приказал хромой женщине станцевать со слепым мужчиной), и неизменно настаивал, чтобы я не отходил от него ни на шаг. Тем не менее говорил он со мной только о еде.
Например, как-то раз, попробовав коронное блюдо Луиджи — запеченную в ломтиках бекона телятину с поджаренным хлебом, герцог повернулся ко мне и проронил:
— Превосходно! Почему я не убил Кристофоро раньше?
Уважение Федерико смягчило боль от потери Агнес, и я взялся за дело с особым рвением. Я ходил на кухню, следил за тем, сколько времени уходит на приготовление разных блюд, какие соусы положено к ним подавать, и прочая, и прочая. От Луиджи я узнал, что репа в больших количествах может вызвать апатию, a fava [38] полезны для мужчин, поскольку похожи на яички. Эти новые познания так переполняли меня, что я не мог удержать их в себе.
Как-то раз я сказал Федерико, что телятину не мешало бы поперчить посильнее. В другой раз я заметил, что цыпленка надо было подольше держать в маринаде. И он согласился! Однажды, только понюхав оленину под соусом, я перечислил все ингредиенты: майоран, базилик, мускатный орех, розмарин, корица, сельдерей, чеснок, горчица, лук, чабер, перец и петрушка. Это произвело такое впечатление на герцога, что он частенько просил меня повторить фокус перед гостями.
Наконец-то я почувствовал себя во дворце как дома. Федерико доверял мне — пускай в мелочах, но разве дуб не растет из семечка? Я жаждал поскорее стать придворным и молил Бога о возможности доказать, что я на это способен. Увы! Господь в неизреченной мудрости своей решил, что я еще не готов для такого высокого положения. И все-таки… potta! Неужели он не мог сообщить мне свою волю как-то иначе, без этого проклятого карлика Эрколя?!
Единственное, что объединяло Эрколя с Джованни, так это рост. Джованни был смел и умен, Эрколь — труслив и глуп. Джованни менял наряды, подбирая их под настроение, Эрколь всю жизнь ходил в одном и том же коричневом кафтане и таких же лосинах. Если бы Джованни мог распрямить свой горб, он был бы не ниже других — в то время как Эрколь родился карликом и будет таким до самой смерти.
Я уже говорил вам об Эрколе, хотя и мимоходом. Если не считать того, что он поборол овцу на первом банкете, ничего достойного упоминания он не совершил. А поскольку благополучие Корсоли сильно зависело от овечьих отар, свой фокус Эрколь мог показывать не чаще раза в год. Все остальное время он торчал в углу зала и, стараясь выглядеть еще меньше, склонял голову, тихо стуча по крохотному барабану и моля Бога, чтобы Федерико не обратил на него внимания.
Как-то вечером Федерико отшвырнул поднос с недоеденным ужином, и тот попал прямо Эрколю в голову. Карлик возмущенно подскочил. Ярость, исказившая сморщенное личико шута, вызвала у меня такой приступ смеха, какого никогда не вызывали его фокусы. Он злобно оскалился, решив, что это я запустил в него подносом. Когда до него дошло, что это сделал Федерико, Эрколь тут же поднял поднос. И тут его осенило. Я прямо-таки видел, как у него шевелятся извилины в мозгу. Он повел головой из стороны в сторону, рассматривая поднос так, будто видел его впервые в жизни. Потом обнюхал его, как собака. Перевернул другой стороной — и снова обнюхал. Эта мелкая сволочь, этот гаденыш передразнивал меня! Федерико пнул Бьянку в бок. Гости прекратили жевать и уставились на карлика. Почувствовав всеобщее внимание, Эрколь еще понюхал поднос, поворачивая его то так, то этак. Потом взял маленький кусочек мяса и положил на кончик языка. Он стоял, подбоченившись и расставив ноги, устремив глаза в потолок, и шлепал толстыми губами: пожует-пожует — и задумается, пожует-пожует — и опять задумается. Потом наконец проглотил и провел пальцем по телу, от горла до желудка.
Я знал, что будет дальше. Он схватился за горло, закашлялся и с воплем: «Моя косточка! Моя косточка!» — рухнул на пол, извиваясь в корчах. Потом выгнул спину дугой и недвижно, как мертвый растянулся на полу.
Бьянка хохотала до слез. Она закрыла руками лицо, открыла его, глянула на меня — и снова покатилась со смеху. Федерико тоже прыснул, хлопая ладонью по столу. Придворные немедленно заржали, как кони. Мне хотелось вонзить Эрколю в горло нож и располосовать его до самых яиц. После всего, что я пережил, позволить какому-то карлику высмеять меня перед всеми?!
Эрколь торжественно поклонился. Зал захлопал в ладоши. Он снова поклонился — и так четыре раза. Господи Иисусе! Можно подумать, он собственноручно победил французов!
Федерико вытер глаза и сказал:
— Браво, Эрколь! Браво! Повтори еще раз!
Смех и аплодисменты вдохновили Эрколя. Он сделал унылое лицо, высмеивая мой подавленный вид.
— По-твоему, это не смешно? — спросил у меня Федерико.
— Поскольку я никогда не видел себя со стороны во время еды, мне трудно судить, насколько это похоже.
— Очень похоже! — рассмеялся герцог. — Очень!
Я вышел из зала, сопровождаемый громким хохотом. Нашел зеркальце Миранды и посмотрел, как я ем. Мимика Эрколя была неуклюжей, тем не менее суть он передал точно. Мне хотелось его убить.
— Даже думать забудь! — сказал мне позже Томмазо. — Он нравится герцогу. Если с Эрколем что-нибудь случится, Федерико сразу поймет, кто виноват.
Вскоре Эрколь начал показывать свой номер всем, кто хотел посмотреть, и те же слуги, что превозносили меня накануне, теперь хихикали, когда я проходил мимо. Я пытался есть как-нибудь по-другому — но сколько способов жевания и глотания куска еды можно изобрести?
— Федерико скоро все забудет, babbo, — утешала меня Миранда.
Однако герцог не забыл и просил Эрколя повторить спектакль всякий раз, когда собирались гости. Как-то, когда я не понюхал еду, Федерико сердито рявкнул в присутствии герцога Бальони:
— Делай все, как раньше, не то испортишь представление Эрколя!
И мне, как домашнему зверьку, в которого я превратился, приходилось нюхать блюда, а потом стоять и смотреть, как Эрколь изгаляется надо мной. Во время этого зрелища Федерико рассказывал гостям об убийстве Пии и ее дочери. Гости, вернувшись домой, очевидно, пересказывали мою историю, отчасти забывая и перевирая ее, так что она обросла массой подробностей, а обо мне узнали даже в Риме и Венеции.
Не стану отрицать, мне это льстило. Я сказал Септивию, что скоро буду самым знаменитым дегустатором в Италии. Он улыбнулся, обнажив желтые зубки.
— Данте говорит, что слава подобна дуновению ветра, о котором забывают, как только он стихнет.
— Не сомневаюсь. Однако пока ветер дует, его чувствуют все вокруг.
— Верно, — отозвался Септивий. — Кто-то ему радуется, а кто-то проклинает.
Как же он был прав! Но не будем забегать вперед.
Поскольку я был единственным дегустатором, никто из обедавших не мог поверить, что я сам решил притвориться отравленным. Все считали, что Федерико велел мне это сделать, чтобы оправдать убийство своей жены и тещи. Вскоре герцог поверил в это сам и даже похвастался послу из Болоньи, что не только придумал, но и показал мне, как изобразить предсмертные корчи!
Помню, однажды зимним вечером я сидел у себя, погрузившись в размышления. Темнело, и дождь прямо на глазах окрашивал белые стены дворца в серый цвет. Истории, происходящие с нами, подумалось мне, все равно что стены. Погляди на них кто-нибудь сейчас впервые, ему и в голову не придет, что они были когда-то белыми — точно так же как слушатели рассказов Федерико никогда не узнают правды. Впрочем, если история нравилась слушателям, правда их не волновала. Быть может, не кит проглотил Иону, а он сам съел кита? И Христос не умер, а просто слез с креста и спрятался в пещере. И Сократ, возможно, вовсе не шутил, прежде чем выпить цикуту, а молил о пощаде.
Однако меня это не утешало. Дождь барабанил все громче. «Интересно, где Миранда?» — подумал я. Она не вернулась после занятий, и я пошел ее искать. Возле комнаты, где она порой играла, я услышал чей-то голос:
— Да не расстраивайся ты так, Миранда!
Я заглянул в щелку. Перед большим камином, обнявшись, сидели несколько девочек и смеялись над Мирандой. Она устроилась чуть поодаль, уткнув подбородок в колени.
— И все равно, — мрачно заявила она, — вы делаете это не так!
— Тогда покажи нам сама! — воскликнула одна из девчонок.
Миранда прикусила губку, встала (у меня дрожит рука, когда я это пишу) и изобразила, как я пробую пищу. Эрколь был не так талантлив, как она, к тому же Миранда знала обо мне такие вещи, о которых я сам не подозревал. Показав, как я жую (ее подружки чуть животики не надорвали), она принялась рассматривать свое горло в зеркальце. Она кашляла, рыгала, а потом сунула пальцы в рот, вытаскивая якобы застрявшую между зубами крошку, как я частенько делал, вернувшись после очередной трапезы в нашу спальню. Миранда передразнивала меня с величайшей серьезностью, корча гримасы, облизывая губы, ворочая языком и ковыряясь в зубах с таким видом, словно пыталась найти там золотую жилу, причем все ее жесты были исполнены точности и изящества. Одна девчонка так смеялась, что даже описалась.
Неожиданно Миранда посмотрела в мою сторону. Когда мы встретились взглядами, она прекратила кривляться и стремглав выбежала из комнаты. Подружки помчались за ней — а я отвернулся лицом к стене, чтобы они меня не узнали.
Позже я спросил, зачем она строила из меня дурака.
— А как, по-твоему, я себя при этом чувствую? — заявила она.
Я понял, что она имела в виду. Увы, я был всего лишь дегустатором.
— У меня никогда не будет приличного приданого!
Мне хотелось рассмеяться, но смех застрял у меня в горле. Я так старался воспитать Миранду как настоящую принцессу, что теперь она стыдилась меня. Сдержавшись, чтобы не ударить ее, я отправился в комнату Эрколя.
— Если ты пришел просить, чтобы я не передразнивал тебя, — сказал он, усевшись в маленькое кресло, которое сам смастерил, — прости, но я не могу. Бог наградил меня даром, который нравится Федерико. Будь у тебя такой талант, ты бы тоже мог смешить герцога.
Я наступил себе на ногу, чтобы не пнуть его кресло и не свалить гаденыша на пол.
— Ладно, — сказал я. — Но ты должен делать это правильно.
— Я все делаю правильно! — с жаром воскликнул он.
— А Федерико думает иначе. Я стою прямо за ним, так что мне все слышно.
— Что слышно? — нахмурился Эрколь. — Что ты такое услышал?
Я прикинулся, что мне трудно это объяснить. Мне хотелось так разжечь его любопытство, чтобы оно затмило ему рассудок.
— В общем, я нечаянно подслушал…
— Что? — взвизгнул он своим писклявым голоском.
— Федерико считает, что ты играешь не так смешно, как раньше. Он думает, что твои движения должны быть более выразительными и гротескными.
Эрколь задрал нос, и так уже направленный к потолку, и подозрительно посмотрел на меня.
— Федерико сказал, что мои движения должны быть более выразительными и гротескными?
— Вот именно. Я решил сообщить тебе. Ведь если ты не сумеешь угодить Федерико…
Больше мне ничего говорить не пришлось.
В следующий раз, когда Эрколь давал свой спектакль, он жевал и размахивал руками, словно в лихорадке. Никто не смеялся. Нижняя губа Федерико упала на подбородок. Эрколь так перепугался, что схватил свой барабанчик и ни с того ни с сего принялся в него стучать.
— Что ты делаешь? — взревел герцог.
— Ваша светлость, — промямлил карлик, — вы же говорили…
— Что я говорил? Отвечай!
Однако Эрколь совершенно растерялся и не знал, что ему делать.
— Надеюсь, это поможет тебе вспомнить! — рявкнул Федерико и швырнул в него миску супа, а за ней — несколько ножей, ложек и ломтей хлеба.
Эрколь свернулся на полу калачиком.
— По-моему, его надо повесить, — громко заявил я. — Господь даровал ему талант, а он зарыл его в землю.
— Заткнись, — буркнул Федерико.
Но я и не собирался продолжать. Я знал, что Эрколь больше не будет надо мной измываться, да и другим неповадно будет. Однако Господь еще не закончил свои испытания, и худшее было впереди.
Глава 16
Вторая зима, проведенная нами во дворце, выдалась очень холодной. Мела метель, на дворе и на городских улицах высились сугробы. Дети лепили из снега птиц и львов. Томмазо как-то слепил волка, сидящего на задних лапах. Вместо глаз он вставил ему окрашенные шафраном миндальные орехи, а вместо языка — кусочек кожи. Томмазо хотел, чтобы Миранда посмотрела на его творение, но она отказалась, сославшись на то, что ей надо читать Библию.
— Она станет монашкой, — проворчал Томмазо, заканчивая волчьи лапы. — Она говорит, у нее нет времени на всякие глупости.
— К ужину она передумает.
Томмазо покачал головой и принялся грызть ногти.
— Миранда отдает свою еду бедным.
— Откуда ты знаешь? Ты за ней следил?
Он кивнул и рассказал мне, что видел, как Миранда стояла под дождем на коленях на площади дель Ведура и чуть не попала под копыта всадника. Благо он, Томмазо, вовремя ее оттащил.
— Она поблагодарила тебя?
Томмазо снова покачал головой.
— Она сказала, что я не имею права мешать свершиться воле Божьей.
Миранда молилась в соборе перед статуей Пресвятой Девы Марии. Дождавшись, когда она сделала паузу, я спросил, зачем она так себя истязает.
— Я готовлюсь к privilegium paupertatis [39], — сказала она с такой болью в голосе, словно только что сама слезла с креста.
— Тебе не нужна такая привилегия, Миранда! Ты и так бедна. И я беден. Это все из-за приданого, да?
Она отвернулась и продолжила молитву.
— Ты думаешь, что никогда не выйдешь замуж, и поэтому решила посвятить свою жизнь церкви?
Она ничего не ответила.
— Монашки, которыми ты восхищаешься, Миранда, тоже не обязаны быть бедными. Они днями напролет трудятся над вещами, которые отдают бесплатно, а потом просят милостыню, чтобы прокормиться. Если бы церковь хоть немного платила своим служанкам за труды, им не пришлось бы выпрашивать подаяние у таких бедняков, как я!
— Когда они просят милостыню, монашки учатся смирению, — возразила Миранда.
— Это голод учит нас смирению, — ответил я. — Basta!
Но она не прекратила. Она по-прежнему отдавала свою еду и бухалась на колени, чтобы помолиться, в любое время, когда ей хотелось. Старая подслеповатая прачка сказала, что моя дочь святая. Сердился я на нее или был с ней нежен — Миранда в любом случае оставалась глухой к моим словам.
— Ты отдашь концы! Кому это нужно? — взмолился я, обнаружив ее дрожащей в снегу.
Губы у нее посинели, зубы стучали. Она начала читать «Богородице Дево, радуйся!», чтобы не слушать меня.
Две ночи спустя я проснулся и увидел, что ее кровать пуста.
— Она сказала, что Господь велел ей уйти в монастырь Сан-Верекондо, — сказал мне стражник, стоявший у ворот.
Все стражники — круглые идиоты, ей-богу! В какой бы город вы ни приехали, если там есть ворота, а возле них — охранник, он наверняка придурок.
— Это безумие! Как ты мог пропустить ее в такую погоду?
— Она была похожа на святую, — ответил он.
Небо затянули серые тучи. Мягкие жирные снежинки медленно падали на землю, словно гусиные перья из подушек Господа. Я помчался во всю прыть, крича на бегу: «Миранда! Миранда!» В ответ раздался волчий вой. Я молил Бога, чтобы она не столкнулась с волками, чтобы я догнал ее скорее, а если нет — то пусть она успеет укрыться за стенами монастыря! Сугробы становились все выше. Кусты, деревья, трава — все утопало в снегу. Туфли и лосины у меня промокли насквозь, лицо и руки задубели от холода. Я снова позвал Миранду, но ночь поглотила мой крик. Я не видел холмов, а потому не знал, в ту ли сторону иду. Окончательно выдохнувшись, я рухнул на колени — и вдруг подумал, что именно в такой позе видел в последний раз Миранду. Неужели Бог наказал меня за то, что я пытался помешать Миранде исполнить его волю? Я упал лицом в снег и зарыдал, моля о прощении и обещая, что если я найду Миранду, то сам отведу ее в монастырь.
Стоило мне произнести эти слова, как между ветвями деревьев воссиял свет. Дева Мария протянула мне руку и сказала нежным голосом:
— Поспи. Отдохни. А потом я отведу тебя к дочери.
Но другой голос возразил:
— Это не Дева Мария, а Смерть.
Я поднялся и поплелся вперед, проваливаясь в снег по пояс и умоляя Господа спасти меня. И уже на последнем издыхании наткнулся на тело Миранды.
Один Бог знает, как я вернулся в Корсоли, ибо Он сам вел меня. Я постучал в дверь Пьеро. Несмотря на то что было уже за полночь, Пьеро разбудил свою жену и детей и приказал им согреть воды, а сам тем временем завернул Миранду в одеяла. Он сделал ей теплые ванночки для рук и ног, дал лекарств. Мне пришлось вернуться во дворец, чтобы попробовать завтрак Федерико, и я оставил дочь под присмотром Пьеро, который ворковал над ней, как над собственным дитем.
Все свободное время я не отходил от постели Миранды, ибо Пьеро сказал, что ее жизнь в опасности. Томмазо принес бульон и печенье (недуг Миранды подвигнул его стать поваром), а я молился и вытирал ей пот со лба.
Я никогда раньше не бывал в домах у евреев и удивился тому, что у них было все совершенно обычно, как у других людей. Поскольку Федерико вечно жаловался на свои недомогания, я спросил у Пьеро, отчего он не живет во дворце.
— Герцог Федерико не разрешает, потому что мы евреи. А кроме того, здесь, — улыбнулся он, — я ближе к жителям Корсоли.
Тут Миранда, личико которой из голубого стало белым, зашлась в таком приступе кашля, что у нее затряслось все тело. Она горела в жару и вскрикивала во сне. Пьеро сказал, что, несмотря на пугающий вид, это хороший признак.
В конце концов, благодаря милости Божьей и заботам Пьеро — за которые я буду век ему благодарен, — Миранда поправилась настолько, что ее можно было перевезти во дворец. Она лежала в кровати и никого не хотела видеть — ни Томмазо, приносившего ей лакомства, ни подружек, справлявшихся о ее здоровье. Миранда не говорила почему, но я знал: это все из-за отмороженных мизинца и безымянного пальчика на правой руке, а также двух пальцев на правой ноге. Они скукожились, и было ясно, что к жизни их уже не вернешь. Миранда заявила сквозь слезы, что не сможет больше ходить. Я рассказал ей об одноногих солдатах и моей тетушке, которая ходила всю жизнь, хотя и родилась без стопы. И добавил, что ей надо благодарить Бога и Пьеро за то, что она вообще осталась в живых. Это не слишком ее утешило. Больше того — она буркнула, что лучше бы я оставил ее умирать.
— Я подвела монашек из Санта-Клер! И Господа нашего! Я не сказал ей о своем обещании отвезти ее в монастырь.
Теперь, когда я вновь обрел свою дочь, у меня не было сил с ней расстаться.
Миранда все рыдала — и тут в дверь постучали. Я открыл. В дверях стояла Бьянка, в мехах и капюшоне, усыпанном бриллиантами и скрывавшем ее лоб.
— Это здесь прячется малышка святая? — спросила она.
Я так удивился, увидев ее, что Бьянка сказала:
— Ты пригласишь меня войти?
— Разумеется!
Я посторонился, давая ей пройти.
От нее пахло бергамотом и мускусом. Проходя мимо меня, она облизнула нижнюю губу и улыбнулась так, словно знала обо мне какую-то тайну, неизвестную мне самому.
— Вот она где! — игриво воскликнула Бьянка и, сев на кровать Миранды, утерла ей слезы и похлопала по щекам. — Мы эти маленькие прелести откормим так, что они солнце затмят! — Она обернулась ко мне. — Нам с Мирандой о многом надо поговорить, так что выйди погуляй немного. И не подслушивай под дверью! — Бьянка подмигнула Миранде. — Мужики всегда так делают. Они хуже женщин.
Я прогулялся в Корсоли и назад, гадая, почему Бьянка пришла навестить Миранду. Просто по доброте сердечной? Несмотря на все свои меха и бриллианты, Бьянка была и оставалась шлюхой. Однако, напомнил я себе, многие жены и любовницы знаменитых людей были шлюхами. И они, несомненно, знали мужчин лучше, чем те — сами себя. Бьянка была отнюдь не дура. К тому же она любовница Федерико. Она многое могла сделать для Миранды.
Решив, что хватит гулять, я вернулся в нашу комнату. Миранда была одна. Она сидела на кровати и рассматривала себя в ручное зеркальце. На шее у нее висело прекрасное жемчужное ожерелье.
— Это Бьянка тебе дала? — спросил я.
— Да, — ответила Миранда, стараясь скрыть свой восторг. — Она пригласила меня в свои покои!
— Е vero?
— Но я не могу ходить, babbo! А даже если бы могла, то не пошла бы, — добавила она с видом праведницы. — Ведь она шлюха!
Меня так и подмывало выбросить ее обратно в сугроб, но вместо этого я сказал:
— Господь наш Иисус Христос не отвергал ни грешников, ни проституток.
Миранда нахмурилась. Ее густые темные брови сошлись на переносице, зубки покусывали нижнюю губу.
— О чем вы с ней говорили? — спросил я.
Миранда бросила зеркальце на стул и подняла вверх отмороженные пальчики.
— Бьянка говорит, они не созданы для работы, и таким образом Господь дал мне понять, что я ничего не должна делать.
— Ясно. А еще о чем?
— Она сказала, что я самая красивая девушка во дворце и когда-нибудь у меня будет целая толпа ухажеров.
— Это и впрямь хорошая новость!
— И еще она посоветовала мне изменить прическу, потому что так носить волосы уже не модно.
Миранда потянулась за зеркальцем, но стул стоял слишком далеко, поэтому она откинула одеяло, вылезла из кровати и прошла пару шагов. Тут до нее дошло, что она сделала. Миранда с удивлением уставилась на меня.
— Раз Бьянка в состоянии поставить на ноги калеку — быть может, тебе стоит прислушаться к ее словам, — заметил я.
На следующий день Миранда вернулась от Бьянки с чудесным браслетом на руке и красной шалью из тончайшей шерсти. Лицо у нее было чуть припудрено, а губы подкрашены под цвет щек. Еще через день Бьянка причесала ей волосы так, что кудри мягко обрамляли лицо. На Миранде была маленькая диадема и платье, которое развевалось волнами, когда она поворачивалась из стороны в сторону.
— Как я выгляжу? — спросила она.
— Прекрасно. И это была чистая правда.
— Я весь день провела у портнихи. — Миранда протянула вперед руку, показывая новый браслет. — Бьянка говорит, он из немецкого серебра. Оно лучшее в мире. Смотри, какие камни! Их можно купить только во Флоренции или в Венеции. А теперь мне надо поиграть на лире.
Неделю спустя она вернулась, обмахиваясь веером.
— Я танцевала, babbo! Я могу танцевать почти так же хорошо, как раньше. Алессандро сказал, что я танцую лучше всех на свете!
— Алессандро был в покоях Бьянки?
— Да. Он показал мне, как держать веер так, чтобы никто не заметил моих изуродованных пальцев.
* * *
— Бьянка превращает Миранду в шлюху! — пожаловался мне Томмазо.
Он злился, что Миранда не поблагодарила его за бульоны и печенья, которые он приносил ей во время болезни.
— Две недели назад она пыталась уморить себя голодом. Мы должны целовать Бьянке ноги.
Я лично этого не делал, но искренне поблагодарил ее за доброту.
— Я готова на все, лишь бы спасти ее от монастыря, — улыбнулась Бьянка. — Миранда — прелестное дитя.
— Вы заменили ей мать, которой Миранде всегда недоставало.
Бьянка вздернула бровь и глянула на меня так, словно я случайно раскрыл ее тайну. На мгновение лицо ее словно постарело и стало печальным.
— Я всю жизнь мечтала о дочери, — сказала она задумчиво, и в голосе ее не было ни обычной игривости, ни высокомерия. — Так что Миранда мне как дочь.
Бьянка повернулась, взвихрив свои меха, и бросила мне через плечо:
— Следи, чтобы она училась играть на лире и писать стихи.
На следующий день Миранда вернулась в чудесной меховой накидке, которую сшила ей Бьянка.
— Алессандро показал мне, как танцуют в Венеции, — сказала она, продемонстрировав мне несколько па.
В меховом манто, с гордо поднятой головой она казалась взрослой женщиной. Я неожиданно вспомнил предостережение Томмазо.
— Прошу тебя, Миранда, не носи накидку во дворце!
— Я и не собираюсь. Приберегу ее для карнавала.
После смерти Элизабетты я каждый год ходил в Корсоли на карнавал вместе со своим другом Торо. Porta! Ну и веселились же мы тогда! Мы приходили к параду, потому что после процессии с оливковыми ветвями по улице маршировали простолюдины, одетые в сутаны священников, и осыпали всех бранью. Торо всегда шел в первых рядах, поскольку ругаться он умел виртуозно. Мы с друзьями обычно поджидали его на крыше дома у Западных Ворот. Увидав Торо с раскрасневшимся от ругани лицом, мы забрасывали его яйцами и осыпали мукой. Мне вспомнилась одна сумасшедшая, которая сорвала с себя одежду. Мы гнались за ней по улицам, пока не поймали и не трахнули по очереди. А еда! Porta! Мы так набивали животы колбасой и полентой, что еле двигались потом. А какие трюфели в оливковом масле продавал бакалейщик! Вкуснота необыкновенная! Чтобы отведать их, сам Христос мог воскреснуть еще раз!
В тот день, когда Миранда упомянула о карнавале, Бьянка тоже вспомнила о нем за ужином. Она сказала, что в Венеции вельможи давали великолепные балы, приглашая сотни человек, в том числе принцев и принцесс, а также послов из Германии, Франции, Англии и всех княжеств Италии. Они одевались в шитые золотом костюмы римских богов. Бьянка сказала, что однажды оделась Венерой, а в другой раз — павлином. Любовник потратил половину доходов от своих кораблей на ее костюм. Он был сделан из настоящего золота, и ее провозгласили самой прекрасной женщиной Венеции. Мастерили это одеяние два месяца. Длиннющий шлейф несли двое пажей, и сам дож танцевал с ней! Но, сказала Бьянка, даже этот наряд не шел ни в какое сравнение с костюмами некоторых других дам.
У нас в Корсоли никогда ничего подобного не было, так что все за столом слушали Бьянку молча, как завороженные, в том числе и Федерико, хотя я видел, что рассказ заставил его ревновать.
Почувствовав это, Бьянка повернулась к нему и сказала:
— Давайте устроим бал!
— Бал? — нахмурился Федерико.
— Вообще-то ты прав. Кто на него придет? Но давай устроим хоть что-нибудь! — Она поправила шарф. — Придумала! Давайте поменяемся ролями!
Тут все заговорили сразу. Когда я был маленьким, отец подкладывал себе груди из соломы и готовил поленту, в то время как мама надевала его штаны и весь день только бранилась и пердела. Витторе смеялся до колик, а я был слишком мал и умолял маму стать самой собой. С тех пор я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь забавлялся таким образом.
Чекки сказал, что однажды он поменялся ролями со слугами.
— Они ели, пили и устроили настоящий бардак, поскольку знали, что мне придется все это убирать.
Алессандро рассказал, что как-то переоделся в девушку и за ним целый день таскался старый священник, предлагая деньги и подарки. Алессандро вытащил из него несколько сотен дукатов и лишь тогда признался, что он на самом деле молодой человек.
Федерико слушал, набивая утробу орешками, облитыми расплавленным сахаром и покрытыми тонким слоем золота.
— А почему бы тебе не попробовать, Федерико? — спросила Бьянка.
— Что попробовать?
— Поменяться с кем-нибудь ролями.
— Герцог не должен принижать свое величие, — сказал Чекки, освобождаясь от чар рассказов.
— Но когда власть имущие меняются ролями со своими подданными, они возбуждают к себе любовь, — заметил Алессандро.
— Нашего герцога и так все любят! — возразил Пьеро. — Герцог Федерико…
— Позвольте мне посоветоваться со звездами! — перебил его Бернардо. — Если они…
— Почему бы и нет? — сказал Федерико, улыбаясь Бьянке во весь рот. — Но с кем мне поменяться?
— Со мной! — рассмеялась Бьянка.
— Ты не моя служанка, — проворковал герцог. — Ты моя радость!
Он окинул зал взглядом. Все смотрели на потолок или на стены, лишь бы не встречаться с ним взглядом.
— А может, с Уго? — предложил Алессандро, ковыряя в зубах золотой зубочисткой.
— С Уго?
— Он преданный и надежный слуга.
— Прекрасный выбор! — подхватила Бьянка.
— Что скажешь, Уго? — спросил Федерико, повернувшись ко мне всей тушей.
Porta! Что я мог сказать? Я думал, что покончил с пародиями на себя, однако Алессандро был прав. Уж если Федерико решил поменяться ролями со слугой, кто более меня доказал ему свою преданность? Поэтому я сказал:
— Почту за честь, ваша светлость.
— Хорошо. Мы устроим этот балаган во время последнего завтрака перед Пасхой. В столовой для слуг. Как следует все подготовьте! — велел Федерико, и Бьянка с восторгом захлопала в ладоши.
— Если ты собираешься поменяться с ним ролями, зачем ждать завтрашнего утра? — спросил Луиджи, когда мы обсуждали это событие на кухне. — Начни прямо сегодня, и тогда ты сможешь провести ночь в его кровати!
— А он пускай поспит в моей, — подхватил я.
— Ему понадобятся две кровати — и твоя, и Миранды, — сказал Луиджи, вызвав своим замечанием взрыв смеха.
— Тогда, — нахмурился Томмазо, — герцог будет спать с Мирандой!
— Конечно. Уго, например, это нравится, — хихикнул один из поварят.
Я схватился за кинжал, но нас растащили.
— Он пошутил! — кричали мне наперебой.
— Неужели они все так думают? — спросил я потом Томмазо.
— У остальных девчонок есть парни, — тщательно взвешивая слова, протянул он в ответ, — а Миранда никого к себе не подпускает, поэтому люди думают, что…
— Это я никого к ней не подпускаю, потому что не хочу, чтобы она связалась с каким-нибудь глупым мальчишкой! — сердито отрезал я.
— Ты спросил — я ответил.
Я так разозлился, что забыл о мысли, которая беспокоила меня наподобие больного зуба. Никак не могу вспомнить: что это было?
Глава 17
Тучи наконец рассеялись, и блеклое солнце встретило Масленицу вместе с нами. Лежа в кровати, я слышал, как в город стекались люди. Из фонтанов уже било красное вино, скоро все начнут пить и куражиться. Мне не хотелось к ним присоединяться. Меня преследовала мысль о том, что придется поменяться ролями с Федерико. Это было задумано как развлечение, хотя больше походило на смертный приговор. Как поступит герцог, если я ему что-нибудь прикажу?
— Нет, — сказал я Томмазо, когда он спросил, пойду ли я на скачки. — У меня боли в животе и разлитие желчи. Мне тошно.
— Да не станет Федерико с тобой меняться! Все это пустая болтовня. Пошли, поставим что-нибудь на лошадок. — Он частил, захлебываясь от возбуждения словами. — Даже если тебя казнят, по крайней мере повеселишься напоследок!
Короче, я дал ему себя уговорить.
Долина, надо думать, совсем опустела, поскольку все улицы были забиты народом. Я не видел земли под ногами. Зеваки высовывались из окон и сидели на крышах. Семьи, которым принадлежали скакуны, маршировали по улицам, распевая песни, трубя в трубы и осыпая друг друга оскорблениями.
К вечеру пошел дождь, булыжник на пьяцца дель Ведура заблестел в мерцании факелов. Когда скакуны промчались мимо нас, толпа взревела так громко, что я забыл все свои тревоги. Деньги я решил оставить до последнего заезда, в котором было меньше участников, зато больше азарта.
В первый раз, когда кони пронеслись по площади, впереди скакал вороной жеребец, а за ним, почти ноздря в ноздрю, серая кобыла. Томмазо поставил на жеребца, я — на серую лошадку. Как только они скрылись из виду, зрители ринулись на другую сторону площади. Мы проталкивались через толпу, пока не услышали крики: «Вот они! Они скачут!» Тогда мы прижались к стенам домов, давая дорогу лошадям.
В третьем круге все еще лидировал вороной жеребец. Томмазо, повернувшись ко мне с сияющим видом, воскликнул:
— Готовь денежки!
Как вдруг жеребец поскользнулся и врезался в толпу напротив, подмяв под себя людей, как травинки. Поднялся ужасный вой. Конь попытался встать, но не смог, поскольку из передней ноги у него торчала сломанная кость. Он упал на спину, и его душераздирающие стоны смешались с жалобными криками людей, которых он придавил. Зрители пинали жеребца, кололи его кинжалами, пытаясь заставить стать, но бедное животное так и осталось лежать, суча в воздухе ногами и глядя белыми от страха глазами прямо на меня. Этот взгляд напомнил мне о собственной беспомощности, и я не мог отвернуться.
Наконец его сдвинули с места, а несчастных, которые опали под коня, отнесли — кого в больницу, кого на кладбище Томмазо пошел на пьяцца Фицци посмотреть, кто же выиграл, а я стоял, завороженно глядя на скакуна и на то, как жизнь уходит из его глаз. Еще не остывшую тушу разрезали на куски и воткнули их на штыки для бедных. За несколько минут жеребец из героя превратился в злодея, а теперь, после смерти, снова стал героем. Неужели меня ждет такая же судьба?
На следующий вечер, перед Великим постом, Чекки дал не старую зеленую мантию Федерико.
— Он хочет, чтобы ты надел ее.
— Я буду выглядеть дураком!
— А как он будет выглядеть в твоей одежде? Откуда тебе знать?
Миранда залезла в мантию вместе со мной, и тем не менее там хватило бы места для еще одного человека. Встав напротив меня, Миранда заявила, что я должен зачесать волосы вперед, как Федерико. Сама она оделась как принцесса, поскольку вдобавок к меховому манто Бьянка подарила ей серебряные сережки. Я не смог сдержать слез гордости. Мне хотелось, чтобы ее увидел весь мир, и в то же время я боялся, что она отдаляется от меня.
— Ты должен ходить вот так! — сказала Миранда, выпятив грудь.
Она шагала по спальне, словно бык с шилом в заднем проходе. Я хохотал от души: хотя Миранда весила в четыре раза меньше Федерико, а ростом едва доставала ему до груди, самую суть она схватила поразительно точно.
— Повтори еще раз! — попросил я. Улыбнувшись, а затем нахмурившись, как герцог, она прошлась по комнате, остановилась передо мной, открыла рот, опустив нижнюю губку на подбородок, и, делая вид, что вытаскивает из штанов член, сказала:
— Попробуй его, Уго!
Смех застрял у меня в горле.
— Что ты сказала?
Миранда покраснела.
— Ничего…
— Кто тебя этому научил?
— Мальчишки, — прошептала она.
— Какие мальчишки? Поварята?
— Поварята. Конюхи. Все мальчишки. Все так говорят! Испугавшись моего гнева, она выбежала из спальни. Но я не рассердился — я почувствовал себя униженным. Неужели все так шутят за моей спиной, когда я прохожу мимо? Неужели для того, чтобы выжить, я обречен терпеть позор и унижение до конца своих дней?
Когда Миранда вернулась, я все еще сидел на кровати. Она встала передо мной на колени, прижалась головой, и мы сидели так, пока тьма не скрыла под своим покрывалом наш позор.
Солнце едва начало подниматься над горизонтом, а столовая для прислуги уже пестрела разноцветными костюмами. Переоделись все — конюхи, камердинеры, белошвейки, секретари и даже писцы. Конюшие вырядились в девичьи платья, прачки надели солдатские мундиры. Самая старая подслеповатая прачка нарисовала себе усы и все время делала вид, что почесывает яйца. Никто не помнил, когда Федерико заходил в столовую для слуг в последний раз. Да что там Федерико! Никто не мог припомнить, чтобы кто-то из герцогской семьи вообще ступал в этот зал.
Стоило мне войти в столовую, как я тут же запутался в фалдах мантии и упал. Все рассмеялись, но ко мне протянулось столько дружеских рук, помогая встать, и я услышал так много ободряющих слов, что, потеряв всякий страх, уселся за длинный стол, где уже сидели Пьеро, Бернардо, Бьянка и прочие. Бьянка оделась как восточная рабыня, ее пышная грудь так и норовила вылезти из лифа.
— Он идет! — сказал Чекки. — Главное, — повернулся он ко мне, — делай все, как он велит.
Через пару секунд в зал, ухмыляясь до ушей, ввалился карлик Эрколь, а за ним — Федерико. Герцог был одет в белую рубашку и красные лосины. Похоже, швеям пришлось сшить вместе три пары штанов, чтобы прикрыть его задницу. Обычно герцог топал так, будто пытался впечатать в пол свои следы, но сегодня он семенил мелкими шажками — в точности как я. Все захлопали в ладоши. Федерико просиял.
— Сядь в его кресло! — шепнула мне Бьянка.
Я этого не ожидал, но поскольку Бьянка энергично закивала головой, я последовал ее совету. Федерико так долго сидел в этом кресле, что оно раздалось под его массивной тушей, и поэтому, сев на него, я съехал в сторону. Все снова рассмеялись. Этот смех опьянил меня, как вино, и придал уверенности в себе.
— Ну же! — приказал Федерико, вставший за моим креслом. — Вели подать еду!
То ли из-за того, как я сидел, то ли из-за мантии (и несомненно, из-за смеха публики), услышав слова герцога, я приподнял левую половину задницы, пукнул, потом рыгнул и громко заявил:
— Пускай этот бобоед подаст мне завтрак!
Чекки начал лихорадочно дергать себя за бороду, Пьеро закрыл рот рукой, а Бьянка со слугами расхохотались, причем самый оглушительный смех раздавался у меня за спиной.
— Бобоед! — воскликнул Федерико. — Бобоед! Луиджи и правда бобоед! — Он вышел вперед и попросил: — Повтори еще раз.
Я откинулся на спинку кресла, пернул, рыгнул и облизнул губы.
— Пускай этот бобоед подаст мне завтрак! Живо! — Я повернулся к Федерико и добавил: — А ты ступай на место!
Не успел я договорить, как в мозгу у меня мелькнула мысль: «Sono fottuto! Я пропал!» Но убей меня Бог, если Федерико не шагнул назад! Зал помирал со смеху, и герцог ничего не имел против. Он думал, что все смеются над тем, как ловко он играет мою роль.
Затрубили трубы, дверь отворилась, и в столовую вошел Луиджи с завтраком. Он поставил на стол поднос со свежими яблоками, чашку поленты с изюмом и запеченные яйца, посыпанные сахаром и корицей. Все сидели и ждали, что я буду делать. Я замер. Боже милостивый! Впервые в жизни передо мной поставили столь изысканные яства! Мне просто хотелось сидеть и смотреть на них. Или же отнести поднос в комнату и смаковать каждый кусочек.
— Ты не попросишь меня попробовать? — прошипел Федерико.
— Конечно, — пробормотал я.
Я окинул столовую взглядом. Миранда сидела на скамейке в передних рядах, за ней — Томмазо, разодетый, как рыцарь. Поварята висели друг у дружки на плечах.
— Где мой дегустатор? — во всеуслышание спросил я.
— Я здесь, ваша светлость! — ответил Федерико, шагнув вперед.
Я не верил своим ушам. Федерико назвал меня «ваша светлость»! Я махнул рукой:
— Сперва яблоко.
Герцог кивнул, взял яблоко, покатал его в ладонях и понюхал. Все притихли. Даже если бы у Федерико выросли крылья и он улетел через окно, мы и то не смогли бы удивиться больше. Он поднял палец, словно проверяя, с какой стороны дует ветер. Я никогда так не делал. | — Блестяще! — громко проговорил Пьеро.
— Да, — подхватил Бернардо. — Герцог так забавно играет!
— Ну? — сказал я.
Он откусил маленький кусочек, сморщил нос, подбоченился и задумчиво уставился в потолок. Теперь я понял, почему Эрколь так ухмыляется. Это он натаскал Федерико. Сначала все захихикали, но герцог слишком затянул паузу, и смех умолк. Я забеспокоился. Если представление не удастся, вполне возможно, что гнев повелителя обрушится на мою голову! Поэтому я сказал:
— Мне расхотелось есть яблоко.
— Полента! — шепнула мне Бьянка, тоже почувствовав, что о яблоках лучше забыть.
— Хочу поленту! — заявил я, подвинув к Федерико чашку.
Герцог вытащил из кармана косточку, разломал ее пополам и поднял, разглядывая на свет. Все снова прыснули со смеху, поскольку помнили историю с моим амулетом. Федерико окунул косточку в чашку, вытащил ее и стал обнюхивать со всех сторон.
— Съешь наконец хоть ложку! — крикнул кто-то.
— Да-да! — подхватили другие. — Не тяни кота за хвост!
— Ну! — рявкнул я. — Чего ты ждешь?
Федерико зачерпнул ложку поленты и медленно поднес ко рту. Потом обвел взглядом публику. Все уставились на него. Он положил ложку и повернулся ко мне:
— Ешь сам!
— Я?
Моя нижняя губа опустилась на подбородок. Зрители засмеялись было, но тут же смолкли.
Глаза Федерико превратились в маленькие черные точки. Oi me! Он думал, что полента отравлена! Теперь я вспомнил, что за мысль не давала мне покоя. Все сходилось, как дважды два. Устроить весь этот спектакль предложила Бьянка, а Алессандро подал идею, чтобы Федерико поменялся ролями именно со мной. Миранда видела их вместе в апартаментах Бьянки, к тому же оба они были из Венеции. Боже милостивый! Как я мог быть таким глупцом!
— Давай! — приказал Федерико, выйдя из образа. — Ешь!
— Сию минуту, — ответил я.
В голове у меня теснилась тысяча мыслей. Если я скажу, что полента отравлена, Федерико захочет узнать, почему я молчал. Он решит, что я тоже участвовал в заговоре, и заставит меня съесть всю чашку. Я поднес желтую дымящуюся кашу с изюмом к губам и воскликнул:
— Там семь изюмин, Луиджи! Сколько можно тебе повторять? Я ненавижу это число!
Схватив чашку, я швырнул ее в камин и разбил на мелкие кусочки. Пламя вспыхнуло и зашипело, как спящий кот, которому наступили на хвост.
Никто не смеялся. Наступило гробовое молчание. Федерико сощурил глаза, откуда-то тут же появились охранники. Они схватили меня за шею и плечи и ткнули лицом в стол. Герцог приподнял мою голову рукой. Во второй у него был кинжал. Жизнь моя повисла на волоске. Я увидел коренастое туловище Эрколя, стоявшего на скамейке. Не знаю, может, у меня начались галлюцинации, но мне показалось, что его окружало сияние. В тот миг я понял, что Бог — везде. Не только в прекрасном и хорошем, но также в уродливом и злом. Ибо нынешнее несчастье приключилось со мной из-за того, что я посмеялся над Эрколем несколько месяцев назад, когда Федерико бросил в него подносом. А поскольку карлик такого подстроить не мог, значит, это дело рук Всевышнего.
Мысленно моля у Бога прощения, я краем глаза глянул на Бьянку. Она побелела, как снег. Я понял, что был прав.
— Ваша светлость… — выдохнул я.
— Федерико! — взвизгнула Бьянка. — Он сделал это в точности как ты! Ну абсолютно точно! — Она положила ладонь на руку Федерико, сжимавшую кинжал. — Не кипятись, дорогой! Он же просто шут! — И добавила, повернувшись к Луиджи: — Принеси герцогу Федерико одежду и чашку поленты, да изюму не жалей! Мы поедим в его спальне.
Публика захлопала в ладоши. Федерико отпустил мою шею, я быстренько отпрянул назад. «Potta! — подумал я, когда они вышли из зала. — Бьянка — вот кто здесь настоящий хозяин!»
После того как герцог с любовницей ушли, все столпились вокруг меня, наперебой твердя о том, что Бьянка спасла мне жизнь. Миранда и та им вторила. Когда мне стало невмоготу, я удрал от них и пошел на холм, где любила отдыхать Агнес, чтобы побыть одному. В замок я вернулся только к вечеру и сразу направился в столовую за остатками поленты, которую швырнул в камин.
Увы, она пропала, и все черепки от чашки тоже испарились без следа. Я начал расспрашивать мальчишек, кто там прибрался, но они все как один отнекивались, не желая неприятностей на свою голову. Однако стоило мне сказать, что я дам десять дукатов тому, кто это сделал, как они хором заорали: «Я! Я!»
Вечером того же дня паренек года на два моложе Миранды пожаловался на жуткие спазмы в животе. Я побежал к его кровати. Он весь вспотел и так орал от боли, что совершенно охрип.
— Прикидывается! — сказал Луиджи. — Они все отлынивают от работы.
Мальчик держался рукой за живот. Глаза у него ввалились, в них плескался ужас.
— Смерть ждет меня у дверей, — прошептал он. — Велите ей уйти!
Я дал ему выпить оливкового масла… Слишком поздно. Яд уже проник в кровь, и после того как его вырвало, парнишку покинули последние силы.
— Это ты выбросил черепки от чашки? — спросил я.
Он кивнул.
— А каша? Ты ее пробовал?
Бедняга хотел было ответить, но тут по телу его, вонзаясь когтями в каждую клеточку, пробежала волна нестерпимой боли и навеки отшибла ему память.
Я подкараулил Бьянку за дверью собора и, когда она вошла, поблагодарил ее за то, что она спасла меня от гнева Федерико.
— Не благодари меня. Скажи спасибо Господу за свое везение.
— А ты поблагодаришь его за свое?
— Я всегда так делаю, — улыбнулась она.
Странно, однако больше я не боялся ни Бьянки, ни Алессандро. Вскоре Алессандро уехал в Германию, где и погиб в уличной стычке. Я не винил Федерико, поскольку он был прав, хотя и сам не знал об этом. А сказать я ему не мог, поскольку иначе подставил бы и себя, и его любовницу. Меня еще долго мучили воспоминания, но не о заговоре или моей собственной сообразительности, а об ужасном лице умирающего мальчика, которое я видел всякий раз, когда закрывал глаза.
После карнавала Бьянка больше не развлекала Миранду, заявив, что научила ее всему, что знала. Теперь, когда Миранда играла на арфе, мне приходилось изображать герцога и, хлопая в ладоши, кричать: «Brava!»
Она училась ходить и сидеть так, как показал ей Алессандро. Она училась целоваться на своей кукле Феличите. Она писала стихи таким же аккуратным почерком, как у Чекки.
— Попробуй! — сказала она, сунув мне в руку перо, то самое, которым я пишу сейчас.
— Но у меня крестьянские руки!
— Мои тоже были такими.
Я попробовал, чтобы доставить ей удовольствие, и к концу недели уже мог написать буквы А и В не хуже любого писца. Потом я выучил другие буквы и вскоре научился писать свое имя. Я так часто его слышал, что мне захотелось посмотреть, как оно выглядит. И так вошел во вкус, что до сих пор не могу остановиться…
— Вот здорово, папа! — воскликнула Миранда. — Теперь ты будешь не только дегустатором, но и писцом.
Скажи она мне это раньше, меня задели бы ее слова. Но не теперь. Моя работа уже дважды чуть было не стоила мне жизни, а поскольку Миранда хорошела с каждым днем, то заслуживала настоящего жениха и хорошего приданого. Порой, когда я смотрел на нее, в голову лезли такие мысли, что мне приходилось их прогонять. С Томмазо творилось то же самое.
Как-то раз мы вместе пошли помочиться и увидели внизу во дворе Миранду, которая шла, помахивая конским хвостиком, завязанным на голове.
— Через два года ей стукнет пятнадцать, и тогда… — Томмазо ухмыльнулся и помахал в воздухе пенисом.
— Может быть, — обронил я.
— Что это значит?
— То, что я сказал.
— Тому, кто не держит слова, башку могут раскроить!
— Тогда присматривай за своей головой, потому что меня чуть не отравили.
На дворе поднялся крик.
— Отравили! Да никто никого не собирался травить! Это все Федерико. Сам знаешь, какой он.
— А как же поваренок? Ты обещал, что будешь моими ушами и глазами на кухне.
— Я и был! А кто скажет, что не был, тот лжец!
— Это ты лжец, — спокойно проговорил я. — Потому что тебя там не было. Ты наряжался в своей комнате. Луиджи велел всем надеть костюмы, так что на кухню мог проскользнуть кто угодно.
Шум во дворе стал громче. Внизу, в городе, люди бегали взад-вперед. Один из поварят помчался к нам.
— Ты просто хочешь расторгнуть наше соглашение! — воскликнул Томмазо, вытаскивая кинжал.
Я выхватил из ножен свой.
— Ты сам его нарушил. Я устал от твоего вранья и хвастовства!
Мальчишка, запыхавшись, подбежал к нам поближе.
— Чума! В городе чума!
Глава 18
Чума уже свирепствовала в Генуе, Милане, Парме и Болонье. Неделю назад первые вспышки были зарегистрированы в Ареццо. Ворота Корсоли закрыли, но что для чумы ворота? Через несколько дней после нашей ссоры с Томмазо торговец отвез в больницу своего слугу с опухолями в паху и под мышками. Наутро он умер. К концу недели погибло еще трое человек. Сначала каждого усопшего хоронили, затем могильщик тоже скончался, и хоронить трупы, кучами валившиеся на улицах, стало некому. Погода стояла безветренная, так что смрад разложения медленно поднимался вверх, пока не достиг дворца. Двое поварят заразились. Младший сын Федерико Джулио погиб, но второй, Рафаэлло, выжил. Жена Бернардо умерла, причем он не пролил по ней ни слезинки. Пьеро делал что мог, бегая от одной семьи к другой, однако, когда его старший сын скончался, наш лекарь так погрузился в свое горе, что больше никого не лечил.
Подруга Миранды Джулия, младшая дочь Чекки, тоже умерла. Миранда горько рыдала, но еще больше ее напугала мать Джулии, которая бегала по коридорам и орала как резаная. Высокая, худая женщина, до тех пор молчаливая и спокойная, поседела за одну ночь и все время говорила о своей погибшей дочери. Когда кто-нибудь, даже Чекки, приближался к ней, она пронзительно вскрикивала — и через неделю отдала Богу душу.
Мы были совершенно беспомощны. Чума — не враг, с которым можно сразиться или сбежать от него. Да и куда бежать? Корсоли находился на самом высоком месте в долине.
— Я боюсь, — прошептала Миранда, натягивая на себя одеяло.
Она проснулась среди ночи, сорвала с себя рубашку и стала выискивать у себя на теле опухоли. Страх оказался сильнее скромности. Она заставила меня осмотреть ее подмышки, спину и ягодицы. Ей почудилось, что она заметила пятна между бедрами, и мне пришлось раздвинуть мягкие волосы и показать, что там ничего нет. После этого она свернулась калачиком и зарыдала. Я уверял, что ей нечего бояться, но, если честно, сам был напуган не меньше и, когда она уснула, снял с себя лосины и тщательно обследовал свой пах.
Как только у кого-нибудь из горожан вздувалась шишка, его тут же выкидывали за дверь и оставляли на произвол судьбы. Зачастую эти несчастные погибали с голоду. Дома, которые посетила чума, заколачивали, а жильцов, даже здоровых, не выпускали наружу. Рынки закрыли, праздник в честь святого Джованни отменили. Епископ с группой мальчиков освятил поля, помахав над ними горящим факелом, но пронести по улицам бюст святого, как обычно, побоялся.
Мальчишки считали, что чуму разносят коты и собаки, а потому повыловили их и сожгли. Мужья бросали жен, матери — детей. Плач брошенных младенцев вздымался к ночному небу и парил над дворцом, не давая нам забыть об их страданиях.
На третью неделю умерли двое детей из класса, в котором училась Миранда. Епископ сказал, что во всем виноваты наши грехи и мы должны очиститься посредством поста. Затем он выпустил указ, запрещающий богохульство, игры, содомию и проституцию — короче, то, что Федерико любил больше всего. Герцог ничего не сказал, поскольку тоже трясся от страха. Как-то лунной ночью дети Корсоли прошли по улицам с иконами Богоматери и святого Себастьяна. В этой процессии хотели участвовать все, даже самые маленькие и больные. Некоторые скончались прямо во время марша. Каждый день мы собирались в соборе, взывая: «Misericordia! Misericordia!» [40] и умоляя Господа о прощении.
Женщины хлестали себя по спинам до крови. Но ничего не помогало. Мор не прекращался. Ноздри мои были постоянно забиты смрадом тления, а в ушах вечно раздавались вопли живых.
Через две недели после первой проповеди скончался епископ. Страх перед чумой губил людей не меньше, чем сама болезнь. Слуга, хозяин которого клялся, что тот абсолютно здоров, настолько перепугался, что сиганул в колодец. Миранда днями напролет сидела, забившись в угол спальни и ломая руки. Она сгрызла ногти до мяса и расцарапала кожу на бедрах и под мышками до крови. Я боялся, как бы она не лишилась рассудка, и хотя моя мать погибла от чумы в деревне, мне казалось, что Миранде будет там безопаснее, чем во дворце.
— Ты можешь пожить у моего отца. Ты его внучка. Он позаботится о тебе.
— А разве ты со мной не поедешь?
— Нет, Федерико меня не отпустит.
Чекки сказал мне, что герцог каждый день спрашивал о моем здоровье и наотрез отказывался принимать без меня пищу. Я почувствовал прилив гордости. Герцог Федерико Басильоне ди Винчелли нуждался во мне! Он не мог без меня есть. Он не мог жить без меня!
— Я же твоя дочь! — заплакала Миранда.
Я поспрашивал придворных, однако они были настолько озабочены спасением собственной шкуры, что мне все стало ясно без слов. Клянусь, я предпочел бы дать себе выцарапать глаза ногтями — но пришлось обратиться к Томмазо.
Томмазо готовил вишневый торт. Хотя он работал на кухне недолго, руки его уже носили на себе отпечаток новой профессии — и порезы, и ожоги. Пальцы у Томмазо были не такие тонкие и красивые, как у Миранды, однако очень ловкие, и я невольно залюбовался тем, как они порхают над кастрюлями и сковородками, словно птица, вьющая гнездо.
Он смешал чашку измельченной вишни с розовыми лепестками, добавил мелко наструганного сыра, щепотку перца, немного имбиря, сахара и четыре яйца и перемешал. Потом, осторожно вылив массу на сдобу, поставил сковородку на маленький огонь. Я вспомнил, как он сказал, когда лепил снежного волка, что хочет быть скульптором, и произнес:
— Ты уже стал им.
— Кем?
Он повернулся ко мне. Щеки у него запали, глаза погрустнели, в них затаилась боль.
— Скульптором. Ты говорил, что хочешь быть скульптором. Вот ты им и стал, только вместо мрамора используешь продукты.
Томмазо отвернулся к сковороде.
— Чего тебе? Я занят.
— С Мирандой плохо.
Томмазо бросил на меня молниеносный взгляд.
— Нет, она не больна, — добавил я быстро. — Но она сойдет с ума, если останется здесь. Я хочу отправить ее к моему отцу в деревню. Он живет в ди Фонте, там, за рекой.
— А я-то тут при чем?
— Она не может ехать одна, а Федерико меня с ней не отпустит. — Я сделал глубокий вдох. — Я хочу, чтобы ты отвез ее. Больше я никому не доверяю. Да, у нас были с тобой разногласия, но я умоляю: забудь о них — не ради меня, а ради Миранды. Если ты ее любишь, ты выполнишь мою просьбу.
Он хмыкнул. Томмазо в последнее время часто хмыкал, очевидно, полагая, что это придает ему более мужественный вид. Мимо пробежала крыса. Он швырнул в нее горшком, тот попал крысе в голову и оглушил ее.
— Значит, наше соглашение снова в силе? — Томмазо добил крысу и выкинул во двор.
— Да.
— Я хочу иметь его в письменном виде.
— Ты его получишь.
— До нашего отъезда.
— До вашего отъезда.
Томмазо снял передник.
— А тебе не нагорит от Федерико? — спросил я.
— С какой стати?
— Ты же его соглядатай. Я видел тебя в дверях после убийства Пии и Эмилии.
— Я этим больше не занимаюсь. Теперь у меня есть другая работа, — ответил он, показав на кухню.
Септивий написал соглашение, подписался за Томмазо, а потом я поставил свою подпись. Я сложил вещи Миранды в узелок, Томмазо принес продукты, и мы встретились утром у конюшни. Мне пришлось подкупить одного из конюхов, чтобы тот дал нам лошадь.
— Томмазо позаботится о тебе, — сказал я Миранде, когда она села на коня.
— Я жизнь за нее отдам! — воскликнул Томмазо, усевшись позади Миранды.
Он обнажил шпагу и взял в руки поводья. Меня кольнула ревность, и я снова пожалел, что не мог поехать вместо него. Сбежать подальше от Корсоли, подальше от чумы…
— С Богом, — сказал я.
Миранда не смотрела на меня. Томмазо вонзил шпоры в конские бока, и лошадь затрусила к воротам. Я трусил рядом, вцепившись в ступню Миранды.
— Храни вас Господь! Да обратит Он к вам лице свое, да будет Он милостив к вам! Да прольет Он на вас благодать!
Дочь по-прежнему не смотрела на меня.
— Миранда! — крикнул я. — Скажи мне что-нибудь! Возможно, мы никогда не увидимся больше!
Она глянула на меня сверху вниз и бросила:
— Позаботься как следует о Федерико!
А потом вонзила шпоры, и конь поскакал за ворота, вниз по Лестнице Плача, в Корсоли.
Я провожал их взглядом, пока они ехали по улицам, мимо трупов мужчин и женщин, сваленных в кучи детских тел. Затем лошадь скрылась за городскими воротами. Я вдруг подумал, что у отца может быть Витторе, и у меня похолодело в груди. Мне хотелось броситься за ними и вернуть их, однако тут я услышал стоны из дворца и обрадовался, что моя дочь уехала.
В ту ночь мне приснилось, что Томмазо изнасиловал Миранду, и я вскочил с постели с криком:
— Убью!
Разбуженный моим воплем, кто-то постучал в дверь, но так и не вошел, опасаясь, что я заболел.
Чекки узнал от знакомых из Флоренции, что запах трав, таких как фенхель, мята и базилик, а также пряностей — кардамона, корицы, шафрана, гвоздики, аниса и мускатного ореха — препятствует отравляющим запахам проникать в мозг. На следующий день весь огород Эмилии был опустошен подчистую. Да что там огород — даже склон холма за замком оголился! Все пряности с кухни исчезли. И ничего не помогло. Потеро, виночерпий Федерико, намазался пряностями с головы до ног и умер в тот же день.
Настало лето, а с ним — жара. Собаки воевали со слугами за тенистый уголок. Федерико с Бьянкой редко покидали свои покои, и мне приходилось пробовать еду в то время, как герцог наблюдал за мной сквозь щелку двери.
— Ты все еще здоров? — спрашивал он.
— Да, ваша светлость. Я чувствую себя отлично.
— Я и мой дегустатор, — пробурчал он как-то в ответ.
В другой раз он распахнул дверь, и я смог увидеть всю спальню. Бьянка стояла на кровати голышом, на коленях, подняв кверху задницу и опустив голову. На лице у нее была маска, она тихо плакала. Федерико было все равно, вижу я их или нет. Он просто хотел убедиться, что я не заболел.
В один прекрасный день Септивий появился в зале с мешочком на шее, в котором был змеиный яд. Он прочел в «Декамероне», что такие мешочки носили раньше, чтобы уберечься от чумы, пошел в лес и убил змею. Септивий предложил мешочки со змеиным ядом всем желающим. Старики и больные купили их, но остальные сами пошли в лес охотиться на змей. Некоторых покусали, в том числе старшего сына герцога, Рафаэлло, один человек погиб в драке за змею, у которой, как выяснилось, вовсе не было яда. А потом Септивия обвинили в том, что он положил в мешочки простую мазь, чтобы сшибить деньгу.
Ночью слуги сбегали из замка в деревню, но через несколько дней возвращались, говоря, что повсюду видели только страдания и что настал конец света. Я молил Бога, чтобы он простил мои грехи, а если не может, то пусть хотя бы не мстит за меня Миранде. Зачем я утруждался — не знаю! Господу было все равно, молились ему или нет. Дети мерли как мухи, а ведь они даже не успели познать грех. Как может милосердный Бог отнимать у матери детей?
Как-то вечером Федерико велел нам всем прийти в главный зал. Мы ошалели от страха, боялись собственной тени, боялись самих себя.
— Я никогда не выигрывал битву, когда боялся, — заявил нам Федерико. — Мы слишком долго прятались по углам, и если мне суждено умереть, я хочу сделать это стоя!
Он велел подать еду и самые лучшие вина, позвал из города шлюх. Конюхи по его приказанию размалевали себе лица, Эрколь превзошел самого себя, показывая свои фокусы и трюки, а музыканты должны были барабанить и трубить в трубы во всю мочь. Мы веселились так, словно герцог даровал нам спасение — ели и пили, сколько могли, а потом снова пили сверх мочи. Септивий вскочил на стол и прочел непристойные стишки Аретино. Федерико рассказывал скабрезные анекдоты, а Бьянка исполнила безумный танец, которому научилась в Турции. В зал принесли карнавальные маски. Я надел бычью голову. Когда Бернардо тайком улизнул вместе со шлюхой, мы открыли дверь настежь и громогласно пожелали им удачи.
Настала ночь. Скинув со стола подносы, мы стали трахаться на столах. Скоро мы так опьянели, что мужчины совокуплялись с мужчинами, женщины — с женщинами, и все мы рычали, как дикие звери. Двое мальчишек опустились на колени перед Федерико. Опьяненный вином и желанием, я схватил женщину с большими грудями в маске ястреба и поволок ее в пустую комнату.
— Уго! — рассмеялась Бьянка.
Федерико был в соседнем помещении, но меня это не волновало. Бьянка распростерлась на кровати и раздвинула ноги.
— Попробуй меня! — крикнула она, и когда я замешкался, добавила со смехом: — Я не отравлена!
Я был прав. Она действительно пыталась убить Федерико. Но мне нравилось ее бесстрашие.
— Мне всегда хотелось трахнуться с тобой, — сказала она.
У нее были полные губы — как спелые вишни, и когда мы поцеловались, я присосался к ним. Бьянка целовала мое лицо, а потом расстегнула мою рубашку и стала лизать мне тело. Я, в свою очередь, расстегнул ей лиф. Ее большие груди вывалились наружу, и я уткнулся в них лицом. Час проходил за часом, день за днем. В коридорах гнили трупы, в то время как наши плотские утехи становились все яростнее и яростнее, словно это могло помочь нам победить саму Смерть. Проститутки принесли с собой деревянные пенисы и показывали, как монашки удовлетворяют себя. Я хотел взять Бьянку в задний проход, но она взмолилась:
— Нет, прошу тебя! Федерико заставляет меня делать это, но я не люблю!
Из главного зала раздались громкие крики. Я выбежал из комнаты и увидел раскрашенных мальчишек, врассыпную бегущих по коридорам. Столы в зале были перевернуты, собаки жадно поглощали еду. На полу лежал окровавленный мальчик со шпагой в животе. Федерико тоже сидел на полу, обливаясь потом. Одежда на нем была порвана и смята, толстый белый живот вывалился наружу.
— Моча! — процедил он сквозь зубы. — Мы должны пить мочу. Это спасет нас!
Немногие оставшиеся в зале переглянулись и засмеялись. Федерико перелез через стол, опрокинул миску с едой, вытащил свою большую толстую змею и помочился в чашку темно-желтой струей. А потом протянул миску мне.
— Попробуй! — велел он.
— Но вы только что пописали! — рассмеялся я. — Что может быть плохого в вашей моче?
— Ты дегустатор! Так попробуй ее!
— Почему бы вам не выпить мочу Бьянки, мой герцог? А она пусть попробует вашу!
Федерико вытащил шпагу из трупа мальчика. С нее капала кровь и падали ошметки кишок.
— Ты забыл, кто я такой? — спросил он.
Я и правда забыл. В безумии, охватившем нас, я более не воспринимал его как нашего повелителя — скорее как очередную жертву, доведенную страхом до безумия. Я поднял чашку и посмотрел на темно-желтую жидкость. В ноздри мне ударил едкий смрад. Я сказал себе: «Ты должен отпить только маленький глоточек!» А поскольку я приучил себя пробовать все подряд, что в этом страшного, если подумать? Я поднес миску к губам, но они не открывались.
Как только мы не обманываем себя! Два года я верил, что вкус еды ничего для меня не значит, хотя и мог назвать все ингредиенты. Но если это правда, почему я не мог выпить мочу? Шпага Федерико уткнулась мне в ребра. Жирная капля его мочи осела у меня на губах. Мне хотелось быстренько проглотить ее, но, оказавшись у меня во рту, жидкость, как капризный ребенок, разлилась повсюду — между зубов, по языку и по всему нёбу. Меня чуть не стошнило, однако кончик шпаги Федерико пронзил мою кожу, и по животу заструилась кровь. Я закрыл рот и почувствовал, как моча обожгла мне язык, прокладывая путь к желудку.
— Посмотрите на него! — засмеялся Федерико. — Глотай! Potta!
Вот сволочь! Он знал, что его моча не отравлена. Я подумал: «Если мне суждено умереть, я плюну ему в лицо!»
Я приготовился сглотнуть — и тут нас всех отвлек душераздирающий крик. Дверь распахнулась, стукнувшись о стену. В дверном проеме стояла Бьянка. На ней не было маски. На ней не было ничего.
Я подумал, что она решила признаться Федерико, что мы с ней трахались, и чуть было не убежал, но что-то меня остановило. Нет, не ее полные груди с большими розовыми сосками, вкус которых я до сих пор чувствовал во рту. И не ее круглый живот, или мясистые ляжки, или изящные ступни. А также не ее переполненные страхом глаза, и не рот, открывшийся для мучительного крика, готового вырваться из горла. И не волосы, разметавшиеся вокруг головы, как на картинах с изображением Медузы Горгоны.
Все дело было в родимом пятне на ее лбу. Оно походило на громадную зрелую сливу — такое огромное и отнюдь не безобразное, так что зря она прятала его от нас все это время…
— Посмотрите! — взвизгнула Бьянка.
Она показывала правой рукой на свой пах, где среди светлых волос угнездилась громадная черная шишка. Бьянка подняла одну руку, потом другую, и под мышками у нее оказалось еще две опухоли размером с яйцо. Клянусь, если бы я этого не видел, я не стал бы писать, но прямо на наших глазах на теле ее взбухло еще несколько шишек! На бедрах, щиколотках, животе… Злой дух отложил в ней свои яйца, и теперь из них вылуплялись цыплята. Мы отпрянули в страхе. Бьянка открыла рот и крикнула полузадушенным голосом, словно кто-то сдавил ей горло:
— Помогите!
Федерико шагнул к ней — чтобы обнять и утешить, как я думал. Вместо этого он вонзил ей в сердце шпагу. Она пошатнулась от удара и упала на пол. Герцог закрыл дверь, склонился над трупом и зарыдал.
Мы на цыпочках вышли из зала и разбежались кто куда. Я никогда больше не видел Бьянку. И не хотел видеть. Меня охватил ужас: ведь пока я занимался с ней любовью, я тоже мог подцепить заразу! И только гораздо позже до меня дошло, что я таки проглотил мочу Федерико.
Глава 19
Смерть в городе поумерила свою жатву, и, не заболев в течение двух недель, я перестал беспокоиться, что умру. Чума исчерпала свои силы. Федерико, Пьеро, Бернардо, а также Чекки со своим фенхелем и сын герцога Рафаэлло благополучно пережили эпидемию, если не считать того, что герцогский сынок повредился в уме и за ним приходилось присматривать день и ночь. Почти половина жителей Корсоли погибла, а во дворце — больше половины слуг. Я боялся, что никогда больше не увижу Миранду, и уже начал подумывать о том, чтобы поехать к отцу, как вдруг во двор вошел Томмазо, ведя в поводу хромую лошадь, на которой сидела Миранда.
Я подбежал к ней, но Томмазо, правую щеку которого пересек глубокий шрам, не подпустил меня к ней, пока бережно не снял с коня. Я покрыл ее лицо поцелуями и сказал, как сильно тосковал по ней. Потом я обнял Томмазо, как родного сына после долгой разлуки, и поблагодарил его за то, что он вернул мне Миранду целой и невредимой. Он слушал, не сводя с Миранды нежного взгляда, и я понял, что между ними что-то произошло. Я отвел Миранду в нашу комнату, где приготовил ей ванну, масла и духи, чтобы она могла освежиться.
— У тебя есть ширма? — спросила она.
— Ширма? А что?
У нас не было ширмы, и мы в ней не нуждались даже тогда, когда у Миранды начинались месячные. Бернардо тоже видел свою дочь обнаженной, а ей было семнадцать!
— Пожалуйста, принеси, — сказала она.
Я одолжил ширму у Чекки и, пока Миранда мылась, рассказал ей о бедах, которые постигли дворец в ее отсутствие. Она слушала меня молча, только раз прервала мое повествование, спросив о своих подругах. Я сказал, что некоторые из них умерли, и Бьянка тоже, однако в подробности вдаваться не стал. Миранда тихо заплакала. Мне хотелось утешить ее, по я остался сидеть за ширмой. Рыдания Миранды прорвали во мне плотину, и я тоже заплакал. Смерть стала такой привычной, что мне казалось, у меня не осталось больше слез. Но теперь мы сидели, разделенные ширмой, и оплакивали все, что нам пришлось пережить — и всех, кого пережили.
В конце концов Миранда вышла ко мне. Ее темные волосы нежно покоились на плечах. Глаза стали старше, губы — полнее, тело — более сформировавшимся. Короче говоря, даже если она не была еще настоящей женщиной, то девушкой уже тоже не была. Я спросил, видела ли она моего отца. Она покачала головой, стряхнув на плечи капли воды, как солнечные зайчики.
— Он ушел из деревни вместе с соседями. — Она брезгливо сморщила носик. — Мы не смогли жить в его доме. Это настоящий гадючник!
— Вы остановились у аббата Тотторини? Миранда хмыкнула — в точности как Томмазо.
— У этой жирной свиньи? Если все священники похожи на него, мне жаль Господа Бога!
— Господь благ вопреки людям, а не благодаря им. Миранда уставилась в зеркальце, разглядывая свои волосы, глаза, рот — сначала с одной стороны, потом с другой.
— Мы попросили только немного хлеба и сыра, но когда мы сказали, что приехали из Корсоли, он захлопнул перед нами дверь.
— Вот сволочь! — воскликнул я. Миранда начала причесывать волосы.
— Поэтому мы поехали дальше.
— В Губбио?
Она пожала плечами.
— Наверное. Мы просто скакали. — Она посмотрела на свои ступни. На левой краснел широкий шрам. — Мне на ногу упала горящая щепка. Чума была повсюду, babbo. Трупы валялись на полях, на дорогах, в домах. Я видела мужчину и женщину, которые повесились и повесили своего ребенка. Птицы выклевали им глаза. — Миранда перестала причесываться, словно все эти картины вдруг всплыли у нее перед глазами. — Я и представить себе не могла, что столько людей могут умереть в один момент.
У нее задрожали губы. Все ее тело затряслось, как в припадке падучей.
— В чем дело?
— А потом… потом…
Я бухнулся перед ней на колени и схватил за руки.
— Двое подонков, — прошептала она, давясь слезами. Я огладил ее по голове и прижал к себе. Она наконец разрыдалась. — Двое подонков… изнасиловали меня.
Сердце мое разорвалось пополам.
— Моя Миранда! Ангел мой! Ангел мой! — Я покачивал ее в объятиях взад и вперед. — Но где же был Томмазо?
— Они чуть не убили его! Если бы не он, я бы погибла!
Она снова захлебнулась слезами. Я больше не стал расспрашивать ее. Слезы обжигали мне лицо и сердце, которое жаждало узнать все подробности и в то же время не хотело их слышать. В конце концов Миранда заговорила снова.
— Томмазо сказал им, что везет меня умирать в отцовский дом.
— Где это случилось? В долине?
Миранда нахмурилась.
— В конце долины или на пути к Губбио?
— На дороге от дома, — раздраженно сказала Миранда. — Да какая разница?
Я пообещал, что больше не буду ее прерывать.
— Томмазо сказал им, что у меня чума и что он сопровождает меня в дом отца, где я смогу спокойно умереть, повторила она. — Они ему не поверили и велели мне показать мои подмышки и бедра. Я сказала, что даже во время .умы не следует забывать об уважении к дамам. Тогда они заявили, что чума не разбирает, кто дама, а кто нет, и они тоже. А если, мол, я не покажу им бубонные шишки, они ами на них посмотрят. Один из них напал на Томмазо, а ругой…
Миранда осеклась и прижалась лицом к моей груди.
— Томмазо убил нападавшего и набросился на моего обидчика, но тот уже успел…
Остальные слова потонули в рыданиях.
Я молчал. Что тут скажешь? Я сам послал ее в деревню.
— Mi displace, mi displace [41], — шептал я.
Меня переполняла слепая ярость. Мне хотелось повесить негодяев, вырвать им глаза, отрезать члены и яйца и зажарить их на вертеле! Я боялся слушать дальше, но мне необходимо было знать все.
— Ты… беременна?
— Не знаю, — прошептала она.
— Мой ангел, моя Миранда! Я позабочусь о тебе. — Я помолчал немного и потом спросил: — Что было дальше?
— Мы нашли хибарку. Похожую на ту, в которой мы жили. Помнишь? — Ее лицо просветлело. — Томмазо ничего не мог делать из-за ран. Я боялась, как бы он не умер, и промывала ему раны мочой.
Я постарался не представлять себе, как это было.
— Что вы ели?
— Там было много фруктов — яблоки, персики, гранаты. Их никто не собирал. Клянусь, я не съем больше ни одного граната до конца своих дней! — засмеялась она. — Я сварила поленту, а Томмазо убил свинью.
— Значит, он был не так уж сильно ранен?
— Нет, просто в конце концов ему полегчало. Он так здорово готовит, babbo! Когда-нибудь он станет шеф-поваром. Он уже сейчас лучше Луиджи, ей-богу!
Она рассказала, как они три дня ели свинью, как Томмазо нарезал кусочки ветчины и засолил их — и даже приготовил колбасу.
— У него золотые руки, babbo. Ты когда-нибудь присматривался к ним? Они такие маленькие на вид, да и пальцы у него короткие, хотя сам он высокий и тонкий. Но руки у него сильные. Он может раздавить пальцами орех!
— Е vero?
— Да, правда!
Томмазо убил также цыпленка и белку, развел костер, ощипал гуся и починил часть хибары. Удивительно, что он не сумел вызвать дождь!
Миранда сложила вместе ладони, внимательно глядя на свои длинные тонкие пальцы.
— У меня слишком большие руки. Ладошки у женщины должны быть маленькие!
— У тебя руки и пальцы художника.
— Но у Томмазо они нежнее.
Она встала и скрылась за ширмой, чтобы одеться. Я не смог сдержаться:
— Где вы спали?
— В хибарке.
— Вы спали… — Я не смог закончить вопрос.
— Нет, конечно, babbo! Томмазо сказал, что не может обмануть твое доверие. — Миранда вышла из-за ширмы и положила руку на сердце. — Клянусь всеми святыми!
И в тот же миг я понял абсолютно точно, что она лжет. Я встал.
— Куда ты? — спросила она с тревогой.
Я не ответил.
Она схватила меня за руку.
— Ты мне не веришь?
— Верю.
— Если ты хоть пальцем тронешь Томмазо, я убью себя, babbo!
— С какой стати мне его трогать?
Ее глаза наполнились слезами.
— Я люблю его, babbo. Я люблю его.
— Знаю. А теперь поешь и поспи. И никому не рассказывай об изнасиловании, Миранда!
Томмазо лежал на своем тюфяке. Из-за шрама на правой щеке он казался старше, а поскольку волосы у него стали еще длиннее и курчавее, он выглядел как апостол Петр на картине в соборе Святой Екатерины.
— Хочу поблагодарить тебя за то, что ты спас Миранде жизнь.
— Ты просил меня позаботиться о ней, и я выполнил твою просьбу. Так что ты ничего мне не должен. Niente.
— Niente? — улыбнулся я. — Томмазо, которого я знал раньше, кричал бы об этом с крыш. — Мне хотелось добавить: «Потому что ты ни разу в жизни не побеждал в драке!» — Как это случилось?
Он пожал плечами.
— Мы столкнулись с этими типами на дороге. Я велел им пропустить нас, поскольку у Миранды чума, но они захотели увидеть ее шишки. Я сказал: «Нет!» Я сказал, что даму… даму…
— Надо уважать.
— Да-да, вот именно. Но эти сволочи заявили, что, если она не покажет шишки сама, они ее заставят. Поэтому я набросился на них.
— Храбрый поступок.
— К сожалению, пока я дрался с одним, другой надругался над Мирандой. — Томмазо замялся, а потом добавил, словно боясь забыть, что он должен сказать: — Я убил первого и прогнал второго.
— Миранда сказала, что второго ты тоже убил.
— Нет. Может быть… Я не помню. — Он нахмурился и отвернулся. Врать он не умел совершенно! — Они меня ранили. Мне еще повезло, что я остался в живых.
— Понятно.
Я смотрел на его шрам. Он был не таким глубоким, как выглядел на первый взгляд. Ей-богу, казалось, что кто-то осторожно нанес его так, чтобы не причинить сильной боли.
— А потом вы нашли лачугу.
— Раз Миранда тебе все рассказала, зачем ты меня допрашиваешь?
— Она сказала, что ты чудесно готовишь.
Томмазо смахнул со лба волосы и надул щеки. Он так легко поддавался на лесть!
— Я поймал свинью, если ты об этом. И зажарил ее с травами и грибами. А ночью мы молились Богу. Мы и за тебя молились тоже, — сказал он искренне.
— За меня? Почему?
— Потому что Миранда скучала по тебе. Мы знали, что в Корсоли люди мрут, как мухи, и что ты должен заботиться о Федерико. Она беспокоилась о тебе.
— А чем еще вы занимались?
— Пели песни. Танцевали… — Томмазо осекся, охваченный нахлынувшими воспоминаниями. — Это было… безумие.
— Безумие? Почему?
— Почему? — Он всплеснул руками от возбуждения, в точности как прежний Томмазо. — Весь мир вокруг нас умирал, а мы жили в этой хижине как…
— Как кто?
— А ты не понимаешь? — заорал он. — Мы были одни… Возможно, мы вообще остались одни в этом мире…
— Как вы с ней жили?
Я схватил его за горло.
— Как муж и жена! — Он не испугался и смотрел прямо мне в глаза. — Я не могу обманывать тебя, Уго. Убей меня, если хочешь. Мне все равно. Я люблю ее. Е mio l’amor divino [42]. L’amor divino, — повторил он.
«Она тебя тоже любит, — подумал я. — Так сильно, что наврала мне про изнасилование на случай, если у нее будет ребенок». Как я мог убить Томмазо? Он благополучно привез мою Миранду обратно. Благодаря ей он перестал быть трусом.
Я сказал, чтобы он не смел больше спать с ней.
— Наше соглашение вступит в силу через год. Если ты любишь ее, то сможешь подождать.
Каждое утро Миранда просыпалась с именем Томмазо на устах. Она шептала его имя, когда молилась. Она писала ему стихи и говорила, что они поженятся и уедут в Рим, чтобы Томмазо стал поваром папы римского. Она клялась, что будет любить его до самой смерти.
Поскольку Томмазо завоевал ее сердце, мальчишки перестали его дразнить. Теперь, когда он шел по замку под руку с Мирандой, его так и распирало от самодовольства. Он боготворил Миранду и дарил ей гребешки, ленты и другие безделушки. Он готовил для нее сласти из сахара и фруктов в форме птичек и цветов. Они могли часами сидеть на крепостной стене, обнявшись и лаская лица друг друга, гладя по волосам и не говоря ни слова. Миранда брала его короткопалые ладони в свои, целовала каждую отметинку от ожогов, прижималась лицом к его шее и пела ему песни.
Наблюдая за ними, я невольно думал порой, что между ними существует невидимая нить, подобная той, которую Ариадна дала Тесею, потому что стоило им на миг разомкнуть объятия, как их пальцы начинали слепо нащупывать что-то в воздухе, пока не встречались опять. Я часто подслушивал их разговоры; большинство из них я не помню, но один запал мне в память, поскольку в нем сказалась романтичность их натур. Они пожелали друг другу доброй ночи, и Миранда сказала:
— Ложись на правый бок и вытяни левую руку вот так. Я тоже лягу на правый бок и буду знать, что ты лежишь у меня за спиной, а твоя рука покоится на моем теле. Тогда я усну спокойно.
Я улыбнулся про себя и не вспоминал об этом, пока не увидел их вместе на следующий день. По их позам я понял, что Томмазо выполнил ее просьбу. Словом, они были похожи на голубков, которые, найдя себе пару, остаются вместе до конца жизни.
Миранда с Томмазо были не единственными, кто наслаждался жизнью после чумы. Я снова мог читать и писать и с удовольствием описывал свои эксперименты с травами. Кроме того, я часто забавлялся с горничной. Мужчины в Корсоли брали себе новых жен, женщины находили новых мужей. Несколько месяцев спустя в городе снова было полно народу, а все женщины ходили на сносях.
Я слышал, что, пережив чуму, некоторые вельможи, как например герцог Феррарский, посвятили себя церкви и благотворительности. С Федерико все было иначе.
— Мы пережили самое страшное испытание Господне, — сказал он, поглаживая Нерона, который сидел теперь за столом на месте Бьянки. — С какой стати я должен в него верить? Уго не верит в Бога. Правда, Уго?
Боже праведный! Конечно, оставаясь один, я порой проклинал Господа и спорил с ним, однако Федерико хотел, чтобы я отрекся от Христа на глазах у нового епископа собора Святой Екатерины и всех гостей. Я замялся, не зная, что сказать, хотя в то же время был доволен, что Федерико спросил мое мнение. К счастью, герцог не стал дожидаться ответа, а тут же заявил, что намерен наслаждаться жизнью пуще прежнего.
Он ел вдвое больше, чем раньше, приводил все новых шлюх и довел количество гончих до тысячи. Мы ходили вокруг дворца по щиколотку в собачьем дерьме. Федерико тратил сумасшедшие суммы на новые шелка, атласные халаты, кольца и прочие драгоценности. Иногда, одевшись, он выглядел как алтарь во время праздника. Но хотя герцог никогда не упоминал о Бьянке, ее смерть сильно подействовала на него. Дни становились короче, небо затянули меланхоличные облака, землю секли злые дожди, а Федерико беспокойно слонялся по дворцу вместе с Нероном, не отходившим от него ни на шаг.
— Хочу жениться! — крикнул он нам как-то утром.
И приказал Чекки написать письма д’Эсте, Малатеста, Медичи и другим знатным семействам, удовлетворяющим его амбициям. В ответах, которые пришли — если пришли вообще, — говорилось, что все подходящие женщины и девушки уже просватаны. Федерико решил, что единственный способ найти жену — это отправиться в Милан, где он когда-то служил герцогу Сфорца. Все во дворце были вне себя от возбуждения. Уехать из Корсоли в Милан! Они умоляли и лгали, уговаривая Чекки внести их в список. Мне даже пальцем шевельнуть не пришлось. Я знал, что поеду с Федерико. Он не мог себе позволить отправиться в путь без меня.
Глава 20
Поездка с Федерико была сродни военному походу. Составлялись списки тех, кто поедет и кто останется, еще более длинные списки вещей, которые необходимо было взять с собой. Эти списки менялись каждый день, иногда даже час. Чекки несколько месяцев почти не спал. Серая часть его бороды побелела, белая выпала вовсе.
Сперва предполагалось, что поедет не более сорока человек, потом понадобилось трое подручных, чтобы присматривать за лошадьми, главный кучер заявил, что ему нужно как минимум трое слуг, и то же самое потребовали камердинеры. Число выросло до восьмидесяти. Хотел уехать весь дворец, а поскольку по пути было мало монастырей или замков, способных принять такую прорву народа, в список включили плотников, рабочих и золотарей, чтобы строить палатки там, где остановится обоз. Теперь нас стало сто. Когда Федерико увидел, во сколько ему это обойдется, он пригрозил, что кастрирует Чекки, сожжет его труп, а потом обезглавит. Чекки сократил число до шестидесяти. Федерико к этому времени так разжирел и у него настолько разыгралась подагра, что для него смастерили специальную карету. Внутрь положили шелковые подушки и простыни, а стенки расписали изображениями рыцарских турниров. Федерико дважды в день катался в ней, желая убедиться, что ему там удобно.
Поскольку Миранда и Томмазо не собирались ехать в Милан, они обращали мало внимания на приготовления. А кроме того, их опьяняла любовь. И хотя Миранда не забеременела, я боялся, что это может случиться, пока я буду в отъезде, а поскольку она часто говорила о свадьбе с Томмазо, меня так и подмывало рассказать ей о нашем соглашении. Честно говоря, я удивлялся, почему Томмазо не вспоминает о нем. Похоже, он действительно любил Миранду и таким образом проявлял уважение ко мне. Это изменило мое отношение к нему, и в таком приподнятом настроении я отправился на кухню, чтобы сказать, что, хотя четыре года еще не прошли, я буду счастлив объявить об их помолвке.
Томмазо укладывал кусочки зажаренных на вертеле дроздов на хлебцы. Он сделал в чашке соус, состоявший, как я определил на нюх, из фенхеля, перца, корицы, мускатного ореха, яичных желтков и уксуса, вылил эту смесь на птиц, положил хлебцы на сковородку и поставил ее на огонь. Я сказал ему, что герцогу наверняка понравится, и заверил Томмазо, что со временем он точно станет папским поваром.
— Да я мог бы работать поваром во Флоренции или Риме уже сейчас, если бы захотел! — заявил парень самодовольно. Он рассказал мне о новых рецептах, которые изобрел, об экзотических продуктах и специях из Индии, которые хотел испробовать, даже о способах переустройства кухни — и ни словом не упомянул о Миранде. Чем дольше я слушал, тем тревожнее становилось у меня на душе. Я подумал, что Миранда надоела ему, хотя он сам этого еще не осознает. Поэтому я ничего не сказал о брачном контракте.
Миранда говорила о Томмазо с той же любовью и слонялась по кухне, чтобы быть поближе к нему, но если раньше они гуляли рядышком, то теперь Томмазо шел немного впереди. Он больше не приносил ей ленты и гребни, когда она говорила с ним, смотрел в сторону, а когда пела — зевал. Однажды, наблюдая за ними через окно, я увидел, как Миранда положила его руку себе на грудь. Томмазо со смехом отдернул ее и ушел.
Септивий сказал мне, что Миранда начала пропускать уроки и ее видели плачущей в саду Эмилии. Я пошел искать ее в сад и в конюшню, но не нашел и стал расспрашивать подружек, что ее так расстроило.
— Томмазо! — заявили они с такой уверенностью, точно об этом знал весь мир. — Мы говорили ей, чтобы не верила его словам!
Я нашел Миранду в нашей комнате. Она рвала на себе волосы, била в грудь и царапала лицо, как гарпия из Дантова ада.
— Он больше не любит меня! — рыдала она.
— Нет! Не может быть!
— Может! Он сказал мне! Сам сказал!
Я мелко покрошил корень мандрагоры, дал ей немного, и она забылась беспокойным сном. Потом я наточил кинжал и пошел к Томмазо.
Он надевал зеленый бархатный камзол в облипочку. На нем были темно-розовые шелковые лосины, на пальцах сверкали кольца, а на запястье в свете луны поблескивали цепочки. Я спросил, куда он намылился в столь поздний час.
— А тебе какое дело? — Он надел черные туфли.
— Ты расстроил мою дочь.
— Твою дочь? — Томмазо тряхнул кудрями так, что они рассыпались по плечам. — Скорее, твою пленницу. Она даже пописать без твоего ведома не может.
— Да, потому что я не хочу, чтобы она превратилась в шлюху, как та девица, к которой ты собрался.
— Я не собираюсь ни к какой шлюхе! — с жаром заявил он.
— Ты говорил, что любишь ее.
— Я не сказал ей о нашей помолвке, а значит, не нарушил обещаний.
— Иаков в Библии ждал Рахиль четырнадцать лет.
— То в Библии. — Он поправил перо в шляпе. — А мы в Корсоли. И зовут меня Томмазо, а не Иаков. А сегодня я собираюсь на охоту за зайцем.
— Куда делась твоя любовь? — спросил я.
Он пожал плечами так, словно потерял какую-то грошовую безделушку. Я набросился на него, схватил за горло и отшвырнул к стене. А потом, вытащив кинжал, прижал кончик лезвия к ложбинке у него на шее.
— Я научу тебя, как пробовать персик, прежде чем ты купил его! — Я пнул ему коленом в живот. — Ты думаешь, я порежу тебе физиономию так же аккуратно, как Миранда? — Я разрезал кожу, ощущая, как плоть трепещет вокруг ножа. На лезвие брызнула кровь. — Говори: куда девалась твоя любовь?
— Я не знаю! — взмолился он. — Не знаю!
— Ах не знаешь? — Я провел кинжалом по шее. Мне хотелось, чтобы ему было так же больно, как Миранде.
— Кто знает, куда уходит любовь? — выдохнул Томмазо.
Я хотел было всадить ему в горло кинжал, но меня остановил властный голос:
— Нет, babbo!
Миранда стояла у меня за спиной, высоко подняв голову, с белым как мел лицом.
— Не стоит он того, чтобы из-за него умирать.
— Но он…
— Если ты убьешь его и тебя повесят, что будет со мной?
Я опустил нож.
— Думаешь, я по гроб жизни буду тебе обязан? — крикнул Томмазо, показывая пальцем на Миранду. — Лучше убей меня!
— Это я тебе обязана, — ответила Миранда. — Ты закрыл мое сердце и открыл глаза. — Она протянула мне руку. — Пойдем, babbo. Гнев сокращает жизнь, а нам есть за что благодарить Бога.
* * *
Я предложил ей поехать в Милан вместе со мной.
— Ты увидишь чудесные дворцы. Там будут балы и куча интересных молодых людей.
— Мне не нужна куча интересных молодых людей.
Я спросил, могу ли как-то утешить ее.
— Меня утешил Всевышний, — отозвалась Миранда. — Это Томмазо мается от беспокойства. Так было раньше и будет всегда. Такова его натура. Поэтому он нуждается во мне.
— Ты все еще любишь его? После того, что он с тобой сделал?
— Разве пастух перестает любить заблудшую овцу? Томмазо — ребенок, которого тянет к огню, и он не понимает, что обожжется. Он самый смелый и глупый человек на свете. Я его целебный бальзам, babbo. Без меня он пропадет.
Она легла на кровать и через несколько минут уснула мертвым сном. А я сидел, глядя на холмы и гадая, смогу ли когда-нибудь быть таким честным, как она.
Федерико хотел отправиться в путь к концу Великого поста, однако Нерон заболел, и нам пришлось подождать три дня. Седьмого числа герцог выезжать не решился, так что епископ благословил нас в путь только на следующий! вторник, пожелав Федерико найти жену.
Когда мы ясным весенним утром вышли из собора Святой Екатерины, весело зазвонили колокола, а над горизонтом засияла изумительной красоты радуга, такая яркая и живая, что мы поняли: Господь смотрит на нас с небес.
Процессию возглавляли двадцать рыцарей в полной боевой амуниции, с красными и белыми штандартами на копьях. За ними следовали карста Федерико, запряженная восьмеркой лошадей, еще двадцать рыцарей, экипаж с одеждой герцога и еще один, груженный подарками. За ними ехали сокольничие, гофмейстеры, конюшие, писцы, повара, камердинеры, шлюхи и повозки со всякой всячиной.
Миранда смотрела из окна, как мы собрались во дворе. Вечером я настоятельно просил ее возобновить уроки игры на лире, радостно выполнять все обязанности и выпивать для настроения перед сном по капельке настойки. На самом деле это был яблочный сок, смешанный с порошком из дохлой жабы, который притуплял все романтические чувства. Хотя Томмазо бросил ее, я боялся, что Миранда может влюбиться в кого-нибудь другого, чтобы показать ему, как он ей безразличен.
— Женщины не такие, как мужчины, — наставлял я ее. — Они слабее перед лицом любви, однако смелее в своем желании найти ее, а я не хочу, чтобы ты забеременела.
— Я тоже не хочу, — зевнула Миранда. Неожиданно она выбежала из замка и бросилась мне на шею. Я обнял ее и прошептал, что зря она не едет со мной и что я буду скучать по ней. Миранда извинилась, что была груба со мной, и, храбро улыбнувшись, попросила не беспокоиться о ней. Она будет выполнять все свои обязанности радостно и с чувством ответственности.
Затрубили фанфары, карета Федерико тронулась с места, и обоз разноцветной змеей потянулся к Лестнице Плача. Все жители Корсоли вышли поглядеть, как мы уезжаем. Федерико бросил ликующей толпе несколько золотых монет, хотя я клянусь, что ликование стало еще громче, когда мы выехали за ворота.
Резвый ветерок гнал по ярко-голубому небу пушистые белые облака. Зеленые холмы пестрели желтыми фиалками и синим люпином. Нас повсюду сопровождал плеск воды, капавшей с деревьев и сбегавшей ручейками по камням в глубь долины. Меня переполняло такое же чувство, как тогда, когда я впервые уехал из дома: это путешествие изменит мою жизнь!
На полпути через долину карета герцога наткнулась на валун, левое колесо отвалилось, и повозка упала. Федерико вылез оттуда, как разъяренный бык, завернутый в одеяла, с багровым от бешенства лицом.
— Кто построил эту чертову колымагу? — взревел он.
Чекки ответил, что французские каретники. Их, мол, наняли специально по этому случаю, и они уже уехали из Корсоли.
— В таком случае мы объявим Франции войну! — заявил герцог.
— До того, как починим карету, или после? — пробормотал я.
Гофмейстер, сидевший рядом со мной, засмеялся. Федерико велел его убить. В конце концов беднягу не казнили, но отправили назад в замок и бросили в каземат. Чекки сказал, что знает одного итальянского мастера, который мог бы починить карету. Федерико поехал во дворец, а Чекки тем временем послал за каретниками, которые на самом деле жили в Корсоли, и предупредил их, что, если они не приведут экипаж в порядок, их повесят. Через два дня процессия вновь тронулась в путь. На сей раз нас никто не провожал.
На второй день Федерико пожаловался, что дорога слишком ухабистая, и велел убрать все камни размером больше дуката. Слугам, солдатам и придворным — даже Чекки — пришлось встать на четвереньки и сбрасывать на обочину камни. К полудню дорога стала такой гладкой, что можно было прокатить по ней яйцо. Чекки сказал, что с такой скоростью нам потребуется пять лет, чтобы добраться до Милана. Федерико выругался, а потом приказал забить всех гусей на ближайших фермах и набить их перьями подушки. После этого крестьяне, услышав о нашем приближении, прятали свою живность куда подальше, так что весь удар приняли на себя аббатства.
В конце долины мы остановились в монастыре, где жил аббат Тотторини, который захлопнул перед Мирандой и Томмазо двери во время чумы. Я вспомнил, что монахи готовили великолепное вино и сыр, и решил рассказать об этом Федерико. Герцогу они тоже понравились, причем настолько, что мы задержались там на неделю.
На пятый день я поскакал к отцовскому дому. Хотя наша последняя встреча оставила у меня в душе горький осадок, я надеялся, что время смягчило сердце отца. Мне хотелось, чтобы он увидел, кем я стал.
Дом выглядел так, словно мог упасть при малейшем дуновении ветерка. Я огляделся кругом, но никого не увидел, и позвал отца по имени.
— Я дома! — откликнулся он.
Не знаю, всегда ли у нас так воняло или я просто привык в замке к благовониям, но зайти я не смог и встал в дверях.
Из темноты наконец появилась сгорбленная фигура отца. Его совсем пригнуло к земле, и пахло от него разложением и смертью. Он сощурился, глядя на мой новый кожаный камзол и яркие лосины, но, по-моему, так и не узнал меня, хотя я назвал свое имя. Я обнял его и предложил несколько монет. Отец не мог толком разогнуть пальцы, однако вцепился своими клешнями в мои руки.
— Они розовые! — воскликнул он, перевернув их ладонями кверху.
Я сунул ему монеты между пальцев, сказал, что направляюсь с герцогом Федерико в Милан, и спросил, не хочет ли он взглянуть на процессию.
— Зачем? — просипел отец, сплюнув на пол.
— Рыцари, карета герцога — они великолепны!
— Великолепны. — Он снова сплюнул. — Испания! Испания — вот это великолепно!
— Испания? Да что ты знаешь о ней? Ты никогда не уезжал из долины!
— Мне Витторио рассказывал. Испания великолепна.
— Значит, Витторио удрал в Испанию?
— Он капитан корабля!
— Ну да. А я король Франции.
— Ты завидуешь! — каркнул отец, погрозив мне пальцем. — Завидуешь!
— Дурак ты, — ответил я, сев на лошадь. — И я тоже дурак, что приехал.
Отец попытался швырнуть мне монеты, но пальцы их не выпускали.
Аббат Тотторини ждал моего возвращения. Его жирные щеки обвисли и тряслись от злости. Он прошипел, что все его вино выпито, а сыр и фрукты — съедены. Он, дескать, молит Бога о том, чтобы у всех моих детей выросли хвосты, а сам я подцепил французскую болезнь. Я ответил, что ему не следовало оскорблять меня до нашего отъезда, не то я расскажу Федерико, как он забавляется с монашками. И я не успокоился, пока не убедился, что слуги взяли с собой все недопитое вино и весь недоеденный сыр.
Чуть не забыл! Когда мы только подъезжали к аббатству, то увидели крестьянина, стоявшего посреди поля. Его тощее тело было одето в рубище, из которого торчали голые ноги, упиравшиеся в каменистую почву, как палки, оставленные на солнышке. Солдаты стали смеяться над ним, а он вдруг бросился бежать рядом с герцогской каретой, крича, что его дети померли с голоду, в то время как Федерико жрет, как свинья. Герцог высунул в окошко голову, чтобы посмотреть, кто там орет и почему, и тут крестьянин, лавируя между конями, вскочил на подножку кареты.
Oi me! Не знаю, кто удивился больше — крестьянин или Федерико. Рыцари в мгновение ока разрубили охальника саблями на куски. Он рухнул на землю, а то все продолжали кромсать тело несчастного, хотя душа его давно уже отлетела.
Федерико хотел поскорее добраться до Флоренции и остановиться у Бенто Вераны, богатого коммерсанта, который торговал с Корсоли. Большинство слуг остались в поместье, принадлежавшем Веране, но некоторые, и я в том числе, поселились в его палаццо с видом на реку Арно. Несмотря на то что Верана выглядел суровым аскетом с худым лицом и поджатыми губами, он обращался с нами уважительно, а в делах, говорят, был предельно честен. Дегустатора он при себе не держал и в первый же вечер за ужином сказал Федерико, что, поскольку считает его другом, ему будет обидно, если герцог побоится есть в его доме.
Федерико облизнул губы, не зная, что ответить.
— Ваша честь! — сказал я. — Герцог Федерико не боится, что его отравят. Просто у него деликатный желудок — в точности как у меня, и, пробуя его пищу, я могу предотвратить неприятные последствия.
Герцог кивнул, подтверждая мои слова. К сожалению, другие неприятности мне не удалось предотвратить так же ловко.
Флорентийцы едят иначе, чем это принято в Корсоли. Они употребляют больше овощей — тыкву, лук-порей, бобы — и меньше мяса. Кроме того, они любят шпинат с анчоусами, равиоли готовят с фруктами, а десерт — в форме гербов. А главное, они не злоупотребляют приправами, считая, что специи — это безвкусная похвальба своим богатством. Они вечно ходят с кислыми минами и так озабочены внешней благопристойностью, что она для них важнее сути.
Губы они вытирают не скатертью, а квадратными лоскутами, которые называются салфетками, и едят не с подносов, как мы, а с золотых тарелок, и к тому же прикрывают рот, когда рыгают.
— Мне приходится помнить столько всякой ерунды! — пожаловался Федерико за ужином. — Я почти не чувствую вкуса еды.
— Разве разговор за столом не важнее пищи? — отозвался Верана. Он считал свое богатство такой штукой, которой нужно управлять, а не наслаждаться, и ронял слова так осторожно, словно это были монеты из его кармана. — Неумеренное поглощение пищи ведет к обжорству, а оно затуманивает мозги, точно так же как неумеренное пьянство притупляет чувства. Поскольку тело вынуждено тратить энергию на переваривание, люди забывают о беседе и превращаются в скотов, молча набивающих животы. В моем доме первым блюдом в меню является разговор.
— Радость от прекрасных яств подобна радости от учения, ибо каждый пир — словно книга, — нараспев проговорил в ответ Септивий. — Блюда — те же слова, которые необходимо с наслаждением смаковать и переваривать. Как говорил Петрарка, «с утра я насыщаюсь тем, что вечером переварю; я проглотил мальчишкой то, о чем теперь лишь размышляю».
— В том-то и дело! — воскликнул Верана. — Быть рабом желудка вместо того, чтобы узнать за столом нечто новое, по-моему, недостойно человека. — Очевидно, тут он взглянул на лицо Федерико. Даже мне с моего места было видно, что губа у него отвисла ниже подбородка. — Ну да ладно, — сказал Верана. — Давайте приступим к еде. Только забудь о приправах, Федерико. Лучшая приправа — это общество добрых друзей!
Боже милостивый! Я молился про себя, чтобы Септивий не ляпнул что-нибудь еще, ибо лицо герцога было чернее тучи. Поэтому, когда Верана предложил тонюсенький блин, начиненный печенкой, который назывался фегателли, я откусил немножко и посоветовал Федерико не есть его. Он, мол, слишком тяжел для желудка. Федерико это понравилось.
— Ты видел рожу Вераны? — спросил он меня потом. — Молодец, Уго!
Я надеялся, что он велит Чекки дать мне золотую монету. Черта с два!
Верана рассказывал о том, что он почерпнул из книги какого-то голландца по имени Эразм, которую только что перевели на итальянский. После ужина он подарил экземпляр герцогу. Никто никогда раньше не дарил Федерико книг, и он держал ее в руках так, словно не знал, что с ней делать. Вернувшись в свою спальню, он швырнул книгу Чекки и приказал ее сжечь. Вскоре мы уехали из палаццо Вераны, поскольку Федерико заявил, что помрет с голоду.
Мне было жаль покидать Флоренцию. Хотя у флорентийцев и впрямь слишком зоркие глаза и острые язычки, они живут в прекрасном городе! Я видел их знаменитый собор и статуи на площади Синьории, а главное — Давида Микеланджело у здания городской ратуши. Мне хотелось поцеловать руки этого волшебного скульптора и преклонить перед ним колени, однако его слуги сказали, что он, к сожалению, уехал в Рим. Я повидал множество изысканных дворцов, построенных богатыми вельможами и торговцами, но больше всего мне понравились здания, принадлежащие гильдиям. Пока мы ехали в Болонью, я все время думал о них, и вскоре меня осенила идея. Раньше мне ничего подобного в голову не приходило, так что я пришел в полный восторг. Холмы по обеим сторонам дороги были покрыты роскошным ковром из красных, синих и желтых цветов. Я был уверен, что сам Всевышний должен жить тут, поскольку гармония и красота — отражение его души, и мою идею мне навеял этот дивный пейзаж. Поэтому я не сомневался, что Господь благословляет ее. Сама же идея заключалась в следующем.
Из всей прислуги, будь то камердинеры, горничные, конюхи, писцы или повара, дегустатор — самый бесстрашный человек. Кто еще рискует жизнью не раз, а дважды или трижды в день, просто выполняя свою работу? Честно говоря, мы храбрее даже рыцарей, поскольку те при встрече с превосходящим противником могут пуститься наутек. Я знавал многих, кто бежал в самом начале битвы. А дегустатор? Разве он может сбежать? Нет! Он каждый день идет в бой и остается в строю до конца сражения. Но раз существуют гильдии золотых дел мастеров, юристов, прядильщиков, ткачей, пекарей и портных, почему нет гильдии дегустаторов? Разве наша работа не важнее? Да от нас зависит сама жизнь наших властителей! Конечно же, гильдия дегустаторов не может быть многочисленной, тем не менее мы будем встречаться, обсуждать новые блюда, яды, противоядия и даже убийства.
Эти мысли помогали мне коротать долгие часы путешествия. Даже во время охоты на кабана я обдумывал обряд посвящения. По-моему, он должен быть суровым, но полезным. Я записал следующие правила.
1. Ученик дегустатора обязан голодать три дня, после чего ему завязывают глаза и дают крохотные порции яда, которые увеличивают до тех пор, пока он их не распознает. Если ученик выживет, это докажет, что у него есть способности. Если умрет — значит, не годится для такой работы.
2. Чтобы убедиться в том, что у него сильное сердце, после еды ученику говорят, что она была отравлена. Предположим, он тут же зажмет в кулаке амулет и начнет молиться Богу. Тогда его следует выбросить в окошко, поскольку, если еда была отравлена, он и так скоро помрет. Но если он немедленно найдет себе женщину и станет забавляться с ней — честь ему и хвала. Потому что дегустатор должен всегда сохранять хладнокровие. Оно спасет ему жизнь, в то время как человек, подверженный суевериям, делает то, что первым приходит ему на ум, а это почти всегда неправильно!
3. Самое главное: экзамены должны проводиться летом, на свежем воздухе, поскольку рвота в комнате будет так вонять, что даже свинье дурно станет.
Записав эти правила, я стал с нетерпением ждать встречи с другими дегустаторами, чтобы обсудить с ними мои идеи.
Но дегустаторов, с которыми мне довелось встретиться по дороге в Милан, можно было по пальцам перечесть. Шутник, который утверждал, что притворился умирающим, оказался слишком глупым и настаивал на своем даже после того, как я объяснил ему, кто я такой, а потому не заслуживал членства в моей гильдии. Кроме того, я познакомился с тощим, нервным седовласым человеком с орлиным носом и толстыми губами. Он сидел в кресле на солнышке и не отвечал на мои вопросы ни слова, зато постоянно облизывал губы. Я спросил, зачем он так делает. Он ответил, что даже не замечает этого. Позже я увидел, что и другие дегустаторы имеют ту же привычку. Они говорили, что делают так испокон веков — возможно, потому, что мокрыми губами легче почувствовать яд.
В Пьяченце я встретился с дегустатором, который был уверен, что герцог приказал мне прикинуться умирающим. Вы ж понимаете! Если сам он не додумался до такой хитрости, значит, и я не мог!
Федерико намеревался прибыть в Милан к празднику святого Петра. В город должны были съехаться торговцы, вельможи, банкиры из Лигурии, Генуи и Савойи, а также кардиналы и императорский посол. Всех этих важных персон, без сомнения, будет сопровождать множество женщин. Но мы тащились так медленно, что, когда наконец приехали, праздник был в самом разгаре.
Федерико был не в духе. При выезде из Пармы карета неожиданно накренилась — как раз в тот момент, когда одна из шлюх сидела на герцоге верхом. Девица ударилась головой о деревянную балку, глаза у нее остекленели, и она начала нести несусветную чушь. Испугавшись, что он может заразиться от нее безумием, Федерико выбросил ее на обочину. А кроме того, у него не на шутку разыгралась подагра. Стражники позволили ему и нескольким слугам, включая меня, проехать в castello [43]. Остальным пришлось ждать до утра.
Не могу не сказать несколько слов о Милане. Это прекраснейший город на свете, и чтобы описать его, просто не хватает слов. Начнем хотя бы с того, что улицы в центре города не только прямые, как пушечные стволы, но и мощеные, так что кареты, которых здесь пруд пруди, катятся как по маслу! Разве это не чудо? А замок! Если в мире и существует более великолепный дворец, я его не видел. Размером он почти с Корсоли и окружен громадным крепостным рвом. Говорят, эти засранцы французы разграбили замок, утащив с собой уйму сокровищ, но… Porta! Куда бы я ни кинул взгляд, везде были восхитительные картины и потрясающие скульптуры. Особенно мне запомнилась прекрасная и нежная Мария Магдалина кисти Джампетрино. Неудивительно, что сам Господь снизошел к ней! Кстати, я действительно научился неплохо писать, так что мне не составляет более труда делиться своими впечатлениями.
Одна лестница, спроектированная Леонардо да Винчи, настолько меня поразила, что я спустился и поднялся по ней несколько раз, поскольку почувствовал себя в тот момент настоящим вельможей. Стены дворца украшены разноцветными восточными коврами. Потолки расписаны сотнями сцен, в каждой комнате висит люстра с тысячью свечей. По коридорам снуют слуги, прекрасные женщины развлекают себя и других, из всех залов доносятся музыка и смех. Если уж мне суждено погибнуть на службе у сильных мира сего, сказал я себе, то я согласен — если моим повелителем будет герцог Сфорца!
А потом я набрел на кухню. Боже мой! Да это настоящее святилище для усталого путника! Шипение кипящих кастрюль, пар, клубящийся над плитой, теплый аромат свежих пирожных… А само помещение! По сравнению с ним кухня в замке Корсоли не более чем мышиная нора. Плит в три / раза больше, чем у нас, котлов — в пять раз, а ножей больше, чем в турецкой армии. Я быстренько поел, поскольку хотел поскорее посмотреть комнаты для прислуги, уверенный в том, что герцогская щедрость простирается и на тех, кто ему служит. Какая наивность!
Как и в Корсоли, комнаты для челяди были маленькие и запущенные. Поскольку совсем недавно здесь квартировали французские и швейцарские солдаты, вонь в них стояла невыносимая. Я бродил по коридорам, ощущая все более сильное разочарование, и вдруг услышал чьи-то голоса, доносившиеся из-за приоткрытой двери. Я заглянул внутрь.
Шестеро или семеро человек играли в карты и пили. Один из них, настоящий щеголь с пером в шляпе, сидел, небрежно закинув ногу на подлокотник кресла. У другого, с одутловатым, как луковица, лицом, правый глаз был обезображен ножевым шрамом и почти закрыт. Он спорил с толстяком, похожим по виду на монаха.
— А если он споется с венецианцами, что тогда? — с жаром спросил брыластый.
Толстяк пожал плечами.
— Все зависит от папы.
— Папа меняет своих союзников как перчатки! — возмущенно бросил брыластый.
— А кто не меняет? — возразил толстяк. — Кроме того, я слышал… — Он вдруг увидел меня в дверях. — Чего тебе?
— Я только что приехал с герцогом Федерико Басильоне ди Винчелли. Я его дегустатор.
Все остальные, прервав беседу, уставились на меня.
— Добро пожаловать, — произнес щеголь приторным высоким голосом. — Мы тут все дегустаторы.
— Да, заходи! — закричали они наперебой. Наконец-то я был среди своих.
Глава 21
Меня усадили за стол, пьяненький коротышка с гнилыми зубами и загибавшимися в уголках вниз, как у жабы, губами, налил мне вина. Я редко пью вино, но, оказавшись среди друзей, решил побаловать себя немного. Пьянчужка протянул мне кубок со словами:
— Не обращай внимания на мышьяк.
Мы громко рассмеялись.
— Salute! [44] — сказал я.
— Salute! — откликнулись они.
Мы чокнулись и выпили. Вино разлилось у меня во рту подобно весенней реке, смывая усталый привкус от долгого путешествия.
— Benissimo! [45] — воскликнул я. — Benissimo!
— А у вас в Корсоли нет такого вина?
— У нас в Корсоли ничего нет.
— А у нас тут тоже ничего нет! — засмеялся коротышка, и я понял, что фляжку с вином они украли.
Коллеги хлопали меня по спине и представлялись. Брыластый служил герцогу Сфорца, пьяненький коротышка — кардиналу из Феррары, толстяк — богатому торговцу из Генуи. Остальные, насколько я понял, были немцы и французы.
— Что за человек твой Федерико? — спросил пьянчужка.
— Он толстый.
— Да я не о том! — засмеялся пьянчужка. — Я имел в виду — как тебе с ним работается?
— Я никогда не работал на кого-то другого, поэтому мне трудно судить.
Брыластый ткнул меня под ребра.
— Ты видал дегустатора епископа из Нима?
— Нет, — ответил я. — А он тоже здесь?
— Он? — рассмеялись они хором. — Это она, а не он!
— Женщина? Е vero?
— Клянусь Богом! — воскликнул толстяк.
— Хотел бы я окунуть свой амулет в ее кастрюльку, чтобы посмотреть, нет ли в ней яда! — сказал немец.
Мы все покатились со смеху и выпили снова.
Я был на седьмом небе от счастья. Наконец я оказался среди людей, которые так же рисковали жизнью, как я! Которые могли понять не только опасности войны, но и зло, скрывающееся в листике салата. Вот они, люди, достойные стать членами моей гильдии! Мы говорили о любимых блюдах и нелюбимых, о поварах, которым мы доверяли и к которым относились с опаской. Я мог беседовать с ними до бесконечности — но тут щеголь, внезапно хлопнув себя по бедру, воскликнул:
— Ты тот самый Уго ди Фонте!
— Да, это я. Уго ди Фонте Великолепный!
Я уже немного захмелел к тому времени.
— Уго Великолепный? — переспросил толстяк.
Щеголь нагнулся ко мне над столом.
— Расскажи нам, что тогда произошло на самом деле!
— Когда произошло? — не понял толстяк.
— Да, когда? — подхватил, я.
— Когда Федерико убил жену и тещу, поскольку думал, что они положили ему яд…
— Так это был ты? — спросил коротышка. Остальные восторженно зашумели и сгрудились вокруг меня. Они были моложе, чем показались мне вначале, некоторые — совсем еще мальчишки. Пьяненький коротышка вскочил на кресло и, сложив руки у рта, протрубил в них три раза, крикнув:
— Я салютую в твою честь!
Брыластый скинул его на пол.
— Чего ты? — заныл пьянчужка. — В кои-то веки один из нас выжил!
Я хотел помочь ему, но брыластый меня остановил.
— Не обращай на него внимания. Расскажи нам!
— Да, расскажи, расскажи! — подхватили остальные, горя нетерпением услышать историю моего триумфа.
— У нас еще будет время. А сегодня давайте пить — и забудем обо всех тревогах!
Никто не шелохнулся. «Быть может, его надо подпоить?» — предположил кто-то и велел принести еще вина. Они наполнили кубки и закричали:
— На здоровье!
— Расскажи нам! — попросил еще раз брыластый. — Мы все твои друзья.
— Погоди! — перебил его коротышка. — Он только что приехал. С какой стати ему раскрывать перед нами свои секреты? Сперва мы должны ему показать! — Он сунул руку в кожаный мешочек. — Ты такие штуки видал когда-нибудь? — Коротышка покачал в руке маленький желтый камешек, висевший на цепочке. — Это везоаровый камень, из желудка коровы. Он спас мне жизнь.
— Тебя спасло только то, что ты напился и начал блевать, — возразил брыластый.
Пьяница пропустил его реплику мимо ушей.
— Если еда отравлена, камень становится горячим.
— У нас у всех они есть, — сказал один из дегустаторов и, отодвинув карты, высыпал на стол пригоршню камешков, словно ювелир, предлагающий свой товар.
Остальные сделали то же самое, и через миг стол был усыпан амулетами всех цветов и размеров. Кроме везоаровых камней там были талисманы из золота и серебра, ноготь с пальца ноги святого Петра, прядь волос Илии, изумрудная сережка, принадлежавшая Нерону, колечки из слоновой кости, массивные, посеревшие от времени кресты, камни из Иерусалима со странными цветными прожилками, камни с выгравированными тайными символами. Там были также засушенные растения, мозг жабы размером с мой ноготь, почерневшее жало скорпиона, кусочки ярко-голубой ракушки, янтарь, рубины и топаз.
Дегустаторы по очереди брали со стола амулеты, объясняли, как тс к ним попали, и хвастались их силой, рассказывая байки одну хлеще другой. Каждый клялся Девой Марией, что не врет, что он видел все это собственными глазами или же знал человека, который видел, а если кто начнет оспаривать правдивость его истории, значит, он лжец и ему надо отрезать язык! Никто не выказывал и тени сомнений. Я понял, что, несмотря на все свои страсти и похвальбы, они не более чем муравьи, слепо ползущие вперед, не зная зачем.
— А вот такого ни у кого из вас нет, зуб даю! — заявил брыластый, вытащив кинжал с коричневой костяной рукояткой. — Эта ручка сделана из ядовитых зубов африканской змеи. Она единственная на свете!
— Тогда что это, интересно? — спросил толстяк, вытащив кинжал с такой же рукояткой.
— Мой — настоящий! — рявкнул брыластый. — Я выложил за него двести дукатов!
— Выходит, тебя надули, — ухмыльнулся толстяк.
Брыластый приставил кинжал к лицу толстяка. Остальные дегустаторы поспешно схватили свои камни и спрятали их.
— Ни один из этих амулетов не может сравниться с косточкой единорога, правда, Уго? — спросил щеголь, встав между брыластым и толстяком.
— У тебя есть кость единорога? — спросил брыластый.
Они повернулись ко мне, забыв о ссоре.
— Была, — сказал я. — Но сейчас больше нет.
— Чем же ты пользуешься в таком случае?
— Да, покажи нам! — заорал пьянчужка.
— Если ты что-то утаиваешь… — Толстяк пихнул меня в грудь.
— Я ничего не утаиваю.
— Тогда открой свой кожаный мешочек! — потребовал брыластый.
Я услышал, как за моей спиной захлопнулась дверь. Не успел я вытащить кинжал, как меня схватили сзади и бросили на пол. Толстяк уселся мне на грудь. Брыластый сорвал с пояса мешочек, развязал его и перевернул, чтобы содержимое высыпалось наружу. Но не тут-то было. Мешочек оказался пуст.
Глава 22
За неделю до этих событий, когда мы подъезжали к Кремоне, дождь лил без перерыва три дня и три ночи. Карсты увязли в грязи, а дочка одной из служанок орала так громко, что рыцари были готовы ее убить. Я дал ребенку свои амулеты поиграть и развлекал ее историями об отравлениях, повешениях и других трагедиях, которые действуют на крикунов как успокоительное. Она слушала меня молча, пряча лицо в волосах, как это делала Миранда в ее возрасте, но когда я начал рассказывать очередную байку, внезапно схватила мои амулеты и швырнула их во тьму.
Хотя я давно утратил в них веру, мне вовсе не хотелось терять талисманы, поэтому я выскочил из кареты под ливень и начал искать их. Однако к тому времени там проехало уже больше десятка лошадей, так что я не смог отличить свои амулеты от простых камешков под ногами. Поскольку они ничего не значили для меня, я не рассердился и забыл о них — вплоть до того дня, как брыластый перевернул мой кожаный мешочек вверх дном.
— Где они? — недоуменно спросил брыластый.
— Я ими не пользуюсь, — ответил я, столкнув толстяка с груди.
— Ты не пользуешься талисманами? — переспросил брыластый.
Я стряхнул грязь со своего нового красного бархатного камзола.
Все уставились на меня, ожидая объяснений.
Я хотел сказать, что их амулеты, косточки и камешки бесполезны, однако мои собратья были слишком суеверны и не хотели терять свою веру. Если бы я заявил, что полагаюсь только на собственную сообразительность, они не поверили бы мне и обвинили меня в том, что я что-то скрываю. Им хотелось, чтобы я поведал им о чуде, которое развеяло бы все их страхи. Я так и сделал.
— Магия! Вот чем я пользуюсь.
Вообще-то я не думал, что мне поверят. Если бы хоть кто-то из них рассмеялся, я бы обратил все в шутку. Вместо этого толстяк недоверчиво протянул:
— Магией пользуются только колдуны.
Они все как один отпрянули от меня, словно я был самим дьяволом во плоти. Боже! Ну и дураки! Если у меня и оставалась хоть капля уважения к ним, она испарилась в тот же миг. Впрочем, сейчас это было не важно. Слово, как говорится, не воробей, вылетит — не поймаешь.
— Значит, он колдун! — заявил брыластый, показывая на меня пальцем.
Его глупое жирное лицо раздражало меня, и я укусил его за палец. Теперь даже у тех, кто _не поверил сразу, что я колдун, не осталось никаких сомнений. Кто-то, спотыкаясь, отошел от меня подальше, другие потянулись за кинжалами. Я не имел права показывать свой страх, а потому, поклонившись, пожелал им buona notte и спокойно вышел в коридор.
По пути к покоям Федерико я не выдержал и расхохотался над глупостью брыластого. «Lui a uno cervello de gallina!» [46] Хотя нет. У курицы на самом деле куда больше мозгов. Но когда я лег спать, меня охватило отчаяние. Неудивительно, что у нас нет гильдии дегустаторов. И, как я теперь понял, никогда не будет.
На следующее утро я обругал себя за слишком длинный язык. За ночь моя победа сильно поблекла. Я никогда раньше не думал об инквизиции, но это слово неожиданно пришло мне на ум и угнездилось там. Я ведь не только сказал, что силен в магии — я заявил, что использую ее! Если кто-нибудь из дегустаторов донесет своему хозяину или исповеднику, меня могут повесить. Я молился о том, чтобы эти дураки действительно оказались такими же тупыми, какими выглядели, и поверили, что я смогу сглазить их, если они проболтаются кому-нибудь. А потом мои страхи вмиг испарились — так же быстро, как возникли, — потому что в тот вечер я увидел женщину, о которой говорили дегустаторы: Елену, служившую епископу Нима.
После гибели Агнес прошло почти три года, и все это время мое сердце пребывало в спячке, как белка зимой. Теперь оно проснулось, словно в первый день весны. Боже мой! Святые угодники! Дегустаторы, конечно, хвалили ее, однако явно недостаточно. Елена была само совершенство. Все летние цветы смешали в ней свои краски и формы. Тоненькая, но исполненная уверенности в себе, как молодое деревце, которое гнется под порывами ветра, но не ломается. Солнце Франции позолотило ее кожу, светлые волосы были коротко пострижены по последней французской моде. Все в ней — ладони, ступни, груди — было маленьким и очень пропорциональным, за исключением носа и зеленых глаз, огромных и глубоких, как омуты весной. Елена одевалась просто и не красилась, но когда она улыбалась, казалось, ее лицо озаряется изнутри, так что все золото и драгоценности мира бледнели перед этой улыбкой. Она не делала ничего, чтобы привлечь к себе внимание. И именно поэтому я не мог отвести от нее глаз.
Движения ее были изящными и отточенными; она словно скользила по воздуху, как мелодия. Я повторял ночами ее имя — прекраснейшее имя на свете. Я одолжил бумагу, чернила и перо и писал его снова и снова. Я выкладывал его из камней, цветов и листвы.
Елена ходила за своим епископом, как тень, и помогала ему во всем — носила подносы, играла с ним в карты, читала вслух. Я проклинал его за то, что он подвергает ее такой опасности, однако к нему трудно было испытывать неприязнь. Он излучал жизнелюбие, и его толстое красное лицо морщилось в усмешке, когда он рассказывал истории о папе римском или других кардиналах. Оказавшись рядом с Еленой за раздаточным столом, я хотел сказать ей, что она покорила мое сердце, однако стоило ей посмотреть на меня, как я залился краской и не смог вымолвить ни слова. Мне казалось, что голос у нее должен быть мелодичным, как у соловья. Но когда она открыла свой розовый ротик, из него полились низкие и грудные, почти как у мужчины, звуки, от которых по спине у меня побежали мурашки. Елена смаковала каждое слово, словно драгоценное дитя, которое она боялась потерять, и, пока я слушал, как она говорит о самых обыденных вещах, мне вдруг до смерти захотелось, чтобы она произнесла мое имя. Я изощрялся, как мог, чтобы вынудить ее сделать это, но она, будто зная, чего я жажду, отвечала мне (если отвечала вообще), не называя по имени. Услышать слово «Уго» из ее уст стало моим единственным заветным желанием, лишавшим меня сна и покоя.
Я написал ей сонет. Никогда в жизни я не делал ничего подобного, но раз Миранда смогла написать стихи для Томмазо, чем я хуже? Я встал рано утром, надеясь, что рассвет подарит мне вдохновение. Ночью я думал о тайнах луны и вспоминал стихотворения, которые Септивий читал Федерико. Я трудился над сонетом день и ночь, переписывая его заново и заново. Когда он был закончен, я почувствовал одновременно и удовлетворение, и грусть. Вот он:
Тот миг, когда узрел я светлый образ твой, Моим нарушен не был он ни звуком, ни дыханьем. За долгий сон пусть будет воздаяньем То чудо наяву, что прежде звал мечтой. И волосы твои златы, как спелый хлеб, Лазурных глаз на дне — альпийские озера, И алый нежный соблазнитель взора — О Боже, рот твой — я уже ослеп! А речь твоя, что музык многих краше, Заставит ангелов с своих сорваться мест И полететь к Земле, чтоб жить между живыми. Отдам глоток из Вечной Жизни чаши, Отдам и райского блаженства благовест За то, чтоб с уст твоих мое слетело имя. [47]Я хотел тут же отдать сонет Елене, но побоялся, что он ей не понравится. Тогда она не станет со мной разговаривать, а это для меня хуже смерти. «Мужайся! — сказал я себе. — Мужайся!»
Когда я наконец заговорил с ней, у меня не было при себе сонета, так что все накопившиеся вопросы и желания, терзавшие мою душу, излились в непрерывном потоке слов. Я говорил о еде, вине, потом прерывал сам себя, восхваляя ее красоту. Я рассказывал ей, как ходил вверх-вниз по лестнице да Винчи и по прямым улицам города. Я не мог остановиться, поскольку боялся, что не осмелюсь с ней заговорить в другой раз. Об этом я тоже ей сказал, когда исчерпал все мыслимые темы. Она подождала, пока я набирал в грудь воздуха, и коротко промолвила:
— Мне нужно к архиепископу.
Я даже не заметил, что она все это время держала в руках поднос с едой.
Той ночью мне приснилась Елена, идущая босиком по саду между желтыми и голубыми цветами. На ней было кроваво-красное платье с золотой вышивкой. Я бежал за ней, что было мочи, и никак не мог догнать. Она не оборачивалась, но я знал, что ей хочется, чтобы я преследовал ее. Пройдя мимо кустов, она спустилась по ступенькам, ведущим на маленькую площадь. Испугавшись, как бы не потерять ее из виду, я окликнул Елену по имени. Она остановилась на нижней ступеньке, обернулась и как будто хотела что-то сказать — однако вместо слов изо рта ее вылетела стайка соловьев, заливавшихся так сладко, что я застыл, очарованный красотой их пения. Когда я снова глянул вперед, Елены уже не было.
Проснулся я, охваченный такой страстью и тоской, что не мог пошевельнуться. Я молил Бога, чтобы Федерико нашел в Милане жену и мы остались тут подольше. Я был опьянен любовью — так сильно опьянен, что, когда толстяк нарочно толкнул меня под руку, чуть не выронил поднос с фруктами.
Вот уже второй раз дегустаторы пытались напакостить мне. После нашей первой встречи они меня избегали. Когда я сталкивался с брыластым в коридоре, то опускал глаза и начинал что-то тихо бормотать, делая вид, что это заклинание. Брыластый с криком хватался за кинжал, но он был слишком труслив и ничего не мог со мной поделать. Толстяк и щеголь были более опасны. До того как толстяк толкнул меня под руку, щеголь подставил мне подножку, и я упал прямо на немецкого рыцаря, который так саданул мне по башке, что искры из глаз посыпались. Теперь я должен был показать им, что ни капельки не боюсь.
На следующий день, когда щеголь нагнулся за чашкой с мясом, я вылил ему на руку кипящий соус. Он вскрикнул — не очень громко, поскольку банкет уже начался, — и заявил, что я ошпарил его нарочно. Другие слуги поддержали его. Я сказал, что он хотел толкнуть меня под локоть и пускай лучше скажет спасибо, что я сумел с собой совладать. После чего, подкравшись к толстяку, шепнул ему на ухо:
— А если ты начнешь меня доставать, я нарежу из твоей толстой задницы целый поднос бекона!
Он взвизгнул и припустил по коридору во все лопатки.
Я узнал, что Елена с архиепископом обычно гуляют в полдень по саду, причем по одной и той же дорожке, и стал появляться там, задумчиво расхаживая с опущенным долу взглядом, словно сочинял стихи или разглядывал цветочки. На самом деле мне хотелось столкнуться с ними, будто случайно. Через несколько дней мое желание сбылось, однако поскольку я смотрел вниз, то нечаянно наступил архиепископу на ногу.
— Тысячу извинений! — воскликнул я. — Простите, я задумался.
— Могу я поинтересоваться, — спросил архиепископ, потирая ногу, — какие мысли гнетут вас в такой прекрасный день?
— Я думал о том, что человеку достаточно лишь взглянуть на красоту, окружающую нас, чтобы уверовать в милость Господню.
Хотя я отвечал архиепископу, но смотрел при этом только на Елену.
— В таком случае откройте глаза, дабы узреть сию красоту! — рявкнул архиепископ.
Я ничего не имел против того, что он рассердился, поскольку этот случай давал мне повод обратиться к нему еще раз. Тем не менее я продолжал притворяться, будто полностью погружен в раздумья, а потому перепутал дорожки и столкнулся нос к носу с брыластым и еще двумя дегустаторами, которые прятались за кустами. В руках они держали дубинки, явно подкарауливая меня. И только потому, что они изумились не меньше моего, мне удалось увернуться от их беспорядочных ударов. С тех пор я перестал прогуливаться по саду и решил встретиться с Еленой где-нибудь в другом месте.
Федерико везло с женщинами не больше, чем мне. Все молодые, красивые и богатые дамы в Милане заявляли, что они уже помолвлены. Перед герцогом предстало несколько жирных матрон с густыми, как щетка, усами, но стоило им бросить взгляд на Федерико — или же ему на них, — как они тут же испарились. Он не сомневался, что другие герцоги и князья смеются над ним за спиной, и мстил, обыгрывая их в карты. Вскоре Федерико выудил у них целое состояние и с наслаждением доводил Сфорца у всех на глазах, заявляя, что герцог должен ему такую сумму, которая окупит путешествие в Милан три раза. Чекки дергал себя за бороду, умоляя Федерико уехать поскорее, пока герцог Сфорца не вернет проигранное силой.
— Разве Цезарь бежал с поля боя? — возражал ему Федерико. — Или Марк Антоний — разве он праздновал труса? А Калигула? Он чего-то боялся?
Я не знал, что Калигула играл в карты. Potta! Я вообще не знал, кто такой Калигула. И меня не волновало, проигрывает Федерико или выигрывает, лишь бы он оставался в Милане.
Мы пробыли в Милане почти месяц, и в замок вновь съехались герцоги, князья и богатые торговцы из Савойи, Пьемонта, Генуи и Бергамо, чтобы отметить день рождения Сфорца.
— Приток свежей крови! — пробормотал Федерико. Подагра измучила его, и он искал любой повод отвлечься от боли.
Я тоже искал повода — и для того, чтобы поговорить с Еленой, и чтобы увернуться от дегустаторов.
Что за пир закатили в день рождения герцога Сфорца! Угорь, минога, палтус, форель, каплуны, перепелки, фазаны, вареная и жареная свинина и телятина, баранина, крольчатина, дичина, мясные пироги с запеченными грушами! Икра и апельсины, обжаренные с сахаром и корицей, устрицы с перцем и апельсинами, жареные воробьи с апельсинами, рис с жареными колбасками, вареный рис с телячьими легкими, беконом, луком и шалфеем, потрясающая колбаса под названием сервелат из свиного жира, сыра со специями и свиных мозгов… И это лишь те блюда, которые я помню!
На каждом банкете была своя тема для обсуждения, которую оговаривали заранее. Я не прислушивался ни к речам, ни к спорам. Каждый оратор считал себя лучшим в Италии — если не в смысле красноречия, то хотя бы по длительности разглагольствований, так что после нескольких вступительных слов я становился глух. Помню только, что обсуждались честь, любовь, красота, смех и остроумие. Темой этого банкета было доверие.
Выступавшие говорили о договоре между Венецией и императором и о том, как он повлияет на Милан. Говорили о том, что Венеции нельзя доверять, так же как Риму или Флоренции, и что каждый город должен блюсти лишь собственные интересы, меняющиеся день ото дня. Кто-то сказал, что доверять можно только своей жене или мужу. Реплика вызвала всеобщий хохот и рассказы о том, как женщины обманывали мужчин и наоборот. Эту тему обсуждали довольно долго, пока архиепископ не заметил, что доверять можно только Богу. Однако немецкий воин возразил ему, что Богу доверять нельзя, поскольку никто не знает, о чем он думает. Кто-то еще сказал, что верить можно лишь своей собаке да преданному слуге.
Я в тот миг пробовал на вкус горгонцолу — любимый сыр Федерико из коровьего молока. И вдруг у меня похолодело в груди, но не от сыра, а от направления, которое приняла беседа.
— Федерико всецело доверяет своему дегустатору, правда? — спросил герцог Сфорца.
Федерико медленно передвинул больную ногу и ответил, что действительно верит мне.
— А вы не хотите его продать? — поинтересовался герцог Савойский.
— Продать? Нет. Он мне нужен. Он дает мне советы, что есть, а кроме того, нутром чует яды.
— Чует яды? — удивился торговец из Генуи. — Вы преувеличиваете!
— Ничуть, — сказал Федерико.
— Это он выжил, попробовав яда, предназначенного для тебя, Федерико? — спросил Сфорца.
Все присутствующие изогнули шеи и уставились на меня. И тут я заметил, что эти подлые крысы — брыластый, щеголь и толстяк — усмехаются и радостно потирают руки.
— Да, — отозвался Федерико. — Я могу показать на любое блюдо, и, отведав всего один кусочек, мой Уго скажет мне, из чего оно состоит.
— Тогда он должен знать все блюда на свете! — заметил один из гостей.
— Все, которые мне довелось отведать, — согласился Федерико.
— Это невозможно! — воскликнул Сфорца, проглотив телячью рульку в соусе.
У Федерико побагровело лицо.
— Нет, возможно! — медленно проговорил он.
— Ну что ж… — Сфорца улыбнулся, показал на поднос, стоявший в центре стола, и сказал: — Спорим, он не назовет нам компоненты этого блюда?
Я попытался вспомнить, кто именно поставил на стол этот поднос.
— Что это? Polpetta? [48]
— Да. Если он назовет все ингредиенты, я удвою твой выигрыш, — заявил герцог Сфорца. — А если не сумеет, ты потеряешь все, что выиграл у меня в карты.
У меня подкатил комок к горлу.
— Как мы это проверим? — спросил Федерико.
— Мой повар напишет все продукты, которые он использовал.
Повар, очевидно, ждал за дверью, поскольку тут же заполз в зал, как таракан. Откуда-то, словно по волшебству, появились листок бумаги и перо. Повар написал список продуктов, сложил листок и бросил его на стол рядом с котлетами. Я глянул на Чекки, пытаясь поймать что-нибудь в его глазах, но он дергал себя за бороду. Все произошло так быстро, что нас застали врасплох.
— Присоединяюсь к пари, — сказал герцог Савойский, швырнув на стол пригоршню серебряных колец и медальон.
Туда же со всех сторон посыпались золотые сережки, кубки, серебряные ожерелья, браслеты и броши.
Толстяк подлил герцогу Савойскому вина. Брыластый облизал губы и — чтоб мне провалиться, если вру! — подмигнул мне. Щеголь, стоявший за креслом герцога Сфорца, хитро улыбался. Перед глазами у меня вдруг отчетливо всплыла картина: я корчусь на полу, среди прекрасных стенных росписей, под люстрами с тысячью-свечей, а герцог Сфорца, стоящий надо мной, говорит: «Ты проиграл, Федерико. Он угадал все, кроме яда».
Котлеты были отравлены! Я знал это! Мне хотелось сказать Федерико — но как я мог? Я видел отблеск от кучи драгоценностей в его глазах; он уже считал их своими! Его решительность подстегнула меня. Он жаждал выиграть — и я тоже! В тот миг моими устами говорил сам Господь, точно так же как в ту памятную минуту, когда, поднявшись со своей засохшей грядки с бобами, я произнес: «Я займу место Лукки!» Повернувшись к герцогу Сфорца, который сидел за другим столом, напротив Федерико, я сказал:
— Я готов — если ваш дегустатор составит мне компанию.
— Мой дегустатор? — переспросил герцог.
— Пари будет еще интереснее, если, пока я буду пробовать котлету, ваш дегустатор сможет сказать нам, что находится в этой чашке! — Я показал на чашку со спелой брусникой.
У брыластого отвисла челюсть.
— В чашке с ягодами? — нахмурился герцог Сфорца.
Я кивнул. Герцоги, торговцы, рыцари и князья переглянулись. Брыластый посмотрел на щеголя, потом на толстяка, но они были ошеломлены не меньше его.
— Почему бы и нет? — рассмеялся герцог Сфорца.
Я взял чашку и медленно пошел к брыластому. На полпути между столами я остановился, закрыл глаза и пробормотал якобы заклятие на арабском — вполголоса, но так, чтобы этот мерзавец услышал. На самом деле я тихо молил Бога, внушая ему, что, если он действительно вознаграждает правых, смелых и достойных, ему следует прийти мне на помощь.
Потом я поднял чашку к лицу и повернулся кругом. Я делал вид, что не замечаю окружающих, которые с изумлением глядели на меня, теряясь в догадках. Архиепископ хмурился, Елена уставилась на меня во все глаза. Помню, я мельком подумал, что наконец она заметила меня.
Описав полный круг, я медленно подул на ягоды и сунул чашку брыластому в руки. На лбу у него выступили капли пота. Я повернулся к нему спиной и вернулся на место.
— Будем пробовать одновременно!
Брыластый глянул на ягоды, потом на меня.
— Он колдун! — взвыл этот подонок, показывая на меня.
Чекки и Бернардо прыснули со смеху.
— А ты перетрусил! — воскликнул Септивий.
— Перетрусил! Перетрусил! — подхватили остальные. Все мои корсольцы были за меня!
— Давайте жуйте! — внезапно взревел Федерико.
— Жуйте! — послышались голоса со всех сторон. — Да-да! Начинайте!
Казалось, что вызов брошен брыластому, а не мне. Я взял кусочек телятины. Сфорца что-то сказал брыластому. Тот потянулся за ягодой и тут же отдернул руку. По щекам у него текли струи пота.
— Бери ягоду! — крикнул торговец из Генуи.
— Нет, не трогай! — вмешался кто-то. — Он их заколдовал.
— О Господи! Да я сам попробую! — заявил немецкий рыцарь.
— Нет! — крикнул Чекки.
Федерико встал, перекосившись от боли в ноге, и повернулся своей массивной тушей к брыластому. Увидев это, все вскочили на ноги, даже архиепископ. Залаяли собаки, свеча из люстры свалилась на кучу драгоценностей. На меня никто не смотрел. Брыластый поднял чашку и взял ягоду.
— Попробуй ее! — рявкнул Федерико.
— Живо! — крикнул я, поднося ко рту кусок телячьей котлеты.
Брыластый, в свою очередь, поднес ко рту ягоду. Его рука, казалось, боролась сама с собой. Одна сила подталкивала ее к губам, другая — отталкивала. Ягода коснулась его губ — и тут брыластый выронил чашку, выпучил глаза и отпрянул назад, шатаясь, как корабль во время шторма. А потом схватился рукой за сердце и рухнул на пол. Изо рта у него, пузырясь, потекла слюна. На мгновение все застыли. Затем архиепископ протиснулся через толпу к брыластому. Кто-то из-за спины в мгновение ока рывком опустил мою руку вниз, выхватил из нее котлету и сунул мне другую.
— Я готов попробовать, — заявил я во всеуслышание и отправил телятину в рот.
Все повернулись ко мне. Федерико схватил со стола листок бумаги.
— Здесь сыр моцарелла, изюм, петрушка, — сказал я громко, — чеснок, соль, фенхель, перец — и, конечно, телятина.
— Правильно, — воскликнул Федерико, читая список, — хотя и в другом порядке. Но это не имеет значения, верно?
Все тут же забыли о брыластом. Герцог Сфорца выхватил у Федерико листок. Щеголь с толстяком смотрели на меня, ожидая, что я вот-вот закричу и грянусь оземь. Я знал, что этого не случится, однако делал вид, что не замечаю их взглядов. Откусив еще кусочек, я пожевал его, нахмурился так, словно учуял что-то неладное, кашлянул, проглотил и громко рыгнул.
— Восхитительно! — заявил я. — Мои поздравления повару.
— Я выиграл! — взревел Федерико и жадно загреб пригоршню драгоценностей.
Чекки подобрал все остальное. Федерико, опираясь на мою руку, вышел из банкетного зала, сжав челюсти, однако отказываясь признать, что его мучает нестерпимый приступ подагры.
— А теперь говори, — велел Федерико, когда мы дошли до его покоев, — что ты сделал с ягодами?
— Котлеты были отравлены, ваша светлость. Я уверен.
— Отравлены? — Его маленькие глазки стали похожими на наконечники стрел. — Откуда ты знаешь?
— Дегустаторы невзлюбили меня с первой же минуты. Две недели назад они устроили на меня засаду в парке. Очевидно, это они подсказали герцогу Сфорца его идею: если вы помните, именно он предложил пари. Они хотели убить меня и заодно вернуть ему проигрыш.
— Но зачем ты съел котлету, если знал, что она отравлена?
— Потому что вы подменили ее, ваша светлость.
— Я ничего не подменял.
Я посмотрел на Чекки. Он покачал головой. Пьеро, Бернардо и Септивий сделали то же самое. Неужели мне показалось?
— Утройте охрану у моих дверей, — рявкнул Федерико. — Чекки! Утром мы уезжаем.
Придворные поспешили прочь, чтобы выполнить его приказ. Я не понимал, в своем я уме или нет, и все пытался вспомнить прикосновение руки с котлетой — но не мог.
— Уго! — сказал Федерико.
— Да, ваша светлость?
Герцог запустил руки в кучу драгоценностей.
— Я не знаю, что произошло, и меня это не волнует. Держи!
Он сунул мне самое красивое серебряное кольцо, сверкающее драгоценными каменьями.
— Mille grazie, ваша светлость, — пробормотал я и бухнулся на колени, чтобы поцеловать подол его мантии.
— Будь осторожен, — резко сказал он. — Сфорца не любят проигрывать.
Когда я вышел в коридор, Септивий с Пьеро поздравили меня. Бернардо, сплюнув шелуху от семечек, заявил:
— Ты, должно быть, родился под знаком Льва.
— Потому что я такой храбрый?
— Потому что у тебя много жизней, как у кошки.
— Трофеи достаются победителю! — пробормотал Чекки и велел мне спуститься вниз по лестнице.
Памятуя о предупреждении Федерико, я вытащил кинжал и начал осторожно спускаться по ступенькам, то и дело оглядываясь. Гул голосов гостей поднимался мне навстречу. Внизу никого не было, кроме портретов, которые уставились на меня со стен.
Я услышал тихий шепот:
— Уго!
Я обернулся и увидел ее. Она стояла за колонной. Ее зеленые глаза блестели в свете факелов. Елена. Моя Елена, окликнувшая меня по имени.
— Как ты? Все нормально? — спросила она, протянув руку к моей шее.
— Значит, это ты! Ты подменила…
Раздались шаги. Елена толкнула меня за колонну, и мы подождали, пока шаги не стихли. Я с радостью остался бы там подольше, ощущая тепло Елены и сладкий запах ее волос. Жестом велев мне следовать за ней, Елена повела меня по темным коридорам в сад. В небе ярко светили звезды; над нами нависла огромная луна.
— Ты спасла мне жизнь, Елена.
Мне просто необходимо было произнести ее имя вслух!
Она покачала головой так, что ее волосы взметнулись вверх, а затем улеглись, как у лебедя, который распушил перья.
— Да ну их, этих дураков! Что ты сделал с ягодами?
— Niente.
— Я так и думала, — улыбнулась Елена. — Но он умер.
— Брыластый?
— Кто?
— Я так его называю.
— Да, брыластый. — Она снова улыбнулась. — Ему подходит. У него остановилось сердце. Я сказала архиепископу, но он меня не слушает.
— А я-то тут при чем?
— Архиепископ расследует все подозрительные случаи, которые могут заинтересовать инквизицию. Сегодня ночью он ничего не станет предпринимать, но завтра…
— Да что тут подозрительного?
— Ты подул на ягоды, и брыластый отдал концы!
Елена пожала плечами так, словно тут все было ясно. Oi me! Только что я был на седьмом небе — и низвергся прямо в ад! Елена шагала передо мной, словно в огненном шаре, постукивая пальчиком по щеке.
— Как долго вы еще пробудете в Милане?
— Мы завтра уезжаем.
— По какой дороге?
— Я не знаю…
— Не заезжайте в Феррару, — нахмурилась она. — У епископа там друзья.
— Меня никто не спрашивает, по какой дороге ехать. — Я схватил ее за руки. — Зачем ты мне все это говоришь?
Елена склонила голову набок и посмотрела на меня в упор.
— Я никогда не верила байкам, которые рассказывали другие дегустаторы. И я не верю, что ты отравил ягоды.
— Почему?
Она рассмеялась.
— Если бы ты владел искусством магии, ты не стал бы говорить мне все эти глупости в саду и у раздаточного стола.
Я невольно улыбнулся — я не смог бы не улыбнуться, даже если бы мне зашили губы. Каждое слово из ее уст восхищало меня. Я взял ее ладони в свои. Они были теплые и мягкие, как я и ожидал.
— А если архиепископ придет за мной сегодня?
— Он будет спать до утра. Он выпил много вина. Глядя ей в глаза, я словно читал в ее сердце. Я видел себя, идущего с ней рядом. Видел, как она носит под сердцем мое дитя, видел нас обоих в старости, неразлучных и не способных расстаться даже на миг. Я видел нас после смерти, обнимающих друг друга, словно Филемон и Бавкида.
— Ты видишь наше будущее? — спросила она.
— А ты умеешь читать мысли?
— Только твои, Уго.
Она прильнула ко мне и прижалась губами к моим губам.
О Елена! О моя прекрасная Елена! Мое счастье, моя радость, моя Елена! Слышать, как она произносит мое имя… Что может быть чудеснее? Я просил ее, чтобы она повторяла его снова и снова. Мне хотелось запечатлеть в сердце звук ее голоса. Радость захлестнула нас, и мы смеялись просто оттого, что живы. Я касался ее, целовал в губы. Мне-то казалось, что я истосковался из-за того, что не чувствую вкуса еды, но я снова ошибся. Обнимая Елену, я плакал, потому что нашел свою жизненную силу, свое ребро, ту часть, которой мне так не хватало, хотя я этого не осознавал. Даже сейчас я чувствую ее кожу, прижимающуюся к моей. Ее запах. Вкус ее пота. Я вижу ее глаза, круглые и ясные, ощущаю ее груди, бедра, маленькие сильные ступни. Ее голос звучит у меня в ушах и в сердце. О, если бы мои пальцы могли перенести ее нежность на бумагу, а перо — запечатлеть ее страсть! Одна мысль о ней озаряет тьму, как луна освещает эту комнату. Все во мне взывает к ней. Святые угодники! Так сходить с ума от желания накануне свадьбы! Прошлое проникло в мое настоящее, заполонило душу — и я не могу больше писать.
Глава 23
Когда Елена прижала свои губы к моим, я вознесся выше небес — туда, где исполняются все мечты. Мне хотелось лечь с ней, но уже рассвело, и скоро должны были встать слуги, чтобы приготовиться к отъезду. Я взял Елену за руку и поспешил к конюшне. Мы оседлали жеребца, чье нетерпеливое похрапывание разбудило парнишку-конюха. Он открыл рот, словно хотел забить тревогу, но вместо этого крикнул: «С Богом!» — и бросил нам узел с хлебом и сыром.
У ворот Елена сказала стражникам, что нам нужна дикорастущая петрушка, дабы умягчить желудки наших властителей.
— Куда мы направляемся? — спросил я, когда castello скрылся из виду.
— Во Францию, — ответила Елена так, словно мы уже решили это раньше.
Я кивнул. Франция. Почему бы и нет? Какая мне разница?
Наш жеребец скакал во весь опор. Вскоре castello и Милан стали не более чем воспоминаниями. Все кругом помогало нам в пути. Трава стелилась под ноги, птицы радостно щебетали вслед, а зеленые холмы звали вперед.
Я представил, как заскрипит зубами Федерико, когда обнаружит мое отсутствие. Сперва он подумает, что меня убили, окружит себя охраной и быстренько уедет вместе со своими трофеями. Но не исключено, что ему сообщат о пропаже коня. Меня могли повесить только за то, что я увел с конюшни жеребца. Боже мой! Да меня могли повесить просто за то, что я уехал!.. Однако я чувствовал руки Елены, обнимающие меня за пояс, ее голову, прижатую к моей спине, — и все остальное меня не волновало. Бог с ними со всеми! Пошли они к черту, Федерико, герцог Сфорца и вся их камарилья! Я был свободен… Не в силах сдержать восторг и изумление, я крикнул от наплыва чувств. Я заново родился третий раз в жизни.
Снежные вершины гор выстроились в ряд справа от нас, словно северные короли. Впереди мы увидели двоих всадников, и я окликнул их, спросив, действительно ли эта дорога ведет во Францию. Мы с Еленой поскакали к ним галопом, но они испугались и пришпорили коней.
Днем, в самый разгар жары, мы отдохнули в буковой роще, лакомясь хлебом и сыром. Как же это было вкусно! Каждый кусочек казался благословением Господним. Я подумал: «Не забыть бы сказать Септивию, что самое главное в еде — не сама пища или разговор, а то, с кем ты ешь!» Мы легли вместе на ковер из цветов и любили друг друга, пока не уснули.
Когда мы проснулись, горные вершины блестели в лучах заката. Мы проскакали еще несколько часов, после чего остановились в гостинице. Первые, кого мы увидели, зайдя туда, были путники, встреченные нами на дороге. Я заверил, что мы не собирались причинить им зла. Тот, что пониже, хлопнул рукой по груди и сказал:
— Я думал, что помру со страху! Мы решили, что вы — ангелы мщения, которые мчатся прямо на нас.
Елена сказала хозяину гостиницы, что состоит на службе у епископа Нима, и предложила приготовить его любимое блюдо в обмен на ночлег. Хозяин, мужичонка с кустистыми бровями и сопливым носом, с радостью согласился — отчасти, как мне кажется, чтобы позлить свою жену, полногрудую великаншу с руками кузнеца. Мы вымочили в вине двух цыплят, добавили уксуса и специй, а пока они жарились, Елена приготовила поленту, посыпанную тертым сыром и трюфелями, воскресное лакомство пьемонтцев.
Попробовав, хозяин заявил:
— Если вы каждый день так готовите, я найму вас, как только умрет моя жена.
На что жена отпарировала:
— Обещаю: сколько бы ты ни прожил, я проживу надень дольше!
Вот в таком приподнятом настроении мы поели и выпили, в хорошей компании и за обильно накрытым столом. Неожиданно Елена начала смеяться, сначала тихо, потом все громче и громче, прямо-таки взахлеб. Она показала пальцем на мой поднос с недоеденной полентой. А потом на свой. И только тогда я понял, почему она смеется. Оба дегустаторы, мы не попробовали свои блюда, прежде чем приступить к еде. Мы не понюхали их, не подержали во рту, а попросту наслаждались яствами, в точности как все нормальные люди, сидевшие за столом.
Я стащил Елену со скамьи, крепко сжал в объятиях и поцеловал. Несмотря на усталость после дороги, она была самой красивой женщиной на свете.
— Этот миг, — сказал я ей, — останется в моем сердце навеки.
Все за столом оживились и стали выкрикивать тосты за наше здоровье, а коротышка сказал, что, видать, мы сильно любим друг друга. И таким образом мы выполняем самый главный закон Господа, поскольку он послал любовь, дабы облегчить жизненный путь человека, а болезни и войны, преследующие нас, существуют потому, что человек забыл о своем божественном предназначении.
В гостиницу вошли трое солдат. У меня екнуло сердце, но форма на них отличалась от той, что носили охранники Федерико и архиепископа, и я тут же выбросил их из головы. Хозяин принес солдатам вина, а потом, вернувшись к нашему столу, сказал:
— Эти солдаты все время смотрят на вас.
Я сказал, что не знаю почему, и в этот миг один из них — широкоплечий капитан с густой бородой — подошел к нам и спросил:
— Как вас зовут и где ваши паспорта?
— Уго ди Фонте, — ответил я. — Я путешествую с герцогом Федерико Басильони ди Винчелли Корсольским, но я покинул его.
Не знаю, какое оправдание я собирался придумать, да и не важно, поскольку, когда я упомянул Корсоли, солдаты переглянулись, и второй спросил меня:
— Это неподалеку от монастыря Верекондо?
Я сказал, что езды до монастыря всего полдня. Он спросил, слыхал ли я о принце Гарафало. Я ответил, что нет, поскольку никогда раньше не бывал в этой части Италии. Тут солдат схватил меня за руку и с жаром заявил:
— Ты должен немедленно поехать с нами и познакомиться с нашим принцем.
Когда я спросил зачем, он ответил, что не может мне сказать. Ну уж нет… Я удрал из одной тюрьмы не для того, чтобы попасть в другую! Оттолкнув его руку, я вскочил и ударом в голову сшиб его со скамейки на пол. Потом, схватив столовый нож и заслонив собой Елену, крикнул:
— Хоть мы здесь чужие, мы надеялись, что к нам будут относиться с уважением. Однако если вы или ваш принц что-то замышляете против нас, приготовьтесь умереть, потому что я не променяю данную мне Господом свободу на людские оковы!
Солдат быстро поднялся и сказал, что они ничего против нас не замышляют.
— Принц Гарафало — хороший человек! — воскликнул хозяин гостиницы. — Он любит все живое и часто приходит к нам пообедать, просто чтобы побыть среди своих подданных.
Солдат, которого я ударил, сказал, что им просто велели отвезти меня к принцу, а если они нас напугали, то это вышло невольно и он просит прощения. «Интересно, откуда этот принц знает обо мне?» — подумал я, но, положившись на Бога, опустил нож и сказал, что, поскольку их властитель, похоже, человек мирный, я с удовольствием поеду к нему. Итак, даже не доев блюдо, приготовленное с такой любовью, мы с Еленой попрощались с радушными хозяевами и поехали в замок принца Гарафало.
Пока мы ехали в замок через виноградники и благоуханные сады с апельсиновыми деревьями, светлячки освещали нам путь. По двору палаццо бродили стаи павлинов, их оперение переливалось изумительными красками. Нам дали воды, чтобы освежиться, и чистую одежду. Меня трясло от страха, и, заметив это, слуга спросил, что со мной.
— Если мне снова придется стать дегустатором, — ответил я, — лучше сразу принять яд.
Меня вновь заверили, что принц Гарафало — хороший человек и не желает нам зла. А затем провели в маленькую комнатку с дивными резными креслами и письменным столом. Через пару минут туда же вошла Елена. Она тоже вымылась, на ней было красное платье — в точности как в моем сне. Дверь распахнулась, и слуга объявил о приходе принца Гарафало.
Первым делом я обратил внимание на его кривые, прямо-таки дугообразные ноги, из-за чего принц раскачивался при ходьбе из стороны в сторону. Второе, что бросилось мне в глаза, было его хорошее настроение. Несмотря на белую, как у овцы, готовой к стрижке, голову, энергии принца мог позавидовать любой юнец. Я сразу же понял, почему солдаты и хозяин гостиницы так боготворили его.
Он подошел ко мне, глядя прямо в лицо. Остановившись на расстоянии вытянутой руки, принц смерил меня взглядом, внимательно рассматривая мои руки и ноги. Потом снова уставился прищуренными глазами мне в лицо. Солдат что-то сказал принцу, но тот ответил:
— Мне не нужно этого видеть. Я знаю. Это он!
Хотя я немедленно проникся к принцу горячей симпатией, мне не понравилось, что меня осматривают, как цыпленка, и поэтому я спросил:
— Кто — он?
Принц Гарафало рассмеялся и, обняв меня, воскликнул:
— Мой сын! Мой сын!
Вы не представляете, что со мной было! Стены закружились хороводом, в голову ударила кровь, и я, как подкошенный, рухнул на пол.
Глава 24
Слуги поднесли к моему носу перец, который быстро прочистил мне мозги. Очухавшись, я сказал принцу, что, несмотря на железное здоровье, столь неожиданная новость подкосила меня. Быть может, это всего лишь розыгрыш — в таком случае я заклинаю его сказать мне правду. Добрый принц потребовал, чтобы мы с Еленой разделили с ним трапезу, во время которой он объяснит свое поведение. Так что мы променяли обильный стол в гостинице на еще более изысканный во дворце.
Я почти не помню, что мы ели, поскольку меня совершенно заворожил рассказ принца, который я передам насколько смогу точнее. Он сказал, что в юности был сержантом в армии папы Юлия. Наступая на Болонью, войска прошли по Умбрии, и папа велел им остановиться в монастыре Верекондо, чтобы сделать пожертвование. Поблизости от монастыря сержант встретил молодую женщину, оглашавшую окрестности рыданиями. Поскольку принц был тогда юн и хорош собой, а девушка оказалась очень красивой, ее слезы глубоко тронули его. В ответ на расспросы принца она сказала, что ее жестокий муж забрал с собой их маленького сына и ушел пасти овец, а она безумно скучает по малышу.
Принц поехал в Верекондо, где и заночевал, однако рыдания женщины продолжали звучать у него в ушах. На следующее утро он поехал к ней на ферму и объяснился в любви. Она полюбила его с первого взгляда, и так велика была их страсть, что они сбросили все оковы и отдались любовной игре до самого утра. Принц умолял любимую отправиться с ним в Болонью, но она не могла оставить ребенка. С тяжелым сердцем он покинул ее и поспешил на встречу с папой римским. Увы, отсутствие принца не осталось незамеченным. Враги так очернили его перед папой, что ему пришлось бежать во Флоренцию, а затем в Венецию.
Прошло много лет, прежде чем он смог вернуться в деревню, но женщина к этому времени умерла. Соседи сказали, что она родила второго сына, который, как понял принц, скорее всего был его ребенком, однако тот вырос и несколько лет назад уехал в Губбио.
Я с изумлением слушал этот рассказ, а когда принц упомянул Губбио, то, потеряв самообладание, обхватил его за шею и назвал своим дорогим отцом. Так сильно я не рыдал с тех пор, как умерла моя мать. Принц последовал моему примеру, и все сидевшие за столом так растрогались, что слезы текли, как сладостные ручьи весной, поскольку после всех наших невзгод в душе вновь расцвела надежда.
Отец сказал, что занялся торговлей оливковым маслом, которая сделала его богатым. Он так и не женился — воспоминание о первой любви вставало между ним и любой другой женщиной. В конце концов эта память воплотилась в портрете, который он и повел нас посмотреть. На нем простыми изящными линиями была изображена женщина с темными волосами и печальным лицом. Полные губы ее были в точности как мои, а левый глаз чуть больше правого.
— Пресвятая Мадонна! — вскричал я. — Это же моя мать! Принц улыбнулся.
— В молодости я немного учился у Леонардо да Винчи в Милане.
— Вы оказались очень талантливым учеником. Принц рассказал, что велел своим слугам запомнить лицо на портрете и приводить любого, кто хоть немного похож на эту женщину, к нему во дворец. Они это делали несколько раз, но принц с первого взгляда понимал, что перед ним не его отпрыски. Он уже отчаялся найти своего сына — до тех пор пока не увидел меня. Теперь, на пороге смерти, он мог наконец спокойно отойти в мир иной.
Я взмолился, чтобы он не говорил о смерти («Бог не стал бы так долго ждать, прежде чем свести нас вместе, если бы хотел тут же разлучить!»), и рассказал ему о невероятном путешествии, в которое мы пустились с Еленой и которое привело к нашей с ним встрече. Принц пообещал, что построит новый алтарь, дабы ознаменовать наше воссоединение. И так мы продолжали беседовать, пока птичий щебет не возвестил о приближении рассвета. Тогда отец отвел нас в спальню с прекрасными коврами и гобеленами на стенах и тонким льняным бельем на кровати. Я не верил своему счастью. Обрести любовь и найти отца — и все это за несколько дней! Чем я это заслужил? Я протянул Елене руки. Ее нежность, красота, благородство и храбрость переполняли мое сердце восторгом. Я так и вижу, как она склоняет голову мне на грудь, как берет меня за руку и целует. Это видение стоит у меня перед глазами, не тускнея ни на миг.
Но к чему продолжать? Ничего этого на самом деле не было. Ничего. Я не сбежал вместе с Еленой. Мы не остановились в гостинице, не готовили ужин, я не встретил своего настоящего отца. Все это были фантазии, тысячи воображаемых картин, которые я видел во сне и наяву. Видения эти являлись мне так часто, что стали совершенно реальными. Я помню, что мы ели, какую одежду носили, какие слова говорили, лучше, чем события, произошедшие в действительности. А теперь я написал это — и все стало правдой. Не знаю почему, но так есть.
Всю свою жизнь я верил, что библейские, древнегреческие и римские истории правдивы, поскольку они были изложены в письменном виде. Перечитав свои записи, я понимаю, как просто придумать историю, которой на самом деле не было, и заставить читателя смеяться, плакать или сопереживать. Этот дар, безусловно, ценнее всего серебра и золота на земле. Человек, которому он дан свыше, становится Богом — творцом своего собственного мира.
На самом деле мы с Еленой не могли оторваться друг от друга в те недолгие часы, что провели вместе. Порой мы говорили взахлеб, а потом наступали моменты, когда в словах не было нужды. Я прочел ей сонет, и она поцеловала меня, повторив мое имя сотню раз, так что теперь, когда я его слышу, мне чудится ее голос. Мы любили друг друга у стен castello, и нам было плевать, видит нас кто-то или нет. А потом, на рассвете, когда слуги начали грузить запряженные мулами повозки, мне пришлось уйти.
Вернувшись после дегустации завтрака Федерико, я увидел, что Елена плачет и проклинает свою гордость, которая мешала ей заговорить со мной раньше и из-за которой мы потеряли столько времени. Я целовал ее снова и снова, после чего попросил вернуться к архиепископу, поскольку боялся, что у нее могут быть неприятности, если ее застукают со мной. Но она ни за что не хотела меня покинуть.
Федерико залез в свою карету, рыцари и придворные взгромоздились на коней. Повозки, запряженные мулами, вывели во двор. Елена начала рвать на себе волосы, рыдая во весь голос. Я соскочил на землю, чтобы утешить ее, между тем как обоз прополз мимо нас и выехал через ворота. Щеголь и некоторые другие дегустаторы встали возле конюшни, наблюдая за нами.
— Езжай! — сказала Елена, вытирая слезы. — Езжай, пока они не сделали тебе дурного!
Стражники закрывали ворота, но я не хотел оставлять Елену. Разве я не потерял Агнес точно так же? Однако она заверила меня, что дегустаторы не посмеют ее тронуть, поскольку она служит архиепископу, да к тому же вокруг полно охраны.
Я сказал, что когда-нибудь вернусь к ней. Не важно, будет ли она в Ниме, Милане или Париже — я найду ее, пусть даже на поиски уйдет вся моя оставшаяся жизнь, потому что жить без нее не стоит. Елена прильнула ко мне, прижав свои нежные пальчики к моим губам, и сказала:
— Если будет на то воля Божья, мы встретимся вновь. А сейчас, Уго, езжай, прошу тебя! Езжай!
Я сел на лошадь. Дегустаторы, размахивая шпагами и дубинками, ринулись ко мне. Я пришпорил коня, разогнал их и галопом промчался по двору castello, еле успев проскользнуть через закрывающиеся ворота.
Глава 25
По дороге в Милан Чекки прозвал меня «il miraculo vivente» — живым чудом. Но я был едва жив, и жизнь моя не походила на чудо. Несмотря на то что у меня были все основания для радости, я погрузился в меланхолию. И не только потому, что нашел любовь всей своей жизни и тут же ее потерял. Я просто устал, и физически, и морально. Кости у меня ныли, кровь еле текла по жилам, я маялся от бессонницы. Когда же мне наконец удавалось заснуть, меня мучили кошмары, в которых я видел смерть и предательство. Я приобрел привычку оглядываться через плечо и облизывать губы, как те дегустаторы, с которыми мне довелось повстречаться. Да, я победил брыластого, но он превратил меня в немощный призрак. Я наконец понял, что имел в виду Томмазо, предостерегая меня от сближения с Федерико. Я заразился от герцога всеми его страхами.
Поэтому, когда на третий день пути Чекки сообщил мне, что Федерико приглашает меня в свою карсту, я не хотел идти. Чекки не сомневался в том, что у меня есть веские причины, однако посоветовал не противиться приказам Федерико.
Остальные уже были там и слушали, как Септивий читает о римском императоре, победившем орды франко-германцев.
— Его любили? — поинтересовался Федерико.
— Он был стоиком.
Губы у Федерико сморщились, как фига.
— Стоиком?
— Для стоиков добродетель — высшее благо, — объяснил Септивий. — Они верили, что для того, чтобы найти истинную свободу, вы должны отречься от страстей.
— Это я могу, — заявил Федерико, вгрызаясь в персик.
Мы дружно кивнули.
— А также отринуть от себя неправедные мысли, — продолжал Септивий.
— У меня никогда не бывает неправедных мыслей, — сказал Федерико, вытирая с подбородка сок.
Мы снова кивнули.
— А также жить среди природы, отвергая все поблажки, — закончил Септивий.
Федерико проглотил последний кусок персика.
— Basta. Завтра мы снова почитаем.
Септивий поспешно закрыл книгу и удалился, сопровождаемый Пьеро и Чекки. Бернардо дернул меня за рубашку, приглашая последовать за ним.
— Иди, — велел ему Федерико и запустил косточкой персика в его затылок. — Извини, — сказал он, когда Бернардо, обнажив лошадиные зубы, обернулся к нам. — Неправедная мысль. — После чего обратился ко мне: — Ты знал, что Марк Аврелий преследовал христиан? А у них в то время даже не было папы! — Он поправил подушки за спиной и принялся за следующий персик. — Тебе понравился Милан?
Я сказал, что да, хотя и не так, как Флоренция.
— А где картины и скульптуры лучше: во Флоренции или в Милане?
Не понимая, почему он спрашивает, я осторожно ответил:
— Мне понравилась фреска Марии Магдалины.
— С книгой в руках? Да, мне она тоже понравилась. Кто ее написал?
— Джованни Педрини.
— Джованни Педрини. — Федерико кивнул. — Ты видел шедевр да Винчи в синьории? Дерево с золотыми подвесками? Великолепно! Просто великолепно. Жаль, что ты не видал росписи и мечети в Стамбуле!
Он рассказал мне об изумительных мечетях, мозаике и драгоценностях, которые видел, когда служил султану. Меня удивило, что он не только это помнит, но и делится со мной.
— Мне хотелось бы сделать что-то подобное. — Герцог раздвинул шторки. — Посмотри на облака! Правда, они похожи на скульптуры?
Я сел рядом с ним и выглянул в окошко. Странное ощущение — разговаривать с ним, как с простым смертным!
— Да, — сказал я. — Вон то облако… Оно напоминает голову Давида во Флоренции.
— Действительно.
Боже правый! Он согласился со мной!
— Мне понравился собор во Флоренции, — добавил я, — и особенно статуя Давида. Неземная красота!
Федерико задумчиво глянул на облака, а потом задернул занавеску.
— Ты упомянул Милан, Флоренцию и даже Парму, но ни слова не сказал о Корсоли. Ни единого.
— Ваша светлость! Это просто потому, что…
— Корсоли — дыра, — сердито буркнул он.
— Прошу вас, позвольте…
— Не позволю! Но мы это изменим. — В глазах у него загорелся честолюбивый огонек. — Я построю алтарь Деве Марии в соборе Святой Екатерины.
— Чтобы он перекликался с золотой Мадонной, да?
Похоже, он напрочь забыл о золотой Мадонне.
— Да, — буркнул он, словно разочаровавшись в своей идее. — А еще я хочу сделать пристройку к замку.
— Башню?
— Нет, новое крыло в задней части, где будет располагаться библиотека. Чтобы писцы смогли переводить там мои манускрипты.
Я и не знал, что у него есть манускрипты!
— Таким образом вы превратите дворцовый двор в квадрат, — заметил я.
— Точно, я сделаю его квадратным.
— Это смелая и превосходная идея, ваша светлость.
— Да, смелая. И превосходная. Двор получится закрытым, и писцы смогут смотреть в него, пока будут работать. Я говорил с Брамантино, когда мы были в Милане. — Он начал взбивать свои подушки, а потом глянул на меня так, словно я должен был ему помочь. С тех пор это стало моей обязанностью. — Но я не хочу терять свой сад, — добавил герцог. — Во дворце должны быть сады — для размышлений.
— Их можно разбить на холме.
Федерико посмотрел на меня, как ястреб на кролика. Только я собрался извиниться, как он спросил:
— То есть как висячие вавилонские сады?
Я в жизни не слыхал о висячих вавилонских садах, а потому ответил:
— Да, только больше.
— Больше! Конечно, больше. — Он потер руки. — Я хочу, проснувшись, видеть склон холма, покрытый цветами. Висячие сады Корсоли! Мы посадим этих миланских придурков в лужу! Ты знаешь, что они говорят о Корсоли?
Я покачал головой, хотя и догадывался.
— Захолустье! Они называют мой город захолустьем!
Я видел, что надвигается буря, а поскольку мы были с герцогом наедине, она неминуемо должна была обрушиться на мою голову.
— Ваша светлость, это лишь показывает их глупость, потому что по чистоте и порядку им далеко до Корсоли.
— Ты заметил? — вскричал он.
— Они сущие свиньи, — соврал я. — Видели бы вы комнаты для прислуги! Вы пришли бы в ужас.
— Я так и знал! Это все из-за немцев. И швейцарцев. И французов. Они все свиньи! Я обустрою Корсоли на зависть всей Италии! Я сделаю его чистым и уютным!
Стоило мне вылезти из кареты герцога, как меня забросали вопросами: «Что он сказал? Чего он хотел?»
Я ответил, что Федерико разговаривал со мной конфиденциально и я не могу предать его доверие.
Чекки взял меня за руку, и мы пошли чуть впереди кареты, там, где цокот копыт заглушал наши слова.
— Федерико не сможет перестроить Корсоли…
— Почему? — спросил я. — Несколько новых зданий, картины, скульптура — все это городу не повредит. А также новое крыло во дворце.
Чекки дернул себя за бороду.
— Martori уже голодают. Если мы снова повысим налоги, они все перемрут и некому будет кормить дворец.
На следующий день Федерико опять позвал меня в свою карету. Чекки предупредил, чтобы я не поощрял идеи герцога, однако стоило тому что-то вбить себе в голову, как он становился хуже собаки, поймавшей крысу. Септивий сидел в уголке, пытаясь писать, несмотря на то что карету трясло на ухабах.
— Я приглашу в Корсоли скульпторов и художников! — сказал Федерико. — Они создадут заднее крыло, висячие сады, мою статую и картины.
Он выхватил у Септивия листок бумаги и прочел его, причмокивая толстыми набухшими губами:
— «Самому современному из гениев, моему вельможному брату и синьору Микеланджело Буонаротти. Я благодарен Деве Марии за то, что те, кто смотрит на ваши творения, не обязаны быть столь талантливы, как вы, ибо иначе их смог бы созерцать лишь Всевышний. Осознание того, что люди способны создавать подобные шедевры, явилось для меня, чьи руки, к сожалению, immersere in sangue [49], не только откровением, но и облегчением душевным. Ваша статуя Давида, которую я недавно лицезрел на пути в Болонью, так потрясла меня, что я не мог ни есть, ни пить. Я остолбенел и смотрел на сего мраморного юношу, благодаря милосердного Бога за то, что мне довелось увидеть столь неземную красоту».
Последнее выражение принадлежало мне! Затем следовала еще одна страница похвал, после чего герцог приглашал Микеланджело написать его портрет в одном из трех вариантов, которые, как он считал, будут вызовом, достойным таланта художника. Первым был портрет Федерико в виде Геракла в момент, когда он душит Немейского льва, вторым — в образе Александра, разрубающего гордиев узел, а третьим — в виде Цезаря, переходящего Рубикон. Федерико писал, что готов заплатить тысячу золотых монет. Зная, как скупо платит папа своим художникам, он, мол, не сомневается, что Микеланджело найдет применение этим деньгам. Закончив чтение, герцог уставился на меня.
— По-моему, он не сможет отказаться, — заметил я.
Федерико крякнул и прочел еще одно письмо, адресованное Тициану, с обещанием такой же суммы и с тем лишь отличием, что он заменил Геракла на Персея, убивающего минотавра.
— Федерико в образе минотавра… За это и впрямь не жалко заплатить! — проворчал Чекки, когда я ему рассказал.
Кроме того, герцог послал письма Пьеро Бембо и Маттео Банделло, приглашая их приехать в Корсоли, который, по его уверениям, был раем земным, где вдохновение столь же привычно, как грязь под ногами. Он также написал Лоренцо Лотто, Марко Д’Оджино и скульптору Агостино Бусти, чьими работами восхищался в миланском соборе. «Я хочу заказать вам мою конную статую», — писал он.
В третий раз, когда меня призвали в карету, Септивий читал вслух отрывки из книги, подаренной Вераной. К счастью, Септивий не выбросил ее, как ему велели, поскольку теперь Федерико заставлял его возвращаться к ней каждый день. Септивий как раз читал абзац, в котором говорилось, что после сморкания не стоит разглядывать носовой платок так, словно там хранятся папские драгоценности, а надо просто положить его в карман.
— Ну, это не проблема, — заявил наш повелитель. — Я вообще сморкаюсь пальцами!
Пока Септивий читал отрывки из «Одиссеи», Федерико предложил мне сыграть в триктрак. Время от времени герцог поднимал голову и спрашивал что-то вроде:
— Кого превратили в свиней?
— Цирцея превратила людей Еврилоха в свиней.
— Почему?
— Потому что она ненавидела мужчин.
— А где был Одиссей?
— Возле корабля.
— Какого корабля?
— Того, на котором они уплыли от лестригонов… Вернее, от Эола… или от феаков…
— Неудивительно, что у меня в голове все перепуталось, — буркнул Федерико. — Читай сначала.
— С самого начала? — взвизгнул Септивий.
— Откуда же еще?
Поскольку мне было трудно следить за тонким голосом Септивия, повествующим о путешествиях Одиссея либо читающим Данте, я раскачивался взад-вперед, подпрыгивая на дорожных камнях под шум дождя, тихо барабанившего в крышу кареты. Порой Федерико засыпал, иногда я задремывал сам, а подчас и Септивий, прямо во время чтения, начинал сонно похрапывать.
И только после того как Септивий сказал, что Беатриче было всего четырнадцать лет, когда Данте влюбился в нее, я подумал о Миранде. Полюбила ли она другого? Принимает ли она мое зелье? А может, она забеременела? Я так затосковал о ней, что обратился к герцогу:
— Ваша светлость! Я премного благодарен вам за ту честь, что вы мне оказали. Как вы знаете, мое единственное желание — преданно служить вам, как повелел мне Господь.
— Я всегда вижу, когда от меня чего-то хотят, — фыркнул Федерико. — Меня при этом превозносят как самого Иисуса Христа. Но ты, Уго? Ты меня разочаровываешь.
— Если я о чем-то и прошу вас, то лишь из усердия.
— О чем же ты просишь?
— Как дегустатор я могу быть полезен вашей светлости дважды в день. А если бы я стал придворным, то служил бы вам каждую минуту.
— Но что ты будешь делать? — спросил Федерико. — Пьеро — мой врач, Бернардо — астролог, Чекки — главный распорядитель, Септивий — писец и учитель.
— Я мог бы помогать Чекки…
— Ему не нужна никакая помощь. А кроме того, — нахмурился герцог, — кто будет моим дегустатором?
— Я кого-нибудь подготовлю. Это не так уж…
— Нет! — рассмеялся Федерико. — Tu sei il mio gastratore [50]. И ты всегда будешь моим дегустатором. Я больше слышать об этом не хочу!
— Но, ваша светлость…
— Нет, — сказал он.
Я никак не мог остановиться и через минуту начал снова:
— Ваша светлость…
— Нет! — рявкнул он. — Оставь меня в покое!
Больше меня в его карету не приглашали.
Мы только что проехали деревню Арраджо, к югу от Болоньи. Холмы заволокла туманная дымка, в воздухе пахло дождем. Ветер качал деревья, срывая с них красную и коричневую листву. Мне под ноги падали каштаны в зеленой колючей броне. По ту сторону долины на холмы взбиралась отара овец. Пастух обнимал под деревом девушку. «Пускай Микеланджело получит свою тысячу флоринов, — подумалось мне, — а я хочу только одного: жить здесь на маленькой ферме с отарой овец и моей Еленой. Я буду любить ее и заботиться о ней. Мы будем вместе спать ночами и вместе просыпаться по утрам». Вот такой обет я дал Елене, самому себе и Богу и скрепил его, вырезав на дереве наши имена.
Когда мы достигли долины Корсоли, было холодно и шел дождь, но, увидев острые вершины гор, кучки деревьев, похожих издали на кочаны брокколи, дворец, маячивший надгробным памятником в тумане, я так обрадовался, что поцеловал землю, благодаря Господа за то, что мы благополучно вернулись домой. В соборе зазвонили колокола. Мы запели, чтобы прогнать усталость, нам навстречу выбежали мальчишки. Стоило обозу въехать в город, как его окружила толпа жен, мужей и ребятни. Я подумал: «Где же Миранда?» — и вдруг, когда я поднимался по Лестнице Плача, из толпы выбежала женщина и бросилась мне на шею с криком:
— Babbo! Babbo!
Какое счастье вновь почувствовать ее в своих объятиях!
— Моя Миранда! Моя Миранда!
Я смотрел на нее и не узнавал. Волосы, убранные под шапочку, открывали изящную лебединую шею. В ушах болтались сережки, на мягкой белой груди покоилось ожерелье. Когда я расстался с ней, она была девчонкой, а теперь передо мной стояла настоящая женщина!
— Это твоя зазноба? — раздался голос за спиной.
Я повернулся и увидел Федерико. Карета остановилась, и он смотрел через окошко на нас.
— Нет, ваша светлость. — Я поклонился. — Это моя дочь Миранда.
Федерико уставился на нее так, что я невольно поежился. Миранда покраснела, склонила голову и промолвила:
— Добро пожаловать в Корсоли, ваша светлость! Каждый день без вас был словно лето без урожая.
Федерико вздернул бровь.
— Ты слышал, Септивий?
Септивий высунул голову в окошко.
— Лето без урожая, — повторил Федерико. — Запиши! Мне это нравится.
Карета покатила дальше. Я взял Миранду за руку, и мы пошли в замок. Когда Федерико вылез из кареты, я увидел, что он обернулся, как бы пытаясь найти нас взглядом.
Я подарил Миранде гребень, розовую воду и шиньон из светлого шелка, которые купил во Флоренции. О кольце, подаренном мне Федерико, я ей не сказал, поскольку отдал его Елене. Миранда, как в детстве, уселась мне на колени, и я поведал ей обо всем, что со мной приключилось. Она в ужасе посмотрела на меня:
— Но, babbo, а вдруг брыластый съел бы ягоды и не умер? Что было бы тогда?
— Не знаю. Я верю, что Господь уберег бы меня.
Миранда задумчиво оперлась пальчиком о подбородок и спросила:
— Раз я твоя дочь, значит, Господь бережет меня тоже?
— Конечно! — воскликнул я. — Конечно!
Я рассказал ей о Елене, о том, что когда-нибудь я женюсь на ней и мы все вместе будем жить в деревне Арраджо. Миранда поджала губы.
— Я бы не вышла замуж за дегустатора.
— Почему?
— Потому что я постоянно боялась бы за его жизнь.
Эта мысль никогда не приходила мне в голову, и после нашего спора с Федерико я не хотел больше об этом думать. Поэтому я спросил:
— А за кого ты хотела бы выйти замуж?
— За принца.
— За принца? Ну конечно, само собой. У тебя есть кто-нибудь на примете?
— В Корсоли? — спросила она, изумленно распахнув глаза.
— Метить высоко — это неплохо, — с улыбкой заметил я. — Птицы, которые летают слишком низко над землей, первые падают под выстрелами. А как же Томмазо?
— Не знаю. И меня это не волнует.
Она пожала плечами, но я услышал лукавые нотки в ее голосе.
Все оказалось несколько сложнее, чем она говорила, и я понял это, когда пришел на кухню. Томмазо, чистивший угрей, еле кивнул мне, в то время как Луиджи и другие повара столпились вокруг меня, желая услышать о путешествии и особенно о случае с брыластым из моих собственных уст. Закончив рассказ, я оглянулся на Томмазо, но его и след простыл. Луиджи сказал, что через две недели после моего отъезда фортуна изменила Томмазо.
Не довольствуясь тем, что он соблазнил жену торговца (это была его первая победа), Томмазо раззвонил об этом всем своим приятелям. Зная, как легко его завести и как он любит преувеличивать, они прикинулись, что не верят ему.
— Не uno impetuoso! [51] — заявил Луиджи под общий смех.
Короче, пытаясь доказать, что он не врет, Томмазо настоял, чтобы друзья тайком пошли вместе с ним в очередной раз, когда муж его зазнобы уехал в Ареццо. К сожалению, он не предупредил о своем приходе горничную дамы сердца и поэтому не знал, что ревнивый супруг вернулся. Когда Томмазо пришел, муж вместе со своим братом поджидали его с дубинками в руках. Они избили бедолагу, раздели догола, защемили яйца Томмазо в сундуке и дали ему бритву. Муж заявил, что вернется через час и, если незадачливый любовник будет еще в доме, убьет его. К счастью, дружки Томмазо услышали шум и, увидев, что муж уходит, проникли в дом и освободили пленника.
— Он больше месяца провалялся в больнице, а когда вышел, все в долине уже знали о его злоключениях.
Томмазо вновь стал работать на кухне, а все свободное время просиживал взаперти у себя в спальне. Он отказывался выходить оттуда, поскольку не мог смотреть, как другие парни водят Миранду по замку под ручку. Со времени заключения нашего соглашения прошло четыре года, но я ничего не говорил Миранде, а теперь, после такого позора, Томмазо вряд ли мог настаивать на своих правах. Как я и надеялся, Господь в неизреченной мудрости своей устроил все к лучшему.
Похоже, Господь и впрямь знал, что для меня лучше. Я подавил разочарование из-за неудачи с придворной должностью и усердно занялся травами: собирал их, смешивал и пробовал маленькими порциями, чтобы увидеть, какое действие они окажут. Записывая свои опыты, я значительно улучшил почерк, а глядя, как Чекки бегает взмыленный день и ночь, выполняя распоряжения Федерико, радовался, что мне отказали в продвижении по службе. Я так увлекся своими опытами, что не мог от них оторваться, хотя и никому не говорил о том, чем занимаюсь. Несмотря на то что мы с Мирандой по-прежнему жили в одной комнате, она была слишком занята и ничего не замечала. Миранда вечно вертелась перед зеркалом: то красила губы, то выпрямляла волосы, то мазала кожу, чтобы та стала нежнее. Она плакала, когда ей казалось, что парни не обращают на нес внимания, и становилась холодна как лед, стоило им только попытаться поухаживать за ней. Могла часами играть на лире, а в другой день вообще отказывалась вставать с постели. Была ласковой и нежной, а через минуту вдруг становилась такой язвительной — не приведи Господь! В такие минуты я радовался, что нас разделяет ширма.
Приглашения, которые Федерико разослал художникам и скульпторам, остались без ответа, но — porta! — какой-то остряк, видно, разослал их во все дворцы Италии, потому что тем летом художники слетелись в Корсоли, как комары. Они понаехали из Рима, Венеции и всех городов, находящихся между ними: подмастерья, выгнанные своими учителями за лень или воровство, нищие, мечтающие о дармовых обедах, должники, сбежавшие от кредиторов. Половина из них никогда не слышали ни одного стихотворения, понятия не имели о том, как держать в руках кисть, а резать им в своей жизни приходилось только хлеб. Они напивались, дрались друг с другом и приставали к женщинам.
Миранда с подружками, держась за руки, ходили по Корсоли, а эти идиоты сражались за право идти рядом с ними. Порой она садилась у окна и сидела там все утро, пренебрегая занятиями и обязанностями, в то время как толпа придурков распевала внизу серенады.
— Ну в точности как мартовские коты! — рассердился как-то я и помочился на них из окна.
Когда Федерико доложили, что художники ни за что не платят, он заявил:
— Убейте их!
Вместо этого Чекки приказал стражникам никого из художников больше в Корсоли не пускать. Кроме того, он объявил конкурс на создание нового герба для Федерико. Победитель останется, а остальным придется уйти. На первом рисунке Федерико был изображен с двумя гепардами, которых держал на поводке. Герцог махнул рукой:
— Они слишком ручные!
Я сам был свидетелем того, как принесли второй рисунок. На сей раз губа Федерико упала на подбородок.
— Почему, — спросил он у сладкоречивого художника из Равенны, — я сижу рядом с коровой?
— Это не корова, — несколько снисходительно ответствовал тот. — Это медведь.
Федерико велел его привязать на неделю к корове, чтобы напомнить, как она выглядит. Конкурс был прерван, когда из Леванта пришел караван со львом и жирафом — дарами от султана, которому служил Федерико. Все жители Корсоли высыпали на улицы, танцуя и распевая веселые песни. Закатили грандиозный пир, и тогда я впервые в жизни надел шелковую рубашку.
— Даже у Медичи не было льва и жирафа! — бахвалился Федерико за столом.
В конце концов другой художник, Граццари из Сполето, нарисовал герб, на котором Федерико душил льва голыми руками. Герцогу понравилось. Он приказал остальным призебателям до полуночи исчезнуть из замка и заказал Граццари свой портрет. На этой фреске, висящей в главном зале, Федерико, молодой и красивый как микеланджеловский Давид, восседает на белом коне в центре битвы. Лошадь встала а дыбы, а герцог в блестящих черных доспехах, склонившись влево, пронзает саблей грудь вражеского солдата.
— Граццари — настоящий мастер, — заявил Федерико. — Он точно схватил меня таким, каким я был в юности.
Герцог проявлял живейший интерес ко всем мелочам. Он похвалил Томмазо за дворец, который тот сооружал из сахара и марципана.
— Сделай подъемный мост, — сказал Федерико. — И башни должны быть чуть побольше.
Но Томмазо был дурак и пренебрег советами герцога.
Как-то вечером я вышел перед ужином во двор. Поскольку я немного перебрал белены, у меня кружилась голова. Я мог поклясться, что облака на горизонте — это спящие собаки, и уже решил было бежать во дворец предупредить, чтобы их не будили, поскольку они могут на нас напасть, как во дворе появился Томмазо. Ему стукнуло восемнадцать, и ростом он вымахал с меня. Подстриженная челка по-прежнему не хотела повиноваться расческе, однако рот у Томмазо стал больше и зубы теперь выглядели его собственными, не то что раньше, когда казалось, что дьявол всунул их в десны, пока он спал. Но больше всего изменились глаза. Они стали печальны, и из-за них он выглядел даже старше, чем был.
Томмазо заявил, что Господь наказал его за то, как он обращался с Мирандой, и что он безумно об этом сожалеет.
— Я все еще люблю ее, — тихо промолвил он.
Так много он ни разу не говорил со мной с тех пор как я вернулся, да и не похож он был на прежнего Томмазо. Подняв голову и глядя мне прямо в глаза, он сказал:
— Умоляю тебя: постарайся найти в себе силы простить меня.
Я почувствовал, как трудно ему было произнести эту фразу.
— Пожалуйста, замолви за меня словечко перед Мирандой.
— Ты должен поговорить с ней сам.
Он покачал головой.
— Я не могу.
— В таком случае, может, тебе следует найти другую девушку? В Корсоли их много. Ты симпатичный молодой человек и…
— Нет. Я люблю ее больше жизни.
Быть может, сказалось действие белены, но его горе напомнило мне о разлуке с Еленой.
— Ничего не могу тебе обещать, однако при случае я скажу Миранде о твоих чувствах.
Он поблагодарил меня и хотел поцеловать руку. Я в принципе не возражал, просто под влиянием белены мне вдруг почудилось, что моя рука уплывает в бесконечность. Томмазо сказал, что, хотя наше соглашение потеряло силу, он снова будет моими глазами на кухне. Он стал помощником самого Луиджи, и если я закажу какое-нибудь особое блюдо, он с радостью мне его приготовит. А потом принялся хвастать, что лучше всех знает всю подноготную кухни, и хотя больше не служит соглядатаем Федерико, он у герцога снова в фаворе. Он трепался и трепался, пока я не велел ему заткнуться. Несмотря ни на что, он остался прежним Томмазо!
Художники, экзотичные звери и обещание построить новые здания пробудили в Корсоли дух праздника. Каждый день приносил с собой какой-нибудь новый сюрприз, и поэтому, когда Томмазо, возбужденно махая рукой, подошел к моей двери со словами: «Пойдем скорее, ты должен это видеть!», — я накинул поверх шелковой рубашки плащ, нахлобучил новую шляпу, поскольку на улице шел дождь, и последовал за ним из дворца.
— Он был в обеих Индиях! — с придыханием заявил Томмазо, пока мы почти бежали на площадь дель Ведура, — и видел людей с тремя головами!
День выдался пасмурный, ветер рассеивал в воздухе капли дождя. На площади дель Ведура стояла целая толпа слуг. Протолкнувшись вперед, я заметил в центре ее высокого худощавого человека с длинными седыми волосами, закрывающими правую сторону лица. Левую, открытую взору, коричневую от загара и выдубленную ветрами, избороздили глубокие морщины. На нем были грязные лохмотья, старые ботинки, а на шее — уйма амулетов. От него так воняло, что мне шибануло в нос, несмотря на то что я стоял от него на почтительном расстоянии.
Он сунул длинные костлявые пальцы в мешок, висевший на поясе, и вытащил какой-то темный корень. Поднял его — и оборванный рукав скользнул вниз, открыв тощую, но мускулистую руку. Незнакомец запрокинул лицо навстречу дождю и хриплым голосом выкрикнул несколько непонятных слов. Потом открыл глаза и, окинув нас взором, сказал:
— Тот, кто положит этот корень под подушку, поймает удачу так же верно, как лиса ловит зайца.
Подойдя к полуслепой прачке, он положил корень ей в ладонь, накрыл ее рукой и что-то прошептал ей на ухо. Она вцепилась в него с воплями:
— Mille grazie, mille grazie!
— Дай мне тоже! — крикнул Томмазо.
Не обращая внимания на дождь, ливший как из ведра, маг подошел к нам, положил руку на лоб Томмазо и заявил:
— Для тебя у меня есть средство посильнее.
Он вытащил из-под рубашки голубку.
— Подари ее своему герцогу, а он даст тебе взамен долгую жизнь, потому что эта голубка — дальний потомок того голубя, что принес Ною оливковую ветвь.
Томмазо рассыпался в благодарностях и пообещал накормить мага, а также представить его Федерико.
— Я отведу тебя к нему прямо сейчас! — с жаром заявил он.
Маг улыбнулся, мигом собрал свои амулеты и зелья и зашагал по Лестнице Плача.
Я покачал головой, почувствовав, как внутри у меня разливается желчь, а рот наполняется слюной. Колени у меня дрожали. Я стоял под дождем, сжимая кулаки и вопрошая Господа, зачем он позволил мне подняться до нынешних высот. Неужели только для того, чтобы низвергнуть меня в прах? Клянусь Антихристом! Ну почему именно в тот момент, когда моя жизнь летела себе вдаль, словно перышко на ветру, непременно должен был объявиться мой братец Витторе?!
Глава 26
— Я часто думал о тебе, братишка, — сказал Витторе.
Герцог еще не дал ему аудиенцию, однако его покормили, помыли, одели — и теперь он возлежал на моей кровати, жуя яблоко и воняя духами. И хотя именно я, а не он, жил во дворце, работал на герцога Федерико и ходил в бархатных одеждах, именно мною восхищались и меня уважали люди во всей Италии, а Витторио был просто жуликом и ничтожеством, во мне шевельнулись старые страхи.
— Чего ты хочешь?
— Я? — спросил он с невинностью Христа. — Ничего. Крышу над головой. Еду.
— Я могу сделать так, чтобы тебя повесили.
— Боже мой, Уго! Это все из-за тех овец? — В мерцании свечи мне было трудно разглядеть его лицо, до сих пор завешенное волосами, из-под которых выглядывал только один здоровый глаз. — Мой бедный младший братик!
Он вскочил с кровати с грацией змеи и начал рыскать по комнате.
— Ты должен благодарить меня! Если бы не я, ты всю жизнь провел бы, бегая за отарой по холмам Аббруци. А теперь посмотри на себя! Шелковая рубашка, кинжал с рукояткой слоновой кости. Красивая комната. Репутация. А это что? — Он ткнул пальцем в шкаф. — Белена?
Я выхватил у него листья.
— И мышьяк? Кто еще знает об этом, братишка?
— Никто! — сказал я, выхватив кинжал.
— Уго! — Он сделал изумленное лицо. — Ты что, собираешься убить меня за это?
— Нет. За то, что ты убил моего лучшего друга Торо, когда мы возвращались с рынка.
Витторе рухнул передо мной на колени.
— Прошу тебя, Уго!
— О чем ты его просишь? — раздался нежный голосок.
Ширма отодвинулась. За ней стояла Миранда, сонно потирая глаза. Ее темные волосы были всклокочены, маленькие белые зубки сияли в отблесках свечи, из-под ночной рубашки виднелись мягкие пухлые ступни.
— Миранда? — воскликнул Витторе, тут же вскочив на ноги. — Che bella donzella! [52] Ты меня помнишь? Своего дядю Витторе?
Он раскинул руки в стороны, собираясь обнять ее. Одна мысль о том, что этот подонок коснется моей дочери, привела меня в бешенство, и я встал между ними.
— Иди в постель! Иди, я сказал!
— Позволь ей побыть с нами, Уго! Если не считать отца, в этом мире осталось только три ди Фонте. Давайте же наслаждаться моментом! Возможно, завтра мы расстанемся навеки.
— Ты Витторе? Брат моего отца?
— К твоим услугам, моя принцесса, — поклонился Витторе.
Миранда увидела кинжал у меня в руках, и глаза ее округлились от изумления.
— Что ты делаешь, babbo?
— Он показывал мне свой кинжал, — улыбнулся Витторе. — А я ему — свой. — В руке его, словно по мановению волшебной палочки, появился длинный кинжал. — Два брата просто демонстрировали друг другу, как они отгоняют дьявола, вот и все.
Я спрятал свой кинжал, он свой тоже. Миранда села на мою кровать.
— Она так же прекрасна, как Элизабетта.
— Ты ни разу не видел ее мать.
— Но она явно пошла не в тебя. — Витторе подмигнул Миранде. — Я помню, как Уго в грозу прятался под юбки матери.
— А мне ты велел не бояться грозы! — упрекнула меня Миранда.
Витторе рассмеялся.
— Мы с ним вырезали длинные палки и сражались, играя в рыцарей. Разве Уго тебе не рассказывал?
— Babbo почти никогда не говорил о тебе. Откуда ты приехал?
— Отовсюду.
Витторе сел рядом с ней.
Миранда уставилась на блестящие амулеты у него на шее.
— Ты был в Венеции? — спросила она.
— Я год прожил в палаццо на Большом канале — лучший год моей жизни.
— Я бы тоже хотела туда поехать. — Миранда вздохнула, обхватив колени руками. — Кое-кто однажды собирался меня туда свозить.
— Я был во Франции, в Германии и в Англии тоже.
— А это правда, что у англичан есть хвосты? Папа так сказал.
— Ничего подобного я не говорил!
— Говорил!
Витторе разразился смехом и, повернувшись ко мне, заметил:
— Она очаровательна. Нет, Миранда, у них нет хвостов. По крайней мере у тех женщин, с которыми я встречался. А их я рассматривал очень внимательно.
Миранда покраснела.
— Я даже в Индиях побывал.
— В Индиях?
— Да, где люди едят других людей.
У Миранды так округлились глаза, что я испугался, как бы они не вылезли из орбит.
— Ты видел, как они едят людей?
Витторе кивнул.
— А кроме того, они выпускают дым из ноздрей и круглый день ходят голыми.
Он вытащил из мешочка трубку с чашечкой на одном конце и двумя разветвлениями на другом. Извлек из другого мешочка какие-то коричневые листья, положил их в чашечку, а потом сунул обе тоненькие трубки себе в ноздри. Поджег листья с помощью фитиля — и глубоко затянулся. Мы с Мирандой, как зачарованные, смотрели на длинную струю дыма, которая через пару секунд вылетела у него изо рта. Миранда ахнула от ужаса.
— У тебя в желудке огонь?
Витторе покачал головой.
— А что же это тогда? — спросил я.
— Это называют табаком. Он исцеляет все людские немочи. Желудок, головную боль, меланхолию. Все болезни. В Индиях и мужчины, и женщины курят его днями напролет.
Он выпустил еще несколько струек дыма, пока чашечка не опустела, и отложил трубку.
— Я видел столько чудес! Страны, где солнце сияет каждый день, а дожди идут совсем недолго, только лишь для того, чтобы полить цветы. Но какие цветы! Ах, Миранда! Они больше моей ладони и окрашены во все цвета радуги! — Витторе поднял длинную руку к потолку. — Деревья, достающие верхушками до неба, а на них больше фруктов, чем в раю! — Он вздохнул и снова сел. — И тем не менее, куда бы ни забросила меня судьба, я всегда возвращаюсь в Корсоли.
— Почему? — спросила Миранда. — Тут так скучно!
— Корсоли — мой дом. Как и твой. Я хочу умереть здесь.
Он перекрестился.
— Ты собираешься умереть?
— Мы все когда-нибудь умрем.
— Это верно, — заметил я. — Ты лучше расскажи нам, Витторе, что было после того, как ты стал разбойником.
— Ты был разбойником? — ахнула Миранда.
Витторе пожал плечами.
— Сначала я просто пытался добыть себе еду. А потом мне стали платить за то, чтобы я грабил людей.
— Кто? — нахмурилась Миранда.
— Герцог феррарский, швейцарцы, император, французы. Я стал солдатом и сражался за всех, кто мне платил. — Витторе склонил голову и почти шепотом добавил: — Я видел такие ужасы, которых не пожелаю и врагу. — Он покачал головой, словно отгоняя внезапно вспомнившийся кошмар. — Когда я перестал воевать, то решил стать священником и посвятить себя Господу.
— Е vero? — сказал я. — И что же тебе помешало?
— У меня есть талант.
— Торговать приворотным зельем?
— А что в этом плохого, babbo, если он дарит людям любовь?
— Вот именно! — сказал Витторе, нежно похлопав ее по коленке. — Дарить любовь! Какое призвание может быть выше?
— Именно так ты заработал свой сифилис?
— Ну почему ты такой злой, babbo?
Витторе приложил к губам палец.
— Не сердись на своего отца. Он хочет защитить тебя от жестокостей жизни. Жаль, меня некому было защитить. — Он повернулся ко мне. — Я заразился им от женщины. И простил ее.
Он медленно сдвинул волосы, прикрывающие половину лица. Миранда вскрикнула. Веко у Витторе впало и съежилось, так что глаз выглядывал из складок гниющей кожи. Щеку избороздили глубокие морщины, а челюсть была покорежена так, будто злой дух разъедал его лицо изнутри.
— Мне недолго осталось жить. Я хочу лишь одного: провести остаток своих дней с людьми, которых я люблю и которые любят меня.
— Я сейчас заплачу! — фыркнул я.
— У меня отсохли два пальца, — сказала Миранда, протягивая Витторе правую руку. — И на ноге тоже.
Витторе с величайшей торжественностью взял ее руку в свои, пробормотал молитву и нежно поцеловал безвольные высохшие пальчики. Потом встал на колени и поцеловал пальцы у нее на ноге. Миранда смотрела на него так, словно он был самим папой римским. Не вставая с колен, Витторе снял с себя серебряный амулет и надел Миранде на шею, так что тот повис у нее между грудей — маленькая серебряная вещица в виде ладони. Большой, указательный и средний пальцы у нее были выпрямлены, а безымянный и мизинец — сжаты.
— Это мне? — изумилась Миранда. — Что это?
— Рука Фатимы. От дурного глаза.
— Похоже, тебе она не очень помогла, — проронил я.
— Какая красивая! — восхитилась Миранда.
— Теперь она будет защищать нас обоих.
— Я всегда буду ее носить.
Они говорили так, словно меня вообще не было в комнате!
— А это рута? — Миранда показала на серебряный цветок, также висевший у Витторе на шее.
— Да, рута. И вербена — цветы Дианы.
— А это?
Витторе нежно погладил серебряный пенис с крылышками.
— Мой любовный амулет, — сказал он.
Что делает зло таким привлекательным? Чем оно безобразнее, чем загадочнее, тем больше завораживает душу. Я знаю людей, которые и помыслить не могли о том, чтобы зайти в логово ко льву, и тем не менее они не боятся разговаривать с дьяволом. Неужели они считают, что способны победить зло? Что оно их не коснется? Как они не видят, что зло питается именно их добротой?
С Мирандой творилось нечто подобное.
— Почему ты так холоден со своим братом? — спросила она меня, когда Витторе вышел из комнаты. — Неужели ты не видишь, как много ему пришлось выстрадать?
Боже милостивый! Мне хотелось выдрать на себе все волосы! Я рассказал ей, как Витторе бил меня в детстве. Как он чернил меня перед отцом. Как отказался дать мне несколько овец, чтобы завести свое хозяйство, несмотря на то что я пас его отару зимой и летом, день и ночь, пока он пьянствовал и развлекался со шлюхами. Я рассказал ей, как он убил моего лучшего друга.
Миранда кивнула, словно понимая меня, но тут же спросила:
— Неужели нас всю жизнь будут судить за прошлые грехи? Разве Христос не простил грешников?
— Волк навсегда останется волком, Миранда.
— Но он же твой брат! У меня никогда не было ни брата, ни сестрички. И матери тоже. Я молилась ночами, чтобы Пресвятая Богородица послала мне брата, который мог бы меня защищать. Или младшую сестричку, чтобы играть с ней. Или маму, чтобы она наставляла меня.
Она словно напрочь забыла то, что я только что ей сказал! Я повернул ее ладони вверх, чтобы посмотреть, не сунул ли Витторе ей какое-нибудь зелье. Потом сорвал с ее шеи ожерелье, чтобы убедиться, что он ничем его не натер. Как он сумел за считанные секунды восстановить против меня мою дочь? Меня охватило такое бешенство, что я не удержался и заорал:
— Если я еще раз увижу, как ты разговариваешь с Витторе, я побью тебя!
Обычно, когда придворные выходили из покоев Федерико, они тут же начинали поливать друг друга грязью, однако после того как герцог дал аудиенцию Витторе, всех их объединила общая ярость.
— Он сказал, — с возмущением крикнул Бернардо, — что, судя по расположению звезд, у Федерико будет новая жена. Нарисовал на полу круг, что-то пробормотал по-латыни, посовещался с куриной лапкой, уставился Федерико в глаза и заявил: «Через два месяца. Самое позднее — через три!»
— Он и зелье ему какое-то дал, — ввернул Пьеро без своего обычного смешка.
— Герцог не мог ему поверить, — сказал я.
— Не мог? Да он назначил его придворным магом! — рявкнул Бернардо. — Этот тип будет сидеть за столом рядом с Федерико!
* * *
— Когда Федерико не получает того, что хочет, — сказал я Витторе у конюшни, — он убивает людей.
— Это моя проблема! — отозвался он.
— Не только твоя. Он убьет и других…
— Тогда притворись, что ты меня не знаешь. Мы не братья и вообще не родственники.
— Я это запомню, — процедил я сквозь зубы.
Со дня появления Витторе над долиной нависли черные тучи. Дожди секли стены замка, во дворе завывали ветры, расшатывая каменную кладку и с корнем вырывая вековые деревья. Крестьяне в Корсоли говорили, что по ночам из дворца к облакам взлетают демоны, а затем спускаются обратно. По всему зданию расползлись плесневые грибки. Я просыпался и ощущал, как запах гниения забивает ноздри. Сколько духов я на себя ни выливал, это не помогало. Я знал, что во всем виноват Витторе.
Сначала женщины побаивались его, однако я видел, как он нежно обнимал их за талию и уводил за колонну. Появляясь через пару минут, они улыбались и выглядели спокойными и довольными. Дело было не в том, что он им говорил. Когда я спрашивал, они не могли даже повторить. «Все дело в том, как он говорит, — сказала одна из них. — Голос у него слаще меда!»
А пожилая прачка, вздохнув, призналась: «Он смотрит на меня — и завораживает взглядом».
Матерь Божья! Мне его голос казался помесью ослиного рева со змеиным шипением. Неужели они не видят зла, скрывающегося за его словами? Нет, отвечали они, пожимая плечами. Они не могли — или не хотели! — ничего видеть. Глупые коровы! Не важно, молодые или старые, замужние или незамужние. Да что там женщины — мужчины тоже! Только для них его голос был не слаще меда — он звучал, как сражение с французами или немцами. Он рассказывал им о том, как плыл в Индии, месяцами не видя ничего, кроме моря. Он говорил о китах, высоких, как корабль, и вдвое более длинных. О волнах, которые поднимались в океане и с ревом обрушивались на судно, унося с собой людей и исчезая в мгновение ока, словно их и не было. Он рассказывал о туземках, разгуливавших нагишом и радостно совокуплявшихся с моряками. О королях, которые были богаче папы римского, а жили как крестьяне. О краснокожих людях, воспринимавших золото так же равнодушно, как траву. Все заслушивались его историями и умоляли рассказать еще.
— Они нуждаются в любви, — заметил как-то Витторе.
Не знаю, что он наплел Федерико (мой осторожный братец помалкивал, когда я находился рядом), но, очевидно, это было именно то, что герцогу хотелось слышать. Порой Витторе нашептывал ему что-то на ухо, и Федерико покатывался со смеху. Все остальные сидели, набрав в рот воды и уставившись в стол, поскольку каждый боялся, что именно он стал предметом насмешек Витторе.
Он посоветовал герцогу добавлять в каждое блюдо имбирь. Я тяжело дышал, высунув свой бедный язык, как помирающая от жажды собака, и уже не ощущал никакого вкуса. Подозреваю, он сделал это для того, чтобы я не смог почувствовать яд. Порой я просыпался среди ночи в полной уверенности, что Витторе работает на родственников Пии из Венеции, или на герцога Сфорца из Милана, или на какого-нибудь другого вельможу, имеющего зуб против Федерико. У герцога было так много врагов! Но не для того же я спасал его жизнь, рискуя собственной шкурой, чтобы этот содомит убил моего хозяина!
Я спросил у Томмазо, заходит ли Витторе на кухню.
— С какой стати? — буркнул Томмазо, недовольный тем, что я его разбудил.
Я сердито встряхнул его за плечи:
— Он дает тебе какие-нибудь зелья или травы, чтобы ты подложил их в блюда Федерико?
— Нет! — возмущенно воскликнул Томмазо. — Он помогает герцогу Федерико!
Я все понял. С тех пор как Витторе дал Томмазо голубку, этот глупый мальчишка проникся к нему доверием, поскольку надеялся, что мой братец поможет ему вновь завоевать Миранду.
— И не надейся, — сказал я. — Он не поможет.
— А ты говорил с ней?
— Не было подходящего случая.
Он фыркнул — и я не мог не признать, что это действительно была пустая отговорка.
Вечером, когда Миранда играла на лире, я спросил ее, думает ли она когда-нибудь о Томмазо. Лица дочери я не видел, однако она сбилась с ритма.
— Нет, — ответила она, однако дрожащий голос выдал ее.
Буквально за несколько дней Витторе стал так же необходим герцогу Федерико, как его палка, без которой он теперь не ходил. Однажды я случайно услышал, как Витторе возражает против планов, задуманных Федерико по дороге из Милана.
— Мне кажется, вам нужно построить новый замок, — сказал Витторе.
— Новый замок? — протянул Федерико, смакуя ножку каплуна, вымоченную в имбире.
— Прошу прощения, ваша светлость, — вмешался я, — избыток имбиря плохо действует на ваш организм.
— Ах, Уго! — откликнулся Федерико. — Да что ты знаешь? Что ты видел в этом мире? Сколько раз ты уезжал из долины? Всего один? Поездка в Милан не считается!
Я отпрянул, словно ударенный молнией. Федерико дружески пихнул Витторе локтем и рассмеялся, не видя, как во мне закипает злость. Но Витторе заметил. Он боялся, как бы я не сказал Федерико, что мы — братья. Все перевернулось с ног на голову! Пару недель назад именно я не хотел, чтобы кто-то знал о нашем родстве — а теперь Витторе воспринимал меня как обузу! Я знал, что он почувствует себя в безопасности, только когда убьет меня.
Наутро после полнолуния старую прачку обнаружили слоняющейся по двору в голом виде и бормочущей что-то о Диане. Никто не понимал, о какой Диане она говорила, и хотя во дворце было несколько девиц с таким именем, служанки божились, что они тут ни при чем. Пьеро пустил старухе кровь и дал целебные мази, однако она отказывалась объяснить, что с ней стряслось, и то и дело бухалась на колени, умоляя всех о прощении. Это было лишь одно из событий, которые выводили меня из себя. Чекки ходил с надутым видом, Пьеро и Бернардо почти не показывались на люди. Септивий сказал мне, что Миранда часто засыпает на уроках. Изабелла, жена придворного, к которой Миранда поступила в услужение, жаловалась, что моя дочь пренебрегает своими обязанностями. Я пытался с ней поговорить, но она со скучающим видом отвечала, что делает все, как положено. Томмазо клялся, что понятия не имеет, отчего она так переменилась. Дворец вокруг меня распадался на части — и все это было делом рук Витторе.
У входа в конюшню меня остановили двое парней и спросили, чего мне нужно. Я хотел было дать им по башке, как изнутри послышался голос Витторе:
— Пропустите его!
Пока я шел мимо, лошади косились на меня сонным глазом. Витторе устроил себе пристанище в углу конюшни, на куче соломы. Со стропил свисали странные предметы — челюсть осла, прядь волос, отломанный кусок скульптуры. Серый каменный замок обдавал промозглым холодом, а здесь было тепло, пахло конями и сеном и чем-то еще. От этого запаха мне захотелось лечь и уснуть.
Витторе сидел на соломе. Всклокоченные волосы по-прежнему торчали во все стороны, на шее висели амулеты, однако на нем были новый черный камзол, туфли и плащ. Мне, чтобы обзавестись новой одеждой, понадобились месяцы, не говоря уже об обуви и плаще. Прошли годы, прежде чем я позволил себе такую роскошь.
— А ты хорошо устроился, — заметил я.
Он откинулся назад, затянулся табаком и выпустил дым прямо мне в лицо.
— Бог милостив.
Меня раздражало то, что я стоял перед ним, словно его придворный.
— Что ты даешь Миранде? — спросил я.
— Ах, Миранда! Ангел мой, — улыбнулся Витторе.
— Что ты ей даешь?
— То же, что и всем, Уго. — Он снова затянулся. — Любовь.
— Не смей давать ей свои снадобья! Я запрещаю!
— Ты угрожаешь мне, Уго?
— Да, я угрожаю тебе.
— Слишком поздно.
— Ничего не поздно! — сказал я и, услышав шум, обернулся.
За моей спиной стояли конюхи с обнаженными кинжалами.
— А я говорю, поздно, Уго! — повторил Витторе. Голос у него изменился. Он вскочил, выхватив из ножен свой клинок. — Слишком поздно!
Мальчишки-конюшие нерешительно переглянулись.
— Он же дегустатор, — тупо проговорил один.
Я громко крикнул и, к счастью, кто-то во дворе отозвался. Когда мальчишки обернулись, я сбил их с ног и побежал из конюшни со всех ног. Ворвался в свою комнату, сел у окна и задумался. Отныне надо быть куда осторожнее. В следующий раз удача может мне изменить.
Дождь шел семь дней и семь ночей. На небе все громоздились и громоздились тучи, пока день не стал темным, как ночь. Стены замка покрылись мхом, в коридоры проник серый туман. В столовой, на кухне, в моей спальне начали появляться лужи. Все ходили простуженные. Чекки не вылезал из кровати, Бернардо целыми днями чихал, а Федерико мучили приступы слабости и апатии. Я тоже простыл и никак не мог исцелиться. Один Витторе не заболел. У него оставалось меньше месяца, чтобы выполнить данное Федерико обещание, но, казалось, его это не волновало. Каждую ночь я молился о том, чтобы Федерико выгнал его из долины либо сбросил со скалы.
Миранда почти ничего не ела и часами смотрела на дождь. Ухажеры ее больше не интересовали, она перестала причесываться. Как-то раз, отложив эксперименты с травами (я каждый день принимал крошечные дозы мышьяка и шафрана лугового), я попытался за ней проследить, однако она ускользнула от меня. А у меня так разболелась голова, что мне пришлось прилечь. Я спросил Бернардо: может, это звезды так на нее влияют?
— Когда она родилась?
— Через три дня после праздника Тела Христова.
Я помнил это, поскольку Элизабетта рвала цветы шиповника, чтобы бросать их в процессию, а лепестки запутались у нее в волосах, и она была так хороша, что я умолял ее не вынимать их.
— Рак… — пробурчал Бернардо. — Такое поведение вполне естественно. Возможно, она проживет до семидесяти лет. А может, и нет.
Пьеро предположил, что это у нее из-за месячных, а впрочем, точнее он скажет через три дня, в полнолуние. И добавил, что с удовольствием пустит ей кровь.
— Да я лучше умру, чем позволю этой свинье ко мне прикоснуться! — крикнула Миранда.
— Он спас тебя, когда ты чуть не замерзла.
Что бы я ни говорил, все выводило ее из себя, даже самые невинные мелочи. Когда я заметил, что видел, как она разговаривала с Томмазо, Миранда крикнула:
— Ты шпионишь за мной!
У нее сорвался голос, она отвернулась от окна. Внизу, в саду Эмилии, Витторе беседовал со старой прачкой.
— Это как-то связано с Витторе, да? — спросил я.
— Нет!
— Ты врешь!
— Нет! — взвизгнула она. — Нет! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Витторе поднял голову и улыбнулся мне.
В ночь полнолуния я выскользнул из-за стола, пока Септивий читал «Чистилище» Данте, и пошел на конюшню. Конюхи еще ужинали в столовой для слуг. Я залез на кучу соломы под самой крышей, где Витторе устроил себе лежбище, и затаился. Вокруг меня висели амулеты и талисманы, в ноздри снова ударил странный запах, от которого клонило ко сну.
Наверное, я уснул, потому что меня разбудили приглушенные голоса. Во тьме еле видно мерцал огонек свечи. На соломе спиной ко мне сидели несколько человек и пили из чаши, передавая ее по кругу. Витторе сидел к ним лицом, лаская кого-то у себя на коленях. Он тихо разговаривал с этим кем-то и поглаживал по спине, как котенка. А потом поднял так, чтобы все увидели — не котенка, а жабу! Значит, он все-таки был incantatore [53]. Колдун! И это бесовский шабаш. Я хотел немедленно сообщить Федерико, но потом все-таки решил остаться, поскольку никогда раньше не видел таких сборищ.
Мужчины и женщины по очереди наклонялись и лизали жабу. Мне доводилось совершать грехи, за которые Господь меня осудит: например, за то, что я трахнул овцу, — однако никогда в жизни я не лизал жабу! Через пару минут один из мужчин встал и заскакал по конюшне так, словно в него вселился дьявол. Это был Томмазо. Вот дурак! Затем поднялись и остальные, стуча ногами, как новорожденные телята. Они пытались куда-то идти, но пространство было такое маленькое, что они постоянно натыкались друг на друга. Одна женщина кружилась и кружилась, пока не упала с широко открытыми глазами и судорожной улыбкой на губах. Кто-то из мужчин воздел руки над головой и закричал. Витторе с такой силой зажал ему рот ладонью, что несчастный грохнулся на землю и больше не пискнул. Женщина, лежавшая на полу, повернула голову и уставилась на меня. Она подняла руку, показывая пальцем, однако, к счастью, никто не обратил на нее внимания.
Не знаю, как долго они бродили так, спотыкаясь и натыкаясь друг на друга, но тут Витторе, повернувшись к ним спиной, поднял руки и прошипел:
— Отрекаюсь от Иисуса Христа!
— Отрекаюсь от Иисуса Христа! — подхватили все остальные.
— Мадонна — шлюха! — продолжал Витторе. — Христос — лжец. Я отвергаю Бога!
Porta! Даже если Бог не отвечал мне, я никогда не отрекался от него. Я молил Господа, дабы он понял, что, несмотря на мое присутствие в конюшне, я не участвую в этом шабаше. Витторе выкрикнул еще несколько святотатственных фраз. Остальные с жаром повторяли их хором. Одна из женщин, радостно хихикая, твердила нараспев: «Мадонна — шлюха! Мадонна — шлюха!»
— Диана, bella Диана! — тихо позвал Витторе. — Приведи своего коня!
Неужели это та Диана, которую упоминала старая прачка? Кто она такая — и как она приведет туда коня? Ведь там уже яблоку некуда упасть!
Потом Витторе спросил, видят ли они его могучую голову. Присутствующие дружно ответили: «Да!» Что они там видели — ума не приложу. Никто из них не пошел за лошадью, так что скакуны по-прежнему стояли на другом конце конюшни. Очевидно, все они были просто околдованы.
— В таком случае, повинуйтесь ему! — сказал Витторе и повернулся спиной.
Боже правый! На голове у него были козьи рога! Я чуть было не прыснул со смеху, но в этот миг Витторе задрал рубашку и показал свое обнаженное тело.
— Sarete tutti nudi! [54] — велел он.
И что вы думаете? Они начали снимать одежду! Внезапно я увидел, что одна из женщин — моя Миранда. Стыдно признаться, но я не мог отвести от нее глаз. Она была так молода и так прекрасна! Маленькие твердые грудки, плоский животик, полные бедра, округлые ягодицы… Меня охватила бешеная ярость, и все же я сдержался.
Старая прачка с обвисшими грудями и похожими на древесный ствол бедрами встала перед Витторе на колени и поцеловала его пенис. Он отвернулся и подставил ей задницу. Она раздвинула ему ягодицы и звучно чмокнула в анальное отверстие. Витторе повернулся и положил ей руку на лоб. Она со стоном рухнула наземь. Я не мог поверить своим глазам! Неужели это позорище действительно происходит здесь? Здесь, в конюшне герцога Федерико, в то время как в нескольких ярдах отсюда замок погружен в глубокий сон? Но это было еще не все.
Томмазо, бухнувшись перед Витторе на колени, тоже поцеловал его член, а затем отдал дань заднице моего брата.
Шестеро присутствующих проделали ту же процедуру, а закончив, повалились друг на друга, совокупляясь, как дикие звери. Подошла очередь Миранды — но для нее не осталось больше партнеров, кроме самого Витторе. Он положил ей руку на затылок. Все, решил я, с меня хватит! Мне было все равно, вызывал ли он демонов или сам был дьяволом. Во всеуслышание призывая на помощь Отца, Сына и Святого Духа, я скатился со скирды и побежал к Витторе, нацелив кончик кинжала в его здоровый глаз. Остальные, увидев меня, завопили, но я промчался мимо них, как ветер, и они не успели меня задержать. Витторе сплюнул и поднял руку. Глаз у него стал совершенно черным. Значит, он все-таки сам дьявол! Моя рука застыла в воздухе, словно кто-то отталкивал ее! Витторе схватил меня за пояс, и тут я пырнул его кинжалом в грудь.
Мы упали на землю. На меня навалились приспешники Витторе, и я без разбору колол их кинжалом. Кто-то срывал с меня одежду, кто-то другой вцепился зубами мне в запястье. Очевидно, свечи упали, поскольку внезапно сырую солому начали лизать огненные языки, а конюшню заволокло дымом. Я схватил Миранду за руку. Она отбивалась от меня с неженской силой, так что мне пришлось дать ей оплеуху и стукнуть головой о стенку. Я перебросил ее через плечо. Пламя поднялось уже почти до потолка. Лошади, лягаясь и оглашая воздух испуганным ржанием, рвались из пут на волю. Люди пытались пробраться к выходу, лавируя между огнем и конями. Пламенные языки прорвались через крышу, набросились на нас — и начался сущий ад! Человека, бежавшего передо мной, затоптала лошадь. Я споткнулся. Миранда свалилась на пол. Половина крыши рухнула, горящие уголья посыпались на охваченных паникой коней. Я подхватил Миранду, ткнул кинжалом какую-то фигуру, вставшую у меня на пути (моля Бога, чтобы это был Витторе), и, шатаясь, вышел из конюшни. Лосины у меня тлели, в волосах у Миранды вспыхивали искорки огня.
Люди вопили и стонали, лошади ржали, как ненормальные. Гончие лаяли и завывали, кто-то звонил в пожарные колокола, им вторил лихорадочный звон с колокольни собора Святой Екатерины. Из дворца выбегали слуги. Я с дочерью на плече прошел через сады Эмилии к заднему входу в замок, а потом по лестнице в нашу комнату. Глаза у Миранды были затуманены, она звала Диану и пела гимны дьяволу. Сунув ей в рот тряпку и привязав к кровати, я поспешил назад во двор, где беспорядочно сновали слуги, а черный ветер разносил бешено ревущий огонь.
Чекки поставил слуг в ряды, чтобы они заливали пожар, однако Федерико велел им идти в конюшню спасать лошадей. И вдруг, когда уже казалось, что конюшня вот-вот рухнет, в замок ударила молния, зарокотал гром — и хлынул ливень. Огонь зашипел, заметался и в конце концов, не выдержав напора, сдался и потух.
Половина конюшни была разрушена, погибло десять скакунов. Их жалобные вопли и запах горящей кожи преследовали меня несколько дней.
Утром я ждал, что к нам в дверь постучат стражники и арестуют меня или Миранду. Однако этого не случилось, и тогда я решил сам рассказать Федерико, что видел. Он уже проснулся, и, к моему удивлению, в его покоях сидел Витторе. Одна рука у него была перевязана, но в целом он выглядел живым и невредимым. Что изумило меня еще больше — Федерико был в хорошем настроении!
— Ваша светлость! — начал я. — Позвольте мне рассказать, какой чудовищной опасности вы подвергались…
— Я куплю новых лошадей, Уго. Еврей Пьеро за них заплатит. Витторе говорит, он устроил в конюшне шабаш.
— Пьеро?
— Да. Сейчас его вздернут на дыбу. Он признается!
Я чуть было не рассмеялся. Значит, это Пьеро устроил шабаш?
— Но у меня есть и хорошая новость, — продолжал Федерико. — Витторе сказал, что женщина, которую я искал повсюду, все время жила здесь, во дворце.
— Во дворце? — повторил я. Час от часу не легче! — И кто же это?
— Твоя дочь, — улыбнулся герцог. — Миранда.
Глава 27
— Ты недоволен?
— Недоволен? Я польщен безмерно! Небеса благословили меня! — воскликнул я.
— Ее лунный гороскоп идеально подходит герцогу, — улыбнулся Витторе.
— Хочу, чтобы сегодня они сидела за столом рядом со мной, — заявил Федерико.
— Да, ваша светлость.
— И присмотри за ней, чтобы она хорошо отдохнула, — добавил Витторе.
Я пошел к себе. Голова у меня кружилась так, словно я наглотался лугового шафрана и белены одновременно. Миранда, моя дочь, Миранда, мое дитя, будет сидеть за герцогским столом!.. Я знал, почему Витторе так поступил. Он обещал найти Федерико невесту в течение двух месяцев, а время уже почти прошло. Раз ему самому не удалось заполучить Миранду, он решил отдать ее Федерико. Неужели герцог действительно сделает мою драгоценную Миранду своей любовницей? «Нет, ни за что! Она слишком молода!» — сказал я себе. Но разве для Федерико это имеет какое-то значение? Она уже не девственница, хотя герцог не в курсе — и ему наверняка наплевать. Интересно, как это воспримет Миранда? А вдруг она разочарует его, или нагрубит, или вскрикнет, или засмеется не вовремя? Слуга, который рассмеялся, услышав мою шутку по дороге в Милан, все еще сидел в темнице. Шлюху, стукнувшуюся головой о потолок кареты герцога, насколько мне известно, утопили во рву. Крестьянину, распевавшему глумливые стишки на карнавале, отрубили голову. И что, интересно, станется со мной? Неужели меня вынудят пробовать блюда, приготовленные для Федерико, в то время как моя дочь будет сидеть рядом с ним? Нет, герцог этого не допустит!
Миранда уснула таким глубоким сном, что я не стал ее будить, а послонялся по дворцу, прислушиваясь к рассказам и сплетням о магии и колдовстве. Двое конюших и старая прачка погибли во время пожара. Еще одно тело обгорело так сильно, что невозможно было разобрать, мужчина это или женщина. Я прошел мимо кухни, где Томмазо резал хлеб. Ему тоже удалось спастись. Увидев меня, он открыл было рот, но тут же осекся, поскольку кругом были слуги. Догнав меня в коридоре, Томмазо шепнул:
— Уго! Мне надо поговорить с тобой.
Я не остановился и не стал его слушать. Меня не интересовало то, что он мог мне сказать.
Позже тем же днем Витторе посоветовал герцогу не пытать больше Пьеро.
— Он просто не знает, как лечить подагру герцога и другие его болячки, — прокомментировал это неожиданное событие Чекки.
Говорят, Пьеро, с окровавленными пальцами и выдранными на правой руке ногтями, что-то бормоча, как юродивый, бухнулся перед Витторе на колени, поцеловал край его одежды и поклялся хранить ему верность.
Мне хотелось немедленно, раз и навсегда, убедить Миранду, что Витторе — подлец и негодяй, но, как выяснилось, она забыла все, что происходило той ночью! Она ничего не помнила. Niente. Моя дочь глядела на меня круглыми расширенными зрачками так, словно видела впервые. Потом куснула нижнюю губку и пожаловалась на металлический привкус во рту. Я налил в таз воды и помыл ей лицо.
— Чем это так воняет? — спросила она. Боже, до чего она все-таки юна и невинна!
— Ничем. Не бери в голову.
— Что это за запах? — раздраженно спросила она еще раз и, оттолкнув мою руку, подошла к окну.
— В конюшне был пожар. Несколько лошадей…
Миранда застыла на месте как вкопанная. Очевидно, в ней пробудились воспоминания. Она бросила на меня злобный взгляд.
— Витторе? Я должна…
— Миранда!
Она отпрянула от меня.
— Он жив? Я должна его видеть!
Я догнал ее у двери.
— Забудь о нем!
Миранда резко повернулась.
— Он мертв?
Боже праведный! Ну в точности как мой папаша! Миранда набросилась на меня с кулаками.
— Ненавижу тебя! — кричала она. — Ненавижу!
— Витторе на тебя наплевать! — крикнул я в ответ.
— Значит, он жив? — Увидев мое лицо, она рассмеялась. — Он жив!
— Он тебя продал! — сказал я, схватив ее за руки. Она не поняла. — Он сказал, что ты будешь превосходной женой для Федерико!
Кто поймет сердце женщины? В книге Кастильоне «Придворный», которую Септивий порой читал герцогу, идеальная дама изящна, образованна, благоразумна, благородна, добродетельна, красива, талантлива и не склонна к сплетням. Potta! О ком они пишут? Неужели о женщинах из плоти и крови? Работали ли эти женщины на поле, как вкалывала Элизабетта до самых родов? Видел ли кто-нибудь из придворных такое потрясающее зрелище, когда нагая женщина весело делает колесо, как Агнес? Обладала ли хоть одна из их женщин такой храбростью, как Елена, или такой силой воли, как Миранда? Нет, они жили в другом мире.
Весь день напролет Миранда изучала в зеркале свои волосы. Они всегда были ее гордостью, но из-за пожара кончики стали неровными, а там, где в голову попали угольки, просвечивали маленькие проплешины. Что-то надо было делать, однако я боялся давать ей советы, чтобы она не взъярилась еще больше. В конце концов, не выдержав, я сказал:
— Может, тебе надеть парик? Или шарф, как носила Бьянка…
Словно желая заставить меня замолчать, Миранда взяла нож и, как одержимая, начала резать волосы. Я бросился к ней, и после короткой борьбы она отдала мне нож.
— Ты с ума сошла? — крикнул я. — Ты же должна сегодня вечером сидеть рядом с Федерико!
Миранду это, казалось, совсем не волновало. Улыбнувшись мне, как неразумному дитяти, она попросила:
— Сходи к Лавинии и Беатриче и быстренько попроси их ко мне прийти.
Это были самые закадычные ее подружки, и, узнав, что происходит, они тут же прибежали к Миранде. Увидев ее голову, девушки пришли в ужас, однако Миранда весело заявила, что пыталась постричься сама, но у нее не вышло и ей нужна их помощь. Подружки с удовольствием, прыская со смеху, остригли ей волосы, оставив лишь один длинный завиток, который свисал ей на глаза. Потом напудрили ей лицо и накрасили губы. Миранда осторожно попыталась выведать, знают ли они, что она принимала участие в шабаше. Оказалось, девушки понятия об этом не имели. Беатриче одолжила ей шикарное голубое платье с вышитыми на рукавах разноцветными птичками. У Изабеллы Миранда позаимствовала ожерелье, и, когда она застегнула его, я подумал, что во всей Италии не найдется мужчины, который не хотел бы положить свою голову на эту грудь.
В самый разгар приготовлений в дверях появился Томмазо.
— Ты постриглась! — воскликнул он, не в силах скрыть изумления.
Миранда обернулась к нему.
— Тебе не нравится?
— Нет. То есть, да… Просто непривычно, — запинаясь, промямлил он.
— А как тебе мое платье?
Миранда встала и повернулась кругом. Томмазо, залившись краской, сказал, что никогда не видел ничего прекраснее. Но Миранда не унималась.
— А мои туфельки?
И под смешки подруг она протянула к нему ступню, открыв взору изящную щиколотку. Испугавшись, как бы бедный парень не хлопнулся в обморок, я спросил его, зачем он пришел.
— Луиджи просил узнать, не желает ли Миранда отведать сегодня вечером какие-то особые блюда.
— Mangiabianco [55], — без запинки выпалила Миранда.
— Слишком мало времени, — ответил Томмазо.
— Да? — Она нахмурилась. — Ну, тогда… телятину…
Он кивнул.
— С солью и фенхелем?
— Да, — отозвалась Миранда.
— А также с майораном, петрушкой и травами! — рассмеялась Лавиния.
— Точно! — с восторгом подхватила Миранда, захлопав в ладоши.
— Причем в виде рулета на шампуре! — добавила Беатриче.
Томмазо стоял посреди комнаты, глядя в пол.
— А на десерт? — спросил он.
Миранда подняла голову, выгнув длинную белую шею.
— Пирог с сыром. И тонко нарезанную копченую ветчину с фигами.
— А ветчину запечь в пирог?
— Нет, — презрительно фыркнула Миранда. — Ветчину подать до пирога!
Томмазо снова кивнул и пошел было к двери, но тут Миранда добавила:
— С дыней.
Томмазо остановился.
— С дыней?
— Да, — подтвердила она со скучающим видом, словно это знает каждый дурак. — С дыней.
А потом отвернулась к зеркалу, и ее подружки опять прыснули со смеху.
Миранда оделась вовремя, но на ужин пришла с небольшим опозданием — так, чтобы все заметили ее появление. Извинившись перед Федерико, однако не приводя никаких оправданий, она села напротив него и поправила лиф платья, привлекая внимание к своей груди точно так, как это делала Бьянка. А потом улыбнулась герцогу. Я видел, как она репетировала эту улыбку перед зеркалом: губы чуть приоткрыты, бровки нахмурены, а на щеках — две маленькие, как жемчужинки, ямочки.
— Моя маленькая принцесса! — просиял Федерико.
Ужин шел своим чередом. Федерико был поглощен едой.
Время от времени он молча поглядывал на Миранду. Придворные беседовали друг с другом. Поскольку герцог не обращался к Миранде, никто не пытался с ней заговорить. Если раньше я боялся, как бы она не ляпнула что-нибудь невпопад, то теперь меня беспокоило, что она может разрыдаться от обиды. Но, как бы ни чувствовала себя Миранда, лицо ее было невозмутимо, словно она привыкла ужинать в таком обществе с малых лет. И тут Томмазо подал ветчину с дыней.
— Великолепное сочетание, — заметил Чекки.
— Да, — согласился Федерико, облизывая пальцы. — Луиджи готовит гораздо лучше, чем Кристофоро.
Он поманил повара пальцем, подзывая его подойти к столу.
На лице у Миранды не отразилось никаких эмоций. Луиджи, по-видимому, решил, что не сумел угодить хозяину (иначе разве тот стал бы звать его к себе?) и, подбежав к столу, торопливо заявил:
— Ваша светлость! Если вам не нравится ветчина с дыней, я запросто могу ее заменить. Это не мое изобретение, и я…
— А чье? Неужели Томмазо?
— Нет, досточтимый герцог. Простите, мне не хотелось бы выдавать ту, чья красота несравнимо выше ее познаний…
— Так это была твоя идея? — спросил Федерико у Миранды.
Она скромно склонила голову.
— Да, ваша светлость.
— Простите ее невежество! — угодливо хихикнул Луиджи. — Я приготовлю…
— Ничего ты не приготовишь! — рявкнул Федерико. — Десерт был превосходен. Принеси еще!
После этого Миранду приняли в общую беседу и спрашивали ее мнение по всем вопросам. Чаще всего она отвечала, что не разбирается в таких вещах, однако один раз процитировала Данте, а затем — Полициана. Септивий и впрямь хорошо ее натаскал! Потом она заметила, что народная поэзия ей нравится больше придворной.
— Не соблаговолишь ли ты привести нам пример такой поэзии? — осведомился Федерико.
— Если это доставит вашей светлости удовольствие…
— Да! — заявил Федерико. — Доставит!
Аккуратно положив ложку рядом с подносом, Миранда закрыла глаза и сложила ладони вместе.
— Вот мое самое любимое стихотворение.
Она тихонько откашлялась и прочла:
Пускай пылает в небе солнце надо мной, Я вся дрожу в ознобе страсти неземной.В зале воцарилась тишина.
— И это все? — рассмеялся Бернардо.
— Чтобы завоевать сердце любимого, не нужно тратить много слов, — мягко ответила Миранда. — Надо лишь найти единственно верные.
— Браво! — Федерико захлопал в ладоши и, ткнув в Септивия пальцем, заявил: — Это правильно во всех отношениях!
Миранда покраснела.
— Простите меня, высокочтимый герцог, если я слишком много говорю о вещах, о которых женщина не имеет права…
— Нет, нет, нет! — воскликнул Федерико. — Отныне ты будешь украшением нашего ужина каждый вечер!
И громко рыгнул, подкрепив таким образом свое заявление.
Миранда поблагодарила всех присутствующих — и в особенности герцога Федерико, — погладила по голове Нерона и вышла из-за стола. На Витторе она так ни разу и не посмотрела.
Федерико провожал ее взглядом, пока она не скрылась за дверью.
— Я ездил искать принцессу в Милан, а она все время была рядом!
Когда я пришел в спальню, Миранда подбежала ко мне с вопросом:
— Что сказал герцог Федерико, babbo?
Я заверил ее, что он высоко отозвался о ней и что она вела себя прекрасно. Миранда пришла в восторг и защебетала с подружками. Она рассказала им, что именно говорила за ужином и что отвечал ей герцог. Потом они принялись обсуждать, какое платье ей надеть на следующий день, о чем говорить за столом, и так далее, и тому подобное. Обсуждение заняло в три раза больше времени, чем само событие. После их ухода Миранда заявила:
— Когда я стану богатой придворной дамой, babbo, я позабочусь о тебе.
Я обнял ее, гадая про себя, какую судьбу ей уготовил Федерико. Так много случилось за один день (шабаш и пожар уже превратились в отдаленные воспоминания), что мысли у меня метались, как листья на ветру.
Позже в тот же вечер, когда я стоял во дворе, устремив взор на звезды, ко мне подошел Томмазо. Мы склонились над парапетом, глядя вниз на сгрудившиеся кучкой дома Корсоли, омытые лунным светом.
— Клянусь, я не уговаривал Миранду пойти на шабаш, — сказал Томмазо.
Меня позабавила его наивность. Неужели он до сих пор считает, что может уговорить Миранду?
— Верю. Ты не в состоянии на нее повлиять.
Он молча грыз ногти, потом спросил:
— Зачем ты отдал ее Федерико?
— При чем тут я? Это Витторе ее отдал.
— И что ты намерен делать?
— Ничего. А зачем?
Глаза у него округлились, как две луны.
— Но Миранда не может быть с Федерико!
— Почему?
Он закрыл глаза и с силой вцепился в парапет.
— Может, ты и не подбивал ее идти на шабаш, — заметил я. — Но ты ее не отговорил.
— Это она меня заставила пойти туда, — склонив голову, признался Томмазо.
* * *
Той ночью мне снились кошмары. Не знаю, может, виной всему были крупинки мышьяка, которые я принимал, но мне приснилось, что Корсоли тонет в крови. Я много раз просыпался и снова проваливался в тот же сон. Кровь хлестала отовсюду. Из каждого рта, из каждого сосуда, из пор моей кожи и стен палаццо.
— Надо уносить отсюда ноги, — сказал я наутро Миранде. — Я могу найти работу во Флоренции или в Болонье. А то давай поедем в Рим!
Она посмотрела на меня как на сумасшедшего.
— Почему, babbo?
— Случится что-то ужасное. Я нутром чую.
— Тебе снова снились кошмары, babbo.
— Да, причем они мне снились утром, когда душа говорит чистую правду, поскольку находится дальше всего от тела.
— В таком случае, молись, чтобы у тебя не было кошмаров.
— Нет, мы должны уехать.
— Как я могу уехать? — воскликнула Миранда. — Герцог Федерико приказал портному сшить мне новые платья! — Она вскочила и пустилась по комнате в пляс. — Я буду принцессой!
— Ты делаешь это для того, чтобы заставить Витторе ревновать.
— Витторе? — нахмурилась она. — Кто такой Витторе?
Миранда ужинала с Федерико каждый вечер в течение недели. На третий день герцог заставил Нерона примоститься у ее ног так, чтобы Миранда могла сесть рядом с ним самим. Вскоре она начала имитировать птичек и зверей и даже некоторых придворных. Через неделю Миранда стала душой застолий. Могли я желать чего-то еще? Тем не менее, когда слуга постучался в мою дверь (Миранда была в это время на занятиях) и крикнул: «К тебе идет Федерико!» — меня это застало врасплох.
Времени на расспросы не было. Я лихорадочно придвинул к столу большой сундук и одним махом скинул туда все зелья, травы, противоядия и рукописи. Едва я успел зажечь пару благовонных свечей и взбить подушки, как в спальню вошел Федерико.
— Это большая честь для меня, ваша светлость, — поклонился я.
Федерико закашлялся и помахал шляпой, отгоняя струйки дыма. Я задул свечи и открыл окно. Он сел на сундук. В спешке я не закрыл его как следует, и кончик рукописи торчал из щели.
— Что нравится Миранде? — спросил Федерико. — Витторе сказал, ты должен знать.
Ясное дело, за этим неожиданным визитом снова стоял мой сволочной братец!
— Ей нравится петь и играть на лире.
— Это я знаю.
— Когда она была поменьше, то часто стояла на закате у окна и пела.
— А еще?
Мне ничего не приходило в голову, поскольку я безумно боялся, что он заметит краешек моих записей, торчащий из сундука. Я сказал, что в деревне она разговаривала с животными, как с друзьями, и любила кататься на мне верхом.
— Меня не волнует, что она любила в три года! Я хочу знать, что ей нравится сейчас! Какие драгоценности? Какие духи? Какие платья?
— Ей нравятся все драгоценности и духи.
— Но она не любит розовую воду.
— Все, кроме розовой воды, — согласился я.
— Ты знаешь ее всю жизнь, а я — всего лишь несколько дней, и тем не менее мне известно о ней больше, чем тебе.
Он встал, подозрительно принюхался, надел шляпу и ушел. Я открыл сундук, вытащил склянки с травами, однако работать с ними не мог. Слова герцога задели меня. Разве он знает Миранду лучше меня? Чушь собачья! Я прекрасно разбирался в настроениях Миранды. Я знал, как она прыгала, когда была счастлива. Как она пела, когда чувствовала себя одинокой. Как в раздражении кусала нижнюю губку. Чего же еще? Какой отец знает о своей дочери больше моего? Неужели Чекки больше знает о Джулии? Или Федерико — о своих сыновьях? Миранде понравятся любые духи, потому что у нее никогда их не было. И драгоценностей тоже, и платья она вечно носила чужие. Она будет рада любому подарку!
На следующий день Федерико подарил Миранде золотой браслет и павлинье перо. Через день — статуэтку и диадему. Еще через день — ручное зеркальце, отделанное бриллиантами. К концу недели вся наша комната была завалена подарками до потолка. Федерико выгнал из соседнего помещения троих писцов и отдал его Миранде. Между нашими комнатами пробили дверь. Федерико сказал Миранде, что она может обставить свою спальню, как пожелает. Она велела расписать потолок звездами, покрыть пол коврами и приказала Граццари написать напротив кровати Мадонну с младенцем.
— Попроси ее заказать мне что-нибудь другое! — взмолился Граццари. — Я писал младенца Иисуса сидящим на коленях у Мадонны, лежащим у нес на руках, я писал его белокурым, темноволосым, курчавым и вообще без волос. Я изображал его бодрствующим и спящим, улыбающимся небесам, показывающим на книгу и благословляющим льва. И Мадонну мне тоже надоело писать. Я хочу чего-то нового!
Но Миранда настояла, чтобы он написал Мадонну с младенцем, и Граццари подчинился.
Вставала она поздно и часами расставляла свою новую мебель, игнорируя уроки.
— Ей больше не нужно заниматься, — сказал Федерико. — она и так умнее всех моих придворных вместе взятых.
Я надеялся, что он не изменит своего мнения, поскольку, хоть я и любил Миранду больше жизни, порой меня поражало, какую чушь она несет, а когда она волновалась, го-юс у нее становился визгливым. Федерико этого не замечал.
— У нее лебединая шея, — заявил он за столом. — А волосы — как темная река. Глаза же ее горят, как светлячки.
Он спросил у меня, не пахнет ли ее моча бергамотом.
— Моча? Я не знаю.
— Ты же ее отец! Как ты можешь не знать, чем пахнет ее моча?
«А ты знаешь, — хотелось мне спросить у него, — чем пахнут какашки твоих сыновей?» Но я промолчал. Что бы я или кто-то другой ни говорил, это было не важно. Completamentc in adorzione! [56] Герцог боготворил Миранду. Он прятался за колонны, глядя, как она проходит, а слуги пробегали мимо, делая вид, что не замечают его. Он велел своим куаферам причесывать его сухие, как пакля, волосы, на разный манер, дабы угодить своей любимой. Пьеро смешивал ему ароматные лосьоны для кожи, а двое портных день и ночь шили ему новые наряды и мастерили шляпы.
— Федерико влюбился, — шептались во дворце. Насколько сильно он влюблен, я увидел, когда Миранда рассказывала, как в детстве пела козам серенады. Федерико как раз поднес ко рту полную ложку с мелко нарезанным языком, сдобренным специями и уксусом, и тут Миранда придержала его руку и запела.
«Oi me! — подумал я. — Она помешала ему есть!» Я чуть было не упал на колени с мольбой простить мою неразумную дочь. Но Федерико не промолвил ни слова. Он сидел, держа ложку с едой у разинутой пасти, пока Миранда не пропела три куплета своей песенки. Потом она отпустила его руку.
— Чудесно!
Федерико захлопал в ладоши.
— Она поет не как птичка, а как ангел! — проворковал Септивий.
— Причем не просто ангел, — подхватил Бернардо, — а ангел, близкий к Богу!
— Все ангелы близки к Богу, — возразил Витторе. — На то они и ангелы.
На нем был красивый зеленый бархатный камзол и лосины в тон, однако на глаза по-прежнему падали нестриженые лохмы, а на груди висели талисманы и амулеты.
— Ты прав, Витторе! — заявил Федерико. — Она действительно ангел.
Целую неделю Федерико ел суп из клевера, лавровых листьев, сельдерея и артишоков, за которым следовали слоеный пирог с ветчиной и паштет из печени ягненка, вымоченной в вине. В это блюдо было добавлено кое-что еще…
— Мелко нарезанные козлиные яйца, — сказал Томмазо, когда мы стояли во дворе, глядя на закат. — С солью, корицей и перцем.
И это все, что он успел сказать, поскольку внезапно к нам подбежал Федерико и, показывая на пламенеющий закат, озаривший вершины гор, воскликнул:
— Вы видите? Солнце!
Он набрал в грудь воздух и выпалил: Мое сердце как солнце, Потому что, когда ты уходишь, оно Погружается в скорбную тьму И… и…Мы застыли в молчании. Федерико судорожно вздохнул и закрыл глаза. Томмазо стоял рядом со мной, Федерико — прямо перед нами. Рука Томмазо потянулась к кинжалу.
— Мое сердце как солнце, — повторил герцог.
Томмазо наполовину вытащил кинжал из ножен.
— Потому что, когда ты уходишь, оно…
Я схватил Томмазо за руку, не давая ему вытащить кинжал целиком.
— Сонет! — взревел Федерико. — Я хочу написать сонет!
Он развернулся к нам. Я отдернул руку, Томмазо сунул кинжал в ножны.
— Мне кажется, это будет чудесным выражением любви, ваша светлость.
— Мне тоже. Я должен найти Септивия.
Он поспешил прочь.
Лицо Томмазо побелело от ярости.
— Я мог бы…
Я кивнул в сторону троих стражников, стоявших в дверях.
— Нас обоих убили бы. Я не хочу погибать из-за твоей глупости!
— А я не позволю Миранде погибнуть из-за твоего эгоизма!
И впервые в жизни я поверил ему.
* * *
Позже в тот вечер я проходил мимо комнаты Септивия. Сидя с растрепанными волосами, он работал при свече и бормотал про себя вновь и вновь:
Мое сердце как солнце, И когда ты уходишь, оно Погружается в скорбную тьму…С тех пор как Федерико влюбился, Септивий не спал. И никто не спал. Любовь так преобразила герцога, что даже те, кто знал его как свои пять пальцев, растерялись, не понимая, чего от него ожидать. Он дергал Чекки за бороду и издевался над вечно хихикающим Пьеро. Сказал, что мир создан не в форме треугольника, а в виде сердца. А потом изумил нас всех, заявив:
— Да, Цицерон был прав, когда говорил, что добротой можно добиться чего угодно. Смею ли я сказать: и любви тоже?
Мы зааплодировали. Федерико цитирует Цицерона! Герцог не изнасиловал Миранду и вообще не приставал к ней. Он хотел, чтобы она его полюбила. Любовь расцвела в нем, и хотя крепостные стены злобы и жестокости не пали под ее напором, там и сям появились маленькие бреши. Миранда, почуяв это, старалась расширить их, как могла.
— Я хочу съездить в Венецию, покататься на верблюде и увидеть папу римского, — промолвила она во время игры в триктрак.
Глаза у Федерико вспыхнули от восторга и тут же скрылись между жирными складками.
— В следующем году я отвезу тебя в Венецию и куплю верблюда.
— А как же папа римский? — спросила Миранда, захлопав в ладоши.
— Папа исключается, — ответил Федерико.
— Почему? — надулась Миранда.
— Потому что я так сказал! — рявкнул герцог с исказившимся от злобы лицом.
Миранда продолжала играть, словно ничего не слышала. Потом глянула на него и невинно улыбнулась.
— Тот Федерико, о котором мне рассказывали в детстве, плевал на папу римского с высокой колокольни. Смотри! — воскликнула она, переставив фишку на доске. — Я снова выиграла. А теперь мы поедем в Рим?
Федерико уставился на нее с таким видом, словно хотел улыбнуться, но не мог из-за кипящей в нем ярости.
— Посмотрим, — буркнул он.
Он размышлял над каждым словом Миранды и порой находил в нем такой смысл, которого она и не вкладывала. Как-то она мельком обмолвилась, что девчонки подсмеивались над ней, когда она впервые попала во дворец. Федерико вызвал их в зал — некоторые уже были замужние дамы с детьми — и пригрозил, что отрежет им язык, если они когда-нибудь посмеют обидеть Миранду.
Я умолял ее быть осторожнее. Однажды Федерико подарил одной из своих шлюх драгоценные украшения только для того, чтобы на следующий день обвинить ее в краже.
— Ты сравниваешь меня со шлюхой?
— Нет, конечно! Я просто молю тебя: будь осторожна.
Она закатила к потолку глаза.
— Ты слишком волнуешься.
Поскольку Федерико влюбился в мою дочь, женщины наперебой старались меня соблазнить. Я пытался вызвать в памяти образ Елены, но — potta! — мне так давно не доводилось держать в объятиях женщину! Порой я уступал своей слабости. Нет! Да простит меня Господь, я очень часто ей уступал. Что поделаешь? Я даже не знал, увижу ли когда-нибудь Елену вновь.
Как-то ночью, пробираясь к служаночке, с которой мы забавлялись, я заметил под деревом в саду Эмилии две фигуры — Федерико и Витторе. Мой брат поднял руки к луне и прочел молитву, затем открыл крышку чаши, и герцог, запустив туда руку, помазал себе мошонку.
Я поспешил к своей кухарочке и рассказал ей о том, что видел.
— А что Федерико обычно ест? — спросила она меня.
Я ответил, что суп из клевера, слоеный пирог с ветчиной и мелко нарезанные козлиные яички.
— Афродизиак! — хихикнула она.
Однако, похоже, эти средства не действовали. Теперь я понял, почему Федерико не пытался взять Миранду силой. У него просто не стоял!.. Я помолился Богу о том, чтобы это не охладило его чувства и не испортило ему настроение.
Тем не менее расслабляться не стоило. Федерико был по-прежнему опасен. За завтраком Миранда заметила, что розы — ее любимые цветы. Герцог приказал двадцати слугам собрать все розы в долине и преподнести их Миранде за ужином.
— Я хочу сделать ей сюрприз.
Однако розы уже отцвели. Разъяренный Федерико приказал бросить слуг в темницу, а старшего вздернуть на дыбу.
— Попроси герцога освободить их, — сказал я Миранде. — Они ни в чем не виноваты.
Она отказалась.
— Я не могу. Он сделал это для меня. Чтобы показать, как сильно он меня любит.
— Ты наживешь себе уйму врагов.
— Я? — Она поднесла к лицу зеркальце и принялась расчесывать волосы. — Но я никому ничего не сделала!
— Ты забыла о своем происхождении.
— А ты думаешь, я хочу о нем помнить?
— Не так я тебя воспитывал!
— Правда? — Миранда подняла зеркальце так, что я увидел свое лицо рядом с ее. — Думаешь, ты сильно отличаешься от меня? Я всему научилась у тебя. И теперь, когда жизнь впервые дает мне все, чего я хочу, ты мне завидуешь!
— Я пытаюсь защитить тебя.
— От кого?
— От тебя самой, — ответил я.
Она положила зеркальце.
— Я так и думала, что ты не скажешь, кого на самом деле имел в виду.
Я схватил ее за плечи. Она глянула на мои руки с таким видом, словно они были недостойны ее касаться. Я ударил ее, и Миранда, схватившись за щеку, упала на пол. Я помог ей подняться, умоляя о прощении. Она медленно встала. Глаза у нее были холодными, щека покраснела от оплеухи.
— Если ты посмеешь еще раз ударить меня, я скажу Федерико.
Я вышел из комнаты и закрыл дверь.
Мир с каждым днем понемногу менялся. Миранда превращалась в принцессу, Федерико вовсю ухлестывал за ней, а управление замком полностью отдал во власть Витторе. Мой братец заключал контракты по сбыту шерсти, запретил Бернардо составлять гороскопы и заставил Пьеро показать ему, как тот готовит свои снадобья. Кроме того, он не давал больше Септивию читать вслух и рассорился с Чекки. За ним повсюду ходили телохранители — сперва двое, потом четверо.
В ту ночь я услышал тихие шаги за дверью. Когда я открыл ее, ко мне вошли Чекки и Септивий.
— Свет привлекает внимание, — сказал Чекки и задул мою свечу.
Мы стояли в темноте, озаренные лишь сиянием луны. Чекки кашлянул, как обычно, когда собирался сказать что-либо важное.
— Нас беспокоит судьба Корсоли. Поскольку герцог очень увлечен, он не слушает наших советов.
— А чьи слушает?
— Витторе.
Чекки подергал себя за бороду.
— Он подружился с солдатами, — заметил Септивий.
Другими словами, его так хорошо охраняли, что просто убить Витторе было невозможно.
— Зачем вы мне все это говорите?
— Ты хорошо служил герцогу, — осторожно подбирая слова, сказал Чекки. — Он женится на твоей дочери. Вы с ним близки. Может, ты придумаешь, как спасти Корсоли?
В окно влетела летучая мышь и заметалась по комнате, лихорадочно хлопая крыльями.
— Предзнаменование! — проронил Септивий.
«Но что за предзнаменование?» — подумал я, когда мышь вылетела из окна.
— Если я сделаю что-нибудь, чтобы помочь Корсоли…
— Мы будем вечно у тебя в долгу, — сказал Чекки.
Мы пожали друг другу руки.
Когда они ушли, я сел у окна. Дождя не было, но звезды висели низко, казалось, до них можно дотронуться рукой, а горы, изрезавшие вершинами темное бархатное небо, выглядели как нарисованный пейзаж. Нет, правда! Все стало каким-то нереальным. До меня только теперь начало доходить, что, собственно, произошло. Со мной, Уго ди Фонте, дегустатором герцога Федерико Басильоне ди Винчелли, разговаривали как с придворным!
Глава 28
Я постоянно старался спасти чью-то жизнь — Миранды, свою собственную, герцога. Теперь мне предстояло ее отнять. И хотя я хотел прикончить Витторе в конюшне, при мысли о предумышленном убийстве мне было не по себе. Интересно, наблюдает ли за мной Господь? Я поймал себя на том, что постоянно оглядываюсь через плечо и улыбаюсь только потому, что боюсь, как бы лицо не выдало моих замыслов. А потом я вспомнил, как Витторе убил моего лучшего друга Торо, как он чуть не изнасиловал Миранду, и это вызвало во мне такую бешеную яро…
Не могу писать после белены. В глазах плывет, вещи становятся то больше, то меньше, и я ничего не узнаю вокруг. Адская головная боль. Продолжу позже.
Аббат Тотторини говорил, что Бог все видит. Если так, почему Всевышний позволил Витторе проклинать его и не отомстил? Может, он ждет? Но чего? Он же мог выдать моему братцу по первое число в любой момент! Однако если я прав и Господь не столь всевидящ, тогда мстить должны те, кто действительно видит. Витторе заявлял, что он дьявол. В таком случае, я — воин Христов. А кроме того, если мой братец замышляет убить меня, ему плевать, видит это Бог или нет. Ему вообще нет до Господа дела. Короче говоря, когда меня одолевали сомнения, я размышлял о благородстве своей миссии, исполнялся гордости от того, что Бог избрал меня, дабы достичь своей цели, и давал клятву осуществить задуманное даже ценой собственной жизни.
Мы решили, что устроить на Витторе засаду невозможно из-за телохранителей, а отравить его слишком сложно. Поэтому я наблюдал, выжидал и расспрашивал слуг, которые так любили его, что рассказывали мне больше, чем я хотел знать. Боже правый! Какие же глупые бабы! Но именно от них я узнал, что Витторе никого не допускает в свои покои и всегда запирает их, когда уходит, оставляя у дверей охрану. Очевидно, он что-то прятал — и я решил узнать, что именно.
Подкупать охранников я не решился, поскольку они могли взять деньги и преспокойно рассказать все Витторе. Две недели я мучительно размышлял о том, как его убить, и не продвинулся ни на шаг. Меня охватило отчаяние — и тут Господь всемогущий благословил мою миссию, дав мне ответ. Произошло это следующим образом.
Федерико никак не мог просраться, и Пьеро, который снова пользовал герцога, заказал целый поднос фруктов, сбрызнутых соком лимона, чтобы облегчить ему пищеварение. Средство возымело такое эффективное действие, что Федерико еле успевал встать с кровати и срал, как конь. Услышав об этом, я попросил Чекки сделать ключ, который подходил бы к спальне Витторе. Заполучив вожделенный ключ, я велел Луиджи отнести охранникам моего брата такой же завтрак, какой Пьеро дал Федерико. Они жадно проглотили фрукты — а мне оставалось только ждать. Я выжидал несколько дней, пока наконец стражнику, стоявшему у дверей Витторе, не приспичило облегчиться. Тут я и проскользнул к нему в спальню.
Potta! Не дай мне Бог еще раз попасть в такое логово! Казалось, у него в спальне подох целый выводок летучих мышей — такая здесь стояла вонь. Но смрад — это еще полбеды. Похоже, Витторе обошел все улицы Корсоли, Венеции и Рима, подбирая по дороге все мыслимые отбросы, какие мог найти. На полу стояли потрепанные сундуки, валялись грязные тюфяки, треснувшие вазы, продранные корзинки и расколотые шлемы с прилипшими к ним высохшими мозгами. Возле кучи старых седел и сломанных сабель высилась гора испачканной кровью одежды, рядом торчали вверх ножки старых кресел. Где он нашел все это барахло и зачем его хранил — ума не приложу. Возможно, солдатская служба, а затем разбойничье ремесло свели моего братца с ума…
С одной стороны двери стоял большой стол, заваленный книгами, с другой — три плевательницы. Я попытался сдвинуть книги, но они повалились со стола при первом же моем прикосновении. Плевательницы были такие полные, что помои текли через край. Меня начало тошнить от вони. Я пролез под столом, вскарабкался на кучу тряпья и сломанной мебели и наконец добрался до противоположной стены, где стояла кровать. Я встал и открыл ставни. Зловоние поплыло наружу, в комнату ворвался свежий воздух. Я закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. И тут ноздри мне защекотал запах — такой слабый, что его мог унюхать лишь опытный дегустатор. Словно гончая, принюхиваясь, я подошел к кровати — и там, под простынями, обнаружил шесть пузырьков с имбирем, размельченными жуками, корицей и ртутью. Неудивительно, что Федерико так странно себя ведет! Это был афродизиак — скорее всего не более действенный, чем мои амулеты, но в десять раз более опасный.
Насыпав в каждую бутылочку по крохотной щепотке мышьяка, я положил их на место — все, кроме одной. А потом побежал из комнаты, натыкаясь на кресла, доспехи и книги. Вернувшийся на свой пост стражник так ошалел, что даже не попытался меня остановить. Спускаясь вприпрыжку по лестнице, я заорал:
— Salvate il Duca! Спасайте герцога!
Все двери отворялись, словно я возвестил о втором пришествии Христа. А я все бежал и вопил как резаный:
— Salvate il Duca! Salvate il Duca!
Выскочив во двор, я подбежал к конюшне. Навстречу мне вышли стражники с саблями наголо.
— Федерико умер? — заорали они, пытаясь схватить меня за руки.
Но я вырвался и помчался по мраморным ступеням во дворец, по коридорам, мимо кухни, то вверх по лестнице, то вниз, потом через сад, собирая за собой людей, как монахи собирают монеты, и все время крича:
— Спасайте герцога! Спасайте герцога!
Те, кто бежал за мной, орали тоже, хотя и не понимали зачем. Лица у них покраснели, кровь в жилах забурлила, крики эхом отдавались от стен замка. Я увидел Чекки и повторил свой клич. Он немедленно помчался за мной, призывая остальных:
— Спасайте герцога! Спасайте герцога!
За мной уже неслась целая толпа: охранники, прачки, писцы, лакеи, повара — более пятидесяти голосов и сотни рук. Я свернул к лестнице, ведущей в покои Федерико. Стражники, стоявшие у дверей, обнажили сабли, но их сбило с толку то, что мы собирались спасти герцога, а не нападать на него. Я бежал и орал как дурак вовсе не для здоровья — кстати, бег вреден для здоровья! — а исключительно в надежде, что Федерико нас услышит. И Бог внял моим молитвам, поскольку герцог сам отворил дверь.
— Спасайте герцога! Спасайте герцога! — задыхаясь, выпалил я.
— От чего меня надо спасать? — спросил Федерико. Держа в одной руке шпагу и подобрав другой подол ночной рубашки, он протиснулся между стражниками.
— От попытки отравления! — Я поднял пузырек. — Это он!
Я показал пальцем на Витторе, стоявшего в двери позади герцога. До сих пор никто не понимал, что именно я имею в виду. Но тут телохранители Витторе выхватили из ножен сабли. Витторе бросился ко мне, однако дверной проем был слишком узкий, и стражники столпились в нем так, что он не смог пробиться.
— Он подмешивает мышьяк в ваш афродизиак! — сказал я, помахав бутылочкой перед носом у Федерико.
Он отдернул голову так, словно его ужалили.
— Кто-то украл из аптеки мышьяк! — воскликнул Пьеро.
— Убейте его! — решительно проговорил Чекки.
— Сожгите его! — рявкнул Бернардо.
— Это заговор! — завопил Витторе. — Нет у меня никакого мышьяка! Уго сам хранит в своей спальне яды!
Федерико резко повернулся ко мне, и я почувствовал, что бледнею.
— У тебя есть в комнате яды?
Время остановилось. В голове у меня проносилась тысяча мыслей, и каждую надо было обдумать.
— Ваша светлость, — спокойно произнес я. — Вы видели мою комнату. Вы приходили ко мне без предупреждения. Вы сидели у меня, разговаривали и не заметили никаких ядов.
— Он лжет! — крикнул Витторе.
— Это всего лишь уловка, чтобы запутать вас. Обыщите его спальню, а потом — мою.
Я молил Бога, чтобы Федерико послушался меня. Ведь если он сперва обыщет мою комнату, то найдет столько ядов, что их хватило бы для отравления целой армии Цезаря!
— Уго служил вам верой и правдой, — заметил Чекки. — Вы можете осмотреть его спальню потом.
Витторе пытался протестовать, однако слуги, чья преданность изменчива, как летний ветерок, хором закричали:
— Обыщите его спальню!
Федерико зашагал к комнате Витторе. За ним устремилась толпа — толкая друг друга локтями, крича и пихаясь. Охранник Витторе, едва завидев герцога, испарился. Я отпер дверь. Федерико не стал лезть под стол или на кучу грязного тряпья. Один лишь вид этой берлоги, как я и ожидал, привел его в ярость.
— Ваша светлость! — начал было Витторе.
Федерико, не обращая на него внимания, повернулся ко мне.
— Как ты об этом узнал?
— При всем моем почтении, ваша светлость, с тех пор как Витторе стал придворным советником, вы порой говорили и делали такие вещи, которые противоречат вашим же собственным интересам.
— И что я такого сделал?
Федерико сощурил глаза. Мне следовало быть осторожнее.
— Вы ели рыбу, которая в чрезмерно больших количествах вызывает разлитие желчи.
— Неправда! — рявкнул Витторе.
— Нет, правда! — возразил ему Пьеро.
— Вы разрешили человеку, не имеющему опыта в финансовых делах, заниматься торговлей шерстью, — вмешался Чекки. — Мы терпим убытки.
— Опять ложь! — взревел Витторе.
— Жители Корсоли всегда любили вас за мудрость, справедливость и доброту, ваша светлость…
— И это опять ложь? — осведомился герцог, обернувшись к Витторе.
— …однако мы вас больше не узнаем.
— Это заговор! — воскликнул Витторе.
Федерико так сильно ударил его рукоятью шпаги, что мой брат грохнулся на пол.
— Отведите его в темницу!
Глядя, как стражники уводят Витторе в каземат, я поражался тому, как просто все вышло. Сейчас его бросят в темницу и скорее всего казнят. Мне ни капельки не было его жаль. То, что он — мой брат, ничего не меняло. Может, я вовсе не дегустатор по натуре, а убийца?
Пьеро пустил герцогу кровь, исследовал его мокроту и кал и заявил, что, поскольку мы пресекли отравление, Федерико сможет прожить до следующего столетия. Герцог оттолкнул его и выкатился из кровати.
— Я сварю Витторе в масле, — сказал он, натягивая штаны. — А потом вздерну на дыбу. — Надевая рубашку, он прибавил: — Я заставлю его самого сожрать этот яд и вырежу ему сердце. — Обувшись, он решил сперва вырезать у Витторе сердце, а уж потом накормить его ядом и вздернуть на дыбу. Я глянул на остальных и понял, о чем они думают. Перед нами был прежний Федерико. Внезапно он улыбнулся и спросил: — Вы слышите?
Что до меня, я слышал только львиный рык.
Федерико расплылся в улыбке.
— Я устрою себе развлечение на свадьбу. Мы бросим Витторе львам.
Мы уставились на него.
— На вашу свадьбу? — дергая себя за бороду, спросил Чекки.
— Да, на мою, — ответил Федерико так небрежно, словно только что решил поехать на охоту. — Я женюсь на Миранде.
Он женится на Миранде!
— Блестящая идея! — заорали все вокруг. — Господь послал вам озарение! Она родит вам сыновей и будет достойной супругой.
Комплименты сыпались чаще, чем град во время грозы.
— А ты, Уго? — спросил меня герцог. — Что ты скажешь?
— Я потерял дар речи, ваша светлость. Это такая честь для меня! Как я могу вас отблагодарить?
— Достаточно того, что ты служишь мне верой и правдой.
— Но вы же не заставите меня прислуживать моей собственной дочери?
— Почему бы и нет?
— А если я откажусь? — спросил я, не подумав.
— Откажешься?
Восстав, словно Нептун из моря, Федерико нагнулся к камину и схватил кочергу. Он напрочь забыл о том, что буквально минуту назад я спас ему жизнь! Стражники схватили меня за руки и подставили герцогу мой зад.
— Ваша светлость! — крикнул Чекки. — Если вы убьете Уго, то лишитесь наилучшего дегустатора! Позвольте ему завести своего собственного дегустатора, и пускай он, как прежде, пробует вашу пищу. Этого будет достаточно, правда, Уго?
Я ощущал жар кочерги и запах горящих лосин. Задний проход у меня сжался так, что я не мог облегчиться три дня.
— Да! — выдохнул я.
— Отпустите его, — велел Федерико.
— Я, потеряв всякое соображение, брякнулся на пол. Федерико пнул меня носком башмака.
— Своего собственного дегустатора! — рассмеялся герцог и, повернувшись к остальным, провозгласил: — Он смелый как лев!
Я не смог бы почувствовать большей благодарности, даже если бы меня благословил сам Господь. Наконец-то Федерико признал мои достоинства! Я снова упал на пол и поцеловал края его мантии, еле шепча:
— Mille grazie, mille grazie!
— Похоже, ты хотел умереть, — качая головой, сказал мне Чекки, когда мы вышли из покоев Федерико.
— Наоборот. Я хочу жить, как никогда! Витторе в тюрьме, моя дочь выходит замуж за герцога, и теперь, спустя пять лет, я снова смогу наслаждаться едой!
Разве он мог понять мои чувства? Да и не он один! Наконец-то я опять буду есть, как нормальный человек. И не просто есть — жевать, глотать и смаковать, не боясь отравы! Я смогу поглощать пищу быстро, как кролик, или же медленно, как черепаха. Есть бесшумно, как соня, или же чавкать, как кабан. Боже, какое счастье! Какая радость! Я пустился в пляс. Пускай все на свете смотрят на мою задницу, мне все равно. Если бы только отец мог это видеть! Я жаждал рассказать обо всем Витторе.
В ту ночь я начал писать мемуары. Господь внял моим молитвам, и, казалось, все суровые испытания уже позади. А теперь я напишу о том, что произошло после объявления о свадьбе, случившегося три месяца назад, поскольку, как сильные дожди меняют русла рек, так и Господь в мудрости своей вновь решил изменить русло моей жизни.
Я хотел сам сообщить эту новость Миранде. Она станет принцессой, о чем всегда мечтала, и будет иметь все, что душе угодно. Однако весть о свадьбе разлетелась так быстро, что пока я шел в свою комнату, меня на ходу окружали придворные, прачки и конюшие, поздравляя со столь великой радостью. Все были счастливы за исключением Томмазо.
— Ты всегда этого хотел! — обвинил он меня.
— У тебя был шанс.
— И он будет у меня снова.
Мне хотелось знать, что он имеет в виду, но сперва я должен был сказать Миранде, как ей повезло. Однако оказалось, что она уже в курсе. Подружки причесывали ей волосы, целовали в щеки и взахлеб щебетали о ее будущем. «Федерико пригласит на свадьбу всю Италию. Он свозит тебя в Венецию. Он построит тебе новый дворец», — предсказывали они. Они говорили, что свадьба состоится через месяц — или же во время летнего карнавала. Будет две сотни гостей… нет, три… нет, шесть сотен!
В тот вечер Бернардо изучил свои карты и сказал, что лучше всего сыграть свадьбу, когда Юпитер и Венера окажутся на одной линии с Солнцем, то есть в последнюю неделю июня, через четыре месяца. Федерико заявил, что свадьба продлится восемь дней, причем будет четыре банкета, спектакль, маскарад и caccia [57] — в общем, самое роскошное празднество за время существования Корсоли.
Какую все-таки силу имеют слова! Я видел, какое действие оказало на весь дворец заявление Федерико: «Я поеду в Милан искать себе жену». Но когда он сказал: «Я женюсь на Миранде» — oi me! Преобразилась вся долина! Каждый дом отмыли и покрасили, вывесили флаги. От главных дворцовых ворот через весь город до палаццо Фицци должны были воздвигнуть четыре арки со статуями, олицетворяющими Гармонию, Любовь, Красоту и Плодовитость. Все треснувшие мраморные плиты во дворце велели заменить, сад Эмилии перекопать и пересадить все растения на склон горы за дворцом, дабы создать висячие сады Корсоли.
— Я хочу, чтобы ты написал фреску с изображением Миранды напротив моего портрета, — велел герцог Граццари.
Ему же было приказано продумать план маскарада.
Не могу передать, какой важной персоной я чувствовал себя, сидя за одним столом с герцогом Федерико, Септивием, Чекки и Граццари и составляя планы насчёт свадьбы Миранды. На первом таком совещании между Бернардо и Септивием разгорелся спор. Бернардо заявил, что Федерико следует предстать в образе Справедливости, ибо он родился в конце сентября, однако Септивий возразил, что мудрый человек сам управляет звездами, и образ Геракла гораздо лучше, поскольку он символизирует силу Федерико.
— Можно изобразить двенадцать подвигов Геракла.
— Например, чистку конюшни? — фыркнул Бернардо.
— Помимо этого Геракл поймал оленя, — парировал Септивий. — А также убил льва, чудовище и поймал быка и вепря. Во время десятого подвига он усмирил четырех диких коней, а во время одиннадцатого…
— Basta! — сказал Федерико. — Это все-таки свадьба, а не зоосад.
— И не охота! — подхватил Бернардо.
— Почему? Это может быть охотой, — заметил Граццари. — Миранда — девственница, не так ли?
— Конечно! — откликнулся я.
Граццари откинулся на спинку кресла, погладил бороду и уставился в потолок.
— Поскольку единорог символизирует девственность, почему бы не написать сцену в лесу, где Геракл ловит единорога?
— Геракл ловит единорога, — мечтательно протянул Федерико.
— По-моему, это не годится, — заметил Бернардо.
— А по-моему, прекрасная идея, — улыбнулся Чекки.
— После чего единорог превращается в Венеру, — сказал Септивий.
— В Венеру?
Федерико повернулся к Септивию.
— Чьей единственной обязанностью является дарить любовь, — пояснил тот.
— Великолепно! — воскликнул Федерико. — Геракл охотится за единорогом, пленяет его, тот превращается в Венеру — и они предаются любви!
— Но Венера выходит на берег нагая из морской раковины, — сказал Граццари.
Федерико вновь обернулся к Септивию.
— Ладно, — заявил Септивий, сжав мелкие желтые зубки. — Тогда Геракл нападает на льва, который набросился на единорога. Пока Геракл сражается со львом, единорог убегает в море. На мгновение нам кажется, что он утонул, но из моря на раковине появляется нагая Венера и падает в объятия Геракла.
Федерико это понравилось, хотя для подобного представления нужно было соорудить пещеру, где единорог превратится в Венеру, и перекрыть горный поток, чтобы создать небольшой пруд.
Как только планы были объявлены во всеуслышание, в город со всех концов устремились крестьяне. Граццари и Чекки пристраивали их на временную работу: строить, красить, копать, сажать, шить и наводить блеск. В Падуе наняли актеров, в Неаполе — певцов. Каждая минута была посвящена приготовлениям к свадьбе, и все, будь то крестьяне или придворные, из кожи вон лезли, дабы воплотить мечту Федерико и сделать Корсоли предметом зависти для Губбио, Пармы, Ареццо, Перуджи, а также остальных городов Италии.
Миранда активно принимала участие в подготовке. Федерико спрашивал ее мнение обо всем. Сначала она с восторгом предлагала какие-то идеи, изумляясь всякий раз, когда ее слова превращались в красочные костюмы, флаги или платья. Но однажды утром она вернулась в спальню, топая ногами и ругая Септивия на все корки.
— Он по-прежнему обращается со мной как с ученицей! Вечно улыбается, когда я что-то говорю, а вчера погладил меня по головке! Если это повторится, я скажу Федерико.
Она стала вспыльчивой и с еще большим жаром окунулась в суматоху приготовлений к свадьбе.
Я обсуждал с Луиджи меню, поскольку теперь, когда у меня будет мой собственный дегустатор, я хотел отведать все блюда, о которых раньше только мечтал: перепелов, колбасы разных сортов, телятину в чесночном соусе и десерт в форме замка Фицци, приготовленный из марципана, сахара и разных фруктов.
Федерико во время еды приказывал Септивию читать вслух отрывки из книги, которую Верана подарил ему во Флоренции, чтобы научить нас всех хорошим манерам. Септивий прочел абзац, где говорилось, что пукать, конечно же, неучтиво, однако сдерживать газы вредно для желудка.
— Что же нам делать? — спросил Федерико, громко пукнув и таким образом заглушив следующее предложение Септивия.
— Замаскировать сие действие кашлем, — повторил Септивий.
По мере приближения свадьбы Федерико начал вставать ни свет ни заря и проверять, как продвигается работа над фресками и заменой мраморных плит. Кроме того, он осматривал костюмы для маскарада и расспрашивал, какой десерт собирается Томмазо подать на банкетах.
Я молил Бога, чтобы Томмазо смирился со свадьбой, но в глазах у него появилось загнанное выражение, и он опять принялся грызть ногти. Когда я пытался с ним заговорить, он отворачивался. Томмазо ненавидел меня и Федерико одинаково сильно, однако пока он не трогал Миранду, меня это не волновало.
В разгар приготовлений я узнал, что мой отец умирает. Герцог Федерико дал мне разрешение навестить его, и как-то утром после завтрака я поехал к отцу. Как же у меня полегчало на душе, когда я оставил позади город с его суетой и поскакал по лугу с высокой травой, пахнущему цветами, деревьями и весенней свежестью!
В детстве отцовский дом казался мне высоким, как башня, но с каждым моим визитом он становился все меньше. Теперь это была лишь корявая выпуклость на фоне пейзажа, которая скоро сравняется с землей. Отец, всегда такой высокий и гордый, лежал на гнилой соломе — слепой, почти недвижный, скрюченный от боли и покрытый язвами. Его сотрясал душераздирающий кашель, над ним витал запах Смерти.
Вся моя злость испарилась, и я встал у кровати на колени, взяв его руку в свою.
— Папа! — прошептал я, желая всей душой хотя бы на миг избавить его от страданий.
Рот у него дрогнул. Я склонился над ним. В ноздри мне ударило зловонное дыхание.
— Как там Витторе? — шепнул он.
Витторе! Боже милостивый! Неужели нельзя хоть раз подумать о ком-то другом?!. Но разве он мог? Когда у нас погибла целая отара из-за того, что Витторе совершенно не заботился об овцах, отец свалил вину на соседа. Когда Витторе обвинили в изнасиловании, отец сказал, что девчонка врет, потому что он отказался на ней жениться. Когда Витторе стал разбойником и начал промышлять на большой дороге, отец рассказывал всем, будто он работает курьером. Когда он бежал в Испанию, отец заявил, что Витторе присвоили чин генерала. Мой отец трудился под проливными дождями и палящим солнцем, отбиваясь от тучи москитов, невзирая на усталость и болезни. Его грабили соседи и обманывали те, кому он служил. Витторе отлынивал от работы, врал, занимался грабежом, насиловал — и отец любил его за это. Что я мог ему сказать?
— Он процветает, — ответил я.
Отец приподнял голову и, раскрыв тонкие губы и обнажив два жалких черных корня в бледно-розовом рту, прохрипел:
— Я знал. Знал!
И вновь умолк.
— Он каждый день спрашивает о Витторе, — сказали мне соседи.
Они принесли мне чашку minestra и хлеб. Глядя, как я ем, они ощупывали мою одежду, особенно новую шляпу с пером. Им хотелось узнать о моей жизни во дворце.
— Там действительно такие красивые женщины, как все говорят? — спросил один. — У тебя есть своя собственная кровать? Сколько человек спит в одной комнате?
— Я не хочу, чтобы моя одежда ввела вас в заблуждение. Я живу не лучше, чем все вы.
— Мало того, что он как сыр в масле катается, — заметил один из крестьян, обращаясь к другому, — так он еще и врет!
Тогда я сказал им, что постели во дворце прохладные летом и теплые зимой.
— Мы едим сколько хотим. Мало того — мы пьем вино за каждым обедом! — похвастался я.
— Я же вам говорил! — воскликнул недоверчивый сосед.
Я сказал, что Федерико дарит любимым слугам драгоценности на Пасху, а работа у меня — не бей лежачего. Потом похвалился, что Федерико часто спрашивает мое мнение по разным вопросам, и придумал несколько баек про принцев из Индии и странных африканских животных.
— У нас есть единорог, и он одновременно мужского и женского пола.
Когда принесли minestra, мускулы у меня на шее напряглись, а горло сжалось, как всегда во время еды. Но меня так увлекли собственные небылицы, что только после того как я съел половину похлебки из зерна, брокколи, фенхеля и базилика — тот самый супчик, которым мама кормила меня в детстве и благодаря которому я заработал постоянную ноющую боль в желудке, — я вздохнул с облегчением. Осознав, что этот вздох вырвался из моего собственного горла, я разразился слезами. Крестьяне смущенно смотрели на меня, а женщина, сварившая суп, заявила, что готовила его с любовью, и, если я плачу, это не ее вина.
Отец закашлялся. Я повернулся к нему. Щеки у меня были залиты слезами воспоминаний, сердце переполнено прощением.
— Babbo! — прорыдал я, подумав, что нам еще не поздно стать друзьями, как это положено родственникам.
Он не смотрел на меня. Он смотрел мимо пустых гнезд, прилепившихся к стропилам на потолке, мимо трещин в крыше — на небесный рай.
С тех пор как герцог объявил о свадьбе, у меня появилось желание привезти отца во дворец, чтобы он увидел, как Витторе ожидает казни, в то время как я выдаю дочку замуж. Однако Господь не исполнил мою мечту. Отец отвел от меня глаза и закрыл их навсегда.
Я рыдал, роя ему могилу. Несмотря на теплую погоду, меня трясло от холода так, словно душа моя уже оказалась во льдах, уготовленных для предателей. Отец мой умер, и я одержал победу над Витторе, но победы мои были ничтожны — а сам я еще ничтожнее, поскольку считал их победами. Сколько часов, недель, месяцев и лет я прожил в ненависти и таким образом потерял их зазря?
Бросив последнюю горсть земли на тело отца, я поскакал обратно, рыдая, пока у меня не осталось больше слез. И только тогда я увидел, сколь велика безграничная милость Господня. Наконец-то я понял, зачем он дал мне Елену и тут же отнял ее. Не встреться я с Еленой, слова моей матери «Не рой другому яму — сам в нее попадешь!», — оказались бы пророческими. Но теперь камень упал с моей души. Поскольку моя злоба на отца и брата иссякла до дна, я очистился. Отныне меня будет вдохновлять не ненависть, а любовь — моя любовь к Елене. Она — источник моего вдохновения, такой, каким Беатриче была для Данте. Я буду жить так, чтобы стать достойным ее. По лицу моему потекли слезы радости, я спешился и упал на колени в душистую траву, благодаря Бога за то, что он указал мне путь.
Вернувшись, я пошел в комнату Миранды, намереваясь рассказать ей о смерти моего отца и о чуде, случившемся со мной. Там сидели ее подружки, что-то с жаром обсуждая. Одна из девушек, задыхаясь от волнения, сообщила мне: днем приехали актеры из Падуи, и Федерико сказал их главному, что Миранда будет петь вместе с ними.
— Невеста? — рассмеялся тот. — Такого отродясь не бывало! Люди будут судачить на всех углах!
— Я именно этого и хочу! — заявил Федерико, ткнув его жирным пальцем в грудь.
Миранда сидела на кровати в окружении весело щебетавших подружек и тоже смеялась, но, судя по тому, как она покусывала нижнюю губку, я видел, что она напугана. До сих пор, зачарованная подарками и вниманием, Миранда воспринимала все происходящее как игру, которую она сможет прекратить, когда захочет. Даже после того как объявили о свадьбе, она была польщена тем, что станет принцессой. Герцог относился к ней с нежностью, и Миранде в голову не приходило, что он может измениться. Но я лично не был в этом так уверен.
Внезапно я вспомнил, что именно хотел рассказать о ней герцогу. Миранда выросла без матери. И хотя она часто смеялась, но часто пугалась тоже. Она, безусловно, была мудра не по годам и все-таки оставалась ребенком. Мне хотелось пресечь глупые смешки, окружавшие ее. Мне хотелось взять мою дочурку на руки, как в детстве, и рассказать ей о маме. Мне хотелось повернуть время вспять — в ту пору, когда у нее впервые начались месячные. Когда ладошки у нее были такие же пухлые, как щеки. Когда она пела песни солнцу и играла с козами. Когда я носил ее на плечах и будил по утрам. Когда она была не больше буханки хлеба и запросто помещалась в моих ладонях. Мне хотелось подойти к кровати, обнять ее и сказать, что я всегда буду заботиться о ней… Однако путь к ней преграждали наши амбиции, и я не смог сквозь них пробиться.
В ту ночь мне приснилось, что мы с Мирандой и Еленой живем в Арраджо; шел дождь, на склоне холма паслись овцы. Когда я проснулся утром, то оказалось, что я все еще в Корсоли, а подушка у меня намокла от слез. Я встал, оделся и постучал к Миранде. Дверь, как всегда, была не заперта, — а там, на ее кровати, сидел Томмазо! Он даже не встал, когда я вошел.
— Что ты тут делаешь? — спросил я.
Миранда вскочила с постели и подтолкнула Томмазо к двери.
— Хочешь, чтобы нас убили? — прошипел я.
— Как ты мог заключить с Томмазо соглашение, ни слова мне не сказав? — спросила она.
— Это было четыре года назад, Миранда. Мы только что приехали во дворец. Я просто пытался защитить тебя. Я…
— Что еще ты от меня скрываешь?
— Ничего, — ответил я.
— Ты сказал Федерико, что я девственница.
— Естественно!
— А когда ты собирался сообщить мне, что у Федерико сифилис?
— Кто тебе наплел? Этот дурак Томмазо?
— Ему сказал Витторе.
— И ты веришь Витторе?
— Томмазо готов отдать за меня жизнь! Как будто я не готов!
— Миранда, ты сама поощряла герцога…
— Ты должен был меня остановить.
Oi me! Оказывается, я во всем виноват!
В дверь постучали и прервали наш разговор.
Весь день в Корсоли звучало эхо от работы мастеров, скреплявших своими трудами брачный договор. Они закончили строительство арок у главных ворот, на площади дель Ведура, у палаццо Аскати и последнюю, ведущую ко входу в палаццо Фицци. Они установили статуи Венеры с оливковыми ветвями и голубками. Каждый дом, даже самый маленький, был прибран и украшен флагами. Фонтаны наполнили вином.
И тут, как солдат, падающий без сил после битвы, Миранда упала в мои объятия и зарыдала:
— Я не могу выйти замуж за герцога Федерико, babbo! Не могу. Я люблю Томмазо. Я всегда его любила и всегда буду любить!
Oi me! Сердце у меня разбилось на мелкие кусочки, каждый вдох обжигал огнем. Момент, которого я так долго страшился, настал, а я был готов к нему не больше, чем к вопросу Федерико, когда он спросил меня о своей будущей женитьбе: «А ты, Уго? Что ты скажешь?»
Я смочил голову Миранды водой, прижал ей к носу губку, окунув ее предварительно в вино с кореньями мандрагоры и толченым маком, и крепко обнял.
— Что мне делать? — причитала она. — Что со мной будет?
Она рыдала в моих объятиях, пока не заснула. Что мне было делать? Как я мог сказать такое Федерико за пять дней до свадьбы, когда уже забили сотни животных, сочинили музыку, пригласили актеров,-написали стихи и закончили фрески? Когда тысячи ярдов ткани превратились в платья, камзолы, панталоны и шляпы? Когда вельможи пустились в долгий путь вместе со своими вассалами и слугами, рыцарями и лакеями? Когда ожидалось прибытие папского эмиссара, льва не кормили, чтобы как следует разъярить, а Федерико потратил целое состояние, чтобы вся остальная Италия хотя бы на неделю замерла, глядя на него во все глаза? Если я сейчас скажу герцогу, что Миранда не хочет выходить за него замуж, он отрубит ей голову, сожжет ее тело, разрежет его на кусочки и провезет по городу. Мне вспомнилось новое стихотворение, которое Федерико велел Септивию закончить:
Твой голос, столь нежный и скорбный, Твой лик, столь печальный на вид, И вздох, неприметный, но томный, Мне душу…«Он знает! — с ужасом подумал я. — Он что-то знает о Миранде и Томмазо».
— Будь осторожна! — умолял я Миранду.
Но на следующий день я вновь застал Томмазо в ее спальне. Меня так взбесила его наглость, что я схватился за кинжал, однако Миранда сказала:
— Федерико велел ему прийти сюда.
— Это правда, — улыбнулся Томмазо. — Он подозревает, то у Миранды есть тайный любовник, так что я должен ее хранять.
— Вы дураки! Это ловушка!
— Я скажу ему, что мы любим друг друга, — выпалил Томмазо.
— Ты не скажешь ему ни слова! — воскликнул я, выталкивая его за дверь. — Если я еще раз тебя здесь увижу, ты покойник!
Это произошло сегодня вечером, то есть я описал всю предысторию. Сейчас я сижу в своей комнате. Только что по небу промчалась падучая звезда. Благоприятное предзнаменование но для кого? Для Федерико? Миранды? Томмазо? Для меня? Увы, она сверкнула так быстро, что я не разглядел имени, написанном на ней. Выпью-ка я немного сока мандрагоры! Он помогает мне уснуть, а я должен выспаться, чтобы потом на свежую голову придумать, что же делать. Кстати, два дня назад начали прибывать гости, потому что завтра — первый день свадьбы.
Глава 29
День первый
Первый день окончен, впереди еще шесть! Спасибо тебе, Господи, за белену, хотя из-за нее у меня все перемешалось в голове. Надеюсь, то, что я помню, действительно произошло. С другой стороны, может, я просто хочу, чтобы это произошло? Если так, я не смогу определить, что было на самом деле — и моя жизнь, которая и так запуталась, пойдет совсем наперекосяк.
Хотя у меня ужасно устали глаза после того, как я закончил вчера писать, они отказывались закрываться, так что я пошел бродить по темному замку. Весь день рабочие и слуги трудились как пчелки, наводя последний блеск, но теперь здесь царила тишина, нарушаемая лишь храпом тех же самых уставших слуг, спящих во тьме.
Кухня была пуста, мягко светились печи. Кастрюли и котлы выстроились в ряд, словно солдатские шлемы. В каждом углу высились кучи овощей и сыра, стояли бочки с молоком, маслом из Лукки, вином из Орвьето, Сиенны и Флоренции, и все они ждали, как и сам замок — вернее, даже не замок, а весь Корсоли — начала свадьбы. Из кухни я вышел во внутренний двор. С трех сторон в лунном свете белели мраморные колонны, а впереди возвышался склон, превращенный в висячие сады. Святые угодники! Люди будут говорить о них, пока не вымрет род человеческий. Клянусь могилой матери, я никогда не видел такой красоты. Два месяца пятьдесят человек выдирали на холме сорняки и сажали цветы и кусты, надеясь, что Господь благословит их начинание. В своей безграничной милости он услышал их молитвы, и теперь склон представляет собой разноцветный гобелен, где смешались голубая, желтая, белая и красная краски — прямо-таки ожившая картина.
— Мы усовершенствовали саму природу, — сказал Граццари.
О Елена, как бы я хотел, чтобы ты увидела это! Я попросил герцога Федерико пригласить архиепископа Нима, но он отказался, заявив, что не любит французов. Где ты, Елена? Бежит ли твоя кровь по жилам быстрее при мысли обо мне? Простираешь ли ты руки в ночи, надеясь увидеть меня рядом?
Я прошел через дворец к пьяцца Фицци, где построили третью арку. Боже, какое чудо! В три раза выше человеческого роста, по обеим сторонам — статуи с гирляндами и цветами. Фигуры Виртуозы и Фортуны выглядели такими естественными, что, казалось, вот-вот оживут.
Оттуда было совсем недалеко до Лестницы Плача и Короли. Как и дворец, город затих. Слышался лишь ленивый шелест белых и красных флагов, развевающихся на крышах домов. Даже самые ветхие лачужки были прибраны и покрашены, а площадь Сан-Джулио совершенно преобразилась благодаря деревьям, кустам и цветам. Трудно поверить, что во время чумы площади не было видно под грудой мертвых тел. Именно отсюда мы будем смотреть на маскарад и caccia. Любовь Федерико к Миранде и впрямь изменила его. Вернувшись из Милана, герцог хотел воздвигнуть свои собственные статуи и скульптуры. А теперь он видит красоту закатов, пытается писать стихи, восхищается искусством Томмазо на кухне. Мысль об этом негоднике пронзила меня стрелой, и если минуту назад мне хотелось стукнуть в каждую дверь и крикнуть в каждое окно: «Все это ради моей дочери!» — то теперь я поспешил во дворец, чтобы убедиться, что Томмазо спит в своей постели, а Миранда — в своей.
Томмазо лежал на боку, с открытым ртом и слегка нахмуренными бровями. Что-то пробормотав, он вытянул голову вперед, будто пытаясь коснуться кого-то, лежащего рядом. Я побежал в спальню Миранды. Она тоже спала на боку. Лицо казалось бледным на фоне черных волос, губы полуотрыты, а ладонь прижата к груди так, словно она удерживает там чью-то руку. Меня вдруг охватила такая злоба на то, что ни не в силах обуздать свою дурацкую любовь! Я мог бы трубить их протянутые друг к другу руки — но что это даст? Их страсть не желает замечать никаких преград, стоящих между ними! Я вернулся в свою комнату и, измученный беспокойством, забылся тяжким сном.
* * *
В то утро герцог Федерико сидел на краю кровати, опустив ногу в тазик с уксусом, поскольку его внезапно одолел приступ подагры, и орал на Бернардо:
— Что это значит?
Бернардо бросил на меня недовольный взгляд, словно мой приход помешал ему, хотя мы оба знали, что он был мне благодарен.
— Миранда убегает, — медленно проговорил Бернардо, — и она хочет, чтобы вы гнались за ней как охотник, преследующий добычу.
Очевидно, Федерико опять что-то приснилось.
— Но когда я настигаю ее, — буркнул он, — она ускользает из моих рук!
— Простите, что вмешиваюсь, ваша светлость, следовательно, дух ее поймать невозможно. Всем известно, что сны нереальны, и поэтому люди в них — всего лишь духи. — Поскольку я сам не соображал толком, что говорю, я быстро добавил: — Я принес вам на завтрак яблоки, фиги и мед.
— Ее дух поймать невозможно, — повторил Федерико сам себе.
Бернардо, с облегчением соскочив с крючка, поспешил прочь. Я поправил подушки за спиной у Федерико. Он лег и спросил:
— Как чувствует себя Миранда?
— Она отдыхает, — ответил я, осторожно положив его больную ногу на кровать.
Я взял чашку с фигами и медом. Федерико отвернулся от меня, глядя на висячие сады. Потом бросил на меня быстрый взгляд и вновь отвел глаза. Мне показалось, что он хочет побыть один, однако он махнул своей клешней и сказал:
— Reste! [58]
Герцог вновь посмотрел на сады, а затем на меня. Рот у него приоткрылся, слова были готовы сорваться с губ, однако он молчал. В глазах у него плескалась боль — не от подагры, значительно более глубокая и сильная. И тут меня поразило, словно ударом молнии. Он знал, что Миранда его не любит!
Я никогда не видел Федерико плачущим. До сих пор не и в голову не приходило, что он способен плакать — но, клянусь, я видел слезы в его глазах! Однако тут же, словно не желая, чтобы я подсмотрел какое-то священное таинство, герцог надел обычную маску, сел и, макнув фигу в мед, съел ее.
— Ночь перед битвой. — Он облизнул губы. — Мои чувства острее шпаги. Я вижу в темноте. Я слышу, как кузнечики совокупляются в поле. Я нутром чую страх врагов.
Я молчал, уверенный в том, что он спросит о Миранде, но герцог молчал. Быть может, он и без меня знал ответ. Вместо этого он спросил:
— Принцесса Маргарита из Римини приехала?
— Ее ожидают сегодня утром.
Герцог кивнул. Скрипя зубами, он сбросил одеяла и встал, перенеся вес на здоровую ногу и опираясь на мое плечо. На лбу у него выступил пот, однако, как и в Милане, он не желал признать, что ему больно.
— Висячие сады восхитительны, — проворчал он.
— Да, ваша светлость. Прекрасны.
Он уставился на меня. Я не моргнул и не отвернулся, хотя дыхание его было более зловонным, чем сточная канава в жаркий день. Я помог ему дойти до кресла, где он мог облегчиться. Потом подождал, пока он закончит, и предложил руку, чтобы помочь ему дойти до кровати. Федерико сел и взмахом руки велел мне уйти. Я хотел сказать что-нибудь, чтобы успокоить герцога, но испугался, что любые мои слова только усилят его подозрения.
Вернувшись в свою комнату, я услышал, как подружки Миранды хихикают, помогая ей одеться.
— Толщиной с мою руку и в два раза длиннее, — со смехом сказала одна из девушек.
Через минуту Миранда постучалась в мою дверь. На ней было голубое шелковое с бархатом платье, расшитое драгоценными каменьями, подобранными к ожерелью из рубинов и изумрудов. Она казалась тоньше и шла так, словно ее голова вот-вот могла упасть с плеч. Зрачки у нее были все еще расширены от зелья, которое я дал ей раньше, однако бледность лица, обрамленного темными волосами, лишь подчеркивала ее прелесть.
— Мне нужно еще немного зелья, — сказала она охрипшим голосом.
— Так ты скоро искусаешь губы до крови.
— Дай мне снадобья!
— Только капельку.
Ее громадные темные глаза уставились на меня поверх чаши.
— Не слушай, что говорят о Федерико, Миранда! Он действительно любит тебя. Ради твоего же собственного блага, я умоляю тебя…
Она залпом выпила, утерла рот рукой и швырнула пустую чашу в стену. Притворно шатаясь, как будто внезапно опьянев, Миранда слишком громко рассмеялась и вместе с подружками ушла из комнаты. Я последовал за ними, поскольку испугался, как бы под действием настойки она не сказала чего-нибудь такого, о чем впоследствии пожалеет, но во дворе я потерял их в пестрой толпе карет, лошадей и прибывающих гостей.
Женщины были одеты в дорожные платья, зато мужчины расхаживали кругом, как павлины, восхищаясь самими собой и поздравляя друг друга с благополучным прибытием. У всех у них были козлиные бородки — крайне модные сейчас в Венеции — и двухцветные лосины. А на спине в камзолах виднелись вертикальные прорехи, как будто портные забыли их зашить.
Стоило им только спешиться, как они тотчас принимались болтать.
— Федерико потратил целое состояние!
— Не так много, как Эсте в Ферраре…
— Но больше, чем Карпуччи!
— Корсоли выглядит превосходно!
— А какие дивные арки!
— Раз он выкинул столько денег, значит, и впрямь влюблен!
— В дочь дегустатора? — фыркнул принц из Пьяченцы так, словно у дегустаторов шесть ног и член вместо носа.
Я сказал принцу, что герцог женится на моей дочери Миранде. Он посмотрел на меня как на идиота. Ну надо же! Он оскорблял дегустаторов, а потом не мог поверить, что я — один из них. Какими, интересно, он их себе представлял? Ничего, скоро узнает. Я об этом позабочусь. И действительно, днем я всем им показал.
Мы собрались в приемном зале, чтобы снять занавес с фрески Миранды. Дворец к этому времени был уже так переполнен гостями и их слугами, что самый воздух дрожал от возбуждения. Граццари произнес речь, в которой назвал Федерико солнцем, давшим ему силы, а Миранду — луной, одарившей его вдохновением, после чего отдернул занавес. Я несколько раз наблюдал, как Миранда позировала, и не переставлял удивляться, каким образом Граццари удается перенести ее красоту на стену. Тем не менее теперь, когда фреска была закончена, она снова поразила меня до глубины души. Картина была большая, с меня ростом и в два раза шире. Миранда на ней летит по воздуху слева направо, и ее черные волосы развеваются на ветру. Одета она как ангел, над головой сияет нимб. Лицо, повернутое к нам, сияет, уголки губ приподняты так, словно в душе у нее все ликует от тайного счастья. Граццари закончил фреску только что, даже краски еще не высохли, и она казалась такой живой, что мне чудилось — стоит лишь прижаться головой к стене, как я услышу биение сердца Миранды. Я всегда знал, что она прекрасна, но когда видишь каждую родинку, ресничку и ямочку в увеличенном размере, то мнится, будто перед тобой самое воплощение красоты.
Я думал, все вокруг начнут шумно выражать свой восторг, но никто не промолвил ни слова. «Вы что, слепые? — хотелось мне крикнуть. — Это же лучшая картина на свете! Она прекраснее, чем Мария Магдалина в Милане!» Потом я заметил, что зрители попросту потеряли дар речи. Красота фрески ошеломила их.
— Magnifico! [59] — выдохнул кто-то наконец, и тут, словно очнувшись от чар, они закричали все хором, восхваляя творение художника: — Stupendo! Meraviglioso! [60]
Гости повторяли эти слова снова и снова, точно лишь целый поток слов был способен выразить их восхищение. Они окружили Миранду, осыпая ее комплиментами.
— Это заслуга Граццари, — сказала Миранда. — Он вновь усовершенствовал природу.
— Нет! — возразил Граццари. — Просто когда Господь увидел, сколь плохо я подготовлен для выполнения сей задачи, он мне помог.
Он объяснил, что голуби, летящие вслед за Мирандой, символизируют мир и покой. И это также видно по тому, как лев и ягненок лежат вместе на траве.
— Ожерелье на шее у Миранды — то самое, которое Афродита подарила Гармонии на свадьбу. Оно придает его обладательнице неотразимую красоту.
— Быть может, на картине она в нем нуждается, — сказал Федерико. — Но в реальной жизни — нет.
Гости с жаром согласились. Миранда залилась румянцем. Я не расслышал, что она ответила, поскольку увидел двоих слуг, которые боролись с Томмазо у входа в зал.
— Я пришел посмотреть фреску! — заявил он.
Глаза у него покраснели от рыданий, лицо осунулось от бессонницы.
— Если сделаешь какую-нибудь глупость, — прошептал я, — тебя казнят!
— Мне незачем жить! — крикнул он и убежал.
Я не мог последовать за ним, поскольку Федерико повел гостей в главный зал на скромный ужин. Многие из них устали от дороги и хотели поскорее лечь спать, а я вернулся, чтобы еще раз посмотреть на изображение Миранды.
Мне вспомнилось, что Граццари начал писать фреску в тот день, когда объявили о свадьбе, когда все это было дня Миранды забавой, и поэтому лицо ее показалось художнику таким игривым. Глядя на картину, я снова понял Томмазо с его безумной страстью. Как может кто-либо смотреть на такую красоту и не желать отведать вкус счастья? Разве я не чувствовал то же самое по отношению к Елене? Разве сердце мое не болело, когда я думал, что, быть может, никогда больше не увижу ее?
Внезапно за спиной раздался тихий голос.
— Кто это?
Я обернулся. Миранда показывала на фреску.
— Почему она улыбается, если сердце у нее рвется на части?
Я протянул руку, желая утешить свою несчастную дочь, но она оттолкнула меня. Что я мог сказать? Было решено, что она выйдет замуж за Федерико. Свадьбу отменят только в том случае, если с ним что-нибудь случится. Надеяться на это нет смысла. И Томмазо тоже не в силах ничего изменить. Что он может? Пронзить Федерико кинжалом? Да он вовек не пробьется к нему через охрану! Отравить? Только через мой труп… В конце концов, у него ведь был шанс! И у Миранды тоже. Однако время идет вперед, а не назад. Что сделано, то сделано. Федерико женится на Миранде. Я больше не буду дегустатором. Так суждено — и так будет, а если Томмазо выкинет какой-нибудь фокус, клянусь бородой Христа, я отрежу ему яйца!
День второй
Не знаю, то ли от настойки, то ли из-за злости на Томмазо, а может, из-за волнения перед свадьбой, но проснулся я в то утро более усталым, чем заснул. Я пошел на кухню, намереваясь поговорить с Томмазо. Там уже вовсю суетились слуги — жарили, парили и варили, стараясь изо всех сил превзойти друг друга. Луиджи доверительно рассказал мне, что за две следующие недели будет съедено двести овец, пятьдесят телят и столько же оленей, а также две тысячи голубей, каплунов и вальдшнепов. Неудивительно, что во дворец стеклось столько крестьян: больше еды не осталось нигде.
Томмазо поливал чашку с вишнями кислым фруктовым соком, посыпанным корицей и имбирем. Ягоды напомнили мне о брыластом, и я вдруг пришел в ярость при мысли о том, что тогда они спасли мне жизнь, а теперь, похоже, погубят.
— Да, самое подходящее блюдо, — заметил я, когда Томмазо высыпал ягоды на корж.
Он подскочил.
— Чего тебе нужно?
У меня было желание тихонько побеседовать с ним, но он снова крикнул: «Чего тебе нужно?» — так, будто я простой крестьянин, только что пришедший из деревни. Я схватил тяжелый черпак и расколошматил бы его о голову Томмазо, если бы Луиджи не вытолкал меня из кухни со словами:
— Что за дьявол в тебя вселился? У нас работы невпроворот!
Во дворе слуги зажигали огонь под баками и котлами. В воздухе витал запах жареного мяса. Мимо меня пробежала стайка смеющихся девушек с гирляндами цветов. По идее, мне полагалось бы чувствовать себя счастливым, но я был взвинчен, нервничал, а львиный рык взбудоражил меня еще сильнее. Льва не кормили уже неделю, готовя к caccia, и запах свежего мяса привел его в неистовство. Я вдруг вспомнил о Витторе. На меня столько свалилось в последнее время, что я напрочь о нем забыл.
Услышав, как я спускаюсь в его каземат, он живо вскочил на ноги, словно дитя, ожидающее угощения. Но потом, когда увидел, кто к нему пришел, снова сел, с равнодушным видом прислонившись к стене. Ногти у него отросли и почернели от грязи, одежда залоснилась, а волосы были всклокочены пуще прежнего.
— И ты позволишь Федерико выпустить меня на площадь вместе со львом? — спросил он, потирая гноящийся от сифилиса глаз.
— Я не могу ему помешать.
— Скажи ему, что я твой брат.
— Ты же сам не хотел, чтобы я говорил ему. Помнишь?
Он вскочил и вцепился в решетку так, будто хотел выдрать ее прутья из земли.
— Ты не успокоишься, пока мы с отцом не сдохнем, да?
— Папа уже умер, — сказал я.
Он уставился на меня.
— Врешь!
— Неделю назад. Я узнал, что он болен, и поехал к нему. Он умер у меня на глазах.
— Почему ты не сказал мне?
Действительно, почему?
— Извини, я забыл. Я…
— Ты не забыл! — заверещал он. — Ты просто ревнуешь! Ты всегда завидовал и ревновал!
Он выплюнул последнее слово, как будто хотел ударить меня.
— Если ты и правда любил его, что ж ты сам к нему не съездил? Ты мог привезти его во дворец, — ответил я.
— Ты… Сволочь поганая! — Он меня больше не слушал. — Сволочь!
Он начал биться лбом о прутья решетки.
— Отец спрашивал о тебе, — сказал я. Витторе замер. — Я сказал ему, что ты процветаешь.
— Я что, должен поблагодарить тебя?
— Нет.
Казалось, из него выпустили весь воздух. Брат всегда был выше меня, но сейчас, когда он стоял посреди клетки, вцепившись в волосы и что-то бормоча себе под нос, он неожиданно напомнил мне того щуплого крестьянина, который вскочил на подножку кареты Федерико по дороге в Милан. Витторе снова прислонился лбом к решетке.
— Grazie, — прошептал он. — Grazie.
Между нами загорелся маленький шарик света, исполненный воспоминаний о том, что могло бы быть — два мальчугана, играющие вместе, двое молодых людей, по-дружески взявшихся за руки, двое братьев и закадычных друзей… Но шарик тут же погас, и я почувствовал внутри пустоту.
— Мне пора. Из Рима приезжает кардинал Севинелли.
Поднявшись наверх, я услышал душераздирающий вопль.
Я нагнулся и посмотрел в клетку. Витторе лежал на полу, уткнувшись лицом в навозную жижу, и, судорожно сжимая в руках прелую солому, рыдал, выкрикивая одно лишь слово:
— Папа! Папа! Папа!
Я занял свое место на балконе позади Федерико с Мирандой, рядом с гостями из Перуджи и Сполсто. Толпа внизу пела и плясала вокруг арки. Где-то вдали заиграли трубы, пробежал шепоток: «Едут! Едут!» — и на плошади показалось двенадцать всадников в блестящих доспехах с зелеными и белыми лентами. В правой руке они держали оливковые ветви и так прямо сидели в седле, словно их головы прикрепили к небу. За ними гарцевали двадцать великолепных скакунов без наездников, украшенные золотыми седлами и уздечками. Затем появились трое вельмож с флагами. На одном был изображен крест, на другом — ключи от церкви, на третьем, имперском флаге Святой Римской церкви — пять полумесяцев. И наконец в окружении рыцарей появился ослепительный золоченый паланкин, который несли слуги.
Процессия остановилась прямо напротив балкона. Из паланкина на площадь ступил человек. Господи Иисусе! Я не верил своим глазам. Это был не кардинал Севинелли, а проклятый горбун Джованни! Эти уши я узнал бы за милю! У меня свело желудок. Я глянул еще раз, чтобы убедиться, что я не ошибся. Нет, это был он, в золотистой мантии и с маленькой красной шапочкой на голове! Площадь замерла. Все смотрели на Федерико. Я думал, он спрыгнет с балкона и набросится на Джованни, однако герцог встал и громким ясным голосом произнес:
— Мы приветствуем кардинала Джованни в Корсоли и будем молиться, дабы его пребывание здесь осенило нас Божьей благодатью.
Толпа возликовала; процессия въехала во дворец.
Гости поспешили с балкона, жужжа, словно тысяча пчел. Я не мог шевельнуться. Задница у меня приросла к креслу, а ноги стали тяжелыми, как у каменной статуи. «Может, мне это снится?» — спросил я себя и поинтересовался у Чекки, знал ли он о приезде Джованни. Он покачал головой. Септивий поклялся, что не писал ему приглашение. Кто же мог это сделать?
Гости весь вечер сплетничали о неожиданном госте.
— Джованни не приехал бы, если б его не пригласили!
— В любом случае, нельзя сказать, что у него кишка тонка!
— И член, как у коня. Так я по крайней мере слышал, — пошутил кто-то.
Слухи расползались и подымались ввысь, словно дым, пока не затмили солнце.
Мы собрались во дворе на первый спектакль актеров из Падуи. Воздух был насыщен ароматом роз. То и дело мелькали светлячки, горя желанием принять участие в празднестве. Кресла поставили напротив двух декораций, расписанных облаками, птицами и цветами, которые прекрасно сочетались с висячими садами на заднем плане. Миранда была вся в белом, если не считать ожерелья из ослепительных изумрудов и изящной золотой короны. Что бы она ни чувствовала, а может, как раз благодаря своим переживаниям, моя дочурка в жизни не была так прекрасна. Когда она заняла свое место рядом с Федерико, зажглись факелы, и мы увидели потрясающее зрелище. Целое море изысканных дам, обилие сверкающих драгоценных камней, масса привлекательных мужчин, и все это на фоне великолепия природы — в общем, не бледное отражение рая, а настоящий источник вдохновения для небес! Из уст публики, польщенной тем, что она стала частью столь дивного зрелища, вырвался общий восторженный вздох.
Опьяненный счастьем, я откинулся на спинку кресла — и вдруг увидел в окне дворца лицо Томмазо. Меня это так поразило, что я чуть не свалился. Тут заиграли флейты и барабаны, и я отвел от него глаза, устремив их на сцену. Когда наконец настала тишина, на подмостки вышли актеры, одетые богами, и попросили природу показать ее богатства. На сцену выбежали другие актеры, наряженные львами, ягнятами, котами и собаками, и стали вместе танцевать. Звери пропели Федерико с Мирандой любовные песни и воззвали к богам, дабы те благословили брачный союз и сделали его плодородным.
Они ушли со сцены, и декорации повернулись, открывая взору серию картин, которые предполагалось использовать во время представления. На одной из них была изображена монастырская келья для истории Боккаччо о монашке, которая потеряла свою плетку или что-то еще, я точно не помню. Я был совершенно рассеян и все думал о том, зачем к нам пожаловал Джованни и не затевает ли Томмазо какую-нибудь глупость. Потом снова были танцы, еще одна комедия, а в конце два громадных грифа вытащили на сцену золоченую карсту, в которой сидела Миранда. Все произошло так естественно и гладко, что я даже не заметил, когда она покинула зрительское кресло. Она сидела в золоченой карете на фоне холма, поросшего деревьями и прекрасно дополнявшего висячие сады, которые уже сами по себе были совершенством.
Я посмотрел, наблюдает ли из окна Томмазо, но там никого не было, и я выругал его про себя за то, что он испортил мне удовольствие. Господь всемогущий! Такое случается лишь раз в жизни, и я хотел запомнить каждую подробность. Как жаль, что отец и моя дорогая матушка не могли разделить мою радость! Potta! Я хотел, чтобы это зрелище видел весь мир! Я бы даже Витторе освободил, чтобы показать ему, как его ядовитые слова превратились в чистое золото.
Миранда взяла в руки лиру, и мелодия полилась, словно нежный ручеек. Закрыв глаза, Миранда запела о любви — такой сильной, что человеческому сердцу ее не вынести. В ее неистовом огне сгорает не только сама певица, но и ее возлюбленный. И лишь после смерти, освободившись от плоти, они смогли соединиться. Когда смолой последние звуки, Миранда открыла глаза и чуть приподняла голову, словно пытаясь узреть души, улетающие в черное звездное небо над нами. Потом склонила голову, грифы уволокли карету со сцены, и последнее, что мы увидели, была призрачно-бледная шея Миранды. Я глянул на окно. Томмазо плакал.
Под аплодисменты гостей Федерико встал с трона и повернулся к нам лицом.
— Она лучше всех актрис из Падуи! — радостно заявил он.
Все снова захлопали.
— Mangiamo! [61] — крикнул герцог и пошел вместе с Мирандой в банкетный зал.
О самом содержании песни никто не сказал ни слова.
Если бы я не видел этот зал каждый день в течение пяти лет, я бы его не узнал. С потолка свисали люстры с сотнями свечей. Столы были покрыты тонкими льняными скатертями, а вместо подносов на них стояли золотые тарелки. Оформлением занимался Граццари, и он даже салфетки велел сложить в виде цветов. Как только гости расселись, трубы возвестили о том, что сейчас подадут всевозможные яства. О первом блюде я уже упоминал. На второе подали жареную зобную и поджелудочную телячью железы, печенку в баклажанном соусе с ломтиками тонко нарезанной копченой ветчины и дыни, а также горячие блюда. Поскольку стояло начало лета, мясо было нежное и сочное, особенно крольчатина. Кроликов, специально выращенных для этого случая, подали с кедровыми орешками. Ломтики жаренной на вертеле телятины плавали в собственном соку. Септивию, естественно, полагалось произнести речь.
— Только покороче, — велел Федерико.
Септивий сказал, что, хотя Корсоли не может похвастаться величием Рима или блеском Венеции, три этих города — братья по духу. У каждого есть свои достоинства, а поскольку Корсоли расположен на полпути между двумя другими, он заимствует лучшие черты обоих. А если репутация Корсоли в области торговли или искусств не столь высока, то это лишь из-за его географического положения, за которое можно винить только Господа Бога, но кто же решится обвинить Всевышнего, коли на то была его воля? Мне все это показалось полной бессмыслицей, да и остальным тоже, не исключая, видимо, и самого Септивия, ибо он запнулся и вдруг заявил, что Корсоли компенсирует свое географическое положение, став первым городом в Романье, где пользуются вилками! Тут слуги вручили каждому гостю по серебряной вилке. Oi me! Можно подумать, это были золотые слитки! Луиджи пришлось залезть на стол, чтобы привлечь внимание гостей.
— Возьмите вилку вот так. — Он зажал ее в правой руке. — А теперь воткните ее в мясо на подносе и положите его себе на тарелку.
Все немедленно последовали его совету.
— Не торопитесь! — услышал я голос Джованни.
— Теперь, — продолжал Луиджи, — придерживая мясо на тарелке вилкой, возьмите нож, лежащий с левой стороны, и отрежьте кусочек.
Он отрезал в качестве примера ломтик телятины, подцепил его на вилку и протянул мне — ну точно как собаке! Я попробовал, объявил, что мясо не отравлено, и вернул тарелку Федерико. Герцог тут же вонзил в телятину нож — с такой яростью, словно теленок был еще живым, — и разрезал на три части.
— Совсем просто! — довольно ухмыльнулся он.
Все гости сделали так, как их проинструктировали. Женщины хихикали и восклицали:
— Слава Пресвятой Богородице! Вилка — подарок небес. Как мы могли жить без нее?
Септивий, который, как обычно, болтал во время еды, дважды уколол себе язык. Я вдруг вспомнил о Томмазо и подумал: уж не подсыпал ли он яда в вишневый торт? Гости вокруг меня смеялись и шутили. Даже Миранда! Она-то над чем смеялась? А может, она знала, что ягоды отравлены — и ее это не волновало?
— Мой шеф-повар по десертам! — сказал Федерико, когда Томмазо вошел с тортом на золотом блюде.
Герцог отломил ложкой кусок торта, но предложил его не мне, а Миранде. Почему? Неужели подозревает, что здесь что-то неладно? И что мне делать? Закричать? Броситься к ней? Вырвать торт у нее изо рта? Я посмотрел на Томмазо. Лицо у него было бледное как мел.
— Ваша светлость, — сказал я. — Может, мне сперва попробовать вишню?
— По-моему, в этом нет необходимости. Или есть? — спросил Федерико, держа ложку на весу.
— Нет, но поскольку я больше не буду вашим дегустатором…
Миранда преспокойно взяла у Федерико ложку и, не дав мне опомниться, проглотила кусок торта, а затем громко вздохнула от удовольствия. Томмазо вышел, глянув на меня с таким отвращением, что я задрожал от бешенства. Актеры пели, клоуны жонглировали, музыканты наяривали веселые мелодии. Рубашка у меня взмокла от пота, колени тряслись, как в лихорадке. В желудке словно образовалась дыра. Мне хотелось умереть, но я досидел до конца трапезы.
* * *
Я только что вернулся в свою комнату. Над горами скользят первые рассветные лучи. Кое-кто из гостей отправился в сад любоваться закатом, однако я устал больше, чем Иов, и мне нужно поспать. Когда я проходил по двору, мне встретился кардинал Джованни с четырьмя телохранителями. Я поклонился и сказал:
— Buona notte, кардинал Джованни. Он шагнул вперед, преградив мне путь.
— Уго ди Фонте, дегустатор герцога Федерико! — Кардинал смерил меня взглядом с головы до ног так, будто я был куском мяса, который он собирался купить. — Скажи мне, Уго, после того как твоя дочь станет женой герцога, ты по-прежнему останешься на своей должности?
— Нет, у меня будет мой собственный дегустатор.
— Собственный? — Горбун повернулся к стражникам: — Вы слышали? Уго обзаведется своим дегустатором! — Охранники заржали, а Джованни вновь повернулся ко мне: — И когда это произойдет?
— На последнем банкете.
— Через пять дней? — Глаза у него за очками округлились, как будто хотели вылезти на лоб.
— Да.
Я и сам с трудом в это верил.
— Ну-ну, посмотрим, — ухмыльнулся он и пошел дальше, даже не оглянувшись.
Что он имеет в виду? Да какая мне разница! Пускай думает, что хочет. Он не сможет мне напакостить, во всяком случае, здесь, в Корсоли. Суд у нас правит Федерико, а он женится на моей дочери, и пусть даже Джованни — эмиссар папы римского и самого Иисуса Христа, руки у него коротки!
День третий
Oi me! Sono fottuto! Моя жизнь перевернулась! Геенна огненная разверзлась у меня за спиной, дьяволы хватают меня за пятки. Как это могло случиться? Я сидел в своей комнате… Нет, нет. Начну сначала. Сегодня утром в соборе Святой Екатерины Джованни произнес проповедь, в которой призывал отдать кесарю кесарево, а Богу — Богово. Я был уверен, что кардинал обращается ко мне — из-за нашего вчерашнего разговора. Как только месса закончилась, я пришел сюда, чтобы все это записать. Тут в дверь постучали.
— Uno momento! — крикнул я, поскольку хотел спрятать рукопись.
И услышал в ответ, что, если я не открою дверь, ее взломают. Меня взбесило, что кто-то позволяет себе так со мной говорить. Со мной! С придворным! Отцом невесты! В самый разгар свадьбы!
— Я вам покажу, как мешать мне! Сейчас вы у меня получите по башке! — заорал я, открывая двери.
Передо мной стояли те же четверо солдат, которых я видел накануне с кардиналом Джованни. Капитан сказал, что их хозяин желает меня видеть. Я ответил, что кардинал Джованни, очевидно, забыл о свадьбе моей дочери, у меня масса дел, а потому, если я ему нужен, пускай сам ко мне придет. Капитан спокойно ответил, что, если я немедленно не пойду с ними, меня бросят в темницу. Porta! Что мне оставалось делать?
Когда я вошел, Джованни сидел за столом и писал. Из-за коротко остриженных волос голова его без шляпы походила на большую кастрюлю, а уши — на ручки, за которые ее берут. Я подождал минутку, потом сказал:
— Простите, что прерываю, кардинал Джованни…
— Нет, не прощу, — резко ответил он, продолжая писать. Этот придурок вел себя так, словно он папа римский!
Через пару минут он положил перо, выпрямил спину и спросил:
— Ты знаешь, зачем я приехал?
Знаю ли, зачем он приехал? Он явно играл со мной в какую-то игру, но поскольку правил я не понимал, то невинно ответил:
— Чтобы благословить этот священный брак от имени папы, очевидно.
— Я уполномочен папой Климентом выявить всех, кто грешил против церкви, — сказал он.
— А я-то тут при чем? — спросил я, пожав плечами.
Он ничего не ответил, только молча глядел мне прямо в глаза.
— Кардинал Джованни, — сказал я, — клянусь Пресвятой Богородицей, я никогда не говорил ничего против Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отца, церкви или святых. Даже против папы римского!
Джованни взял со стола лист бумаги, поправил очки и прочел:
— «Имперская Римская церковь обвиняет Уго ди Фонте из Корсоли в колдовстве».
— Меня? — рассмеялся я. — В колдовстве?
— Это серьезное обвинение. За него полагается смертная казнь.
— Вы вызвали не того ди Фонте, кардинал Джованни. Мой брат Витторе устраивал шабаши в конюшне. Он проклинал Христа и заставлял своих последователей целовать себя в задницу…
— Лучше сознайся!
— В чем? — с жаром спросил я.
Кто-то стукнул меня по затылку, и я рухнул на пол. Меня пнули под ребра, потом подняли и, как марионетку, поставили перед Джованни. Голова у меня шла кругом, изо рта сочилась кровь, один зуб сломался.
— Угомонись! У нас есть свидетель.
— Хотел бы я на него посмотреть! — крикнул я.
Кардинал Джованни кивнул охраннику, тот открыл боковую дверь и… Матерь Божья! Господи Иисусе! В комнату вошел щеголь из Милана.
— Надеюсь, ты помнишь Баттисту Джироламо, — сказал Джованни. — Он был дегустатором у герцога савойского и видел, как ты занимался в прошлом году колдовством на банкете у Франческо Сфорца.
— Мерзавец напустил порчу на чашку с брусникой, и это убило Антонио де Генуя! — заявил коварный щеголь.
— Я его не убивал!
— Тихо! Ты видел, как это случилось, Баттиста?
— Да, кардинал Джованни.
— Ты когда-нибудь видел Уго ди Фонте до того?
— Да, ваше преосвященство. В тот вечер, когда он приехал, я выпивал в компании дегустаторов, и мы говорили об амулетах.
— И что он сказал?
— Он сказал, что не пользуется амулетами.
— Чем же он пользовался?
— Он сказал — магией.
— Магией?
— Да, кардинал Джованни, магией!
Potta! Они отрепетировали это лучше, чем актеры из Падуи!
— Можешь идти, — улыбнулся Джованни. Охранник отворил боковую дверь. Щеголь подошел к ней, остановился на миг в дверном проеме и, обернувшись ко мне, провел рукой по горлу.
— Что ты теперь скажешь, Уго ди Фонте? — спросил Джованни, снова поправив очки.
Что я мог сказать? Если я заявлю, что был удивлен не меньше других, когда брыластый отдал концы, он мне не поверит. Если я поклянусь, что не умею колдовать даже ради спасения собственной жизни, он мне тоже не поверит. Мои слова не имели никакого значения. Он жаждал мести.
— Кардинал Джованни, если бы я и правда умел колдовать, зачем мне оставаться дегустатором здесь, в Корсоли, и все эти годы дважды в день рисковать жизнью? Разве я не уехал бы в Рим, Милан или Венецию и не сколотил бы себе состояние? Да умей я колдовать, разве я стоял бы сейчас перед вами?
Лицо у Джованни побагровело, как свекла.
— Как ты смеешь издеваться над судом? — заорал он. — За такую наглость тебе голову мало отрубить! Все, на сегодня довольно. Я тебя еще вызову.
Телохранители отвели меня обратно в спальню и сказали, что мне повезло, раз я остался жив, поскольку других людей Джованни бросал в тюрьму, а некоторых казнил даже при наличии куда менее веских доказательств. И вот я сижу у себя и дрожу. Почему Джованни меня не казнил? Или по крайней мере не заточил в темницу? Зачем он меня дразнит? Боится Федерико, что ли? А может, ждет окончания свадьбы… Боже милосердный, как же мне быть? Куда бежать? Нет, сейчас главное — успокоиться и ни в коем случае не показывать Джованни, что я его боюсь. Какого черта ты свалился на мою голову, сволочь проклятая, содомит, мерзкий горбун?!. Спокойно, Уго. Не трусь! Как-нибудь выкрутимся.
Когда я что-то не понимал в Библии, например, почему Всевышний позволял убивать святых, а грешникам даровал жизнь, аббат Тотторини говорил, что пути Господни неисповедимы и задавать такие вопросы негоже. Но чем больше я думал, тем больше мне казалось, что это вовсе не тайны Господа, а его ошибки. Я сказал об этом аббату, на что он сердито ответил:
— Господь не совершает ошибок!
— Если это не ошибки, значит, ему все равно.
Аббат рассердился еще больше. Он сказал, что Господь принес в жертву своего единственного сына, дабы искупить грехи человеческие, и это доказывает, насколько ему не все равно. А поскольку мы все — его дети, он наблюдает за каждым из нас.
— В таком случае, у него плохо со зрением, — откликнулся я.
Как он может наблюдать за мной — и одновременно за всеми остальными жителями Корсоли? А также Венеции, Рима, Милана и Франции? Мы молим его о благодеяниях, восхваляем, когда он к нам благоволит, и ругаем себя, когда впадаем в немилость. Но на самом деле, мне кажется, он не видит нас. А если и видит, то ему без разницы. Помню, как я впервые взглянул вниз с крепостной стены, наблюдая за крестьянами, спешившими на рынок. Они казались не больше муравьев, и я никого из них не узнавал. Именно так мы наверняка выглядим в глазах Бога. Тысячи и тысячи муравьев, и каждый пытается перелезть через ветки или камни своей жизни. Зачем? Если есть какая-то причина, по которой я должен преодолевать препятствия в виде веток и камней, почему Господь не дает мне знака? Или он думает, что я слишком глуп, чтобы его понять? Я, который одержал верх над брыластым, своим отцом и Витторе? Неужели Всевышний считает, что у меня мозгов не больше, чем у муравья?
Тогда зачем он вообще дал мне мозги? Лучше бы я был муравьем и ни о чем не думал. Так куда спокойнее.
Мир и впрямь сошел с ума. Под моим окном стоят гости, глядя на дождь — он недавно пошел, — а я прямо над ними горю в аду. Нужно поговорить с Федерико. Я хорошо ему служил. Я спас ему жизнь. Он женится на моей дочери. Он защитит меня от Джованни. Он должен! Нехорошо это будет выглядеть, если отца невесты арестуют за колдовство на свадьбе герцога!
Я только что вернулся из герцогских покоев. Стражник сказал, что Федерико отдыхает и велел его не беспокоить. Клянусь, если Джованни запрет меня в одной клетке с Витторе, я сойду с ума! Ладно, пора на турнир…
Все, пришел с турнира. Миранда так хлопала и смеялась, словно ей все на свете нипочем. Я хотел ее спросить почему, но мне стало плохо. Стены в моей комнате качаются вверх-вниз, как лодка на море. Бумага отказывается спокойно лежать на столе, хотя я и пригрозил порвать ее. Уго, Уго, Уго. У У У У. У пера острый коготь. У Джованни тоже есть когти. У всех есть когти, даже у меня. Я не могу расцарапать себе лицо — разве только так осторожно, чтобы мое лицо этого не видело. Кто-то стоит у двери. Они меня зовут. У них рты как у крыс. Я не буду им отвечать, потому что меня не должны видеть с крысой. Я не могу идти с крысой на банкет. Мне все равно, сколько они будут звать, я не пойду. Я не…
День четвертый, после обеда
Мои чувства меня подвели! Я и впрямь сумасшедший! Сейчас уже четвертый день, а я как натянутая до предела тетива лука. Федерико на охоту не поехал (какая лошадь его выдержит?), и Джованни тоже. Когда мы уезжали, я увидел, что они разговаривают. О чем они говорили? Я спросил у Чекки, но он не знает. Охота не состоялась из-за дождя. Oi me! Пойду к Федерико снова.
Вечером
Федерико все еще отдыхает. Почему? Раньше он никогда не отдыхал. Может, он не хочет меня видеть? Но откуда он знает, зачем я прошу аудиенции? Я слонялся по замку. Гости сплетничали о женитьбе Федерико на крестьянской девушке: почему, дескать, он просто не взял ее, как всех остальных?
— Я бы покончила с собой, — сказала одна женщина. Один из мужчин спросил меня, как я позволил Миранде выйти за герцога; он бы подобного брака не допустил. Это, конечно, от зависти. У них на лицах все написано. Я слышу нотки зависти в их голосах.
Раздался удар грома, небо пронзила молния, как назло пошел дождь. Актеры только что вернулись с площади Сан-Джулио. Актриса, игравшая единорога, сказала, что земля на площади превратилась в такое мокрое месиво, что еще немного — и Гераклу пришлось бы догонять не единорога, а слона.
После того как Федерико отказался меня принять, я пошел на кухню посмотреть, готовит ли Луиджи мои любимые рулеты из дичи, как обещал. Дичь надо тонко нарезать, смешать с телячьим жиром и специями, завернуть в тесто и запечь. Затем взбить два яичных желтка с капелькой кислого сока и помазать рулеты. Но когда я пришел, Луиджи вовсе не занимался рулетами. Он смешивал фарш из куриной грудки с толченым миндалем и хлебным мякишем.
— Вместо рулетов у нас будет mangiabianco, — сказал он, глядя на меня так, словно я был золотарем, чистившим выгребные ямы.
Подумать только! Три года назад он не мог отличить свинину от курятины, а теперь считает себя первым поваром на свете!
— Я решил так потому, что после столь обильных пиров желудок перенасыщен пищей и не надо его дразнить.
— У нас еще не было таких уж обильных пиров.
— Да? А что же тогда было два дня назад? — возмущенно спросил он.
Я глянул на Томмазо, однако тот притворился, что не замечает меня.
— Ты дегустатор, а потому не знаешь о разных видах аппетита, — добавил Луиджи.
Я, дегустатор Уго, не знаю о разных видах аппетита?!
— Аппетит у голодного человека не такой, как у сытого. — Он смешал горстку имбиря с миндалем и сахаром и посыпал ими цыпленка. — Когда человек сыт, он как будто просит: «Удиви меня!»
«Сейчас я тебя удивлю!» — подумал я, выхватив кинжал.
— Чья это идея?
— Томмазо.
Вот почему он меня в упор не видит!
— Мне некогда лясы точить! — крикнул Томмазо, хлопнув себя руками по бокам.
Он сооружал карету и лошадей из сахара и марципана. Мне хотелось раздолбать их на мелкие кусочки. Очевидно, Томмазо почувствовал это, поскольку загородил свой шедевр.
— Чего тебе надо?
Все, кто был на кухне, уставились на меня.
— Ты не имеешь права приходить сюда, когда вздумается, и мешать нам работать, — сказал Луиджи.
— Я буду приходить, когда захочу! — крикнул я в ответ. Я нашел Миранду, но она тоже не стала меня слушать. А сейчас у меня болит голова и зудит вся кожа. Когда же это кончится? Я должен подготовиться к банкету!
На закате
Я еле жив. Мне больше не страшен ад — я уже там. О Господи, какие еще испытания ты мне уготовил?
После банкета, который я не помню, поскольку постарел с той поры на тысячу лет, я уснул как убитый. Не знаю, Долго ли я спал, но мне вдруг приснился Федерико. Он шел по коридору, сжимая в одной руке палку, а в другой — шпагу. Сначала он шел медленно, потом все быстрее и быстрее, сворачивая из одного коридора в другой. Я знал, что он идет к моей комнате. И знал, что я должен спрятать какую-то вещь, только не мог понять, что именно. Я обежал вокруг комнаты, пошарил под кроватью, за креслами, все время чувствуя неумолимое приближение Федерико. Я сорвал с окон шторы и разразился слезами, умоляя маму помочь мне, — и тут вспомнил, что я ищу. Мигом проснувшись, я подбежал к двери Миранды и постучал.
— Кто там? — спросила она.
— Я! Уго! Твой отец! — прошипел я, нутром чуя, как приближаются шаркающие шаги. — Открой дверь! Бога ради, открой!
Дверь открылась — и я увидел Миранду и Томмазо, прикрывающих наготу простынями.
— Вы с ума сошли? Федерико идет сюда!
— У меня будет ребенок от Томмазо, — сказала Миранда.
— Я скажу ему, что мы давно помолвлены, — заявил Томмазо.
Они стояли там, как песчинки на берегу перед приближающимся приливом.
— Он убьет вас обоих!
— Тогда мы будем вместе на небесах, — ответил Томмазо.
Oi me! Я слышал в коридоре трехногую поступь Федерико! Томмазо рванулся к двери, чтобы встретить герцога лицом к лицу. Я с криком швырнул Миранду обратно в постель… Не знаю, откуда силы взялись! Схватив Томмазо за шею, я отволок его в свою комнату, захлопнул дверь и прильнул к ней. Томмазо пытался оттолкнуть меня. Я зажал ему руками рот и, несмотря на то что он колотил меня по голове, пригнул к полу. Мы услышали, как вскрикнула Миранда. Затем до нас донеслись чеканные шаги телохранителей Федерико и его резкий хриплый голос, спросивший:
— Где он?
Только тут Томмазо пришел в себя. Я отпустил его, показал на окно и бросился к двери как раз, когда она открылась. Охранники, сбив меня с ног, вошли в спальню. В дверях стоял Федерико — в точности такой, каким я видел его во сне.
— Кто ты? — рявкнул он с исказившимся от ярости лицом, прижав кончик шпаги к моему горлу.
— Уго ди Фонте, ваша светлость. Ваш дегустатор. Ваш преданный слуга. Я услышал, как Миранда вскрикнула…
Стражники у меня за спиной перевернули комнату вверх дном, обшаривая все углы.
— Я чую! — прошипел Федерико. — Я чую запах!
Он взмахнул шпагой и несколько раз вонзил ее в мою постель.
«Ваша светлость! — хотелось мне сказать. — Миранда не виновата. Это все дурак Томмазо! Убейте его, и все будет нормально». Но, подняв голову, я увидел молящие, переполненные ужасом глаза моей дочери — и ничего не сказал. А кроме того, я понимал, что гнев герцога в любом случае обрушится на нее.
Федерико заковылял в коридор. Эхо повторяло его шаги по каменному полу. Когда они стихли, я вошел в спальню Миранды. Ее всю трясло. Она зарыдала и протянула ко мне руки:
— Babbo! Babbo!
Я сказал ей, что у Господа свои планы и мы должны ему верить. Даже когда весь мир против нас, даже когда мы погружаемся во мрак, нам нужно хранить веру в него. Потому что со временем облака рассеются и снова появится солнце. Если ты веришь в Бога, так будет. Для верующих Господь и есть солнце, и он исцелит нас, когда растают все тучи сомнений.
Миранда ничего не ответила. Да мне и не нужен был ответ, поскольку я понял, что пытаюсь убедить не ее, а себя самого.
День пятый
Господи, почему ты не слышишь меня? Я молю направить меня на путь истинный, но ты молчишь! Oi me! Мир Шатается вокруг меня. Охранники Джованни вновь пришли за мной. На сей раз они без слов ввалились в мою спальню и приволокли меня к кардиналу. Как только я встал перед ним, Джованни спросил:
— Уго ди Фонте, ты веруешь в Бога?
— Конечно! — Я осенил себя крестным знамением. — В Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. В создателя нашего. В нашего Отца.
— Нашего Отца?
— Ну да. Мы ведь созданы по образу и подобию его!
Джованни пожевал кончик пера.
— Если мы созданы по его подобию, значит, ipso facto [62], он должен отражать нас, n’est-ce pas [63]?
— Простите, кардинал Джованни, я не понимаю, что вы имеете в виду.
— Если мы созданы по образу и подобию Божию, стало быть, Господь такой же, как мы, — повторил Джованни. — Наша сила — это его сила, а наша слабость — его слабость.
— Ваши слова острее шпаги, кардинал Джованни. Я простой крестьянин…
— Будь ты крестьянином, ты не носил бы такую одежду и не сидел бы завтра вечером за столом со своим собственным дегустатором рядом с герцогом Федерико, — отрезал он. — Судя по твоим словам, Господь может быть любящим и нелюбящим. Милосердным, но жестоким…
— Кардинал Джованни…
— Эгоистом, снобом, вором, убийцей…
— Мы созданы по образу Божию, однако грехи наши вызваны тем, что мы не исполняем его учение.
— И какой грех самый тяжкий?
Я боялся ответить, поскольку понимал, что в любом случае буду не прав.
— Гордыня, Уго.
— Вам, конечно, виднее.
— Разве ты не гордишься своей дочерью?
— Неужто это грешно?
Он пропустил мой вопрос мимо ушей.
— Ты гордишься своей дочерью. Ты гордишься тем, что возвысился от дегустатора до придворного. Ты гордишься, что обманул саму Смерть. Твоя гордыня — словно облако зловония, окутывающее тебя. Ты расхаживаешь в шелках, но в душе ты по-прежнему крестьянин. И колдун. Вот и все.
Он махнул рукой, и меня вышвырнули из его покоев. Тем не менее он меня не арестовал. Почему? На обратном пути я увидел Миранду и Томмазо, которые разговаривали в саду Эмилии.
— Вы с ума сошли, — сказал я. — Ночью вас едва не убили, а вы опять за свое…
— Мы обсуждали десерт, который подадут на банкете, — холодно отрезала Миранда и пошла прочь.
Томмазо провожал ее взглядом, и я шагнул, заслонив собой дочь, чтобы никто не заметил, как он на нее смотрит.
— Здесь полно гостей! Не могу поверить, что ты с такой легкостью готов принести ее в жертву!
— Я? — воскликнул он. — Ты уже это сделал. И тоже ушел.
Они врут. Они что-то затевают. Именно поэтому они оборвали разговор, когда я подошел. Они собираются отравить Федерико — и меня тоже. Я знаю это. Знаю. Я, уговоривший Томмазо стать поваром, буду им отравлен! А моя дочь ему поможет. Такой комедии позавидовал бы сам Боккаччо.
Мне хотелось рассказать герцогу Федерико о кардинале Джованни и Томмазо, но после вчерашней ночи я боюсь его еще больше, чем раньше. Кроме того, где бы он ни был, его всегда окружают люди. Даже утром, когда я пробую его завтрак, вокруг полно народу. На сей раз он играл в карты с герцогом из Перуджи и принцессой Маргаритой из Римини. Я подождал окончания игры, но Федерико тут же начал новую. Он, несомненно, заметил меня, однако не подал виду. Из-за кардинала Джованни? Или… Хотя мне уже все равно. Я поговорю с ним во время банкета, даже если мне придется орать.
Актеры сегодня вновь дадут представление, поскольку маскарад отменили из-за дождя. А жаль. Я мечтал увидеть, как Геракл гонится за единорогом, а тот превращается в Венеру. Теперь на площади Сан-Джулио состоится только caccia. Молю Бога, чтобы ее не отменили. Все, мне пора одеваться.
Я пытался поговорить с Мирандой, но она окружена гостями и подругами. Сегодня вечером банкета не будет. После нашего вчерашнего обжорства я вообще удивлюсь, если кто-то из нас когда-нибудь захочет есть.
Пятая ночь
Томмазо! Тупоголовый болван! Придурок! Если он жаждет смерти — это его дело, но он и Миранду погубит!
Я знал, что они что-то затевают. Миранда улыбалась и щебетала с гостями, держа Федерико за руку, но я не верил ей ни на грош. А потом, когда актеры снова разыгрывали представление о монашке, вдруг подумал о Витторе. Возможно, меня насторожил вид монашеской кельи, не знаю. Как бы там ни было, я ускользнул со спектакля и пошел разыскивать Томмазо. На кухне его не оказалось, в комнате — тоже. Я, как безумный, бросился бежать по дворцовым коридорам. И тут меня осенило. Я побежал к темнице. Стражника на верху лестницы не было, и, спустившись, я понял, что меня привела сюда судьба. Кто-то возился с замком клетки Витторе.
— Именем герцога Федерико, — крикнул я, — прекрати!
Томмазо обернулся. Он дрожал и задыхался. Рот у него был открыт, волосы всклокочены.
— Открывай! — потребовал Витторе.
Томмазо снова схватился за ключ.
Я вытащил кинжал.
— Не заставляй меня убивать тебя, Томмазо.
— Кишка у него тонка, — прошипел Витторе.
— Он заберет Миранду и убьет тебя. Вспомни, что было в конюшне! — взмолился я.
— Я не могу жить без нее!
Томмазо повернул ключ. Я метнулся к нему, но этот подонок Витторе с такой силой толкнул дверцу клетки, что Томмазо упал назад, прямиком на мой кинжал. Лезвие вонзилось ему в бедро, парень заорал от боли. Я пошатнулся.
— Ах, Уго! — крикнул он.
Я рухнул под его весом, он свалился на меня. Кинжал вошел в плоть до рукоятки. Крик Томмазо привлек внимание стражников, и те поспешили вниз по лестнице. Я столкнул Томмазо с себя, и, когда он перевернулся, из раны хлынула кровь.
— Почему ты меня не послушался? — крикнул я.
— Я все равно не сдамся, — прошептал он и лишился чувств.
— Уго убил его! — завопил Витторе.
Он вернулся в свою клетку и прикрыл дверь. Охранники попытались арестовать меня, но я вырывался, крича, что это Витторе ранил Томмазо.
— Он ведь заперт в клетке! — сказал охранник. — Это твой кинжал?
— Заприте его вместе со мной! — крикнул Витторе.
Я попытался объяснить, что произошло, однако из-за злости и отчаяния ничего не мог толком сказать.
— Где ключ от клетки? — спросил охранник.
— Очевидно, у Витторе.
— Он ведь заперт! — повторил этот дурак и потащил меня вверх по лестнице.
— Витторе сбежит! — заорал я во всю глотку.
К счастью, Чекки насторожило мое отсутствие, он нашел нас и приказал стражникам обыскать клетку. Они обнаружили ключ под соломой. Томмазо унесли, Пьеро занялся его раной. А я, весь дрожа, вернулся в свою комнату и сел, поджидая Миранду.
Она прибежала, бледная и трепещущая, вместе с Чекки.
— Что такое? — твердила она. — Что стряслось?
— Томмазо был ранен, когда пытался освободить Витторе, — ответил Чекки.
Не подхвати он ее, Миранда упала бы на пол. Чекки влепил ей оплеуху и сказал, что если Федерико узнает о ее причастности к попытке освобождения Витторе, то убьет ее собственными руками. И добавил, что она подвергла опасности не только себя, но также меня и других людей во дворце. А потом велел ей выбросить Томмазо из головы и никогда больше о нем не думать. После чего, взяв ее за руку, увел за собой.
Как мне кажется, до нее наконец дошло, что она ничего не в силах сделать. Молю Бога, чтобы рана на бедре Томмазо привела его в чувство тоже.
День шестой, полдень
Я не спал всю ночь. Смотрю на свои руки и не узнаю их. Конечно, это Витторе толкнул на меня Томмазо, но я прекрасно понимаю, что еще мгновение — и я сам заколол бы его насмерть. Несмотря на глубокую рану, Томмазо будет жить. Он уже печет пирожные для последнего банкета. Говорят, карие глаза — признак мудрости, однако Томмазо дурак, хотя и с карими глазами. Смелый, но глупый. А может, смелый именно потому, что глупый? Как он поверил,, что Витторе поможет ему?
Миранда надела платье с декольте, обнажавшим грудь до самых сосков, и так раскрасила лицо, что если бы на него села муха, там остался бы след.
— Зачем ты это делаешь?
— Раз я шлюха, я и одеваюсь как шлюха.
— Послушай меня, Миранда!
— А если не послушаю — то что? Ты убьешь меня?
Я шагнул к ней, но она схватила нож и закричала: «Стража! Стража!» — так громко, что я плюнул и ушел.
Удивительно, как незаметно разворачивается эта трагедия в суматохе празднеств. Колокол собора Святой Екатерины заливается радостным звоном. Золотая Мадонна сияет в солнечном свете. С окон и балконов свисают флаги, люди поют и танцуют. Они ничего не знают — а даже если бы и знали, то не перестали бы веселиться. Ничто не может отменить сегодняшних торжеств. Свадьба состоится. Жаль, матушка этого не видит! И отец тоже. Но они оба умерли. Скоро мой брат Витторе присоединится к ним. Он более чем заслуживает смерти, однако в этот день меня переполняло раскаяние. Я хотел попросить Федерико отложить caccia, поскольку дождь кончился, а казнь — не лучшее предзнаменование для женитьбы. Но герцог не станет меня слушать.
Вечер
Жаль, что маскарад отменили, поскольку в свете факелов площадь Сан Джулио была прекрасна как сон. Когда появилась Миранда, толпа обступила ее, называя ангелом и королевой Корсоли. Люди восхваляли Федерико за то, что он выбрал ее, и желали им кучу детей. Такое бурное проявление любви смутило и тронуло даже Миранду. Кто-то из толпы закричал, что видит нашу покровительницу святую Екатерину между звезд и она улыбается нам. Епископ молился, чтобы мы всегда были достойны направляющей нас длани Господней. На площадь выпустили котов и собак, и они набросились друг на друга, оглашая все вокруг сумасшедшим лаем и мяуканьем.
Толпа вопила и требовала зрелищ. Под звуки труб среди деревьев появилась телега с клеткой. В ней было трое преступников: первый — вор, отодравший золотую пластинку от Мадонны собора Святой Екатерины; второй — охранник, которого подкупил Томмазо, пытаясь освободить Витторе; третьим был сам Витторе. И вновь зазвучали фанфары, возглашая появление клетки со львом. Слуги выпустили льва и быстренько взобрались на платформу. Вор попытался залезть туда же, но толпа скинула его в грязь. Охранник упал на колени, вознося к небесам молитву. Витторе стоял у дерева в таких же грязных камзоле и штанах, в каких впервые появился в Корсоли.
Лев медленно вышел из клетки, помахивая хвостом. У него была большая голова и огромная грива, хотя бедняга так отощал, что ребра просвечивали сквозь кожу.
— Похоже, он из Корсоли, — сказала какая-то женщина под общий хохот.
Интересно, что думал при этом лев? Казалось ли ему, что он дома, в Африке? И знал ли оп, что все эти деревья и кусты посажены здесь для него? Толпа улюлюкала и свистела. На небе промелькнула падающая звезда.
— Io sono vittima diuna conspirazione! [64] — неожиданно крикнул Витторе. — Conspirazione! Conspirazione!
Он повторял это снова и снова, вертясь во все стороны и молотя себя длинными тощими руками в грудь.
Толпа передразнивала его. Люди тоже били себя в грудь и вопили:
— Conspirazione! Conspirazione!
Лев спокойно стоял, ожидая своей очереди.
— Да, я давал Федерико снадобье, — заорал Витторе, — но без мышьяка!
— Твои враки никому не интересны! — крикнул я в ответ.
Лев притаился за кустом. Витторе, показав на меня, заявил:
— Он не хочет, чтобы вы узнали правду!
— Да ты так изоврался, что не узнаешь правду, даже если сам ее скажешь! — парировал я под смех толпы.
— Я давал Федерико ртутную настойку! — крикнул Витторе. — И знаете зачем?
Господи, ну что этот лев так медлит? Витторе откинул с лица волосы и подбежал к балкону, на котором сидели Федерико с Мирандой.
— Вот твоя судьба…
Все произошло мгновенно. Лев перепрыгнул через куст, вцепился зубами в ногу Витторе и повалил его на мокрую землю. Витторе вскрикнул. Лев ударил его лапой по голове, а потом впился ему в шею. Крик Витторе оборвался, он судорожно засучил ногами.
Миранда упала в обморок. Федерико подхватил ее, взял на руки и унес с площади. Горничные Миранды побежали за ними. Зрители, усердно подбадривавшие льва, даже не заметили их ухода. Лев, вцепившись в левое плечо Витторе, немилосердно тряс его. Кровь хлестала во все стороны фонтаном. Когда лев вцепился своей жертве в грудь, толпа зааплодировала. Косточки несчастного хрустнули, как сухие ветки.
С каждым львиным укусом я содрогался так, что в конце концов уже не мог понять, жив я или нет.
— Пускай все колдуны приходят в Корсоли! — крикнул кто-то из толпы. — У нас есть голодный лев!
Зрители восторженно завопили. Я молчал, опустошенный. Кровь на моих руках пригибала меня к земле.
* * *
Как только caccia закончилась, я пошел в покои герцога. Федерико наконец-то был один и облегчался, сидя на горшке. Не дожидаясь позволения, я сразу сказал:
— Ваша светлость! Кардинал Джованни дважды обвинил меня в том, что я занимался колдовством на банкете в Милане.
Федерико пыхтел и стонал. Ему явно не хотелось отвечать.
— Что я могу сделать? — Он встал со стула и огляделся, ища взглядом штаны. — Уйди, мне надо одеться к банкету.
— Ваша светлость, он говорит о том случае, когда мы с вами были в Милане и меня заставили есть кашу. Я не колдовал! Просто Господь прибрал брыластого к себе.
Федерико молчал.
— Ваша светлость…
Он отмахнулся от меня, как от мухи.
— Вы должны сказать ему…
— Нет, не должен! Уйди, я сказал!
— Но…
— Пошел вон! Вон!
Федерико схватился за шпагу, и я убежал. Он бросил меня на произвол судьбы! Меня! Меня, который, как дурак, служит ему не за страх, а за совесть! Который пробует его блюда и спасает от яда! Который так бережно поднимает его вонючую ногу и взбивает ему подушки! Который стоит возле кресла, когда он срет!.. За что? Он чего-то не договаривает. И это явно связано с кардиналом Джованни. Но что именно?
Ночь
Я узнал, что скрывает Федерико! На банкете я сидел рядом с ним — близко, как перо к бумаге, — и тем не менее он упорно отводил от меня взгляд. Миранда тоже, но я ее не виню. Я попросил бы у нее прощения за то, что так ужасно ее подвел, однако у меня нет времени.
В самый разгар банкета, когда на золотых подносах подали жареных кур и голубей, кардинал Джованни произнес речь.
— Любовь — семя жизни, — сказал он. — Есть любовь к семье, человечеству и Богу. Когда одна из них дополняет другую, счастье льется рекой. Благодаря своей большой любви к Миранде герцог Федерико согласился отправиться со своей нареченной в паломничество и получить в Риме благословение папы!
Все наперебой стали поздравлять Федерико, сиявшего от гордости. Я посмотрел на Миранду. Похоже, ее это озадачило не меньше моего. И тут до меня дошло, почему Федерико не разговаривает со мной! Он предал меня! Предал, чтобы исполнить каприз Миранды, о котором она даже вспомнить не может! Федерико думает, что, если он отвезет ее в Рим, как она просила несколько месяцев назад, Миранда полюбит его. И взамен на безопасный проезд герцог позволит Джованни арестовать меня. А я-то полагал, Федерико меня защитит! Какой же я дурак! Он и не подумает меня защищать! С какой стати? Я ему больше не нужен. Если понадобится, он будет менять дегустаторов каждый день!
Когда Джованни сел, все поздравили его за то, что он помирился с Федерико. «Уго, ты покойник!» — сказал я себе. И совершенно потерял контроль над органами чувств. Да и зачем они мне теперь? В голове моей эхом отдавались голоса, словно крики гигантов. Глаза закатились, я ничего больше не видел. Мой изощренный нос, которым прежде я управлял так же ловко, как Граццари — своей кистью, больше не повиновался мне. Я неожиданно учуял не только запах чеснока, лимона, копченого сыра и фенхеля, но также амбры, мускуса и розмарина. Я ощущал, как пахнут бархатные камзолы гостей, их шерстяные рубашки и отороченные золотом подолы. Все вокруг меня судачили о будущей встрече Миранды с папой римским, а я задыхался от смрада немытых волос, пота под мышками, грязи между пальцами ног, дерьма в задницах. Меня чуть не вырвало от вони самодовольства, распиравшего Джованни, глаза слезились от невыносимого зловония похоти, обуявшей Федерико. У меня перехватило дыхание от острого запаха отчаяния Миранды.
Матерь Божья! Что я сделал со своей дочерью? Я принес ее в жертву, чтобы снова обрести вкус к еде!
И тут я почуял еще один запашок. Похороненный под остальными, он змеей выполз из моего желчного пузыря прямо в горло. Это был мой страх. Мое предательство. Моя трусость.
Я сидел, задыхаясь, а гости вокруг пировали. Я воззвал к Господу, и он мне ответил: «На Бога надейся, а сам не плошай». Услышав это, я сразу понял, что мне делать, и повернулся к Миранде… Но ее не было за столом.
— Она вышла из зала, — сказал герцог Орсино.
Миранда стояла во дворе на самом краю скалы, с которой сбрасывали тела покойников. В лунном свете она была так похожа на мою мать, что сперва я принял ее за призрак.
— Миранда! — позвал я.
Она не откликнулась.
— Это еще не конец.
Она посмотрела вниз, в пропасть.
— Нет. Хотя конец скоро.
— Пока есть жизнь, есть надежда.
— Все мои защитники побеждены.
— Я твой защитник!
— Ты? — усмехнулась она.
— Нам и прежде приходилось попадать в переделки.
— Но не такие.
— Миранда! Я обещал твоей матери, что всегда буду заботиться о тебе.
— Прошу тебя, не надо!
— У меня есть план. Как только вас с Федерико обвенчают, пожалуйся на боль в желудке. — Я подошел к ней поближе и понизил голос. — Ты должна сказать герцогу, что у меня есть настойка, которая тебе помогает. — Я придвинулся еще ближе. — Потом ты пойдешь ко мне в комнату и выпьешь то, что я тебе дам.
— И что будет?
— Ты же знаешь, я экспериментировал с зельями…
— Что будет? — сердито спросила она.
— Ты станешь словно мертвая.
У меня не было такого снадобья, но я не смел сказать ей об этом.
— И чем это поможет?
— Вот чем!
И, схватив ее за руку, я оттащил Миранду от края пропасти.
— Ты обманул меня! — прошипела она. Потом плюнула мне в лицо и попыталась расцарапать его. — Почему ты не дал мне умереть?
— Потому что я твой отец и ты будешь меня слушаться! Я отвел ее обратно в зал. Разве вы поступили бы иначе?
Разве я мог дать ей умереть? Я же обещал Элизабетте, что буду заботиться о ней!
Скоро мне нужно будет попробовать завтрак Федерико, а потом готовиться к мессе. Сегодня Миранда выйдет замуж, а я вновь смогу наслаждаться едой. Я должен сделать это хотя бы раз, иначе все было напрасно.
День последний, утро
Томмазо крепко спал. Приставив кинжал к его пенису и зажав ему ладонью рот, я подождал, пока он проснется, и прошептал:
— Лежи тихо, не то, клянусь, ты сейчас умрешь!
А потом спросил:
— Ты еще любишь Миранду?
Глаза у него забегали из стороны в сторону, словно он надеялся разбудить кого-нибудь из слуг, спавших с ним в комнате.
— Ты женишься на пей и будешь заботиться о ней до конца жизни? Отвечай!
Один из парней поднял голову, что-то промычал и снова уснул.
— Отвечай! Томмазо кивнул.
— Тогда вставай. У нас мало времени.
Когда мы вышли из комнаты, я сказал:
— Ты должен испечь три пирожных. Одно в виде Миранды, другое — в виде герцога и третье — в виде меня. Пусть фигурки будут узнаваемы, но не слишком старайся, чтобы все поверили, что это я их сделал. Фигурку Миранды ты приготовишь из сахара и марципана, а в фигурку герцога подсыплешь вот это. — Я протянул ему мешочек. — Поставь их на башенку торта. Только так вы с Мирандой сможете освободиться.
— Но все узнают, что это я…
— Именно поэтому слепи фигурки небрежно. И все поверят, когда я скажу, что сам их приготовил.
На кухне Томмазо скатал из теста три кучки, добавил туда сахара и марципана. Я высыпал содержимое мешочка на две из них.
— Из этой слепи Федерико, а из этой — меня.
Томмазо аж дернулся.
— Но…
— Джованни в любом случае убьет меня за то, что случилось с его матерью и сестрой. Он за этим и приехал.
Томмазо смотрел на меня, не веря своим глазам.
— А Миранда знает?
— Конечно, — соврал я.
Он застыл как вкопанный, и мне пришлось дернуть его за руку.
— Скорее!
— В твою я положу поменьше.
— Нет, Томмазо. В мою ты положишь больше.
Он снова застыл.
— Делай, как я говорю! У меня есть на то причины.
Он размешал травы вместе с тестом и начал лепить фигурки. Я и глазом не успел моргнуть, как передо мной очутились маленькие Миранда, Федерико и я сам.
Томмазо положил пирожные на сковородку. В коридоре послышались голоса.
— Иди, — сказал он. — Я испеку.
— Ты будешь заботиться о Миранде?
— Всю жизнь. Даю слово.
Мы обменялись рукопожатием и поцеловали друг друга в щеки.
Весь день я молился, хотя и понимал, что мои молитвы вряд ли изменят ситуацию. И не потому, что я сомневаюсь в существовании Бога. Когда я смотрю в окно на весеннюю долину или на лицо спящей Миранды, когда я закрываю глаза и представляю перед собой Елену, я знаю, что Бог есть. Я верю, что он наблюдает за мной. Не следит, а просто присматривает. Он посылает мне знаки. Например, я думал, что преодолел массу препятствий, чтобы устроить счастье Миранды, а оказалось, самое большое препятствие — я сам. И я благодарен Господу, что он помог мне это понять.
Сейчас я пойду на свадебный пир. На мне белая шелковая рубашка, камзол из голубого бархата, отороченный золотистой парчой с пуфами у кистей, и бархатная шляпа с брошкой, усыпанной драгоценными камнями. На шее висит медальон из чистого золота — подарок Чекки. На трех пальцах — серебряные кольца. Глядя на себя в зеркало, я вижу придворного, который чувствовал бы себя во дворцах Флоренции и Венеции как дома. Человека, когда-то боявшегося Смерти, но переставшего ее страшиться, потому что встреча со Смертью лицом к лицу придаст смысл его жизни.
Ночь
Постараюсь закончить свою рукопись, поскольку жить мне осталось недолго. Сегодня вечером я сидел за столом между Мирандой и принцессой Маргаритой из Римини. Я смеялся и шутил со всеми, и даже ел серебряной вилкой. Септивий прочел мой сонет. Он не смог закончить стихотворение Федерико, и я предложил ему свое. Я сидел и представлял, что Елена слушает его.
Зазвучали фанфары… Я устал от них, они такие пронзительные и громкие. Хорошо, что я больше никогда их не услышу. В зал вошли слуги с подносами. Боже мой! Неужто и впрямь прошло пять лет с тех пор, как я шагал в их рядах? На каждом подносе сидел лебедь с золоченой короной, блестящими глазами, расправленными в полете крыльями и огненными искрами, вылетающими из клюва. И самый большой поднос Луиджи поставил передо мной! Передо мной, дегустатором Уго! Он поднял длинную вилку.
— Где твой дегустатор? — спросил меня Федерико.
Я сказал, что он мне не нужен.
— Не нужен? — Герцог повернулся к гостям: — Я позволил ему обзавестись собственным дегустатором. Почему ты не хочешь?
Я встал. Септивий и Джованни уже произнесли свои речи, епископ и вельможи из Урбино и Сполетто — тоже. А я что, хуже? Все притихли.
— Ваша светлость! — начал я. — Сегодня Христос, Пресвятая Богородица и Бог Отец благословили Корсоли и всех жителей его. В таком священном месте добрые духи не позволят никому вынашивать злые помыслы против вас, Миранды и ваших гостей.
Я сел.
— Аминь, — подытожил епископ.
Гости эхом повторили:
— Аминь!
Федерико нагнулся через Миранду (он держал ее за руку, как будто боялся, что она убежит) и прошептал мне:
— И все-таки ты попробуешь мои блюда!
— Сегодня вечером, ваша светлость — но только сегодня, — я все еще ваш дегустатор.
Луиджи воткнул в лебедя длинный двузубец, поднял его, отрезал шесть ломтиков грудинки и полил их соусом. Я подцепил кусок своей вилкой и поднес его ко рту. От запаха у меня закружилась голова. Луиджи положил туда фенхеля — в точности сколько нужно. Я открыл рот и положил ломтик на язык. Мясо было теплое, нежное, сочное.
— Уго плачет! — крикнул Федерико, и гости покатились со смеху.
— Это слезы радости, — сказал Чекки.
Я прожевал маленький кусочек.
— Мясо не только не отравлено — оно великолепно!
— А теперь ты должен есть! — сказал Федерико.
Наконец-то настал тот вечер, которого я так долго ждал!
Я начал с жаренных на вертеле перепелов. Они были божественны. Жаворонки и фазаны — еще лучше. Печень в чесночном соусе — превосходна. У меня кончились слова еще до того, как подали первые блюда. А потом были баклажаны, каплуны в лимонном соусе, подносы с макаронами и поджаренными до аппетитной корочки колбасками. Свинина оказалась чуть пересоленной, хотя и очень сочной, зато жареные кормовые бобы хрустели, как весенние заморозки. Я съел целое блюдо телячьих мозгов и даже не одну, а две порции риса с миндалем.
Я тщательно прожевывал и смаковал каждый кусочек, восполняя все трапезы, которые пропустил.
— Он ест как будто в последний раз, — проворчал Бернардо.
Чекки глянул на меня и поднял бокал за мое здоровье. Я выпил множество кубков вина и даже, улыбнувшись кардиналу Джованни, обменялся с ним парой реплик. Миранда сверкнула на меня глазами и одернула платье так, чтобы еще больше обнажить грудь.
Улучив момент, когда Федерико отвел от нес взгляд, я сжал руку Миранды и прошептал, что, хотя она меня ненавидит, я люблю ее больше жизни.
— Если бы мне пришлось умереть ради тебя тысячу раз, я бы это сделал. Умоляю: не суди меня! Это еще не конец.
Она отдернула руку — и тут фанфары возвестили, что сейчас внесут свадебный торт, шедевр Томмазо из сахара и марципана.
Он был такой огромный, что поднос несли двое слуг. Подняв его в воздух, они продефилировали по залу, давая гостям возможность подивиться тому, как блестяще Томмазо скопировал дворец. Затем торт поставили перед Федерико. Я надеялся, что Томмазо выполнил мою просьбу, и он меня не разочаровал. На башне было три фигурки — Миранды, герцога и моя.
— Такого не удавалось построить даже Браманте! — воскликнул Федерико.
Окна и колонны были сделаны из сыра, сластей и орехов, мраморный двор — из долек апельсина и лимона, покрытых глазурью.
— Что означают эти фигурки? — спросила принцесса Маргарита из Римини.
— Ваша светлость! — Я снова встал, и все притихли, слушая меня. — Я приготовил эти фигурки сам. Они изображают вас, Миранду и меня.
— Значит, ты решил стать поваром? — спросил Федерико под общий хохот.
— А почему бы и нет? Кто знает о еде больше меня?
Я видел, что Миранда смотрит на меня во все глаза, пытаясь отогнать хмельные пары.
— Зачем ты их сделал? — сощурившись, спросил Федерико.
Пока я все это планировал, мне даже в голову не приходило, что герцог может задать такой вопрос. Но Господь вновь вложил слова в мои уста.
— У вас есть вес, чего только можно пожелать, ваша светлость. Долина Корсоли славится своей красотой. Ваш город богатеет и процветает. Ваша репутация бесстрашного кондотьера известна во всей Италии. Подданные восхищаются вами, боятся и любят вас. С вами дружат самые знаменитые люди. Стены вашего дворца украшены прекрасными произведениями искусства, а в ваших конюшнях стоят изумительные скакуны. Теперь у вас есть еще любовь моей дочери, самой красивой женщины Корсоли. Вы удостоили меня великой чести породниться с вами. А поскольку я не способен дать вам взамен ничего равноценного, мои пирожные — всего лишь символ благодарности и вечной любви, которая соединила наши семьи.
— Да он настоящий оратор! — воскликнул Септивий. Гости захлопали в ладоши. Я взял пирожные, протянул Миранде ее фигурку, Федерико — его, а свою оставил себе. Все в зале замолкли, ожидая реакции герцога. Он отпустил руку Миранды, посмотрел на ее пирожное, потом — на меня. «Пускай докажет, как сильно он ее любит!» — подумал я.
— Поскольку я беру на себя ответственность за Миранду, — сказал он, — и отныне буду защищать ее, давай поменяемся фигурками! Я съем твою, а ты — мою!
Я сделал вид, что очень удивлен, но ответил:
— Раз герцог так желает, быть посему!
Мы обменялись пирожными.
— А теперь давайте есть! — сказал я и с силой надкусил марципан, как бы демонстрируя всем, какой он вкусный.
Миранда, по-видимому решив, что я отравил ее фигурку, жадно съела свое пирожное. Федерико последовал ее примеру.
Огонь подступает к горлу. Я не думал, что яд подействует так быстро. Надо спешить.
После того как пирожные и торт были съедены, епископ повел Федерико с Мирандой в опочивальню. Гости шли следом, распевая хвалебные гимны. Мужчины вздыхали, женщины плакали. У спальни Федерико епископ прочел молитву. Я поцеловал Миранду и отдал ее руку герцогу. Они вошли в комнату и закрыли за собой дверь.
Боже, как больно! Мне надо было ослепнуть, чтобы прозреть, но теперь пелена спала с глаз моих и туман рассеялся. Ты был прав, Септивий! Соединение тела и духа вызывает в нас иной голод, утолить который способен только Бог!
Potta, как быстро! Черт! О, мой желудок! Жгучие когги… Клюв грифа разрывает мою плоть и огненной шпагой пронзает кишки.
Кардинал Джованни! Ты думаешь, раз я решил покончить с собой, значит, я трус? Но моя мать не была трусихой…
Боже, опять! Potta! Я обделался… Елена, моя дорогая Елена! Любовь всей моей жизни… Мы не встретимся в этом мире, но я буду ждать тебя.
Моя дверь открыта. Я должен услышать, как Федерико упадет. СМЕРТЬ НЕ МОЖЕТ ЗАБРАТЬ МЕНЯ ПЕРВЫМ!
Руки зудят… По лицу сочится кровь.
Боже, как жжет! Черт! Прости меня, Елена!
Господи, отпусти рабу твоему все грехи!
Арраджо, август 1534
Я не умер. Чекки как-то назвал меня живым чудом, и я оправдал это прозвище. Честно говоря, в живых я остался чудом. В мои планы это не входило. Я действительно был готов умереть, но Господь в неизреченной мудрости своей спас меня.
Я не слышал, что произошло в спальне герцога. Когда он закрыл дверь, я вернулся к себе. По словам Чекки, вскоре после этого гости, ожидавшие, когда Федерико объявит, что лишил Миранду девственности, услышали странный шум. Сперва они подумали — это герцог занимается любовью. Но тут Миранда выбежала из спальни и закричала, что герцога рвет, он жалуется на жжение в горле и боль в сердце.
Придворные, кардинал Джованни и епископ немедленно бросились в спальню. Федерико вопил и метался по комнате, словно одержимый дьяволом, ударяясь о стены и мебель. Изо рта у него текла блевотина вперемешку с кровью. Его одолел кровавый понос. Нерон лаял и прыгал вокруг хозяина, кусая каждого, кто пытался к нему подойти. Герцог хотел заколоть себя, но не мог удержать в руках кинжал. Изо рта у него начали выпадать зубы. Придворные бросились на Федерико, и после яростной схватки он рухнул на пол, вцепившись в платье Миранды. Она закричала, отбиваясь. Он пытался укусить ее, однако никак не мог дотянуться. Испугавшись, как бы герцог не задушил Миранду, и не в силах лицезреть его муки, кардинал Джованни пронзил ему сердце шпагой, дабы пресечь страдания несчастного. Федерико изогнулся всем телом, как громадный умирающий кит, и затих. Нерон лег рядом с ним, облизывая хозяину лицо. Чтобы освободить Миранду, герцогу пришлось отрезать пальцы.
Затем все ринулись ко мне. К этому времени я тоже орал и исходил кровавым поносом. Видел я перед собой только тени, но помню, как кардинал Джованни размахивал своей окровавленной шпагой, а Миранда, встав на колени, взяла мою голову в руки. В глазах у нее застыли недоумение и страх. Она вспомнила скелетики, приготовленные на день поминовения усопших, завтрак во время карнавала и историю о брыластом. Миранда хотела обнять меня, но я не мог ей этого позволить. Джованни жаждал моей смерти, и мне требовалось убедить всех, что Миранда не участвовала в заговоре. Поэтому я плюнул ей в лицо.
Она отпрянула, уронив мою голову на пол.
— Не надо, кардинал Джованни! — сказала она, повернувшись к горбуну. — Не убивайте его. Пускай страдает!
Пускай он умрет тысячью смертей за преступления, которые совершил сегодня!
Благослови ее, Боже! Благослови! Все актеры Падуи могли бы у нее поучиться! Кардинал Джованни задумался было, однако на сей раз у него не могло быть сомнений, что я действительно загибаюсь от яда. Горбун опустил шпагу и согласился, что я заслуживаю медленной смерти. Придворные его поддержали. К этому времени я уже почти ничего не соображал. Знаю только, что они, очевидно, ушли из комнаты, поскольку кто-то поднял мою голову (потом мне сказали, что это был Пьеро) и вылил мне в глотку оливковое масло. Меня немилосердно рвало, в желудке не осталось ни крошки от того, что я съел, но это не помогало. Яд проник в мою плоть. Мне было безумно плохо, и никто не сомневался в том, что я умру.
Все гости, включая Джованни, уехали из дворца на рассвете. Федерико похоронили через день. На погребение пришли лишь несколько придворных.
Я то засыпал, то просыпался, но сон ничем не отличался от бодрствования. Хотя я слышал голоса людей, я не видел их и не мог ни говорить, ни даже шевельнуться. Я был уверен, что нахожусь в чистилище, поскольку Господь еще не решил, куда меня направить — в ад или рай.
Томмазо был сама доброта. Каждый день он приносил мне свежие пирожные в надежде, что я очнусь. А вот Бернардо заявил, что мой недуг — плохое предзнаменование и надо немедленно похоронить меня, хотя я еще не умер! К счастью, остальные решили подождать.
Миранда часами сидела у моей кровати, молилась и пела. Она передразнивала птиц и животных, обнимала меня и шептала, что любит. Мне хотелось плакать, но я не мог. Я попытался раздвинуть пальцы хоть на ширину мухи. Тоже не смог — и зарыдал от усталости. Миранда увидела мои слезы и рассказала остальным.
Однажды утром, несколько недель спустя, я проснулся таким голодным, каким не чувствовал себя никогда в жизни. Пьеро сказал, что я выжил благодаря своим экспериментам с ядами. В разгар празднества, устроенного в мою честь, Чекки посоветовал мне, Томмазо и Миранде уехать из Корсоли, прежде чем Джованни узнает о моем выздоровлении. Кто-то видел, как Бернардо, оседлав коня, умчался из города — очевидно, чтобы сообщить горбуну.
На следующий день мы попрощались. Я обнял Чекки, Пьеро и Септивия — самых моих верных друзей. Мы сели на лошадей и, сопровождаемые веселым звоном колоколов, со слезами на глазах поскакали из двора вниз по Лестнице Плача, через площадь Ведура и Западные Ворота — прочь из Корсоли навеки.
Миранда и Томмазо с моего благословения поехали в Венецию. Там Томмазо собирается работать поваром. А я купил небольшой участок земли здесь, в Арраджо. Почва тут жирная, идеальная для пастбища. Я все еще тощий, потому что меня мучают судороги, а временами — неудержимая рвота. Зубы расшатались, я далеко не так силен, как прежде. Быть может, я никогда до конца не поправлюсь, не знаю. Но знаю, что у Господа есть еще один шанс, чтобы изменить мою жизнь.
На поясе у меня узел с одеждой. Конь ждет у дверей. Как только взойдет солнце, я поскачу во Францию. В Ним. К Елене. Сколько бы времени это ни заняло, где бы она сейчас ни была, я найду ее. И привезу ее сюда, в Арраджо, чтобы она стала моей любовью.
Перевел с итальянского Питер Элблинг
Примечания
1
Дурак! — Здесь и далее, если не оговорено специально, даны переводы с итальянского языка.
(обратно)2
Здесь же ребенок!
(обратно)3
Мой маленький принц!
(обратно)4
Здесь: Мама, прости!
(обратно)5
суп
(обратно)6
Нецензурное ругательство.
(обратно)7
Хватит!
(обратно)8
Здесь: Козел несчастный!
(обратно)9
свинья
(обратно)10
пенисов
(обратно)11
беззубых ртов
(обратно)12
Папа!
(обратно)13
Такая красивая девочка!
(обратно)14
Иди сюда!
(обратно)15
Кошмарный сон!
(обратно)16
Здесь: Боже мой!
(обратно)17
Пора!
(обратно)18
Великолепно! Поразительно!
(обратно)19
пшеничные лепешки
(обратно)20
Ничего!
(обратно)21
Евангелие от Матфея, 26:26—28.
(обратно)22
Доброй ночи!
(обратно)23
Извините.
(обратно)24
Да.
(обратно)25
мученик
(обратно)26
Он не отравлен.
(обратно)27
Спасибо. Огромное спасибо.
(обратно)28
Пожалуйста.
(обратно)29
Будь осторожен.
(обратно)30
Что в этом плохого?
(обратно)31
Здесь: представляете? (фр.)
(обратно)32
Здесь: Черт возьми! (англ.)
(обратно)33
Прошу вас! (фр.)
(обратно)34
Кости мертвецов!
(обратно)35
Большое спасибо!
(обратно)36
возлюбленную
(обратно)37
Правда!
(обратно)38
бобы
(обратно)39
привилегии бедности (лат.)
(обратно)40
Милосердия!
(обратно)41
Мне так жаль!
(обратно)42
Мою божественную возлюбленную.
(обратно)43
замок
(обратно)44
Будьте здоровы!
(обратно)45
Превосходно!
(обратно)46
У него куриные мозги!
(обратно)47
Перевод А. Данилова.
(обратно)48
Котлета?
(обратно)49
запятнаны кровью
(обратно)50
Ты мой дегустатор.
(обратно)51
Какой же он пылкий!
(обратно)52
Какая прекрасная барышня!
(обратно)53
колдуном
(обратно)54
Всем обнажиться!
(обратно)55
котлеты из куриного фарша
(обратно)56
Совершенное обожание!
(обратно)57
охота
(обратно)58
Останься!
(обратно)59
Изумительно!
(обратно)60
Превосходно! Замечательно!
(обратно)61
Пленительно!
(обратно)62
В силу самого факта (лат.).
(обратно)63
Здесь: не так ли? (фр.)
(обратно)64
Я жертва заговора!
(обратно)



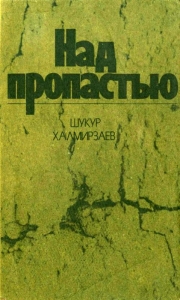


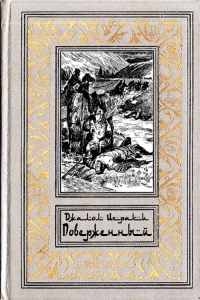
Комментарии к книге «Дегустатор», Уго Ди Фонте
Всего 0 комментариев