Михаил Иманов[1]
Художник В. Н. Любин
КАЛИГУЛА
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
В истории народов бывало всякое, и в иные ее страницы люди вглядываются с ужасом, немея от стыда и кошмара. Государствами правили не только победители-полководцы или миротворцы, дальновидные политики и отважные реформаторы. Нередко над людьми царствовали сущие душегубы, ознаменовавшие свое правление жестокими казнями и грабежами. Так что мир за долгую историю накопил немало тяжкого отрицательного опыта. Его горьким урокам издательство АРМАДА посвящает новую серию исторических романов — «Великие тираны».
Слово «тирания» пришло к нам из Древней Греции и означало власть незаконную, обретенную государственным переворотом во главе наэлектризованной толпы. Писистрат в Афинах, Дионисий I в Сиракузах оставили о себе печальную славу столь редкостной жестокостью, что в памяти потомков этот вид государственного устройства превратился в синоним особой деспотии.
Так что римский диктатор Корнелий Сулла, императоры Калигула и Нерон не были тиранами в полном смысле этого слова, но беспредельный садизм этих правителей, их непомерный разврат и алчность навеки прилепили им это определение. Сулла истребил целые народы: самниты, этруски живут в нашей памяти лишь благодаря прекрасным изделиям рук своих, раскопанным археологами на месте их пребывания. Калигула затопил кровью весь Рим, и немало его сограждан погибло по самым нелепым доносам. О необузданном нраве Нерона, не пощадившем ни матери своей, ни любимого когда-то учителя великого философа Сенеку, еще при жизни ходили легенды.
Жажда власти любой ценой — единственное чувство, во все века владевшее деспотами. Ради власти плелись коварные интриги, совершались предательства и убийства. Византийская царица Ирина, чтобы завладеть престолом, приказала ослепить законного наследника — собственного сына. Правление ее на переломе VIII–IX веков не отличалось ни добротой, ни справедливостью.
Тирания как способ правления возродилась в городах Северной и Средней Италии в XIII веке. Династии Висконти в Милане, Медичи во Флоренции, отличаясь особой свирепостью нравов, оставили о себе недобрую память в глазах современников и потомков.
В Риме XV–XVI веков особыми злодействами прославилось семейство Борджиа. Сын Папы Римского Александра VI Чезаре для достижения абсолютной власти не останавливался ни перед какими средствами. И абсолютная власть развратила его абсолютно.
Великая Французская революция в конечном итоге тоже обернулась кровавой тиранией. Когда улеглись восторги и народ привел к власти якобинцев, вовсю заработало новое изобретение — гильотина. Фанатичные «друзья народа» Марат, Робеспьер, Кутон не задумываясь отправляли на казнь за малейшее подозрение в контрреволюционном заговоре, и вслед за подлинными врагами новой власти на эшафот отправились и те, кто ее начал во главе с Дантоном.
Серия «Великие тираны», выпуск которой предпринимает издательство АРМАДА, открывается романом Михаила Иманова «Гай Иудейский» о римском императоре Калигуле.
КАЛИГУЛА
Энциклопедический словарь Издание Брокгауза и Ефрона СПб., т. IV, 1895
КАЛИГУЛА (Гай Цезарь Caligula) — римский император, младший сын Германика[2] и Агриппины, род. в 12 г. по P. X., воспитывался В Германии и вырос в лагере среди солдат; прозвание свое получил от солдатской обуви (caligae), которую носил с детства.
Тиберию он выказал глубочайшую преданность: никогда не было, замечают древние авторы, лучшего раба и худшего господина, чем К. В 33 г. по P. X. Калигула женился на Юнии-Клавдилле, дочери Марка Силана; в то же время, желая открыть себе доступ к престолу, он вступил во связь с женою Макрона, преемника Сеяна, и, как предполагали современники, помогал ему ускорить кончину Тиберия.
Как сына Германика, народ встретил К. с восторгом, когда он, сопровождая тело умершего императора, явился в Рим (37 по P. X.); он был призван на престол сенатом и народом, а младший Тиберий (внук старшего), который, по завещанию императора, должен был сделаться его соправителем, был исключен из престолонаследия. Первые меры Калигулы были направлены на благо народа; он щедро наделил народ и солдат, освободил заточенных Тиберием, вернул изгнанных, обещал в речи к сенату руководствоваться его наставлениями и править с ним вместе, сделал попытку возобновить комиции, простил всех провинившихся перед его отцом, матерью и братьями.
Вскоре, однако, в нем произошла решительная перемена к худшему, потому ли, что он решил сбросить с себя маску, или — что вероятнее — организм его сильно был потрясен опасною болезнью, причиною которой была его неумеренная жизнь. Как только он оправился от болезни, он велел умертвить Тиберия-младшего, подозревая его в желании завладеть престолом, между тем, незадолго до болезни, он сам его усыновил. Тех, которые обещали пожертвовать жизнью своею, если он излечится от болезни, К. принудил исполнить обет. К самоубийству же он принудил и бабку свою Антонию, Макрона, жену его Эннию и Марка Силана. Его страсть к крови становилась тем сильнее, чем больше жертв себе требовала.
Во время гладиаторского боя с дикими животными он велел однажды схватить и бросить в добычу зверям первых попавшихся из зрителей, вырезав им языки, чтобы они не кричали и не поносили его. Часто за обедом и ужином на его глазах производились пытки или палач срубал головы осужденных. Светоний и Дион Кассий передают выраженное им однажды (когда, при состязании в беге, народ приветствовал другого победителя) пожелание: «О, если б у всего римского народа была лишь одна голова!»
Наравне с жестокостью шел и разврат его; помимо целого ряда постыдных связей, он жил в кровосмесительном браке со своими сестрами. Желая, чтоб его чтили как бога, он являлся иногда в виде Вакха, Аполлона, Юпитера, даже Венеры и Дианы; в храме Кастора и Поллукса он стоял среди статуй богов и принимал моления посетителей. Он построил храм, в котором стояла его статуя в виде Юпитера Латийского; ее каждый день одевали так же, как был одет он сам. В штате жрецов этого храма считался и он; коллегою его была его лошадь — та самая, которую он позже назначил консулом.
Уже в первый год своего управления растратил он всю казну, оставшуюся после Тиберия, — 720 млн. сестерций. Чтобы доказать, что он может пройти по морю, как по сухому пути, он велел устроить подвижной мост через пролив между Баями и Путеоли, покрыть его землею и настроить на нем домов; затем он торжественно проехал по мосту, посреди которого устроил пиршество. Истощенные безумною роскошью средства государства он пополнял при помощи казней, конфискаций, новых налогов, продажи имений и принудительных займов. По свидетельству Светония, он устроил в своем дворце публичный дом, доходы с которого поступали в его пользу.
Истощив Рим и Италию, К. направился в Галлию, под предлогом войны с германцами; на самом деле он занялся казнями и конфискациями. Заключительным эпизодом его экспедиций был поход со всем войском к берегам океана для собирания раковин — добычи, захваченной у моря.
Вернувшись в Рим, он собирался перерезать весь сенат, но через 4 месяца после возвращения, 24 января 41 г. по P. X., был найден убитым в своем дворце; убийцами были трибуны преторианской когорты: Кассий Хэрея и Корнелий Сабин.
К. умер 29 лет от роду; царствовал 3 года и 10 месяцев. У него не осталось детей, кроме двухлетней дочери Юлии Друзиллы, которую Хэрея велел убить вместе с ее матерью Цезониею. Престол после К. перешел к Клавдию, дяде его. Сообщают о К. более всего Светоний и Дион Кассий; некоторые данные у Тацита, Зонары, Иосифа Флавия и Филона. Жизнь К. привлекала беллетристов и драматургов (между прочим, Александра Дюма) и в 1894 г. послужила материалом для политического памфлета (против германского императора).
ГАЙ ИУДЕЙСКИЙ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ Нине Михайловне ИМАНОВОЙ
…Откуда же я мог знать, что я такой плохой, мне и в голову никогда не приходило задуматься: плохой я или хороший? Я был тем, кем был, — пусть боги отвечают за меня перед людьми. История, память, величие после смерти — один только пустой звук. А я стремился к двум вещам: власти и наслаждению. И имел и то, и другое. Сполна. И пользовался и тем, и другим в полной мере.
Хорошим и праведным быть скучно. Да и то: если бы у меня имелось две жизни или три, тогда можно было бы пожертвовать одной, чтобы сделаться хорошим, праведным — отцом, царем, советчиком, покровителем. То есть, конечно, не для себя самого и не для людей, а для будущих историков. Им в пищу и на потребу отдать свою плоть, свою жизнь, свои мысли, свои желания. Да хоть бы и три жизни, хоть бы и четыре — я не намерен ничего никому отдавать.
Им, историкам, хватит и моего отца, хотя он и не имел полной власти. Но уж любовь народа он имел. Вообще, думаю, что Германик, мой отец, не был глубоким человеком. В сущности, он был простец. Один из них, из людей толпы. И вел себя, как один из них. И как такого же, как они, люди и любили его. Вообще, толпе хочется кого-нибудь любить и хочется быть любимой. Как женщине. Не помню, кто это сказал, что толпа — это женщина. По крайней мере, не мой отец. Он не понимал этого.
Когда умер Август[3], легионы отказались признать Тиберия[4] и предложили отцу верховную власть. А он отказался, простец. И это было началом его славы. Вернее, началом любви толпы. Славы, может быть, еще более сильной. Но это было концом его самого, его личности… не знаю, как лучше сказать… его сущности, что ли. Неужели боги ставят человека на вершину власти лишь только для того, чтобы он угождал толпе? Да разве боги могут не презирать толпу! Да разве человек в глазах богов стоит чего-либо большего, чем презрения!
Я презирал людей уже тогда, когда не имел власти. Но когда она, власть, сделалась моей, презрению моему уже не могло быть ни конца, ни предела.
Не могу сказать, что и я не поддавался никогда этому желанию народной любви. Но оправдывает меня только то, что я никогда не любил их, а только презирал. И положение мое после смерти Тиберия не было таким прочным, как могло казаться. Ведь я сам чувствовал это. Кроме того, я был сыном простеца Германика, и эта дурацкая народная любовь к нему по наследству переходила ко мне. Они, толпа, думали, что это богатое наследство. Впрочем, как еще они могли думать? А для меня это стало тяжестью, которую необходимо сбросить, чтобы быть самим собой. Но власть моя поначалу не была крепка, и мне приходилось носить на себе эту народную любовь, да еще и преумножать ее. Хотя я не жалею, так было нужно. Народ глуп, и когда полюбит кого-то, то уж полюбит окончательно. Ведь не я сам был им нужен и необходим и не мои действия и поступки, но единственно их собственная любовь ко мне. И поначалу я им вполне давал насытиться этой любовью.
Конечно, они хотели, чтобы я был такой же, как они, таким, каким они представляли себе справедливого, доброго, умного правителя. Они хотели вогнать меня в прокрустово ложе своих представлений о справедливой власти. Я сам, со всем тем, что во мне, был им не нужен. А я хотел быть тем, кем родился, и хотел жить единственно своей жизнью и своими желаниями. Хотел попробовать все, что можно, а главное, то, чего нельзя. То, чего никто из них не мог позволить себе. Власть давала мне право быть самим собой. За это я любил власть.
Жестокость и страсть — вот самые сильные наслаждения. И я был самим собой и не стеснялся их. Скажут — порок, но что есть слаще порока? И что есть, добавлю я, скучнее добродетели? Народ хотел видеть меня честным, справедливым, добродетельным. Каким-нибудь самым-самым справедливым и добродетельным. Но чтобы- завоевать их любовь, никакой добродетели не было нужно, а нужно было знать, что делать и как.
Ну, разумеется, как это водится, помиловать осужденных и сосланных. Я сделал это очень просто. Еще, для пущей любви, я заявил, что для доносчиков мой слух закрыт, и принародно разорвал донос о покушении на мою жизнь, добавив громко, чтобы слышали все, что я просто ни в ком не могу возбудить ненависти.
Всяких изобретателей наслаждений я попытался наказать строго и приказал утопить их в море. Меня долго уговаривали, пока я отменил свой приказ.
Ну и еще я сделал кое-что простое. Пострадавшим от пожара возместил ущерб. Отобранные Тиберием деньги — впрочем, очень большие деньги — велел отдать обратно. Меня славили, и все были довольны.
Тиберия, этого гнуснейшего из людей, я почтил похвальной речью, при этом плакал, как говорили мне потом, горькими слезами.
И еще я отправился за прахом матери и братьев. Море было бурным, плыть было опасно, меня отговаривали, но я приказал плыть, ведь толпа должна была видеть мою храбрость и, главное, мою сыновнюю любовь. Великую, самую величайшую, может быть, добродетель. Боги хранили меня, и добрались мы благополучно. Я сам, собственными руками переложил их останки в урны.
Отца моего я, разумеется, почтил тоже: месяц сентябрь я назвал германиком. Хотя правильнее было назвать его — простец.
Все эти деяния не стоили мне никакого труда. Их нужно было совершить, чтобы любовь народа получила пищу. И я их совершил.
За все нужно платить (я не имею в виду — расплачиваться, тут вопрос иной). А за все нужно платить, и за свою свободу тоже. И своими добродетельными поступками я оплачивал будущую свою свободу. И как ни смехотворна была цена, она оказалась достаточной.
Впрочем, добродетели правителя не ограничивались храбростью, милосердием, прощением — это, в общем, были вещи обычные, рутинные. Главная добродетель — тут я усмехаюсь, потому что невозможно не усмехнуться, — заключалась в организации зрелищ и в раздаче подарков народу. Подачек, уточню я. Этот добродетельный народ очень любит зрелища, хотя, конечно же, ненавидит устроителей зрелищ. Конечно, те, которых я собирался утопить в море, были людьми безнравственными и порочными. Они развращали народ, портили народ, отвлекали его от добродетели. Другое дело — я, правитель, позволяющий зрелища. В этом случае это не разврат, не отвлечение от добродетели, это, можно сказать, отцовская награда. Я их отец, они мои дети — почему бы не позволить им шалости и почему бы самому не пошалить вместе с ними?
Да, добродетельный народ любит зрелища, и, по большей части, зрелища жестокие. Они любили, когда на их глазах, на потеху им, люди убивали людей, люди убивали зверей, и звери, в свою очередь, когда такая возможность им предоставлялась, разрывали людей на части. Главное, чтобы все это происходило на глазах, на глазах множества людей, на глазах толпы. Тогда это называлось зрелищем, и тогда это было хорошо. И даже добродетельно. Во всяком случае, вполне допустимо.
Если это происходило не на глазах толпы, а где-нибудь в темном углу или в темном лесу и был какой-нибудь один свидетель или свидетелей не было вообще, то есть когда это не называлось зрелищем, — это было плохо. Это было жестоко. Тогда люди, слыша об этом, всплескивали руками, качали головами, сожалели или гневались, требовали наказания виновных, причем наказания публичного — главное, чтобы на виду у всех. Когда они, сидя рядом или стоя рядом с себе подобными, смотрели на казнь, они чувствовали удовлетворение. Что ж — казнь похожа на зрелище, точнее, ничем от зрелища не отличается.
Что же касается гладиаторов, то, конечно, они не были людьми. Или, вернее, были теми людьми, смерть которых страшна, но вызывает удовлетворение у тех, кто придет смотреть, как она совершится. Не собственная своя смерть, которой они страшатся, а зрелище чужой смерти притягивает людей. Они могут говорить, что страшно, могут говорить, что жестоко, просто могут сказать, что им противно смотреть на это. Но все это неправда: смерть притягивает, и непреодолимо хочется смотреть, как она совершается. Когда они смотрят на нее, и тем более когда смотрят во множестве, они словно бы избавляются от собственной) страха смерти. Вот она, перед вами: удар, вскрик, содрогание тела… И все — одна только мертвая неподвижная плоть на земле. И удовлетворение, что не я, что не мы, что он, они. Постоянное лицезрение чужой смерти, может быть, самая сильная иллюзия бессмертия. Никакой собственной смерти нет, но есть зрелище смерти: чужой, чужих, других. Полная обыденность и одновременно всегдашняя новизна зрелища смерти.
Они смотрели на то, на что я позволял им смотреть. Мне же самому это быстро наскучило. Я хотел чего-то другого, более острого. Своего, мной самим изобретенного. Мне казалось, что смерть витала надо мной с колыбели. Не та моя смерть, которая как будто должна была когда-нибудь прийти, и, как считается, неотвратимо, но смерть вообще, смерть вокруг, воздух, зараженный смертью. Скажу без стыда и стеснения: воздух, зараженный наслаждением.
Быть императором, разумеется, лучше, чем им не быть. Быть на самом верху, повелевать народами, ощущать, как от твоего желания или даже просто от твоей прихоти человеческая жизнь может прерваться, а может и сохраниться и продолжиться еще сколько-то. Столько, сколько ты позволишь ей продолжаться.
В самом деле, быть императором лучше, чем им не быть. Я так думал, когда стремился к власти и когда добивался ее. Впрочем, я и теперь так думаю. Но дело не во власти над всеми — это приятно, но это наскучивает, да и потом жалко отдавать себя, единственную свою жизнь на то, чтобы править государством, делать так, чтобы твоим подданным жилось хорошо. Ну, если не хорошо, то, во всяком случае, чтобы они жили в порядке, и чтобы не поубивали друг друга, и не съели друг друга. И еще: порядок определяет императорскую власть, в данном случае мою. Так что без порядка все равно не обойтись.
Но не об этом я хотел сказать, и не об этом мне хочется говорить. Я о том, что власть не самое главное, она только фундамент иного, самого главного. Она нужна для того, чтобы в себе самом, над самим собой не было бы никакой власти. То есть откровенно и положительно никакой. Власть над всеми и полное безвластие в себе. Не ты властен над собой, не порядок, но страсти. Страсти, которые не знают ни власти, ни порядка и проявляются, как хотят и когда хотят. За это их и держат в темнице всяких установлений, поэтому и поносят их как зло, может быть, как самое тяжкое зло. Но императорская власть тем и хороша, что ты можешь позволить себе не держать свои страсти в темнице установлений, но выпустить их на волю и жить с ними и ими. В общем-то как будто и это не позволено, и император должен… Но ведь на то он и император, что хотя и должен, но может позволить себе… И это «позволить себе» все равно сильнее, чем «должен». Что же касается недовольных, то власть для того и власть, чтобы усмирять недовольных, во всяком случае, не позволять им действовать.
Но не хочу об этом, все это малоинтересно и только мешает свободе страстей, а без свободы они не имеют ровно никакого значения, словно бы их и нет вовсе.
Как много говорят о любви! Мне кажется, излишне много. Поэты усердствуют в этом больше всех, словно бы это одно и есть главное их дело, Я не говорю: любовь к женщине, любовь к мужчине, или любовь к императору, или к родине. Обо всем этом не хочется говорить, потому что все это пустое и тоже дань порядку, исполнение установлений. Все это любовь к другому — родине, женщине — к тому, что вне тебя. К тому, что не ты, а другой, другая, и главное — другое. Вот эта «любовь к другому», может быть, самый главный плод того, что называется установлениями. Ложь, ложь, одна только ложь кругом. Потому что по-настоящему человек может любить только себя. И когда говорит, что любит другого — а ведь искренне верит, что любит, — то это все равно ублажение самого себя. Самый лучший миф есть миф о Нарциссе[5], потому что это правда.
Я очень любил себя. Больше, кажется, чем сам в силах был это осознать. Я любил в себе все, абсолютно все: что знал, видел, чувствовал, и чего не знал, не видел, не чувствовал, и даже как-нибудь смутно не ощущал. И смерть свою я любил, хотя и страшился ее. Она ведь тоже была моей и жила во мне. Мне очень хотелось увидеть ее и прочувствовать. Я не знал, как это сделать, но отчего-то очень хорошо ощущал — и очень верил такому своему ощущению, — что все-таки есть способ увидеть ее и прочувствовать. И я нашел такой способ, хотя, может быть, и не совсем сам нашел его. Впрочем, теперь не об этом, об этом после.
Я здесь не хочу говорить о государственных деяниях. Что бы я ни сказал, будущие историки расскажут по-своему. И все это будет, конечно, очередной ложью, потому что никаких направленных деяний никто совершить не может, и император в том числе. Все происходит само собой, и нас ведут боги. А мы лишь исполняем их волю, хотим мы этого или не хотим, ощущаем на себе их волю или нет. Получается, что бы я тут ни говорил, все ложь, хотя и не в большей степени, чем та, которую наплетут будущие историки.
Так вот, нечего говорить о государственных деяниях, потому что, во-первых, никаких деяний, в сущности, нет, а во-вторых, потому что государственная деятельность не имеет для меня ровно никакого значения. А если и имеет, то только в смысле почитания и преклонения, и воспевания, и всего такого прочего. Все это приятно, как хороший обед и хорошее вино: удовольствия, без которых трудно обойтись, может быть, даже и невозможно обойтись, но которые не станешь же называть смыслом жизни, сутью жизни или чем-нибудь в этом роде. А как удовольствия они — почитание, преклонение — вполне необходимы. И — довольно об этом.
Страсти мои всегда непреодолимо требовали выхода, и я никогда не ставил им препятствий. И всякий раз их беспрепятственное проявление приносило мне удовольствие; порой очень жгучее, порой даже невыносимо жгучее. Но удовлетворения они приносили мало. Признаюсь, я уставал от удовольствий, так что порой впадал в полное изнеможение. Мне ничего не хотелось, то есть совершенно и абсолютно ничего. В таких случаях говорят — хотелось умереть. Но мне и этого не хотелось.
В таком состоянии я мог пролежать без движения и день, и два. Ко мне боялись заходить, и вообще извне не доносилось ни единого звука, и казалось, что во всем мире я один, и больше никого, ни одного человека. Ни зверя, ни птицы, ни камня… вообще совсем ничего. Мне делалось страшно. Как-то так особенно страшно, как невозможно передать словами. И тогда я кричал. Думаю, что мой крик больше походил на рев зверя. Или на звериный рев и человеческий вой одновременно. Ко мне сбегались, трогали меня, что-то говорили. Но ни у одного из них в глазах я не видел хотя бы отблеска сострадания, а только страх. Перед моим, разумеется, гневом.
Тут они не ошибались. Никто из них ни разу не ошибся, и страх каждого был вполне оправдан и объясним. Только что мне до этого? Я любил лишь самого себя. Не то чтобы так уж не любил всех остальных, вообще всех остальных людей, но — что мне было до них? Если они и соотносились со мной, то только как предметы моих страстей и орудия моих удовольствий.
Одно из таких удовольствий — не скажу, что самое лучшее, но одно из лучших — было зрелище смерти. Оно завораживало меня, как пламя костра, если смотреть на него из темноты: смотришь и не можешь оторваться. Меня не трогала чужая смерть, я не испытывал ни сострадания, ни ужаса, ни печали. Просто она завораживала, и хотелось смотреть, и трудно было оторваться. Человек оставлял жизнь в мучениях и страхе, и они были особенными, они отличались от того страха и тех страданий, которые не связаны напрямую со смертью — например, при родах. А тут в смертном страхе и предсмертных страданиях чувствовалась какая-то тайна, неподвластная постороннему разумению. Только собственный смертный страх и собственное предсмертное страдание давали возможность разгадать ее. И все равно: смотреть на то, за чем виделась тайна, было особенным, как я уже говорил, завораживающим удовольствием. Оно, это зрелище, как бы излечивало меня или хотя бы представлялось излечением.
Кажется, я снова отвлекся. Или нет, это очень важно для того, о чем я буду сейчас говорить. О моей любви.
Или нет — о своей страсти. Или нет — не о любви и не о страсти, а о том, что есть и любовь, и страсть, и еще что-то такое, что настолько глубже любви и страсти и настолько сильнее их, что последние даже как бы не имеют значения.
Я говорю о своей сестре Друзилле[6]. Я говорю о моей жене Друзилле. Я говорю о моей Друзилле. Все равно как если бы я говорил о самом себе.
Наше начало было очень простым. Я был молод, совсем еще юноша, но я уже знал женщин и вполне прочувствовал то удовольствие, которое можно получить от обладания женской плотью. Терзать женскую плоть до боли, до настоящей, а не придуманной боли, до настоящего, а не притворного страха. Терзать ее так, чтобы страсть и боль были неразличимы. Чтобы, когда женщина стонала, она сама не могла бы сказать, чего больше в ее стоне, боли или страха, и — достигаешь ли ты самой вершины удовольствия или спускаешься к самому входу в жилище смерти. И того и этого было одинаково возможно достичь. То есть я всегда заботился, чтобы такая иллюзия представлялась бы самой полноценной и неоспоримой правдой.
Но наше с Друзиллой начало оказалось очень простым. Сначала я не замечал ее как женщину. Она была сестрой, мы вышли из одной и той же плоти и, по-видимому, состояли из одной и той же плоти. Кроме того, вокруг было так много женщин, и если тогда еще не все, то все равно почти все были доступны для моей страсти. Я тогда только открывал женщин, и мне наивно казалось, что открытиям этим не будет конца. То есть что каждая — это открытие.
Ну, не знаю, однажды я просто увидел Друзиллу, страсть разлилась по всему телу, и прежде, чем я сделал первый шаг в ее сторону, я подумал: «Значит, и она женщина, и, значит, в ней есть что-то такое, что я могу открыть». Она стояла у конюшни, чуть отставив ногу, и тонкая материя туники не то что облегала, но облила ее бедро: оно было крепким и гладким, как мрамор колонны, и жарким, податливым, как… Не знаю, как что, но этот жар и эту упругую податливость я ощутил кожей лица, щеками, теми участками щек, что ближе всего к глазам. Ощутил так явственно, будто был совсем рядом, хотя стоял не меньше чем в десяти шагах от нее. И еще я подумал: «Почему кто-то другой должен сделать открытие, которое могу сделать я? Только потому, что я брат, а он чужой?» Не очень-то я боялся, что я брат и что мне не позволено того, что позволено чужому. Хотя, признаюсь, робость я ощутил. Впервые, наверное, ощутил особенную робость. Но преодолеть желание я уже не мог, даже если бы и захотел. Но я не хотел.
Я подошел к ней, взял за руку и сказал:
— Пойдем.
Хотел добавить: «Ляжем», — но не добавил. Та самая робость мешала мне говорить открыто. Но я и тогда почувствовал, и сейчас уверен, что она поняла все и что она ждала и была готова. Хотя внешне все выглядело вполне невинно, вполне согласно с установлениями, потому что сколько раз я вот так же подходил к ней — и к другим сестрам: у меня было еще две сестры — брал за руку и говорил: «Пойдем»; И мы шли в рощу, и бегали там как угорелые, и кричали, и бегали, и гонялись друг за другом, и ловили друг друга, и падали вместе на землю, и лежали рядом, глядя в небо в полном изнеможении.
Я взял ее за руку, и мы пошли, и это уже было первое отличие от обычного, потому что всегда мы бежали к роще — или я за ней, или она за мной, — но никогда не шли, тем более таким медленным шагом. И еще: только руки наши соприкасались, а бедра и плечи не соприкасались, потому что страшились соприкосновения. Я подбадривал себя: «Гай, чего ты боишься, ты хозяин жизни и, может быть, будущий император». Так я говорил себе, но в словах отчего-то не оказывалось никакого действенного смысла, и выходило, что это совершенно пустые слова. И про «хозяина жизни», и про «императора». Будто это какие-то пустые мечты, а не то, что обязательно должно совершиться. Или, точнее, то, что уже было на самом деле: пусть об этом еще мало кто знал или не знал никто.
Мы прошли в рощу, в самую ее глубину, спустились на дно неглубокого оврага. Не я вел ее, и не она меня, но мы шли словно бы вместе и одновременно каждый сам по себе. Остановились. И тут оказалось, что мы не знаем, что делать дальше. И тогда я сказал — и это случилось непроизвольно:
— Ляжем.
Мы легли. Оказалось, что только и нужно было лечь. То есть именно такое положение тел надо было принять, чтобы прошла всякая нерешительность и робость, и все стало совершаться само собой, и я даже перестал ощущать, что делаю что-либо сам, но как будто бы я сплю, а сон властвует надо мной и живет за меня. Я словно бы и не знал, что нужно делать, и словно бы мои руки никогда до этого и мое тело никогда до этого не прикасались к женской горячей плоти. Да, никогда не трогали и никогда не прикасались.
Я не знаю, как решился прикоснуться к ее соску губами, и почему я это сделал: он показался мне твердым и холодным. А губы ее, когда я к ним прикоснулся, были мягкими, горячими. И влажными. Нет, скорее даже мокрыми. Она часто дышала, и запах ее дыхания был какой-то особенный. Не сладкое, не благоуханное дыхание, о котором пишут поэты, а какое-то нутряное. Запах плоти. И еще — запах смерти. Не разложения, совсем нет, но какой-то холодный без вкуса запах. И это в горячем дыхании. Будто бы отдельная, не смешивающаяся ледяная струя в общем горячем потоке…
Она вскрикнула, и все ее тело сжала судорога, и дыхание ее прервалось, и она — это я сейчас хорошо понимаю, а тогда только сжался весь внутри, и дыхание прервалось, как и у нее, — она умерла. На одно мгновение, на долю мгновения, но это был не образ смерти, а сама смерть. И не ее, не ее только, но и моя, принадлежащая только мне.
Лицо ее было так близко от моих глаз, что расплывалось пятном без черт, и я не мог видеть, улыбается она или плачет, но и не хотел этого видеть. Тело, которое я держал в своих руках, может быть, меньше всего было женским телом, и тайна, которую я ощутил — пусть еще смутно, пусть еще только едва, — совсем не была обычной тайной женщины. И я сказал:
— Я хочу сделать тебя счастливой.
Я не уверен, что произнес это вслух, но какое это могло иметь значение, ведь я говорил это себе, для себя, потому что я больше всего люблю себя и лишь сам для себя могу быть интересен. Даже когда сам у себя вызываю отвращение, все равно интерес к себе и любовь к себе не делаются меньше, но, возможно, еще и возрастают.
Я так и лежал на ней и все не мог заставить себя подняться. Тело затекло, и сырость со дна оврага проникала в него. Но как было подняться? В слиянии тел нет стыда, но в их разъединении, пусть и временном, он есть. Столь гармоничное, столь естественное состояние слитности должно смениться каким-то некрасивым и бессмысленным разъединением. Как если бы одна нога пошла отдельно от другой, а руки, цепляясь пальцами за пожухлую траву, тащили за собой безногий торс, а голова просто катилась по желобу дна оврага, пока не ударилась бы о полусгнивший ствол поваленной березы. Ударилась бы, вскрикнула от боли, не в силах ни увернуться, ни заслониться рукой, но только закрыть глаза. Закрыть и увидеть белую вспышку боли посреди кромешной темноты. Такую же холодную, как струя смерти среди горячего дыхания страсти…
Кажется, опять нагородил неизвестно что. Но что за беда? И разве не больше правды в том, что время нашей страсти — вечность, чем в том, что за это время солнце прошло всего две верхушки деревьев над нашими головами? Или, лучше, не вечность, а смерть, что совершенно одно и то же.
Впрочем, мы поднялись. Тем более что она сказала:
— Встань, мне больно.
Не так уж и измята была ее туника, только два пятна от земли около левого плеча. Пятна эти не были страшны — хоть бы она вся извалялась в грязи. Имело значение маленькое красное пятнышко чуть пониже бедер, между ними, по самому центру. Когда она встала, отряхиваясь, я увидел его. Оно было как пятно огня, знак еще не вырвавшегося пламени. Невырвавшегося, но вот-вот готового вырваться. И спалить всю одежду дотла, и оставить мою сестру Друзиллу, мою возлюбленную Друзиллу, оставить мою Друзиллу голой. Сначала передо мной, а потом перед всеми. Не знаю, хотел я, чтобы перед всеми или нет, но ей я ничего не сказал. И когда она шла на два шага впереди меня и солнце светило ей в лицо, то одежды на ней не было, и мне хотелось дотронуться рукой до ее гладкого бедра, но не было сил ускорить шаг и догнать.
Потом я потерял ее среди бьющего в глаза солнечного света; она потерялась в нем, как в тумане. Я не искал ее. Тогда еще я не любил. То есть нет, любовь тут ни при чем, но она еще не была для меня… не была еще для меня мной. Я ушел в самый дальний угол нашего сада, сел, уткнув лицо в колени, и просидел так до самого вечера, а возможно, что и до вечера следующего дня, потому что я слышал встревоженные голоса искавших меня домочадцев. Но я не отзывался и на их вопросы, когда я все же вышел к ним, только пожал плечами. Друзиллы среди них не было.
Нет, все было не так, как я только что описал, а просто я давно хотел Друзиллу. Две другие мои сестры, которые позже умерли, Акта и Клодия, были еще совсем детьми. Конечно, не их возраст останавливал меня, но просто ни женского, ни даже девичьего в них не было ничего. Окажись они мальчиками, тогда другое дело. Мальчик — это вид человека, а девочка — еще не человек. Не может именоваться человеком тот, кто не вызывает вожделения. Любовь, смысл любви — все это чушь, все это из породы установлений, чтобы только как-нибудь прикрыть и облагородить вожделение. Но как его ни прикрывай, оно всегда остается голым. Его можно прикрыть словами, как ширмой, но нельзя одеть.
Так вот, в один прекрасный день Друзилла из девочки превратилась в человека, и мое вожделение обратилось на нее. Я не долго раздумывал, может, только дня три или четыре, пока по-настоящему понял, чего хочу от нее.
Она не стояла у колонны, как я говорил, спиной ко мне, она была в роще. Я искал ее и нашел на дне неглубокого оврага, там, где лежал толстый ствол поваленной березы. Она и сидела на этом стволе. Сидела, перебирая пальцами зеленые листки: то надрывала их, то разглаживала. Некоторое время я смотрел на нее. Намеренно и, конечно, не от робости или смущения. Просто я ощущал, как вожделение разливается по всему моему телу, заполняет и переполняет его. И лишь только наступил миг, когда я уже не мог противиться ему, я бросился к ней сверху вниз. Расстояние между нами было всего в три прыжка, три мгновения, почти неподвижное время, но она успела вскочить и быстро-быстро стала карабкаться вверх по склону оврага. Она в какой-то момент напомнила мне ящерицу. Не как ящерица бежала она, но именно была ящерицей. И когда я все-таки ухватил ее за ноги, уже у самой вершины, мне показалось, что это не ноги, а хвост, и она сбросит его, и он останется у меня в руках. Вместо нее.
Может, я тогда так чувствовал, а может, это все уже после представилось мне — какая разница? Но то, что она ящерица, в этом я убедился, лишь только ухватил ее покрепче и стянул вниз, на дно: она извивалась в моих руках с какою-то нечеловеческой быстротой и гибкостью. И все молча, без единого горлового звука. Меньше всего мне хотелось рвать на ней одежду. Я и не рвал бы, веди она себя спокойно. Мне непонятно, почему женщины, когда их берут силой, так упорно сопротивляются. Бесплодная трата энергии, и никакого смысла. Что, собственно, такое они хранят? Они защищаются так, словно защищают нечто, на охрану чего их поставили. Так часовой, охраняющий спальню императора, бросается на заговорщиков, которые, обнажив мечи, пытаются туда ворваться. Не знаю, хорош ли пример, но думаю, что, во всяком случае, верен. Но солдат падает, пораженный клинками заговорщиков, и те врываются внутрь, скользя на ступенях, окрашенных его кровью.
Ее сопротивление было яростным, хотя и беззвучным. Но наконец часовой пал, обливаясь кровью, и император, только успевший приподняться на постели, был поражен множеством яростных ударов. Его крик был единственным и последним. И ее, Друзиллы, крик тоже был единственным и последним. И хотя я еще некоторое время толкал ее тело резкими и чувствительными толчками, она лежала как мертвая. Я перестал толкать, скатился с нее и лег рядом. Вожделение прошло, но явились усталость и легкость одновременно и еще что-то такое, чего нельзя передать словами, но что-то похожее на радость обладания. Внезапно завоеванное богатство. Может быть, такое огромное, что позволит властвовать над всем миром: над всей землей, над всеми растениями, над всеми животными, над всеми людьми. Что из того, спросите вы. А ничего, потому что смысл обладания в обладании, и больше ни в чем. Может быть, еще в радости обладания. Хотя она кратковременна, и если не уходит совсем, то превращается в тоску. В тоску по этой же радости.
Друзилла тоже не поднималась, лежала неподвижно и беззвучно, как мертвая. Я тронул ее руку, она была как лед. Но не как у мертвой, а как у живой. Потом она медленно поднялась. Туника была измята и испачкана и разорвана у правого плеча; она поддерживала ее рукой. Там, где бедра, впереди, было красное пятно, большое и неровное, как раздавленный красный цветок. Я сказал ей:
— Смотри.
Она нагнула голову, но лицо ее осталось равнодушным. Отвернулась и пошла наверх. Не карабкалась, как тогда, когда я настигал ее, но шла прямая, сильная, не спотыкаясь, как по ровному. Если бы у меня оставались силы, я бы догнал ее снова, но сил не было, и радость обладания уже переродилась в тоску: к чему обладать всем миром? Да и нет никакого мира, а есть только кусочек тверди, на котором лежит твое тело, и кусочек неба, который может охватить твой неподвижный, застывший и в общем-то затуманенный взгляд. И даже этот кусочек неба перестает существовать, потому что глаза закрываются сами собой, а в темноте под веками нет ни вещественности, ни смысла — это не земля, не небо, не мир, а лишь я сам. Без земли, без неба, без мира, которым так хотелось обладать и которого теперь нет вовсе. И не было никогда. Ничего не было. И сам я… Но не было и меня.
Тоска. Моя неизлечимая болезнь. И вожделение, и удовлетворение — только временные лекарства. И чем чаще принимаешь их и чем в больших дозах, тем слабее действие.
Когда я встал, было уже темно — открыв глаза, я остался в темноте самого себя. С трудом поднялся по склону, цепляясь за траву. Медленно, спотыкаясь почти на каждом шагу, пошел к дому. Только однажды мелькнул страх, что наша бабка Антония[7] могла увидеть Друзиллу, когда та возвращалась. А бабку обмануть невозможно. Но страх только мелькнул. Я вяло сказал себе: «Гай, ты уже император». Но можно было и не говорить.
Потом, уже засыпая, я подумал, что ведь, в сущности, не видел ее тела.
Порой я сомневаюсь, нужна ли мне власть и зачем я столько сил положил на то, чтобы иметь ее. «Зачем нужна» не в том смысле, что не нужна, а в том — зачем? Только ли затем, чтобы освободить страсти, чтобы они могли реализоваться как угодно и где угодно. Или еще зачем-то? Нет, не благо народа — пусть это и трижды благородная цель. Честолюбие? Все поклоняются мне, славословят меня, а я — самый благородный, самый умный, выше и лучше всех. Поэты слагают стихи, где это написано черным по белому. И отчего бы мне не поверить им. И я верил, особенно тогда, когда был пьян. Но в часы трезвости — в последние годы это случалось не так уж часто, если иметь в виду полную и абсолютную трезвость, — я все понимал прекрасно. Не мне, то есть не лично мне пели они славу, но страху перед моей властью. И если вообще опустить страх, а представить, что они не притворяются, но думают именно так, как поют, то все равно, самого меня это мало касалось, но слава относилась к моим одеждам — материальным и нематериальным. Не к тому, каков есть император, а к тому, каким он должен быть — великим, мудрым, красивым… И так без конца. Люди воспринимают императора либо как тирана, либо как отца народа, справедливого и доброго правителя. Наибольшие славословия получает, конечно же, тиран, так что быть им или представляться им, если любишь славословия, предпочтительнее. А славословия любят все, вне зависимости от того, что они об этом говорят публично. И все — и те, кто как будто выше этого, — принимают славу как должное, оправдывая себя желанием народа, необходимостью поддержать авторитет правителя. Это установление — «благо народа» — может быть, наиболее твердокаменное и, наверное, сильнее всех других установлений. Оно оправдывает все, и нарушение других установлений в том числе.
Но довольно об этом. Теперь поговорим об астрологии. Звезды всегда манят человека. Пугают или радуют, но обязательно манят. И астрологи всегда будут в чести. И это независимо от того, пользуются ли они благорасположением власти или нет. Ведь там, где звезды, живут боги, там складываются наши судьбы, хотя я и не верю ни в то, ни в другое. Боги не позволяют многое, а я позволяю себе все. А значит, если они и есть, то не для меня. Доказательство, возможно, слабое, но ведь я и не ищу доказательств.
Так вот, несмотря на то что для меня нет богов и я презираю их ко мне отношение, а их возможный гнев еще больше, несмотря на это, звезды тоже манят меня, и всякие предсказания астрологов я выслушиваю почти завороженно.
Откуда появился Сулла[8], я вспомнить не могу. Может, он спустился ко мне из области звезд? Вряд ли, потому что такой же шарлатан, как и все остальные. То есть все остальные его собратья по шарлатанству, и… и все остальные вообще. Мне бы давно его казнить, и я с удивлением время от времени смотрю на него: «Как, ты еще жив?» Я ему часто говорил, что больше всего на свете хотел бы увидеть его мертвым, и не убиваю его только потому, что всегда хочу видеть его мертвым, и пусть он возблагодарит свои звезды за это мое «всегда». «Я благодарю их каждую минуту, Гай», — неизменно одно и то же отвечает он мне. Когда мы один на один, он всегда мне говорит просто «Гай», но никогда — «император». Когда мы не одни, то он не обращается ко мне и потому не называет никак. И я тоже в присутствии других не обращаюсь к нему с вопросами, чтобы при ответах ему не произносить «император». Получается, что я жалею его. Но это только так кажется, а на самом деле я боюсь, что и при других он скажет мне: «Гай». Не я дал ему право называть меня по имени, он сам взял себе его. Хотя я показываю всем своим видом, что чуть ли не ради шутки позволяю ему это.
Так вот, я не помню, откуда он взялся и когда. Мы были одного возраста, и когда Друзилла… Во всяком случае, его глаза всегда подсматривали за мной, а его голос, даже когда его не было рядом, произносил: «Гай». Что «Гай», я не знал, но он произносил его (или оно само произносилось во мне его голосом) как заклинание. Но это неправда, что я боялся его. Я его никогда не боялся. А его взгляд и его «Гай» — правда. Это как звезды, которые есть всегда и которые манят.
Я сам хотел, чтобы Сулла всегда был при мне. Но если бы я этого и не хотел… Я вспоминал о его присутствии и тогда, когда его не могло быть рядом. К примеру, тогда, когда я еще жил в доме Антонии, моей бабки. Он знал все и говорил мне, что знает все: всю мою жизнь и мою смерть.
— И о смерти знаешь? — говорил я ему, и все внутри меня холодно напрягалось от гнева.
— Да, Гай, и о смерти тоже.
— Но разве я когда-нибудь умру?
— Конечно, нет, Гай, ты бессмертен и умереть не можешь.
Так он отвечал мне, и в его глазах не было ни насмешки, ни лжи, ни великодушия. Он не лгал, во всяком случае, намеренно. И я знал это. И был благодарен ему. Конечно, бессмертие мое не было бесспорным бессмертием: императоры умирали и до меня. Но разве в том дело, что я император? Нет, дело тут в чем-то совсем другом. Я не знал в чем и думать не хотел, но чувствовал — бессмертен. Я, несущий в себе самую полную, самую чистую свободу, божественную… Я, издающий законы, не подчинен им, и никаким не подчинен установлениям, и себе самому тоже. Есть страсти, одни только страсти. Открой им себя до конца, перестань быть, превратись в страсти — и будешь вечен, как вечны и бессмертны они. И никакие установления не смогут умертвить их.
Любить самого себя. Нет, для бессмертия этого мало. Любить свои страсти. Нет, и этого недостаточно. Забыть о себе и жить одними только страстями. Нет. Забыть о себе и стать страстями. Не любить, но быть. Не быть даже, но единственно только проявляться. Нет привязанности, нет долга, а есть только… Впрочем, что-то такое все равно невозможно высказать, и любой смысл, выраженный в словах, все равно есть игра со смыслом. А я не об игре.
Не помню первый раз с Суллой и, может быть, не помню и второй. Помню, как он сказал мне:
— Пойдем, Гай.
И я послушно пошел за ним. Я так послушно пошел за ним, за своим ровесником, за мальчиком, в сущности, будто это был старый мудрец, возраст которого я почитал, а в мудрость верил неоспоримо. Я, который никогда ни во что не верил и никогда никого не почитал.
Мы вышли. Было темно. Звезд на небе было много, и они ярко горели. Не знаю, с чем сравнивать их свет, да и не хочется сравнивать, но… будто они светили только для меня одного и зажжены были только для меня одного. Он взял мою руку в свою. Ночь была тепла, а его рука горяча. Так горяча, что моей руке было трудно пребывать в его, она как бы задыхалась от жара и как будто бы вконец обессилела от жара. Наверное, поэтому я не мог ни пошевелить ею, ни отнять ее. Другую руку он поднял к небу и, переводя со звезды на звезду, называл их. Просто называл, ничего не объясняя. Но моя рука в его руке… и я так хорошо понимал, будто он подолгу объяснял место и назначение каждой. Я как-то очень сильно и быстро устал, так что скоро перестал слышать. Только рука…
Не помню, как мы ушли, как я лег и заснул. Среди ночи проснулся от тянущей боли в руке. Я осмотрел ее, поднеся к свету. Она была багрово-красной, с множеством белых точек. Белизна их была скорее светом, чем цветом. Сулла сказал:
— Они как звезды.
Я вздрогнул от его голоса. Он стоял в дверях так, будто не вошел вот только что, но все время находился тут. Я вздрогнул от неожиданности, а не от испуга, и его не замеченное мной присутствие не удивило меня.
— А почему боль? — прошептал я, протягивая ему руку.
— Потому что они движутся, — ответил он.
Я больше ничего не спросил, хотя ничего не понял
Все это пустяки, и если бы у меня были друзья, то очень стоило бы посмеяться над этим с друзьями. Но друзей у меня не было, а Сулла был, и я испугался. Я лег так, будто был один, и страх наваливался на меня так, будто я был один. Вообще, может быть, во всем свете. Дрожь била меня, я задыхался и уже не чувствовал ног. Тогда Сулла взял меня за руку. Он стоял надо мной и держал мою руку в своей. Не помню, согрелась ли она и согрелся ли я сам, но я уснул. Подумал глупое, глядя на некрасивое лицо Суллы: «Потому, что движутся…» — и уснул. Не забылся, но уснул. И сладко спал до самого утра. До позднего утра, хотя всегда вставал рано.
Уничтожить Суллу было очень просто: для этого существовало много методов и средств. Я часто и подолгу думал об этих средствах, и даже с наслаждением. Но — не мог. Проснуться без него, уснуть без него… Нет, не мог. К тому же боялся. К тому же спрашивал: «Зачем?» И не находил ответа.
Я теперь уверен, что по наущению Суллы я взял Друзиллу, хотя, конечно, это не так. Но ведь и по-другому быть не могло. Порой мне кажется, что никаких собственно моих страстей во мне нет, но именно он — Сулла — и есть мои страсти. И еще мне кажется, что страсти не нечто абсолютно свободное, а они только представляются таковыми. На самом же деле нет ничего более расчетливого, чем страсти: у них свои законы, свой порядок, своя цель. Не тот, придуманный человеком порядок, не те установления, которые люди приняли для себя, но иной порядок, высший. Он там, куда указывал мне свободной рукой Сулла, там, где звезды. И их движение определяет четкий, незыблемый порядок проявления страстей. Тот порядок, который ведет к цели. Неизвестной нам, но известной им, звездам. Или, быть может, какой-нибудь одной, главной звезде.
Я говорю: «мне кажется», «я думал», но вероятнее всего, что это не я, а он, Сулла, — служитель звезд и их посланник. Странно, с одной стороны, я всегда хотел быть абсолютно свободным, вне всякого закона и вне всяких влияний. Но с другой… С другой — мне хотелось быть ведомым, призванным для великой цели, мудрым, благородным и чтобы тот, кто вел меня, оценивал бы степень и глубину того и другого. Не люди, славословящие или ругающие, а по сути равнодушные к тому — кто ты, что ты, а только: хорош, если нам хорошо, и плох, если нам плохо. А Сулла… Как мне хотелось почувствовать, что он представляет иной, высший порядок и иную, высшую цель. Но как я мог это почувствовать и как мог поверить, когда он был такой же человек, как и я. Если я нарочно сдавливал ему руку, то он морщился от боли. Если присутствовал при моих играх с женщинами, то не только лицо его выдавало известное волнение, но и орган, все мужское определяющий, надувался сверх меры. Я не раз проверял это, оторвавшись от женщины, подозвав его и внезапно ухватив за тунику пониже живота. Нет, если исходить из моего опыта, то высшие силы тут ни при чем.
Что я говорю! Разве это я, Гай Калигула? Не Сулла ли живет вместо меня, а меня давным-давно нет, да и не было никогда! Но нет, я ведь был. Может, это теперь меня нет, но ведь был. Не Калигула-философ — я смеюсь над этим, — но Калигула — свободные страсти, Калигула-император, Калигула-злодей. Что могло меня сбить с пути злодейства? Кто такой Сулла? Шарлатан и комедиант. Одного моего взгляда достаточно, чтобы стереть его с лица земли в царство мертвых, подальше от звезд. Настолько далеко, что это все равно как если бы звезд не было вовсе. Нет, я жил, и Друзилла пришла ко мне на следующее утро.
Когда я открыл глаза, она стояла у постели. Красивая. Никакой не подросток, а настоящая женщина: маленькая грудь, тонкая талия и бедра как амфора, наполненная, переполненная тем, что называется страстью — смесь благовоний, разложения, оранжереи роз и отхожего места. Я говорю грубо, но ведь я говорю о страсти, а не о любви. Я ощутил, что знаю ее давным-давно и был с нею с невспоминаемо давних времен и что она мне не только не надоела, но страсть переполняет меня и тревожит с прежней силой. И даже с большей силой. Да, конечно же с большей. Она взяла меня за руку, сказала:
— Как долго ты спишь.
И — тут же я обхватил ее и потянул на себя. Падая, она вскрикнула протяжно, совсем не так, как кричат от неожиданности или от боли. Вы уже догадались, какого рода это был стон. Кто же мог подумать, что за одну ночь она прошла то, что женщина проходит за годы. Женщина для наслаждений. Она стала такой женщиной. Не той, которая делает из этого профессию, овладевает мастерством страсти, тем количеством приемов, которое и определяет высшее мастерство. При этом сама она остается холодна. Как всякий мастер — профессиональна и расчетлива. Не испытывает же врач боль вместе с пациентом, он должен оставаться холоден, чтоб облегчить недуг. Друзилла была другой. Или стала другой. Она болела вместе со мной. Возможно, что даже сильнее, чем я. Мне казалось, что если моя болезнь, возможно, излечима (о боги, позвольте мне болеть всегда!), то ее болезнь смертельна. В самом прямом природном смысле, и всякий ее стон и крик в любое следующее мгновение мог оказаться последним. Не скрою, мне всякий раз хотелось, чтобы так оно и случилось и ее жаркое тело в моих руках — жаркое, упругое, подвижное, гибкое, и еще, еще… — сделалось бы неподвижным, холодным, ледяным. Мертвым. Да нет, разве я хотел ее смерти! Хотел, чтобы смерть ее повторялась всякий раз, бесконечно.
Она болела страстью, а я был болен ею. Вернее, ими: и страстью и Друзиллой. Мы утоляли ее… не знаю, как сказать, скорее всего — бешено. В самом деле, как один больной организм, подверженный сильным припадкам. Конвульсии, судороги, пена у рта и красный туман в глазах. Мы уже не видели друг друга. Более того, мы уже не чувствовали друг друга. Наша страсть как будто бы покидала тела, и мы уже не чувствовали их и, как это ни покажется странным, не ощущали интереса друг к другу.
Только когда припадок проходил и мы медленно разъединялись, и рассеивался туман, и красное, остывая, делалось белесым, я начинал различать черты ее лица, изгибы плеч и бедер. Мне так хотелось рассмотреть все это вблизи, глазами, губами, подушками пальцев. Но припадок всякий раз был столь сильным и так изматывал и расслаблял плоть, что, казалось, не было сил пошевелиться. Нет, не пошевелиться, но пядь за пядью рассмотреть и ощупать любимую плоть. Нельзя было это сделать холодно, как врач, но и невозможно было сделать ни вначале, ни в конце припадка. Да и пустое, без страсти тело — только оболочка. Нет, не мертвая, но как будто одежда, скомканная и небрежно отброшенная в сторону. Знаю, и она чувствовала то же, что и я. И мы даже не расходились, но расползались в молчании. Не глядя друг на друга и не желая глядеть. Уверенные, что больше никогда не сольемся и даже, может быть, никогда не увидимся. Розарий разорен, а розы брошены в отхожее место.
Наша бабка, Антония, была настоящим хранителем приличий и установлений, она, кажется, сама упивалась собственной строгостью, и, думаю, будь ее власть, она бы вообще запретила страсти и их проявления. Когда ей говорили — только по незнанию могли сказать, а кто знал ее, не говорил, — что у такого-то сенатора появился новый мальчик, глаза ее наливались кровью, а дыхание делалось частым и прерывистым. Могло показаться, что ее вот-вот хватит удар. Бывало, что даже стон прорывался сквозь дыхание. Все так же, как в страсти и соитии. Не похоже, но именно так же. Да и кто не знал о ее прошлой «праведной» жизни, всему Риму это было доподлинно известно. Так что строгость у нее проявлялась точно так же, как страсть. Если бы у нее хватило соображения понять это, но — никакого соображения у нее не было давно, все съело неумеренное проявление страстей. С моим отцом и ее сыном, Германиком, она тоже была строга, но и ему и ей это очень нравилось, ведь более нравственного человека, чем мой отец, трудно было отыскать в Риме. Наверное, ни в Риме, ни в провинциях такого больше не существовало. Он был не человеком, но воплощенной доблестью, а она, конечно, ходячей добродетелью. Думаю, что и он, Германик, и она, Антония, были совершенно уверены, что на всем свете не было и нет человека, благороднее и доблестнее его и добродетельнее ее. Ну, облик отца всем известен, тут одно только геройство, но бабка… Я никогда не мог поверить, что она когда-то была хороша, как об этом любили вспоминать люди ее возраста. Уверен, что никогда не была. Сухая, с вытянутым лицом, выдававшейся вперед челюстью и запавшими бесцветными глазами — конечно, хороша. И голос был как скрип старого дерева под ветром: того и гляди, переломится.
Считалось, что все ее боятся. Но это только так считалось, потому что никто всерьез не обращал внимания на ее добродетельный гнев, хотя все старались, чтобы он на них не обратился. Конечно, женщиной я ее считать не мог, она для меня была после женщиной, хотя еще и сосуд, но уже непригодный ни для вина, ни для масла. А для чего — пусть об этом скажет скупой хозяин, которому жаль выкинуть сосуд, он не знает, как его использовать, сосуд только занимает место, но — вдруг пригодится.
Так вот, наша бабка Антония застала меня и Друзиллу как раз за исполнением любви. Не скажу, что мы потеряли всякую осторожность, ее никогда и не было у нас. Более того, мне кажется, что мы нарочно… Не знаю, как сказать, но… не то чтобы хотели, а как бы были не против. С одной стороны, любви не нужны свидетели, но с другой — необходимы. Тайна хороша только вначале, потом она должна сделаться известной тайной, хотя и оставаясь ею. Звучит не просто коряво, но и просто слабо, но верю, что каждый внутри себя испытывает подобное, пусть и не говорит об этом словами, пусть и не признается себе в этом.
Так вот, бабка стояла в дверях и смотрела, чем мы занимались на моей постели. Не могу сказать, что я ее сразу заметил, но, во всяком случае, раньше, чем мы закончили. Друзилла мне потом признавалась, что чуть ли не в самом начале ощутила: кто-то стоит в дверях. Правда, она не думала, что бабка, а думала, что Сулла. Нет, не думала, что Сулла, а думала, что кто-то. Так что и с той и с другой стороны было как бы обоюдное согласие на осведомленность. Что же мешало нашей добродетельной бабке остановить нас в самом начале, а не дожидаться конца? Тем более что ее добродетель не могла выносить, что это было смертельно для ее добродетели… и так далее. Но она стояла и смотрела, не издав ни единого звука, не сделав ни единого движения: подобно статуе Венеры, что стояла в нише справа от нее, но только Венеры старой, сморщенной, совсем и не Венеры уже. Но — все-таки Венеры. Наши звуки — и горловые и прочие — наконец стихли, руки разжались, и тела, колеблемые теперь только все утихающим дыханием, медленно отлепились друг от друга. Мы еще касались друг друга — моя рука ее волос, ее ступня моего бедра, — но уже жили сами по себе. И снова: никогда не встретимся, никогда не сойдемся, никогда не увидим друг друга.
Я знал, что Антония здесь, но просто не мог пошевелиться. И как я уже объяснял выше, не хотел. Лицо мое было повернуто в ее сторону. Не к ней, но в ее сторону, так легло мое тело, отлепившись от тела Друзиллы. Я видел, как она подходила, подошла, встала над нами. От наших тел, я думаю, еще шел сильный жар, и она стояла над нами, и кожа ее лица покраснела от жара. Так она долго стояла, я смотрел на нее, а она на нас; Друзилла же лежала закрыв глаза. Антония стояла до тех пор, пока тела наши не остыли, а кожа на лице из красной не сделалась бледной. Более бледной, чем она была у нее, много более. Потом она повернулась и пошла к двери. А от двери крикнула, что мы развратники и что она не позволит, чтобы дом сделался гнездом разврата… И еще, и еще в том же роде. Хотя она кричала, но выходило не очень громко, потому что все-таки опасалась слуг. Тут я улыбаюсь, потому что уж слуги-то узнают обо всем в первую очередь.
Ну, все остальное имеет меньшее значение и не так интересно: Антония продолжала тихо кричать, при этом стояла вполоборота к нам, чуть ли не спиной, будто ей стыдно было смотреть на нас — стыдно и невозможно, будто только что так пристально разглядывала нас совсем не она. Друзилла вскочила и убежала через другую дверь, голой, даже не прихватив туники. Я же остался лежать, как лежал, и ни вставать, ни прикрывать наготу совсем не собирался. Конечно, не скрою, мне было неловко, и это вполне естественно, но, с другой стороны… С другой стороны, что-то во всем происходящем было такое… Было нечто похожее на страсть, на удовлетворение ее. Я не хочу сказать, что мы с Антонией… или я с Антонией… Но все-таки что-то в этом роде. И не я это придумал, не я стремился, мне это, разумеется, никогда в голову бы не пришло — но ведь она стояла над нами и смотрела, ведь она рассматривала нас, ведь это ее лицо сначала покраснело, а потом побледнело. И это ее голос, когда она кричала, что мы развратники, меньше всего был исполнен настоящего негодования, но это была какая-то особенная женская злость, и не с одной только обличительной страстью.
Потом, уже к вечеру, она позвала меня к себе и долго отчитывала, еле слышно, почти шепотом. Опять говорила, что я развратен, что я чудовище, приводила мне в пример доблести и благородство отца, любовь к нему народа и все такое прочее. И снова «чудовище», «развратник», и снова «доблести и благородство». Она говорила, говорила и ни разу не взглянула мне в глаза, а я стоял перед ней, и странное чувство было во мне, теперь уже точно безошибочное, что: и ругает, и обвиняет, и, может быть, ненавидит, но — признается. Она говорила, я слушал и молчал, но вместе мы разговаривали как любовники. Как любовники в тишине ночи.
Вообще после этого я не мог смотреть на бабку Антонию по-прежнему, но смотрел на нее новыми глазами. И бабкой не мог ее называть даже и про себя. Что-то такое, что-то такое у нее было внутри, чего не было ни у кого из тех женщин, которых я знал. И у Друзиллы тоже не было. У нее было многое другое, но этого не было тоже. И я понял, как со временем мельчает страсть. Не с возрастом, возраст тут ни при чем, но как бы с историческим временем. Они, люди того времени, были иными, и страсть была такого рода и качества, что как бы и не нуждалась в теле. Красивое, некрасивое, молодое, старое — нет, не нуждалась. Такая страсть жила отдельно от тела и, может, только пользовалась телом, когда это было ей необходимо. Но, думаю, могла и не пользоваться. Вот только умирала вместе с телом. Или не умирала. Во всяком случае, после смерти Антонии я еще долго помнил… Нет, чувствовал. Нет, ощущал по-настоящему. Ее страсть еще долго жила со мной и тревожила меня. Я прав, у такой страсти нет необходимости в теле.
Странное дело, вызывая и укоряя меня, Антония ни разу не говорила с Друзиллой. Будто та была вообще ни в чем не виновата, а просто жила девочкой в доме, среди двух других девочек, своих сестер. Меня же она вызывала время от времени, чтобы называть чудовищем и развратником, чтобы говорить шепотом в темноте и не поднимать на меня глаз. Но она никому не сказала о том, что видела, и о том, что время от времени говорит со мной в темноте: это была ее тайна. Вернее, наша с ней тайна. Больше всего я жалел о том, что не жил в то время, когда она была молодой. И еще о том, что она моя бабка. Лучше, если бы она ею не была. Если бы не была, то и не нужно мне было бы жить тогда, когда она была молодой. Молодая, старая — тут возраст не имел никакого значения. А вот родство имело. Не для меня, для нее. Но это было достаточным препятствием, непреодолимым.
Мои отношения с Антонией, впрочем, никак не умаляли полноты моих отношений с Друзиллой. Мы ничуть не таились, хоть и не выставляли свою любовь так уж напоказ. Или нет, скорее всего, что выставляли, потому что и она и я знали, что взгляд Антонии всякий раз достигает нас и Антония, что называется, ест нас глазами. Не жестоко ли было лишать ее необходимой пищи? А если не пищи, то отравы, но все равно необходимой?
Но довольно об Антонии. Я лучше скажу о том, что я не мог как следует рассмотреть Друзиллу. Нет, не так, не рассмотреть, но увидеть что-то такое внутри ее… Не знаю, как объяснить. Раньше я думал, что всякая женщина несет в себе тайну, собственную свою, ни на чью другую не похожую. Я и открывал эти тайны, и был доволен, что открываю. Потом оказалось, что все тайны похожи одна на другую и что одно только собственное удовольствие имеет значение в общении с женщиной, а их тайны уже не имеют значения. Я уходил от женщины, оставляя пустую оболочку. Но при этом я не брал ничего с собой, в себя. Не брал, потому что нечего было брать и женщина не оставалась пустой оболочкой, но была ею с самого начала. Только Друзилла не была пустой оболочкой: и тогда, когда мы были вместе, и тогда, когда расставались. Во-первых, не я уходил, а она оставляла меня. Только до следующего раза, который мог быть уже через несколько часов, но непременно казалось, что навсегда. Так мне казалось определенно: не я уходил, но она оставляла меня. Во-вторых, я оставался опустошенным. Намеревался брать, но отчего-то лишь отдавал. Ни у какой женщины я не мог ничего взять, но ведь и не отдавал ничего. А она уносила значительную часть меня, и я это ясно и всегда болезненно чувствовал. Мне хотелось бежать от нее и хотелось убить ее. Порой мне хотелось этого очень остро, но ни того, ни другого я не в силах был сделать. Не только потому, что я не был еще императором, когда убить кого-либо не составляет никакого труда. Не только поэтому. Но как только я делал первое движение к побегу — пусть и мысленно, но это казалось, пожалуй, реальнее настоящего движения, — лишь только я делал это движение, как боль пронизывала все мое тело, словно мы были сращены от рождения, может быть, еще в утробе матери, и оторвать свое тело от ее было настоящим самоубийством. Желание же убить пропадало бесследно, лишь только я видел ее. Все исчезало бесследно, и я сам тоже, а оставалась только опустошающая страсть, которая жила сама по себе, и, кроме нее самой, всего остального просто не было на свете.
И опять туман и жар, и опять я не вижу Друзиллы. И только тень ее вижу, когда она уходит от меня. Может, она мраморная статуя, внутри которой кровь, и сердце, и печень, и все, что есть у живого. Или она живая, с теплой нежной кожей, горячими влажными губами, а внутри — холод мрамора. Взять молот и разбить мрамор, раскрошить его на самые мелкие кусочки, превратить в пыль и развеять ее в пространстве. Сделать это и забыть. И промыть память, где осели частицы этой пыли. Все так, только как проникнуть внутрь, добраться до мрамора?
Сулла сказал мне:
— Гай, какого ты хочешь бессмертия?
— А какое бывает? — спросил я.
Он сказал:
— Разное.
Я подождал, с каждой минутой раздражаясь, что он скажет. Но он, по своему обыкновению, ничего не сказал. А я, по своей обычной трусости в его присутствии, не попросил пояснений. Тогда он сказал:
— Ты ведь знаешь, что Друзилла твоя сестра и что связь с сестрой преступление против природы.
— И установлений, — добавил я, но он повторил только:
— Против природы.
Потом он смотрел на меня, пока я не отвел взгляда. На этом все закончилось, весь разговор, и он ушел так незаметно, как будто бы исчез, не сходя с места. А мне снова захотелось убить его, и я позвал слугу. Но, глядя на глупое и почтительное выражение лица слуги, я не смог сказать то, что желал, а велел привести мою лошадь. Вскочив в седло, я нещадно погонял ее, пока она не стала хрипеть и не остановилась. Я успел соскочить в то последнее мгновение перед тем, как она рухнула на землю. Это была моя любимая лошадь — так я считал, — но я повернулся и пошел прочь, а она осталась умирать. Я думал: так я мог убить себя, так я мог убить любого другого — загнав. Была бы власть. Убив, я убеждаюсь в смерти и что она, хотя умирают по-разному, одна. Но как мне убедиться в бессмертии? «Разное», — сказал о нем Сулла, но не объяснил. А если бессмертия нет вовсе и я думаю о. нем только потому, что боюсь смерти?
«Разве я боюсь?» — спросил я Суллу. Его не было рядом, но я все равно спросил. Но, по своему обыкновению, он промолчал.
Если кто-то думает, что я хотел сестер только потому, что они всегда были рядом, — если кто-то так думает, то это ошибка. Совсем не потому, но из любви к самому себе, к собственной плоти, которую я почитал бессмертной. Или должной быть таковой. Я не знал заранее, что буду императором, хотя и очень этого желал. Но я желал еще большего, бессмертия — и здесь «император» ни в какое сравнение идти не может. Пусть кто хочет думает, что желание сестер было просто развратным желанием или, после моего объяснения, что я прикрываю разврат объяснением. Пусть думает, мне все равно. Хуже тому, кто так думает, потому что тогда он просто скользит по поверхности жизни и не пытается заглянуть в глубину. И не может в нее заглянуть. И кричит: нет никакой глубины, а есть одна только поверхность. Поверхность же, как масляная пленка на воде, — иллюзия тверди. Общие понятия и установления, вот из чего состоит поверхность. Это не сама жизнь, а в самом деле только пленка на жизни. Они все, живущие на поверхности, говорят: как опасно уйти на глубину, провалиться вниз. Там неизвестно что, а здесь законы и установления. Люди больше всего боятся этого «неизвестно чего».
Я не боялся и не хотел жить на масляной пленке. Бессмертие было там, в глубине. А если и там его нет, то… Не знаю что, но не может быть, чтобы не было.
Я никогда не мог понять, почему плоть, которая вышла, как и я, из одной материнской утробы, не может совокупляться с моей. Когда мы вышли из утробы матери, мы разъединились. Или нас разъединили. Почему же мы не можем соединиться снова? Что такое «против природы», о чем говорил Сулла? То, что разорвано, — несоединимо. То, что умерло, не может воскреснуть. Но отчего — несоединимо? И отчего — не может воскреснуть? И что такое природа? Даже императорская власть — не полная власть над человеком, и люди бунтуют против священной императорской власти. Но так ли она священна? Не хочу никакой природы и не признаю никакой природы. Или, вернее всего, хочу понять, что она такое, есть ли она и есть ли у нее власть или это только признание несуществующей власти?! Или это только уловка, чтобы пугать человека нарушением законов и установлений? Но — не хочу больше думать об этом. Или я император, которому подвластно все и нет ничего в мире, что не может быть мне неподвластно, или я император этой толпы людей, которые больше правят мной, чем я ими.
Моя старшая сестра Агриппина была полной дурой. Она, подобно нашей бабке Антонии, любила изрекать всякие добродетели: к месту и не к месту. Вернее, всегда не к месту. И еще — смотрела строго. Скажу так: все, на что падал ее взгляд, на все это она смотрела строго. Она знала и, может быть, видела, чем мы занимаемся с Друзиллой, и, когда смотрела на меня, когда говорила мне самые простые вещи, взгляд ее и слова должны были испепелять меня. И думаю, она очень удивлялась, что до сих пор не испепелили: Одевалась она строго, говорила строго, и улыбка не имела места в безупречной строгости ее лица. Ее формы… Они тоже казались мне строгими: деревянные бедра, деревянная грудь, к тому же резчик по дереву вряд ли помнил, что ему заказана женщина. Скорее всего, ему просто заказали Добродетель. А это хотя и возвышенная, но такая скучная тема.
Не буду говорить, что захотел я ее, чтобы воплотить свои новые философские соображения. Это не так. Хотя, может быть, подспудно… Но сознательно это не так. Наверное, во-первых, мне надоела ее строгость. Жить рядом с этой постной строгостью и постной добродетелью было, во всяком случае, неуютно. Во-вторых, я тогда еще верил в женскую тайну, и деревянная женщина должна же была чем-то отличаться от женщины телесной. Кроме того — в-третьих, четвертых и пятых, — мне просто хотелось уничтожить добродетель, и не просто уничтожить, но как-нибудь побольнее и поунизительнее. Зачем я это говорю — объясняю, оправдываюсь? Да потому, что посягнуть на добродетель даже такому человеку, как я, не так-то просто. Не могу объяснить почему, но непросто. Это если знаешь, что добродетель, а не переубеждаешь себя, что никакой добродетели нет. А я знал.
Впервые тогда я прибегнул к помощи Суллы. Я ему сказал, чтобы он неожиданно схватил ее сзади, и зажал ей рот ладонью, и держал так, пока я не сделаю то, что нужно. Он сказал:
— Да.
Я его спросил, не боится ли он, что его могут, к примеру, распять за насилие. Не могут, сказал он, потому что тут нет никакого насилия.
— Как это? — удивился я.
— Сам увидишь, Гай, — отвечал он, и по его едва заметной улыбке я понял, что он больше ничего объяснять не будет.
Ладно, и не надо. А что касается распятия, то хотя быть распятым мне совсем ни к чему, но близость его и хоть какая-то его возможность добавляет интереса в жизнь: я, будущий император, распят на кресте за насилие над сестрой, в тяжелейших муках умираю… А потом воскресаю, чтобы стать императором. Потому что быть распятым я могу, умирать страшно и жестоко — тоже, но не стать императором — нет, не могу. Тут и муки и смерть не имеют никакого значения.
Итак, Сулла, выскочив из своего убежища, зажал ей рот и держал ее крепко. Тут странно — он был мал ростом, почти горбун, а руки сильные и большие, и когда он зажал ей рот, то ладонь прикрыла больше половины лица, и только глаза были свободны, а ни носа, ни губ, ни подбородка не стало видно. Правда, он предусмотрительно раздвинул средний и безымянный пальцы, чтобы она совсем не задохнулась. Она не билась, она застыла как деревянная. Кажется, Сулла мог уже и не держать ее. Я подошел, я заставил себя посмотреть ей в глаза. Мне это было не очень легко, но я себя заставил. В глазах ее не было ни страха, ни ужаса, ни строгости, ни презрения, ну ничего такого, что можно было бы ожидать и чего, конечно, ожидал я. Только ожидание. Она обманула меня, и, будь я почувствительнее, я сказал бы, что жестоко обманула. Она хотела того, чем я собирался унизить ее, уничтожить ее добродетель. Мне бы сказать Сулле: отпусти, и пойдем, тем более мне было неприятно ощущать его руку так близко от своего лица. Но отчего-то у меня не хватило смелости отступиться. Может быть, присутствие Суллы смутило меня. Я медленно поднял руки, крепко ухватился за верхний край туники и что было сил дернул вниз. Материя разорвалась с треском, больше похожим на треск ломаемых сучьев. Она в самом деле стояла передо мной как дерево. Как дерево, с которого сорвали кору. Ее тело сочилось, и это был древесный сок. И запах тоже как будто древесный. То есть скорее напоминавший древесный, но крепкий, жгучий, так что, наверное, попади он на язык, и кожа сползет с языка. И я пригнулся к ней и провел языком по ее коже, дернувшейся от моего прикосновения. Нет, кожа не слезла с языка, но сок оказался в самом деле жгучим и то ли горьким, то ли сладким, но скорее и тем и другим одновременно. Хотелось оторваться и выдохнуть, но столь же сильно — или нет, конечно, сильнее — хотелось не отрываться. Да и тогда, как я теперь понимаю, оторваться было невозможно. Язык мой наткнулся на твердое, и я ощутил боль, как от пореза, как если в темноте провести рукой по гладкому дереву — и вдруг наткнуться на острый, с зазубренными краями сучок. Глаза мои были закрыты, и в слепоте язык наткнулся на ее твердый сосок. Дерево, настоящее дерево, ну, может быть, нежное. Но все равно, в здравом уме не станешь облизывать дерево. Хотя, впрочем, «здравый ум» — это тоже из области установлений.
Я услышал звук, придушенный стон, близко, у самого своего уха, и тут же язык мой наткнулся на что-то чуждое. Глаза мои раскрылись, щетка рыжих волос была перед ними: рука Суллы. Оттуда, из-под руки, и раздавался стон. «Уйди», — выдавил я. Или только подумал? Но рука стронулась, поползла в сторону и скрылась где-то за подбородком Агриппины. Стон прекратился. Я поднял глаза, лицо ее исказилось ужасом. Больше не было дерева, с которого сорвали кору, но была женщина, застывшая от ужаса, может быть, уже мертвая оттого, что не смогла этот свой ужас проявить, — не женщина, но холодный слепок ужаса. Маска, которая вряд ли способна кого-либо напугать.
Суллы не стало рядом, вместе с рукой исчез и он сам. Вместе с ним ушла добродетель. Не его собственная — не было там никакой добродетели, — но добродетель Агриппины. Мне словно бы нечего стало уничтожать, потому что предмет уничтожения исчез. И стояла передо мной просто женщина, и ужас на ее лице был просто маской, которую она забыла снять или поменять. Она хотела, чтоб я взял ее, и маска тут была ни при чем.
Мне бы повернуться и уйти. Нагнуться, поднять с пола ее разорванную одежду, подать ей, повернуться и уйти. Но я этого не сделал. Вместо этого я взял губами ее сосок, втянул его глубже, потом еще глубже, насколько было возможно, и вдруг — прикусил. Все-таки не всею силой челюстей, но достаточно сильно. Она вскрикнула, дернулась назад и упала на ложе. Я едва успел разжать зубы. Она могла бы упасть и на пол или вообще убежать — и пол и дверь были прямо за ее спиной. Упасть на ложе было труднее всего, но она, как-то очень умело изогнувшись, упала. Нет, не добродетель, а женщина, с тою же самой нетайной тайной, как и у всех.
Когда она упала, то дверь, теперь ничем не заслоненная, как бы открылась для меня и позвала. Но кто может сказать, что Гай убежал от женщины, пусть и от собственной сестры, — этого никто не сможет и не посмеет сказать! Не посмеет, хотя. мне и безразлично любое мнение обо мне.
Все остальное я делал механически, но даже как будто с остервенением. Ведь совершился обман, никакой добродетели не было, а была женщина, которая хотела, чтобы ее насильно повалили на ложе, а когда этого не произошло, она повалилась сама. Да, она стала кричать, но теперь это уже было не то, и насилие над ней теперь уже ни при чем.
То, что крик ее могли услышать, мне было безразлично. Даже лучше, если бы услышали и бабка Антония прибежала бы на крик. Но я потянулся, чтобы накрыть ей рот ладонью: я не мог слышать воплощенный в крике обман. Ладонь опустилась туда, где был ее рот, но прижала не рот, а руку. В одно мгновение я понял, что это Сулла. Крик прекратился и снова превратился в придушенный стон. Тогда закричал я, потому что желание вспыхнуло во мне с по-настоящему непреодолимой силой. Я ошибся, была добродетель, и я должен был уничтожить ее.
Когда я поднялся, сказал:
— Видишь, Сулла, как мы просто расправились с добродетелью.
— Не вижу, — ответил он и повел глазами вниз и в сторону, и я повел взгляд за ним.
Там, где на ложе должна была остаться красная отметина, не было ничего. Я не поверил; упершись двумя руками, я откатил Агриппину в сторону, словно она и в самом деле была деревом. Провел рукой там, где должно было быть красное, еще и еще, словно то, чего не видели глаза, могли ощутить пальцы. Но и они ничего не ощутили. Тогда я сказал:
— Теперь твоя очередь, Сулла, уничтожить добродетель.
Только несколько мгновений в его глазах стояло недоумение. Не страх, не стыд, но одно только недоумение. Он подошел сзади и молча обхватил руками ее бедра, крепко, чуть ли не впившись пальцами в кожу. А я подошел к изголовью и, подсунув руку, зажал ей ладонью рот. Она не кричала, а только дышала прерывисто через нос.
— Сулла, ты не стараешься, — говорил я.
Он не отвечал, но я видел, что он вполне понимает, чего я хочу, и старается. Но усилия его были тщетны. Тогда я помог ему и что есть силы сжал ее рот рукой. Она застонала, я сжал сильней, и она громче застонала. Теперь это был стон страха и боли — наконец-то. Я был удовлетворен.
После я сказал Сулле:
— Ты такой же, как я, только ниже, и все твои звезды… Одна только бессмыслица все твои звезды, и ты такой же, как я.
Он промолчал, но глаз не опустил, а смотрел на меня прямо, кажется, не мигая. Мне опять захотелось убить его, но я только отвернулся.
Агриппина, разумеется, никому ничего не сказала, а на меня стала смотреть совсем по-другому. Так же, как и прежде, как на чудовище. Но как на чудовище, с которым она имеет общую тайну. А я смотрел на нее и думал: и это тоже я, моя плоть, отчего же я не люблю эту плоть и не хочу ее? Что-то здесь не так — как будто бы и нет добродетели, но как будто бы и есть. Как будто ложная, но будто и настоящая. Да, что-то тут не так.
Со следующей моей сестрой, Ливиллой, все произошло как-то так просто, что я и не заметил. Только помню, что ей это очень понравилось. Это «очень» я говорю не просто так. Она все твердила, чтобы еще и еще, а мне «еще» не хотелось. Потом она сама ловила меня везде, где могла, и просила:
— Ну хоть немножко еще.
Порой я отталкивал ее, порой нет, ведь это тоже была моя плоть, хотя и самая ее обычная и неинтересная часть. То же, что и у всех.
Друзилла сказала мне:
— Как тебе сестры?
Я сказал:
— Сестры.
И больше ничего не добавил. Как Сулла. Я уже тогда многому от него научился.
Братья, Друз и Нерон, не интересовали меня. Мужское начало не имело значения. Они были чужими. Вообще-то я ненавидел братьев. «Вот уж кого следует по-настоящему уничтожить», — думал я. По-настоящему и один раз. Были — и перестали быть. Нет, их просто не было никогда. У меня и не могло быть братьев, потому что я был единственный. Оплодотворяющий сам себя. Вообще, как говорил Сулла, я был единственным на всем свете мужчиной. И не «такого другого» быть не могло, но не было никакого. И три женщины-сестры — весь мой мир, и никакого другого нет и быть не может. Впрочем, «быть не может» — это лишнее и, главное, не верно. А правильное и единственное: нет.
Все остальное, все остальные — мир чужой, враждебный, бессмысленный и жестокий. Бессмысленность его прежде всего в том, что он велик: столько женщин, столько мужчин, столько зверей и птиц. При этом не разнообразие, а однообразие. Все женщины — всего только женщины, а все мужчины — всего только мужчины. Бесконечное повторение одного и того же. Смерти и рождения. Все зыбко, в постоянном движении, которое никуда не ведет, ни к чему не приводит. Ничего и никто не имеет смысла, потому что все проходит, а остается то, что только что прошло. Все вечно, но нет бессмертия.
Вот звезды, они всегда и неизменны: эти на своем месте, а эти на своем. Всегда. Однажды в ненастную ночь я посмотрел на небо. Вдруг среди несущихся облаков открылось четыре звезды. Одна в центре, яркая, другие, полуокружьем, бледнее и мельче. Только не недвижимые и бессмертные; и все вокруг, может быть, и вечное, но не бессмертное, потому что находится в движении: приходит и уходит, приходит и уходит. Ложь. Даже только иллюзия вечности, а не вечность. И люди рожают детей именно потому, что не верят в бессмертие. И умирают тоже поэтому. Точно так, как животные, которые об этом не знают ничего.
Я рассказал Сулле. Он ответил:
— Да.
Нет, не так. Это Сулла повел меня смотреть на звезды в ненастье, а потом говорил о них, о бессмертии и вечности. Потом, некоторое время спустя, я сам думал об этом и сказал Сулле. И он согласился со мной:
— Да.
Весь остальной, смертный мир заслуживал одного: делать в нем и с ним все, что угодно. Но если этот мир так плох и так чужд, то зачем он мне нужен вообще и не лучше ли как-нибудь не жить в этом мире?
— Не жить в этом мире, — говорил Сулла, — означает умереть. А мы говорим о бессмертии. Прежде всего надо от него оторваться. Чтобы быть бессмертным, надо верить в бессмертие, но чтобы поверить, надо оторваться. Идти все вверх и вверх, любыми путями, через любые поступки, но только чтобы вверх. Не во владычестве над миром дело, а в том, чтобы оторваться. Стоять выше всех — значит быть ближе всего к звездам. Повелевать миром не значит оторваться. Но чтобы оторваться, надо повелевать. И еще: уничтожить в себе все законы и установления этого мира. Уничтожить его так называемую «добродетель».
— Это только власть, — сказал я, — а как же бессмертие? Выше всех в мире не означает оторваться.
— Да, не означает. Но теперь я не могу сказать тебе, а скажу, когда придет срок. Тебе же нужно одно: самый верх и свобода страстей.
Я отпустил его, он вышел, но я окликнул его.
— А там, где звезды, — сказал я тихо и не глядя на него; странная робость сковала мое тело и разум, — там, наверху, наверное, холодно и одиноко?
Он сказал:
— Бессмертие не удовольствие, а бессмертие.
Он любил говорить непонятно, а я не мог приказать ему объяснить и не мог признаться, что не понимаю. От его взгляда, когда я сам не смотрел на него, у меня немело над бровями. Я подумал: «До бессмертия еще далеко», — и успокоился.
Сулла сказал мне о бесстыдстве, что это самое сильное оружие в борьбе за власть. И добавил, что я им уже владею вполне. Я закричал на него, как он смел такое сказать. Закричал, подскочил к нему, замахнувшись тяжелым светильником. Он не двинулся с места, и на лице его не выразилось страха. Я еще держал светильник над его головой, когда он повторил:
— Обладаешь вполне.
Я не ударил его. Но, конечно же, ударил. В самое темя, и его больше не было на земле. Кровь стекала по щекам и лбу, а я все бил и бил, пока рука не устала…
— Гай, — проговорил Сулла, когда я отошел, — ты всегда можешь убить меня, это в твоей власти, но послушай. Никто не может гордиться бесстыдством потому только, что установление гласит: гордиться можно доблестью, добродетелью, умом и всем таким прочим. А стыдиться: разврата, бесстыдства и вообще всякого известного зла. Когда я говорю о твоем бесстыдстве, то исключаю и гордость и стыд, потому что у тебя совсем иные цели. Разве тебе нужно, чтобы тебя почитали люди?! Или боялись, или ненавидели, все равно. Ни то, ни другое, ни третье тебе не нужно самому, а нужно только для того, чтобы идти наверх. Не благо же Риму ты хочешь принести! Бесстыдство же — это не следование идее и не отрицание ее, но способ стать выше всех. Зачем тебе гордость и стыд, зло и добро, тебе не нужно почитание людей или их ненависть, а нужно бессмертие.
Я сказал:
— Всегда успею убить тебя.
Он ответил:
— Когда станешь бессмертным, в этом не будет необходимости, а пока я свидетель.
Мне не нужен был свидетель так я чувствовал, но, может быть — и это я чувствовал тоже, — Сулла был прав.
Когда Сулла ушел, я позвал слугу и велел принести петуха. Слуга замешкался, и я ударил его. Он принес петуха. Я взял светильник, крепко сжал петуха рукой. Он дергался и дважды царапнул меня крылом по лицу. Я положил его на пол, на то самое место, где до того стоял Сулла, и ударил светильником по голове. Только с третьего удара я попал острым концом светильника и срезал голову. Она отскочила в сторону, далеко. Я поднял петуха над головой и обрызгал себя его теплой кровью. Злость прошла, теплая кровь утишила ее. Одного было жаль, что я не заставил петуха кричать. Вскинет голову, вытянется, прокричит три раза на заре… Для него — обычная утренняя песня, для меня — предсмертный крик.
Я ненавидел Тиберия. Не больше, чем других, кого ненавидел. Нет, больше. Я ненавидел его физически. Я и человека не ставил высоко, но Тиберий для меня не был даже человеком. Покрытая струпьями жаба, мерзкое гноящееся существо, которому я должен был изъявлять свои сыновние чувства. Я, у которого не могло быть отца. Впрочем, как и матери тоже. Он любил меня, но любовь его была, конечно, особого рода. Не меня, а мое бесстыдство любил он. А я сам был только оболочкой бесстыдства, только человеческим телом его.
Мне должны были быть безразличны и он сам, и мерзкая плоть его, и то, что он император, а я еще нет, и что в его силах сделать так, чтобы я им никогда не стал. Так мне говорил Сулла. И он был прав. Прав, потому что чистое абсолютное бесстыдство выше зависти, неприязни, даже злобы. Я пытался, но не мог побороть их в себе. Впрочем, для любви Тиберия степени моего бесстыдства вполне хватало.
Больше в угоду этой любви, чем в наслаждение себе, я ходил смотреть на казни и пытки. Крик человеческой боли и жуткая человеческая смерть не страшили меня. Хотя, не скрою, порой меня тошнило от крови. Особенно когда ее запах мешался с запахом пота. Чистый ее запах был мне даже приятен. Как и беспримесный запах пота, когда я, надев накладные волосы, отправлялся в самые грязные кабаки, где потные проститутки танцевали голыми на грязном полу, а пьяные потные солдаты хватали их липкими жирными руками. Не грязь я видел здесь. Я не видел грязи, но голые страсти: самые дикие, самые голые. И потому естественные. Я тоже хватал проституток за вислые бедра, и пальцы мои были липкими, а запах пота острым. Когда я ухватывал кожу пальцами, мне хотелось вырвать кусок плоти и, может быть, окропиться кровью. Но я не мог, не смел и довольствовался только синяками. Женщины визжали, и хотя им было больно, то был крик страсти, а не боли. Тем более что боль всегда присутствует в страсти.
Тиберий чувствовал приближение смерти, его плоть уже разложилась, а дух… разложился и смердел, наверное, с самого рождения. Он поощрял меня в моих удовольствиях, и мне передавали, как он говорил, что сам вскармливает ехидну для римского народа. Как будто этот народ достоин чего-то лучшего! И как будто не все равно, лучшее или худшее, когда впереди у каждого все равно смерть. Только бессмертие дает смысл (хотя Сулла и говорил, что бессмертие выше смысла). Но разве знал об этом смердящий дух Тиберия, и разве мог знать это так называемый римский народ? Страдания смертного, как и счастье смертного, не имеют никакого значения и смысла. Тиберий же думал, что имеют.
Он думал, я буду страдать, когда отправил мать и братьев в ссылку. Когда меня привезли к нему на Капри, он обласкал меня, а его враги понуждали меня высказать хоть какое-нибудь неудовольствие, пусть и самое слабое, участью моих родных. Глупцы, они думали, что я способен страдать о ком-то, думали, что я способен ненавидеть Тиберия. Ненавидеть, как принесшего мне зло. А я ненавидел только его смердящую плоть.
Что касается родных, то какие родные могли быть у меня? Мать? Но матери у меня не было в первую очередь. Конечно, я все-таки, наверное, вышел из женского лона. Но не так, как все, а, допустим, путем кровосмешения. Вопреки установлениям, противно всяческим установлениям. Бедный Германик, полагавший, что я его сын!
Но что говорить об умерших? Когда прах их развеет ветер, сможет ли кто-либо с абсолютной точностью сказать, что они жили когда-то? Их нет и, значит, не было никогда. А все, что люди называют памятью, есть одни только выдумки. Все равно как те, что выдумывают поэты. Выдумки из страха смерти, перед прахом, развеянным дуновением ветра: если живут в памяти, то как будто и бессмертны. Здесь я имею в виду самый настоящий физический смысл, а не какой-нибудь переносный. Вот поэт убивает героя, а назавтра — на следующем представлении — он живет опять. Опять умирает и снова живет, так что вроде бы никогда не умирает, а живет всегда. Здесь смерть становится выдумкой, а не жизнь. Знаю, что один только я осознаю это, никто больше не осознает. Однако театральные представления любят именно за это. Хотя и не знают — за что. Все ложь и выдумки.
Как и сама жизнь тоже. Люди живут так, будто закончившееся их смертью представление в день следующего представления начнется снова. Непонятно, чего вы так визжите, когда вас убивают, если уже в день следующего представления… В том-то и дело, что не будет вас в день следующего представления. А выдумки о вас — это не ваша жизнь, а лишь выдумки еще живущих.
О том, что я жил с сестрами, знали все. Но то, что Друзилла была для меня тайной, и тем более то, что я не мог ее рассмотреть как следует, — об этом никто знать не мог. Одни видели во мне ехидну и чудовище, другие — в большей степени благодаря «доброй» (намеренно беру в кавычки) славе Германика, моего отца, — задатки будущей доблести и славы. Но я потешаюсь и над первыми, и над вторыми. Одинаково.
У бессмертия нет ни зла, ни добра, ни низости, ни славы, а я, бессмертный, только временно жил среди смертных и больше всего хотел скорее уйти от них. Вернее, должен был этого абсолютно хотеть, но еще не достиг такого абсолюта в желаниях. Я спросил Суллу. Он ответил, что абсолютность придет сама, надо только добраться до верха. Тщета всех человеческих представлений, от самых низких до самых высоких, есть прах. Который, добавил он, так легко сдувает ветер. И власть тоже относится к этой тщете. Может быть, еще и в большей мере. Ты должен быстрее насытиться тщетой. Сначала придет презрение и тоска, потом полное равнодушие. Тут ты подойдешь к самому абсолюту, и нужно будет сделать один только шаг. Ты сделаешь его.
Друзилла. Мне так не хотелось с ней расставаться, но, когда ее выдали за Луция Лонгина, я почувствовал облегчение. Ну, может быть, я больше заставил себя почувствовать, чем просто почувствовал. Несколько дней или несколько недель, не помню… Я вдруг просто сказал себе, что женщин на свете бесчисленное множество и у всех одна и та же тайна. Всем известная, впрочем, — то есть только иллюзия тайны. И тайна Друзиллы не более сокровенная, чем у других. Если же тебе нужны сестры, то есть еще и Агриппина, и Ливилла.
…Агриппину сразу после того, как она откричала, я спросил:
— Скажи, сестра, что же такое добродетель?
Хотя она и не поверила и смотрела на меня широко раскрытыми немигающими глазами — я спросил серьезно. Она заплакала, скривив рот точно так же, как только что, когда кричала. Я больше не спрашивал. Только заставил ее снова покричать в страсти, чтобы проверить сравнение. А так, какое мне дело до добродетели, хотя бы она и была? Она, как и все человеческое, ложь и выдумки.
Я женился на Юнии Клавдилле только потому, что мне положено было вступить в брак. Ведь я должен был выглядеть как все. Но главное то, что ее отец, Марк Силан, был слишком знатным, одним из самых… Я едва вынес эти бесчисленные обряды. До чего много шума по такому ничтожному поводу! Но ведь для смертных это одно из самых главных установлений. Правда, нетерпение мое происходило еще и из-за того, что мне поскорее хотелось добраться до Юнии. Не могу сказать, что она была очень уж хороша, хотя не могу сказать и обратное. Но дело совсем не в этом. А в том, что бессмертие мое было еще так несвободно от смертности, что мне казалось: в послесвадебном соитии есть нечто такое, чего нет в соитии обычном. Неужто все эти утомительные обряды есть только утверждение установлений, а чувственно…
— Тщета, — говорил Сулла.
И я знал, что тщета. Но по слабости хотелось верить, что есть.
Когда мы остались одни, я старался не быть грубым и даже старался, чтобы движения мои были замедленными. Так я понимал торжественность момента. Но я не знал, в какой очередности что нужно делать, и никто не научил. Разве что у Суллы спросить. Но вряд ли знал и он. К тому же не хотелось спрашивать. Впрочем, он был тут же, за дверью, как я ему приказал. Я велел смотреть из-за занавески на все, что будет у нас происходить. Он, правда, тоже заикнулся о торжественности момента, но я не стал его слушать.
Мне хотелось испробовать это блюдо: торжественное человеческое брачное соитие. Я спросил Юнию, может, она хочет есть. Она испуганно ответила, что не хочет.
— Тогда пора ложиться, — сказал я. Не очень уверенно, больше вопросительно, чем утверждая.
Кажется, она ответила: «Да». Или не отвечала, но я так понял.
Я подошел к ней и стал ее раздевать. Она стояла неподвижно, не сопротивлялась, но и не помогала. Ее тело, когда я нечаянно до нее дотрагивался, казалось мне холодным. Оно и было холодным, я внимательно его ощупал: плечи, грудь, бедра. Грудь совсем маленькая, то, что называется девичья, от которой я, по всей видимости, должен был прийти в восторг и трепет. Так утверждали поэты. Но ни восторга, ни тем более трепета я не испытал и не мог понять, что это такое. Ведь даже желания я не испытывал. Я бы испытал большее желание, если бы трогал мраморную статую, там мне помогло бы воображение. Здесь мне ничто не помогало. Что постепенно проявилось во мне, так это раздражение: казалось, она могла так стоять сколько угодно времени. Наверное, я мог лечь и уснуть, мог пригласить Суллу, даже мог привести другую женщину, а Юния все стояла бы на том же месте. В самом деле, неподвижная, как статуя. Или, правильнее, статуя. Нужно будет приказать слугам поставить ее в свободную нишу и своевременно вытирать с нее пыль — пусть она смотрит на мою жизнь или просто стоит, не видя ничего. Брак — это когда женщина постоянно в доме мужа. Так пусть она и будет здесь постоянно.
Я ущипнул ее, она даже не вскрикнула. Тогда я ущипнул ее еще раз и просто повалил на постель, как самую последнюю… Она закричала, я все-таки добился своего. Но в крике была только боль и совсем не было страсти. Зато крови вышло много: как видно, мой меч глубоко вошел в ее тело. Я не повторил, хватило и одного удара. Материя под ней вся пропиталась красным. Я обернулся к двери: «Видишь, все равно как если бы я убил ее». — «Ты и убил», — ответил Сулла.
Юнию я не помню совсем, будто ее никогда не было со мной. В самом деле, я убил ее тогда, в первую нашу ночь. Вернее, нанес смертельную рану, потому что умерла она при родах. Скорее всего, тогда ко мне впервые пришло понимание, что я бог. А у бога не может быть супруги. По крайней мере, смертной.
Я сказал Сулле:
— Скажи, разве я не бог?
— Ты бог, — отвечал он.
— Я имею в виду настоящего бога, того, что выше всех остальных богов, — продолжил я.
— Я тоже это имею в виду, — спокойно сказал он. Очень спокойно и очень обыденно.
— И я всегда им был? — Я спросил, но все-таки приглушил интонацию вопроса.
— Ты это знаешь сам. — Он отвечал спокойно и утвердительно.
Убить. Мне хотелось убить его. Но еще больше хотелось спросить: что я знаю? Но убить было легче, чем спросить.
Богом не становятся, а рождаются. Это я понимал твердо, хотя много раз старался не понимать. Или понимать не так твердо. Знал, что истина, но хотел сомневаться. Сомневаться в истине не так трудно, много труднее принять ее несомненно.
Я говорил себе: если я быстро дойду до самого верха, то я и есть бог. Но, дойдя до самого верха, я стану императором, но не богом. Будут говорить «Божествен-
— 58 -
ный», как об Августе. Но все равно: «Божественный Гай», а не бог. Бог не нуждается в прилагательном. Никому в голову не придет назвать Юпитера божественным. Он просто Юпитер. И просто бог.
Проклятый Сулла. Он говорит о бессмертии, но бессмертие может быть только у бога, а богом сделаться нельзя. Значит, и разговоры о бессмертии есть пустые и лживые разговоры. Как мне хотелось призвать его к себе и бросить ему в лицо доказательства его лжи. Нет, не призвать. Но чтобы его привели окровавленного, едва держащегося на ногах от пыток. И лучше — уже не понимающего того, что я ему говорю. В самом деле, больше его смерти хочется увидеть взгляд его глаз без смысла.
Я бы так и сделал, мне ничего не стоило так сделать, тем более тогда, когда я стал императором. Но я не сделал. И ничего не говорил ему о своих сомнениях, ни единого слова. Все, что он говорил, — ложь. Но все, что он говорил о моем бессмертии, — правда. Я не верил в эту правду, но она оставалась правдой. Ведь и в истине, что богом может быть только тот, кто рожден богом, я тоже сомневался, но истина оставалась истиной.
Иногда я чувствовал с самой настоящей определенностью, что всегда был богом. Если не вспоминать свою жизнь, а только чувствовать ее, то так оно и было. Но если вспоминать, то я значительное время не был богом. Нет, впрочем, и в этом я сомневаюсь, потому что вполне возможно, что я просто был таким богом. Таким, который и бог, и человек одновременно.
Энния Невия. Я любил ее? Хотел ее? Любил в той же степени, в какой хотел любую другую женщину. Я себе не говорил, что она жена Макрона[9], командира преторианских когорт[10]. Преторианские когорты были тут ни при чем. И близость его к Тиберию тоже была ни при чем. Но все-таки все так счастливо сложилось, что были и Энния, и преторианские когорты, и близость Макрона к Тиберию. Я, молодой бог, хорошо эту связь почувствовал. И связь эта еще больше разжигала мое желание. Мое страстное, беспримесное, бескорыстное желание.
Она сопротивлялась не очень долго и, конечно, только для вида, потому что не могло быть такого, чтобы она не хотела меня. Не было такой женщины, которая могла бы не хотеть меня. Энния изображала холодность, и неприступность, и полное равнодушие к моему желанию. Она говорила мне, что я еще мальчик, а она… Она так говорила: «Ты еще мальчик, а я…» — и не договаривала, и выдерживала на лице холодное равнодушие, пока я не уходил. Я же смеялся про себя всякий раз, когда уходил от нее, представляя, как равнодушие падает с ее лица, а настоящее выражение — досада — испуганно на нем остается. Я бы не уходил и сразу бы схватил ее, если бы не имел других (кроме удовлетворения страсти), более важных целей. Мне нужно было, чтобы она ощутила мою любовь. Любви я не знал, но ощутить ее ей было необходимо. Женщинам очень надо, чтобы их любили. В первую очередь любили, а хотели бы уже во вторую очередь.
Я являлся к ней, делая выражение лица таким, будто у меня болят зубы, и говорил ей, что не могу жить, не видя ее. Я не учился у поэтов, я был умнее их. Восторги и потоки слов тут были ни к чему, а нужно было говорить: не могу жить, не видя. И все. Капать в одну точку. Так разрушаются самые твердые камни.
Некоторое время спустя она уже ждала, чтобы я бросился на нее, и уже не досадовала, но раздражалась, что не бросаюсь. Но я выдерживал до самого последнего. Мне это было нетрудно, потому что никакой особенной страсти я не испытывал и весь мой ущерб — потраченное время.
Она сдалась. Она сказала, чтобы я больше никогда не приходил, потому что ей тяжело видеть меня. Никакого равнодушия уже не было на ее лице, одна только оскорбленная невинность. Она, о любовниках которой знал весь Рим. Я усмехнулся. Только про себя. Как легко обмануть женщину! Ушел я с тем же выражением зубной боли на лице.
Макрона в то время не было в Риме. Я выждал четыре дня. Необходимо было, чтобы она дозрела окончательно. На пятый день, поздно вечером, я отправился к дому Эннии. Я мог беспрепятственно войти через двери, но я полез в окно. Охрана видела меня, но ни один из них не посмел заметить моего маневра. Я не скрывался и даже намеренно шумел, чтобы она услышала. Она вскрикнула, когда увидела меня в окне, но вряд ли кто-нибудь, кроме меня, мог слышать этот вскрик: такой он был осторожный. Я молча бросился на нее. Но она с неожиданной силой оттолкнула меня. И вскрикнула снова, в этот раз значительно громче, злее, и уже не для меня одного. Правда, никто не прибежал на ее крик, но сам я невольно расслабил руки, и она окончательно оттолкнула меня, и я, неловко поставив ногу, упал перед ее постелью. Я сейчас же поднялся, но снова броситься на нее уже не смог, Не скажу, что не посмел, но все же не смог.
— Вот так, — сказала она, — сейчас я позову слуг, и тебя схватят, как преступника.
Она не смотрела на меня гневно, и никакой особенной решительности не было в ее взгляде. Впрочем, я и без того понимал, что никого она звать не станет. Но удивление и досада были во мне. Больше удивления, чем досады. Еще бы, ведь она смотрела на меня, ожидая. Чего? Этого-то я и не мог понять. Во всяком случае, не того, чтобы я бросился на нее снова. Или скорее того, но как-то по-особенному.
Она сказала:
— Владея мною, ты будешь владеть преторианской гвардией Макрона, но чем буду владеть я?
Я чуть было не сказал: мной. Но, благодарение богам, эта глупость не сорвалась с моего языка. Напротив, я сказал самое умное из того, что можно было произнести:
— Императором. Ты будешь владеть императором.
— Тиберием? — сказала она с усмешкой.
— Мной, — произнес я твердо.
— А ты будешь императором? — спросила она.
— Ты это знаешь сама, — то ли произнес, то ли только подумал я.
Но я уже был императором и смотрел на нее императором. Я был как статуя Юпитера или Аполлона. На нее смотрел не император, на нее смотрел бог. Если бы не мое неловкое падение у ее ложа, я бы, наверное, повернулся и вышел. Гордо, божественно гордо, и через дверь. Мимо онемевших слуг, мимо застывшей охраны. Мимо преторианской гвардии Макрона, выстроившейся вдоль стен ограды. Я прошел мимо Макрона, как знака императорской власти. Я пошел дальше. Я не заметил, как ступни оторвались от земли, я только почувствовал влажную ласку облака, которое прорезал наискось. Я никого уже не видел и не желал видеть. Солнце встало передо мной, но я прошел мимо солнца. Оно осталось далеко внизу и только мягко подсвечивало бездонную глубину передо мной. Мне не нужно было оглядываться кругом — не было никого, только я один. Боги умерли, я стал единственным богом.
Это была, может быть, счастливейшая минута моей жизни. Вот тогда и нужно было умереть человеком, чтобы обрести бессмертие бога. Единственное бессмертие единственного бога. Лучше всего, если бы Энния убила меня или вбежавший на ее крик стражник. Или слуга. Или хоть кто угодно. Но разве им могло быть доступно понимание этой минуты?
А Энния сказала:
— Да, может быть, ты и бог, но мне нужна твоя клятва и твоя расписка. Может быть, ты и бог, но я женщина и всего-навсего хочу быть законной женой императора.
На этом последнем ее слове — «императора» — закончилась моя лучшая минута. Я очнулся. В самом деле, я еще не был императором.
Я спросил. Она ответила, что хочет клятвы. Я тут же поклялся: она будет женой императора, как только я сделаюсь императором. Скорость моего согласия и четкость, с какой я произнес клятву, не удовлетворили ее. Она потребовала расписки в том же самом. И указала на столик в углу, где все уже было приготовлено. Для меня, я уверен в этом. Я молча подошел, сел и написал то, что она просила. Подал ей. Она прочитала внимательно, один раз и другой. Усмехнулась. Но, кажется, была удовлетворена.
— А теперь иди любить меня. — И легла на спину, раскинув руки в стороны.
Как я сожалел, что не догадался взять с собой Суллу. При нем я мог сделать все что угодно, и никакое унижение, никакие клятвы и расписки не могли стать преградой. А так… Как в этом ни стыдно признаваться, я готов был выпрыгнуть в окно. В самом деле, броситься на нее сейчас было все равно, что броситься на выставленные мечи преторианцев Макрона. Сам не знаю, почему я так говорю.
Но я не был бы богом, если бы отступил. Разве не я только несколько минут назад хотел умереть? Человеком. И что мне какие-то мечи каких-то жалких преторианцев! Тем более мнимые. И я бросился на нее. Страсть моя, по крайней мере вначале, была от злости, а не от желания, но проявления ее от этого не ослабели. Разве я мог знать, что страсть моя не была ей особенно нужна.
Как она кричала! Мне казалось, что она не только перебудила весь дом, не только заставила охрану на улице прислушиваться к душераздирающим крикам, но, наверное, на Капри рыхлый Тиберий в страхе передернул всеми членами своего полуразвалившегося тела: не его ли это собственный предсмертный крик?
Она была умелой любовницей. Больше того, неутомимой. Больше того: бесстыдной. Тогда еще я подумал, снова вспомнив гвардейцев Макрона, что стоит за незыблемостью власти: бесстыдство, необузданность, хитрость женщины.
Я в самом деле чувствовал себя мальчиком, орудием ее страсти. Она вела меня в конюшню, заставляла подвешивать на крюках, вбитых в балки потолочного перекрытия. Веревки впивались в ее тело — ведь она была грузна, — оставляя кровавые полосы. Она раскачивалась, и кричала, и корчилась на весу от страсти. Я должен был раскачивать ее, она кричала:
— Выше! Выше! — и при каждом моем прикосновении содрогалась всем телом.
Потом я перерезал веревки и нес ее в постель. Потом должен был мазать кровоподтеки маслом, потом слизывать все масло языком, потом оправляться на нее и снова слизывать… То, о чем я рассказываю, только малая часть приемов, которыми она мучила меня. Ее спальня пропахла мочой и потом.
Она вдруг отпадала от меня и засыпала мгновенно в полном изнеможении. Я уходил. И не возвращался к ней два или три дня. Нет, не отдыхал, как может показаться — в чистоте, неге и приличии, — но шатался по кабакам. Снова переодевшись в простое платье, с накладными волосами. Странно, но после Эннии я с каким-то особым, до того мне неведомым наслаждением вдыхал острые запахи нищеты и разврата: пота, мочи, прокисшего вина, скользкой, липкой, источавшей ядовитые пары грязи. Мне хотелось кататься по этой грязи, набирать в ладони и пропускать сквозь пальцы, обонять ее, может быть, есть.
Когда я ей сказал, что сидел дома, она ответила:
— Не выдумывай и не думай, что я сержусь. У меня везде шпионы, а ты напрасно полагаешь, что накладные волосы могут скрыть тебя от меня. — И она сказала, что больше всего желает тоже пойти со мной «туда».
Я видел, как ноздри ее затрепетали от предвкушения остроты запаха. Конечно, мы пойдем вместе. Да и сам я этого хотел. Я сказал ей, чтобы она оделась, как нужно.
— Не беспокойся, — ответила она.
Когда я увидел ее, то понял, что беспокоиться и в самом деле не о чем. Никаких накладных волос, никакого плаща, скрывающего тело, никакого капюшона, скрывающего лицо. Все открыто, и даже предельно открыто. Собственно, это была никакая не Энния, не патрицианка, не жена человека, повелевавшего гвардией — гвардией, хранящей власть императора. Это была проститутка, из самых низких: вызывающий наряд, вызывающе размалеванное лицо, плохо уложенные, нечистые волосы. И запах, тот самый — дешевых притираний, едкого пота, ядовитых паров липкой грязи. Той самой. Не подделанной, но определенно той самой, в которой мне так хотелось кататься.
Чем мы занимались в этих липких сумерках? Да все тем же, чем там занимались другие — люди мрака и грязи, пота и крови. Мы пили, орали песни, плясали до изнеможения, толкаясь среди липких тел, и совокуплялись так же, как совокупляются они, — где попало, без стыда, с воплями и бранными словами. Так хотела она, и не против был я. Она вдруг оставляла меня и уходила с солдатом в какую-то грязную подворотню. Возвращалась со следами грубости на руках, плечах, шее и совала мне в руку несколько мелких монет. Шептала горячо:
— Еще, еще, пошли меня еще! — Уходила, возвращалась, совала в руку монеты.
Однажды, когда я пошел за ней, — получил удар ножом. Лишь только переступил полосу света и темноты. Я ударил ногой в темноту, скорее инстинктивно, чем защищаясь. Раздался стон. И тогда я еще раз с силой пнул в то же самое место, почувствовал, что попал в мягкое, и бросился вперед. Нападавший побежал, я не стал преследовать его. Нож только скользнул по руке у левого плеча, рана была несерьезной. Зажимая порез ладонью, я прислонился к стене.
И тут услышал сопение и стоны. Сопение было мужским, стоны принадлежали Эннии. Глаза привыкли к темноте: Энния лежала прямо на голой земле, а что-то грузное, мужское, тяжело сопело над ней. Я сделал к ним короткий шаг, но остановился, замер и попятился. Мне совсем не хотелось уходить, напротив, мне хотелось смотреть на них, слышать мужское сопение и женские стоны, вдыхать тяжелый, острый, ядовитый, уже отравивший меня, проникший во все мое существо запах. Но будто какая-то сила тянула меня против моей воли назад, к черте света. Я вышел из темноты. Я больше ничего не слышал. Я видел темноту перед собой и ощущал свет за плечами.
Я не ушел, хотя теперь, выйдя на свет, хотел уйти. Дождался Эннию. Она вышла, шатаясь из стороны в сторону, краска размазана — по лицу, грязь — по телу.
— Что за народ, — едва слышно проговорила она, плохо владея речью, — я так старалась, а он ничего не дал, ни одной монетки.
Я отвел ее домой.
Проводя все это время с Эннией, я совсем забыл о Макроне и его преторианской гвардии. И немудрено — кабаки, подворотни, вино, дикие пляски располагают совсем к другим мыслям. А точнее, не располагают к ним совсем. Мне уже не желалось быть ни императором, ни богом, вообще ничего не желалось. Я сильно уставал и истощался. Сила выходила из меня, а свободное место занимали бессилие и равнодушие. И жизнь катилась так, как катилась, и перед глазами был туман. Зачем мне нужна Энния, я тоже сказать не мог. Уж во всяком случае не для удовлетворения страсти. Страсти и вначале было не много, а потом она вообще куда-то делась. Мы были не любовниками, а сообщниками в нашей тайной жизни. Мне бы сказать, второй тайной жизни, но скорее всего она была не второй, а первой.
Выходило, что вся эта жизнь могла продолжаться бесконечно. Не в моих силах было ее остановить, тем более что никаких сил для этого уже не осталось во мне.
Мы договорились встретиться поздним вечером — обычное время наших встреч, — чтобы пойти в один притон, до этого нам неизвестный. Как говорила Энния, там происходит нечто совершенно непостижимое: общее совокупление актеров на сцене и зрителей в зале. Можно представить, что это была за сцена и что это был за зал! К тому же ничего «совершенно непостижимого» увидеть мы не могли после того, что видели и в чем принимали участие во время наших ночных скитаний. Но Энния была неутолима не только в деле, но и в своем воображении. Мне же было все равно, лишь бы идти куда-то.
Я прождал ее долго, она не пришла. Я не знал, что могло случиться, и не хотел знать. Где-то внутри себя я ощущал желание, чтобы в самом деле что-либо случилось. Лучше всего по дороге к месту нашей встречи. Ведь никто из слуг не сопровождал ее, она ходила одна.
Я не дождался и отправился домой. Сказал себе, что несколько дней просижу дома, не выходя, а к ней больше не пойду. Ночь я проспал крепко, а утром, как будто совсем забыв о том, что решил вчера, пошел к ней. Привратник сказал, что ее нет дома. Я ответил, что буду ждать. Все это время — долго — я не отходил от окна. Ни о чем не думал. Был скорее часовым на посту, чем ожидающим. Тело мое почти онемело от продолжительного неподвижного стояния, а глаза слезились от напряжения, и та часть улицы перед домом, куда был обращен мой оцепеневший взгляд, несмотря на солнечный день, выглядела туманно.
Но туманность прошла, потому что слезы высохли, а глаза сделались сухими едва ли не до рези, когда я увидел ее носилки. Почему-то я даже не на нее взглянул сразу, а на несших ее рабов. Они шли как-то по-особенному прямо. Скорее шествовали. Их лица и тела были так похожи — будто размноженные слепки одной и той же статуи. Энния. Я не узнал ее. Она вошла прямая и властная, сказала:
— Мы едем к Макрону, пора тебе сблизиться с ним. — Сказала о Макроне единственно как о командире патрицианских когорт, а не как о своем муже. И добавила:
— Сегодня.
Я спросил Суллу:
— Кто же из нас бог, я или она?
— Сейчас — она, — спокойно ответил он. Противно обычному: не выяснять, я не удержался:
— Но ты же знаешь, чем она занималась в притонах… — Слишком горячо сказал, излишне.
Он ответил все так же спокойно:
— Ничем не занималась и никогда там не была. Она патрицианка.
— Проклятый Сулла! — воскликнул я в который уже раз.
— Никогда не была!
Но я-то был. До сих пор ощущаю запах. Мы отправились с Эннией на Капри. Разумеется, меня сопровождал Сулла.
Макрон оказался настоящим солдафоном. Никак по-другому определить его было нельзя. К тому же он находился под сильным влиянием своей жены, пусть и не осознавая этого. Встретил он меня с тою приветливостью, какую только имел возможность выразить мышцами своего каменного лица. Сказал, что слышал обо мне, и что император и римский народ видят во мне надежду, опору и все такое прочее, и что он рад приветствовать меня подобно своему боевому соратнику. Последнее было совершенной нелепицей, потому что никаким его соратником, тем более боевым, я не был и быть не мог. Но, как видно, так он понимал свое положение военного начальника и придворного.
Тиберий же встретил меня по-настоящему ласково, сказав, что я единственный, на кого он теперь может опереться. Кажется, он даже не лгал. Выглядел он совсем! плохо: распух, дышал тяжело, не дышал, а свистел, и всякий раз, когда я разговаривал с ним и вынужден был стоять рядом, я по-настоящему, до дурноты, страдал от скверного запаха, который источало его полуразложившееся тело. Не думаю, что в молодости он обладал каким-нибудь особенным умом, но сейчас ум совершенно его покинул. Истлел вместе с телом. Макрон, который и вообще никогда не имел никакого ума, был его единственным советчиком. Для меня оказалось полезным: Макрон хвалил мои преданность и ум. Энния, по-видимому, серьезно намеревалась сделаться женой следующего императора.
Остров, где обитал император, сам по себе, возможно, и красивый остров, был тогда настоящей зловонной ямой. Так я его видел, несмотря на горы, поросшие роскошной зеленью. Не мне говорить о скопище разврата, но это было именно скопище. Продолжая этот образ, скажу, что Рим стоял не на тверди, он стоял на болоте. Разлагающаяся плоть императора заразила разложением, кажется, все вокруг. Женщины и мужчины в самом настоящем смысле сошли с ума. Они совокуплялись везде, где было можно и где было нельзя. Никакого «нельзя», впрочем, для них не существовало. Не только сами они неистово занимались этим, но демонстрировали свои занятия другим. Намеренно или нет, тут не имеет значения. Запах разврата стоял везде и пропитал все вокруг: деревья, землю, воздух. И небо над островом — после дождя, когда влага испарялась, запах был особенно жирным. Он даже заглушал зловонный запах императорского тела, хотя и не мог заглушить его окончательно.
Наверное, так все они боролись со смертью, как с чумой, окуривая себя запахом разврата. Лучшего средства тут, на острове, выдумать было нельзя. Не знаю, что сделалось с моим организмом, но, кажется, я остался единственным, кто не принимал участия в этой оргии спасения. С Эннией, правда, каждый день, но только вечером и только с ней. Поздно ночью, едва способная передвигаться, она уходила к мужу. Спал ли он в эти часы или бодрствовал и спрашивал ли о чем-либо, не знаю, но, встречаясь со мной, неизменно именовал меня своим боевым соратником. Даже принимая во внимание наши с Эннией постельные сражения, моим боевым соратником он не был.
Энния же, что в самом деле удивляло меня, прибыла сюда, казалось, только для того, чтобы каждый вечер вот так вот сражаться со мной. Она требовала, чтобы я изображал притон: должен был говорить пьяными грубыми голосами, представляя то одного, то другого, грубо браниться, грубо же, отпуская разные циничные шутки — она подсказывала мне их, и я повторял, — брать ее, в сущности, насиловать, а потом — и это тоже было обязательным — бросать ей мелкую монету. Усталости и утомления она не чувствовала. Я же был совершенно измотан. Труд восхождения к императорскому трону оказался и в самом деле по-настоящему тяжким. Я ненавидел ее. Если бы не дело, я, конечно же, задушил бы ее в одно мгновение. Жена императора. Делая ей как можно больнее, отпуская грязные замечания, я про себя усмехался над этим. Сулле я приказал наблюдать за нами и место указал, откуда все лучше всего видно и слышно. «Патрицианку» я ему простить не мог.
Больной, разлагающийся император, больные, безумные, похотливые подданные — бессмысленный, гниющий заживо мир. Я стал сомневаться в его, мире, бессмертии, и потому в собственном своем тоже. Похотью я был перенасыщен. Она по-настоящему скисла во мне и дурно пахла. Сделаться только императором не имело смысла, я и так мог делать все, что хотел. Быть богом. «Послушай, Сулла, быть богом — это значит изменить мир или просто быть почетным богом для мира?» Молчал, ничего не отвечал. Тем более что я спрашивал, а его не было рядом. «Или быть богом — это знать, как переделать мир? Но ведь боги есть, а мир только ухудшается. Не знают. Или их нет совсем. Власть дает свободу делать все, что хочешь. Нет, не все. Еще нужно притворяться хорошим и быть всеми любимым. А делать то, что хочешь, тайно или хотя бы тихо. Значит, быть богом — это позволять себе все, без притворства.
И быть чтимым и любимым независимо от поступков и образа жизни. Не управлять миром, а пугать его и быть от него свободным. Не так ли, Сулла? Дай-ка мне яду, я хочу умереть».
— Ты знаешь… — с трудом, часто дыша, со стоном выговорила Энния, и тут же: — Тебе больно, гадина?
— Тебе больно, гадина? — послушно повторил я.
— Ты знаешь, — протяжно пропела она, — мне кажется, что Тиберий… Я уже вывернул твою… наизнанку, — опять пропела она, и я послушно повторил.
— Мне кажется, что Тиберий ест слишком пряную пищу, ей не хватает горечи.
Тут она прервалась и простонала так жалобно, будто это был ее предсмертный стон. Но все же и сквозь стон сумела выговорить несколько непристойных фраз подряд, которые я тут же, и быстро, повторил. Она легла на спину, и я лег возле.
— Он так может жить сколько угодно, еда слишком здоровая. Горечи не хватает. Тебе необходимо предоставить ему эту горечь.
Она замолчала. Я ждал и уже было хотел сам сказать, но она, как с ней это и бывало всегда, вскочила внезапно, обняла мои плечи:
— Еще, еще! — И опять, громко, несколько непристойных фраз.
Я, правда, тут же повторил их, но думал о другом и, не сразу вернувшись, повторил тихо и невнятно. Больно ущипнув меня за живот, она добилась вскрика и громкого повторения. Впрочем, я уже не просто повторял, но говорил ей непристойности с настоящей злобой.
Сулла указал мне на стол: там было выложено три ряда горок из хорошо растертого серого порошка. В первом ряду горки совсем крохотные, и я насчитал их восемнадцать. Во втором побольше, и было их семь. В третьем ряду оказалась только одна горка, но самая большая.
— Вот это, — он указал на первый ряд, — в восемнадцать дней — и легкое недомогание, точно такое же, как и обычно бывает у стариков. Вот это, — рука его прошла вдоль второго ряда, — серьезная болезнь. Протекает с рвотой желчью и онемением членов, а то даже и с пятнами по всему телу. Пятна очень характерные. Вот это, — он почти коснулся пальцем большой кучки, — конец в два часа, с судорогами, рвотой и всем прочим. Очень неопрятно и зловонно.
Мне захотелось тут же заставить его съесть эту большую кучку порошка. Чтобы сжевал, не запивая водой. Но это пустое. И я довольно небрежно указал на первый ряд:
— Покажи.
Он растворил одну крохотную горку в воде. Понюхав, поднес к огню, чтобы я лучше оценил прозрачность. Я увидел. Потом он резко поднес чашу к моему лицу. Я прервал дыхание и отшатнулся.
Сулла не дал мне в руки, но оставил яд на столе, в маленьком, величиной с полпальца, кувшинчике; горлышко было залито воском. Самая большая сложность заключалась в том, чтобы ежедневно, в течение трех недель, присутствовать на трапезе императора. Я сказал Эннии, что мне хотелось бы каждый день обедать у императора.
— Зачем тебе эта скука? — спросила она, но тут же добавила: — Я скажу Макрону.
Я мог бы обойтись и без Макрона — император любил меня, но я сделал выражение лица — благодарным.
Император и в самом деле любил меня, но единственно по-своему. Если представить какое-нибудь зловонное болото живым, то что бы оно могло любить более всего? Вряд ли зеленую лужайку или запах лавра. Но любило бы такое же болото, только еще зловоннее. Вот так же вот, дурно пахнущий, водянистый, полуразвалившийся Тиберий любил меня. Я не источал дурного запаха. Но это для других. Сам же Тиберий хорошо его чувствовал. Он брал мою руку в свою, держал долго, мял ее, гладил, говорил:
— Ты, только ты мой единственный наследник. Только ты, никто другой наследовать мне не может. Римский народ еще сумеет оценить то, что я взрастил для него.
«Ехидну», — вспоминал я когда-то переданное мне слово, коим определил меня Тиберий, и скромная, и мужественная, и почтительная улыбка выявлялась на моем лице, и я еще ближе придвигался к императору, почти что с благоговением вдыхал его запах, чувствовал с радостью, что уже не отравлюсь и мне не станет дурно. Как бы ни пахла императорская власть, это единственный и неповторимый запах. Только божественный, или почти божественный, утверждаю я.
Кроме нас был еще Макрон, мой «боевой соратник». Император давно не устраивал многолюдных трапез.
— Интимный круг друзей, вот что слаще славы и вожделения, — говорил император. — Если бы я захотел спать с вами, то делал бы это, — Он говорил и смотрел на нас своими вялыми глазами, полными вязкой слизи: — Или сделаю это, когда мне захочется чуть-чуть подгорчить сладость дружбы.
Я видел, как тело Макрона напрягалось от этих слов: мой «боевой соратник» не желал разделять ложе с императором. Я же, напротив, брал его руку в свою, нежно поглаживал. Если он считал меня зловонным болотом, то я его — зеленым лугом и остролистым лавром. Я уже чувствовал лавровый венок на своей голове, его приятную мягкость и запах, доводящий до головокружения. Особенный, неповторимый запах. Ему, впрочем, может быть, только чуть не хватало горечи.
Я сколупнул ногтем воск с горлышка кувшинчика и высыпал яд в чашу императора. Император дремал, а Макрон, и это я чувствовал спиной, весь напрягся. Он видел. Я ждал. Ему теперь бы сделаться спасителем отечества: выбить чашу из моих рук, позвать солдат или самому ударить меня мечом. Я бы ударил. Вспомнил бы беспутные глаза жены и ударил. Но там, за моей спиной, было тихо. Скорее всего, он просто умер от удивления и страха. А я тронул руку императора и протянул ему чашу. Он открыл глаза, улыбнулся мне, как улыбнулась бы жаба, высунувшая голову из своего болота, взял чашу и медленно, не отрываясь, осушил ее до дна. И взгляда не отрывал от меня, будто знал, что пьет. Я тоже смотрел на него не отрываясь.
Мне почудилось, что я люблю его. Сначала почудилось, а потом сделалось явью. Самое настоящее чувство любви ощутил я в себе. Он пил яд из моих рук, а я любил его. Я не был спасителем римского народа, я не был убийцей императора, я не был богом — я стал сыном Тиберия. Не знаю, не могу объяснить: когда он, отставив чашу, взял мою руку в свои ладони, я сполз с ложа и встал на колени.
— Я люблю тебя, — сказал я ему. И увидел, как слизкая поволока исчезает из его глаз, они теплеют, делаются живыми, они смотрят на меня по-настоящему отеческим взглядом:
— И я люблю тебя, Гай.
Сказал и покачал головой. Скорбно. Я уверен, что скорбно. Я не хочу об этом думать и не хочу этого вспоминать, но он покачал головой скорбно.
— Завтра я жду тебя снова, — едва слышно проговорил он, — а теперь идите.
Я поднялся с колен, Макрон уже стоял рядом. Мы повернулись и вышли. Идущий рядом Макрон был мне ненавистен. На его глазах императору дали яд, а он промолчал. И он шел со мной плечом к плечу, будто я в самом деле был сыном императора и в самом деле любил его. Flo, впрочем, я и был сыном, и любил.
Когда Энния упомянула о «горечи», я ударил ее. И ушел к себе и велел никого не допускать и занавесить окна. Оставшись один, я ощутил, что умираю и что умер уже. Так просто я отколупнул ногтем воск с горлышка, так просто всыпал яд в чашу. Все сделалось просто и легко, и императорский венок уже ощущался на моей голове. Откуда же эта любовь и теплота в глазах: я умер и никогда теперь не воскресну. Я катался по полу и грыз свои руки до крови, как дикий зверь. Макрон, Энния, моя бабка Антония — они, а не мой отец, Германик, олицетворяли Рим. И у Германика, если покопаться внимательно, достанет и похоти, и богатства, и жестокости. Война ведь не что иное, как жестокость, какою бы доблестью, смелостью, патриотизмом ее бы ни прикрывали. Не я это придумал — величие Рима стояло на этом. На разврате, похоти, на стремлении к власти. На самом изощренном умении пользоваться ею. Все эти благородные устремления, так воспеваемые нашими поэтами, есть устремления ради власти. А власть — это «делаю, что хочу». А чего можешь ты хотеть, добившись власти? Женщин, мальчиков, вина. И опять: женщин, мальчиков…
Да, я бог или думаю, что бог. Но я бог не воплощенный, только и единственно сам в себе. Власть императора. И следующая — власть бога. Без этой последней ступени, императорской власти, мне не обойтись. Ногтем отколупнуть воск с горлышка. Всего лишь несколько раз, и я император. Но любовь… Кто же мог знать, что и во мне тоже живет эта зараза? Противная императорскому трону, императорской власти, противная Риму. Я сам разрушусь от любви, и никогда не быть мне ни императором, ни богом.
Я думал, что никогда не успокоюсь — любовь изъест меня изнутри и на мое мертвое тело страшно будет смотреть.
Поздно ночью Энния сама явилась ко мне.
— Я не сержусь на тебя, — сказала она, — сделать первый шаг всегда трудно. Но ты сделал его.
Она увидела кровь на моих руках и стала целовать их. Не из сострадания ко мне, но возбуждаясь видом крови. И я вдруг почувствовал возбуждение: ту самую, в чистом виде похоть, которую в последнее время уже перестал ощущать. Мелькнуло в голове: «Еще не умер». Мелькнуло и прошло. Я набросился на Эннию.
Я кричал, я почти что рвал ее тело. Самые мерзкие, самые циничные ругательства изрыгал мой рот. Сам не знаю, почему я не растерзал ее. Когда мы обессиленные лежали рядом, я чувствовал, как мелко дрожит ее рука. Впервые за все время таких наших сражений Энния сделалась по-настоящему поверженным воином. Случись здесь поэт, он бы, конечно, высокопарно воспел ее крайнюю благородную усталость. От любви.
— Гай, мне никогда не было так хорошо, — едва слышно прошептала она.
Я промолчал, не хватило сил ответить. Во мне уже не было ненависти к ней. Как, впрочем, и желания. Но я чувствовал, как опустошенный сосуд моего вожделения пусть по капле, но непрерывно наполняется снова. Этим сосудом был я сам.
Я ходил к императору каждый день. И каждый день уже привычным движением сколупывал воск с горлышка кувшина. Тиберий пил яд, поданный мной как лекарство, прописанное врачом: медленно, с пониманием, до дна. То, что проявилось во мне тогда, в первый раз, к Тиберию, больше не проявлялось. Когда он брал мою руку в свои ладони или обнимал меня, мне делалось так плохо, так хотелось отбросить его и уйти, что я едва сдерживался.
А он все не умирал. Говорил о своих недомоганиях, но он и прежде о них говорил так же. Вроде того, что старость тяжка, а императорская старость ничем не лучше. Однажды сказал, что было бы даже неплохо, если бы ему помогли умереть. Макрон напрягся, а я спросил, что он имеет в виду.
— Все равно что, — ответил он, — яд или меч. С ядом легче, но это если медленно и долго. И это только в том случае, если сам ничего не знаешь. А если узнаешь вдруг, пусть и в самом конце, когда захрипишь, то страшнее этого ничего нет. Меч страшнее, если только его при тебе вытаскивают из ножен. А если за спиной и умелым ударом, то ничего ни понять не успеешь, ни почувствовать.
Мне бы промолчать или, сделав страшные глаза, вскричать: «Кто посмеет покуситься на жизнь императора, отца отечества?» Но я не сделал ни того, ни другого… Если бы в этот промежуток времени между его речью и моей Макрон хотя бы тронул меня за плечо, я бы во всем признался. Не могу объяснить, но знаю это с точностью. Но время протекло в молчании и бездействии, и я сказал императору:
— Позволь узнать, отец (я впервые назвал его отцом), ты это говоришь просто так или подозреваешь? Или знаешь? И чего бы ты хотел больше: чтобы тебя отравил или убил враг или самый близкий тебе, любящий тебя?
Император посмотрел на меня в упор, и слизь снова ушла из его глаз: они смотрели холодно, жестоко — это был взгляд императора. Не той развалины, которая только что сидела передо мной, но человека, правящего миром. Но взгляд такой продолжался всего несколько мгновений и тут же потух. А голос, когда он заговорил, был слабым и усталым. Он сказал:
— Я бы хотел жить всегда и никогда не умирать, хотя и не знаю, для чего это человеку. Я казнил бы тебя за эти слова, если бы мог. Если бы это удлинило мою здоровую жизнь. А удлинять жизнь больную не имеет смысла. И тяжело. Когда к тебе придет смерть, вспомни, что я не убил тебя. Тебе будет безразлично, от моей ли руки ты умираешь или смерть убивает тебя годы спустя, так что казнь просто откладывается. — Он сказал это и отпустил нас. Мы ушли.
Я не боялся его слов, не боялся его самого. Больше всего жалел, что не ответил: «Я бессмертен или буду бессмертен». Но хорошо, что не сказал. Не потому, что опасно, хотя и опасно тоже, а потому, что он мог нехорошо улыбнуться на мои слова. Или ответить самое страшное, что только можно было мне сказать. Ответить: «Все так предполагают».
Сулла сказал мне, что моя сестра, Друзилла, с мужем прибыли сегодня на остров. Не скажу, как это обрадовало меня. Я сделался сам не свой. Послал Суллу предупредить Друзиллу о встрече, а сам стал ходить из угла в угол по комнате, не в силах оставаться на месте. Не заметил, как вошла Энния. Когда она заговорила, меня передернуло от внезапности ее голоса. Я никогда не видел ее такой, лицо ее было гневным.
— Макрон мне все рассказал, — сказала она шепотом, но все равно как если бы кричала, — Ты, наверное, задумал погубить нас всех. Предупреждаю тебя, я не буду ждать, когда за мной придут. Я сама пойду к императору и все ему расскажу.
— Тогда мы будем висеть на соседних перекладинах, — ответил я ей.
— Это ты будешь висеть, и это тебя будут клевать птицы. — Лицо ее исказилось до болезненной гримасы, она хотела еще что-то сказать, но не смогла, опустилась на пол и вдруг заплакала. Я не ожидал от нее такого и стоял перед ней в растерянности.
Она плакала не таясь, открыто, громко, и я боялся, что услышат слуги. Я не мог переступить через нее и уйти, хотя меня, наверное, уже давно ждала Друзилла. Опять то прежнее, ненавистное — любовь, жалость — проявилось во мне. Хотел идти, но не мог. Заставлял себя уйти, но не мог заставить. Опустился на пол рядом с ней, притянул к себе ее голову. Она долго плакала; моя туника от шеи до пояса вымокла от ее слез. Я не забыл о Друзилле, но не в силах был оставить Эннию. Так просто, такой неожиданной слабостью она подавила мою волю. Я уже не мог принадлежать самому себе. Я поднял ее и отнес на постель. Он уже не плакала, но, обняв мою шею и уткнув лицо в грудь, лежала молча.
Я чувствовал нежность к ней. Я сознавал, что это проклятая, мерзкая нежность, что это болезнь. Но ни избавиться, ни хотя бы только чуть утишить ее я не мог. Так мы пролежали, наверное, полночи. Она лежала недвижно, но не спала. И я не мог уснуть. К тому же ее тело стесняло мое, и трудно было дышать. Но я не шевелился, мне было жалко ее, и я не смел. Потом она высвободила руки, стала гладить мое лицо, говорить какие-то ласковые — я ни одно не расслышал внятно — незнакомые мне слова, трогать губами мои губы, руки. Я почувствовал желание, но нежность и жалость не уходили. И когда желание достигло вершины, я слился с ней. А она со мной. Не взял ее, но именно слился. Я утверждаю и настаиваю на этом.
Когда это закончилось, я был так расслаблен, как никогда раньше. Мне ничего не хотелось, только лежать рядом с ней, чувствовать ее голову у себя на груди, и все, больше я ничего не желал. О нежности как о болезни я уже не думал. Я не видел ее лица в темноте, но знал, что это уже другая Энния, и даже не Энния вовсе. Я не видел ее лица, и оно было прекрасно.
Утром мне сделалось тревожно. Чем больше высветлялось окно, тем более тревожно мне делалось. Когда тревога достигла своей вершины, я резко поднялся на постели: оглянулся на Эннию, она открыла глаза. Не было никакой другой Эннии, а была Энния прежняя, «жена императора», яд, Макрон, притоны, крики, похожие на предсмертные, мерзкая брань, послушно повторяемая мной. Глядя на нее, я еще больше уверился, что любовь — один только обман. Мне снова захотелось ударить ее, ударить, отбросить далеко от себя, уничтожить и никогда больше не видеть. Но этого желал Гай-император, Гай-бог. Но желание не воплотилось, потому что существовал еще один Гай — Гай-царедворец. Он не был выше первых двух, но сейчас он вел за собой настоящего Гая. Так явно в себе самом я никогда не ощущал царедворца. Я отдал себя ему, и все оказалось простым и легким. Я улыбнулся Эннии. Той самой улыбкой любви. Нежно обнял ее и дотронулся губами до ее плеч. Она тоже нежно прижалась ко мне. Та ли это была Энния или другая, мне стало безразлично. Царедворец не может и не должен быть естественным, он всегда играет свою игру. Мы нежно простились с ней до вечера. Она спросила, люблю ли я ее. Я ответил:
— Очень.
Сулла сказал мне, словно бы не прошло времени с Эннией, что Друзилла ждет меня в кипарисовой роще у моря. Когда я подходил, то вспомнил, что он не объяснил где. Но я тут же увидел ее: она ждала меня именно с той стороны рощи, откуда я подходил. Я уже видел ее, но она еще не видела меня. Я остановился и смотрел на нее молча и неподвижно. Опять явно и внезапно то самое чувство, что называют любовью, и то самое чувство, что называют нежностью, возникли во мне. Если бы я хотя бы за мгновение знал, что они возникнут, я, может быть, успел бы отвернуться и бежать. Я и теперь знал, что нужно бежать, но уже не мог. Я чувствовал, что нужно бежать, но внутри меня проговорилось: «Сестра». Это «сестра» не было определением наших родственных отношений. Это было выше родственности, выше любви, выше всего того, что я только мог себе представить. Тут она повернулась в мою сторону, и наши взгляды встретились. Лишь только они коснулись друг друга, исчез Гай-император, исчез Гай-бог и не стало больше Гая-царедворца. Я чувствовал себя маленьким мальчиком, слабым и беззащитным. И единственной моей защитой, и единственным моим утешением была она, Друзилла, сестра моя. Мы бросились друг к другу я отнялись. Не было разлуки, не было ее замужества, не было тех гадостей, которые я совершил. И вообще, вокруг не было ничего: ни Тиберия, ни острова, ни Эннии, ни славы, ни власти, ни бога, а только неутолимая жалость к себе и неутоленная нежность к ней.
Я сказал, что никогда ее не покину и она всегда будет со мной. Она не отвечала, но я знал, что она ответила. Мы дошли до середины рощи и опустились на траву. Мы сидели обнявшись. Не только не желая; распустить объятия, но даже не желая просто ослабить; их. Не знаю, не могу объяснить и не хочу, но я чувствовал, что больше не могу без Друзиллы.
Мне виделся остров. Не этот, а другой — безымянный и безлюдный, о котором никто не знает, не знал и не сможет узнать никогда. Только я, она, море, деревья, животные, птицы. И нет никакого мира людей и не было никогда. Я назвал этот остров «островом любви». Всякие безумные мысли, одна за одной, рождались в моей голове. Все они были о побеге и об «острове любви».
Так мы сидели. И наступила темнота. И казалось, что солнце не взойдет больше. Нам и не нужно было солнца. Вдруг она сказала, что ей нужно идти, потому что муж станет искать ее. Я хотел сказать: «Какой муж?», но не сказал, потому что вспомнил. Луций Лонгин. Как я его ненавидел. Не его самого, с чертами его лица и телом, с особенностями его голоса и движений. Но я ненавидел мужа. Ненависть моя была слепа и яростна. Все мужья всех женщин назывались луциями лонгинами, и всех их я ненавидел.
Но это нам только кажется, что мы полностью уходим в любовь. Мир людей, на какой бы остров мы ни уплывали, все равно окружает нас. Только смерть избавляет от этого мира. Я бы примирился со смертью, если бы она не избавляла и от любви.
Я сказал Друзилле, что в самом деле ей пора идти и я провожу ее. Мы вышли из рощи. Она ушла не оборачиваясь и исчезла в темноте. Я остался один. Хотелось упасть на землю и плакать. Лежать так и никогда не подниматься.
Я не вернулся домой, мне не хотелось встречаться с Эннией. Я долго бродил по песчаному пляжу туда и обратно и думал, думал. Мир не отпускает меня и никогда не отпустит, даже если я сделаюсь императором. В большей степени не отпустит, когда я буду императором. Но когда я буду богом и когда обрету бессмертие… Мне не хотелось думать, потому что никто не обещал бессмертия для Друзиллы. Потому что мое бессмертие уже не имело смысла.
Но я заставлял себя думать: моя мысль была одновременно изворотлива и проста. Если бессмертие не имеет смысла, то смысл остается только во времени жизни. Не собственно моей, но того отрезка, который мы можем прожить вместе с Друзиллой. Кто уйдет первым, не имеет значения, потому что оставшийся жить и при жизни все равно будет мертвым. Но жизнь коротка, а отрезок жизни с любимой еще короче, потому что он только составная этой жизни. И сейчас, когда я думаю об этом, он с каждым мгновением делается все короче. Значит, чем скорее мы станем жить вместе, тем больше мы вместе проживем. Есть другие земли, но нет «острова любви» на земле. Значит, мы просто должны вырвать у мира этот остров. Власть, единственно только власть может дать мне Друзиллу. Нечего медлить, нужно получить ее как можно быстрее.
Я каждый день давал Тиберию яд, но никаких признаков приближающейся смерти не было видно. Он оказывал мне все больше внимания и говорил, что по-отцовски любит меня. Мне казалось, что он издевается надо мной. Тем более что время от времени он говорил о ноже и яде, которые могут окончить его жизнь. И еще он добавлял, что с удовольствием сам бы всыпал яд врагу. Не заставил бы выпить, но дал бы тайно, с риском, а после смерти врага с самой настоящей болью в душе плакал бы над его могилой.
— Знаешь, Гай, когда так убивают, то убийца и жертва скрепляются больше, чем мы можем себе представить. Они не могут жить друг без друга. Убийца постоянно вспоминает жертву и даже тоскует о ней. А жертва в своем подземельном царстве тоже тоскует, зовет и ждет убийцу. Так что память убийцы — это зов мертвого, который не только зовет, но и тянет его к себе, убыстряет приход смерти, их обоюдное воссоединение.
Он дотрагивался рукой до моего плеча и разражался долгим хохотом. Тело его тряслось, он начинал задыхаться, болезненный клекот вырывался из его горла. Казалось, что в каждую следующую минуту его хватит удар. Я не мог заставить себя улыбаться и оцепенело смотрел на него. Мне вдруг подумалось, что это не я, а он каждодневно подсыпает мне яд, и что еще день или два — и все мое тело пойдет красными пятнами, а горло перехватит удушье, и из меня исторгнется такой же клекот, как из Тиберия теперь. Только мой будет по-настоящему предсмертным.
Я сказал Сулле, что мне нужна большая порция яда, самого сильного, который только можно достать. Он принес мне кувшинчик, больший, чем те, что использовал я, но ненамного.
— Сколько времени, полдня? — спросил я его.
— Четверть послеобеденного сна, — ответил он и низко мне поклонился. Особенно низко и особенно подобострастно.
— Ты смеешься надо мной? — спросил я.
— Не смеюсь, — сказал он тихо. — Я кланяюсь императору.
— Убийце, — сказал я.
— Императору, — твердо повторил он.
Я не мог без Друзиллы, но я не хотел ее видеть, пока не исполню задуманное. Следующую ночь я спал с Эннией. Говорил ей ласковые слова и нежно обнимал. Я был спокоен. Не равнодушен, но как-то особенно торжественно спокоен. Мой план уже начал воплощаться. Для его воплощения спокойствие было необходимо прежде всего. Я не беспокоился, но ждал. Обнимал Эннию, говорил ей ласковые слова и ждал.
Наконец из-за двери раздался голос слуги:
— Макрон уже в доме, господин.
— Что он сказал? — тревожно спросила Энния.
— Он сказал, что Макрон с нами, — ответил я.
Она почти оттолкнула меня и села на постели. Я
знал, что она не успеет ничего сделать, и лежал спокойно. Дверь отворилась, и в сопровождении двух слуг, несших светильники, вошел Макрон. Ритмичный звук его шагов особенно четко звучал в комнате. Так, как если бы он не в спальню входил, а участвовал в триумфе[11]. Моем или Тиберия, не имело значения. Свет за его спиной растекался в пространстве, казалось, что он исходит от него самого. Лицо его было гневным. Слуги поставили светильники и вышли. Мы остались втроем. Я продолжал лежать, Макрон стоял в центре комнаты, недалеко от постели. Энния отбежала к противоположной стене, наименее освещенной. Одеться она не успела и только прикрывала наготу скомканной столой[12]. Макрон дотронулся пальцами до рукояти клинка, висевшего на поясе, но рукояти не сжал, а отвел руку. Повернул голову и посмотрел на меня. Вряд ли он представлял меня теперь своим боевым соратником. Я медленно поднялся и сел на постели. Торс мой был обнажен. Пауза была долгой, кажется, слишком долгой. Но я заговорил только тогда, когда он понял или хоть как-нибудь ощутил, что я буду говорить о другом.
— Необходимо, Макрон, — заговорил я, — завтра поставить в охране Тиберия самых надежных людей Самых надежных. Которые умрут не за государство, не за императора, но единственно за своего командира. У такого командира, как Макрон, должны быть преданные солдаты.
Я смотрел на Макрона и не видел Эннии. Но я ощущал дрожь ее тела. А лицо самого Макрона сделалось бледным. Даже в неярком пламени светильников это было хорошо заметно. Потом оно пошло красными пятнами. Так, как будто Макрон принял сильную дозу яда. Я смотрел на него и ждал, когда он схватится руками за горло и упадет навзничь. Мне совсем не нужно было, чтобы он упал, но я смотрел на него и хотел этого. Выдержав паузу, он должен был понять, что ответить ему нечем и нечего.
Я тихо проговорил:
— А теперь иди, Макрон. Завтра мы вместе обедаем: у императора. Никто не должен потревожить нас. Во всяком случае, до поздней ночи.
Он медленно повернулся и вышел, звука его шагов не было слышно. Только один раз, у самой двери, подошва шаркнула по полу, как если бы он оступился.
Я встал, подошел к Эннии, взял за плечи и отвел на постель. Плечи ее были холодны, а скомканную одежду она прижимала к груди. Ночью она не ушла от меня и утром осталась в моем доме. Смотрела на меня испуганно и настороженно.
В этот раз обед у Тиберия проходил не как обычно. Кроме нас с Макроном присутствовал еще мальчик-вольноотпущенник. Больше девичье, чем детское лицо. Когда он смотрел на императора, взгляд его был одновременно и как будто преданный, и загнанный. Я представил себе, как Тиберий ласкает его своими жирными руками, как целует своим провалившимся морщинистым ртом, а губы его холодны, дряблы и скользки. Когда я представил себе это, мне сделалось противно и совсем не жаль стало мальчика: красота его — а он действительно был красив — была осквернена прикосновениями Тиберия.
Я оставался спокоен, но ждать было нечего. Я вытащил кувшинчик с ядом и потянулся к чаше Тиберия. Мальчик хотел подвинуть ее к себе, но я оттолкнул его руку. Тиберий смотрел на меня молча, и глаза его были широко раскрыты. Я всыпал яд в чашу и налил вина. Я был спокоен, знал, что Макрон будет сидеть окаменев. Но все-таки… но все-таки же существует меч и рука, и она сама по себе может выхватить меч и ударить меня в спину. Тут и крепкой мужской руки не нужно — любой мальчик или женщина справятся с этим. Так что на спине, между лопатками, было место, которое оставалось неспокойным. Хотелось выгнуть руку и дотронуться до этого места, но невозможно казалось отвлечься и невозможно было показать даже самую малую неуверенность.
— Пей, — сказал я Тиберию и добавил: — Отец мой.
Тиберий не отвечал, молча смотрел на меня, глаза его, казалось, готовы были выкатиться из орбит. Все они трое — император, Макрон и мальчик — сидели окаменев. И я постепенно каменел. В самом физическом смысле, потому что спину я уже почти не чувствовал. Я еще ближе придвинул чашу к Тиберию и тихо сказал:
— Пей.
Мне все труднее было произносить слова и все труднее двигаться. Еще я ощущал собственную свою смерть совсем рядом. Никогда еще она так близко не подходила ко мне. Еще несколько мгновений промедления, и я уже не смогу ничего предпринять.
Тяжелым усилием я заставил себя податься назад, отвести руку за спину и дотянуться до Макрона. Я коснулся его колена, потом бедра и только с третьей попытки нащупал то, что искал: рукоять меча. Я крепко обхватил ее пальцами и потянул на себя. С первого раза меч не поддался. Я потянул еще раз и тут же почувствовал, что Макрон помог мне, подержал ножны. Меч выскользнул из ножен, и я, обведя его полукругом, направил острие в грудь императора. Я не мог выговорить ни слова и только указал глазами на чашу. Не могу сказать, сумел бы я ударить его или нет. Возможно, что на это у меня уже просто не хватило бы сил.
Но император помог мне — или скорее себе, не знаю. Когда он потянулся к чаше, рука его не дрожала. Это было странно, тем более что он тяжело и шумно дышал. Я не в силах был отвести острие меча от его груди, и он провел чашу под лезвием, стараясь не задеть его, поднял к лицу и припал губами к краю. Спазмы душили его, и он пил через силу. Больше всего я страшился того, что он уронит чашу. Не бросит, но именно уронит во время одной из спазм.
Он выпил до дна, но все не отпускал чаши и все продолжал делать глотательные движения, кадык его ходил вверх и вниз неровно и напряженно. Наконец чаша выпала из его рук и он повалился навзничь. Удобно упал, головой на подушку. Багровые пятна выступили на его лице и тут же заполнили его целиком: оно сделалось одним багровым пятном. Он уже не задыхался, он просто хрипел. Мальчик держал его вздрагивающую руку и неподвижно смотрел на его лицо. Ждали все, не один только я, но он все хрипел и хрипел, и казалось, этому не будет конца. Меч был в моих руках, и рука вдруг дрогнула и пошла вперед, чтобы поразить его грудь; пошла сама, без моего ведома, помогая мне. Я подумал: пусть сбудется его собственное предсказание о мече и яде. Но я, еще не вполне окаменев, сумел отвести руку. Пальцы разжались, и меч упал на ковер возле его ложа. Я почувствовал облегчение, мне нельзя было проливать кровь императора. Священную кровь. И невозможно было становиться настоящим убийцей.
Силы уходили из меня, и я сумел встать только на колени. И так же, на коленях, сделал несколько коротких шагов к его изголовью. Правильнее — подполз. Его лицо было совсем близко от моего лица, а его хрипение сделалось таким громким, что я почти оглох. Правда, я уже не слышал ничего вокруг. Ничего, хотя вокруг стояла полная тишина и царило всеобщее окаменение.
Все остальное я делал, уже плохо понимая, что делаю. Просто мне необходимо было защититься от его хрипа. Я выдернул подушку из-под его головы и накрыл ею лицо. И навалился всем телом. Я плохо ощущал себя, сознание мое было затуманено, и, наверное, я так мог пролежать на нем сколько угодно времени. Хрипов больше не слышалось, и Тиберия больше не было передо мной. Но не было и меня.
И тут закричал мальчик. Громко, хрипло, как если бы кричал не мальчик, а старик. В единое мгновение я избавился от оцепенения, разум мой сделался свеж, а силы вернулись в тело. Обернувшись не к мальчику, а только на его крик, я протянул руку и зажал ему рот. Его голова была столь маленькой, что я свободно удерживал ее рукой. И сдавливал, смыкал пальцы, пока не услышал слабый стон. Тогда я разжал пальцы и оттолкнул его лицо от себя.
— Макрон, — сказал я.
И Макрон ответил:
— Да.
— Распни его.
И он опять сказал:
— Да.
Он схватил его — я не видел, а слышал только звуки — и за моей спиной потащил к выходу.
Мы остались одни: я и лежавший передо мной император. Я не в силах был сдернуть подушку с его лица, но я и так хорошо видел его. Скорбное, усталое, но и величественное. На нем не было следов ни болезни, ни смерти. Он лежал — император, отец нации, повелитель и защитник римского народа. Я сидел перед ним, слезы текли по моим щекам, и я не останавливал слез. Так я просидел до самого утра, и никто не потревожил меня.
Потом я встал и вышел, солдаты у дверей вытянулись и отсалютовали мне. Подошел Макрон. Я сказал:
— Император умер, прикажи сделать все необходимое.
Он поклонился. Я постоял у колонн входа.
Совсем недалеко, справа, на возвышении, я увидел перекладину. И пошел туда. Двое солдат встали при моем приближении. Я подошел совсем близко. Ноги мальчика были на уровне моего лица. Я поднял голову, он был еще жив. И смотрел на меня. Судя по всему, он плохо видел и вряд ли мог узнать меня. Но я не выдержал его взгляда и отвел глаза. Я тронул копье рядом стоявшего солдата и сказал:
— Помоги ему умереть.
Он чего-то ждал. Я думал, что он не понял, и хотел повторить, но он ждал, чтобы я посторонился. Я отошел. Он поднял копье, приставил острие к левой стороне груди мальчика и нажал. Тут же дернул его назад, приставил к ноге и вытянулся снова. Голова мальчика упала на грудь, и глаз его теперь не было видно, А красное пятно расплывалось и показалось мне особенно ярким, слепило так, что невозможно стало на негр смотреть. Все дело было в солнце, выступившем из-за горизонта, и жар его лучей я почувствовал спиной и затылком. Он был нестерпим. И только тень колонн под сводами входа, когда я достиг ее, избавила меня…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Только оговорюсь — объяснять не имеет смысла — государственные дела меня не интересовали. Мне безразлично было и само государство, и населяющие его люди. И люди вообще. С какой стати я должен был заботиться о них и направлять их жизнь?
Власть тоже в скором времени перестала иметь смысл. Правда, терять ее было еще бессмысленнее. И потому я казнил тех, кто был угрозой власти или кого я мог только подозревать в этом.
Суллу я наградил. Он стал очень богатым человеком. Сказал ему, что теперь он мой друг и пусть он хорошо запомнит это, но все равно — и это я сказал ему тоже — больше всего мне хочется увидеть его распятым. Он почтительно поклонился на мои слова — богатый, мудрый, свободный Сулла. Мой друг.
— Когда же бессмертие? — спросил я его, — Или теперь, когда я император, бессмертие уже не имеет значения?
— Нет, Гай, — ответил он (все-таки не побоялся говорить «Гай» мне, императору). — Сейчас ты ближе к бессмертию, чем когда бы то ни было. Но сначала нужно насытиться властью, настолько ею объесться, чтобы тошнило и рвало.
— Как Тиберия? — не удержался я.
— Много сильнее и много невыносимее, — отвечал он, — когда единственное спасение — бросить власть и бежать.
— Куда?
— Куда глаза глядят. В нищету, которая не будет нищетой, в лишения, которые не будут лишениями. Или через некоторое время перестанут ими быть. Все человеческое: радости, любовь, страсти, горе, лишения — все, все перестанет быть. И страх смерти тоже, потому что он самое человеческое. И когда все это уйдет, ты будешь бессмертен.
— Значит, ты думаешь, что меня свергнут и я вынужден буду бежать?
— Нет, ты уйдешь сам.
Я не верил тому, о чем говорил Сулла. Кроме того, мне не нравилось такое бессмертие, очень уж оно было непривлекательным. Не обращать внимания на власть и быть бессмертным властителем выглядело все-таки привлекательнее. Хорошо было бы казнить Суллу и забыть обо всем. О нем самом и о его непривлекательном бессмертии. Было бы правильнее и лучше всего, но я не мог. Я не хотел обманываться его ложью, но и не мог жить без нее. Другой у меня не было.
Я посылал Суллу с различными важными поручениями, чем дальше, тем лучше, надеясь, что его убьют по дороге или он заболеет и умрет. Надеялся и боялся одновременно.
Как я любил Друзиллу! Со дня смерти Тиберия — а не моего императорства — я не отпускал ее от себя. Теперь я не боялся любви. Я ей прямо говорил: «Люблю», и радовался тому, что говорил, больше ее. Она тоже радовалась, обнимала меня крепко и целовала нежно. Мне совсем не хотелось делать с ней то, что я делал с Эннией и другими женщинами. Удовлетворение страсти перестало быть необходимостью. Зато необходимо было постоянно ощущать тепло ее тела — особенное, необходимое мне тепло.
Кто бы видел, каким я бывал с ней: тихий, ласковый, нежный. И одинокий. Я не мог понять, почему чувство одиночества проявляется во мне с такой силой именно тогда, когда я с ней. Никто не был мне нужен, кроме нее. И весь мир людей, и все, что окружает людей. Но почему-то среди людей я так остро не чувствовал одиночества. А с ней чувствовал иногда так сильно, что делалось невыносимо и хотелось бежать.
Но все равно, я любил. Любовь — постоянная необходимость теплоты другого тела, даже не самого тела, но теплоты только. Чего-то такого, что и телесно и нетелесно одновременно. Мне всегда казалось, что теплота у всех одинаковая — и не имеет значения. Но то, что я ощущал в Друзилле, была особенность теплоты. Особенность и не могла быть телесной.
Ладно, об этом обо всем я, конечно, много позже размышлял — много, много позже. А тогда не думал, а только ощущал. Даже ощущение одиночества опускаю — оно не в счет. Тут другое: что мне было нужно от Друзиллы, кроме теплоты? Оказывалось, ничего. Я уходил от нее, и она переставала быть. Ее черты, слова, движения — вся та сумма, что называлась Друзиллой. И тело тоже уходило. Оставалась только необходимость тепла.
Какая-то была во всем этом недостаточность: я не мог проникнуть в Друзиллу и что-то такое понять. Что? — я не могу сказать, не знаю. А необходимость в тепле… Что-то здесь все-таки было унизительное. Не говорю — как животное к животному в норе, но все же.
Такая недостаточность время от времени настолько превышала ту черту, после которой мое терпение и воля переставали иметь смысл и не могли помочь мне, что я отталкивал Друзиллу и бежал от нее. Грубо отталкивал и бежал почти в гневе.
Да, был нежен и ласков. Кто меня таким видел? Но ведь был. И отталкивал, и бежал в гневе. В это поверят с радостью. Глупцы! Ненависть ко мне ослепляет вас, и вы видите лишь то, что хотите. Вам бросаю пояснение — не для прозрения, а единственно из злорадства: да, отталкивал и бежал в гневе, но ведь не бил и не терзал и не издевался. Себя отталкивал и от себя же бежал. И от себя отрывал необходимое для жизни тепло.
Тут, может быть, виною достигнутая мною власть, мое императорство. Ведь я теперь был выше всех. Намного выше, недосягаемо. Правда, Тиберий — вижу его мерзкую усмешку — мог бы сказать: да, недосягаемо, только не для яда и кинжала. Соглашусь, убить меня можно, но ведь я говорю о недосягаемости, пока я император и пока я жив.
Теперь я стоял так высоко, что все, кто окружал меня, потеряли свое лицо и свой облик, сделались единственно только подданными. Да и не окружали меня, а остались где-то внизу. Они сделались какими-то тенями. Может быть, тенями самих себя. Они, наверное, были тенями и раньше, еще до моего императорства, но тогда я еще видел их людьми. Теперь они стали для меня тем, чем были всегда — тенями. И это обстоятельство не требовало особых доказательств: достаточно было провести рукой по толпе или по сенаторам, стоявшим в две шеренги (так я велел стоять), когда я поднимался на Капитолий[13], — рука свободно проходила сквозь них, как если бы летела в пустом пространстве. Только Друзилла, когда я обнимал ее, была плотью. Не знаю, что с нею было, когда не обнимал. Возможно, она становилась такою же тенью, как и все. Но я не хотел ни думать об этом, ни испытывать этого.
Порой мне хотелось просто растерзать Друзиллу, кажется, только для того, чтобы посмотреть, что у нее внутри. И убедиться, что там то же, что и у всех, то есть — ничего. И значит, то, что я называл любовью, — любовь к ничему. Лживое, ложное чувство, уводящее меня от божественного к человеческому. И в конечном счете — к смерти. Все как у всех, и я как все. И власть — лишь более приятный, чем другие, способ времяпрепровождения жизни: этого бессмысленного, ложного и ничтожного отрезка. Отрезка чего? Да ничего.
Энния в первое время не хотела отпускать меня от себя. Боялась, что ускользну. Справедливо боялась. Сначала я не отталкивал ее, не пугал — всему свое время. Тут я отбрасываю всякие тактические уловки. Просто я еще не вполне осознал себя императором, а всех остальных хоть и презирал, но еще не видел тенями. Я даже приходил к ней и оставался у нее. И Макрон, мой боевой соратник, когда ему нужно было доложить о событиях минувшего дня, бывало, ждал меня у дверей собственной спальни. Лицо его было, когда я выходил, более чем почтительным. Я говорил ему:
— Ты знаешь, сегодня Энния всхлипывала не так громко, хотя стонала протяжнее, чем всегда. Кому-нибудь такой стон понравится больше, но мне милее всхлипы. Громкие, чтобы сводило уши. Тебе самому, мой Макрон, что нравится больше?
— Что будет угодно императору, — отвечал он.
— Мне угодно, чтобы ты ответил, — настаивал я и даже суживал сердито глаза. Он, конечно, пожимал плечами, склонялся еще ниже, но я не отставал.
— Мне противны женщины, — наконец выдавливал он.
— Это странно, мой Макрон, и может ли так быть, чтобы женщина, с которой спит император и под которым она так неистово кричит, может быть тебе противна? Это граничит с изменой.
Он ничего не отвечал, а я больше не спрашивал.
Энния упрекала меня, зачем я мучаю Макрона, потому что все равно он помог нам (она говорила «нам», а не «тебе», но я делал вид, что не замечаю разницы; наверное, она думала, что не вижу). И как бы там ни было, продолжала она, он опора твоей власти. Хороша опора: не вытянул меч и не ударил меня ни сначала, когда я заставил Тиберия выпить яд, ни потом, когда душил его подушкой. Тогда он тоже был опорой власти. Опора, которая не поддерживает, а стоит в стороне, и я должен быть благодарен ей за то, что она не «залилась и не придавила меня. Положим, хорошо, что устояла, но лучше убрать такую опору куда-нибудь подальше.
Но ей я ничего такого не сказал. Сказал другое: что не могу простить Макрону, что он спал с ней, и не могу смириться. Она осталась довольна. А я и сам точно не знаю, зачем я все это говорил Макрону. Может быть, для того, чтобы он поскорее стал тенью. Что до Эннии, то она меня никогда особенно не возбуждала, а теперь, когда тепло Друзиллы сделалось для меня столь необходимым, Энния, несмотря на свои усердные стенания и крики, была… Нет, не холодна, но ее просто не было со мной как любовницы. Спать с ней стало — все равно что спать с самим собой. Вряд ли столь уж необходимое для императора занятие.
Я знал — не только чувствовал, но знал, — что дни их, Эннии и Макрона, сочтены. И не в том дело, что убийцы (а ведь они оба были убийцами) не могут быть друзьями. Ни друзьями, ни соратниками; только у таких же убийц. Дело в том, что я просто не хотел смотреть на них. Не хотел их видеть, и больше ничего. Но вынужден был смотреть и видеть их, как бы далеко они ни были, как бы далеко я ни услал их. Я обречен видеть их, по крайней мере, пока они живы, потому что они видят меня тем самым Гаем, подобным многим, подобным всем остальным, подобным им самим. Они и тогда достойны смерти, если будут видеть меня только и единственно императором. Все равно для них я стал императором, а не был им всегда. Никогда не рождался, а все время был. Мне уже невыносимо было быть ставшим императором. Впрочем, видевших меня другим было не так мало. Некоторых боги, правда, благоразумно отправили в подземное царство. Но остальных оставили мне — как равному с ними.
* * *
Моя бабка Антония просила свидания со мной наедине. Макрон доложил мне об этом. Я спросил:
— Кто она такая?
Он отвечал, что моя бабка, мать моего отца, Германика.
— Германика? — удивился я (вот тогда же я почувствовал в себе явственные признаки неподдельного удивления). — Но разве он был моим отцом?
Макрон, по своему обыкновению, не знал, что отвечать, и, конечно же, стоял, почтительно опустив глаза. Я отпустил его едва заметным движением руки.
Но Антония, как я и предполагал, была настойчивой. Макрон, правда, теперь боялся докладывать мне о ней. А я ждал, и это было приятным для меня занятием в течение нескольких дней. Наконец случайно — думаю, что все же случайно, — ее прошение оказалось на моем столе. Она просила все того же — свидания наедине.
— Ты видел ее? — спросил я у Макрона.
И когда он ответил: «Да», спросил:
— И как ты ее находишь? Кажется, она уже старая? — Руками я совершил в воздухе округлые движения, чтобы он лучше понял, о чем я спрашиваю.
Он нерешительно взглянул на меня, но на этот раз попытался ответить:
— Она еще вполне красивая женщина.
Ну да, конечно, при всех колебаниях ситуации все же было благоразумнее всего назвать бабку императора красивой.
Я сказал.
— Если так, это меняет дело. Если так настойчиво требует свидания наедине, то при красоте ее настойчивость имеет свой смысл.
Макрон посмотрел на меня недоверчиво, но я не шутил: ни перед ним, ни перед собой. Уверен, я не имел плана, но желание возникло само собой, внезапно.
То, что она моя бабка, было во мне. Не совсем слабым чувством. Или почти и не чувством, а лишь воспоминанием о нем; не так, как когда-то, когда она считалась моей бабкой. Впрочем, я подумал о ней как о родственнице только тогда, когда боль унижения отразилась на ее лице: я не принял ее, как она просила, — рядом стоял Макрон. Но не просто посторонний, а префект Макрон, лицо официальное. То, о чем она собиралась говорить со мной, не могло быть высказано. И конечно же, она не решилась бы попросить Макрона удалиться.
Я не узнал ее, мне показалось, что я вижу ее впервые. Не знаю, говорил ли Макрон правду, но я и без него видел, что она красива. Я почувствовал, как вожделение поднимается во мне. Это принесло мне радость, потому что вожделения, что называется, в чистом виде я не чувствовал давно. Друзилла — это другое. А так — нет, не чувствовал, а всегда заставлял себя.
Антония молчала и смотрела на меня, не отводя глаз. Как будто только для того пришла, чтобы стоять, молчать, смотреть. И для этого только так упорно добивалась встречи со мной.
— Чего ты хочешь от меня, женщина? — спросил я.
Но она продолжала молчать. Ее грудь, ноги, ее увядшее лицо — нет, тут было что-то другое, большее, чем просто женщина, и вожделение было направлено на это другое.
Я велел Макрону поднести светильник, подошел к Антонии, взял ее руку в свою и повел. В комнату, где больше половины площади занимало мягкое упругое ложе; окна по моему приказу были там заложены камнем и занавешены тяжелыми шторами кроваво-красного цвета, и стояло там множество светильников. Им предназначалось гореть всегда, и специально назначенные Макроном люди — сам я их никогда не видел, потому что никому не дозволялось входить сюда, — следили за этим.
Я подвел ее к краю ложа, развязал пояс и тут же раздел ее всю. Макрон стоял за моей спиной и высоко над головой держал светильник. Я только раз, мельком, взглянул на него: рука была напряжена, а пламя светильника дрожало.
Не могу сказать, как она была хороша. Не могу вспомнить ее изъянов. Она вся была изъян. Ее тело не было старым, оно было другим. И хотя она стояла передо мной обнаженная и вожделения во мне было, кажется, больше, чем я мог выдержать, я не смотрел на ее тело, а смотрел в ее глаза так же неотрывно, как и она смотрела в мои. Не красота и не страсть, а что-то сильнее красоты и страсти было в них.
Хочется сказать, что это было бессмертие. Так хочется, что я уже говорю это. Но не бессмертие это было, а жизнь, похожая на бессмертие. Вся ее жизнь, вся ее красота, все ее вожделение, страсть… и все остальное, что я не могу назвать, все, что она видела, все, что понимала, и все, что не успела понять…
Тело уже не имело значения, а все было в глазах. Не в самих глазах, а в том, что они отражали. Если бы в глазах, то я стал бы их целовать, раздвинул бы веки губами и провел бы кончиком языка по глазному яблоку. Но это тоже было тело, а в теле не было ничего.
Я трогал ладонями ее плечи, грудь, живот. Я делал это по привычке и еще потому, что вожделение мое желало этого. Но я не смог. Я страшился ее тела, как яда. Не могу точно объяснить, но я боялся заразиться смертью. Бессмертие было в ней, в Антонии, но как-то по-другому. А тело было готово к смерти.
Не знаю, может быть, я тогда только чувствовал, но не понимал. Но — побоялся и не смог.
— Возьми ее, — сказал я Макрону.
— Да, император, — отозвался он, но, конечно, не понял.
Я надавил на плечи Антонии, и она села. Я легко оттолкнул ее плечи от себя, и она легла. Лежала на самом краю, вытянув руки вдоль тела. Руке у края ложа не было места, и она прижимала ее к себе, подоткнув пальцы под бедро.
— Возьми ее, Макрон. — Я наконец обернулся к нему. — Раздевайся.
Он не опустил руку со светильником, но другой рукой стал отстегивать пояс и никак не мог отстегнуть. Я ждал. Наконец он справился, но с такой силой дернул ремень, что он выскользнул из пальцев и упал на пол. Между мной и им. С металлическим лязгом, потому что короткий меч был тяжел. Я отбросил его ногой в сторону. От резкости моего движения Макрон едва не выронил светильник. Я успел подхватить его. Поднял над головой и держал в вытянутой руке неподвижно.
Ему было стыдно. Он стоял боком ко мне, смотрел в пол, но изгиб его тела был почтительным, ведь он стоял перед императором. Продлевать его стыд было мне приятно, но нетерпение торопило меня, и я крикнул:
— Ложись!
Прозвучало как боевая команда, и мне показалось, что он бросится на пол, исполняя ее. Но трудно было упасть, не задев меня или край ложа. И он, уже дернувшись, понял это. И упал на Антонию. Впрочем, придерживаясь руками, чтобы не раздавить ее.
Спина его была покрыта веснушками и поросла рыжими волосами, прямыми и жесткими, как щетина. Я подумал, что если неосторожно тронуть спину, то можно уколоть руку до крови. И еще: когда тело истлеет, то волосы еще очень долго, может быть бесконечно, будут оставаться все такими же прямыми и жесткими. Дальше я должен был бы поразмышлять о бессмертии, но ни место, ни время, ни его ерзающая вперед и назад спина не располагали к долгим и серьезным размышлениям.
Мне даже сделалось досадно, что он так просто и откровенно ерзал передо мной и так быстро исполнил то, что я приказал. Он работал, как какая-нибудь стенобитная машина. Мне хотелось крикнуть, заставить его прекратить, и я едва не крикнул. Но тут произошли крик и движение — и мой крик сначала застрял в горле, а потом исчез совсем.
Кричала Антония — не от страсти, боли или насилия, но от всего разом: и от первого, и от второго, и от насилия тоже. А движение — одновременно с криком — было содроганием ее стопы. Не дрожанием просто, не подрагиванием, но именно содроганием, будто что-то внутри билось, как в клетке, стремясь вырваться наружу. Что? — я не в силах определить, но мне и сейчас кажется, что и крик вырвался не из горла Антонии, но оттуда.
Я пригнул колени и ухватился за ее стопу, не опуская светильника, который я продолжал держать высоко над головой; рука, державшая его, окаменела. Внутри стопы билось, и сама она содрогалась, и рука моя, будто заразившись от стопы, содрогалась тоже, то есть от собственного моего внутреннего биения. Я силился разжать пальцы, но не мог. Ерзающей спины Макрона я уже не видел, но только обонял и слышал, как он старался: тяжелый запах и частое, с присвистом, дыхание. Я понял, что умру, и смерть оказалась страшнее, чем я мог себе представить. Я хотел закричать, но только широко раскрыл рот. Так широко, что что-то хрустнуло в челюстях и как будто замкнуло: рот остался открытым. Но не это было страшнее всего, а то, что он, уже сам по себе, открывался все шире и шире, и я уже ощущал, даже сквозь невыносимую боль, как он выворачивает меня наизнанку, внутренностями наружу.
Тут опять закричала Антония, нога ее дернулась коротким и сильным движением, все тело мое содрогнулось, и что-то раскаленное обожгло плечо и руку, и я упал на спину. Но прежде чем мои лопатки коснулись пола, сознание покинуло меня.
Болел я долго, более сорока дней. Рука моя и плечо были обожжены маслом светильника. Кроме того, упав, я сильно ударился об пол затылком и в течение нескольких дней не мог говорить и плохо видел. Кожа от ожогов вздулась, и боль невозможно было перенести. Я мог погибнуть просто от боли в любое мгновение. Не понимаю, почему Макрон не помог мне умереть.
Но закончить дни так мне было не суждено. Язвы заживали быстрее, чем предполагали лечившие меня. Кроме Друзиллы и врачей, я не допускал к себе никого. Но Друзиллу не отпускал ни на минуту: и когда засыпал, и даже когда терял сознание, держал ее руку в своей; потом я видел на ее руке синие полосы от моих пальцев.
Народ скорбел о моей болезни. Толпы людей собирались под моим окном. Как мне говорили, были такие, которые давали письменные клятвы биться насмерть за мое выздоровление или отдать за меня жизнь. Ничего удивительного в этом не было: разве не эти толпы ворвались в сенат и заставили заседавших там объявить меня императором? Теперь они скорбели о болезни и страшились моей смерти. Лучше бы им страшиться моего выздоровления. Мне было приятно видеть эти толпы у моего окна — многие оставались тут и ночью, — но кто бы знал, как я презирал их всех. Глупое стадо. Да разве большой почет — быть вашим погонщиком?
Я не мог без содрогания вспоминать Антонию — отпечаток ее стопы на моей ладони, кажется, уже невозможно было стереть ничем. Я прятал это место даже от Друзиллы. Кожа на ладони тоже казалась как будто обожженной (говорю теми словами, которыми могу, хотя это и нечто другое), и время от времени, когда я касался чего-либо, то ощущал боль, словно кожи не было совсем.
Народ под окнами надоел мне — к тому же стоял постоянный гул и тяжелые запахи. Но я не решился дать приказ разгонять их, а попросил передать им, что император вполне ценит их преданность, самоотверженность и любовь, но течению его болезни вреден шум. Лучше всего было бы уничтожить их в уме, а потом подойти к окну и увидеть, что они уничтожены наяву. Я так и делал, и не один раз, и так уничтожил большие толпы. Только к окну не подходил.
Вообще, за время болезни желание уничтожать проснулось и выросло во мне с новой силой. Мне уже не хотелось быть выше всех, властителем над всеми, но хотелось быть одному. Не одному, отдельно от всех, но одному, уничтожив всех.
«А Друзилла?» — думал я. Порой мне хотелось уничтожить и ее, но как бы я мог обходиться без тепла ее тела?
Любовь народа унижала меня. Его любовь была корыстной: он хотел, чтобы я, называясь его господином, служил бы ему, как раб.
Я велел Сулле сделать так, чтобы Антонии давали яд. Через две недели она умерла. Я приказал зажечь погребальный костер перед окнами пиршественного зала и смотрел, сидя с кубком в руке, как дым поднимается к небу. Он то тянулся столбом, то извивался под порывами ветра, повторяя очертания тела Антонии: грудь, стопа, овал плеча. Стопа уже не содрогалась, ничто не билось внутри ее, она была пуста и прозрачна. Хотелось протянуть руку и попытаться ухватить ее, и ощутить, как дым рассеивается под рукой, а пальцы сжимают пустое пространство. Я бы и протянул руку — Ничего я не боялся, — но она была занята кубком, а тот был полон до краев, а я пьян и нетверд в движениях, и, опуская кубок, я обязательно бы пролил вино. И я медленно поднес кубок к губам, и медленно выпил веселящую влагу, и неотрывно смотрел на дым, уже затянувший полнеба и готовый затянуть его всё.
И мои друзья — те же презренные люди толпы — тоже пили вино и шумели, и равнодушно смотрели на дым, не видя в нем ничего, кроме дыма, будто не часть моей собственной плоти поднималась к небу, а просто для продолжения и полноты пиршества зажаривали на огне быка или барашка.
И тут на одно мгновение ветер задул в нашу сторону, не просто порывом, но единым мощным дуновением. Так могло сделаться только по желанию богов. Нас всех обсыпало пеплом. Я уронил кубок и попытался стряхнуть с себя пепел, но только размазывал его по лицу и рукам — такой он был жирный. Одежда и лица сидевших за столом сделались грязно-серыми, а некоторые размахивали руками в воздухе, как слепые. Другие терли глаза и кричали от боли. Я обернулся к Друзилле: она сидела неподвижно и прямо, и только ее лицо и одежда были чистыми, потому что пепел, падавший на нее, был сух и похож на осенние листья, они скользили по плечам, рукам, одежде и ложились вокруг нее полукругом. Она очнулась под моим взглядом, встала, взяла мою руку и вывела меня из зала. Когда мы вышли, остановилась, повернулась ко мне и легкими движениями стала стряхивать с меня пепел. И то, что было жирным и размазывалось по рукам и лицу, вдруг стало скользить вниз легкими хлопьями и падать к моим ногам и легло вокруг меня полукругом. Мои друзья кричали и топали в зале, и я подумал, что теперь никому из них не остаться в живых, и если я не приказал страже убить их тотчас же, то только потому, что пепел красиво лежал полукругом у моих ног, и я смотрел на него затаив дыхание и боялся его потревожить.
Мы тихо ушли. Я был так слаб, что едва сумел добраться до своей спальни и лечь. Друзилла гладила меня осторожными движениями и прикасалась ко мне губами. Но я не чувствовал ничего — или так слабо, что все равно как если бы не чувствовал совсем, — ни тепла, ни тела, ни прикосновения ее губ: все мне было безразлично и ничего не было нужно. Я даже не понимал, что же такое произошло: какой-то нелепый костер перед окнами (кто приказал? с какой целью?), жирные полосы на теле, легкие хлопья, полукруг… И эта женщина, прикасающаяся ко мне губами (кто впустил? кто позволил?).
Потом в меня вселилось безумие: никак по-другому я назвать это не могу — мне просто хотелось уничтожать людей. Всех, кто чтил во мне императора, кто любил, кто не чтил и кто ненавидел. Просто всех.
Оказывается, я был просто человеком. Просто, просто, просто человеком. Какой-то бессмысленный пепел какой-то сожженной женщины, пусть и моей бабки, мог ввергнуть меня в состояние, когда мне сделалось всё все равно и жить не хотелось… Нет, было все равно, жить или не жить, и все равно, что было вчера и будет завтра. Боги правили мной, не богом, не равным им, но как человеком, рабом. Я был такой же раб богов, так же любой римский гражданин правил своим рабом.
Проклятый Сулла. Я сказал ему:
— Значит, я не бог, а такой же смертный и бесправный, как и ты, как и все.
— Нет, — отвечал он, — но ты сам должен знать это, а не искать подтверждения. Лишь только ты перестанешь искать его, как тут же осознаешь это.
Он был прав. Проклятый и ненавистный Сулла был прав, потому больше всего мне нужно было, чтобы верил он. А ведь он не верил. Я бы уничтожил его, вот сейчас же, в любое следующее мгновение, но разве я сам поверил бы, если бы его не стало на свете.
До этого разговора я обезумел или после, но, во всяком случае, после него безумие мое сделалось отчаянным.
Пиры следовали за пирами, без отдыха, так, что длился один беспрерывный пир. И жизнь моя сделалась пиром. Если бы не вино, то… Ведь меч всегда поблизости, а у Суллы всегда найдется кувшинчик с хорошим ядом. Но люди… Тут нечего было раздумывать: палач всегда в наличии, тем более если страшится стать жертвой.
Смерть, оказывается, была совсем не страшна, пусть и не собственная твоя, а чужая. Во время пира за моей спиной стоял человек. Я знал о нем только то, что зовут его Клувий и что свое ремесло он знает лучше других. О боги, сколько людей на свете виноваты перед императором и сколько достойных смерти! Впрочем, недостойных смерти, наверное, и нет на земле. Разве что Друзилла.
Я не любил суды. Вся эта говорильня не имеет смысла, когда я хочу, чтобы Клувий поработал мечом. Вот этот, толстый, почему-то никогда не клялся моим гением. А при виде Клувия любой поклянется чем угодно. Что слова! Лживее слов я ничего не знаю. И вот голова его отсекалась от тела и откатывалась в сторону, а тело сначала вздрагивало, а потом замирало. И все. Если даже толстяк и клялся моим гением, то и это не имело значения, потому что — «и всё».
Сколько их закончило жизнь передо мной — толстых, худых, немощных и здоровых! Мне казалось, что Клувий мог вообще поочередно перебить всех римских граждан. Больше одного удара он никогда не делал, все равно, тонка была шея, как тростинка, или мощна, как столб. И еще: ни одна капля крови не запятнала моих одежд, хотя он делал свое дело у самых моих ног и кровь брызгала в разные стороны.
Я всегда ставил Клувия у себя за спиной, с правой стороны, чтобы ему при случае было удобно. Ведь он был левша. И когда я ему делал знак покончить с кем-то, всякий раз моя шея напрягалась, ожидая удара. И расслаблялась, как только удар приходился не по ней. Лучшего наслаждения, чем это напряжение и расслабление шеи, кажется, невозможно было придумать.
Мне казалось, что наступление смерти у моих ног никогда мне не наскучит. В постоянстве интереса я тоже ощущал бессмертие. Но некоторое время спустя я стал приказывать Клувию совершать разные удары: под сердце или просто сверху мечом по голове. Он, правда, и это совершал с безупречным мастерством, но все-таки что-то уже было не то, и я ощущал уже какую-то притупленность интереса. Способы смерти могли быть разными — и я перепробовал разные, — но сама она выглядела уж очень однообразно.
Друзилле не нравилось то, что я делал, хотя она всегда сидела рядом и ни разу не ушла. Думаю, не посмела. Как бы я ни любил и как бы ее тело ни было мне необходимо, все равно она находилась в моей власти, то есть в императорской. Все были в этой власти, и Друзилла не стала исключением. Сам я не хотел такой власти над нею: пусть все будут, а она — нет. Пусть останется только власть любви, власть тела, пусть я не посмею делать то, что ей не нравится, а она посмеет сказать, когда что-то не нравится ей. Так я желал бы, но изменить ничего не мог. Если мне, императору, необходимо было видеть смерть, то как я мог отказаться от своего желания; а если бы она посмела уйти, то, значит, это либо каприз, либо бунт.
Я ничего не мог изменить, потому что не мог изменить себя: «хочу» и «могу» не просто стояли рядом, но были одним и тем же понятием. Выходило, что измениться можно было, только если не «хотеть». Чего-то не хотеть, но я не знал чего. Не знал, пожалуй, что нужно хотеть. Хотеть прекратить пиры или не хотеть сидеть на них. Не хотеть видеть смерть или хотеть ее не видеть. Я в самом деле не мог понять, намеренно ли я путаю понятия или они сами так хитро и лукаво путаются. Хотеть, не хотеть. А как возможно было не хотеть, когда все было можно? Не хотеть ничего — значит лишиться страстей, но что останется и с чем я останусь, если лишусь их? Да и разве смогу лишиться? Даже боги…
Даже боги живут страстями. Кажется, единственно этим и живут. Только страсть богов вечна, как и они сами, и в этом смысл. Бессмертие и вечность и есть смысл. Другого смысла, кроме бессмертия, быть не может, потому что нет конечного смысла, но смысл бесконечен и вечен. Я хочу видеть смерть, потому что хочу. Бог не спрашивает себя, почему он хочет, — он бог.
Когда Клувий выходил из-за моей спины, Друзилла закрывала глаза и не открывала их до тех пор, пока слуги не утаскивали тело и не убирали кровь.
Однажды, лаская Друзиллу, я взял ее шею обеими руками.
— Какая удобная шейка для моего верного Клувия, — сказал я.
Она не ответила. Я не знал, зачем я это сказал. Было темно, и я не видел ее глаз. Но тогда же я подумал, что, может быть, скорее умру от яда, чем от меча Клувия.
Утром она улыбнулась мне жалкой улыбкой. Впервые так. Клувий тоже похоже смотрел на меня. Неужели и Клувий, и она по отношению ко мне стояли на одной ступени? Страх, жалкая улыбка, страх, отчаяние, яд и меч. Или не яд и не меч, но снова жалкая улыбка?
Отчего я все медлил и не убивал Макрона? Ведь я знал, что он хочет моей смерти больше всего на свете. И его преторианцы, во всяком случае многие из них, хотят того же. А у меня не было своей гвардии, да и просто людей, на которых я мог положиться в крайнюю минуту. Не буду говорить, что я был беспечен, не буду говорить, что слишком надеялся на силу своего духа. Или что я уже почитал себя богом настолько, что, конечно, не мне бояться людей. К тому же я осознавал, что почитать себя богом насколько-то нельзя: если даже чуть-чуть только не хватает до бога, то ты уже не бог.
Хотя не это все было причиной моего промедления, но то, что Макрон всегда стоял за спиной, как Клувий, и эта игра со смертью, представляющаяся бессмертием… пусть и просто игра со смертью, но она доставляла мне особое удовольствие. Я не хотел умирать и боялся смерти, но ведь и невозможно мне было думать, что я просто император, император-человек и какие-то вбежавшие в мою комнату солдаты, которых я, может быть, не знаю в лицо — ничтожный Макрон или мерзкий Клувий, — способны лишить меня бессмертия. Разве можно лишить или лишиться бессмертия так же, как лишить или лишиться жизни?
День их смерти — Эннии и Макрона — настал тогда, когда я захотел этого. Энния прислала сказать, что ей необходимо меня видеть, она еще полагала, что я хоть на сколько-то принадлежу ей. Может быть, она хотела показать мне расписку и потребовать, чтобы я сделал ее женой императора. Не думаю. Впрочем, какая разница.
Да, утром я встал в дурном настроении, и, значит, власть моя с утра, по крайней мере, была настроена не на веселье, а на жестокость. И если бы Энния не прислала сказать, что ей необходимо видеть меня, то они с Макроном пожили бы еще. А так — у меня было дурное настроение, и Энния сама позвала свою смерть. Боги! Я обращаюсь к вам, ведь их время настало.
Забыл, говорил ли я, что Клувий был человеком Макрона. Макрон сам сказал мне: «Предан мне так же, как моя правая рука». Если та, которая отказалась подать мне меч во время последнего обеда с Тиберием, то цена преданности равна цене произнесенного слова. Думаю, что рука Клувия была предана самому Клувию значительно больше.
Я объяснил Клувию, как ему идти за мной, как войти туда, куда войду я, и пройти… и встать за моей спиной — тихо, бесшумно, тенью. И все остальное я ему объяснил подробно. Объяснил как, но не сказал кого. Только потому, что он — рука, а руке предназначено действие, а не мысль.
…Мы вошли в ее спальню вместе с Макроном. Она лежала, когда мы вошли, и встала, когда увидела нас. В лице ее был испуг. Это удивило меня, потому что я ожидал разочарованности. Жена императора или желавшая стать женой может бояться только одного — смерти. Неужели она сейчас почувствовала ее? Мне хотелось спросить, но мы были не одни, и я сказал другое:
— Я узнал, моя Энния, что у тебя есть любовник. Я не стал бы придавать этому значения, если бы твоим мужем был другой, а не Макрон — опора императорского трона. Чтобы мне опереться на него, его личная жизнь должна быть безоблачна: ты его опора, а он моя. И, заботясь о незыблемости императорской власти, а значит, и о процветании римского народа, отец которого я, я пришел увидеть, как мой Макрон сполна получает то, что необходимо мужчине, воину и… опоре.
Последнее определение, может быть, нарушило торжественность стиля, но общее впечатление было благоприятным. Для меня самого.
Итак, — сказал я, обернувшись к Макрону, — твоя жена готова к исполнению супружеского долга, а я готов удостовериться в этом.
Так как он медлил, а Энния отступила на несколько шагов, пока стена не остановила ее, я сказал:
— Смелее, мой Макрон, смелее, моя Энния. Помните, что император подобен богу, а они все время с вами и наблюдают за каждым вашим шагом. Так забудьте же о вашем императоре, как вы забываете о богах. Женщина, исполняющая супружеский долг, всякий раз приносит жертву богам.
Я так возбудился от собственных речей, что сам был готов наброситься на Эннию. Макрон не мог быть помехой — напротив, его присутствие еще сильнее возбуждало меня. Помехой был Клувий, который по моему плану сейчас должен был стоять у дверей. Я слишком подробно объяснил ему — как, но не сказал — кого.
Если бы Макрон сказал «нет», то, может быть, я умер бы тут же от досады. Или от стыда. Или оттого, что я никакой не император и никакой не бессмертный, а просто тварь. Скорее от всего разом. Я бы упал, извивался бы на полу, источая дурной запах, и никто не захотел бы даже наступить на меня и не решился бы переступить.
Это если бы Макрон сказал «нет». А он не сказал. Макрон, мой боевой соратник, префект, опора трона и друг императора, кажется, одним движением скинул с себя одежду и решительным шагом подошел к Эннии и, взяв ее за плечи, рывком оторвал от стены. И бросил на постель. И бросился на нее. Стал сдирать с нее одежду, вырывая ее лоскутами, и пол перед ложем покрылся этими рваными, с зазубренными краями белыми пятнами. Энния молчала. Треск рвущейся одежды был ее криком.
Я почувствовал, как за моей спиной встал Клувий. Я смотрел, как ходил взад и вперед затылок Макрона, то скрывая лицо Эннии, то открывая его. Всего на одно мгновение, и даже на половину его, их шеи находились ровно друг над другом. Да, на очень малую долю мгновения, но кто же мог ожидать, что Макрон будет столь неистов.
Я сделал Клувию знак, при этом шея моя напряглась в ощущении удара. Но Клувий шагнул из-за моей спины и взмахнул мечом. Ударил не сразу, а переждал несколько мгновений. Он не попал в ритм движений головы Макрона. Ритм этот при всей видимой частоте был не абсолютно ровным. Это краткое промедление было ошибкой. Клувий-рука никогда не медлил. И не ошибался. Клувий-человек был уже не столь совершенен.
Меч опустился молниеносно. Но голова Макрона не отскочила, как я ожидал, — Клувий попал по затылку. Макрон только охнул, кровь брызнула в разные стороны, достала до моего лица. Проклятый Клувий! Казалось, что кровь Макрона прожжет мне щеки. От испуга и жжения кожи я закричал. И тут же закричала Энния. Не закричала, завыла. Судорожными движениями она пыталась столкнуть с себя мужа, но не могла. Вой ее был невыносим для слуха, тем более что в нем не было перерыва, словно выдох мог продолжаться беспрерывно, без вдоха. Клувий стоял на прежнем месте, опустив меч, который, мне казалось, просто прилип к ладони, потому что пальцы были безвольно распущены. Он был парализован воем Эннии и смотрел на нее широко раскрытыми пустыми глазами.
— Бей! — закричал я, и еще раз — Бей!
Но он стоял неподвижно и даже не вздрогнул от моего крика.
Наконец Энния сумела сбросить тело Макрона. Оно свалилось на пол, ткнулось в ноги Клувия, тот качнулся, и меч выпал из его пальцев. Я быстро нагнулся и поднял его. И бросился на Эннию, которая еще не успела подняться, а только приподнялась на локтях и поджала под себя ноги. Она была в крови мужа, и лоскуты ее одежды вокруг тоже сделались красными. Руку с мечом я держал перед собой, когда падал на нее. Я промахнулся. Знаю, что я намеренно промахнулся. Я хочу это знать.
Я навалился на нее, все не выпуская меч, но рука как бы сама собой оттягивалась в сторону, будто боялась даже только задеть тело Эннии. Но зато другая рука с каким-то особенным проворством и силой тянулась к ее рту. Дотянулась. Вой прекратился. В ее глазах был ужас. Я впервые увидел, как ужас может до неузнаваемости изменить лицо, сделать его лицом другого человека, чужого, сделать его не мужским, не женским, но лицом самого себя — ужаса.
Еще несколько мгновений, и я потерял бы сознание. Я рывком разжал пальцы, сжимавшие рукоять меча, рывком выдернул подушку из-под головы Эннии и накрыл ее лицо. И, оттолкнувшись ногами — не понимаю обо что, потому что все было скользким и не имелось опоры, — навалился на подушку грудью. Тело Эннии дергалось подо мной, я все понимал, но ничем помочь не мог: силы покинули меня, я осознавал, что лежу, но лежал как мертвый; не было даже сил позвать Клувия или даже просто скосить глаза в ту сторону, где он должен был стоять.
Не знаю, сколько я так пролежал, меня поднял Клувий. Он поставил меня на ноги и потряс за плечи раз и еще; последний раз очень сильно, так, что голова моя сотряслась, а боль из шеи ударила в затылок. Боль прояснила мое сознание и, главное, вернула слух. Я услышал топот и бряцанье железа о железо. Характерное. Знакомое. Я оттолкнул Клувия, чтобы бежать, но на первом же шаге упал, с размаху, едва не разбив лицо. Развороченный кровавый затылок Макрона был совсем близко от моих глаз. Я ощутил удушливый запах крови, и меня едва не стошнило.
В комнату вбежали солдаты, я видел только их обутые в калиги ноги[14]. Я почувствовал смерть так близко, как не чувствовал никогда. Все мое тело, каждая его частица, до последнего волоска, напряглась так, как напрягалась шея, когда Клувий стоял за моей спиной. На пирах.
Что кричали солдаты, я не мог разобрать, я слышал только крики. Но по тому, как они переступили через меня, а развороченный затылок Макрона сначала отодвинулся, а потом исчез совсем (я смотрел сквозь ресницы), я понял, что стоит мне пошевелиться, смерть тут же набросится на меня. Я не пошевелился и затаил дыхание до последней возможности.
Тут сквозь крики солдат прорвался крик Клувия. Я понял, что это был предсмертный крик, хотя Клувий, может быть, еще не был даже ранен. Железо ударилось о железо всего два или три раза — вряд ли Клувий мог долго сопротивляться. Сейчас с ним покончат, станут поднимать тела и тогда обнаружат, что я не мертвое тело, и убьют меня. Страх мой был столь велик, что, казалось, лишь только они дотронутся до меня, я умру. Я сам брошусь к смерти, спасаясь от них. Или умру сейчас же, не дожидаясь, когда они прикоснутся ко мне. Я напрягся, стараясь умереть, но именно напряжение — и я это почувствовал — отдалило меня от смерти. Можно умереть от страха, но нельзя умереть, если думаешь, что умрешь от него.
Клувий больше не кричал, и не кричали солдаты, но за моей спиной, где-то в углу, шла возня.
И тут я вскочил. Вернее, страх оттолкнул меня от пола, поставил на ноги и толкнул к выходу. То ли я успел увидеть, то ли мне так представилось: глаза Клувия за спинами солдат. Пронзительно-грустные глаза обиженного ребенка. Невозможно, чтобы Клувий когда-то был ребенком. Так же как и я им не был, потому что был всегда. Но глаза из-за спин…
Когда я уже был за порогом, сзади раздались крики. Я едва не споткнулся о солдата, лежавшего ничком. Я бы споткнулся, если бы бежал, но я летел. Еще несколько тел лежало на моем пути — окровавленные тела моих неудачных защитников. Боги даровали им право умереть за императора.
Когда я выбежал на улицу, несколько солдат бросились ко мне. Я страшно закричал. И, оглушенный собственным криком, на мощных волнах его, я полетел дальше. Люди, встречавшиеся на моем пути, бросались ко мне, но никто не смог задержать меня — я летел слишком стремительно.
Больше всего жалею, что стремительность моего бега и страх не дали мне возможности ощутить себя богом. По-настоящему, ощутить без хотения ощутить, то есть не чувствуя, что ощущаю. Если бы… Наверное, я тогда бы поднялся в воздух, над улицей и домами, и никогда бы не вернулся обратно. Ни за что.
Они настигали меня, их топот за спиной сделался нестерпимым для слуха. Он все усиливался, затоплял и топил меня. Я задыхался. Я уже не летел, а бежал. И уже не бежал, но барахтался в море их топота. Весь город преследовал меня, весь Рим. Мгновения бога прошли, они преследовали императора, а не бога.
Я упал. С такой высоты, что должен был расшибиться насмерть. Если бы я был богом. Нет, если бы был императором, потому что бегущий как заяц от собак император уже…
Император. Когда я открыл глаза, они радостно закричали. Сначала стоявшие возле, потом те, что за их спинами, потом те, кто не мог видеть меня, но просто отзываясь на радостный крик других. Снова их крик — ведь кричал весь Рим — затопил меня, но я не барахтался и не задыхался, а поднимался на волнах их крика, вдыхая его, переполняясь им. Они подняли меня и понесли. Навстречу шествию выбежала Друзилла, лицо ее было белым, а в глазах застыл испуг. Она не вскрикнула, не всплеснула руками, она взяла мою руку и так шла рядом, не отпуская, до самого дворца. Живительное тепло ее тела вернуло мне силы, я уже способен был встать и идти самостоятельно. Но как я мог воспротивиться любви народа, как мог нарушить всеобщее ликование!
Они не внесли меня внутрь, но, подстелив ковры, положили на лестнице у входа — не хотели отпускать меня и больше моего удобства и даже здоровья любили собственную свою любовь ко мне. Друзилла опустилась рядом, продолжая питать меня своим теплом.
Так я пролежал некоторое время, а толпа обступила меня и любила меня. И я любил их всех. Я был их императором и был счастлив, что был. Только я ощущал себя не отцом народа, а его сыном.
Вдруг раздались негодующие крики. Толпа расступилась и вынесла к моим ногам нескольких. То были те самые солдаты, что убили людей моей охраны и Клувия, заговорщики. Вид их был жалким: кровоподтеки и ссадины, помятые остатки доспехов. «Униженные римские орлы», — неожиданно подумал я, и мне сделалось не по себе. Все-таки и опозоренные знамена нужно уничтожать в определенном порядке, не унижая. Они были заговорщиками и подлежали смерти, Но ведь они были солдатами Рима.
Они были так избиты и истерзаны, оглушены криками, что, наверное, плохо понимали, где они и перед кем. Я сделал знак, чтобы их не трогали, и сказал:
— У меня не может быть врагов. Я прощаю их.
(Сейчас я смеюсь над своими историческими словами, но в ту минуту я гордился сказанным; и милосердием императора в первую очередь.) Но слова мои произвели на толпу единственно историческое впечатление — она не желала поступиться частью своей любви ко мне. Толпа набросилась на солдат и, кажется, в одно мгновение разорвала их на части. Лоскуты их одежды взлетали над толпой, над площадью, над головами орущих и машущих. Не падали на землю, но, как будто испуганные ревом и поднимаемые потоками воздуха, разогретого горячим дыханием и смятенного резкими движениями тел, они уходили все выше и выше, будто живая часть растерзанных не желала сливаться с прахом и не признавала смерти.
Я с грустью смотрел, как они улетали от нас. Неужели и я был частью толпы, обреченной стать прахом? Я велел отнести себя внутрь. Толпа не протестовала.
Я уже говорил, что впал в безумие. Но теперь оно сделалось неистовым. Как никогда отчетливо я ощутил себя прахом (впервые, на площади), но не хотел и не мог смириться с ощущением. Я, Гай, император по прозвищу Калигула, не мог быть прахом. «Божественный Август», «Божественный Юлий»[15] — присыпанные прахом, превратившиеся в прах божества.
После смерти Эннии и Макрона всякая последующая смерть так называемых близких уже не могла иметь никакого значения для моих чувств. Ни ненависти, ни любви, ни сострадания, ни радости — ничего. Всякая последующая смерть только доказывала, что человек есть прах, а все то, что не вечно, может умереть в любое мгновение — безразлично в какое. Я только определял это мгновение, подобно богам.
Я призвал к себе Суллу. Я сказал, что и его мгновение будет определено мной. И еще я сказал ему, что не спрашиваю, бог ли я, бессмертен ли я, — потому что я бог и бессмертен. А он — прах. Всего-навсего черная, пачкающая руки грязь.
Сколько раз я говорил ему, что убью его, что больше всего на свете желаю видеть его распятым. И никогда он не пугался и всегда продолжал называть меня — Гай. А тут вдруг сказал:
— Да, император. — И в его глазах появился страх.
Все внутри меня содрогнулось. Будто собственная моя смерть то ли родилась, то ли ожила во мне. Мой страх был неизмеримо большим, чем его. Я утверждаю это. Он достал какие-то таблицы и чертежи. Когда раскладывал их на столе, руки его дрожали. Звезды, их ход и соотношения, моя великая судьба, что-то еще и еще… Я не помню, я не понимал, не мог его слышать.
Смерть не содрогнулась больше во мне, но страх, вызванный содроганием, не ушел, остался, стыл внутри, источая холод. Я повернулся и вышел: медленно, слепо, боясь упасть. Звездное небо осталось за спиной. Я отдалялся от него. Мне больше никогда не приблизиться к нему. Сулла умер, его слова о бессмертии такой же прах, как и он сам. Как мой страх, мой холод.
…Я не взял руку Друзиллы, а схватил — она была холодна. Другой рукой она гладила мое лицо, прижималась губами к моим губам. Все было напрасно, потому что не было тепла. Она шептала мне:
— Гай, я никому тебя не отдам.
Но мой слух был холоден, и ее слова оставались только словами, были таким же прахом, как и она сама. Я смотрел на нее с удивлением. Я не оговорился, не ошибся — было одно только удивление, и больше ничего. Друзилла, которая есть я сам, — прах. Холод, безмолвие, прах, испачканные черным руки, черные полосы на лице и груди.
Я велел позвать Суллу. Я велел Друзилле раздеться. Когда он вошел, она нагая стояла у ложа. Я велел ей стать дальше, чтобы Сулла увидел ее всю.
— Смотри! — крикнул я, потому что он опустил глаза. — Подойди к ней.
Он подошел.
— Дотронься до ее груди. Нет, не так, губами, — Я подошел к ним. В комнате было жарко, но Друзилла дрожала от холода, — Здесь. Здесь.
Он прикасался губами к тем местам, на которые я указывал. Теперь и Сулла дрожал тоже, все время ошибался, и мне приходилось повторять и указывать дважды.
Я смотрел, как ее тело оскверняется прикосновениями Суллы — прахом и ложью. Никогда не было в ней необходимого мне тепла, не мог я, бессмертный, питаться и согреваться прахом.
Я не мог этого вынести, оттолкнул Суллу, он упал на Друзиллу, она закричала. Я бежал прочь. Оказывается, Сулла, которому я говорил «мой друг», — обыкновенный придворный, а она, Друзилла, любимая, необходимая… Обыкновенность, прах. Не оттолкнуться от земли, праха и не улететь туда, где его нет. Ничего, может быть, нет, но и его тоже.
Метался, не знал, что делать, ни Друзиллу, ни Суллу видеть не мог. Все вокруг было обыкновенным, и даже лучшие из моих предшественников: Август, Юлий, которых толпа именовала великими, тоже были обыкновенными — какие бы деяния они ни совершали, все равно не могли оторваться от праха. И ушли в прах. В ничто. Боги вечны, и прах вечен, а люди — ничто. Что мне до того, что будет после меня, когда после меня для меня ничего не будет. Будет то, что не имеет названия, во что никогда не сможет проникнуть ум. Ничей. Потому что и боги не могут знать об этом: они вечны.
Значит, и мне, что бы я ни делал, что бы ни предпринимал или совершал, все равно уготован прах, и как бы я ни разбегался, взлететь все равно не удастся. Разве что подпрыгнуть высоко, чтобы снова упасть на землю. Не пасть, но именно просто и обыденно упасть.
Я не мог с этим смириться. Не имел возможности. Никакого другого пути, как только то, по которому шли мои предшественники, у меня не было. Сейчас я горестно вспоминал свое восхождение к вершинам власти и усмехался прошлому своему наивному нетерпению. Если бы я знал, что после вершины пропасть, разве бы я так торопился! На вершине заканчивалось движение вверх, и оставалось два пути: броситься вниз и умереть мгновенно либо, стоя на месте, похожими движениями изображать дальнейшее восхождение и мучительно ждать того мгновения, когда смерть, коснувшись, обратит тебя во прах.
Я чувствовал, как старею. Мне не было и тридцати, я был императором, Рим, а то и весь мир, лежал у моих ног. Народ любил меня, придворные боялись, у меня не было врагов, любая женщина, которую я только мог пожелать, делалась моей. Но молодость ушла безвозвратно, и я даже не мог понять: была ли. Моя стареющая сущность только наружно представлялась молодой, а сама была ослаблена сомнениями, неудовлетворенностью желаний, быстро дряхлела от близкого присутствия смерти. Для всех я оставался баловнем судьбы. Той судьбы, которой не было у меня. А та, что была, не известна никому, и мне самому тоже. Я чувствовал, что все дальше отдаляюсь от бессмертия. Оно представлялось мне храмом, стоящим на высоком утесе. Чтобы приблизиться к нему, нужно напряжение всех сил и безостановочность движения. Но и это совсем не означало, что ты достигнешь его: многие приближались и приблизились, но никто не коснулся рукой его стен. И осознание этого лишало сил двигаться, и ты ложился на воду, и волны относили тебя назад или просто захлестывали.
Несколько дней подряд мне снился один и тот же сон: прах от погребального костра моей бабки Антонии падает на меня хлопьями. Прикасаясь к моему телу, он застывает камнем; и то место на теле, которого он коснется, каменеет тоже. На груди, ногах, спине. И вот уже я не могу пошевелиться: я камень, и только голова моя живет, и хлопья почему-то пролетают мимо, не касаясь ее. Я не в силах выносить живую голову на каменном теле. Я зову на помощь, но никто не является, и я понимаю, что нет никого вокруг: ни во дворце, ни за стенами дворца, нигде. И еще понимаю, что не они, люди, покинули меня, а я их. И тогда я кричу от ужаса. Человеческое разумение не в силах определить меру такого ужаса — он нечеловеческий. Я кричу, готовый и желающий умереть. Я кричу не воздухом дыхания, которого нет, а как будто собственной кровью, что выплескивается из меня, заливая глаза, лоб, волосы. Выплескивается непрерывно и не кончается никогда.
Не могу сказать, что приснилось: то не сон, а это не пробуждение. Я трогаю ложе возле себя: колено, бедро, жесткость или мягкость пучка волос, крутость, нежность или упругость живота… Дальше рука не выворачивается, а тело еще каменное, и его невозможно повернуть. Обычно я не узнаю — кто, ведь женщины меняются так часто. Обычно я просто отталкиваю чужое тело резко от себя, и если оно произносит жалобно или приторно-жалобно: «Гай», то я толкаю его еще резче, с остервенением. Удаляющиеся шлепки босых ног еще долго звучат во мне, но даже по их отпечаткам в моем мозгу я не могу определить: кто? Только Друзилла была «кто», все остальные — бьющееся в конвульсиях тело, придавленное моим, каменным.
Все, кто пировал со мной в тот день, когда пепел Антонии накрыл нас, — все по моему приказу переспали с Друзиллой. Иные по двое и по трое за ночь, так что Друзилла была уже не в силах даже стонать от боли и шевелиться, и только кончики ее пальцев мелко подрагивали. А эти старались вовсю, и их спины лоснились от пота, а запах был непереносим. Один и тот же — горячего праха — у всех. Не знаю, подвержен ли прах гниению, но этот был гниющим. Он преследовал меня всюду, я не мог избавиться от него и даже привык. Настолько, что желание вдыхать его сделалось необходимостью. Только Друзилла и эти над ней производили такой запах. Два, три, четыре раза на день мне необходимо было напитаться этим запахом, и тогда Друзилла и эти производили мне его. Ни их лиц, ни лица Друзиллы я больше не видел — только лоснящаяся мужская спина, женская нога, чуть подвернутая под себя, и женская рука, безвольно свисающая с ложа. Вздрагивают ее пальцы или нет, мне было безразлично. Друзилла почти безвыходно находилась в своей комнате, а эти никогда не должны были показываться мне на глаза.
Мне думалось, что прошли годы такого моего сна, но оказалось, что всего несколько месяцев. Я ощущал, что превращаюсь в какое-то вместилище гниения, и все вокруг — Рим, римский народ, каждый человек от младенца до старца, от раба до сенатора — такое же, как и я, вместилище. Я что-то делал: утверждал законы, строил дамбы, казнил, награждал, пил, пировал, спал с женщинами, пробовал мужчин. Историки разберутся и составят точный список того, что я делал, и того, что только приписывали мне. Но все это для меня самого не имеет ни малейшего значения, потому что я был вместилищем гниения и уже не мог существовать без этого запаха и постоянного ощущения его в себе.
Время от времени я приглашал к себе Суллу. Я не смотрел на те таблицы и схемы, что он раскладывал передо мной, не слушал объяснений и пророчеств, хотя там и возникали определения «божественный», «бессмертие» (этого мой слух все-таки не научился не слышать). Но все это не имело смысла и не представляло для меня интереса: я только смотрел на Суллу. И ждал от него одного, чтобы он сказал мне: «Гай». Я не мог видеть, как он склоняется передо мной, произносит ненавистное «император», не мог слышать сам тон его голоса. Но смотрел, слушал, ждал. Убить его не составляло никакого труда, и, как было всегда, убить его очень хотелось. Порой до невозможности сдержать желание. Я бы сделал это, но тогда кто же скажет мне: «Гай»? Оказалось, что я больше всего боялся, что он умрет.
И я велел внимательно следить за Суллой, чтобы исключить случайности: специальный человек следил за его диетой, качеством блюд, процессом их приготовления, следил за тем, чтобы вино не было тяжелым и чтобы Сулла не пил больше допустимого. Другие следили за его спортивными занятиями — сам он не очень это любил, — чтобы не повредил тело, чтобы не простудился и чтобы и тут соблюдал положенную меру. Отдельные виды, ввиду их опасности, запрещались: соревнование колесниц, кулачный бой и другие. На всякий случай исключалась даже верховая езда. Ну и, конечно, несколько человек охраняли его, следовали за ним повсюду — удаляться на значительное расстояние от дворца ему запрещалось тоже, — и во время его занятий, и во время сна, и во время всего остального, что человеку необходимо делать, они всегда были рядом: одни отдыхали тут же, а другие бодрствовали и бдили. «Твоя жизнь и твое здоровье, мой Сулла, мне дороже моих», — говорил я ему. И это была правда, потому что только бессмертие могло быть дорого мне, а жизнь не имела смысла.
Но Сулла склонялся все ниже и ниже, будто он уже не был не только моим другом, но просто свободным гражданином. Однажды, когда он стоял перед картами звездного неба, я подошел к нему сзади и обнял его. Провел языком по его шее и, сдвинув одежду, вдоль плеча. Он стоял, замерев, и кожа его подергивалась то там, то здесь. Я отвел его на ложе, раздел, впился губами в его губы. Нет, я не любил его. Пантомима Мнестера[16] я тоже не любил (к тому же у него всегда дурно пахло из промежностей), но в его движениях было много живой и возбуждающей игры, и, кажется, его талант тут выявлялся намного сильнее, чем на сцене. Валерий Катулл[17] был слишком юн, чтобы понимать чувственность. Мне нравилось его тело, но больше всего меня забавляло то рвение, с которым он исполнял свое дело в постели. Он думал, что на ложе, как на прочном корабле, сумеет подплыть к самому трону. Мне передавали, как он похвалялся, что от забав со мной у него болит спина. Он сильно ошибался, мой любимый Валерий: чтобы подняться к трону, необходимо рисковать головой, а не спиной. К тому же императору надо служить, а не ублажать его. Впрочем, находясь в положении наложницы, что равно статусу домашнего животного, он вполне мог попасть в сенат так же, как и мой конь, которого я объявил сенатором себе на потеху и назло этим ничтожествам, изображающим власть, — разве кто-нибудь из них посмел возразить?
И Сулла, чьи губы я не выпускал из своих долго, пока не устал сам, не вырывался и не возражал. Он был терпелив и почтителен. Чего я хотел от него? Его унижения, наказания или того, чтобы он перестал воспринимать меня императором, а относился, как… Вот только не знаю, как это определить. Или я хотел напитаться от него бессмертием, которого не было у него. Но что-то же было, чего-то же я хотел. Веры в мое бессмертие, и больше ничего. В то, что я не человек, а бог и сам не догадываюсь об этом. Я не знаю, а он знает и верит, и его вера пробудит мое о себе знание.
Мне хотелось схватить его за плечи, потрясти всего так, чтобы голова моталась из стороны в сторону, а мое лицо смазывалось под его взглядом в пятно. И заставить его выкрикивать: «Гай», «бессмертие», «бог» так же, как Энния заставляла меня выкрикивать непристойности. Мне хотелось, но я этого не сделал, но легко оторвался от Суллы и встал. Он встал тоже, выражение его лица было болезненно-виноватым. Хорошо, что его виноватость выразилась молчанием. Я сказал, чтобы он оделся.
Самое время было броситься в любовь. Не в упражнения с наложницами, но в объятия Друзиллы. Зарыться в ее тело, закутаться в ее тепло и не видеть ничего, не знать ничего, не помнить ни о чем. Больше всего хотелось, но я не мог. Зарыться, закутаться, не видеть ничего — и превратиться в прах. Сущность превратится в него быстрее, чем тело. Броситься в любовь означало броситься в смерть от бессмертия. Не бог я, а жалкий червь, прячущийся в темноту от света, в сырую теплоту от палящего зноя. К тому же боги не знают любви, потому что не ведают расслабления. А любовь всегда расслабление.
Друзилла была рядом, всегда рядом, но я не мог заставить себя заговорить с ней и дотронуться до нее. Я только хотел напитаться запахом, когда они делали это с ней. Но и потребность в запахе уже не была столь острой, как прежде, и я ходил все реже и реже.
Сулла тоже был рядом, но я больше не прикасался к нему, хотя приглашал его раскладывать передо мной свои карты — смотрел на него и ждал. Я уже понимал или, во всяком случае, ощущал близкое понимание того, что он потерян для меня. Но смириться с этим не мог и все равно смотрел и ждал.
Однажды вечером я поднял глаза к небу: Сириус горел ярче всех. Остальное множество звезд было только точками тлеющих углей, раскиданных трещащим костром. Я смотрел на него и на множество звезд вокруг и долго не мог оторвать взгляда. Ушел, вернулся, стоял и смотрел опять. Следующей ночью вышел — небо было беззвездно. На яркий Сириус и звезды вокруг перешли в мое сознание. Зачем? к чему? — я не понимал.
И вдруг — я стоял за спиной Суллы — понял. Сулла для меня был тот же яркий Сириус, а точки звезд вокруг — неисчислимое множество, как объяснял мне сам Сулла, — все остальные люди, весь остальной мир. Если на небе нет Сириуса и я не могу его видеть, а яркий звездный свет мне необходим, то нужно сложить свет всех остальных звезд. Он превысит по яркости свет Сириуса настолько, что в Сириусе вообще не будет никакой необходимости. В вере Суллы в мою божественность и мое бессмертие не будет никакой необходимости. Был необходим — сделался не нужен. Был Сулла — и не будет его. Я прервал его на полуслове и велел оставить меня.
Они все, эти тусклые звезды, должны будут собраться в одну кучу. В одну кучу любви ко мне, страха передо мной и веры в мое божественное происхождение. Да и не веры одной я хочу от них, я не хочу просто веры. Не убеждения, что бог, я хочу от них, но знания. Столь же определенного, как и то, что земля под ногами, а небо над головой. Сколько было упущено времени на пустое ожидание… бессмертия. Как будто оно может появиться откуда-то извне, посетить и отметить смертного. Если понимать бессмертие как память, то так оно и есть, хотя и тут нечего дожидаться, а необходимо работать для бессмертия. Но бессмертие-память не есть твое личное бессмертие и принадлежит не тебе, а помнящим о тебе. Вообще-то это насмешка над бессмертием: бессмертие, которое присвоил себе человек, будучи смертным. Такое бессмертие — утешение, наивное преодоление страха смерти. К тому же память тоже смертна и умирает быстрее, чем помнящий может себе представить, и быстрее, чем он этого хочет.
Мне не нужно это утешение, я не хочу никому ничего
оставлять, и память в том числе. Никакой памяти обо мне не достанется никому, потому что она есть моя неотъемлемая собственность: я буду помнить, как умирают другие, не только люди, но и народы, но и города. Все будет проходить перед моими глазами, только я буду на самой вершине и останусь недвижим.
А эта толпа смертных должна увидеть, что я бог, узнать, что я бог, и — знать. Она сама этим своим незыблемым, естественным, самым природным знанием должна отделить меня от себя. Не так, как отделяют раба от свободного, чужестранца от римского гражданина, плебея от патриция, а патриция от императора. И не так, как отделяют умного от глупого, красивого от безобразного, и не так, как мужчину от женщины. Она отделит меня так, как видимое и понимаемое от того, что неподвластно ни уму, ни зрению. Страх и преклонение — вот следствие такого отделения.
Они узнают, я должен поразить их. Поразив их, я поражу и себя. Я сделаю невозможное, потому что только боги могут сделать это.
Они не знают бога, потому что не видели земного его воплощения, не боятся богов, потому что они далеко — так далеко, что будто бы их и нет совсем. Гроза, ливни, землетрясения, оползни — разве это боги, это только далекое отражение их!
Если обваливается мост и люди говорят, что Юпитер ударил в него молнией в наказание людям, то это не страшит. Не так страшит, как если бы Юпитер сначала предупредил, что ударит, потом некоторое время держал в страхе наказания и только потом, если преступления людей переполнили чашу терпения, совершил обещанный удар. Непредупрежденное наказание теряет половину своей силы. А еще больше теряется сила страха людей. Те, что упали вместе с мостом и приняли смерть, — им все безразлично. У тех, что остались жить и даже видели смерть других, большую часть места, где должен обитать страх, занимает радость: «Не я — другие». И в следующий раз, когда боги сотрясут землю и стены домов повалятся на людей, будет то же самое: мертвым — смерть и ничто, живым — радость избавления.
Тот, кто умирает внезапно, непредупрежденным, только выигрывает, потому что не смерть страшна, а страх смерти. И чем длиннее время страха, тем он невыносимее. Не сама смерть страшна, а приговорение к ней.
Я буду приговаривать к смерти и держать народы приговоренными. И убивать время от времени, чтобы напоминать людям о неизбежности смерти.
Я убивал как император, но принимал решение убивать как бог. То есть тогда, когда мне этого желалось, а не тогда, когда человеческим разумением объяснена вина и вынесено наказание. Бог не объясняет своих поступков даже самому себе. Все, чего он хочет, есть божественное предназначение, и человеку остается повиноваться и пребывать в страхе.
Для моих божественных начинаний нужны были деньги. Я брал их в любом количестве, не спрашивая и не задумываясь о праве. У императора высокие пределы права, но у бога их нет совсем.
В течение короткого периода времени я вздыбил Рим, как норовистого коня, и не давал ему опуститься на все четыре ноги. В Байском заливе я построил мост в три тысячи шестьсот шагов. Никто до меня не осмеливался даже подумать о такой длине. Не скрою, я сам радовался постройке. Может быть, больше, чем это необходимо богу, но не мог сдержать радости. Два дня подряд я разъезжал по мосту туда и обратно, нарядившись в лучшие одежды, с лавровым венком на голове.
Впрочем, забава эта скоро мне надоела. Я не знал удержу и был горд собой. В бурном море воздвигались плотины, в кремневых утесах прорубались туннели, долины насыпями возвышались до гор, и горы сравнивались с долинами. Все это быстро, очень быстро, быстрее, чем желание успевало угаснуть во мне. Рабы гибли тысячами, но горы росли на глазах, и туннели прорубались, казалось, лишь усилием моей воли. Невиданные галеры в десять рядов весел были построены в самый короткий срок: жемчужная корма, разноцветные паруса, огромные купальни, портики, пиршественные залы. Даже виноградники. И все это на галерах. Я плавал на них, пируя под музыку и пение. Порой мне казалось, что я уплываю в небо, а римский народ остается внизу и следит за моим вознесением со страхом и поклонением, до боли вывернув шеи.
Все было так хорошо, так прекрасно и весело, что казалось — это никогда не пройдет. И еще казалось, что больше ничего не надо. Не быть богом, не быть бессмертным, а эти постройки и свершения — вот оно, счастье, и больше никакого не надо. И больше никакого не может быть… Даже связь с женщинами — надоевшее и обессмыслившееся удовольствие — вдруг стала приносить мне иные наслаждения. Не то чтобы какие-то забытые, но иные, которых я не знал никогда. Мне вдруг так неотступно захотелось, чтобы женщина любила меня. Чтобы любила совсем по-другому, чем они умеют любить. Не как императора, не как того, кто дает им жить в роскоши, и не как того, кто прилагает к ней и тратит на нее свою мужскую силу, но чтобы они любили меня больше, чем ребенка. Чтобы она знала, чувствовала, ощущала ежеминутно, что я смертен и что, если умру, она не переживет потери. О, если бы я точно знал, как должна любить женщина, я бы показал им, обучил бы их. Но я не знал, а только хотел.
Женщин вокруг было много, и все они или почти все, кроме самых некрасивых, уже спали со мной. Но того, чего я хотел от них, они мне дать не могли.
Тогда я жил на корабле — в своем огромном плавучем дворце. Кажется, я и сам не знал всех его переходов и закоулков — так их было много и так они были запутаны и переплетены. Там шла своя жизнь. И она была развратна. По ночам — а ведь меня мучила бессонница — я бродил с фонарем по этим закоулкам и переходам, и свет фонаря вырывал из тьмы совокупляющихся мужчин и женщин, мужчин и мужчин, женщин и женщин. Кажется, вся скверна мира сосредоточилась на моем корабле. На моем прекрасном, замечательном, блистающем красотой и великолепием корабле. Порой мне хотелось отдать тайный приказ капитану и тихо, медленно, бесшумно выйти в море. Потом так же тихо и бесшумно спуститься в лодку и приказать гребцам отплыть. И приказать поджечь корабль сразу со всех сторон, чтобы он вспыхнул ярко и чтобы в свете поднимающегося к небу пламени я видел бы, как эти мужчины и женщины, мужчины и мужчины, женщины и женщины бегают по переходам и лабиринтам, вопя и вздымая руки к небу, забыв друг о друге, не видя друг друга, а видя перед собой одну только собственную неотвратимую гибель. Их предсмертные крики принесут мне удовлетворение, не радость, нет, а такое удовлетворение, которое сильнее и глубже радости. Я буду знать и буду видеть, как вся скверна этого мира гибнет в огне передо мной. Впрочем, я отдаю себе отчет, что всю скверну мира невозможно собрать на одном корабле. Даже и на моем. Но если представить, что можно, что пламя сожрет ее, а море поглотит остатки, то все равно скверна не уничтожится, потому что останусь я. А уничтожиться вместе со всеми мне невозможно. Потому что скверна на то и скверна, что не только не может прийти к решению самоуничтожиться, но просто не в силах осознать себя скверной. А если придет и осознает, то это уже не скверна, чего, конечно, быть не может.
Корабль догорел передо мной, остатки потонули в море, а я смотрел на все это молча, не отрывая взгляда, и, когда снова наступила полная темнота, чувство удовлетворения ушло и сменилось если не жалостью, то досадой. Нет, не людей мне было жаль — что люди! — мне жаль было моего корабля: из-за какой-то глупой идеи уничтожения скверны уничтожить такое великолепие. Мое, родное для меня. К тому же неповторимое.
Но и не это было самым главным — уничтожение корабля, великолепия. А самым главным оказалось то, что во время бессонницы мне некуда будет пойти. Так что все эти химеры по поводу сожженного корабля остались одними химерами. И корабль мой, и все находившиеся на нем остались благополучно здравствовать и, как мне показалось, после того, что я с ними произвел в своем воображении, с еще большей энергией и свободой отдались спасительному и благотворному разврату: спасительному от тоски и благотворному от скуки.
А я, напротив, не находил себе места и так хотел любви, что даже простой, ненаправленный взгляд на женщин вокруг вызывал во мне болезненные ощущения. Такие, что мне даже трудно было притронуться руками к самому себе.
Сулла! Конечно, Сулла! Куда я без него? Теперь он был под заботливой охраной, и я велел привести его. Мы давно не виделись, и когда он вошел, его лицо показалось мне бледным.
— Мой дорогой Сулла, — сказал я. — Придется казнить тех, кого я поставил смотреть за тобой и оберегать тебя. Они плохо исполнили приказ императора, потому что лицо твое бледно, а тебе нужно быть здоровым и жизнерадостным.
— Они не виноваты, император! — отвечал Сулла. — Они очень хорошо смотрят за мной. Дело не в них, а во мне самом.
— Чего же тебе недостает, мой Сулла, и что тебя гложет?
— Император, я беспокоюсь о тебе, и нет для меня в этом мире другого беспокойства и другой нужды.
— Беспокоиться об императоре — это очень хорошо, мой Сулла, — проговорил я, совсем не желая этого говорить, а желая только одного: чтобы Сулла посмотрел на меня свободно и чтобы назвал меня «Гай».
Я чувствовал, что, если он сделает ко мне хоть шаг или если в глазах хоть как-нибудь отразится это движение, я сам, первый, брошусь ему на шею. Мне даже показалось тогда, что не нужно мне никакой любви женщины, а нужно только это — уткнуться в его плечо лицом и не отнимать лица.
Но Сулла не сделал шага, и глаза его были холодны и почтительны. «Да, император! Нет, император!» Я готов был убить его, но сдержался. И продолжал:
— Ты правильно мыслишь, и, может быть, ты лучший из подданных. Когда-нибудь римский народ осознает это и воздаст тебе. А я…
Но тут я прервался, сам не знаю почему. Тогда Сулла, словно бы не видя моего волнения и словно бы не замечая ничего, сказал:
— Думаю о том, что императору следует разочароваться в человеческом счастье, а не желать его. Император — бог, а бог равнодушен. Это не только главная привилегия бога, но и отличие его от человека.
Проклятый Сулла! Лучше бы он этого не говорил. Я уже видел, как лезвие входит в его живот и проворачивается в нем. И еще раз — снова и снова — входит и проворачивается. А лицо — то самое, о розовости которого я так пекся, — бледнеет. Не как теперь, когда он спокойно стоит передо мной, а бледнеет по-настоящему, делается белым как полотно и белее полотна. Много, много белее. Это уже не лицо, а маска. Мраморное изваяние. Да, мне самому понравилось это — мраморное изваяние моего Суллы. Оно будет стоять в моей комнате, напротив окна, и днем, при свете солнца, я буду наслаждаться его неимоверной белизной. Когда мне захочется поговорить с ним, я подойду к изваянию и намажу его щеки и лоб красной краской или даже лучше кровью (ее всегда легче добыть, и она всегда под рукой, ведь столько носителей ее вьется вокруг). Правда, наверное, ее труднее будет стереть, когда мне захочется снова убить Суллу и увидеть его лицо белее полотна.
Эта моя неожиданная фантазия продолжалась долго: я уже не видел перед собой настоящего Суллу, а видел изваяние, щеки которого я покрываю кровью. Как неожиданно и удачно явилась ко мне эта фантазия! Она успокоила меня. Более того, почти развеселила. И когда я увидел перед собой не мраморное изваяние, а настоящего Суллу — бледного, хотя и не белого как полотно, — я уже не испытывал к нему ни злобы, ни неприязни, а с некоторой даже жалостью смотрел на него. Впрочем, уткнуться лицом в его плечо мне тоже уже не хотелось.
— Что ж, Сулла, — сказал я, — я так сильно желаю человеческого счастья именно потому, что побыстрее хочу разочароваться в нем. Как можно быстрее, как можно бесповоротнее разочароваться.
Он ничего не ответил, но я и не ждал ответа. Я сказал ему, какой любви мне хочется. Очень подробно и с повторами объяснил. Сказал, что все эти женщины (и сделал руками полукруг), конечно, для такой любви не подходят. Поэтому я приказываю ему, Сулле, найти мне невинную девушку из хорошей семьи — самую невинную во всем нашем государстве. И сроку ему для поисков и доставки невинной девушки сюда я отпускаю три дня. Хорошо ли он понял, что я хочу, спросил я его.
— Да, император, — отвечал он так, словно ни срок, ни сама задача не удивили его и будто он уже знает эту девушку и давным-давно нашел ее для меня.
Он отправился, а я ждал. И снова меня охватила тоска, но теперь с еще большей силой, так что первый день с утра и до вечера мне показался длиною в целую жизнь.
Не буду рассказывать, как я не находил себе места, как возненавидел всех окружавших меня и как мне хотелось убить всякого, попадавшегося мне на глаза. Все равно — мужчину, женщину или ребенка. Но я не убил никого, то есть никого из тех, кто окружал меня. Только велел казнить ожидающих суда, да и то не всех, а только некоторых, с наиболее тяжкими обвинениями. Так что невыносимое мое состояние, несмотря на всю его невыносимость, почти не причинило никому никакого вреда. Другое дело, что видеть никого я не хотел и не мог.
Несколько раз у меня являлось желание в самом деле сжечь мой корабль. Уже не затем, чтобы уничтожить скверну этого мира, а только для того, чтобы сделать себе больнее. Для того, чтобы боль перебила тоску. Но почему-то я все никак не мог решиться и бродил, бродил ночами по палубам, втайне желая одного — как-нибудь случайно вывалиться за борт. Был Гай-император и — не стало его! И никто не знает, в подземном ли царстве Аида принимает ежесекундно он тяжкие муки или с кубком божественного нектара пирует с богами. Не то страшно, что никто не узнает, а то, что и сам я ничего знать не буду. И окажется, что нет ни царства богов, ни царства мертвых, и я не буду знать даже того, что их нет.
Бессонница совершенно измучила меня, хождение по палубам корабля стало мне противным, присутствие людей вокруг — невыносимо. Не за долгое время дня, равного жизни, пришло мне это желание, а в единое мгновение, как вспышка. Я бросился бежать и наткнулся на поручни. Внизу была вода, и луна отражалась в ней серебром. Я налег на поручни всем телом, и, если бы дерево не выдержало, я не отступился бы и полетел вниз. Но дерево оказалось крепким — мой корабль строили на совесть.
В те мгновения, когда я пытался сокрушить поручни тяжестью своего тела, во мне не было страха. То есть я совершенно не помню никаких ощущений. Скорее всего, что и не было никаких ощущений. И не я сам — Гай-император, сын Германика, брат Друзиллы — пытался лишить себя жизни, а кто-то другой, овладевший моим телом и вытеснивший меня из него. Но какой бы силой ни обладал тот, который вытеснил меня из тела и толкал его в воду, каким бы могуществом он ни обладал, тело мое имело определенный запас сил; к тому же оно было изнурено бессонницей. Но сил этих хватило ненадолго — тело мое ткнулось в перила еще раз или два, уже больше от невозможности остановиться, чем от желания все-таки сломить преграду, ткнулось еще раз или два и обмякло. Сползло на палубу и осталось лежать неподвижно. Сколько оно так пролежало, пока я смог вернуться в него, я не знаю. Но я вернулся в него раньше, чем к нему подоспели слуги, Явился врач, сделал мне кровопускание и дал какое-то питье. Я был так слаб, что не смог отказаться от его лечения, а после кровопускания и питья скорее впал в забытье, чем уснул.
Мне потом сказали, что я находился в забытьи целые сутки. Или целую жизнь, добавлю я, что одно и то же. Не знаю, что со мной такое произошло, но я смотрел на окружавших меня людей с изумлением: зачем они здесь, почему я вижу их и, главное, почему должен видеть? Вот это — почему должен видеть? — преследовало меня целую… Да, скажу прямо — целую жизнь. Люди умирали на моих глазах и рождались на моих глазах, и ничего не менялось: я их видел, видел одних и тех же. Тех же самых. Всегда.
Я больше не мог их видеть и не хотел. Жаль, что рядом со мной не было Суллы: я бы сказал ему, а он мне… Да, ведь я послал его… Жаль, но некогда было думать о Сулле, необходимо было думать о себе.
Но и думать по-настоящему я тоже не мог — так мне стало тяжело, так невыносимо. И — невыносимо хотелось бежать. Если бы кто-нибудь мог запретить мне сделать то, что я хотел. Но — никого не было. И никто не мог.
Я приказал двум легионам (все, что было у меня сейчас под рукой) готовиться немедленно. Еще я велел подать крытые носилки, задрапированные плотной, не пропускающей света материей. Я торопил, велел передать, что каждый поплатится жизнью за минутное промедление.
Как трудно заставить себя сделать решительный шаг, если первый порыв пройдет. И я торопил, торопил всех и был страшен в гневе. Но все было приготовлено быстро, так что даже мой гнев не успел дойти до высшей черты. Только четверо или пятеро были наказаны плетьми, и только один из них был забит до смерти. Я бы всех их забил до смерти, если бы можно было, и тогда не было бы необходимости бежать от них, но никто — ни человек, ни армия людей — не может истребить человечество. И боги не могут, потому что они разные и между ними нет согласия. Когда я стану богом, то прежде всего истреблю всех остальных богов. И тогда род людской только по одному моему желанию истребит сам себя. По одному моему желанию высохнут моря и реки, вымрут животные и птицы, высохнут деревья и травы, и одна только пустыня будет простираться подо мной. Но и пустыню я, наверное, захочу уничтожить. Но — там будет видно, ведь желания мои, отбросив человеческую суетность, станут божественными.
До ближайшей пустыни было всего полдня пути. Легионы двинулись туда тяжелым шагом, и я с ними — в наглухо закрытых носилках, в самом центре моих легионов. Я слышал поступь солдат, крики командиров и ржание коней, я был оглушен этим военным шумом. Я слышал его, сидя в полной темноте, и он Казался мне скорбным, словно мое прощание с миром1 людей.
Не помню, говорил ли мне Сулла, что для того, чтобы стать богом, необходимо умереть. Не помню, но, кажется, говорил. И в самом деле, человеческое бессмертие невозможно. Да и бессмысленно. Даже если стать богочеловеком и быть принятым в компанию других богов, то все равно это хотя и возможно, но бессмысленно. И дело не в ранге, который будет определен мне (пусть даже это будет самый высший ранг), а в том, что придется жить среди других богов и видеть их постоянно. Одиночество — вот настоящая суть бога и единственный смысл его божественности. Исключительность и одиночество — по сути одно и то же.
Мной были даны самые точные указания, и исполнены они были предельно точно. В самом центре пустыни разбили шатер, большой и удобный. Его задрапировали так, чтобы ни единый луч света не мог проникнуть внутрь и, одновременно, чтобы в нем легко было дышать. Все необходимое для жизни там приготовили. Когда мы достигли места, носилки внесли прямо в шатер, и меня оставили одного. Я не покидал носилок, не шевелился, замер и только чутко прислушивался. Сначала был слышен особенный шум стоящих лагерем воинов, потом до меня донеслись команды, и шум сдвинувшихся с места легионов перекрыл прежний. Он становился все глуше и глуше, пока не затих совсем. Тишина стала равной темноте. Тогда я покинул носилки, на ощупь добрался до ложа и лег.
Наконец я был один, совершенно, и только боги с небес смотрели на меня. Я приказал расставить посты по всей окружности пустыни и не пропускать внутрь никого: ни человека, ни зверя, ни птицы (хотя последнее вряд ли выполнимо).
Я лежал, то глядя в темноту шатра, то, закрыв глаза, в пространство темноты под веками. Мне хотелось быть одному, но один я не был. Дело не в том, что остальные люди оставались жить, не уничтожились, не стерлись как-нибудь с лица земли, а в том, что они знали — я есть. Это их знание обо мне нарушало мое одиночество. Более того, оно разрушало меня. И кромешная темнота внутри и вокруг не давала мне покоя. Тоска не утешилась.
Нужно было терпение — день, два, может быть, месяц, — терпение необходимо. Но откуда оно могло взяться, если у меня не хватало сил даже призывать его. Призывать (а еще не иметь) дни и ночи напролет.
Я лежал в темноте, остатками сознания призывая себя к терпению. А на самом деле всем своим существом чувствовал приближение страха. Сначала это был высокий страх: я видел, как боги смотрели на меня с небес. Смотрели, но не видели — так я был мал и столь ничтожен. Они смотрели на меня так же, как и на всех остальных людей, а остальных они замечали лишь тогда, когда скопление их в одном месте делалось наиболее значительным: бессмысленное копошение черных точек. А такую мельчайшую одинокую точку, какой был я, они видеть не могли и, главное, не хотели. Лучше не быть вообще, чем быть этой невидимой с небес точкой.
Мне хотелось вскочить и, разбежавшись, удариться головой о стену, разбить ее вдребезги, на самые мельчайшие, не замечаемые даже с высоты человеческого роста частицы. Но и этого я сделать не мог. Достаточно было вспомнить о мягких стенах шатра, которые, когда я стану биться о них, будут упруго и безболезненно отталкивать меня, играя со мной, издеваясь надо мной, презирая меня. Это присутствие мягких стен вокруг делало пространство враждебным.
Страх мучил меня, но все-таки это был страх высокого рода. Если не благородный, то все-таки по крайней мере не подлый. Но постепенно я стал бояться и темноты, хотя не мог найти в себе сил встать и выйти наружу: вдруг и там темнота и мягкие стены?
Впрочем, тот страх продолжался недолго — все, что заканчивается без последствий, кажется пролетевшим в единый миг. Другой страх незаметно вполз в меня, и я не сразу понял, что это. Я испугался того, что потерял власть. Окончательно и невозвратно. Слышал тяжелую поступь солдат и лязг доспехов, видел двери своей спальни, к которым приближались шаги и лязг. И дрожь моего тела в точности повторяла дрожание тяжелой двери. Страх, самый сильный и немыслимый страх охватил меня, и я даже не мог представить себе, что будет, когда дверь не выдержит приближающейся поступи, сорвется с петель еще до того, как рука идущего впереди солдата коснется ее. Не мог себе представить, потому что после этого уже не будет ничего. Смерть — она следствие потери власти, а не наоборот, и уже не имеет никакого значения. И мое желание бежать происходило не от страха смерти, а от ужаса перед приближающейся поступью солдат.
Я приподнялся на локтях и застыл, прислушиваясь. Это мое движение не требовало от меня усилий: ужас имеет собственные, автономные силы и распоряжается ими сам, бесконтрольно.
Если бы услышал хоть какой-нибудь звук! Хотя бы свое дыхание, которое я затаил, или стук собственного сердца, которого сейчас просто не было в груди. Если бы услышал, меня бы ничто не остановило. Возможно, я бы и не побежал, а пополз; возможно, просто совершал бы руками, ногами, всем телом бессмысленные, ненаправленные движения и оставался бы на месте. Если б хоть какой-нибудь звук! Но тишина была полной и такой своей полнотой не отпускала меня. И вынуждала меня подумать. То, что я не слышал ни единого звука, только подтверждало то, что солдаты по всей окружности стоят плотным кольцом, не пропуская внутрь ни человека, ни зверя, ни птицы. Может быть, подняв на шестах широкие полотна, они не пропускают и ветер.
Когда я отдавал такой приказ, они, исполняя его, охраняли меня и мой покой. Теперь же, делая то же самое, они держали меня в заключении.
Так просто я потерял власть. И с нею потерял все. И саму жизнь я потерял тоже. Я хотел быть богом, стать богом. До чего же смешно, до чего же унизительно и смешно: стать богом, потеряв все. И прежде всего — власть. То есть то, что мне, в конечном счете, и нужно было. Власть над всем миром, над всеми людьми, над птицами и зверями, над помыслами и желаниями, над жизнью и смертью. Эта новая власть выше прежней, но и качество и смысл одни и те же. Власть — это власть, и может розниться лишь силой — большей или меньшей. Власть как дом: более высокий или менее, лучше украшенный или хуже, но это всегда и непременно дом. Моя власть — это большой дом, а власть бога — еще больший. И разве не разумнее надстроить над моим домом еще сколько нужно этажей, хоть до самого неба, чем ломать мой дом и строить заново?
В самом деле, все выходило просто и понятно, и даже самому себе невозможно было возразить. В эту минуту я забыл о страхе. Я уже видел, как на дом моей власти надстраивается этаж за этажом, и верхние этажи, покрытые облаками, уже не видны. И я, с несказанным ощущением счастья и какой-то особенной полнотой внутри себя — жизни? воли? — я, уже готовый подняться по этажам, все не делал первого шага, продлевая и продлевая предвкушение. Оно, предвкушение, было самым сладким.
И вдруг раздался треск. Он шел сверху вниз, к основанию дома, и, дойдя до основания, не исчез, но, напротив, продолжился, становясь все громче. Я не увидел трещины в основании, но, наверное, она была под землей, в самом фундаменте. И все расширялась, расширялась, разрывая камень, как тело. Я отшатнулся, боясь посмотреть вверх, упал спиной на пол, втягивая голову в плечи, каждое следующее мгновение ожидая обрушивающихся на мою голову камней.
Скрежет продолжался, но камни все не обрушивались. Я пополз в темноте, натыкаясь на что-то, то твердое, то мягкое, но не чувствовал ни толчков, ни боли. Что-то упало за моей спиной, на мгновение заглушив треск, но тут же потонув в нем.
Так я наткнулся на стоявшие у стены носилки. Ловко, в мгновение ока я забрался внутрь и, проведя ладонью по материи, укрывавшей носилки, чуть успокоился. Не то чтобы материя, хоть и плотная, могла выдержать удары камней — не в этом дело. Но, тронув ладонью материю, я почувствовал (или подумал и почувствовал одновременно), что, может быть, никакого рушащегося здания и нет совсем, а все дело в моем страхе и моем воображении? Впрочем, я не был уверен, тем более что скрежет продолжался и источник его был где-то совсем близко от меня. Мне показалось, что звук похож на скрежет плохо смазанного колеса. Вдруг я ясно услышал, что это и было колесо. И тут же — звук шагов и лязг доспехов.
Они! Смерть приближалась ко мне. Я сжался внутри носилок и закрыл глаза.
— Император! — услышал я и, передернувшись всем телом, сжался еще сильнее. В точку. Необходимо было превратиться в точку. В ту самую, которую не могли заметить боги, смотревшие на меня с небес.
— Император! — снова услышал я и… узнал голос Суллы.
Не отозвался, ждал. Поступь солдат — шаги смерти — могла возобновиться в любое следующее мгновение. Но Сулла… Неужели и он с ними, с ней, со смертью?..
— Император! Сулла приветствует тебя/Я исполнил твое желание.
— Войди, — собрав остатки мужества, но все равно слабо, почти жалобно ответил я и добавил: — Один.
Я ждал поступи солдат, но, кроме ощущения их присутствия за стенами шатра, ничего не услышал. Ожидание было тяжелым, и не хватало сил прислушиваться к тишине. Хотелось снова крикнуть: «Сулла!» или «Войди!» или хоть что-нибудь крикнуть.
Вдруг я услышал дыхание. Совсем рядом, у самого моего уха. Услышал, непроизвольно дернул рукой — и уже не смог остановиться. Это первое случайное движение заставило двигаться каждую частицу моего тела, и, уже не помня себя, я упал с носилок, и, как теперь мне кажется, летел и летел в темноте, и потерял ощущение жизни раньше, чем достиг дна.
Самыми приятными, какими-то очень свободными были мгновения, когда я пришел в себя, но еще не открыл глаза. Было тепло, уютно и покойно, и я подумал, как хороша, оказывается, смерть и не бояться ее нужно, а призывать и стремиться к ней.
Но счастье мое оказалось обманным, потому что тут же я открыл глаза и увидел Суллу. Луч света, падавший откуда-то сбоку, делал половину его лица смертельно бледным, а половину черным. Он приблизил лицо так, что я ощутил запах его дыхания, и сказал шепотом:
— Император, я привез тебе Акту.
Я плохо понял, о чем он говорит, только то, что он привез что-то. Что? Плохие вести из Рима и мне уже пора бросаться на меч? Так будь милосерден, убей меня сейчас, сразу, пока я еще не отошел от смерти и снова не стал бояться ее.
Лицо Суллы отдалилось и слилось с темнотой, а луч света, идущий наискось, освещал пустоту. Я ждал удара меча, но равнодушно, без страха — ощущение уютности смерти еще не покинуло меня.
И тут — не знаю, как все это произошло и почему этот кусок времени выпал из моего сознания, — оказалось, что внутри шатра горит множество светильников, дневной свет исчез, поглощенный светом искусственным, а я сижу на краю ложа, а в самом центре шатра, куда будто специально сходится вся яркость света, стоит девушка. Стоит неподвижно, как статуя, и смотрит на меня не мигая, тем же неподвижным взглядом. Мы смотрели друг на друга, и я чувствовал, что и мой взгляд делается таким же неподвижным, как и ее, и сам я весь каменею. Голос Суллы откуда-то (словно отовсюду разом) произносит:
— Это Акта, император, дочь Сервилия Кантона, она будет любить тебя.
И только тут я все вспомнил. Время снова восстановило свое прерванное течение, и жизнь моей власти и моя жизнь опять стали одним целым. Конечно, ведь мне необходима самая чистая, и самая преданная, и самая бескорыстная любовь. Сервилий Кантон. Как же — благодетельный муж, живущий уединенно в своем поместье, кажется, не очень богатом. Когда-то занимал высокие должности в Риме. Какие? Не помню. Мог бы и не занимать. Мог бы и вообще не жить. Главное, что благодетельный муж. И не то главное, что благодетельный, а то, что я так думаю, я — Гай Цезарь.
Окаменение мое прошло, и я увидел, что стоявшая передо мной девушка живая. Я отставил ногу — больше пробуя, насколько владею собственным телом, чем намеренно, но получилось величественно, потому что вторая нога была чуть подогнута под себя. (Да, власть, она должна иметь формы, только ей, власти, присущие и только ей разрешенные.) Я окончательно сделался императором Гаем, и вслед за нужно поставленной ногой рука сама легла на бедро, при прямой спине почти дотянувшись до колена. Я сказал:
— Подойди, Акта.
Если бы я мог не узнавать своего голоса, я бы его не узнал. Ей бы не сразу подходить, а сначала вздрогнуть вежливо или, может быть, от толчка выраженной в голосе власти сделать короткий непроизвольный шаг назад, а то и два шага. Но она не сделала это, а послушно и как-то очень просто подошла. Недовольство шевельнулось во мне, но только едва-едва, и тут же потонуло в любопытстве. Она была тонка, совсем еще девочка, и ее шею я мог бы обхватить пальцами одной руки. И мне так захотелось обхватить и сжать пальцы, что моя рука, лежавшая на бедре, сама собой поднялась и потянулась к ней. Но дотянулась только до плеча и тронула плечо. Она вздрогнула, и я увидел, что ее кожа покрылась мурашками. Я убрал руку.
«Да о чем же это?» — сказал я себе и никак не мог вспомнить то, что хотел, и не мог понять, почему эта девушка, Акта, дочь Сервилия Кантона, стоит здесь, передо мной, и что ей нужно. Ах, да, любить меня. Но разве это не ее обязанность, любить своего императора?
А если развратничать со мной, то для этого есть другие женщины, более к этому ремеслу приспособленные и лучше умеющие возбуждать во мне желание…
— Акта, а ты сможешь любить меня? — сказал я, сдержав усмешку.
— Да, — еле слышно ответила она, продолжая смотреть не меня не мигая и словно бы не поняв вопроса.
— Ты понимаешь, о чем я спрашиваю?
И снова:
— Да, — судорогой губ на каменно застывшем лице.
Ну да, добродетельная любовь, я вспомнил. Такая,
чтобы не помышляла о богатстве, о славе, об особых привилегиях. И даже чтобы о собственном удовольствии и счастье не думала. По-настоящему, любовь без смысла. И зачем мне это? Теперь я не знал.
Лучше всего было отправить ее домой, к отцу, добродетельному Сервилию Кантону. Возвратить сорванный цветок. Не бросить его к ногам увядшим, но возвратить благосклонно. И сорванный цветок перестанет быть сорванным, потому что получен будет из рук императора. Императорская высшая власть преобразит собственность в подарок. Тем более что не может быть никакой настоящей собственности у того, кто подчинен высшей власти. И даже собственная жизнь не есть собственность — если император не казнит человека, то, значит, он просто дарит ему жизнь.
Лучше было бы отправить ее, а самому отправиться в Рим, чтобы… чтобы править, конечно. Но еще и чтобы удостовериться, что правлю. Последнее я даже не произнес про себя, даже не подумал, а едва только ощутил. И испугался возможной верности ощущения. Стал заставлять себя забыть, и верил, что забыл, и говорил: «Нет, не было». А оно, это ощущение, будто нарочно,! не выявляясь ясно, не облекаясь в помыслы, словно затаившись, продолжало существовать, не позволяя мне отвернуться с равнодушием. Не равнодушно забыть, а равнодушно не помнить.
— Милая Акта, ведь я так люблю тебя. Мы будем счастливы, — произнес я и сам поверил в то, что произнес. Почти равнодушно поверил.
Акта осталась у меня… Казалось, что она пробыла здесь долгие дни. Я гладил ее мраморные плечи, прикасался губами к шее — и не испытывал ничего: ни желания, ни добродетели, ни счастья. Я бы бросил все это и оттолкнул бы ее с презрением, если бы не проклятое ощущение, что там, в Риме… Не избавиться от него хотел и не победить, а вернуть время назад, за мгновение до того, как ощущение явилось. И снова пустить ход времени, но уже без этого.
Мы не покидали шатра, и никто не входил внутрь, а снаружи не было слышно ни единого движения. Ночами меня, как и прежде, мучила бессонница, но я не вставал и не бродил, как раньше, а лежал, полузакрыв глаза, и слушал ночь. Акта лежала рядом, тоже недвижимая, холодная, и, как я ни прислушивался, не мог различить в тишине звук ее дыхания. Будто холодную статую кто-то подкладывал мне на ночь в постель. Все эти дни я не трогал ее, а только прикасался.
Она пела и читала мне стихи, она знала их много. Но мне порой казалось, что, произнося слова, она не понимает их смысла… Но, наверное, в словах не было смысла и ничего понять было невозможно по-настоящему. Были красиво сочетающиеся звуки, хорошо организованные строки, но смысла… нет, смысла не было. Слова, которые не говорили, как нужно жить и что делать. В них столько раз повторялись имена богов и героев, и имена так умело сочетались с не именами, что и те и другие оставались только звуками: герои и боги лишь какими-то названиями, а их деяния — лишь комбинациями слов. Поэты выдумывали жизнь, а не объясняли ее смысл. Не было какой-то главной точки, куда устремлялось бы чувство, слыша гармонию слов. А без этой точки слова походили на изящные сосуды, в которых предполагалось вино, но которого в них, по всей видимости, не было. Поэты словно кричали: «Пейте, оно никогда не иссякнет!» — и человек, прикрыв глаза от удовольствия, представлял, что пьет, что пьянеет и насыщается, и даже как будто пьянел и насыщался, но все равно не утолял жажды. И опять повторял слова, потому что хотел пить.
Прежде я не думал об этом, и только теперь, когда Акта читала мне, когда добродетельная холодная Акта произносила красиво сочетающиеся звуки, я понял, что в сосудах пусто, и утолять жажду воображением больше не хотел.
Еще Акта рассказывала мне об отцовском доме, о сестрах, о коне по имени Минерон, который любил ее и, когда она подходила, приветствовал особенным, только ей предназначенным ржанием и тыкался теплыми губами в ее плечо. Рассказывала о своих играх и проказах и радовалась собственным воспоминаниям.
Как-то так просто получилось — или я забыл ей сказать о запрете, — что однажды она откинула полог шатра и вышла наружу. И я, как во сне, вышел за ней. Была ночь, и на небе сияло множество звезд. Акта радовалась, по-детски подпрыгивая, кружилась вокруг меня. А я, запрокинув голову, смотрел на звезды. Акта приговаривала:
— Ну же, ну же! — брала меня за руку, дергала, приглашая к танцу. Но я не мог, стоял, замерев, и с тревогой глядел на звезды.
Сулла объяснил мне, что их видно отовсюду, с любого конца земли. И видно точно так же, как и мне сейчас, — у каждого смотрящего они всегда над головой: и у императора, и у раба. И смысл этого равенства тревожен и непонятен. И над теми, кто уже сидит в Риме на моем месте, — и над ними те же звезды и точно над головой. И, значит, участь императора и участь раба, возвышение и падение есть одно только случайное сочетание точек, выпавших при игре в кости. Мы взбираемся на вершину власти, падаем в пропасть рабства, гордимся величием и плачем от унижения, говорим, что жизнь выиграна или проиграна. Но на самом деле, как в примере с сосудом, в котором лишь воображаемое вино, мы только представляем себе падения и взлеты и печалимся и радуемся единственно от этих представлений, тогда как на самом деле… Не знаю, что на самом деле. Но стоит поднять глаза к небу, как окажется, что звезды всегда над головой, неизменно. Что бы ты себе ни воображал.
Нельзя поднимать глаза к небу, когда там звезды. Только днем, когда солнце то с одной стороны, то с другой. Только ночью нельзя, ночью нужно спать, а не смотреть на звезды. Или, как Акта, смотреть на них, словно на украшение небес. И радоваться им, как украшению.
Мы выходили и днем, гуляли по окрестностям. Кругом было пусто и голо, и ни одной живой души. Хорошо, что в эти дни солнце светило ярко и трудно было поднять глаза к небу — оно ослепляло. Но даже и не поднимая глаз, я видел за белесой голубизной небесного пространства черноту со множеством белых точек. И тут же видел Рим, мой дворец и людей во дворце, чужих и враждебных. И слышал голос Акты:
— «…и я так любила: сорвешь, подуешь посильней, а они летят, летят. А ты держишь в руке другой и дуешь опять, и те еще не долетели, а эти летят. Я так любила…»
Я смотрел вдаль. Когда смотрел, звук ее голоса исчезал, и она сама, кажется, исчезала тоже. Потом слушал опять. И всякий раз, когда возвращался к ее голосу, во мне нарастало удивление. Самое настоящее и без примеси, отдельное от меня, мое, но висевшее в воздухе рядом. И я просто удивлялся, сам не понимая чему. Оно достигло того предела, когда я стал бояться, что схожу с ума. Голос рядом, пустыня передо мной, удивление, словно висящее между небом и землей — и боязнь сойти с ума. Вот это: пустыня, небо, удивление, голос, и больше никого и ничего. И самого меня нет ни здесь, ни рядом. Такое безумие наступало, и оно было страшнее смерти.
И вдруг безумие мое, как бы споткнувшись перед той чертой, за которой нет возврата, упало навзничь и уже не сумело подняться. Я увидел его лежащим и осторожно, будто боясь потревожить, отошел в сторону.
Сразу же удивление обрело смысл. Я взглянул на Акту, услышал:
— «И когда падали, то не плакали, а вставали и бежали дальше. И всем было весело…»
Услышал и перестал слышать. И сказал себе: «Зачем она здесь?» И тут же: «Почему я здесь?» Ну да, Сулла сказал, что мне нужно разочароваться в счастье. Но разочароваться в счастье — значит: песок, небо, обрывки голоса рядом, а меня нет. Ни меня, ни Рима, ни власти, ни вина, ни женщин, ни содрогания тела, ни крови — особенно той, что била фонтаном от одного только удара Клувия. И Клувия тоже нет. И нет солдат с их тяжелой поступью, когда звук их шагов равен немоте приближающейся ко мне смерти.
Разочароваться в счастье значило принять безумие. И стать бессмертным, потому что безумец не знает о смерти. А если не знает, то ее и нет.
Разочароваться в счастье. Да разве я знаю, что такое счастье! Мне приелись удовольствия, потому что я вполне познал их. От начала и до конца — ведь удовольствия, как и сама жизнь, имеют свой предел. И не со смертью наступает их предел, а много раньше. Настолько, чтобы успеть в них разочароваться. Разочароваться, возненавидеть и впасть в тоску. Попытаться отказаться от них, отнять у них определение счастья.
Но стоит только, пресытившись, уйти от них, как через некоторое время начинаешь тосковать — и опять возвращаешься к ним, возвращая им определение счастья. И если нет такого счастья, то остается тоска, уныние, одиночество. Из этих трех одиночество страшнее всего.
Есть еще семейное счастье, любовь и дети. Но это кому-то дается, а кому-то нет. Дети вырастают и уходят, жена стареет и уже не может соответствовать желанию любви. Она уже не та, которую ты любил, а другая, и хорошо, если сумеешь полюбить эту другую.
А если нет? Снова тоска, уныние, одиночество. И последнее из трех страшнее всего.
— О, боги! — воскликнул я, хотя мне казалось, что только подумал.
Акта вздрогнула и испуганно посмотрела на меня.
— Так ты, значит, можешь любить меня? — спросил я Акту.
Она не поняла, и страх в ее глазах превратился из человеческого в животный. Я на одно мгновение увидел в них самого себя. Только на одно мгновение, как при вспышке. Увидел и ослеп. И бросился вперед, больше от неожиданности, чем желая. Коснулся Акты. Но она, хотя я только коснулся ее, вырвалась и побежала.
Вслепую, только по звуку шагов, я бросился за нею, не видел ее и даже уже не слышал, но зато ясно ощущал исходившее от нее тепло, усиленное еще и движением. И собственное свое тепло, усиленное бегом, я хорошо ощущал. Им нужно было — ее теплу и моему — соприкоснуться и слиться. Почему и зачем, я не знал. Не мог знать, не умел, и незачем было.
Даже если бы я захотел остановиться, то не смог бы этого сделать. Мое телесное тепло стремилось к ее телесному теплу неукротимо. Я не схватил ее, а ударился о ее тело собственным. И повалил ее, и упал на нее. И только потом руки — тоже сами по себе — резкими, неровными и неосознанными движениями, больше судорожно, чем с направленной силой, стали рвать ее одежду, отбрасывать клочья в стороны, как мне кажется, далеко. Уже не было одежды, а руки все рвали, и рвали, и отбрасывали, и не могли остановиться. И я не мог понять, что это уже не одежда, а ее тело, живая теплая плоть, которую я пытаюсь разрывать и отбрасывать. Руки сделались мокрыми, ноздри втягивали запах крови, и я уже ничего не хотел, и мне уже ничего не нужно было, а просто я не мог остановиться.
Наверное, она кричала, не могла не кричать, только я не слышал ничего и ничего не видел. Все тепло ее плоти вошло в меня, и нечему было больше входить — Акта лежала подо мной недвижимо. И сам я, переполненный теплом, де мог пошевелиться и не обладал собственным телом. Но оно обладало мной.
Я вернулся в Рим. Оказалось, было достаточно только открыть глаза.
Да, наверное, меня подняли и несли на руках, а потом на носилках, наверное, смывали с меня ее кровь, и врачи делали все, чтобы я не умер, конечно же не понимая, что умереть я теперь не могу. Но я всего этого не знал и не хотел знать. Не чувствовал и не хотел чувствовать. И помнить все это: пустыню, и Акту, и звезды, и свое одиночество, и свой страх — помнить все это я тоже не хотел. И не помнил.
Рим встретил меня так, будто я не отсутствовал вовсе. То есть даже не встречал. Сам я не чувствовал, что люблю Рим и радуюсь встрече с ним. Но также не ощущал, что его ненавижу. Мне было все равно. Рим перестал существовать для меня — как город, как родина, как символ моей власти. И сама власть больше не казалась мне ни сладкой, ни обременительной, ни необходимой. Она просто была, как был я сам, и могла исчезнуть только со мной. Но разве я мог исчезнуть! Я сам — это было одно только мое тело, оно управляло всем, но не могло управлять самим собой. Только желания — естественные или неестественные, но только они. И больше ничего. И нет вопросов: зачем и почему? что было и что будет? — потому что, кроме желаний тела, больше не было ничего.
Меня снова мучила бессонница. И я опять ходил по ночам, с фонарем или без, и снова видел вокруг грязный разврат, удовлетворение похоти, то есть то же самое, что и у меня, — необъятная власть тела.
Я позвал к себе Суллу и сказал ему:
— Ты знаешь, мой Сулла, оказывается, тело правит мной. И все эти принципы государственности и морали есть один только пустой звук. Все это уже даже не одежды моего тела, оно больше не желает носить одежды, а желает оставаться обнаженным. И пусть о нем говорят все что угодно — ему, телу, все равно.
— Да, император, — отвечал он. — Ему все равно. И это высшая истина и высший закон. Потому высший, что неписаный. И это высшая свобода, без ограничений. Она только тогда истинная, когда без ограничений.
— Но скажи, мой Сулла, разве ты не учил меня иному? Разве ты не говорил мне о моем обязательном бессмертии, о достижении мной божественной сущности? Неужели власть тела есть бесконечность и бессмертие? И божественная суть?
Сулла молчал некоторое время, потом сказал:
— Я этого не говорил.
— Чего этого? — нетерпеливо проговорил я, и мне захотелось его ударить. Я едва сдержался, а он быстро ответил:
— Я не говорил того, что власть тела есть божественная сущность. Но я говорю, что полная власть тела есть путь, ведущий к божественной сущности. Потому что ты должен пройти все человеческое, чтобы сделаться богом. Знать и познать все человеческое, чтобы сделаться богом. Чтобы сделаться богом, тебе должно опротиветь все человеческое. И собственное тело должно опротиветь в первую очередь.
— Уйди, — процедил я сквозь зубы. — Уйди и исчезни, так, чтобы во мне стерлась память о тебе. Иначе тебе больше не жить, потому что мое тело хочет твоей крови. А меня самого нет, и я не могу противиться ему…
В самом деле, власть тела сделалась законом. Я казнил и разорял, совокуплялся с женщинами и мужчинами, выдумывал неслыханные наслаждения и невиданные игры в цирках. Наряжался актером и декламировал или пел с подмостков. И опять казнил, разорял, удовлетворялся. И все равно мое тело не могло насытиться, а желания стали повторяться, и никаких новых желаний оно выдумать уже не могло.
Оно сделалось вялым. Оказывается, силы его имели предел. И наступило время, когда оно больше уже ничего не хотело, а если и хотело, то не было сил удовлетворить желание. И тут я почувствовал, что тело перестает властвовать надо мной. Что оно, оставаясь и не исчезая, делается просто оболочкой, к тому же — вялой и тяжкой, которую так трудно носить на себе. Мало того, что тело сделалось тяжелым и слабым, оно еще стало больным. Недомогания изводили меня, и никакие снадобья врачей не приносили облегчения. Оно снова правило мной, но теперь по-иному. Прежде власть тела заключалась в его силе — и это была власть силы. Теперь она заключалась в немощи и болезнях и это была власть немощей и болезней. Я уже готов был отдаться немощам и болезням, но разве я мог! Мне необходимо было прикрывать болезни одеждами уверенности и здоровья. Власть всегда больна, но она не смеет сказаться больной.
Пиры вызывали у меня отвращение, но я пировал. Женщины не возбуждали во мне прежнего желания, но я изображал страсть, и они ничего не замечали.
Запираясь в своей комнате — а с некоторых пор я стал в ней запираться, — я полностью предавался власти болезни и немощи, лежал неподвижно и тихо стонал. Я никого не мог видеть, мне некого было пригласить к себе. Я был настолько одинок, что не мог испытывать к себе даже и жалости. Мечтал об одном — хотя и как животное страшился этого, — мечтал, чтобы заговорщики, желающие убить меня (а такие, конечно же, были), проявили бы себя умно и милосердно. Не тяжелый топот солдат за дверью, не бряцание железа и скрип ремней, а тишина, полная и абсолютная тишина за дверью, и невидимое, неслышимое приближение смерти. Лучше всего, если они подойдут к двери босиком, а еще лучше, если обнаженными. А еще лучше, если как-нибудь без движения достигнут двери. Пусть они войдут, когда меня сморит сон, пусть они дождутся этого самого глубокого сна, похожего на смерть. Когда на краткое мгновение, необходимое, чтобы от дверей добежать до моего ложа, я буду мертв. И когда они вонзят в меня лезвия мечей, мое тело не откликнется, потому что будет мертво и будет находиться не только вне пространства боли, но и вне пространства жизни. Они совершат этот ритуал моего убийства, возрадуются удачности содеянного, но я уже, даже мертвый, не буду с ними. Они станут таскать мое тело, терзать его, может быть, поволокут, привязав к хвосту лошади, по площади перед дворцом и по улицам. Они сделают мое тело непохожим на мое, сделают его не моим. Наивные, они будут думать, что расправились со мной, тогда как я буду знать, что они убили моего мучителя и власть его надо мной закончилась. Вместе с жизнью. Я и рад, что вместе с жизнью.
Тело живет в пространстве жизни и властвует в пространстве жизни и, умирая, забирает с собой это пространство. А я оказываюсь в другом, где нет тела. Где нет, может быть, ничего, но нет и этой невыносимой, унизительной, страшной, позорной власти тела.
Подземное царство Аида или небесное царство Юпитера — все это, скорее всего, выдумки, потому что два этих царства так похожи на пространство жизни. А тело, умирая, забирает с собой это пространство. Не ты оставляешь его, а оно оставляет тебя. И оказывается или должно оказаться, что пространство жизни есть только временное и, больше того, ложное пространство, которое прикрывает настоящее. Настолько плотно прикрывает, что человек и не догадывается о другом, настоящем, и принимает это, жизненное, за единственное и настоящее. Хотя если только задуматься — как же оно может быть настоящим, когда оно временно?
Если нет бессмертия, то и нет ничего, а жизнь, в самом деле, хоть краткий, хоть долгий, но миг. Я бы принял удовольствия за смысл и суть жизни, если бы они были вечными. Или если бы хоть в этой жизни представлялись вечными. Но тело дряхлеет, пространство жизни сужается, а удовольствия остаются где-то там, за границей сужения. И тогда не остается ничего — дряхлость, болезни, страх смерти. Страх потерять эту временность, которую все равно придется потерять. И ты тешишь себя мыслью — и не можешь не тешить, потому что страшно, — что, когда закончится эта временность, начнется другая временность — либо в царстве Аида, либо в царстве Юпитера. Подобие или та же самая жизнь, которую ты вот-вот потеряешь. Временность сменится временностью, а потом еще какой-нибудь временностью. И — я смеюсь над этим — разве сумма временностей дает бессмертие и бесконечность! Не дает, и, значит, есть одна только временность и одна только вечность, одна только человеческая жизнь и одно только бессмертие… Бессмертие чего, если нет тела? Я не знаю чего, но чего-то. Я хочу уснуть в то бессмертие. Заговорщики! Избавители мои! Придите, я жду вас.
Так я мечтал, и так я страшился воплощения мечты. Вот придет мой сон-смерть, вот подкрадутся они и встанут у двери, вот взломают ее, "и бросятся на меня, и пересекут расстояние от двери до ложа (всего только в краткий миг, равный времени моей жизни)… И тогда я вскакивал с постели и забывал о немощи своего тела. Что-то еще в пространстве жизни, которую я так хотел потерять, оставалось необходимым мне — сад, овраг, ствол поваленного дерева и моя сестра Друзилла, сидевшая на нем. Моя сестра Друзилла, моя жена Друзилла. Нет, нечто большее, чем сестра и жена, что-то такое единственное, что не давало мне свободно и покойно уснуть сном смерти. Что-то такое единственное я оставлял здесь, чего нельзя было оставлять. Чего нельзя было взять с собой — я знал это, — но и оставлять было нельзя.
Я крикнул. Слуги хотели войти, но дверь была заперта. Я крикнул еще раз, так громко, что оглушился собственным криком и уже не слышал его. И тогда они стали бить в дверь и ломать ее. И я забыл о слугах и решил, что это заговорщики, вскочил на ноги и бросился к противоположной стене, прижался к ней и застыл. Вот оно, избавление от позорного немощного тела. И как я страшусь избавления, и как проклинаю его!
Я должен лишиться его сам, оно само должно лишиться меня, и никто не смеет вмешаться. Зло не в том, чтобы лишиться, — это не зло, а счастье; зло в том, что никто не имеет права лишать. И когда дверь затрещала и распахнулась и люди в одно мгновение пересекли пространство от двери до ложа и остановились, как перед преградой, не имея сил преодолеть пространство от ложа до стены, где я стоял, я понял, что это пространство не может пересечь никто.
Я не понял, а только почувствовал, что же такое бессмертие и что оно есть. Это то пространство, которое никто не может пересечь, но может в нем находиться.
Мне страшно было оставаться одному, но я пересилил себя и велел слугам уйти. Сел на ложе — не лег, а сел на самый край. Неудобно сел и хотел, чтобы было неудобно. И что-то такое понял тогда, чего-то такого испугался, что уже не позволяло мне свободно возлежать на ложе. И многое, многое из того, что присуще императору, я, кажется, уже не мог делать.
И снова я почувствовал себя одиноким, еще сильнее, чем прежде. Но теперешнее чувство стало совсем иным. То есть пространство одиночества стало наполнено совсем иным. Не среди людей я был теперь одинок, а одинок сам по себе. Я, один-единственный перед огромностью неба над головой, перед звездами на небе, перед тем, что за звездами, перед тем бесконечным и вечным, что я только вот недавно сумел ощутить. И еще — я понял и почувствовал, что не я один так одинок, но что все люди вокруг — все, все, любой из живущих на земле, и даже те, кто еще не родился, а родится и будет жить, — все они так же, как я, одиноки.
Но отчего-то это новое ощущение одиночества приходило без тоски. И мало того, что без тоски, но я ощутил даже нечто бодрящее, какую-то смутную надежду на очень хорошее, которое обязательно воплотится. Стоит сделать всего только шаг, один-единственный шаг (это я отчего-то хорошо и ясно понял). Нужно было сделать шаг и пройти что-то.
Мы все одиноки под небом. Да, да, я понял — каждый сам по себе. И каждый связан с небом. Именно каждый и именно сам по себе. И все люди, страдающие таким же одиночеством, что и я, вдруг стали мне ближе и роднее. Это одиночество делало нас братьями.
Я обвел свою комнату взглядом, медленным, вглядываясь в каждый предмет и каждую вещь. Золото, дорогой металл, дорогое дерево, дорогие сосуды, и я — одинокий перед небом, укрытый от этого неба потолком. Четыре стены, пол, потолок — я внутри клетки. Я заперт и одинок. Я хочу принять в свое одиночество только двоих — Друзиллу и Суллу. Не знаю, я тогда не смог объяснить себе, но не мной, а кем-то другим надо мной, там, за границей потолка и за границей крыши, было произнесено: «Братство одиноких».
Я не спал до утра, но не уснул и утром. Бессонница, впрочем, мучила меня едва ли не еженощно. Но сейчас было другое: не бессонница, а как будто служение без сна. Кому? Небу или своему одиночеству? Я это не мог объяснить, это было выше моего разумения. Но и объяснять не хотелось, потому что слова не могли объяснить ничего. То, что я испытал и испытывал, было тем чувством, которому на человеческом языке нет объяснения и, наверное, не может быть.
Солнце поднялось уже высоко, а я все не выходил. Не то чтобы я не хотел или боялся, но я не знал — как? Как я выйду таким? Как же они, все они или даже только те, что за дверью, смогут узнать меня, опознать меня такого? Что я скажу им и что я вообще в силах теперь сказать? Мне хотелось сейчас же, тут же увидеть свое лицо, но я больше всего страшился этого. Нет, не смогу посмотреть себе в глаза, не смогу и не стану пытаться. Но что делать — выйти как-нибудь тайно и бежать? А Друзилла? А Сулла? Да и не получится выйти тайно.
Оставалось одно — притвориться прежним. Жестоким, необузданным, непредсказуемым Гаем, которого ненавидят все и никто не в силах полюбить.
Я уже понял, что жить так, как я жил, и жить здесь я больше не смогу. Понимание этого явилось мне очень просто. И даже словно бы не явилось, а жило во мне всегда. Я родился, жил как жил, но при этом знал, что все это временно, и ждал, когда можно будет перестать так жить и возможно будет уйти отсюда навсегда. То есть я помнил об этом так же, как человек помнит о смерти. Только я не боялся ухода так, как человек боится смерти, а, напротив, верил в него, хотел его и ждал. И потому теперь, когда время моего ухода было столь близко, в предвкушении его я ощущал себя почти счастливым. И еще. Мне было счастливо от того, что я все это могу рассказать Друзилле и могу рассказать Сулле, и они поймут, поверят, ощутят это каждый в себе и радостно пойдут со мной.
Нужно только дождаться их и поговорить с ними, а для этого нужно проявить терпение. Ведь если взять время всей моей прежней жизни и этот короткий отрезок, то терпеть осталось совсем недолго. Хотя, конечно, последние минуты перед свободой узнику даются, наверное, труднее всего.
Но не это казалось мне самым трудным. Самым трудным было представляться прежним Гаем. Чтобы никто ничего не мог заметить и, следовательно, не смог бы помешать… Все вокруг — во всяком случае, все вокруг меня — жили в темнице. Пусть и не зная этого, как я не знал, пока не понял другое. И они просто так не выпустят меня. Нас. Потому что как же это так — они останутся здесь, а мы вырвемся на свободу? Единственным выходом, который они признавали, была смерть. Единственным выходом и единственной свободой. И они позволят нам уйти только в смерть.
Я не держал на них зла. Ведь они, родившиеся в темнице, не знали, что есть другое, и не знали другого закона, чем закон жизни в темнице. Тогда-то, в первую минуту жалости к ним, я и подумал, что власть моя, которой я теперь не хотел, еще может оказать мне услугу. Нет, не мне, а им. Мне нужно суметь показать им то, что я открыл, и рассказать это тем языком, теми словами и в тех образах, которые будут понятны им, которые вполне соответствуют законам, образам, понятиям темницы.
Я разволновался и ходил по комнате из угла в угол. Не замечал ни времени, которое было уже поздним, ни места, где находился, ни власти, которой все еще облечен.
Услышал за дверью шорох и голосом, которому предал прежние мои капризность и властность (что, к удивлению, далось мне трудно), позвал слуг. Я правильно все сделал со своим голосом и со своим лицом, потому что, когда они вошли и наши взгляды встретились, в их глазах были почтение и страх. И страха значительно больше.
Я потребовал — ведь император не мог разговаривать иначе, — чтобы срочно послали за Марком Силаном и его женой Друзиллой. И еще чтобы охранявшие Суллу охраняли его как можно строже, не выпускали никуда и ждали бы той минуты, когда я позову его.
Слуги удалились, а мой секретарь слегка дрогнувшим голосом напомнил мне, что сегодня заседание сената.
— А кто тебе сказал, что я забыл об этом? — надвигаясь на него, мрачно проговорил я.
Он думал, что я ударю его, съежился и втянул голову в плечи. Но я, грозно постояв над ним несколько мгновений, отправил его слабым движением руки.
Я вошел, сел на свое место, капризно выпятив нижнюю губу, и оглядел ряды сенаторов с каким-то даже кровожадным выражением лица. Может, и излишне кровожадным, но я совершенно не помнил, каким был раньше, и мне все нужно было придумывать и представлять на ходу. Я видел их напряженные лица и глаза, устремленные в одну точку, на меня.
Я всегда презирал их, чего только я не проделывал с ними! Заставлял до полной потери сил бежать за моей колесницей, забирал их жен и, насладившись, возвращал обратно, расписывая мужьям все их женские прелести, движения и позы. При этом заставлял их внимательно слушать (вернее, это они себя заставляли под моим взглядом) и почтительно улыбаться. Если бы не моя власть и не их страх потерять должности, а с должностью потерять богатство и сладкую удобную жизнь, то, может быть, у меня с ними сложились бы иные отношения. Они, конечно, были людьми, как и все другие, но все-таки, как обладавшие богатством, почетом и властью, они уже и не были, собственно, людьми, но были придатком почета и власти и служили им с таким рвением, так изворотливо и хитро, будто знали, что они бессмертны.
Не знаю, что бы с ними стало и какими стали бы они, если бы у них отобрали богатство и почет. Беднее и ничтожнее, но вряд ли лучше. Тут не в богатстве и почете дело, а в осознании такого одиночества перед небом, какое осознал я. Власть и почет — это только одежды, прикрывающие человека. Но бедность и нищета — такие же одежды, только грязные и ветхие. Если человек скинет их и останется голым или если переоденется в другие одежды, внутри его самого не изменится ничего. Дело не во власти, богатстве, нищете или бедности, но в другом. Только кто же в силах объяснить им это? Кто в силах заставить их почувствовать это? Боги, которым поклоняются, потому что нужно же кому-то поклоняться? Которым поклоняются, но перед которыми нет страха. Того самого, настоящего, что может изменить жизнь — каждого и всех. Все, все родились и живут в темнице. И боги — я только здесь понял это по-настоящему — они тоже родились в темнице и живут там вместе с людьми.
Они еще что-то говорили и обсуждали, но я уже» ничего не слышал и не смотрел на них. Я встал и вышел и помню только, что за моей спиной наступила тишина. Враждебная тишина, из которой могла легко протянуться и ударить мне в спину рука с мечом или кинжалом или легко могли выступить руки, которые одним движением сомкнут пальцы на моем горле по-настоящему твердой и по-настоящему окончательной хваткой.
Теперь я страшился смерти больше, чем прежде. Со смертью моя жизнь в темнице окончилась бы темницей, и я, чувствуя, как застыла и окаменела спина, шея и руки, бросился вперед на уже каменеющих ногах, ощущая каждый свой шаг как последний и боясь упасть, удариться и развалиться на части, которые с тяжелым грохотом раскатятся в разные стороны.
Не помню, что было дальше. Упал, ударился, и меня понесли, или я добежал сам, и заперся у себя, и велел никого не допускать к себе. Или, может быть, как раньше, сидел на пиру с теми, которых называл своими друзьями, и велел приглянувшейся мне женщине, жене одного из сидевших рядом, выйти со мной, и там под крики пирующих делал с ней то, что делал всю мою жизнь с женщинами, заставляя их кричать то ли от боли и страха, то ли от страха и страсти. А потом возвращался со сладкой улыбкой на лице, подводил ее к мужу, усаживал рядом с мужем и долго во всех подробностях обсуждал, хороша она была или плоха, в чем хороша, а в чем не очень, но что последний ее крик был явно не притворным. Друзья поднимали чаши, и пили за мою мужскую силу, и кричали: «Да здравствует Гай! Да здравствует император!» — пьяными и отвратительными голосами.
Не знаю и не могу сказать, было ли это. Но могло быть — ведь было же прежде.
Я сидел в кресле у стола, но, когда дверь открылась и вошел Марк Силан, теперешний муж моей Друзиллы, я встал при его приближении, чего никогда не делал при приближении любого из подданных и что мне, императору, не только не положено, но как бы негласно запрещено делать. Марк почтительно склонился передо мной и произнес обычное приветствие. Я отвечал, что рад видеть его и что рад больше, чем он может себе представить. Я смотрел на него, он на меня, и вдруг я почувствовал, что не знаю, что должен говорить, и что совсем не готов к разговору.
Все я делаю не так, а нужно было посоветоваться с Суллой. Или нет — все делаю так, и нечего мне с ним советоваться, потому что я же не тот прежний Гай, а о нынешнем никто еще не знает и вряд ли кто-то сможет его свободно и спокойно принять. Да и сам я принимаю себя такого больше с удивлением и радостью, чем спокойно, как очевидную и неизменную данность.
Мы молчали долго. Наконец я сказал:
— Ты знаешь, Марк, что Друзилла мне больше, чем сестра. И вообще — больше. Ты понимаешь меня?
Он сказал:
— Да, император. — И опустил глаза.
— Не то, не то ты понимаешь, не так! — Раздражение поднялось во мне, захотелось взять его за плечи и тряхнуть с силой раз и другой, но я сдержался.
Я сдержался, помолчал опять и как можно спокойнее продолжил:
— Не о Друзилле я хотел говорить с тобой. То есть сейчас не о ней. О ней после. Сейчас обо мне, потому что того, кого ты сейчас видишь перед собой, теперь нет. И я, Гай, не тот Гай, которого знают все. Я уже не император… и не насильник, и не буйно помешанный, не тот, который отбирает жен у мужей и возвращает их, насладившись. Нет, не в этом дело, но ты понимаешь, что того прежнего Гая уже нет. Нет вообще и никогда не будет. Он не умер, его просто нет. И все, что ты знаешь о нем, — это сон. Дурной, болезненный сон. Или бред, как во время долгой бессонницы. Ну скажи мне, ты понял?
— Да, император, — отвечал он.
— Садись. Вот сюда. Так, стоя, я вижу, ты плохо понимаешь. Пойми, я не император, и не нужно говорить со мной, как с императором. Это все равно, как если бы ты говорил, находясь в комнате один. Ну, садись, садись. Ты понимаешь меня?
Я усадил его почти насильно, а сам опустился перед ним на колени и, крепко ухватив за одежду у пояса и подергивая ее взад и вперед и в стороны, спросил:
— Ты понимаешь меня, понимаешь? Понимаешь?
Он смотрел на меня испуганно, он ничего не понимал. Он видел прежнего Гая и не мог видеть иного. Он не слышал того, что я говорил, но зато хорошо видел, что я делал. И все мои движения, и звук голоса, и жесты, и нетерпение, и раздражительность, и резкие дерганья одежды, и то, что я стоял перед ним, сидящим, на коленях, — все это были проявления прежнего Гая. Я вдруг увидел себя его глазами, и мне сделалось страшно. Не оттого мне сделалось страшно, что я увидел себя его глазами, а оттого, что я увидел прежнего Гая. Не этого нового, который вынужден притворяться прежним, а того настоящего, прежнего, который почему-то не умер и который, как и всегда, проявляет нетерпение, власть и жестокость. Я с трудом поднялся, с трудом сделал два шага и опустился в кресло.
— Ты знаешь, Марк, — сказал я тихо, не глядя на него, а глядя на плитки пола перед собой; так тихо, что он, может быть, просто плохо слышал меня. — Ты знаешь, Марк, что такое одиночество каждого человека перед небом? И еще, ты знаешь, нет никакого Олимпа и никаких богов там нет, а небо не имеет конца и не имеет тверди. И не имеет лица, похожего на человеческое. Это совсем другое, это то, перед чем мы одиноки. И ты, и я, и Друзилла, и все, все люди. Пусть только я один знаю об этом, но одиноки все. Отдай мне Друзиллу, Марк! Верни мне ее! Не для наслаждений нужна мне она. Верни мне Друзиллу и сам будь со мной рядом. Ты, я, она и еще мой Сулла — вы поймете, вы должны будете понять, что такое одиночество каждого перед небом. Будем только мы четверо, пока только мы. Мы составим «братство одиноких». Мы уйдем из Рима, уйдем от власти и богатства. Уйдем, чтобы до конца понять, что такое одиночество каждого, и чтобы понять, что такое братство одиноких — не союз, не родственность, а братство. И тогда, когда мы познаем это, по-настоящему почувствуем себя братьями, мы вернемся, чтобы объяснить это другим. Нет, не объяснить — показать. Показать, что власть, богатство, сытость, вожделение не только дурные, но и бессмысленные вещи и что жить можно только законом неба, а закон земли — это отсвет небесного закона. И любой другой закон — это ложный закон темницы. В земном законе обязательно должен быть свет — звездный ли, солнечный ли, но обязательно небесный. Лучше я не могу тебе объяснить. Не умею. Это надо прожить.
Я медленно поднял голову и посмотрел на него. Он не смотрел мне в глаза, но ниже.
— Ну скажи! — из последних сил, едва сумел выговорить я.
И он, тоже, кажется, из последних сил тихо выговорил:
— Да… — А через несколько мгновений еще тише, и я только по губам понял слово: — Император.
Я хотел сказать ему, что, конечно, он не верит и не понимает, а я не могу объяснить ему всего и не могу заставить верить. Он сам, не понимая, должен хотеть поверить и пойти со мной по моему пути.
Хотел сказать это и еще что-то главное, что было во мне и не складывалось в слова, но больше ничего не смог произнести голосом. Ни единого слова.
Марк ушел незаметно. Исчез так, как если бы постепенно растворился в выступившей на моих глазах влаге. А я плакал и плакал без голоса и не мог остановиться. Было дуновение от двери, и легкие шаги, и прикосновение теплой ладони к моему затылку.
— Гай! Не плачь, Гай! Это я, Друзилла.
Не поднимая головы, я нашел ее руку, стянул ее с затылка, прижал к губам и уже не мог оторваться. Наконец я перестал плакать, слезы высохли, и я поднял глаза. Кажется, лицо Друзиллы изменилось — еще не морщины, но преддверие их уже отпечаталось на ее лице. Она села мне на колени, обняла крепко-крепко, прижалась щекой к моей щеке, так что я не мог ни шевелиться, ни говорить. Она гладила мои плечи и грудь, целовала лицо и шею, а я сидел недвижимый и безмолвный и не чувствовал ничего, что я должен был чувствовать, когда любимая ласкает тебя.
Я любил ее, но это было совсем не то, что прежде, потому что вожделения или просто мужского чувства я не ощущал в себе. Я — да простит небо мое несовершенство — стыдился того, что не ощущаю, и готов был притворно вызвать в себе вожделение и страсть. Но ничего не получалось, кроме какой-то особенной нежности: не холодной, не горячей, не теплой, а просто нежности, как к ребенку, — ничего больше, кроме этого, я ни вызвать, ни возбудить в себе не мог. Но Друзилла словно бы не замечала ничего, продолжала ласкать меня и вжималась в меня все глубже и глубже.
— Пойдем, — шепнула она, встала и потянула меня к ложу.
Я послушно пошел за ней и лег. Она сбросила с себя одежду, раздела меня и легла рядом, прижавшись ко мне всем телом.
Я согласен был так лежать с ней. Я даже легонько проводил рукой по ее спине. Только одно было плохо — что оба мы были обнажены и мне, может быть, впервые за всю мою жизнь сделалось стыдно. Протянул руку, чтобы достать покрывало и прикрыться, но, как ни силился и ни вытягивал руку, не мог дотянуться. Ложе мое оказалось слишком широким, а Друзилла обнимала меня и прижималась ко мне слишком крепко. Впрочем, скоро я оставил попытки и сказал себе, что и это нужно вытерпеть, тем более что Друзилла перестала лежать недвижно, а стала проделывать со мной то, что проделывала прежде. Скорее даже то, что я с ней делал раньше, чему я сам ее научил. Мы словно бы поменялись местами, и это она была мужчиной, а я женщиной, она была в силе и во власти наслаждения, а моим уделом была покорность. И я покорялся. Это оказалось совсем нетрудным, тем более что ни для сопротивления, ни для просьб не делать со мной то, что она делала, у меня не хватало сил.
Будь это прежним временем и будь я прежним Гаем, я с удовольствием описал бы все те вещи, которые она проделывала со мной. Две или три были новые, незнакомые мне. Но это если бы я был прежним. Но я уже не был им и покорился, как женщина, подчиняющаяся силе. У меня, как у женщины, кроме покорности, не было другого выхода. О небо! Я никогда не мог себе представить, какая это мука, когда человек подвергается насилию. Когда женщина — а я теперь был на месте женщины — подвергается насилию и терпит его бессловесно. Как это страшно и как это унизительно даже тогда, когда насилие над тобой совершает любимая. Насилие все равно насилие, кем бы оно ни совершалось. А разве этого мне хотелось от нее? И разве для такого воплощения предназначена была моя нежность, которую я и сейчас, несмотря на унижение, все равно чувствовал к ней? Не знаю как, не знаю почему, но нежность была сильнее. Я закрыл глаза и стал опускаться куда-то, удаляться от нее. И от себя самого тоже. Я почти перестал слышать ее учащенное дыхание, стон и вопли, мне даже порой казалось, что это кричит не страсть, а страх и что ее, мою Друзиллу, мою сестру, жену, больше, чем сестру и жену, подвергают насилию другие, другой. Другие, со злыми и беспощадными лицами. И если я сейчас не приду на помощь, они растерзают ее и ее больше не будет никогда.
Мне нужно было скинуть с себя оцепенение, вернуться в себя, открыть глаза, отобрать ее у них, может быть, бежать с ней. Но я не мог. И ее крики, стоны делались все отдаленнее, словно бы не те, другие, терзали ее, а сама смерть обхватила ее плотно, и мне уже никогда не вырвать ее из смерти.
Я знал, что еще не поздно, знал, что нужно было сделать и что можно было сделать, чтобы не допустить необратимости. Я должен был просить у нее прощения, и она должна была простить меня. Прощение за все, что я делал с ней, за то, каким я был, за то, как жил и властвовал. И еще за то, что родился ее братом и смешал ее кровь со своей, бездумно и жестоко. Любое наказание, которое она бы потребовала для меня, я принял бы с благодарностью. Пусть она потребует все, что угодно, даже моей смерти, лишь бы простила. Ее прощение было необходимо теперь больше, чем способность дышать и жить.
Я произносил это раз за разом в себе, и, хотя губы не издали ни единого звука, произносимое мной переполнило меня настолько, что я ощутил боль в каждой частичке своего тела, боль стала невыносимой, и мне показалось, что меня вот-вот разорвет на части. Сознание мое помутилось — и тут я открыл глаза.
Я увидел перед собой искаженное болью лицо (не болью страха, а болью страсти), настолько страшное, что в первую минуту мне почудилось, что это вовсе не Друзилла. Не она, не другая женщина или мужчина и не человек. Не человек, а злой дух в человеческом образе, и что, может быть, дух этот не земного, а какого-то другого происхождения. Не говорю — небесного, но другого. Страсть ее была дикой, никогда не видел ее такой и никогда не думал, что увижу. Наверное, прежде таким же был я. Прежде, когда сам совершал над ней насилие — и кричал, и вопил от страсти. Вот он, злой дух, в самом чистом виде. Страсть и вожделение — самое точное воплощение злого, самое действенное и простое.
Когда я увидел такое ее лицо, я не посмел не только сказать ей что-либо, но даже и подумать о словах прощения. Пусть я ее сделал такой и это моя вина, и мне ничем не искупить ее. И нечем. Но разве я могу просить прощения у этого злого духа и разве он сможет, если даже я решусь, принять мои слова?
Нежность, которую я ощущал к ней, исчезла тоже. Она перестала быть, как будто ее и не существовало никогда. Друзилла — а это все-таки была она — забилась в судорогах, и застонала, и замерла, тяжело дыша. И лицо ее, каждая черточка ее лица словно бы оплавилась и медленно стекла вниз, стерев сначала выражение лица, а потом и само лицо.
Она не легла рядом со мной, а упала рядом. Рука ее, рухнувшая на мою грудь, была холодна. Так она лежала некоторое время, то вздрагивая всем телом, то замирая.
Прошло много времени, прежде чем я почувствовал, что рука ее потеплела, а когда повернулся к ней, увидел, что лицо ее сделалось прежним: красивым, нежным лицом моей Друзиллы. Трудно было представить, невозможно было представить, что вот только недавно это было лицо злого духа, кричащего надо мной, терзающего меня, уничтожающего и меня, и себя.
Я привстал, дотянулся до покрывала, накрылся сам и накрыл Друзиллу. Она открыла глаза, резким и сильным движением руки сбросила с себя покрывало, тихо и устало проговорила:
— Жарко. — И лежала обнаженная передо мной, а мне отчего-то неловко было смотреть на ее наготу.
Я отвернулся. Я думал, что сейчас не время говорить с ней, но мне очень хотелось. И как ни странно, казалось, что такого другого случая может не представиться. Но мешало наше ложе и еще то, что она была обнажена.
Я долго не решался начать. И тут рука Друзиллы стала гладить мне грудь, живот, и я почувствовал, что если я сейчас не начну свое, она начнет свое, то есть будет снова делать со мной то, что делала только что. Я перехватил ее руку, стиснул, стянул со своей груди на простыню, прижал. И тут же сказал — торопливее, чем собирался:
— Знаешь, мне обязательно нужно сказать тебе. Обязательно нужно сказать тебе что-то… Ты слышишь меня?
— Слы-ы-шу, — отозвалась она, растягивая звуки, и в том, как она это произнесла, в самих звуках было то же самое, непереносимое мной вожделение.
И потому я заговорил торопливо, уже не только для того, чтобы сказать, а больше для того, чтобы прикрыть вожделение звуками собственного голоса и не слышать, не ощущать, не замечать его.
Я говорил ей о небе, об одиночестве каждого перед небом, о том, что тот прежний Гай умер и никогда не воскреснет. Я не допущу, если это даже будет возможно, чтобы он воскрес. И еще я сказал ей о том, что Олимп и боги на Олимпе — одни только людские выдумки и что все наше рождение и вся наша жизнь есть рождение и жизнь в темнице. И что тот закон, по которому мы живем, есть закон неволи. И это плохой, ложный закон, а есть закон неба, которого я не знаю, но знаю, что он есть, и что для познания его нужно жить по-другому и стать другим.
Еще я ей сказал, что, кроме нее и Суллы, нет у меня на земле ни одного близкого человека. И еще, что я ощущаю к ней такую нежность, которую невозможно выразить словами. И еще то я сказал ей, что вожделение, которое она испытывает, есть самое низкое, самое подлое из того, что может испытывать человек. Это надо понять, надо как бы родиться заново, отбросив прежнего себя и никогда не возвращаться к прежнему.
Еще я ей сказал, что хочу создать «братство одиноких», в котором сначала будут только трое — я, она и Сулла. И мы уйдем из Рима — от власти, славы, богатства, удобства и роскоши жизни. И главное, от самих себя прежних. Забудем себя, чтобы стать другими, чтобы познать закон неба, и потом, когда мы познаем его, вернемся и принесем его людям.
Говорил, повторял, говорил снова и уже не сознавал, что говорю, но сознавал, что не могу остановиться. Наконец, словно бы слова закончились во мне, я замолчал. Молчал, лежал неподвижно, боясь повернуться к ней, и ждал, ждал, ждал ее ответа.
Услышал, как она вздохнула и потянулась и опять вздохнула лениво и с удовольствием.
— Как ты все это красиво говоришь, Гай, — сказала она лениво и отрешенно, повернувшись ко мне и обняв меня. — Я никогда не думала, что ты так можешь.
— Ты не слушала меня.
— Нет, Гай, слушала. Мне было так интересно. Ты ведь никогда со мной не говорил.
— Но ты поняла? Ты поняла, что…
— Не знаю, но мне было приятно.
Я почувствовал унижение, почти такое же, как и тогда, когда она совершала надо мной насилие. И еще досаду. Досада, может быть, была даже сильнее унижения.
— Ты знаешь, — проговорил я и не узнал собственного голоса — таким он был притворным и уж слишком очевидно стремившимся быть естественным, — я хотел спросить тебя: ты любишь мужа?
— А? — сказала она.
— Да, мужа. Ты любишь Марка?
— Зачем ты спрашиваешь, Гай, — проговорила она холодно. — Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя.
— Значит, то, что я сказал… Ты принимаешь то, что я сказал?
— Не знаю, Гай… Конечно, принимаю. Как ты хочешь.
— Ты понимаешь, что всем нам нужно бросить и уйти…
— Конечно, — кивнула она, — я пойду с тобой. Как ты захочешь. Только не оставляй меня и не отдавай… ну, никому. Я не хочу возвращаться…
— Нет, нет, — я обнял ее, — я тебя никому не отдам.
Нежность. Я снова почувствовал ту же самую нежность. Мне хотелось взять Друзиллу на руки и уложить в себя, внутрь себя. Я провел рукой по ее лицу и шее, прижал ее голову к груди:
— Мы пойдем вместе, и я никому тебя не отдам.
Мы долго лежали обнявшись. Так можно было лежать
всегда, вечно, и ничего больше не нужно было: она со мной, во мне, и весь мир во мне, и нет для меня другого мира.
— Гай! — Она подняла голову и потянулась к моему уху. — Ты меня слышишь?
— Да, — тоже едва слышно ответил я.
— Гай, я опять хочу тебя.
— Но… — начал было я, но она накрыла ладонью мои губы: — Я опять хочу тебя.
— Но, Друзилла, ты же сама сказала… — Мне трудно было говорить, потому что она не отнимала ладони.
— Нет, нет, молчи, ведь ты же любишь меня. И я люблю. Разве ты не любишь меня, Гай?
— Да… — только и успел ответить я.
А губы ее уже целовали мою грудь и нетерпеливо скользили все ниже и ниже.
В этот раз я не был холоден. Страсть пробудилась во мне, настоящая прежняя страсть. Не думал, что она когда-нибудь может вернуться. Но, кажется, за то время, пока она дремала во мне, она стала какой-то отчаянной и откровенной. Мы кричали, мы делали друг с другом то, что не делали никогда, наслаждались и не могли насладиться. Я забыл обо всем и не хотел ни о чем вспоминать. Страсть правила мной. Друзилла правила мной, и мне было хорошо. Не было никакого злого духа, и лицо Друзиллы казалось особенно красивым. Я обо всем забыл, я совершенно обо всем забыл. Мне было все равно, было безразлично, тот ли это Гай, которого я называл умершим, или этот — возродившийся и живущий. Я ни разу не подумал об этом.
Потом мы снова лежали рядом — тела, только тела. Усталые, утомленные до бесчувственности. И теперь я не тянулся за покрывалом, чтобы прикрыть наготу. Она не была стыдной, она просто никакой не была. Нагота или нет — какая разница, с наготой даже удобнее.
Мне кажется, что мы не покидали комнату несколько дней. Это так кажется, я не знаю точно — пусть и несколько часов не выходили, но, значит, эти несколько часов растянулись надолго.
Она сказала мне:
— Ты не отпустишь меня?
Я сказал:
— Да.
— Никогда? — сказала она.
— Никогда, — отвечал я. — Только сейчас иди побудь с Марком. А потом — никогда.
Она молча оделась и молча вышла. Я не ощущал себя предателем и не ощущал себя нарушившим слово. Дело в том, что не ощущал себя никак: ни прежним Гаем, ни нынешним, ни императором, ни не императором. Я был только одно опустошенное страстью тело, и уже не тело правило мной, не страсть, а одни только усталость и утомленность. И еще — опустошенность и равнодушие. Нежность, любовь или сама страсть, все это было не важным и не занимало меня. Дух, небо, новый Гай — этого просто не было. Не перестало быть, но словно и не было никогда.
Я, впрочем, помнил о том, что надо же что-то делать. Что если я так буду продолжать сидеть в комнате, то не только власть моя кончится, но и жизнь. И тогда в самом деле не будет ничего — ни того пути, который был, ни этого, который только начинался.
Но как было выйти! Я не мог себя заставить. Не только их — слуг, сенаторов, друзей — я не мог видеть, но даже и просто домов, улиц, помещений моего дворца, зелени, небесного света — ничего. Знал, что должен действовать, и в то же время знал, что должен ждать. Не потому ждать, что не в силах был действовать, а почему-то по-другому. Это чувство — не убеждение, а чувство, — что необходимо ждать, было сильнее знания, что необходимо действовать. Я словно бы потерял сам себя, и воля не имела уже никакого значения. Но потеря самого себя (при всей опустошенности внутри) хотя и не давала радости, но и не повергала в уныние. Потеря самого себя была закономерной. И самое большее, чего я мог страшиться, это вернуться в самого себя и продолжать жить волей, а значит, страстями, прихотями, случайно пришедшими решениями. Да и просто правотой сознания, которое на самом деле не может быть правотой.
И я понял, что жить волей — значит жить в неволе.
Сколько же мне лет? Порой я забывал сколько. Порой казалось, что я только-только родился и не знаю ничего и понять ничего не могу. А порой казалось, что я дряхлый старец и порог смерти в каком-нибудь шаге от меня. И даже в полушаге. А я тоже ничего не знаю, не ведаю и ничему не научился.
Передо мной стоял человек. Первое было: кто посмел войти сюда без моего разрешения?! Это было императорское. И тут же, зачеркнув императорское, было: кто же пожалел меня и, несмотря ни на что, пришел разделить со мной мое одиночество?
Сулла. Это был он. Плохо осознавая, что я делаю, и не успев ни о чем подумать, я бросился к нему, обнял его и закрыл глаза. Шептал — не помню, про себя или вслух: «Где же ты был так долго! Почему и за что ты оставил меня!» И долго не мог от него оторваться. Не мог оторваться как от единственного моего друга или скорее как от собственного страдания, от которого я бежал и одновременно без которого не мог жить.
Наконец мы сели: я в свое кресло, он напротив меня. Мне трудно было поднять на него глаза. Не стыд за то, что я так обращался с ним, не мое прежнее императорство, а что-то другое было причиной. Мне казалось, что в его глазах я увижу отражение собственного своего лица, а я так боялся его увидеть. Казалось, если увижу и пойму, какое это лицо, то все — я сделаю те полшага, что отделяют меня от смерти. И тогда уже не будет ничего — ни жизни, ни знания, ни страдания. Последнее мне было страшнее всего потерять.
Я не мог поднять на него глаза и не поднимал их, но все, что было у меня в последнее время, и все, что происходило со мной — небо, одиночество, «братство одиноких», — все это собралось внутри в какой-то плотный сгусток, так, как не собиралось никогда. В этом сгустке были и цельность, и четкая разделенность на части — сам я прежде так ясно никогда не понимал, что такое небо, одиночество под небом и «братство одиноких». Что такое мир в темнице и что такое страдание. И что страдание есть освобождение из темницы и путь к небу.
И тут Сулла сказал:
— Да, Гай, я внимательно слушаю тебя.
Я не произнес еще ничего, ни единого слова, а он уже назвал меня Гаем и сказал, что слушает. Если бы не страх, что сгусток того, что я несу в себе, исчезнет и я вдруг снова сделаюсь пустым, я бросился бы ему на шею. Благодарность, отчаянную благодарность я ощутил к нему. Настолько сильную, что она на некоторое время прикрыла собой сгусток, потопила его в себе — я даже пошевелился, чтобы проверить, здесь ли он и не было ли его присутствие иллюзией и обманом. Нет, сгусток был. И тогда я стал говорить.
Странно, что я не помню того, что говорил, то есть ни одного слова. То, что было во мне, говорило само, и я только знал, что оно говорило ясно и правильно, так, как мне самому не дано было высказать. И даже, наверное, не дано ощутить.
Когда я закончил или, вернее, когда это закончилось во мне, я произнес уже сам:
— Ты понял меня, Сулла?
— Да, Гай, я понял, — отвечал он, и больше не было необходимости спрашивать, потому что я знал, что он понял и что теперь есть на свете человек, который вместе со мной знает о небе, одиночестве и «братстве одиноких». И еще, что страдание есть освобождение.
И он сказал:
— Ты в самом деле Божественный Гай, и если бы не небо и одиночество, которое ты открыл мне, которое выше любого из нас и выше всего, — если бы не это, то я самым высшим счастьем и самой высшей радостью почитал бы поклоняться тебе.
Я слушал его, а сам думал с сожалением: «Что же еще добавить к тому, что я сказал, чтобы получить такой же ответ!» Мне так хотелось слышать его такие слова в ответ на мои объяснения. Никогда не думал, что похвала может быть такой сладкой.
Я велел, чтобы ему приготовили комнату рядом с моими покоями и чтобы он свободно мог приходить ко мне в любое время дня и ночи. Сенатор Сулла, приближенный Сулла — чем я мог его наградить! Я уже не император, но брат. Братством? Но разве это награда! Это совместное страдание. Это он наградил меня братством в такой же мере, как и я наградил его. Не знаю, не могу больше говорить. И чем больше говорю, тем лучше понимаю, что выказываю радость, а не суть, и тем сильнее страшусь, что радость поглотит суть, потому что и у радости есть и должна быть мера. И только у сути нет ее.
Я рассказал ему о желании бежать. И он сказал «да» — так просто и бездумно, будто мы собирались на прогулку или будто мы уже совершили побег. Я хотел, чтобы он удивился, чтобы озаботился, чтобы сомнения родились в нем и чтобы я имел возможность доказать ему, что это единственный путь, единственный выход и единственная возможность освобождения. Так хотелось быть учителем, вестником неба, так хотелось быть носителем Истины, то есть обладать значительно большей властью, чем императорская. Властью убеждения внутри братства одиноких и равных.
Я вполне сознавал, что власть снова тянет меня к себе. Что привычка властвовать переходит и на братство, разрушая его. Понимал, что братство скрепляется только личным примером, а не властью поучения. Но я не мог себя преодолеть и так хотелось власти, так хотелось быть первым среди равных. И это простое «да» Суллы было неприятно мне. Я не мог простить ему того, что он так быстро понял и принял. Мне жаль было времени своих страданий и силы их, и я не мог смириться, что он так просто понял и принял меня, не пройдя моего пути.
— И ты пойдешь за мной, как бы ни было трудно? — упрямо спрашивал я его.
— Да, я пойду с тобой, Гай, — отвечал он неизменно.
Он говорил «с тобой», а я ждал и желал, чтобы он сказал «за тобой».
Оставаясь один и размышляя о братстве, я сознавал, что желанием быть первым я разрушаю его. И мне хотелось бежать, пасть на колени перед Суллой, просить у него прощения и говорить ему, говорить, что сам я не знаю ничего и что гордость и желание власти заставляют меня учить. И что не истина учит, а только это непреодолимое желание, и что мы пойдем вместе, равные, и что он должен знать это.
Но я не мог пересилить себя и не шел к нему. Говорил себе, что да, братство может быть только братством равных и одиноких, но все равно кто-то же должен вести, кто-то же должен разъяснить и утешить. Ведь все не могут знать пути, а кому-то суждено знать и вести. И это высшая ответственность, высшее проявление страдания — знать и вести. Но тут же я возражал себе, что и сам толком ничего не знаю, и когда говорю «вести», то подразумеваю собственную волю, а не волю неба, и, значит, возможно, иду не туда. Мне представлялось, что Сулла не один, а их великое множество, и их всех я веду не туда. Но разве я могу показать им свои сомнения и разве они, если я открыто о них скажу, не разрушат веру в меня и в тот путь, на который я их зову?
Я мучился, не шел к Сулле и не говорил ему о своих сомнениях. А когда он приходил, я снова говорил ему то, что говорил раньше, повторял, и повторял, и чувствовал настоящее, до этого не изведанное наслаждение от того, что я знаю и говорю, а он воспринимает и учится.
В продолжение нескольких дней я не вспоминал о Друзилле. Потом, когда разговоры с Суллой сделались почти абсолютным повторением один другого и наслаждение от того, что я учу, а он учится, если не исчезло совсем, то, по крайней мере, заметно побледнело и оставалось наслаждением только по определению, — тогда я несколько заскучал. Мне хотелось, чтобы и Сулла говорил, как он прежде говорил со мной, но он молчал, слушал меня, отвечал односложно и только повторял время от времени, что я божествен, и при этом называл меня не императором, но Гаем. Я так притомился, что если бы не небо, не братство, то я и вовсе, может быть, не смог бы выносить его присутствия. Он казался мне теперь скучным, обычным, и все то, что он открывал мне раньше, и та необходимость в нем, которую я ощущал всегда, — словно бы ничего этого никогда и не было.
Но ведь это он с самого начала говорил о бессмертии и божественности, и мне всегда казалось, что это он привел меня к тому, к чему я пришел. Даже могу сказать, что когда-то он был моим учителем. Так отчего же теперь молчит он и бессловесно внимает своему ученику! И о каком настоящем братстве можно говорить, если я веду, а он послушно идет за мной.
Я смотрел на него, и, когда раздражение поднималось во мне до самой словесной черты, я с трудом останавливал себя и произносил про себя: «Брат мой». И еще говорил себе, что люблю Суллу как друга, как брата и больше, чем друга и брата. Но когда говорил это «люблю», то вспоминал о Друзилле. Говорил о Сулле, а вспоминал ее и чувствовал к ней…
Нет, не нежность, как к ребенку, — этого не было больше, а чувствовал как женщину, как любовницу. Чувствовал как тот образ злого духа, который я когда-то видел в ее лице. И похоть — не страсть, а самая откровенная похоть — именно в лице этого злого духа проявлялась и набухала во мне. Я кричал про себя: «Брат, брат!», — я заклинал себя этим, но уже не видел Суллы, не слышал того, что кричал, а видел Друзиллу со страшным лицом злого духа, и мои крики: «Брат!» — переходили в ее истошные вопли, которые рвали, корежили и одновременно услаждали мой слух.
И тогда Сулла исчезал, а Друзилла входила — не по моему разрешению, а по моему зову, — и я нетерпеливо бросался к ней, на ходу срывая с себя одежду, и мы падали на ложе и забывали, что мы люди, и не хотели знать, что мы люди… И вообще ничего не хотели знать.
После было все то же — усталость и опустошение, и долгое лежание обнаженных тел друг возле друга, постепенное их заполнение страстью и новое отчаянное соитие.
Как мне хотелось говорить с ней только недавно. А сейчас не мог. Не то чтобы не было необходимости и не то чтобы не было желания, но мы не были теперь людьми (я — Гай, она — Друзилла), а были лишь нашими телесными оболочками: я — мужской, она — женской. И наш разговор страстью происходил ежедневно, и другого быть не могло — не нужно, бессмысленно и излишне.
Сулла не приходил ко мне, хотя мог. А я не стремился его видеть. Что тут говорить — я просто стыдился. Видеть его не мог, а отправить куда-нибудь подальше, отдалить не решался. Часто, особенно когда проходил мимо его комнаты, я испытывал желание, чтобы его не было вообще. Не так, чтобы был, а сейчас перестал быть. Не так, чтобы он сейчас перестал быть, а все прежнее осталось бы в моей памяти, а так, чтобы из памяти нечего было стирать.
С того времени, когда все это возобновилось с Друзиллой, я стал жить прежней своей жизнью. И это произошло помимо моего желания, как-то само собой. Я снова устраивал игры в цирке, заседал в сенате, подписывал законы и распоряжения, пировал с друзьями (во всяком случае, с теми, кого я снова стал так именовать).
Вернуться в прежнюю жизнь оказалось просто. Получалось, что она никогда никуда не уходила, а я, простец, с нею так мучительно и торжественно распрощался. Прежняя жизнь текла по-прежнему, и не нашлось в ней ничего нового, и мне теперь казалось, что она была всегда, а ее мнимая смерть была только сном или бредом моей обычной бессонницы.
«Прежняя», «по-прежнему» — в самом деле, ничего не изменилось. И та моя тоска, которая была связана с этим прежним, явилась вновь. А правильнее, опять продолжилась.
Все эти пиры, забавы и так называемые государственные дела — все они повторялись изо дня в день с такой утомительной настойчивостью, что я просто физически ощутил, что не я живу ими, а они живут мной. Живут мной, пользуются мной, съедают меня. Куда же уйти тоске? Ей некуда было уходить. Все шло по кругу, равномерно и обыденно, и, чтобы попытаться унять тоску, нужно было остановиться. А остановиться было невозможно, потому что время шло неостановимо.
Наши с Друзиллой разговоры тел, как и все остальное в этой прежней жизни, стали мне приедаться. Они утомляли своей однообразностью, опустошали так, что тело не успевало наполняться, а проявления страсти сделались больше привычкой, чем необходимостью. И все равно это было лучше, чем пиры и государственные дела, — в этом я забывался больше, и тоска после этого не чувствовалась так остро, потому что страсть, опустошавшая тело, забирала с собой и часть тоски.
* * *
Я ждал Друзиллу, когда дверь открылась и вошел Сулла. Стыд и гнев одновременно поднялись во мне, когда он вошел. Но когда он подошел ближе и я взглянул в его лицо, то почувствовал страх.
— Я пришел не убивать тебя, Гай, хотя мне этого больше всего хочется, — сказал он. — Я пришел спросить тебя: ты перестал быть моим братом? И еще спросить: нет больше неба, нет одиночества под небом и нет, — тут он усмехнулся, — «братства одиноких»?
Я не отвечал, смотрел на него, и мой страх не проходил.
— Ты мне говорил, — продолжал он, — что прежний Гай умер. Ты обманул меня, и я пришел сказать тебе об этом. И о том, что я хочу убить тебя. Я знаю, что убить тебя — это все равно что убить себя. Да мне, может быть, и не позволят этого сделать. Я бы убил себя сам, я готов к этому и желаю умереть больше всего на свете. Но если бы в последнюю минуту я мог не думать, что ты жив, что вся эта мерзкая жизнь останется и будет продолжаться, когда я умру! И еще перестал бы думать о том, что нет никакого неба, одиночества и «братства одиноких». И еще о том, что ни на земле, ни на небе нет ни справедливости, ни покоя. Тогда рука моя спокойно сжала бы рукоять меча или поднесла к губам склянку с ядом. Если бы я только мог. Но я не могу. Чтобы убить себя, мне нужно убить тебя. Ты обманул меня, но и сам ты обманулся. И если ты не можешь сам уйти из этой жизни, то я помогу тебе и мы уйдем вместе. А сейчас позови солдат, пусть они убьют меня. Но помни, что мой последний вздох будет и твоим последним вздохом. Помни это, Гай, и торопись. Если мы уйдем и небо примет нас, значит, не было обмана. А если не примет и окажется, что там не небо, а Олимп, и боги живут на Олимпе, и мы будем жить рядом с ними, и это будет та же самая жизнь, что и здесь (пусть она будет послаще и поудобнее), то тогда все равно, что жизнь, что смерть, и мы не вольны никуда уйти и обречены бегать по кругу. Я называл тебя божественным, называл тебя учителем и больше не могу жить так, как живешь ты. И ты в этом повинен. Я не могу уйти сам, потому что мне не за кем идти и я не знаю куда. Мне остается одно — уйти в смерть. И это единственная возможность узнать, есть ли небо и чем оно отличается от земли!
Тут он повернулся и вышел. И дверь проскрипела ему вослед протяжно и жалобно, хотя прежде не скрипела никогда.
Прошла ночь, а я все сидел и не в силах был пошевелиться. Я не позвал солдат, Друзилла не пришла, а был ли Сулла? — этого я не знал, сомневался и теперь вряд ли когда-нибудь сумею узнать.
В явлении бессонницы ничего нового не было, новое было в другом — в том, что я не бродил ночью, не зная, куда себя деть и ожидая рассвета, а сидел неподвижно и ничего не ждал. Время остановилось. То время, которое было продолжением прежней жизни, и моя неподвижность была следствием такой остановки. Такая неподвижность не равнялась оцепенелости, но была сосредоточенностью. Это прежняя жизнь остановилась, но ведь я жил, и, значит, движение продолжалось. Движение другого времени.
Время остановилось, и вся моя прежняя жизнь остановилась тоже. Не ушла, не умерла, а только остановилась, и я смог увидеть картины этой жизни, цепь картин, словно бы изображенную мозаикой на стене — я на пиру с друзьями, мое лицо и лица друзей. Самодовольные (их и мое), мерзкие, пустые лица. Я — в сенате, гордо восседающий на возвышении, с пустым, отсутствующим, мертвым лицом. И лица сенаторов при всей их разности тоже однообразны, мертвы и пусты. Неподвижные картины проходили передо мной, и я уже не смотрел на каждую в отдельности, смотрел на все сразу, так, как если бы на одну.
И тут я понял. Понял, что самое страшное для меня, как и для любого человека, — это страсть. Не плоть страшна сама по себе, но страсть. Почему я понял это, глядя на картины моей жизни, я не смог бы объяснить. Но я понял, что все дело в страсти и вся беда в ней — она управляет и плотью, и разумом. Можно не искать женщину, не ложиться с ней, не делать то, к чему побуждает тебя вожделение… Ты можешь не искать и не делать, но все равно страсть остается столь же сильной и столь же властной. Если она в тебе, то все равно, как бы ты ни уничтожал ее проявления, власть ее сильна и безгранична. Ты не можешь быть свободным, пока она в тебе.
Любовь — та же страсть, только в благородных одеждах. «Любовь, любовь!» — поют поэты, закатывая глаза, ставят любовь выше всего на свете, молятся на любовь и заставляют молиться других. Невольные простецы! — они не ведают, что, как и всегда, привычно восхваляют власть и силу. Им грезится, что они свободны. Но любовь — это темница в самом себе. Самая страшная, самая крепкая. Ты не можешь выйти за пределы страсти (или любви), не убив страсть, как не можешь уйти за пределы темницы, не разрушив темницы. Можешь вырваться и бежать, можешь думать, что освободился. Но только, пока темница стоит и не разрушена, ты всего лишь сбежавший раб, а не свободный человек. И сколько бы ты ни пробыл на свободе, ты не свободен: ты прячешься, таишься, тебя ищут, и тебя найдут. Судьба беглеца — не свобода, а только судьба беглеца.
Все, больше я ни о чем не хотел думать. Чем больше бы я разбирался в этом, тем больше сомнений закрадывалось бы в меня и стены моей темницы, засовы моей темницы делались бы все массивнее и крепче. Кроме того, такие рассуждения есть линия, замкнутая в круг. Только кажется, что, чем дольше идешь по линий, тем больше отдаляешься от предмета, который тебе ненавистен. И вдруг с ужасом видишь, что пришел к тому же самому месту, откуда бежал.
Темница — замкнутое пространство. И прямая линия — это путь от стены до стены, от угла до угла. Если же есть стремление к бесконечности, то в темнице это — замкнутый круг. Бесконечность свободы — прямая линия, бесконечность темницы — круг.
Я велел позвать Суллу. Он вошел, осторожно пересек расстояние от двери до моего кресла. Остановился так, чтобы я не мог дотянуться до него рукой. А я посмотрел на его руку, на кисть правой руки — той самой руки, которая должна была убить меня. Просто рука, пять пальцев. Но вот она сжимается на рукояти меча, или горлышке склянки, или на моем собственном горле. Друг, брат — и эта рука. Я понял, что теперь я совсем один.
С Друзиллой — это движение прежней жизни. С Суллой — движение к небу, одиночеству, «братству одиноких». Но движение не с другом, не с братом. Теперь я не ненавидел Суллу, как бывало прежде время от времени, теперь я ему не доверял. Но разве у меня был выбор? И разве власть неба не была настоящей властью, и разве я не стал весь подвластен небу? А если так, то небо снова испытывало меня: я должен пройти этот путь с тем, кому не доверяю. И пройти с ним как с братом. Любя его как брата и доверяясь ему как брату.
Я поднял взгляд к его лицу: он спокойно смотрел на меня. Я назвал его братом и сказал, что отныне он должен чувствовать себя со мной совершенно свободно, потому что в «братстве одиноких» все равны и все братья. Он сказал: «Да», — сел, откинулся в кресле, вытянул ноги. В первый раз он так сидел передо мной. Впервые с начала моего императорства кто-либо посмел так сесть передо мной. Я отвернулся, закрыл глаза и вздохнул. Оказывается, иметь брата много легче, чем самому им быть.
Я стал говорить, не открывая глаз. Знал: надо помнить, что говорю не самому себе, а Сулле, но не мог и говорил самому себе. Знал, что необходимо доверять ему, а иначе невозможно быть братом, но говорил самому себе. Только так я мог сказать все и откровенно. Впрочем, сейчас я не повторялся, как было всегда в разговорах с Суллой, но говорил четко, ясно, только о деле.
Первое — о любви. Сказал, что похоть — зло, а любовь есть похоть в благородных одеждах, потому еще более изощренное зло. Нужно избавиться от этого зла, но бежать от любви невозможно. Если бежать, то все равно не будешь свободным, а останешься беглецом. Похоть мне не страшна, потому что я объелся похотью и меня от нее тошнит. А любовь страшна. Любовь для меня — Друзилла. Бежать от нее нельзя, но и убить ее я не смогу. Есть три пути избавления. Первый — уничтожить любовь к Друзилле в себе. Второй — убить Друзиллу. Третий — ждать решения неба. Первые два пути я отбрасываю. Остается третий — ждать решения неба.
Потом я сказал ему о побеге из Рима. Сказал, что не буду обсуждать нужность побега, это и так ясно. Бежать можно было бы и сию минуту, если бы не любовь, от которой нужно избавиться. Ждать решения неба и готовиться к побегу.
Я не договорил, я только начал, но Сулла перебил меня:
— Гай, я не могу быть твоим братом.
Я открыл глаза, он стоял на коленях передо мной.
— Ты божественный, Гай, я не могу быть твоим братом, — продолжил он, — я могу быть только твоим рабом. Отдам за тебя жизнь, когда ты пожелаешь или если будешь в опасности. Я сделаю все, что ты захочешь.
Надо было протянуть руку и дотронуться до его плеча. Нужно было сказать, что все это не так, он не раб и никаким образом рабом быть не может. Сказать, что понятие «брат» есть еще только понятие, а чувство брата, братство — это другое, для этого нужно много пройти вместе, много пережить.
И еще много, много можно было сказать. Но я не мог, смотрел на него неподвижно и равнодушно. Я был один, и то, что он рядом, ничего не значило.
Я не отпустил его, я продолжал молчать, а он исчез незаметно. Когда я протянул руку к тому месту, где только что был он, рука повисла в пустоте.
Я не мог заставить себя приказать, чтобы Друзиллу не допускали ко мне. Хотел, желал, надеялся, что смогу, но не смог. Сослать ее куда-нибудь подальше — в мире много отдаленных островов — или просто отправить домой… Но как же тогда с ожиданием ответа неба? Я не знал…
Она, впрочем, долго не приходила. И вот пришла. Вошла так просто, как будто только на минуту выходила из комнаты, села мне на колени, обвила шею руками, сказала:
— Гай, ты не любишь меня.
Я не отвечал, но она и не ждала ответа, прошептала у самого моего уха:
— Знаешь, наверное, я больна, потому что все время хочу тебя. Конечно, хорошо, что ты император. Но мне все равно, император ты или нет, лишь бы ты спал со мной. Я думаю, что земля — ну вся, вся земля — это только ложе, и больше ничего: трава совокупляется с травой, животное с животным, мужчина с женщиной и все остальное… Но все это не важно, а просто мне лучше всего и приятнее всего спать с тобой. А? Разве не так?
Я молчал. Говорил себе: «Конечно, не так». Но тут же исправлялся едва ли не со злобой: «Так, так!»
Я терял рассудок. Я ощущал, как он — рассудок? мозг? не знаю — становится мягким, потом превращается в жидкость, колышущуюся в моей голове. Я хотел Друзиллу, и тело мое делалось жарким настолько, что разжиженный мозг испарялся, как влага. И когда он выпаривался окончательно, я делал все, что хотел, что требовала моя плоть, А она желала сотрясаться в страсти, стонать, как от настоящей боли, исторгать вопли, подобные предсмертному крику, стремиться к конечности наслаждения и одновременно все время оттягивать конец,
Друзилла была неистощима на выдумки. Чего только она не проделывала со мной и откуда тела наши черпали силы, чтобы проделывать все это! Конечно, не от неба.
Но сил было много, так много, что казалось, им нет предела. И потом, когда мы лежали рядом совсем обессиленные, я знал, что, как только страсть явится снова, откуда-то возьмутся и силы.
Потом я отправлял ее. И рассудок возвращался медленно и постепенно, и это не доставляло такого удовольствия, как тогда, когда он терялся. Я звал Суллу, пытался говорить с ним о небе. Но рассказывая и рассуждая, я ощущал какое-то особенное и новое чувство бессилия и сам не верил в то, что говорил. А Сулла — я видел — перестал понимать сказанное мной и смотрел на меня с удивлением, которого не скрывал.
Я видел это, говорил ему, что устал, плохо себя чувствую, добавлял:
— Скоро, скоро. Потерпи, — и отпускал не объясняя.
Оставаясь один, говорил себе, что больше всего хочу, чтобы не пришла Друзилла, и — больше всего этого хотел и ждал.
И она приходила. Я смотрел на нее с ненавистью. С настоящей ненавистью, не уговаривая себя. Но она ничего не замечала, а главное, не желала и не умела замечать. И — сначала ненавидя ее, я постепенно терял рассудок и уже не мог от нее оторваться.
Однажды, когда она ушла, а я остался, я вдруг почувствовал новый прилив желания. Прежде после ее ухода я никогда ничего подобного не чувствовал: тело мое было разбитым, усталым. Теперь вот почувствовал. Попытался сдержать желание, но не смог.
Промучившись некоторое время, позвал слугу и велел привести женщину — любую, первую встречную, но только быстро. Звать Друзиллу я почему-то не хотел.
Женщину привели. Это была уличная девка, некрасивая и неопрятная. Она смотрела испуганно, и вид ее был жалок. По-видимому, ей забыли объяснить, зачем привели во дворец. Я ей тоже ничего не объяснял и, не дожидаясь, когда уйдут слуги, набросился на нее. Повалил на пол, разодрал одежду, жадно вдыхая запах ее терпкого нечистого тела. Но она была опытной и быстро сообразила, что ее привели сюда не для того, чтобы причинять вред, а для исполнения привычного дела. И она старалась показывать все лучшее из того, что умела. Она даже предложила оправиться прямо на меня или на ковер рядом со мной, чтобы я смотрел. Но удовлетворение пришло раньше, чем я полагал, и я ответил, что этого не требуется. Она пыталась удержать меня, жеманилась, прижимаясь ко мне всем телом, но я сказал, что ей хорошо заплатят, и велел уйти. Нехотя и вызывающе дергая телом, она ушла.
А через короткое время желание снова явилось во мне, и снова я не сумел его подавить. Опять вызывать женщину не хотелось, да и для ожидания не было сил. И, не долго думая, я удовлетворил сам себя. А через некоторое время, когда желание возникло опять, — еще раз. Всякий раз, когда возникало желание, я делал это.
Так продолжалась моя жизнь. Период просветления чередовался с периодом темной страсти, и период просветления был обидно коротким. Друзилла была неутомима, и я делался неутомим. Я чувствовал, что больше не могу, что силы мои на исходе. Ждать решения неба стало невозможно, и нужно было самому избавиться от страсти, от предмета любви. Этим предметом была моя Друзилла.
Я хотел посоветоваться с Суллой, но отверг это желание. Он, конечно, мой брат, но разговоры только ослабляют решимость действовать. А я погибал, и не было времени на разговоры.
План созрел быстро, я привык к такого рода планам. Я решил убивать любовь в себе и в ней, в Друзилле, одновременно. Я распорядился, и уже через день все было готово.
Исполнение моего плана я, конечно же, поручил Сулле. Моему другу, соратнику, брату. Правда, план был такого рода, что я несколько опасался, что он не выдержит. И поэтому, объяснив все Сулле, я нашел еще одного человека, которому поручил то же самое. И, главное, поручил самого Суллу. Это был некто Ларций, сын вольноотпущенника. Когда-то давным-давно, когда я еще не был императором, а жил в должности любовника Эннии и она таскала меня по разным непристойным и опасным местам, — вот тогда-то я узнал Ларция. Мерзкого, бесчестного, хитрого, который устраивал для Эннии и меня все эти безобразия. Следил, чтобы мы благополучно пришли и благополучно вернулись домой, то есть был нашим проводником по стране мерзостей. Я мог бы найти другого, потому что даже смотреть на Ларция было противно. Но другой… Нет, я хотел чего-то большего, чем просто исполнения моего плана, чего-то такого, что граничит с непредсказуемостью. В этом смысле, кажется, никто бы не смог его заменить.
Но, кажется, я запутался в объяснениях и потому расскажу все по порядку.
Внешне все происходило как и обычно: Друзилла пришла, чтобы мучить меня любовью. Я сначала, уже привычно, чувствовал себя мучеником, потом перестал чувствовать и отдался страсти почти с таким же самозабвением, с каким отдавалась ей Друзилла. Но я сказал «почти» — то есть в самозабвении моем была все-таки условность. Я не мог забыться до конца и помнил, что они могут ворваться каждую минуту, в каждое следующее мгновение. Но самообладания у меня было достаточно, и поэтому Друзилла не заметила ничего. А я все прислушивался к тишине за дверью и все торопил, торопил их возникновение, потому что уже и в первые минуты ждать было трудно, а в последующие так и просто невыносимо.
Когда Друзилла ушла, я вздохнул с облегчением. Я давно не испытывал такого настоящего облегчения, словно бы смерть прошла рядом и не задела меня. Не пришли и теперь уже не придут до завтра.
Сразу поясню, что сам я дал им такие указания: прийти и сделать то, что должно сделать не в первый, не во второй, не в пятый день, а — или в первый, или в пятый, или в десятый. Но так, чтобы я не смог угадать дня. Чтобы мучился и чтобы мучительное ожидание притупилось. Не знать вовсе я не мог, но и забыть не мог тоже. Мучения ожидания сделались еще более мучительными, и чего я не предполагал раньше — это того, что буду бояться, за Друзиллу и оберегать ее. Не действием, а мыслью, чувством, страхом за нее. Настоящим чувством и настоящим страхом. Чтобы по-настоящему сберечь, проще всего было позвать Ларция и отменить все, а потом пригласить Суллу и объяснить ему, что не могу, не вправе, небо не позволяет, что не уверен, что такова воля неба. Скорее всего, это воля не неба, а темницы. Но это я только говорю, что было легче всего позвать и отменить. На самом же деле это было не только неимоверно трудно, но и по-настоящему невозможно. Потому что только теперь я ощутил, как люблю Друзиллу, как она нужна мне и что я в ответе за ее покой и счастье. Жалеть, оберегать — нет, такого не было со мной никогда.
Проходили день за днем, но никто не беспокоил нас. Страх мой стал каким-то нездоровым: сначала я перестал отправлять Друзиллу в ее покои (она уходила, когда сама хотела), потом просто не отпустил, велел ей остаться здесь, жить со мной. Она согласилась с радостью.
— О Гай, — шептала она, прижимаясь ко мне, дрожа всем телом, — мы теперь всегда будем вместе. И, ты знаешь, я подумала, что мы никогда не постареем. Не знаю, умрем или нет, но только никогда не постареем. Правда? Скажи, так?
И я отвечал: — Да.
И обнимал ее крепко, так, что казалось — еще одно усилие, и я сломаю ее. Только не о бессмертии и нестарении я думал, а о том, что нам с Друзиллой не надо выходить из комнаты — никогда. Я и она — что еще нужно? Конечно, наша комната тоже темница, но не общая, а для двоих, особенная, отделенная от общей. От неба тоже отделенная — это так. Но счастье любви, наверное, — это то, что не на земле, не на небе, а между землей и небом. По отношению к небу такое положение — еще грех, а по отношению к земле — почти божественное парение.
Так мне представлялось тогда. Только много позже я понял, что так думают все влюбленные.
Дни проходили за днями, и я потерял им счет. Мы жили, я ждал и х прихода и одновременно не ждал. Чем больше проходило времени, тем яснее чувствовал, что не жду. Я привык к ожиданию и х, все равно как человек привыкает к ожиданию смерти: она непременно будет — и ее может не быть никогда.
Как только я оставил Друзиллу у себя, в первую же нашу ночь все изменилось: ее и моя страсть только и ждали этого, чтобы сделаться нежностью. Впрочем, до некоторой степени страсть осталась, но страсти низменной, развратной больше не было, как будто не было никогда.
Не помню как проходили наши дни, что мы делали и о чем говорили, помню, что не разжимали объятий. Комната нашего дворца сделалась не комнатой дворца, а… вокруг не было ни дворца, ни Рима и ни единого человека. А было, может быть, море, бескрайнее пространство воды. И мы плывем в этом пространстве, не зная куда, но и не желая знать… Или это не вода, а воздух, пространство между небом и землей. Но род пространства не имеет значения, а дело в другом: пространство враждебно, если открыть двери и выйти наружу, и дружественно, когда мы в своей комнате, когда в объятиях. Пространство комнаты и ограничено, и одновременно не имеет границ, потому что хотя счастье, как и человеческая жизнь, имеет начало и конец, но собственное ощущение счастья не имеет ни начала, ни конца — оно вечно, бесконечно, бессмертно. Бесконечно, даже если это ощущение длится всего минуту. Впрочем, когда подступает смерть, то, думая о времени прошедшей жизни, кажется, что она длилась всего мгновение.
Они вошли внезапно. Вернее, ввалились толпой. Друзилла закричала, а я сжал ее в объятиях с такой силой, на которую только был способен. (Так что, возможно, она закричала еще и от боли.) Крик ее тут же прервался, потому что ввалившиеся, человек шесть или семь — огромные, потные, волосатые, — набросились на нас и оторвали от меня Друзиллу. Я сделал попытку вырваться и броситься к оружию, но все напрасно — крепость их рук была подобна меди, а сила — как у диких животных.
Меня оттащили от ложа, повалили на пол и крепко связали. И снова поставили на ноги, прислонив к стене и поддерживая с обеих сторон. Я не мог шевелиться, не мог и кричать: толстая грубая веревка, раздвинув зубы, впилась в мой рот. Тошнота ежесекундно подступала к горлу. К тому же их потные тела источали смрад. Лиц не было, а какие-то черные мохнатые провалы. Все они походили друг на друга. Я увидел и отличил лишь одного — Ларция. То ли потому, что я опознал его, то ли по другой причине, но вид и все движения Ларция были самыми непристойными. Со всем возможным рвением он исполнял мое поручение и отрабатывал ту щедрую плату, которую получил: кривлялся, мерзко вихлял бедрами и издавал лающие звуки, каковые ему, по-видимому, представлялись звуками страсти.
Друзилла лежала на ложе, ее держали трое: двое раздвинули ноги, а один навалился на плечи. Четвертый… Четвертый подошел и лег на мою Друзиллу — сопел, гоготал, дергался на ней. Они так положили ее и так поставили меня, что я видел все, слышал все и все обонял. Как я не умер тут же, как сердце мое не разорвалось на куски и не лопнули глаза! Я не знаю и понять не могу. Я не только не пытался отвести взгляд в сторону или закрыть глаза, но, напротив, смотрел не мигая, будто должен был вынести самое страшное, самое главное, такое, что уже никогда не повторится.
Один сменял другого, и, наконец, на Друзилле оказался Ларций. Он усердствовал больше других. Не могу и не хочу описывать все его мерзости и всю ту изобретательность, что он выказал. Всякий раз, когда он применял новый прием, он оборачивался ко мне и, сложив губы трубочкой, кричал: «У-у-у».
Я призывал смерть, призывал ее с такой предельной силой и предельной яростью, на которые только был способен. Но ни смерть, ни потеря сознания не приходили.
При очередном «у-у-у» Ларция взгляд отдернулся в сторону — и я увидел Суллу. Он стоял у противоположной стены. Стоял недвижимо и напряженно, будто тоже был связан толстой веревкой. Лицо его казалось не бледным, а желтым, как пламя светильника. Он тоже смотрел на Друзиллу неотрывно.
Друзилла вскрикнула раз, другой раз и еще — жалобно и протяжно. Это были крики только страха и боли, я это услышал и понял. Но я уже не мог смотреть туда, я смотрел на Суллу. Не ужас был в его глазах, а что-то, что много сильнее, значительнее и разрушительнее ужаса. То, что должно было сжечь все внутри и, наверное, уже сожгло. И, наверное, никакого Суллы уже не было в живых, а передо мной стояла одна только оболочка Суллы.
Еще раз прокричала Друзилла, а вслед за ней Ларций. Я все смотрел на Суллу и только отметил, что крик Друзиллы хриплый, горловой, отчаянный, а «у-у-у»
Ларция теперь прозвучало без выражения — не крик, а только обозначение крика.
Тут же Сулла сорвался с места и бросился на Ларция, сидевшего на Друзилле. Он бросился так стремительно и неожиданно, будто его что есть силы толкнули в спину. Ларций оттолкнул Суллу ногой, тот упал, поднялся, снова бросился вперед. Нет, они не били его — Ларций и те, кто держал Друзиллу, — они просто отпихивали его ногами и руками, будто вся их цель была довести его до изнеможения. Сулла падал, поднимался, падал опять, Ларций хохотал во все горло и звонко хлопал себя ладонями по бедрам. А те другие молчали, монотонно и равнодушно совершая толчки. Но ведь они и не были людьми. Друзиллу они уже не держали, как видно, ее уже не было смысла держать. Сулла поднимался после падения, но его движения становились все более замедленными, и каждое, наверное, давалось с большим трудом.
Он опять поднялся, но я понял, что это в последний раз. Все ждали, никто больше не толкал его. Даже Друзилла, повернув к нему лицо, ждала тоже. И сам он, кажется, ждал. Наконец он упал, беззвучно осел на пол, будто сделался вязкой плотью без костей.
В следующее мгновение сознание мое потухло и я перестал что-либо видеть и ощущать.
Сулла сидел передо мной, и в лице его было страдание.
— Она умерла? — спросил я.
— Нет, — отвечал он. — Но ты мог умереть.
— А Ларций и эти?
— Этих заколола стража, а Ларцию вырвали мужское место, и он истек кровью. Он сильно кричал. До самой последней минуты.
— У-у-у? — спросил я.
— Что? — не понял Сулла и добавил: — Я не был там, мне просто сказали, что он очень кричал. Лучше было бы сразу его убить, чем давать ему деньги. Ты сколько дал ему, Гай?
— Много. А лучше было бы отрезать ему язык.
Мы долго молчали. Первым заговорил Сулла:
— Марк Силан, когда Друзиллу привезли домой, порывался бежать к тебе, чтобы убить. Когда его связали, он пытался вырваться и кричал в твой адрес всякие поносные слова. Тот, кто рассказывал мне об этом, боялся повторять их. Его привели к претору. Теперь ему предъявлено обвинение в оскорблении императора, и он в тюрьме. Говорят, стражники сильно избили его, но я смог узнать, по чьему приказу.
Он рассказывал еще, а я смотрел на него, хотя мне трудно было видеть его лицо. И я встал — почему-то очень легко, не чувствуя ни разбитости, ни усталости, ни болезни, — позвал слугу, велел приготовить носилки, бросил Сулле:
— Поедешь со мной.
Мы прибыли в тюрьму. Испуганный префект, задыхаясь и не умея справиться с одышкой, будто он всю дорогу бежал, пытался мне что-то объяснять. Я не слушал, но и не прерывал его. Я, Сулла и он стали спускаться по узким выщербленным ступеням вслед за стражником, несущим факел. Когда лязгнул засов, а дверь, тяжело скрипя, растворилась, я велел префекту и стражнику уйти, а Сулле взять факел.
Более сырого и смрадного помещения для Марка Силана, как видно, не нашли. Когда мы ступили на каменный пол, под подошвами сандалий захлюпала вода. Сулла высоко поднял факел, и я увидел Марка. Он сидел на корточках в самом углу, где было повыше и куда не доставала вода. С трудом, держась за стену, он поднялся при нашем приближении. Вид его был страшен. Он оброс бородой, торчащей клочьями в разные стороны, одежда была в грязи, на одной ноге не хватало сандалии. Правое веко свисало до половины зрачка, и, наверное, чтобы лучше видеть, он как-то неестественно запрокинул голову. Глядя на него, я хотел спросить Суллу, сколько же времени я не приходил в сознание, но не спросил.
— Ты ненавидишь меня, Марк, — сказал я.
Он молчал, и мне показалось, он плохо понимает, что я сказал и кто мы такие. У меня промелькнуло: «Зачем мы здесь?» Но я заставил себя говорить:
— Ты ненавидишь меня, Марк, но тебе и не за что меня любить. Ты правильно кричал, что я грязное животное. Ведь ты это кричал? Ты прав, потому что я в самом деле люблю валяться в грязи. Но такова особенность власти: когда позволено все, то больше всего хочется вымазаться грязью.
Он, конечно, не понимал, но разве я говорил для него? Я стоял на каменном полу подземной темницы, неверный свет, не освещая, только обозначал стены, а за спиной… Нет, не Сулла стоял за спиной, а Клувий. А факел? Факела, может быть, и не было вовсе, а я видел в темноте. Вместо Суллы — я чувствовал — за спиной стоял Клувий, и в руках его был не факел, а меч. Тогда зачем я говорил и для кого? Я говорил потому, что страшился, потому что, пока я говорю, сам Клувий, рука его и меч в руке — они слышат голос императора. Но если я прервусь или мой голос, приглушенный страхом, перестанет быть похожим на голос императора, то тогда может дрогнуть меч и рука от неожиданности дернется вверх и тут же, испугавшись собственного движения, падет вниз… И моя голова будет рассечена надвое еще до того, как Клувий поймет что-либо.
И я говорил, говорил, как будто бы обращаясь к Марку, но и не к нему, и не к стенам, и не к Клувию за моей спиной. Я обращался к мечу в мускулистой руке Клувия, к его металлической тяжести, которая наполняла мышцы руки тяжестью-усталостью. Медленно, незаметно, но необратимо, до первого толчка.
Я закричал и бросился вперед, ударился обо что-то мягкое, что то ли с писком, то ли со стоном отпрянуло назад. А на следующем шаге я наступил на мягкое, которое дернулось под ногой и прокричало:
— У-у-у…
Я повалился вперед, упал на колени и, не замечая боли или превозмогая ее от страха, пополз вперед, ударился головой о стену, упал навзничь, но тут же поднялся и пополз вдоль стены уже на четвереньках.
Потом, когда меня принесли, вымыли и перевязали, я велел Сулле рассказать, как все было, в подробностях. Он смутился и отвел глаза, но я сказал ему строго:
— Говори, мой Сулла, бог знает все!
Я назвал себя богом, и это вышло легко, просто, само собой.
Сулла сказал, что только вначале моей речи, обращенной к Марку Силану, он понимал слова, потом перестал понимать. Откуда-то появился «Клувий», потом рука «Клувия», потом «меч» в этой руке. Потом «Клувия» не стало, а остался только «меч». И уже к «мечу» были обращены мои слова. Что-то в том роде, что он накапливает силу и должен когда-нибудь дрогнуть.
Потом — как рассказывал Сулла — я страшно закричал и бросился вперед, прямо на стоявшего передо мною Марка, и сбил его с ног. Марк тоже страшно закричал. Но все это Сулла уже не видел, а слышал, потому что мой крик был столь неожиданным и страшным, что факел выскользнул из его руки и, зашипев, потух. Стало так темно и страшно, что темнота в глазах из черной стала ослепительно белой. Были какие-то звуки, где смешались плеск воды, и стоны, и удары мягкого о твердое, и еще какой-то гул сверху.
Сулла так стоял сколько-то (сам не мог теперь сказать, долго или нет), потом вдруг тоже бросился вперед, сам не зная почему, но словно бы его кто-то сильно толкнул в спину. И сразу же упал, наткнувшись на большое, мягкое и мокрое. Упал, ударился, тут же отполз в страхе. Только ткнувшись в стену, понял, что это тело, потому что услышал стон: протяжный, жалобный. И от страха, ужаса и еще сам не зная отчего, что сильнее страха, ужаса, пополз на четвереньках вдоль стены, не ощущая ни боли, ни смрада, не видя темноты, не слыша ничего, зная, что не сможет убежать, что некуда, но не в состоянии остановиться.
Только потом, когда натолкнулся на меня, как видно догнав меня в беге по кругу вдоль стены, только тогда, обхватив за плечи и упав вместе со мной и лежа вместе со мной в ледяной клейкой жиже на полу, — только тогда он понял, что я Гай, а он Сулла и что ему нужно спасти меня, вынести из темноты на свет.
Потом он кричал, не отпуская меня, потом выпустил и пополз, крича. Но, наверное, это ему только казалось, что он кричит, тогда как на самом деле он либо стонал тихо, либо беззвучно раскрывал рот. Он искал выход, но не мог сообразить, что нужно искать лестницу, что нужно заставить себя встать и подняться по ней.
Он помнит, как наверху прокричало несколько голосов, раздался и стал приближаться топот множества ног. Потом как будто что-то протащили мимо, сгрудились у лестницы, толкались, мешая друг другу. Они поднялись наверх, и свет потух, и тишина наступила равная темноте, будто он, Сулла, лишился слуха.
Так он пролежал долго. Он как будто чувствовал, что жив, но ему казалось, что мертв. Но главное — это ему было безразлично. Так могло пройти сколько угодно времени, хоть целая вечность. Сулла сам сделался тишиной и темнотой одновременно и до вторжения шума и света мог спокойно оставаться ими.
Шум и свет ворвались сверху. Приблизились, пробежали мимо. Бесплотные тела, бесплотный свет — ему было безразлично. Пробегая, они наступали на него, но он почему-то не чувствовал ни боли, ни вообще какого-либо неудобства. Возможно, что не только они, но и сам он тоже стал бесплотным.
Вдруг они остановились, он почувствовал, что над ним, но не мог открыть глаз, хотя все время до этого они были открыты. Его грубо подняли и понесли. Кто-то сердито крикнул: «Император!» Это был не возглас, а приказ. И тут же руки несущих стали ласковыми, а движения бережными настолько, что казалось, он сам плывет в пространстве, без их помощи и поддержки.
Он открыл глаза от яркого света. Солнце. Лица, склонившиеся над ним, казались темными пятнами. Каждое как диск солнца, прикрытого луной во время затмения. Точно так же — уж он-то знал это. Только вокруг не было темноты, но, напротив, солнечный свет был особенно ярким. И лежать так было удобно. Но чьи-то руки — сначала две, потом еще две, а потом вообще бессчетное количество рук — схватили его и стали трясти, а пятна над головой произнесли разом:
— Император!
Напрасно его трясли, мешали понять, чего они от него хотят и с каким выражением произносится это «император» — как восклицание или как вопрос. Наконец руки отпустили его, темные пятна исчезли, а солнечный свет стал настолько ярок, что потемнело в глазах.
Сулла рассказал, что хотя и не сразу, но все-таки сумел подняться и, не обращая внимания на одежду, которая была мокрой, липкой и зловонной, направился было к дворцу. Но вдруг вернулся к входу в темницу. Не решился спуститься вниз, а стоял в проеме двери у самой черты темноты, бессмысленно глядя туда. Там его опять схватили солдаты и привели к претору, почему-то сидевшему в носилках. У ног претора лежал Марк Силан или то, что осталось от Марка — маленькое, пэчти детское, грязное неподвижное тело. Претор стал что-то говорить Сулле, но тот смог разобрать только прежнее: «Император, император…» Его толкнули сзади, он споткнулся о тело Марка и упал прямо на ноги претора, который брезгливо и резко оттолкнул его. И, упав, Сулла вдруг ясно понял, кого искали и чего хотели от него: в темнице, где их было трое, один пропал, и этим пропавшим был Гай, император.
Он закончил рассказ, поднял на меня глаза и смотрел молча и удивленно.
— А потом, — сказал я ему, — когда все они прибежали во дворец, я встретил их там в парадном одеянии, у самого входа, на лестнице. Они в страхе пали передо мною ниц, и ни один не смог ничего произнести. Я повернулся и ушел к себе, а они остались на лестнице и лежали неподвижно, как мертвые, пока я не велел страже очистить лестницу. Именно очистить, невзирая на чины и звания. Преторианцы бросились исполнять мой приказ, и тут уж они постарались. Претору и двум сенаторам досталось больше всего. Тех, кто попроще, просто пинали ногами, а этих подняли и, раскачав, с криками выбросили, как мешки с зерном. Так что один умер там же, а остальных слуги отнесли домой с переломанными конечностями. Надеюсь, что скоро получу известие и о их смерти.
Я говорил это, глядя на Суллу в упор, не отводя взгляда. Но и он не отводил своего, как будто не понимал, на кого смотрит, как будто не боялся вызвать гнев и потерять зрение. Или лишиться рассудка, или сгореть в огне… моего взгляда. Он еще не понял, что смотрит на бога и что так смотреть на бога простому смертному нельзя. Те, что, увидев меня, пали ниц на лестнице, а потом лежали неподвижно, тоже, может быть, не вполне осознавали это. Но их внутренняя суть все поняла мгновенно — перед ними бог и взгляд его смертелен. Только бог мог так, не выходя, выйти из темницы.
Я уже и сам не вполне осознавал, что мог быть когда-то человеком. Если и был, то когда-то давно, будучи младенцем, еще не понимая ничего, или, скорее всего, еще до рождения. Те, кто считал себя моим отцом и кто считал себя моей матерью, наверное, говорили, что вот, скоро родится ребенок, человек. Только в их собственном сознании я был человеком. Только в их сознании, и никак по-другому. Да, я был некоторое время для людей человеком, императором, чтобы потом (им показалось, что вдруг) предстать перед ними богом.
Человеческие привязанности перестали существовать для меня. Я — единственный бог, и никаких других не было, не будет и быть не может. Любить можно только совершенство. Я есть единственное совершенство и могу любить только самого себя. И все другие могут любить только меня. А кто не сможет, тот падет и уже никогда не встанет живым.
Сырая, темная, зловонная темница. Страх. Ужас. Разбитые колени. Пришлось упасть, а потом ползти по кругу, не замечая твердости и остроты камней. Как я, если я человек, мог затаиться у лестницы, чтобы они, вбежавшие со множеством ярких факелов, не заметили меня? Не заметили, потому что меня уже не было там.
Это потом я представлял, как я мог таиться, если бы был человеком. Как мог бы подняться неузнанным за их спинами, когда вместо меня они тащили по лестнице тело несчастного Марка. Как прошел бы мимо претора и солдат, не раз встретившись с ними взглядами. Разве мокрая, разорванная, зловонная одежда была тому причиной?! Разве я пробирался к дворцу самыми окраинными улицами?! А если пробирался, то как мог войти и почему стража, если я был так неузнаваем, пропустила меня? Что из того, что я знал тайные ходы! Да, я знал их, но уже не как император, но как бог. Я мог бы на своем пути испепелить взглядом каждого, мог разрушить взглядом стены и преграды. Мне не нужны были тайные ходы, я мог пройти где угодно, и любой, узнавший меня, умер бы на месте.
Привязанности. Только от собственного несовершенства мы так много сил отдаем привязанностям и такое большое придаем им значение. Долг любви, долг родства… и еще всякие иные долги — все от несовершенства, все от невозможности постичь и достичь совершенства.
Справедливость. Высшая справедливость. Нет никакой справедливости: ни высшей, ни простой. Когда есть совершенство, справедливость не имеет значения и не имеет смысла. Желание совершенного — это и смысл, и значение, и справедливость, и все остальное, что придумано человеком как нравственный закон. Но желание совершенного выше, чем любой закон, и отменяет закон.
Друзилла. Моя сестра, жена, возлюбленная… Да что все это в свете моего совершенства! Если будет желание, значит, совершенство хочет этого, а если не будет, то и не будет ничего. Желание потухло, и все, что оно освещало, погрузилось во тьму. Не погрузилось в темноту, но умерло в темноте.
Я и не ожидал, что, когда я выйду к народу снова, теперь, все они падут ниц и будут славить меня уже не как императора, но как бога. Ведь совершенство выше их разумения, и им сначала предстояло увидеть бога, а уж потом уразуметь, что такое совершенство. К тому же они находились в темнице, не знали ничего, не знали иного, не могли ведать об ином. Они знали своих богов, верили в своих богов, и отменить их было не так просто. Ничего не стоило прибавить к их богам еще одного бога, самого себя, но заставить их принять, что никаких богов нет, а главное, не было никогда, — тут важны не столько терпение и время, сколько правильный подход. Не нужно отменять богов — они так привыкли к ним, — а нужно постепенно убедить их, что все эти боги, включая и Юпитера, суть метаморфозы одного бога. И когда они поймут и примут это, само собой окажется, что других богов нет и они просто не нужны.
Такая простая и действенная мысль могла прийти только богу: совершенная мысль, порожденная абсолютным совершенством. Так просто — без советчиков и сомнений.
Эти остолопы, заседающие в сенате, когда я объявил им, что отныне мне полагаются божественные почести[18], встретили мои слова радостными возгласами. Я не обольщался относительно их радости: если бы я объявил, что отныне повелеваю считать меня ослом, реакция была бы точно такой же. Да и как им не радоваться, потому что, пока есть император, они могут считать себя властью, изображать из себя государственных мужей, получать свою порцию уважения и почестей. Не будь императора, что было бы с ними?! Они спорили бы до хрипоты, плели бы интриги и строили козни друг другу, пока в короткий срок не развалили бы государство и пока взбунтовавшийся народ не смел бы их самих. Время от времени мне хотелось их смести. Поставить бы вокруг сената тяжелые баллисты, сотрясать и рушить здание, видеть их агонию и смерть. Я много раз мечтал, чтобы они взбунтовались или хотя бы только ослушались меня. А так… они не стоили даже усилий солдат, тянущих к сенату тяжелые баллисты,
Итак, первый шаг был сделан, и моя божественность и те почести, которые должны были мне оказывать, уже не как императору, но как богу, были закреплены законом.
Следующие шаги сделались сами собой. Я велел изготовить массивную булаву и особым образом выделанную шкуру льва. Булава должна была только смотреться массивной, тогда как на самом деле была легкой и удобной, чтобы я мог обращаться с ней как с простой палкой.
И вот я появился в цирке в костюме Геркулеса: в львиной шкуре и с массивной булавой в руках. Публика приветствовала меня громкими криками. Люди и вообще любят зрелища, а такое мое появление было еще одним зрелищем. Близкие к трону и сенаторы кричали, что я бог. Впрочем, слишком громко и неубедительно. Хотелось поднять булаву и пройтись по их головам. Их занимала моя власть, а не моя божественность. Хотелось, но я сидел неподвижно, и, когда началось представление, на меня уже никто не смотрел. А я смотрел на арену и ничего не видел, чувствовал себя едва ли не посмешищем. К тому же мешала булава: неизвестно, как ее держать — на коленях, или на весу, или просто положить рядом. Я хотел понять, как бы вел себя настоящий Геркулес. Но его легко было представить в пустыне или в лесу, но только не здесь, в цирке, на императорском месте. И главное, невозможно было представить в толпе. Не только его, но и любого другого бога.
Я едва досидел до конца. Встать и уйти не хватило решимости. И еще — приходится в этом признаваться — страх перед скопищем людей. Оно, это скопище, властвовало надо мной, а не я над ним. Не должно было властвовать, потому что я бог, но отчего-то властвовало. Земной властитель и небесный, наверное, не могут быть в одном лице. Хотя бы только потому, что богу, обладающему абсолютной властью, должна быть смешна жалкая земная власть. А если ты все-таки преображаешься в императора, то уже не можешь быть богом, но можешь мыслить и действовать только в тех границах власти, которые очерчены и определены для императора.
Сулла. Мне нужен был Сулла. Но как теперь мне призвать его или пойти к нему? Разве что в львиной шкуре с ложномассивной булавой в руках.
Друзилла. Мне нужна была Друзилла. Я не знал, я ничего не знал, и мне было плохо. Пойти к Друзилле вот так, не думая, не готовясь, с растерянным лицом и заплаканными глазами?! Сказать ей, что только она, что ничего мне не нужно и никогда не было нужно, а только чтобы вот так держать ее руку в своей и не выпускать никогда.
Не мог заставить себя подняться. Лежал в своей комнате, обнаженный, на специально выделанной львиной шкуре и медленно, но упорно протыкал ее остро заточенным кинжалом. И с каждым ударом ощущал в собственном теле жалящую боль, которая, несмотря на свою невыносимость, давала облегчение.
Мне казалось, что я либо просто не смогу подняться, либо изберу другой путь. Подняться я не смог, но и никакой новый путь мне не открылся. Новый путь не открывался, стыд не проходил, уверенности в успехе не было никакой, но я не мог ничего поделать. Будто лошади моей судьбы, испугавшись чего-то, понесли, обезумев, а мне оставалось только стараться не выпасть из колесницы или ждать, что она вот-вот перевернется.
Я еще раз или два являлся в цирк в костюме Геркулеса (львиную шкуру, исколотую мной, правда, пришлось заменить новой), но толпа привыкла к новому обличью, и среди криков вблизи: «Бог! Бог!» — прорывались дальние: «Да здравствует император!»
Следующим был Аполлон, в которого я вырядился. Лавровый венок на голове и золотая кифара в руке. Кифара оказалась тяжелой, и держать ее на весу даже непродолжительное время было невозможно. Я прижимал ее к груди так, чтобы основание упиралось в пояс, и только так мог выстоять до окончания пения. Я и всегда любил петь, и лавры великого певца никогда не давали мне покоя. Но сейчас было не до пения, ведь я стоял тут не простым кифаредом, а Аполлоном. Это кифаред — даже самый лучший — поет, а бог не поет, он воспроизводит божественные звуки. Я тоже воспроизводил. Кифара была тяжелой, оттягивала пояс так, что он больно врезался в тело, и я не видел никого вокруг и не слышал звуков собственного голоса. Кажется, меня здесь не было совсем, и на чем держалась расшитая золотом тога с кифарой на поясе, я объяснить не могу.
Жидкие крики одобрения в самом деле были мне наградой, потому что по их началу я понял, что представление окончилось. Я ушел тут же, а правильнее, просто сбежал.
Я уже говорил, что не мог остановиться. Стыд разбирал меня и страх, но лошади несли, а мне оставалось только лечь на дно колесницы, вцепиться руками, зубами и закрыть глаза. Возможно, что пример не очень удачен и мало что объясняет по-настоящему. Но другого я придумать не могу, а этот — с понесшими лошадьми — приходил мне каждый раз, лишь только я оставался один. И я в самом деле ощущал этот безумный смертельный бег, ложился ничком на ложе и закрывал глаза. Воображение же мое при этом работало так, как будто и его, как этих же лошадей моей судьбы, несло неостановимо.
Следующим был Нептун. Подчеркиваю, что я сам все придумал. Должен сказать, что по прошествии некоторого времени сама идея воплощения бога в богах (и сама идея, и тот результат, которого я хотел достичь) меня уже не очень интересовала, но меня занимали детали и само действо. Мне хотелось поразить римский народ новым, не виданным до сих пор зрелищем. Я как будто забыл, что я единственный бог и люди должны уяснить себе это. Мое желание было: поразить. Поразить всех величием и силой императорской власти. Я снова, как будто и не намеренно, желал быть самым сильным, самым могущественным, величайшим. Но не в беспредельности неба, а в пределах земной человеческой власти. Той власти, которая только возможна для человека.
Я понимал, что все это тщета, что с высоты божественного величия и силы эти земная власть и земное величие не только малы и не просто смешны, но их как бы и нет вовсе. Я все понимал, но ничего с собой поделать не мог. И хотел зрелища — сильно, жгуче, болезненно.
С Нептуном я все придумал сам и развил такую бурную деятельность, наличие сил для которой никогда в себе не подозревал. И еще: такого удовлетворения от работы, деятельности я тоже никогда не испытывал. Тогда же я понял, как счастлив бывает художник, и недаром люди называют художников богами или близкими к богам.
Сначала я распорядился по поводу костюма. Тяжелая, плотная материя не должна растягиваться от пребывания в воде и не должна прилипать к телу, когда я поднимусь над водой. На материю сплошь, подобно рыбьей чешуе, должно быть нашито множество серебряных, отполированных до блеска кружочков. Они должны блестеть и переливаться в солнечных лучах, отраженных водой, так, что почти невозможно будет прямо смотреть на меня. К трезубцу, который будет у меня в руке, прикрепляются серебряные пластины под разным углом, тоже чтобы глаза не выдерживали блеска. Я велел заказать это самым лучшим мастерам и поставил самые короткие сроки. Всех мастеров и вообще всех, кто каким-либо образом участвовал в подготовке зрелища, я приказал держать отдельно, чтобы они не сообщались не только с внешним миром, но и друг с другом, насколько это было возможно, — чтобы не мешать делу. При этом велено было содержать их самым лучшим образом и обещана щедрая награда.
Теперь что касается моего подводного пребывания. Был отлит огромный чан, настолько большой, что я мог помещаться внутри, стоя в полный рост. По моим чертежам — а ведь в детстве я неплохо учился — было построено особое приспособление, которое держало чан в опрокинутом положении. И в таком положении он должен был быть опущен под воду. Приспособление устроено так, что края чана не достигали дна, а сам он как бы висел между поверхностью воды и дном. Когда он опускался, то внутри него оставался воздух, и человек, стоявший внутри чана, мог свободно дышать. И довольно долго, что было неоднократно проверено.
Рядом с чаном, под водой, устанавливалось еще одно сооружение: особенной конструкции помост. Если встать на помост и передвинуть рычаг, то груз, удерживающий помост под водой, сбрасывался и помост всплывал. Разумеется, вместе со мной. Но всплывал тоже особенно: не до конца, а только на ту высоту, чтобы я поднялся над поверхностью до пояса. Канаты, прикрепленные к сооружению, не давали ему всплыть совсем.
Замысел был таков. В одежде Нептуна я ныряю под чан — для этого не нужно никакого специального груза, потому что одеяние само по себе очень тяжелое, — и остаюсь там, пока с берега к этому месту не подойдут лодки и не станут бросать в воду венки, исполняя гимн в честь Нептуна. Специальные люди среди публики бросят два или три венка, к которым будут привязаны камни. Я услышу их удары о поверхность чана и пойму, что пора выходить. Я выйду, взберусь на помост, нажму на рычаг, помост станет всплывать, и я явлюсь изумленной публике в сияющем одеянии морского бога с огненным трезубцем в руке. Потом подойдет лодка, я поднимусь туда по специальным ступеням, сяду на трон и под гимны отрабатывающих свое кифаредов торжественно поплыву к берегу. И уже на берегу начнется действо в честь бога Нептуна, властителя морей.
(Нет смысла описывать эту церемонию, она, как и все подобные церемонии, скучна и бессмысленна, и я делаю это только для публики и еще потому, что надо же чем-то завершить явление бога людям, которые станут упрашивать его остаться с ними навечно. На что бог, поразмыслив некоторое время, милостиво согласится.)
Приготовления шли в самой строгой тайне. Были и издержки: двое рабочих утонули, а один сильно повредил руку, но все это, конечно, мелочи, и упоминаю о них единственно для точности картины. Еще я распорядился привести Суллу и Друзиллу, поместить их в таких местах — не вместе, — чтобы они все хорошо могли видеть, а их бы не заметил никто.
Утром, когда народ собрался и лодки были готовы, я облачился в одеяние Нептуна и с двумя слугами отплыл от берега. Скала прикрывала нас от толпы и от уже готовых отплыть лодок. На море — благодарение богам — стоял полный штиль. Мы быстро добрались до места, и слуги помогли мне спуститься в воду. Почему-то она показалась мне очень холодной. Я нащупал ногами поверхность чана и, набрав побольше воздуха, разжал руки, державшиеся за борт лодки. Одеяние было тяжелым, и я быстро достиг дна. Пригнулся и подлез под чан. Стало совершенно темно, но зато был воздух, и я вздохнул полным ртом. Было довольно холодно, но дышалось легко. Я поднял руки и зачем-то провел ладонями по гладкой поверхности чана. Прислушался, но вокруг стояла полная тишина.
Так прошло время и еще время, а я не слышал условного стука и стал терять терпение. Мое тело била дрожь, и мне стало казаться, что не хватает воздуха. Горло перехватывал спазм, я хватался за него руками, и плеск воды от моих судорожных движений был резким и оглушал меня. Теперь, если и будут условные стуки, я вряд ли смогу различить их.
Ужас, самый настоящий смертельный ужас охватил меня. Я стал метаться в пространстве чана, бить о стенки руками: удары отдавались глухо, а медь была прочна. Впрочем, некоторые остатки сознания ужас все же не сумел подавить: я заставил себя остановиться, несколько мгновений оставался в неподвижности, потом, глубоко вдохнув, поджал под себя ноги. Случай бросил меня в нужную сторону — я ощупал руками край помоста и взобрался на него. Но от спешки и страха я, взобравшись, все никак не мог подняться, как было задумано, в полный рост и шарил руками вокруг, пытаясь найти рычаг (чтобы сбросить груз и всплыть), но вместо рычага схватился за трезубец, тут же прикрепленный. Наткнувшись на трезубец, я так схватился за него руками, что уже не мог разжать пальцы. Найти рычаг я тоже не мог, а самому всплыть на поверхность в таком тяжелом одеянии было невозможно. Я ерзал, бил ногами, не выпуская жезла из рук, и вдруг — помост качнулся и стал всплывать. Скорее всего, я задел рычаг ногой или от моего ерзанья на помосте он отошел сам собой.
Помост поднимался быстро, но так же быстро остановился. Стало светлее. Я выдохнул остатки воздуха, распирающего меня изнутри, и, изловчившись, встал сначала на колени, а потом, перебирая руками по трезубцу, в полный рост. Не всплыл, не поднялся, а просто выскочил на поверхность. Вдохнул — вода, попавшая в горло, клокотала — резко выдохнул и вдохнул опять. Вода или слезы туманили зрение, я ничего не видел вокруг, крепко держался за трезубец, стараясь сохранить равновесие, потому что помост, хотя и слабо, колебался под ногами.
Тут я услышал крики, и мне сделалось страшно, потому что это были уже не просто крики, но нечеловеческий вой множества голосов, преимущественно женских. И я понял, что не выбрался на поверхность, но оказался, и уже безвозвратно, в подземном царстве мертвых. Я испугался смерти. Бояться смерти в царстве мертвых — это все равно что бояться собственного рождения на земле, если возможно как-нибудь уметь осознать, что родишься.
Вой оглушил меня и теперь был единственным выражением ужаса. Вода плескалась у моей груди, помост колебался подо мной, и вдруг я увидел, как что-то надвигается на меня. Вой усиливался, и в нем явственно слышались и мужские голоса.
Лодки. Это были лодки. Две, три или пять. С гирляндами цветов, свешивающихся до самой воды. Они надвигались на меня сами по себе, неуправляемые. Я неосознанно подался назад, всего на каких-нибудь полшага. Помост накренился и стал уходить из-под ног. Я крепче схватился за трезубец, сумел выпрямиться, но этим последним усилием, чрезмерным по-видимому, выдернул жезл из гнезда, и рука, продолжая движение, высоко подняла его над головой.
Эта случайная поза с высоко поднятым над головой трезубцем спасла меня. Я стал падать вперед, и трезубец с силой вонзился в борт лодки, самой ближней ко мне. По-видимому, трезубец пробил борт. Помост окончательно ушел из-под ног, и я теперь висел над пропастью моря, крепко держась за древко трезубца, моля богов, чтобы он не обломился.
Он не обломился и даже не прогнулся, но все равно я стал погружаться в воду. Я закричал, но никто не пришел мне на помощь — все были оглушены собственными криками и помышляли только о собственном спасении. Я опустился еще ниже, подбородок коснулся воды…
И вдруг люди стали падать в воду, так, будто их толкали в спину. Я увидел дно лодки, борт зачерпнул воды. Вода взбаламутилась: вокруг были брызги и крики — целое скопище людей бессмысленно и словно бы нарочно било по воде руками. Кажется, только для того, чтобы я захлебнулся.
Тут что-то коснулось меня сзади, и медные кружки, нашитые на мое одеяние, процарапали спину. Обернувшись, я увидел борт другой лодки, плывущей медленно и прямо. Я отпустил древко трезубца и ухватился за этот борт. Трезубец взмыл вверх, а борт лодки, за который я теперь держался, пошел вниз, и я снова стал тонуть. Я хотел крикнуть, но не сумел. Снова никто не помог мне, и повторилось то же самое, что и несколько мгновений назад: я увидел дно лодки, люди стали падать в воду, будто кто-то толкал их в спину, вода забурлила вокруг еще сильнее. Движение вниз приостановилось, и даже подбородок не коснулся воды. Я не боялся, что усталость заставит разжать пальцы и я утону, — я держался за борт мертвой хваткой, и даже если бы захотел, то не смог бы отпустить рук.
Брызг вокруг стало меньше — люди тонули. Это было хорошо, потому что брызги мешали мне дышать. Отчего-то никто из них не хватался за борт: наверное, страх помутил им рассудок.
И тут я почувствовал, как чьи-то руки схватили меня крепко и больно. Схватили и потянули вниз, и у самого уха раздалось тяжелое клокотание. Я дернулся всем телом, пытаясь освободиться, но не смог. Я почувствовал, как разжимаются руки: я не мог держать двойную тяжесть. Закричал, но крик получился слабым. Забил под водой ногами. И — о случай! — нога того (или той), что тянул меня вниз, попала меж моих ног. Я стиснул ее изо всех сил и дернул вниз. Чужие руки соскользнули с моих плеч. Сумел перехватить чужую ногу повыше и уже из последних сил снова дернул ее вниз. Даже сквозь невыносимый шум вокруг я услышал, как треснуло на плечах мое одеяние и вместе с чужими пальцами, больно прокорябавшими по спине, ушло в глубину. Я остался голым. Облегчение было столь значительным, что потеря веса как бы сама вытолкнула меня вверх: легко перекинув ногу через борт, я в два движения оказался в лодке, которая тут же и выпрямилась. Крепко ухватившись за что-то на дне лодки, я лег ничком. Сознание сразу же покинуло меня.
Я не знаю, кто и как доставил меня на берег. Я сильно простудился, долго болел, одно время даже был в бреду. Когда очнулся, у постели сидел Сулла. Собрав все силы, я приподнялся и обнял его. Он разрыдался, и я долго не мог его успокоить.
Все эти события с явлением Нептуна взбудоражили римский народ, и по городу ходило множество разноречивых слухов. Самое странное состояло в том, что обо мне говорили меньше всего. Мало кто верил, что в образе Нептуна явился я сам. Во всяком случае, никто не узнал меня. Но в явление самого бога, владыки морей, верили еще меньше, а говорили, что во всем виноваты..". иудеи. Это они все так подстроили, купили нужных людей, чтобы превратить праздник в трагедию (ведь у них столько денег, что они могут купить весь Рим с сенаторами в придачу, а то и целых два Рима). Конечно, это они — враги римского народа, и на улицах кричали, что нужно всех их уничтожить. Еще кричали, что они посягали на жизнь императора и он чудом избежал смерти, потому что боги хранили его.
Впрочем, жертв было немного: по одним сведениям, всего восемь человек утонуло, по другим — двенадцать. Но в народе говорили о сотнях и даже тысячах.
Было вполне очевидно, что мое предприятие с воплощением одного нового бога в множестве старых богов не достигло цели и потерпело полное поражение.
С этим обстоятельством не хотелось мириться, но пришлось. Мы долго беседовали с Суллой, что делать дальше, как предотвратить возможное народное возмущение и опасное брожение умов. И пришли к тому, что мне еще раз открыто и решительно нужно объявить себя богом. Теперь уже просто богом, без всяких обременительных воплощений. Народ больше всего любит и понимает силу и силе верит охотнее всего, поэтому в прямоте и силе заложен самый главный принцип успеха власти.
Итак, в сенате я снова объявил себя богом и снова получил приветствия этих жалких остолопов. А когда сказал, что отныне в храмах вместо статуй Юпитера будут мои статуи, приветствия сенаторов по-настоящему сделались бурными, будто они только и желали уничтожения прежних богов и совсем их не боялись.
Я приказал все сделать быстро и всякие глупые верования других народов отменить совсем, потому что вера в едином государстве тоже должна быть единой. Правда, тут мне возразили, что быстро не получится (не возразили, конечно, но пролепетали с особенным страхом, как и подобает в обращении с богом). Не получится потому, что хотя бюстов моих имеется множество, но изображений в полный рост крайне мало, а в виде бога так и нет совсем. И даже если заставить всех скульпторов работать быстро, то и тут не все просто, потому что такое дело нельзя же доверять всем, но только самым лучшим. А как известно, самых лучших всегда единицы.
В этих возражениях был свой резон. Я несколько растерялся и не знал, что же отвечать. Но нашелся Сулла, стоявший за моей спиной. Он наклонился к моему уху и прошептал, что изготовление статуй пусть идет своим чередом, а пока, временно, можно взять головы от моих бюстов и заменить ими в храмах головы Юпитера. Я кивнул и громко объявил о замене.
Исполнители принялись за дело с самым похвальным рвением. Со всех концов империи непрерывно поступали сведения об установлении в храмах моих статуй. У народов, имеющих своих богов, моя статуя устанавливалась на месте — и вместо — главного божества.
Я ожидал недовольства, а то и народных волнений, но странность всего происходящего была в том, что вокруг оставалось тихо и смерть главных богов, казалось, не затронула никого и никого не опечалила. Будто боги — это всего лишь статуи в храмах: глина, дерево, мрамор, и больше ничего.
Это и радовало меня — принятие моих статуй и такое равнодушие к прежним богам, — и озадачивало. Порой мне было не по себе, и я не мог понять, чем же отличается отношение к старым богам от отношения к новому, то есть ко мне самому. Если бы они возмущались и бунтовали, то, значит, теряли для себя что-то важное (пусть и ложное), что-то по-настоящему необходимое в жизни. И тогда надо силой заставить их отбросить старое и ложное, и принять истинное, и представить это истинное самым истинным, абсолютным. Для выявления и утверждения истины нужна и необходима борьба, и если не жестокость и отчаянность сопротивления, то хотя бы упругость. Если же одно только равнодушие, то, значит, нет ничего. Какая же это истина, если ее принимают равнодушно. Можно заставить ее принять, но верить…
Ну да, они признавали меня богом, но что из того? Чем легче они это признавали, тем больше я испытывал сомнений в успехе своего предприятия и тем сильнее меня охватывали тоска и скука. Скука даже больше, чем тоска. Я чувствовал, что уже ничего не хочу: богом, оказывается, стать легче, чем императором. Но при этом быть императором можно, а богом нельзя. Быть может в этом все и дело!
Иудея не приняла меня. Я был взбешен, метал громы и молнии, кричал, что уничтожу весь этот проклятый народ — во всей империи и за пределами империи не останется ни одного. Но втайне я был благодарен Иудее. Скука, тоска — всего этого как не бывало. Я снова был императором и боролся как император за бога. За самого себя: ведь я был богом.
Сулла сказал мне:
— Не все так просто, Гай. Они боятся тебя, они боятся за свои презренные жизни, но больше этого, то есть больше всего, они боятся бога.
— Меня?
— Нет, Гай, они боятся своего бога. Он у них один.
— Я единственный бог! Посмотри в любом храме, есть ли там Юпитер. Нет его, а я есть. Ни громы, ни молнии не сваливаются с небес, потому что там пусто. Когда я буду там, небо будет заполнено мной одним. А пока я здесь, там пусто.
— Ты верен себе, — сказал Сулла.
— Я не понял, объясни.
— Ты верен себе, — повторил он, — так же, как они верны своему богу. Они знают, что бог один, но они просто не знают, что это ты, а думают, что это тот, в кого они верят.
Я шагнул к Сулле, положил руку на его плечо и стиснул пальцы что было сил. Лицо его исказилось болью, но он продолжал смотреть на меня, не отводя взгляда.
— Так ли я понимаю тебя, мой Сулла, что тебе приятно их непослушание? Или, может, ты гордишься их стойкостью, их жертвенностью, их верой?
— Я только объясняю тебе, император, — отвечал Сулла.
— Нет, — не унимался я, — вспомни их лица, их мерзкие лица, вечно грязное платье и немытые тела. Разве может быть у таких настоящий бог? Нет, Сулла, их бог такой же грязный иудей, как и они сами.
— Да, император, — глухо проговорил Сулла и опустил глаза.
Кажется, я только этого и добивался. Я отпустил его плечо, отвернулся и велел покинуть меня.
Он ушел, и я не приглашал его несколько дней. Я был зол и не мог простить сказанного им и особенно этого его взгляда. Но я был одинок. Я всегда был одинок, но теперь это ощущал особенно. Кроме Друзиллы и Суллы, у меня не было никого. Император всегда одинок. Возможно, только бог более одинок, чем император. Власть над всеми распространяется на всех, и на самых близких в том числе. Но все равно, кроме них, у меня не было никого.
Мы лежали с Друзиллой, едва касаясь друг друга бедрами, когда я спросил ее, могла бы она переспать с иудеем. Сначала она не ответила, будто не слышала, потом, когда я повторил вопрос, лениво произнесла:
— Что ты такое спрашиваешь, Гай?
— Нет, скажи, — привстав, опираясь на локоть и легонько подтолкнув ее в плечо, не отставал я.
— Я не знаю, — улыбнулась она и завела глаза к потолку, словно представила себе одного из тех, о ком я спрашивал, — не знаю, они такие грязные. — Она брезгливо повела плечами. — Нет, Гай, я не знаю.
— Нет, — не унимался я, — ведь не все они грязные: их военачальники, придворные, сам тетрарх[19]. Они такие же, как мы, богато одетые, умащенные благовониями.
— Тетрарх? — поморщилась Друзилла. — Я не видела его, но все равно я знаю, что он такой же, как они все.
— Грязный?
— Не в этом дело, — она посмотрела на меня внимательно и серьезно, — а только такой же.
— А если бы я, скажи, если бы я был иудеем, ты была бы со мной?
— Ты не можешь быть иудеем, Гай, потому что ты
бог.
Воля императора — закон. А закон распространяется на всех. Допускаю, что законы не могут быть хороши для всех. Допускаю и то, что они просто могут быть нехороши. Но когда они исполняются, это уже не плохие законы, потому что суть не в самом законе, а в строгом исполнении его. В строгом исполнении плохого закона есть больше справедливости, чем в неисполнении хорошего.
Я был богом и объявил себя богом. Это закон. Такой же, как и закон о римском гражданстве. Не по сути, а для исполнения всеми. Кто не подчиняется ему, есть враги Рима, и они должны быть подвергнуты суровому наказанию. Если наказание не образумит их, то они будут уничтожены.
В вопросе о постановке моих статуй в храмах Иудеи возникли непредвиденные осложнения. Все словно сговорились не исполнять закона. Доносили мне, что положение сложное, что евреи отказываются ставить мои статуи в храмах и невозможно заставить их сделать это ни уговорами, ни угрозами. Если бы я был не так разозлен, мне оставалось бы просто посмеяться над этим «невозможно заставить». Как будто речь шла о дополнительных налогах или о чем-нибудь подобном. В самом деле, это было смешно — бог не может заставить людей поклоняться себе! Тут одно из двух: или это не бог, или люди, не признающие его, недостойны жить. Понятно, что истиной было второе. То, что у них был свой бог, даже и единственный, ничего не значило. Бог не может не обладать полной властью. Я ею обладал, а он — нет.
Я велел Петронию, моему полководцу, человеку отважному, отправиться туда и решить вопрос разом. Три легиона и сирийские полки — внушительная демонстрация силы бога. Я сказал Петронию:
— Посмотрим, чем сможет ответить их бог.
Он почтительно улыбнулся.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Все с этой проклятой Иудеей было непросто. Порой мне казалось, что она существует только для того, чтобы я перестал существовать. Не в моей божественности тут было дело, а во мне самом, в Гае, сыне Германика. Ни ненависть сенаторов, ни ненависть всех тех, кому я причинил зло или только намеревался причинить, ничего не стоили по сравнению с неприятием меня Иудеей. Неприятие это было значительно сильнее любой ненависти: они не принимали меня так, будто меня не было вовсе. Дело было не в собственно моих статуях, которые они отвергали, а в статуях вообще. Для них, кажется, не существовало ни меня, ни моих статуй, а было одно только неприятие.
Я сказал Сулле, что готов уничтожить всех евреев поголовно, а тех, что все-таки останутся живы, продам в рабство. Я был уверен, что Сулла поддержит меня или, во всяком случае, согласится со мной, но я ошибся. Помолчав, он сказал:
— Напрасно ты затеял все это дело с евреями, император.
— Что ты говоришь! — разозлившись, вскричал я и ударил его в грудь так сильно, что у него перехватило дыхание и он немо открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. — Это ты мне говоришь императору: Богу!
У меня самого перехватило дыхание, и я некоторое время держался за грудь, не в силах вымолвить ни единого слова.
— Я сказал, — с трудом выговорил наконец Сулла, — что не нужно было затевать этого дела с евреями — ни к чему хорошему это привести не может. Если люди держатся за своего бога больше, чем за жизнь, разумнее всего оставить их в покое. Таких людей лучше иметь друзьями, а не врагами. Я говорю тебе так, потому что люблю тебя, Гай.
Мне нечего было ответить — он был прав. Я и сам уже думал, что моя затея не очень удачна, но отчего-то мне не хотелось отступать. Если бы они ненавидели меня лично, то я еще мог бы смягчиться, потому что их ненависть есть тоже признание моей силы и моего величия, но неприятие…
— Ты связался с евреями, — неожиданно для самого себя выпалил я и добавил с нехорошей усмешкой: — Да они просто купили тебя. Известно, что они могут купить любого, кто им нужен. Ты просто продался им.
— Нет, император, — неожиданно спокойно отвечал Сулла, — они не купили меня. Никто из них ничего не предлагал мне за поддержку.
— Не предлагал?! А если предложат? А? Значит, если предложат, ты продашь меня? Так я тебя понимаю?
— Не так, — еще спокойнее, будто для того только, чтобы позлить меня, сказал Сулла. — Дело не в евреях, а в том, что народ, так чтящий своего бога, нельзя победить.
— А уничтожить? — приблизив свое лицо к его лицу почти вплотную, зло выговорил я. — А уничтожить можно?
— Да, уничтожить, наверное, можно, — сказал он и, как мне показалось, чуть поколебавшись, добавил: — Если их бог позволит сделать это.
— Что-о? — протянул я, по-настоящему удивленный его словами. — Значит, ты не считаешь меня богом? Значит, все, что ты говорил мне, есть ложь? Отвечай прямо: ты не считаешь меня богом?
— Ты бог, — отвечал Сулла, потупив взгляд. — Но я хочу, чтобы ты понял, что я имел в виду.
— Что же ты имел в виду? — притворно ласково проговорил я. — Скажи же мне, мой Сулла!
— Я хотел сказать, что бог существует тогда, когда в него так верят. Если никто не верит в бога или если любят его не больше жизни, то его нет, а есть только название.
— Ты говоришь глупость, — сказал я, еще не вполне вдумавшись в его слова. — Уходи, я не хочу тебя видеть.
Он почтительно поклонился и вышел, а я некоторое время чувствовал какое-то странное беспокойство: мне чудилось, что кто-то смотрит на меня с небес.
Я простил Суллу и больше не возвращался к этому разговору (ведь я всегда прощал его). К тому же другая проблема вытеснила проблему с Иудеей. Мне стало известно, что меня хотят убить. Это известие меня, правда, не очень удивило и даже не очень напугало — и прежде уже составлялись заговоры против меня. Это было вполне в традициях Рима. Но в этот раз в лице Суллы, когда он говорил со мной об этом, было что-то такое, что меня по-настоящему обеспокоило. В его лице был страх, и он не мог его как следует скрыть, хотя и пытался.
— Ты думаешь, они смогут убить меня? — спросил я прямо.
— Они очень этого хотят, — отвечал он. — Так же сильно, как…
Он замялся, а я вдруг досказал за него:
— Столь же сильно хотят убить, как те, твои любимые евреи любят своего бога.
— Да, император, так же сильно, — твердо проговорил Сулла.
Мне снова, как и в прошлый раз, захотелось крикнуть, сказать ему что-то резкое, может быть, ударить в грудь. Но я сдержался, ведь в этот раз разговор шел о моей собственной жизни, а я, Гай Германик, совсем не хотел умирать.
Кроме того, теперешний заговор был много серьезнее прежних — нити вели к солдатам преторианской гвардии. Просто так распустить гвардию или сменить командиров я не мог — это было бы равно самоубийству. Их нужно было задобрить и привлечь к себе. Но и это было не столь легким делом, как может показаться: они и без того имели много привилегий и свобод и, если говорить честно, ни в ком особенно не нуждались, даже в императоре.
— Восстание в Иудее не принесет нам ничего хорошего, — сказал Сулла.
— Ты опять про это, — недовольно бросил я. — Ведь я просил тебя…
— Восстание в Иудее будет непременно, — упорствовал он, не желая замечать моего недовольства и не страшась возможного гнева, — и даже Петроний ничего с этим поделать не сможет.
— При чем тут Иудея? — строго и уже чувствуя накатывающие волны гнева, спросил я.
— Эта война не будет победной, Гай, — глядя мне прямо в глаза, продолжал Сулла. — Кроме того, евреи могут восстать и в других местностях. Усмирение потребует больших средств, а денег в казне недостаточно. Народ, конечно, станет избивать евреев с большим удовольствием, но, когда ты введешь новые налоги — а без этого ты не сможешь обойтись, — народ столь ж сильно будет недоволен тобой. Могут возникнуть волнения, и я сомневаюсь, что преторианцы с большой охотой встанут на твою защиту. Они заелись, они слишком любят спокойную жизнь. И еще. Они любят деньги, а у евреев их много.
— Значит, ты считаешь, что все зло от евреев и трогать их нельзя?
— Трогать их неразумно, я уже говорил тебе это, Гай.
Я ничего не ответил. Я склонил голову и прикрыл ладонью лицо, как бы размышляя над его словами. Но думал я совсем о другом: как же мне все это надоело! Я уже не был уверен, что Сулла не подкуплен евреями, и тогда выходило, что Иудея сильнее меня. Не только меня самого, Гая, императора, но и сильнее Рима. Пусть Рим еще не знает об этом, но получалось именно так.
Что же это за народ, который может быть сильнее Рима? Разве они могут собрать армию, подобную армии персов? Или у них есть блестящие полководцы и хорошо обученные солдаты? Да, у них есть деньги, но деньги еще не военная сила. Или у этого народа есть общая идея? Или они умеют хорошо сорганизоваться? Нет, не думаю. Насколько мне известно, они не умеют сорганизоваться и вечно не ладят друг с другом. Тогда что же? Неужто этот их бог сильнее Рима? Если верить Сулле, то никаких римских богов не существует вовсе, а их бог есть, потому что они верят в него и любят его больше жизни. Сам я не мог понять, как можно любить бога больше жизни, но, может быть, для этого нужно быть евреем?
Мне хотелось спросить об этом Суллу, но я не спросил. Я сказал совсем другое:
— Мне нужно породниться с преторианцами.
— Я не понимаю, император, — отозвался Сулла.
Честно говоря, я и сам еще ничего толком не понимал
и эта идея высказалась как бы сама собой.
Я знал одно — да и Сулла знал это, — что если нити заговора ведут к преторианцам, то мне до них не добраться и попытка помешать будет тоже самоубийственной попыткой.
— Я не понимаю, император, — повторил Сулла, и я сказал:
— Породниться — значит отдать им самое дорогое, что есть у меня. А ты же знаешь, что у меня самое дорогое!
— Да, император, твоя драгоценная жизнь.
— Вот и ошибся, мой Сулла, — с удовольствием отвечал я. — В самом деле, моя жизнь очень мне дорога, но зачем им моя жизнь, если они и без того могут взять ее? Жизнь есть самое дорогое только тогда, когда ее отнимают у тебя, а я говорю о дорогом внутри жизни. Ну? Ты понял меня? Отвечай.
Но он не ответил, а только пожал плечами, тогда я сказал:
— Друзилла. Самое дорогое в моей жизни — это Друзилла. Я отдам им Друзиллу и породнюсь с ними. Теперь ты понял?
— Да, — отвечал он, но я видел, что он ничего не понимает. Настолько, что в какой-то момент мне даже стало жаль его.
Но мне не хотелось высказывать ему свои чувства. Я посмотрел на него величественным императорским взглядом и зачем-то покачал головой.
Потом я сказал, будто продолжая какой-то другой разговор:
— У нас не все хорошо со шпионами. Я хочу, чтобы ты разобрался.
— Со шпионами? — переспросил он.
— Ну да, — кивнул я, — ведь спокойствие государства во многом зависит от полноты сведений, которые имеет император. Ты знаешь, что я доверяю тебе как самому себе, и лучше тебя никто с этим не разберется.
— Ты называл меня братом, — вдруг и совершенно невпопад проговорил Сулла. — Ты уже не называешь меня так?
Его слова застали меня врасплох, и я смутился.
— Да нет, называю, — не очень уверенно отвечал я. — А почему ты спрашиваешь?
— Потому что ты называл Друзиллу сестрой, — сказал он, и голос его задрожал.
— И что из того? — Я старался говорить со всем возможным безразличием в тоне. — Я и сейчас ее так называю. Кроме того, она ведь и в самом деле моя сестра.
— Я не об этом.
— А о чем? — спросил я, глядя на него прямо и уже чувствуя раздражение.
— Я имею в виду «братство одиноких»: где ты, я и Друзилла. Если ты хочешь отдать Друзиллу преторианцам, то, значит, нет никакого братства и нет ни братьев, ни сестер. И если ты собираешься отдать Друзиллу… То и меня ты можешь…
Я не позволил ему договорить.
— Я все могу! — крикнул я так резко, что он вздрогнул, а я как будто на мгновение оглох от собственного крика.
— Да, император, — выговорил он после короткой паузы, почтительно склонившись передо мной.
Я отпустил его величественным движением руки, хотя мне было трудно справиться с дрожью пальцев.
Если бы не одиночество, от которого я так страдал, я бы вообще никогда не отдавался бы привязанностям. Сулла был такой привязанностью (я уже не говорю о Друзилле). Отказаться от него ничего не стоило, если бы не одиночество. Проклятое одиночество — обратная сторона счастья. А счастье — это когда тебе ничто не угрожает и ты имеешь друзей, которых не боишься потерять.
Порой я думал, почему Сулла терпит все это от меня? Неужели только потому, что зависим и ему некуда деться? Или те блага, которыми он пользуется… Впрочем, он не пользовался благами, которые я ему предоставлял или мог предоставить. Нет, тут было что-то другое. Может быть, близость к императору? Не знаю, ничего не знаю и вряд ли смогу узнать когда-либо. Если бы мог, то жил бы по-другому и, наверное, был бы другим.
Мне тяжело было думать обо всем этом, и, если бы я мог, не думал бы. Но я не мог — одиночество и страх томили меня.
Я позвал Друзиллу. Она, как и обычно, прижалась ко мне и обвила мою шею руками. Я мягко, но решительно отстранил ее и чуть тряхнул за плечи, чтобы она лучше внимала мне.
— Скажи мне, Друзилла, как здоровье Марка? — спросил я, глядя на нее со всей возможной строгостью.
— Марка? — переспросила она, помотав головой, и я почувствовал, что она и в самом деле не поняла, о ком я ее спрашиваю.
— Я говорю о Марке Силане, твоем муже, — выговорил я отчетливо, едва ли не по слогам.
— А-а, — протянула она беспечно и словно бы вспоминая о ком-то, кого не видела много лет, — ну да, Марк… Я не знаю, он так постарел и всего боится. Знаешь, он давно уже не прикасался ко мне, и мне кажется, что я его забыла. Он никогда не был хорошим мужчиной, а сейчас…
— Что сейчас? — нетерпеливо спросил я.
— Не знаю, Гай, — лениво ответила она, — зачем ты спрашиваешь. При чем здесь Марк? Есть ты, только ты, и я хочу только тебя.
С этими словами она прыгнула на ложе и легла, упершись локтем в подушку, изогнувшись всем телом и призывно глядя на меня. Я не испытывал вожделения, но на всякий случай отошел и сел в кресло.
— Послушай, — начал я, уже не строго, а умоляюще, заранее чувствуя, что ничего с ней поделать не смогу. — Ты можешь хотеть еще что-нибудь, кроме этого…
— Кроме чего, Гай? — отозвалась она, закрыв глаза и словно бы не проснувшись.
— Кроме того, чтобы спать со мной. Ну, у тебя есть еще какие-нибудь желания?
— Желания… желания… — проговорила она совсем тихо, как бы заплетающимся языком и, вздохнув, поманила меня рукой. — Ну иди же, Гай, я так соскучилась без тебя.
— Нет, постой, — не отставал я, но и сам говорил уже полусонно, — ты скажи: тебе нужно что-нибудь еще? А? Скажи, ты любишь меня без этого?.. Ну, самого меня, не любовника просто.
— О-о, Гай, — вздохнула она и уткнулась лицом в подушку, — зачем ты мучаешь меня? Ты же знаешь…
Она не договорила и стала раздеваться, одновременно ленивыми и резкими движениями сбрасывая с себя одежду.
Я понимал, что придется сделать то, чего она хочет, да и сам я чувствовал, что хочу сделать с ней это, но все же, подойдя и упершись коленом в край ложа, я еще попытался… Я сказал:
— Я ты любишь меня? Ты по-настоящему любишь меня? Ты сделаешь все, что потребуется, если я… если мне…
Но я так и не сумел договорить. Проворным движением она ухватилась рукой за мою шею и, страстно шепча: «Да, да…», — повалила меня на себя.
Туллий Сабон[20] был командиром преторианской гвардии. Он был высок ростом, плечист. Близко посаженные глаза и орлиный нос придавали его лицу выражение постоянного удивления. И вообще, несмотря на стать и видимую силу, что-то в нем было как будто птичье. И это несмотря на то, что сам он себе очень нравился, ходил широким упругим шагом, голову держал высоко, и, разговаривая с кем-либо, поигрывал дутыми мускулами рук, и отвечал непременно рокочущим басом, хотя, по-видимому, это требовало от него усилий, потому что естественный его голос был довольно высоким. Солдаты называли его «Дутым», но при этом относились к нему по-доброму и подчинялись беспрекословно. Кроме всевозможных отличий и наград он имел целых три лавровых венка — награда тому, кто первый взобрался на стену вражеской крепости, — а это чего-нибудь да стоило. Он любил громогласно рассказывать о своих победах над женщинами, хотя поговаривали, что мужчина он был слабый и больше говорил, чем мог.
Впрочем, все это мне было безразлично. Небезразлично было другое — мера его преданности мне. Я говорю о мере, а не о преданности, потому что никто не может быть предан всецело. И не может быть предан просто так, а обязательно за что-то. И это «что-то» не относится к чувствам, а относится к выгоде. Преданность есть плата за выгоду, а все остальное — любовь, честь, поклонение — одни только красивые выдумки.
Туллия Сабона я назначил сам, вытащив, можно сказать, из небытия. В то время он командовал легионом в Сирии и, несмотря на свою очевидную храбрость (даже, можно сказать, тупую храбрость), был довольно посредственным командиром. Связей и влиятельных родственников он тоже не имел, и будущее ничего хорошего ему не сулило.
Впервые я увидел его там же, в Сирии. Мне показали его и сказали, что он был любимцем моего отца, Германика. Само по себе это обстоятельство для меня мало значило: простец Германик, мой отец, любил таких же, как и он, простецов. Но мое внимание обратилось к Туллию Сабону потому, что другие командиры — и выше, и ниже его по званию — относились к нему с каким-то особенным презрением, как к простецу, как к солдатскому выскочке. И три его лавровых венка за личную храбрость ничего для них не значили.
Я давал пир для местной знати и командиров. Все они говорили мне здравицы, всячески восхваляли меня, соревнуясь друг с другом в лести, и только Туллий Са-бон, сидевший в самом конце стола, молчал, глядя куда-то в сторону своим птичьим взглядом. Я спросил сидевшего рядом со мной наместника, хороший ли командир этот молчащий Туллий. Губы наместника презрительно дернулись, но он почтительно ответил мне, что- Туллий человек простой, командир ничем не выдающийся, но когда-то мой отец, Германик, под началом которого служил сам наместник (что он не преминул подчеркнуть), относился к нему неплохо. Эта презрительная ухмылка наместника тогда же навела меня на мысль. И когда я уезжал, то в самый последний момент, уже сидя в носилках, велел позвать ко мне Туллия Сабона. Он явился и удивленно, но без страха смотрел на меня, играя своими дутыми мускулами. Я спросил его, почему он молчал во время пира. Он не смутился и отвечал, что плохо умеет говорить и, кроме того, не считал себя вправе.
— Это почему же, мой Туллий? — спросил я.
— Я, император, воспитывался среди солдат, сражался в разных местах и не имел возможности научиться римскому красноречию.
Меня приятно поразило то обстоятельство, что он не упомянул о моем отце. И я спросил его:
— Мне говорили, что ты сражался под началом моего отца. Это так?
— Да, император, но за время моей службы у меня было много начальников.
И этот его ответ мне понравился тоже. И я сказал ему, что и сам воспитывался в военном лагере и мое прозвище, ему, конечно, известное, подтверждает это. А он вдруг сказал, совершенно пренебрегая этикетом, что солдаты прозвали его «Дутым», и хотя в этом прозвище, в отличие от моего, нет ничего военного, но он-то знает, что солдаты дают прозвище только тем, кого уважают.
Да, Туллий Сабон умом не блистал, но-почему-то нравился мне все больше и больше. Может быть, мне приелась однообразная лесть, которой меня осыпали со всех сторон, а этот человек разговаривал со мной хотя и не очень умно, но открыто и по-человечески. А может быть, — хотя я сам в это не очень верю, — глядя на него, я вспомнил свое детство в военном лагере, и этот человек был как бы образом моего действа. Но скорее всего, виною был мой характер и желание насолить всем этим льстивым аристократам с камнем за пазухой и презрительной усмешкой на губах. Как бы там ни было, я сделал то, что пожелал, и велел Туллию Сабону сопровождать меня в Рим. Разумеется, что никто из его начальников не посмел возразить.
Не сразу, а только полгода спустя я решился назначить Туллия Сабона командиром преторианской гвардии. Не буду говорить о том, какое это вызвало у всех недовольство, хотя, конечно, никто не выступил открыто. Тогда же Туллий сказал мне, как-то очень серьезно:
— Император, никто не посмеет причинить тебе вред.
Я отвечал, что очень на это надеюсь, а сам подумал: «Почему бы и нет? Кто мог видеть во мне, мальчишке, растущем в солдатском лагере, будущего императора! Почему бы и Туллию, которого так презирали его командиры, не возвыситься над всеми ними? В конце концов, никто не знает своей судьбы».
Туллий был, конечно, не Макрон, я его не боялся. Вопреки всеобщему недовольству, сами преторианцы приняли его хорошо, хотя, как мне доносили, подсмеивались над ним.
С тех пор прошло много времени, и Туллий уже был не тем Туллием, с которым я разговаривал в Сирии, у своих носилок. Он пообтерся среди римских аристократов, и, хотя ума у него не прибавилось, он уже не выглядел среди них белой вороной. Дважды он спасал меня и жестоко расправлялся с заговорщиками. Но постепенно я стал ощущать, что благодарность за свое возвышение, которую он испытывал ко мне, сначала несколько потускнела, а потом (особенно после последней расправы с заговорщиками) и совсем исчезла. Вообще, благодарность неумного человека имеет более короткую жизнь, чем осознанная благодарность умного. Короче говоря, Туллий стал видеть себя если еще и не равным мне, то, во всяком случае, таким, без которого я обойтись не смогу и обязательно погибну. Впрочем, в таком его виденье был свой резон. Я бы с удовольствием заменил его, но было некем. Снова притащить из провинции какого-нибудь простачка? Но то, что сошло с рук однажды, может не сойти в другой раз. Сейчас я не чувствовал себя столь же сильным, как прежде, и власть моя при всей ее видимой силе не была уже столь безгранична. Те, которые хотели моей гибели, слишком сильно ее хотели. Больше хотели моей гибели, чем я сам хотел власти, которой пресытился.
Как будешь защищать свой обед, когда ты сыт по горло, и тебе противно смотреть на еду, и ты не можешь заставить себя думать, что завтра снова захочешь есть?!
Но все это, конечно, досужие размышления. Уже не только во власти было дело, но в самой моей жизни, которую можно отобрать только вместе с властью. И как мне ни противно было разговаривать с Туллием, да еще и просить его о чем-то, я вынужден был позвать его. Смешно, что ты зависишь от тех, кто тебя охраняет, но сейчас мне стало не до шуток.
Туллий Сабон явился, бряцая оружием и вышагивая, как павлин. Он, по-видимому, полагал, что шагает, как барс, любовался на себя со стороны и полностью был собой доволен.
Это металлическое бряцанье раздражало мой слух, но я через силу улыбнулся и предложил Туллию сесть в кресло напротив. Те времена, когда он смущался и оставался стоять, прошли. Он приветственно выкинул руку и опустился в кресло с такой силой, что дерево жалобно скрипнуло. Расставив ноги и упершись руками в колени, он гордо, только обозначая почтительность легким наклоном головы, смотрел на меня. Я помолчал, продолжая улыбаться и не зная, с чего начать. Не уверен, но мне кажется, что он почувствовал мое смущение. Это я увидел в его сведенных у переносицы глазах, которые смотрели на меня не мигая.
— Ну что, мой Туллий, — начал наконец я, откинувшись на спинку кресла и заставив себя скрестить на груди руки, — ты можешь сказать мне?
Любой другой обязательно поинтересовался бы, о чем я спрашиваю и что имею в виду. Но только не мой Туллий. Ведь он был значимым лицом и все хорошо понимал и без моих вопросов.
— Все в порядке, император, — громогласно заявил он, как мне показалось, нехотя добавив «императора». — Мои преторианцы всем довольны, исправно несут службу, и никакой остолоп не сможет изменить что-то, пока я командую ими.
Я благожелательно кивнул. Ну конечно, преторианцы были его, а не мои. Еще слаще ему улыбнувшись, я сказал:
— Хотел спросить тебя, мой Туллий, что ты думаешь о возможности заговора против императорской власти? До меня дошли кое-какие сведения.
— Пустое, — отозвался он, в этот раз посчитав добавление «император», по-видимому, излишним. — Любого, кто попробует, я разорву на куски вот этими руками.
При этом он сделал движение перед собой, как бы разрывая что-то. Я подумал, что такой разорвет и быка.
— Да, мой Туллий, — вынужден был я с ним согласиться, — в этом у меня нет никаких сомнений. Но, видишь ли, враг не всегда поступает явно, враг бывает хитер и коварен. Он может так проскользнуть меж пальцев, что его не успеешь ухватить.
— Между моих не проскользнет! — сказал Туллий и, сложив руку в кулак, показал его мне. Да, кулак, это надо признать, был внушительных размеров.
— И в этом я не сомневаюсь, — сказал я осторожно, — но в мире бывает всякое. Видишь ли, враги могут думать, что гвардейцы недостаточно преданы мне. Нет, нет, — предупредил я его возражение, — я ни в ком не сомневаюсь, и особенно в тебе, мой Туллий. Но согласись, что солдаты не могут быть умны и сведущи так же, как и их командир. На то ты и командир, мой Туллий, чтобы быть выше своих солдат, осторожнее, умнее, предусмотрительнее их.
На лице Туллия отпечаталась тяжелая работа мысли. Я не торопил его, я дал ему сообразить. Наконец он понял, важно кивнул и выговорил:
— Это так.
— Так вот, — продолжил я, — коварный враг всегда может найти слабость у солдата и, обманув — только обманув, потому что в их преданности при таком начальнике, как ты, мне не приходится сомневаться, — обманув, может направить против меня. Кроме того, враг может обмануть не одного, а нескольких — они же как малые дети.
— Они все мои дети, — несколько невпопад заметил Туллий.
— Это бесспорно. Но бывает, что и дети восстают против своих отцов. По недоразумению, по наивности. Тебе, мой Туллий, так хорошо знающему жизнь, это известно, должно быть, лучше меня. Скажу больше, я не вижу вокруг себя человека, который бы был столь опытен в жизни, как ты, мой Туллий.
Идиот Туллий был польщен. Он выпятил грудь и весь так надулся, что я подумал, сколь точные прозвища умеет давать народ.
— Это так, — провозгласил он, — у меня большой опыт жизни. Еще когда я служил под началом вашего отца, дело было в Галлии, у местечка…
Но я не позволил ему вдаваться в воспоминания, сказав:
— Об этом мы отдельно поговорим как-нибудь. Я с удовольствием послушаю твои рассказы. Не из любопытства, а чтобы поучиться.
Его лицо выразило досаду, но последняя моя фраза пришлась по сердцу, и он, зачем-то сдвинув брови, заметил:
— Да, мне есть что порассказать.
Я смотрел на него и думал: с какими же людьми мне приходится общаться! И еще я подумал, что никакой настоящей силы у моей власти уже нет, если я стараюсь ублажить этого идиота и не имею возможности послать его подальше, в ту же Сирию, откуда я его привез.
Наступила пауза. Нужно было говорить, но мне не хотелось. Я смотрел на бронзовые пряжки его сандалий и думал о том, что не только император, но и бог имеет власть над людьми только тогда, когда они верят в него. То есть самой власти бога, может быть, и нет совсем, а есть только вера в его власть. Тут Сулла был прав. Я только теперь по-настоящему осознал это. Императорская власть только тогда власть, когда другие, большинство, верят в ее силу. А когда перестают верить, то нет уже ни власти, ни силы. Все определяется верой, а не войсками, деньгами и всем прочим. Моя власть еще называлась властью, но она была уже без силы, роскошные одежды императора болтались в пустом пространстве, и случайный ветер колебал их из стороны в сторону.
И я тут же подумал, что мне надо бежать, иначе они убьют меня. Бежать все равно куда. Я молод, могу прожить еще целую жизнь, а то и две жизни. Никто не вправе отнять ее у меня. Но — опасности, неизвестность, возможно, нищета. Я сомневался, я не знал, стоит ли жизнь власти.
Нужно было поговорить с Суллой, тот всегда подсказывал правильное решение. Но сейчас нужно договорить с идиотом Туллием. Отправить его? Прервать разговор и никогда к нему не возвращаться? Да, так надо было сделать, но я не чувствовал в себе сил для этого. Не я распоряжался собой, а они, они все распоряжались мной — их вера или неверие были моим приговором.
Я сказал себе, что да, побег неизбежен и желанен, но все это нужно подготовить и хорошо обдумать, ведь готовиться к побегу в никуда — это все равно, что готовиться к смерти. А разве я был готов к ней?
И я, подняв голову и через силу улыбнувшись Туллию, сказал:
— Скажи, мой мудрый Туллий, ты признаешь, что император есть отец, подданные — его дети?
— Да, император, — важно кивнул он, — это так.
— И преторианцы, твои солдаты, они ведь тоже мои дети?
Я видел, что Туллий плохо понимает, к чему я веду, и это отпечаталось на его идиотском лице, однако он снова утвердительно кивнул.
Я не стал подготавливать его и сказал прямо:
— Должен заметить тебе, мой Туллий, что здесь ты ошибаешься. Да, народ — дети, и здесь глубокое знание жизни тебя не подвело. Но гвардейцы — не дети или не должны быть моими детьми. Они охраняют меня и должны быть моими братьями. А ты понимаешь, какие братья могут считаться настоящими?
— Ну да… — буркнул он тупо.
— Именно так, — быстро подхватил я, — и я всегда знал, что ты не можешь ошибиться. Правильно, настоящими братьями могут считаться только кровные братья. Так вот, я хочу, чтобы ты сам и твои солдаты стали для меня такими. Ты, как всегда, правильно понял меня.
Туллий Сабон бессмысленно смотрел на меня. Разумеется, он ничего не понял. И я, глядя на него, видел, что вряд ли смогу ему все нормально объяснить. Он, конечно, был идиотом, но я тоже, наверное, находился не в себе — если еще не полный сумасшедший, то уже близкий к полному.
Я если еще не осознавал это, то уже достаточно ясно чувствовал. Но остановиться было невозможно, и я, уже не принимая во внимание тупость Туллия, продолжил:
— Тебе известно, мой Туллий, что у меня есть сестра Друзилла. Я не называю других моих сестер, они не в счет. Это моя любимая сестра, настоящая. Ведь ты знаешь, что я живу с ней.
Тайна эта была известна каждому мальчишке в Риме, но на лице Туллия выразился такой испуг, будто он вот только что узнал об этом. Он даже чуть привстал с кресла, а потом медленно, будто из него выпустили воздух, в него опустился. Он смотрел на меня как на сумасшедшего. И правда, есть вещи — даже и для всех очевидные, — о которых не говорят со слугой. А бедный мой Туллий, несмотря на всю свою дутость, иначе чем слугой внутренне никогда себя на ощущал.
Я уже пожалел, что затеял этот разговор, но отступать было поздно — как мне оставить в Туллии подозрение, что его император просто сумасшедший. Такое подозрение хуже всякой неверности. Откуда я могу знать, какие мысли явятся в его тупой голове!
— Так вот, брат мой Туллий, — проговорил я, изображая голосом и лицом проникновенную задумчивость, — я хочу, чтобы ты стал мне настоящим братом, кровным.
Все это не придумано мной. Ты ведь помнишь нашу первую встречу? Тогда еще я почувствовал в тебе брата, взял тебя с собой, чтобы ты всегда был рядом. Теперь я хочу, чтоб ты стал моим кровным братом. Ты понял меня, брат Туллий?
— Понял, — быстро кивнул он, при этом глаза его смотрели на меня еще бессмысленнее, чем прежде.
— Не удивляйся тому, что я скажу тебе, потому что это брат говорит брату, а не постороннему человеку. Не удивляйся, мой Туллий, но чтобы нам стать кровными братьями, тебе нужно переспать с моей сестрой, Друзиллой.
Неизвестно, как мой язык повернулся, чтобы произнести это. Сделать это было значительно легче, чем произнести.
— И тебе, — продолжал я, — и твоим солдатам. Когда это совершится, мы все будем братьями — и тогда нас никто не победит. Каждый из твоих солдат, соединившись с моей сестрой, станет мне братом. Ты понял меня, мой Туллий? Ты понял меня?
Испуг на лице Туллия сменился недоумением.
— Но, император, — проговорил он, заикаясь, и я заметил капли пота, выступившие у него на лбу, — их больше тысячи человек.
— Не понял, — нахмурился я, — кого больше тысячи?
— Гвардейцев, — сказал он, сглотнув, — не считая вспомогательные войска.
И правда, об этом я как-то не подумал. Туллий Сабон оказался сообразительнее, чем я думал. Даже для моей Друзиллы тысяча человек все-таки многовато.
Но что же мне было теперь делать? Сказать ему, что я ошибся, что гвардейцев слишком много для ритуала породнения? Сказать, что не рассчитал и беру свои слова обратно: забудь, мой милый Туллий, о том, что я тебе говорил? Так? И тогда он уйдет уверенный, что его император безумец. Хорошая новость для заговорщиков! Убедительная новость для тех, кто еще колеблется!
И я сказал, величественно на него посмотрев:
— Я сделал бы это, даже если бы их было три тысячи и даже если бы это был шеститысячный армейский легион. Число тут не может иметь значения — их тысяча, значит, у меня будет тысяча братьев. Иди, мой Туллий, и завтра приходи с командирами когорт, я буду говорить с ними.
Сказав это, я поднялся и сделал плавный жест рукой, отпуская его. Туллий же Сабон не встал, а по-настоящему выпрыгнул из кресла, к тому же еще запутавшись о переднюю ножку, — он едва устоял на ногах.
— Иди же, — проговорил я, — и думай о том, что я сказал тебе.
Туллий склонился передо мной и попятился к двери, а я стоял как изваяние и, видя себя как бы со стороны, очень нравился самому себе, отчего-то подумав: «Почему это евреи не хотят ставить мои статуи в храмах?»
Туллий остановился у самой двери, глядя на меня испуганно и вопросительно; мне показалось, что он стал меньше ростом.
— Ну? — бросил я, нахмурив брови.
— Всех командиров когорт? — пролепетал он.
— Всех! — крикнул я с неожиданной яростью и силой, и мне показалось, что именно сила крика вытолкнула Туллия за порог.
Я рассказал Сулле о разговоре с Туллием Сабоном. Его лицо было непроницаемым: ни одобрения, ни неприятия, ни страха.
— Что ты думаешь об этом? — раздраженно спросил я.
После некоторого молчания он спокойно ответил:
— Император волен делать то, что считает нужным, и для любого подданного воля императора — закон.
— Ты хорошо обучился придворным хитростям, мой Сулла, — сказал я, криво усмехнувшись, и ощутил, что у меня сводит скулы, так что продолжил я довольно невнятно: — Когда ты не хочешь говорить со мной, ты называешь меня императором. В других случаях ты называешь меня Гаем. Правильно? Скажи же, я еще не потерял присущей мне сообразительности?
— Да, император, — ответил он, поклонившись.
— Послушай, Сулла, не играй со мной, — проговорил я, шагнув к нему и беря его за руку, — ведь у меня, кроме тебя, нет никого.
— А Друзилла? — быстро сказал он и осторожно высвободил руку.
— Я жертвую самым дорогим, — с трудом выговорил я, глядя мимо его глаз. — Ты не можешь представить себе, что это такое!
— Могу, — неожиданно отозвался он.
— Что? Что ты такое сказал? — Я взял его за плечи и крепко сжал пальцы и сжимал их еще и еще, сколько хватало сил, пока с удовлетворением не увидел на лице Суллы настоящую гримасу боли.
Не знаю, не могу объяснить, откуда брался во мне этот гнев, которого я не ждал и которого не желал. Я хотел быть мягким, хотел быть добрым к Сулле, и еще я хотел, чтобы он пожалел меня или хотя бы посочувствовал мне; — ведь мне было так тяжело и так одиноко. Но я не мог управлять собой. С Туллием еще умел, а с Суллой нет. И, желая сказать ему что-то самое хорошее, я прохрипел в его лицо, брызгая слюной:
— Я велю тебя мучить, Сулла! Такие мучения, какие я придумаю для тебя, еще неизвестны в Риме! Мучения самого последнего раба покажутся тебе радостью. И тогда я посмотрю, как ты любишь меня, с какой любовью и каким уважением ты будешь произносить, ты будешь лепетать мое имя. Ты сам говорил мне, что любовь должна пройти через страдания, и я предоставлю тебе такую возможность.
Не помню, как он ушел от меня и куда делся. Наверное, я потерял сознание. Во всяком случае, очнулся я в постели. Рядом был врач и блюдо, наполненное кровью, — я с отвращением отвернулся. Все они хотели моей крови! Я велел всем выйти. Врач задержался и просил меня успокоиться, но я так посмотрел на него, что лицо его стало белым и, сделав шаг назад, он покачнулся и едва не упал. О, как я ненавидел их всех! Хотелось отвернуться к стене, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Если это и есть смерть, то я желал смерти.
Я чувствовал себя слабым — проклятый врач со своим неизменным кровопусканием. Я всегда понимал так, что чем больше крови, тем больше жизни. Потеря крови в бою есть почти верная смерть. Но эти идиоты-врачи считали, то потеря крови облегчает жизнь. Как мне хотелось уничтожить их всех — надрезать им всем вены и посмотреть, как облегчается их жизнь, пока до конца не облегчится.
Превозмогая слабость и дурноту, я повернулся на бок, лицом к стене. И тут же услышал шорох у двери. «Вот и смерть пришла», — подумал я равнодушно и закрыл глаза. Но шорох повторился, на этот раз явственнее. К тому же мне почудилось чье-то слабое покашливание. Не смерть же это покашливала, не решаясь войти!
Я пошевелил ногой и сразу же услышал от двери голос слуги, слабо, едва слышно проговоривший:
— Туллий Сабон и командиры когорт спрашивают о здоровье императора.
Я не сразу понял, о ком он говорит и при чем здесь командиры каких-то когорт. Зачем они здесь? Что им надо от меня? С трудом я развернулся к двери. Слуга стоял у порога, и выражение его лица было жалким.
— Кто? — выдохнул я, и мне показалось, что часть жизни вылетела из меня с этим выдохом.
— Командир преторианцев, Туллий Сабон… — начал было слуга, но не договорил. А я вспомнил.
Ну да, Друзилла, Туллий, тысяча человек, кровные братья… Неужели прошло так много времени? Я хотел сказать, чтобы они уходили, но боялся, что опять выпущу из себя часть жизни, и вместо ответа слабо повел рукой.
Хотел выразить отказ — не знаю, почему слуга понял мой жест совсем по-другому. Он выскользнул в дверь, и уже через несколько секунд она распахнулась и с десяток человек в полном вооружении (почему с оружием, мне неизвестно; они бы еще прихватили с собой значки когорт) с тяжелым топотом вошли и встали у моего ложа полукругом. Впереди всех был Туллий Сабон. Они все разом вскинули руки в приветствии, а Туллий что-то громко провозгласил — я разобрал только «император».
Наступило молчание: они все смотрели на меня, а я обводил каждого глазами. Все они мне были знакомы, с каждым я хоть раз в жизни разговаривал. Но сейчас их лица казались мне совершенно чужими, будто я видел их впервые. Пространство комнаты заполнилось запахом острого мужского пота, смешанного с запахами ремней, духом их дыхания. Это были командиры элитных частей, дорого и богато одетые, но все равно от них пахло казармой. Неизвестно, как я мог только подумать, что отдам им Друзиллу. Мою Друзиллу этим…
Молчание длилось довольно долго. Первым прервал его Туллий. Я был слишком слаб и вздрогнул, когда он заговорил. К тому же говорил он очень громко, будто забыв, где находится и с кем говорит. Впрочем, в присутствии подчиненных ему было привычнее говорить именно так. Добавлю: как в казарме.
— Император, — глядя на меня каким-то особенно пристальным взглядом, как бы даже сквозь меня, заговорил он, — я рассказал им всем, — он обвел стоящих широким жестом, — что ты желаешь стать нашим братом. Мы понимаем тебя, преданы тебе, готовы служить… — тут он как бы запнулся и продолжал, уже глядя в пол: — Только мы думаем, что нехорошо, если ты породнишься с нами и с простыми солдатами одинаково. Солдаты должны видеть отличия, а то какие же мы тогда командиры! И мы, командиры, тоже отличаемся друг от друга: одни служат давно, другие недавно, у одних больше наград, у других меньше. Мы все с этим согласны и хотим, чтобы ты сам определил очередь.
— Какую очередь? — пролепетал я едва слышно и снова почувствовал, как часть жизни вышла из меня вместе с этой фразой.
— Как же, очередь породнения с тобой, — ответил Туллий, но, видя, что я не понимаю, пояснил: — Я, император, солдат и буду говорить прямо. Первый с твоей сестрой должен быть я как командир гвардии. С этим все согласны. Но очередность для остальных ты должен определить сам. Мы верны тебе и примем твое решение беспрекословно.
Теперь я понял, о чем он говорил. Нужно было вскинуть руку, крикнуть, выгнать всех вон. Но я не только не был способен кричать или резко шевелить рукой, но не мог даже тихо ответить. Тем более что не знал, что же нужно отвечать на такое. Мою Друзиллу в очередь к этим солдафонам! Да они все с ума сошли! Я вижу перед собой толпу сумасшедших с Туллием Сабоном во главе.
Если бы были силы для гнева, он бы проявился с невероятной силой — никто из них не ушел бы отсюда живым. Но сил не было, а был страх и ощущение собственной немощи — не физической только. Я вполне понимал, что ничего с ними поделать не смогу и Друзилла — моя сестра, жена, моя единственная — обречена на это мерзкое породнение. И если я скажу «нет» — я обречен. Наверное, я и без этого обречен, но если отвечу «нет», то все произойдет слишком скоро, и я не смогу…
Тут мне пришла в голову спасительная мысль: если я скажу «нет», то не смогу спасти Друзиллу. Ведь если убьют меня, то не пощадят и ее. А так, с «породнением»… Все равно это лучше, чем смерть. Значит, с «породнением» я придумал все правильно, мудро и дальновидно. Не в жертву я приношу Друзиллу, а спасаю ее.
Я снова обвел взглядом стоявших у моего ложа людей. Сейчас я смотрел на них без злобы и даже доброжелательно: хорошие солдатские лица, тренированные тела — Друзилле с ними будет не так уж плохо.
Посмотрев на них так, я почувствовал себя лучше. Уже не ощущалось той слабости в теле и того страха и, главное, той обреченности, что была только что. Я снова был император, передо мной стояли командиры моих гвардейцев, мужественные и преданные солдаты, опора государства и трона. И почему бы не дать им в награду за преданность частицу самого дорогого? Я говорю частицу, потому что не на весь же век отдаю им мою Друзиллу!
Я так окреп в эту последнюю минуту, что сумел приподняться на локтях. Туллий Сабон шагнул, чтобы помочь мне (остальные, как видно, не решились), но я улыбнулся ему и сделал отрицательный жест.
— Ты все правильно сказал, мой Туллий, — почти торжественно выговорил я, — солдаты и командиры не могут стоять на одной ступени. Спасибо, что ты подсказал мне это. Что же до очередности, то здесь все просто: все вы мужественные и преданные воины, я не выделяю никого из вас, потому что все вы мне дороги одинаково. Поэтому очередность «породнения» будет проста — сначала Туллий Сабон, потом командир первой когорты, потом второй, третьей и так далее. Все согласны с таким порядком?
— Все, — разом ответили они.
— Тогда ступайте, братья мои, — провозгласил я, — и помните, что император думает о вас!
Они отсалютовали мне особенно отчетливо, забряцали оружием, затопали и, сгрудясь у двери, толкая друг друга, покинули комнату. Последним шел Туллий Сабон. Я остановил его и велел вернуться. Он вернулся к моему ложу, выражение лица его, когда он подошел, было гадким: смесь услужливости и панибратства. По-видимому, он уже чувствовал себя моим братом.
— Ты, конечно же, хорошо знаешь женщин, мой Туллий, — сказал я, несколько игриво поведя бровями. (Этот болван гадко улыбнулся и утвердительно кивнул). — И потому тебе известно, что женщины значительно глупее мужчин. (Он кивнул еще раз). И потому тебе понятно, что женщина лучше всего подчиняется силе, а не уговорам и даже приказам. А знатная женщина тем более. (Туллий изобразил губами нечто такое, что должно было означать, что он-то уж хорошо знаком с нравами знатных женщин.) Моя сестра Друзилла предана мне, но она тоже женщина и избалована близостью к императору. Она, конечно, сделает то, что я хочу, но может не сразу понять нашу с тобой идею «породнения». Она, конечно, поймет, но позже, а сразу может не все понять, и даже ничего не понять. А у меня нет времени на уговоры. Поэтому нужно взять ее силой, а понимание придет потом, само собой. Так вот, завтра в полдень я буду разговаривать с ней. А ты возьми двух-трех человек из числа своих командиров, и будьте наготове. Если я крикну: «Тогда убирайся вон!» — ты со своими людьми войдешь ко мне и заберешь мою сестру с собой. Зажмите ей рот, если она станет кричать. Ну, знаешь, как это делается. Приготовьте какую-нибудь материю, чтобы завернуть ее, и носилки, чтобы быстро ее увезти. Понятно, что никто ничего не должен заметить: наше породнение только наше дело. Ты понимаешь меня, мой Туллий?
— Не беспокойся, император, все будет сделано, как надо, — отвечал он очень серьезно и уже не с таким отчетливо гадким выражением на лице.
— Только имей в виду, вы не должны причинить ей никакого вреда — не забывай, что это сестра твоего императора!
— Ни один волос не упадет с ее головы, ручаюсь честью солдата! — воскликнул этот болван. — Никто не посмеет… — начал было он, но я не дал ему говорить.
— Хорошо, хорошо, мой Туллий, я верю тебе и во всем на тебя полагаюсь. А теперь иди, мне надо отдохнуть.
И величественным жестом руки, который я мог теперь себе позволить, я отпустил его.
Всю ночь мне снились кошмары. Не помню, что именно, но что-то тяжелое, страшное наваливалось на меня и душило, душило, обдавая лицо нечистым дыханием.
Я почти совсем не спал, но, странно, наутро не чувствовал себя разбитым, а от вчерашней слабости не осталось и следа. Я подумал, что мне нужно выйти на воздух, в лес или к морю — освежиться, забыть обо всем. Но тут же, лишь только я об этом подумал, я вспомнил о Туллии и нашем с ним вчерашнем разговоре. Мне стало неприятно, но не настолько, чтобы настроение испортилось окончательно. Я подумал, что нужно поскорее ПОКОНЧИТЬ все это дело с Друзиллой, освободиться от него и потом уже отправиться на прогулку. Распорядился приготовить лодку и чтобы, кроме гребцов, там больше не было никого — так хотелось побыть одному. Потом еще бесцельно походил из угла в угол и наконец, вздохнув, велел послать за Друзиллой.
Она пришла так быстро, что, казалось, была где-то недалеко от дворца и только ждала моего приглашения. Когда она вошла, я приоткрыл дверь и приказал слугам и солдатам у двери уйти: свидетели, даже и самые молчаливые, были мне сейчас ни к чему.
Друзилла, как и обычно, бросилась мне на шею, но я холодно и решительно отстранил ее. Она обиженно на меня посмотрела, присела на край ложа и стала смотреть в угол. А я, стоя над ней, сказал:
— Послушай, настало время доказать твою любовь ко мне. Я хочу, чтобы ты выслушала меня спокойно и с пониманием.
Она подняла голову. Она улыбалась, и следов обиды уже не было на ее лице — смотрела с любовью и желанием.
— Внимательно слушаю тебя, Гай, — произнесла она кокетливо.
— Оставь этот тон, Друзилла, — строго сказал я, — разговор будет серьезным.
— Но у нас всегда серьезные разговоры, Гай, — не желая прислушиваться ко мне, улыбнулась она, — с самого, как ты понимаешь, детства. Еще когда мы с тобой гуляли в нашем парке и ты впервые повалил меня на траву.
Если бы я не знал Друзиллы, я был бы уверен, что она издевается надо мной. Но я очень хорошо знал ее — она не издевалась, а просто была сама собой. Другой Друзиллой она, по-видимому, уже не могла стать.
Я схватил ее за руку и сильно дернул. Она вскрикнула, отняла руку, на глазах ее блеснули слезы. Простонала, растягивая звуки:
— Бо-ольно!
— Будет еще больнее, — со злобой сказал я, делая движение рукой, будто снова хочу схватить ее.
Она отстранилась, посмотрела на меня с испугом. Испуг был настоящим, не очень глубоким, но достаточным, чтобы я мог говорить, а она слушать. Собственно, этого я и добивался.
— Слушай, — проговорил я, надвинувшись на нее, — я никогда не говорил с тобой о государственных делах, а сейчас нужно поговорить…
— Но, Гай!.. — жалостливо перебила она меня.
— Молчи и слушай, если не хочешь, чтобы я снова сделал тебе больно. (Она поняла, что я не шучу, и вжала голову в плечи.) Если не понимаешь, то хотя бы послушай. Но я желаю, чтобы ты поняла, потому что от этого зависит многое. Возможно, что зависит все.
— Что зависит? — все-таки вставила она.
— Зависит все: наша власть, твоя и моя жизни, спокойствие Рима, в конце концов. В гвардии неспокойно, в Иудее назревает бунт, денег в казне мало. Это только часть наших проблем, но о других тебе и знать не надо.
— Но, Гай, — осторожно произнесла она, — при чем здесь Иудея? Ведь я в этом ничего не понимаю.
— Иудея здесь и в самом деле ни при чем, и в этом деле тебе понимать ничего не надо. Но гвардия… С гвардией все сложнее. Наше положение таково, что в Риме преторианцы решают все. Вспомни Тиберия и начальника преторианцев Макрона. Вспомни, как я стал императором. Вспомни, кто сделал меня императором!
— Я знаю, — вдруг зло и без всякого страха воскликнула она, — ты спал с женой Макрона, с этой мерзкой Эннией. С этой гадкой Эннией, у которой волосатые ноги и вислый зад. Я помню, куда она водила тебя и чем вы там с нею занимались. Как ты мог, Гай, спать с этой мерзкой шлюхой!
— Замолчи! — крикнул я, но не очень уверенно.
Друзилла замолчала, но теперь она прямо смотрела на
меня, гордо откинув голову, и в глазах ее не было страха. Воистину, ревность любящей женщины сильнее всего.
Я несколько растерялся, чувствовал, что Друзилла уже не боится меня и скорее это я боюсь ее ревности. Еще несколько мгновений такого молчания, и победа была бы за ней. Но тут я нашелся. Друзилла подсказала, неведомо для себя, нужное продолжение. Сам бы я, верно, никогда не догадался.
— Да, я спал с Эннией, — проговорил я одновременно и жестко, и как бы чуть жалея себя, — и ты права, у нее были волосатые ноги и вислый зад. Более того, ты не знаешь, как от нее дурно пахло, когда она занималась любовью. Кто бы знал, как мне было невыносимо. Меня тошнило от ее запаха, едва ли не рвало. Ты этого не знаешь, а я это помню хорошо. Ты думаешь, что мне доставляло огромное удовольствие шататься с нею по притонам и быть рядом, когда она совокуплялась с разным сбродом? Мне было противно, но я терпел, потому что я хотел быть императором. Я терпел, потому что Рим уже не мог переносить Тиберия, а он все не умирал. Я терпел, потому что нужно было помочь ему умереть и самому стать императором, чтобы спасти Рим.
Она все еще прямо смотрела на меня, но в выражении ее лица уже была растерянность и голова уже не была так гордо откинута.
Я все-таки был замечательным актером, и только тупая толпа не могла уразуметь этого. Кто бы видел сейчас, какую великолепную паузу я сумел выдержать! Ни один актеришка во всем Риме — из числа тех, кто считаются великими, — не смог бы сыграть лучше.
— Я терпел, — продолжил я уже по-настоящему трагическим голосом (в нем были и боль, и гнев, и стыд, и гордость), — шел на самые страшные унижения, чтобы спасти Рим. А ты в это время жила в свое удовольствие, спала, с кем хотела, делала, что хотела. Тебе не нужно было ходить по притонам и отдаваться всякому, кто бы тебя захотел! И ты еще смеешь упрекать меня. Где же справедливость, о боги!
Я выговорил это и отвернулся. На моих глазах выступили слезы. Самые настоящие, и ни одному лицедею не снилась такая игра.
Снова наступила пауза. Но в этот раз требовалось, чтобы вступила Друзилла. И она сказала, осторожно тронув мою руку:
— Но я же не знала, Гай. Я не понимала ничего, прости меня, прости!..
— Разве в этом дело, — проговорил я с грустью (трагический тон был бы сейчас неуместен), — ты ни в чем не виновата, и мне не за что прощать тебя. Ближе тебя у меня нет никого на свете. Я всегда любил и люблю тебя одну. Ты и представить не можешь, как ты мне дорога!
Действие комедии развивалось так, как я хотел, только Друзилла думала — что было особенно комично и что составляло всю соль представления, — она думала, что это трагедия.
— О Гай! — самым трагическим тоном воскликнула она и, встав, обняла меня нежно за плечи, уткнувшись лицом в мою грудь. — О Гай!
Да, я в самом деле вошел в роль, потому что, когда я заговорил, в моем голосе звучали слезы. Не ложные, а уже настоящие.
— Ты самое дорогое, что есть у меня, — с трудом выговорил я, проведя ладонью по ее волосам (при этом я почувствовал, что туника на груди стала мокрой: Друзилла плакала беззвучно). — И ты не представляешь, как страшно мне просить у тебя то, что я хочу попросить. Мне легче умереть, чем сказать тебе это.
— Я все сделаю, все сделаю… — не отнимая лица от моей груди, глухо выговорила она.
— Но ты не представляешь себе, чего мне это стоит. Я не выдержу, я чувствую, что сердце мое разорвется на куски.
— Нет, нет, Гай, скажи, я прошу тебя!
Я снова выдержал паузу — при этом дрожь охватила все мое тело — и только тогда сказал:
— Мы попали в безвыходное положение, и только ты, Друзилла, можешь спасти империю. Заговор преторианцев я разгадал слишком поздно, и силой оружия и своей властью я уже ничего не могу сделать. Но я разговаривал с ними, я смело пошел на разговор. Они могли там же убить меня, но я сумел с ними договориться. Они требуют тебя, Друзилла.
— Меня? — спросила она, подняв голову и посмотрев мне в глаза.
Но я не мог (тут, по-видимому, все же не хватило актерства) смотреть ей в глаза и, взяв ее голову обеими руками, снова крепко прижал к груди.
— Эти скоты потребовали, чтобы ты переспала с ними: с Туллием Сабоном и со всеми начальниками когорт, — гневно проговорил я и быстро добавил: — Их не так много, всего девять человек.
Тут я, конечно, сказал не то, и если бы не весь мой прежний трагизм и натуральные слезы, то, думаю, Друзилла разгадала бы мою игру или хотя бы почувствовала фальшь. Но она не почувствовала, и я продолжал:
— Я ответил им отказом, я сказал, что они могут убить меня здесь же, но никогда не получат моей Друзиллы. Я отказался, но что из того — сила на их стороне, и, чтобы призвать верные мне легионы, мне нужно время. Я знаю, как расправиться с ними, но мне нужно всего каких-нибудь несколько дней. О, если бы боги даровали мне эти несколько дней! Какую бы казнь я им придумал! Но времени этого у меня нет, и я уверен, что они уже ждут за дверью. Я сказал тебе обо всем этом, потому что ты, самый близкий мне человек, потому что ты — это все равно что я сам, потому что мы одно целое. Но я никогда не позволю тебе пойти на это! Мы умрем вместе! Пусть они входят — мы обнимемся и так примем смерть!
И, проговорив все это, я сжал ее что было сил. Она дернулась в моих объятиях раз и другой и наконец подняла (я чуть расслабил руки) голову.
— Нет, Гай, — произнесла она так, что у меня самым настоящим образом все похолодело внутри и я готов бы разрыдаться. — Нет, я согласна, я так люблю тебя. Я сделаю, как они хотят, но только чтобы… чтобы тебе было хорошо.
— Что ты такое говоришь! Замолчи! — гневно вскричал я, уже не понимая, наигранный это гнев или настоящий.
Но она опять сказала, что согласна, что ради меня она готова пойти на смерть, а унижение все-таки не смерть, хотя бывает, что и хуже смерти.
Она так говорила, повторяла одно и то же раз за разом, то ли меня убеждая, то ли себя саму. Мне бы радоваться, что все так неожиданно хорошо получилось, но радости не было в моей душе. Напротив, я чувствовал раздражение и досаду — слишком все как-то легко получилось. И Друзилла согласилась слишком легко. Я стал думать, что, может быть, она сама хочет этого — сильные мужчины, новые ощущения; она жертва и все такое прочее, что дает женщине особенное удовлетворение. Удовольствие изысканно-порочное, болезненно-сладкое.
— Да ты просто дрянь, — неожиданно для себя отчетливо и твердо произнес я. — Самая настоящая низкая шлюха!
Она не только не ожидала от меня такого, но, кажется, и плохо расслышала.
— Что ты сказал, Гай? Я не понимаю.
— Я сказал, что ты шлюха и дрянь, и ты готова спать с первым встречным. Ты дрянь, дрянь, и ты на все готова, чтобы только насытить свою плоть.
— Нет, Гай, нет, — простонала она, но я был неудержим:
— Дрянь, дрянь, мерзкая гадкая тварь! Энния была лучше тебя, а ты готова… Ты на все готова, только бы удовлетворить свою похоть! Дрянь, дрянь, гадина!..
Я не мог остановиться и выкрикивал слова, не понимая их смысла. Уже не слышал себя и ничего вокруг не видел и не слышал. И вдруг услышал повторяемое раз за разом:
— Ненавижу! Ненавижу!
Я словно бы открыл глаза: Друзилла стояла в двух шагах от меня, подняв руки на уровень плеч и прикрыв ладонями уши. Глаза ее тоже были закрыты. И она повторяла как заклинание:
— Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Я понял, что она, наверное, уже давно не слушает меня и повторяет свое. Гнев мой не был бы столь яростным, если бы не прикрытые ладонью уши. Почему-то это особенно прогневало меня. Глаза мои налились кровью так, что я увидел Друзиллу в красном свете. И все вокруг сделалось красным. Я подскочил к ней, схватил ее за руку и потащил к двери. Она не упиралась, но продолжала повторять свое, хотя я уже оторвал ее ладони от головы.
— Вон! Вон! — кричал я. — Тогда убирайся вон!
Мы были уже у самой двери, когда я почувствовал,
как она раскрылась за моей спиной.
— Кто?! — взревел я, резко развернувшись. — Убью!
И тут же увидел в каком-нибудь шаге от себя лицо
Туллия Сабона. Оно было растерянным. За его спиной стояли еще двое, но лиц их я не сумел рассмотреть, потому что в эту самую минуту пронзительно закричала Друзилла. Я еще держал ее руку в своей и выпустил, испугавшись крика.
На лице Туллия Сабона уже не осталось растерянности. Он не смотрел на меня, а смотрел мне за спину, туда, где должна была быть Друзилла. И стоявшие за ним смотрели туда же. Я оглянулся, и Друзилла прокричала снова — оглушающе, страшно. Ее крик оттолкнул меня в сторону, и я ткнулся спиной в стену и сполз на пол. Никто не бросился помочь мне подняться, и все последующее происходило так, будто меня не было в комнате.
Они бросились к Друзилле, поймали ее и повалили на пол. Она уже не кричала, а только стонала хрипло. Один из вошедших держал в руках кусок толстой материи красного цвета (но, возможно, это мои глаза видели его красным). Они набросили материю на Друзиллу, обернули ее, подняли и понесли к двери. На меня они не смотрели — прошли мимо, громко топая и шумно дыша. Я почувствовал запах казармы. Голова и тело Друзиллы были укрыты красным, и только ноги от колен оставались открыты. На одной ноге не было сандалии, и розовая нежная ступня моей Друзиллы особенно поразила меня. Чем? Я не знаю чем, но мне стало невыносимо больно, и я закрыл глаза.
Когда я открыл их, вокруг было тихо, и я самым настоящим образом ощутил, что меня нет здесь.
Прошло несколько дней. Я не хотел думать о Друзилле, и, если бы не розовая ступня, которую я увидел в последний миг, я бы сумел не думать. А так было трудно забыть: нежность кожи, особенный любимый мною запах — терпкий и возбуждающий, родной, — ее пальчики, каждый изгиб которых я знал наизусть. Все это виделось мне во сне и наяву, мучило и мешало существовать. Именно существовать, потому что о жизни, тем более полноценной, и говорить нечего.
Я звал к себе Суллу. Он приходил, был почтительным и грустным, не говорил мне «Гай», а неизменно и подчеркнуто говорил «император». И мне отчего-то трудно было попросить его называть меня по имени — трудно, потому что стыдно. И вообще, стыд в эти дни, кажется, заполнил и меня самого, и все вокруг. Я не мог смотреть в глаза даже слугам, говорил отрывисто и старался поменьше видеть людей.
Я сказал Сулле, чтобы он ехал со мной на морскую прогулку ночью. Я хотел, чтобы он, как когда-то прежде, рассказывал мне о звездах — в это время года они были особенно ярки. Мы отплыли от берега, я велел гребцам поднять весла, лег на спину и стал смотреть на звезды, а Сулла, сидевший рядом, поднял руку и показывал мне созвездия. Он говорил довольно интересно, правда — в отличие от прежних лет, — монотонно и без энергии и, главное, без убежденности. А я слушал, но мне было скучно. И хотя было интересно, я мало что понимал. Порой я переставал понимать совсем, и голос Суллы рядом оставался только фоном — как шум ветра или плеск волн. Я смотрел на звезды, но что мне было за дело до их красоты и яркости, до гармонии созвездий. Ведь я смотрел на них только для того, чтобы не видеть ничего другого, чтобы не ощущать это мерзкое чувство стыда, похожее на нечистоту тела, которое зудит, и чем больше расчесываешь его, тем невыносимее зуд.
Мы не говорили с Суллой о Друзилле, но я понимал, что он знает все. И знал, что осуждает, — никак по-другому быть не могло. Но я ждал, что он заговорит. Нет, не осуждающе, я не вынес бы этого, а заговорит, жалея меня, а не Друзиллу. Ведь это я был подавлен, и меня наполнял стыд, похожий на нечистоту тела, и — ведь это я был одинок. Одинок, как никто в целом мире.
Но Сулла не понимал этого, он монотонно, хотя и интересно, говорил мне о звездах. О своих звездах, потому что они теперь были только его.
Неожиданно я почувствовал такую злобу, что, резко поднявшись на локтях и толкнув его в плечо (отчего он упал на бок и остался так лежать, подобрав под себя ноги и втянув голову в плечи), проговорил с нехорошим смешком:
— Если я велю выбросить тебя за борт, а берега не будет видно, ты поплывешь, ориентируясь по звездам, или сразу пойдешь ко дну?
Он не ответил и не пошевелился. Тогда я что было сил, не вставая, пнул его ногой. Я не понял, куда ударил его (было совсем темно), но нога словно провалилась во что-то мягкое, неживое, противное, как полуразложившаяся плоть. Именно поэтому я не ударил его второй раз, встал, отошел к носу лодки и велел гребцам грести к берегу.
Я уже не раз говорил, как противны мне были эти так называемые государственные дела. Порой меня от них просто тошнило. Очень редко они забавляли меня — редко и ненадолго. Я всячески их избегал. Но бывало, что уйти от них оказывалось невозможно.
Мне принесли послание от Петрония, которого я отправил усмирять Иудею — евреи так и не приняли в свои храмы моих статуй, и в регионе было неспокойно. Петроний со своими легионами дошел до Птолемиды, города на границе Галилеи[21]. С собой он вез несколько моих статуй. Но евреи не допустили его в свои храмы, а вторгнуться туда силой Петроний почему-то не решился.
Он писал мне, что обстановка очень сложная и жесткие меры принесут один только вред. Делегация местных жрецов объяснила ему, что дело не в статуях императора — они с удовольствием приняли бы их, — а в том, что в их храмах нет никаких изображений вообще: ни человеческих, ни божеских. В конце послания Петроний заверил меня, что готов принять по отношению к бунтовщикам самые решительные меры.
Я разгневался. Тем более что настроение мое в последние дни и без того было не самым лучшим. Счастье Петрония, что его не было рядом. Видите ли, он готов принять решительные меры! Почему же он до сих пор их не принял? Ведь не для переговоров же я послал его с тремя легионами в эту проклятую Иудею.
Я позвал секретаря и продиктовал ответ. Я написал ему, что если он немедленно не примет против бунтовщиков решительных мер, то эти меры я приму против него самого.
Велел доставить это письмо Петронию как можно скорее, хотя понимал, что раньше тридцати — сорока дней его все равно не смогут доставить.
Проклятые иудеи не давали мне покоя. Я видел в них своих самых главных врагов. Вслед за посланием Петрония из Иудеи пришли вести из Александрии[22], еще более тревожные. Там разразился самый настоящий бунт, восстало чуть ли не все еврейское население. До этого считалось, что именно еврейская община Александрии особенно предана Риму. Я был уверен, что дело с моими статуями в их храмах пройдет в Александрии гладко. Но я ошибался — они тоже не приняли моих статуй.
Впрочем, тамошняя римская администрация, в отличие от Петрония, без всяких ко мне посланий действовала решительно. Юлий Флакк, наместник в Александрии, был большим ненавистником евреев.
Кстати, сам Флакк был самым настоящим вором, если называть вещи своими именами. Он достался мне еще от Тиберия, и я его не сменил только потому, что в том регионе нужен был жестокий наместник, а жестокость его, казалось, не знала пределов. Но он был вор. Все наместники в той или иной степени были ворами — так уж повелось, и ничего страшного в этом не было. Никто их ворами не называл, потому что желание взять больше положенного тебе присуще человеческой природе. Но Флакк брал слишком много, и алчность его не имела пределов. Мне было известно, что он обложил личной данью едва ли не все население, не говоря уже о богатых людях. Но мало этого — он мог войти в любой дом и взять открыто то, что пожелает, взять бесстыдно и нагло. А это уже было преступлением, это уже накладывало пятно не на него только, но на Рим, потому что римский наместник, хотя бы внешне, должен оставаться чист. У меня было давнее желание призвать его к себе и расправиться с ним жестоко в назидание другим и еще для того, чтобы показать, что император блюдет честь Рима и защищает от лихоимцев своих подданных. Я бы так и сделал, но рвение Флакка в борьбе против евреев оказалось мне на руку. Особенно теперь, когда они вошли в открытое и дискредитирующее власть неповиновение.
Здесь Флакк и развернулся в полную силу. Он не уговаривал, не убеждал, как Петроний, — такого рода дипломатия была чужда его нраву. Он просто объявил, что, если статуи императора не примут в храмах, он поголовно уничтожит все местное еврейское население. Чтобы оценить степень его угроз, нужно было знать Флакка. Я его хорошо знал, а вот местное население оценивало его явно недостаточно. И поплатилось за это.
Должен признаться, что упрямство евреев очень раздражало меня, а иногда и пугало. Я уже говорил раньше, что не мог постичь, почему люди — и не какие-нибудь жрецы или фанатики, а все население поголовно — ценят жизнь значительно меньше, чем веру в своего бога. Нет, этого я никогда не смогу понять, потому что ведь человек может почитать бога и поклоняться ему, только когда он жив. Если у него отнимают жизнь, то одновременно с этим отнимают и бога: мертвый не может не только верить, но и вообще не может ничего — ни чувствовать, ни говорить, ни видеть. Нет жизни, нет и бога. И если вы уж так хотите, чтобы у вас был бог, то хотя бы во имя этого цепляйтесь за жизнь во что бы то ни стало. Если бы этого не понимали единицы — фанатики есть везде, и самое глупое убеждение для них сильнее самой очевидной логики, — но чтобы весь народ!.. Нет, понять я не мог, и это пугало меня.
Юлию Флакку такие размышления, разумеется, были чужды. Оно и лучше, потому что мысль мешает действию, уже не говоря о сомнениях. Если он приказал, то требовал беспрекословного подчинения.
Когда закончился срок его ультиматума, а статуи императора, то есть мои, не допустили в храмы, он велел их поставить туда насильно. Когда толпа пыталась этому помешать, он велел солдатам смертно бить людей направо и налево, не разбирая, кто перед ними — женщины, дети или старики. Тогда же побито было много народу.
Но если кто-нибудь подумает, что это испугало людей, то ошибется. Это испугало бы кого угодно, только не евреев. Все еврейское население Александрии вышло на улицы. Флакк было распорядился разогнать толпу, но разогнать несколько десятков тысяч человек не так просто (а по некоторым данным, их и вообще было больше ста пятидесяти тысяч). Для этого нужно организовать специальную войсковую операцию. Флакк вполне был готов к этому, но не хотел терять времени и решил еще раз испробовать метод устрашения вместе с очередным унижением евреев. Были схвачены тридцать восемь человек, самые уважаемые народом люди — влиятельные члены верховного совета, философы. Их заковали в цепи, на глазах у всех проволокли по улицам в цирк и здесь, под гиканье ликовавшей александрийской толпы, подвергли бичеванию. Да, им было больно, и они вопили от боли. Им было страшно, и они визжали от страха. Но разве хотя бы один из них покаялся! Ни один. Они молили о пощаде, но никто не желал подчиняться.
Флакк пригрозил уничтожить все еврейское население, и я не поставил бы и пару мелких монет за того, кто усомнился бы в этом. Если бы не мерзкая, позорящая Рим алчность Флакка; ему бы цены не было. Он бил евреев на улицах, сажал их в тюрьмы, обирал до нитки (правда, в этом случае казна государства не выигрывала ничего, зато его собственный карман оказывался в очень даже значительном выигрыше). Он решительно запрещал их богослужения и сходки, приказывал есть свинину и кормил их насильно и, главное, заставлял поклоняться и приносить жертвы нашим богам.
Должен признаться, что, несмотря на все его, в данном случае, похвальное рвение, результат оставался минимальным, а вернее, результата не было вовсе. Если человеку запихивают в рот кусок свинины, а потом принуждают проглотить, и он все-таки проглатывает — это не означает еще, что он подчинился, чтит императора и забыл своего проклятого бога.
По сути, Флакк не был виноват, никто бы не сделал своего дела лучше, чем делал его он. Но я был разгневан, и гнев мой обрушился на Флакка. Понятно, что поводом для вызова его в Рим оказались его алчность и мздоимство. Мое решение пришлось сенаторам по вкусу — многих из них привлекала его «хлебная» должность, и всякий мечтал пристроить на нее какого-ни-будь своего родственника. Флакк еще хорошо отделался — тут наворованные им деньги бесспорно сыграли свою роль, — он был приговорен всего лишь к изгнанию, хотя первоначально ему угрожала смертная казнь.
Воспользовавшись этим обстоятельством, евреи Александрии прислали в Рим свою делегацию. Ее возглавлял некто Филон[23], по прозвищу Филон Александрийский. Говорили, что он философ и очень уважаемый народом человек. Но я не любил философов — кому нужны их абстрактные умствования! Мне вообще всегда казалось, что все они мошенники и всю свою философию придумывают только для того, чтобы казаться выше других и получать от этого какие-то блага. А главное — ничего не делать: сиди себе, изрекай нечто непонятное для других и требуй за это непонятное уважения и денег. А некоторые (я знаю парочку таких — один сенатор, другой просто богатей) поддерживают этих бездельников, носятся с ними, держат их возле себя. Пусть обманывают кого угодно, но я-то понимаю, что все это небескорыстно — кто поддерживает этих мнимых умников, тот и сам хочет прослыть умным: «Никто не понимает мудреца, а я один понимаю». Следовательно, тебе больше почета. А где много почета, туда и деньги стекаются. Так что эти богатые хитрецы есть такие же мошенники, как и мнимые мудрецы. И этот Филон Александрийский, я уверен, из их числа.
Меня просили принять его, но я отказался. Во-первых, пусть никто не думает, что достаточно называть себя философом, чтобы сильный мира сего жаждал общения с тобой. Во-вторых, у меня были и другие резоны. Я знал, о чем он будет просить меня. Он будет просить, чтобы я отменил свое решение о постановке своих статуй в их храмах. Будет убеждать меня, что евреи, как никто, преданы Риму и императору и что для таких ценных подданных я мог бы сделать исключение. Может быть, я и мог бы сделать исключение, но вопрос не в этом. Все дело в том, что, уговаривая или убеждая меня не ставить собственные статуи в их храмах, этот мошенник как бы открыто будет смеяться мне в лицо — ведь, согласившись отменить свое решение, я, получается, признаю, что я не бог. А он, выходит, заранее не признает меня богом и никогда не признает.
Нет, этого я не мог допустить. У меня было возникло желание приказать, чтобы арестовали всю их делегацию, заковали в цепи и отправили в тюрьму (тем более что для настоящего мудреца это не должно быть так обидно). Я очень хотел сделать это с ними, но воздержался. Лишняя напряженность в Александрии меня не устраивала, потому что и мое положение было не столь прочным. Опять война, новые налоги, недовольство толпы, интриги и заговоры сенаторов — нет, сейчас я не мог себе этого позволить. Я только приказал, чтобы эту еврейскую делегацию вместе с их любимым философом немедленно отправили домой, в Александрию.
Нужно было назначить нового наместника, мне предлагали разных (каждый из предлагавших тащил своего), но я все никак не мог сделать выбор. Такого жестокого, как Флакк, назначать было нельзя, а решительного и умного не находилось. У меня даже была мысль отправить наместником Суллу, но, во-первых, я все-таки не хотел, чтобы он уезжал так далеко и надолго, во-вторых, его назначения мне бы не простили, слишком уж мой Сулла был низкого происхождения. Кроме того, Сулла, кажется, не умел убивать, а научить этому, к сожалению, можно не всякого. Так что назначение пока откладывалось.
В эти же дни в Рим прибыл Агриппа[24], царь Иудеи, и я не верил, что его приезд не связан с развернувшимися там событиями, хотя внешне была выдвинута совсем другая причина. Между прочим, слишком незначительная, чтобы в нее можно было поверить.
Этого Агриппу я знал не очень хорошо. Он был племянником Ирода Великого, которого я не знал совсем. Между нами говоря, я никогда не мог понять, чем же этот Ирод был так велик, хотя мне довольно много о нем рассказывали. Ну да, построил парочку храмов, совершил несколько мелких походов против соседних племен (к тому же малочисленных и плохо вооруженных). Наверное, величие в провинции совсем иного рода и значения и с высоты Рима его невозможно как следует разглядеть.
Впрочем, сам Агриппа нравился мне, особенно своей щедростью и изобретательностью. И хотя щедрость его в отношении меня была все же вынужденной, порой казалось, что это его сущность, а не политика. Изобретательность же его заключалась в том, что он делал мне те подарки, которые мне нравились и получить которые я желал. Если в этом заключается хитрость его нации, то мне по нраву такая хитрость.
В этот его приезд было то же самое — щедрые и изысканные его дары привели меня, несмотря ни на что, в хорошее расположение духа. Агриппа был обходителен и вежлив, и я разговаривал с ним дружески.
Я ждал, что он заговорит о событиях в Иудее, но об этом он не заговаривал, а когда я стал говорить сам, выказав некоторое недовольство упрямством тамошних жителей, он отвечал мне, что воля императора есть закон для подданных и не их дело обсуждать, правильно ли поступает император или нет, а их дело подчиниться.
— А ты как считаешь? <— прямо спросил я его. — Прав я или не прав?
Он поклонился мне, улыбнулся со смирением и ответил, что император всегда прав.
— Нет, ты скажи, — не отставал я, — скажи мне честно, не боясь вызвать мой гнев: ты тоже, как и твой народ, не считаешь меня богом?
— Тот, кто держит большую часть мира в своих руках, — с прежней улыбкой отвечал он, — не может быть просто человеком.
Ответ показался мне несколько туманным. Что значит «просто человеком» — не быть просто человеком еще не означает быть богом. Кроме того, и улыбка, с которой он это сказал, была двусмысленной: то ли это вежливая улыбка, то ли насмешка над моими вопросами, то ли насмешка над сутью собственного ответа.
Я понимал, что нужно оставить эту тему, что он своей изворотливостью все равно переиграет меня, но не мог остановиться:
— Хорошо, но и Александр держал половину мира[25], и Ксеркс Персидский тоже. Значит ли это, что и они были богами? Если так, то что-то слишком много на земле богов и быть еще одним таким богом не очень почетно.
— Я сказал то, что думал, — проговорил он, поклонившись и почтительно разведя руки в стороны, — но как я, царь маленькой Иудеи, могу судить об этом? Об этом можешь судить только ты сам, владыка Рима. К тому же власть Рима сама по себе божественна. Кто же может оспорить это?
Агриппа был слишком изворотлив, и мне в этом смысле с ним тягаться не стоило. Он сказал все, ничего не сказав, но придраться к его словам было трудно. Я ушел от этой темы, и мы еще полчаса беседовали, кажется, о всяких пустяках — О погоде, скаковых лошадях, о моем корабле, который он восхищенно расхваливал.
Он ушел, а всего три дня спустя снова попросил принять его. Я усмехнулся про себя, когда он вошел, будучи уверен, что уж на этот раз разговор пойдет об Иудее. Но я опять ошибся. Он долго и витиевато говорил о своем восхищении Римом, мной, теми постройками, которые он увидел. В конце своей речи он сказал, что такого энергичного императора не было со дня сотворения мира. (Он сказал «мира», а не «Рима», я подчеркиваю это.)
Я не мог понять цель его прихода — не расхваливать же меня он сюда явился. Наконец он сказал, что хотел бы устроить пир в мою честь и просил милостиво разрешить ему это. Я милостиво позволил.
Пир был назначен на завтра. По-видимому, те три дня, что он не был у меня, он готовился к нему.
Обед был устроен в огромном шатре, раскинутом у самого берега Тибра. Такого огромного шатра я никогда не видел, он был размером с большой дворец. Украшенный гирляндами цветов, изображениями птиц и зверей, он высился на берегу как какое-то неземное сооружение. К шатру вела широкая, застеленная дорогими восточными коврами аллея, а по краям ее, от начала до входа в шатер, высились статуи. Я узнал в них самого себя. Изображен я был в виде богов: Аполлона, Геркулеса, Нептуна, Меркурия и так далее, и так далее. Статуи были хорошего качества и, что мне понравилось, — большие, больше человеческого роста. Все, кто шел со мной, смотрели на них снизу вверх. Правда, и сам я тоже, но это другое дело..
Но главный сюрприз ждал меня у входа. По правую руку высилась статуя, изображающая меня в виде Юпитера с молниями в руке, а по левую… По левую была самая высокая статуя, едва ли не в два человеческих роста: я стоял, опершись обеими руками в какую-то бесформенную глыбу.
— Что означает эта глыба? — спросил я Агриппу.
— Это облако, император, — с поклоном ответил он и, больше ничего не добавив, склонился еще ниже.
Следуя его примеру, все, кто был здесь, так же низко передо мной склонились. Я посмотрел вокруг; мне показалось, что не только люди, но и деревья, и дома вдалеке — все склонились передо мной и застыли в поклоне. И даже небо, хоть оно и было наверху — я почувствовал, — склонилось тоже. И только моя статуя стояла передо мной прямо и недвижно.
Да, моя статуя, где я упирался руками в облако, не склонилась передо мной. Но я все равно был доволен и сказал об этом Агриппе. Он было снова низко поклонился мне, но я собственноручно поднял его, обнял и сказал, что с этой минуты считаю его своим настоящим другом. Стоявшие вокруг почтительно улыбались, но я заметил, что многие недовольны.
Я вошел в шатер. Не смогу описать все великолепие внутреннего убранства, скажу только, что оно ослепляло самым настоящим образом. Зазвучала музыка, мы сели, и пир начался. Каких только кушаний тут не подавали! Агриппа затмил все, что я когда-либо видел. Несколько танцовщиц исполняли какие-то диковинные танцы. Вообще-то я никогда не смотрю на танцовщиц, через короткое время их кривлянья начинают утомлять; они хороши, как фон, да и то не всегда. Но у Агриппы было другое — я не мог оторвать от танцующих взгляда. Они были красивы, но не в этом дело. Их телодвижения были необычны, но не настолько же необычны, чтобы смотреть, смотреть и хотеть смотреть еще! Что-то тут было другое, и я не мог понять что. Мне казалось, я чувствую их запах, что они одно тело — незнакомый организм, вызывающий жгучее желание. (Я не преувеличиваю, говоря про жгучее желание, — совершенно точно, что я не испытывал прежде ничего подобного. Каждая частица моего организма желала, и мгновениями мне казалось, что я потеряю сознание.)
Я поманил Агриппу рукой, спросил, глядя на него затуманенным влагой взглядом:
— Что это?
— Это мои танцовщицы, император. Я привез их специально для тебя, — отвечал он спокойно.
— Они все еврейки? Никогда не думал, что еврейки такие… — проговорил я с придыханием, так и не найдя определения.
— В Иудее много народов, император, — улыбнулся он. — Вот эти две слева — еврейки. Одна из Сирии, а те две — арамейки. Они хорошо знают искусство любви, и если император желает в этом убедиться…
Он не договорил и по-восточному почтительно развел руками, а я сказал нетерпеливо:
— Да, да, хочу.
Агриппа рассчитал верно, и все у него было заранее приготовлено. Он повел меня в другую половину шатра, она была отделена от пиршественной залы тяжелыми парчовыми покрывалами. Собственно, это выглядело как шатер в шатре. Он откинул покрывало, пропустил меня внутрь, а сам остался за порогом. Все пространство внутри занимало ложе, то есть сам пол и был ложем — мягким, нежным, с разбросанными повсюду подушками. Светильники, свисающие со стен шатра, как-то особенно туманно его освещали.
Лишь только я опустился на пол, как вошли танцовщицы, все пятеро. Они вошли через какой-то другой ход, а казалось, что сказочно соткались из воздуха. Они были совершенно обнажены, тела их как-то странно колыхались в тумане перед моими глазами — легко, красиво, зазывно.
Они окружили меня, раздели, почти бесплотно касаясь, опустились рядом. Прильнули ко мне своими телами. О боги, как же мне сделалось сладко! Если бы я мог умереть в эту минуту, то умер бы с радостью. Не могу объяснить, что они делали со мной. Кажется, просто касались. Но если эти сладостные прикосновения есть искусство любви, о котором мне сказал Агриппа, то, значит, я не знал, что такое любовь.
Лицо одной, смуглой, с большими, чуть навыкате глазами и тяжелыми волосами, лежащими на плечах, поднялось над моим лицом.
— Как твое имя? — выговорил я, тяжело шевеля губами.
Она улыбалась мне бессмысленно — по-видимому, плохо понимала по-латыни. Я повторил вопрос. Она ответила, почему-то громко (или мне так показалось?):
— Элишева.
— Элишева, Элишева, — повторил я, чувствуя, как проваливаюсь куда-то, в нежное, сладостное, невыразимое словами.
Крики пирующих стали глуше, а счастливое мгновение достигло самого пика. Я не выдержал и закричал.
Не могу сказать, сколько длилось мое пребывание в этом шатре любви — время как бы перестало существовать, его заменили волны страсти, то поднимающие меня высоко, к самому небу, то опрокидывающие в бездну. Я летел, летел, страшась удара, но волна подхватывала меня мягко у самой земли и снова тянула вверх.
Когда я открыл глаза, я был один в шатре. Я позвал:
— Элишева!
Но никто не ответил мне. Шум за стеною шатра снова сделался близким, и захотелось туда, к этим кричащим и пьющим. Я не чувствовал усталости, которая бывает после упражнений любви, но, напротив, каждая мышца моего тела словно бы налилась силой. Пружинисто встав, я подошел к стенке шатра, провел по ней рукой, ища выход, и тут же край материи отогнулся сам собой, и я увидел Агриппу.
— Позволю себе потревожить императора, — проговорил он, как и обычно склонившись передо мной.
— Да, Агриппа, — отвечал я, дружески ему улыбаясь, — ты можешь позволить себе все, что угодно. Мне, императору Рима, не пристало чему-либо удивляться. Но скажу тебе откровенно, я удивлен. Эти женщины…
Я не договорил и только многозначительно повел глазами, а он, почтительно переждав, сказал:
— Эти женщины твои, император, и если ты соблаговолишь принять от меня столь недостойный тебя подарок…
Но я перебил его:
— Не говори так, мой друг Агриппа, это самый замечательный подарок, какой я когда-либо получал в своей жизни.
— О великий император, как мне, недостойному… — начал было он в своем восточном стиле, но я шагнул к нему и, обняв его крепко, сказал:
— Я восхищен, мой Агриппа, и этим пиром, и твоим подарком. Ты можешь просить у меня все, что ты хочешь, и я исполню любое твое желание.
— О император, — пропел он с настоящей дрожью в голосе (как и я, он был великим артистом), но я не стал его слушать, а решительно направился к своему месту, сопровождаемый приветственными криками пирующих, хотя некоторые из них уже вряд ли могли понять, кого они приветствуют, и кричали только за компанию.
Сев на свое место, я жестом приказал Агриппе сесть рядом и поднял чашу.
— Я хочу, чтобы слышали все! — провозгласил я громко, а так как шум вокруг только чуть умерился, но не затих, то повторил это еще громче: — Я хочу, чтобы слышали все! — И, дождавшись полной тишины, продолжил: — Я, император Гай Германик, говорю, чтобы слышали все. Я восхищен щедростью и великолепием пира, что задал в мою честь Агриппа, царь Иудеи и мой друг. Все, что он хочет от меня, он получит немедленно и беспрекословно — император Рима умеет держать слово. — И я обернулся к Агриппе. — Скажи, мой Агриппа, чего ты желаешь, и будет тебе!
Агриппа встал, прижал руки к груди, смиренно мне поклонился (правда, не очень низко), проговорил, выждав несколько мгновений:
— Великий император! Я всего лишь твой смиренный подданный. Для меня огромная честь и большая радость, что тебе понравилось это маленькое торжество. Благодарность и удовольствие императора столь большая награда и столь не заслуженная мной, что никакой другой я просить не смею.
— Смеешь, смеешь, — сказал я, довольно усмехаясь. — Говори, что ты хочешь получить от меня, и оставь все эти восточные штучки — мы все знаем, что ты умеешь говорить.
— Но я уже сказал императору, что никакой награды мне не нужно, своим настроением ты уже дал мне ее.
Он хотел продолжать, но я остановил его:
— Хорошо, хорошо, это все понятно: и с моим удовольствием, и с моей благодарностью. Ты мне скажи, чего ты хочешь? Проси, Агриппа, я слушаю тебя.
Но, по-видимому, восточный этикет требовал продолжения, и Агриппа снова стал говорить, что никакой благодарности, большей, чем мое удовольствие, он не хочет. Он говорил, говорил, складно и витиевато, и в какой-то момент я потерял нить его слов и слышал только звук голоса, не воспринимая смысла. Впрочем, эти его слова и не требовали внимания.
Я несколько устал от его речей, но не хотел его прерывать. Мое такое терпение, как я полагал, тоже было для него дополнительной наградой. Я и сам удивлялся своему терпению: не только не прерывал его, но в нужных местах кивал благосклонно.
Так вот слушая и кивая, я медленно обводил глазами пирующих, столы, светильники, стены, и вдруг… Взгляд мой остановился сам собой, будто натолкнувшись на преграду. Возле входа в шатер стоял человек, я не сразу узнал Туллия Сабона. Взгляд его был направлен на меня — холодный, неподвижный.
Проклятый Туллий, почему он здесь? Только для того, чтобы испортить мне настроение! Если это так, то он добился своей цели — я вспомнил о Друзилле.
Не стоит объяснять, почему при воспоминании о ней мое настроение испортилось в одно мгновение. Я уже не слышал голоса Агриппы, хотя и чувствовал, что он все еще говорит. Я хотел отвести от Туллия взгляд, но не сумел: мой взгляд словно прирос к его лицу или его лицо притянуло мой взгляд и не отпускало.
Только сейчас я вспомнил, что Друзиллы нет со мной. Она бывала на всех пирах, на которых был я, странно, что ее отсутствия никто не заметил. Или заметили и молчат, смеются про себя, кивают друг другу с пониманием. А в это самое время моя Друзилла, моя сестра, моя жена… Но нет, я не в силах был представить, что с ней может происходить в эту минуту, и с силой, одним движением, оторвал взгляд от лица Туллия. Глаза мои пронзила боль, и я не сразу узнал Агриппу, на которого теперь смотрел.
Наверное, мой теперешний взгляд был страшен, потому что Агриппа прервался на полуслове и смотрел на меня растерянно и настороженно. Агриппа, конечно, случайно попал под мой взгляд, но попал именно он, а не кто другой, и гнев колыхнулся во мне. Резкое слово едва не сорвалось с моего языка, но я сдержался (кто бы знал, какого усилия мне это стоило).
Я удивляюсь самому себе, но, глядя на Агриппу, застывшего передо мной, я улыбнулся. Конечно, и я это чувствовал, улыбка вышла несколько натянутой, но она выглядела настоящей или почти настоящей. Я ждал, что Агриппа скажет еще что-нибудь, но он молчал. Не выдержав моего взгляда, он опустил глаза и все не отрывал от груди почтительно сложенных рук. Тогда я сказал (голос мой прозвучал глухо, хотя я старался говорить свободно):
— Ну что, мой Агриппа, скажи, чего ты хочешь, чего желаешь, я жду.
Это последнее «я жду» прозвучало едва ли не с угрозой, хотя улыбка все еще присутствовала на моем лице. К чести Агриппы, он хорошо почувствовал момент и не стал произносить своих утомительных славословий. Он сказал только, отрицательно поведя головой:
— Благодарю, император, мне ничего не надо.
— Нет, ты скажи, — проговорил я едва слышно, и угроза теперь слышалась вполне ясно, я не смог побороть себя. — Я так желаю, наконец, я велю тебе,!
Агриппа все понял и не стал тянуть время. Коротко поклонившись, он сказал (почтительно, но достаточно громко, так, чтобы слышали остальные):
— У меня есть только одно желание, император, оно касается судьбы моего несчастного народа.
Он сделал паузу, а я быстро сказал:
— Говори.
И он продолжал:
— Мне хотелось бы, чтобы император пересмотрел свое решение о постановке своих статуй, своих божественных статуй (добавил он с поклоном) в наших храмах. Мой народ не столь просвещен, как народ Рима, он еще не умеет по-настоящему воспринять божественности римского владыки. По своей невежественности он не может этого воспринять, но он любит императора и предан ему. Император! Мой народ — это дети, настоящие дети, и императору нужно отнестись к нему как к детям. Дай им время, и они осознают твое божественное величие, как осознал его я. Поверь, император, я буду самым рьяным воспитателем, самым настойчивым и строгим. Не пройдет и нескольких лет, может быть, всего год, как они поймут, примут, и твои божественные изображения торжественно внесут в наши храмы. Мало того, я уверен и обещаю, что не только в храмах, но и в доме каждого еврея будут стоять твои изображения. Дети будут рождаться, и твое божественное лицо станет первым, что они увидят в этой жизни, и старики, умирая, тоже увидят его. И это будет последним, что они смогут увидеть в этом мире. Дай им время и отмени свое решение сейчас.
Я, конечно, не ожидал от Агриппы такого. Должен признаться, что он переиграл меня. Воистину, восточное коварство порою недоступно пониманию римлянина.
Он поймал меня, и отступать было некуда. Я обвел взглядом сидевших — все глаза устремились на меня, и вокруг стояла такая тишина, что я слышал звук собственного дыхания и стук своего сердца.
Коварный Агриппа застыл, склонившись передо мной. Он делал это нарочно, чтобы только не встречаться со мной взглядом.
Я выдержал приличествующую случаю паузу, изображая раздумье, а на самом деле говоря себе одно и то же — что мне некуда деться. Наконец я сказал:
— Приказ императора есть закон для подданных, но и собственное его слово является для него самого законом. На этом стоит великая власть Рима — пусть это помнят и знают все. Агриппа! Я не собирался отменять свое решение, хотя в твоих рассуждениях и есть некоторая правота. Но я дал слово, а слово императора — закон. Я не могу дать твоему народу несколько лет, чтобы он осознал божественность императора. Я бы дал, если бы это касалось только меня, но тут затронуты насущные интересы Рима. Я не могу дать даже года, но полгода я милостиво даю ему. Только полгода, но по истечении этого срока…
Я намеренно не договорил, принял величественную позу и, медленно подняв руку, провозгласил:
— Все слышали?! Да будет так!
Как я и ожидал, Агриппа бросился передо мной на колени, пытаясь поцеловать край моей тоги. Но я не позволил ему этого, взял за плечи, поднял. Когда наши взгляды встретились, я увидел, что он плачет. Даю голову на отсечение, что это были настоящие, а не притворные слезы. Невероятно, но он в самом деле так любил свой народ. Сам я этого ни понять, ни постичь не мог. Воистину, он был настоящим царем, и если его дядя, Ирод, так же любил свой народ, то тогда можно понять, почему он называется Ирод Великий.
Я смотрел в лицо Агриппы, и у меня самого наворачивались на глаза слезы. Но я был императором Рима, а не царем Иудеи, и мне не пристало плакать. Я сдержал слезы и милостиво улыбнулся Агриппе. Тут же, будто все окружающие только и ждали этой улыбки, раздались приветственные крики. Все наперебой славили мудрость и великодушие императора, один старался перекричать другого. Я хорошо знал настоящую цену этим славословиям, но мне было приятно их слышать, и чем дольше они продолжались, тем было приятнее. Я в самом деле чувствовал себя в эти минуты и мудрым, и великодушным, и милостивым, и, главное, великим. Я подумал тогда же, что называться великим даже, наверное, почетнее, чем называться божественным. Впрочем, эта идея требовала тщательного изучения, а сейчас я просто наслаждался, забыв обо всем плохом, горьком, мрачном и с радостью ощущая переполнявшее меня величие.
И вдруг я увидел… Нет, увидел я несколько мгновений спустя, когда повернул голову, а сначала почувствовал, как нечто черное приближается ко мне. Итак, я повернул голову и увидел, что ко мне идет Туллий Сабон.
В первое мгновение мне хотелось бежать, и я непроизвольно отступил назад, едва не свалившись с возвышения — слуга с одной стороны и Агриппа с другой поддержали меня. В руках у Туллия Сабона был свиток, и я смотрел на этот свиток неотрывно и со страхом, будто это был смертный приговор мне.
— Срочное послание из Галилеи, от Петрония, — громко произнес Туллий, остановившись передо мной.
— Срочное? — проговорил я растерянно, будто именно это было самым главным, а не содержание.
— Да, император, — сказал Туллий, протягивая мне свиток. — Так было приказано гонцу.
Я взял свиток дрожащей рукой. Сразу не сумел сломать печать и даже окорябал пальцы. Еще некоторое время не мог читать: прочитывал приветствие Петрония в самом начале, не понимал и прочитывал снова. Наконец страх мой несколько прошел, а сознание прояснилось, и я прочитал свиток от начала до конца. По-видимому, это послание Петрония было отправлено вслед за первым, с интервалом в несколько дней.
Петроний писал, что он ничего не может поделать с иудеями, невозможно заставить их подчиниться, а можно только поголовно уничтожить весь народ. Кроме того, он описывал всякие глупости, то ли пытаясь разжалобить меня, то ли оправдать собственную свою нерешительность. Он еще не поставил мои статуи в храме, в Птолемаиде, но пытался повесить на ограде римских орлов. Толпа не позволила солдатам сделать это, окружила дом, где находился Петроний, и попросила его отменить приказ. Он велел солдатам разогнать толпу. Тогда люди скопились у ограды храма и внутри, не допуская римлян. Петроний приказал солдатам освободить площадь и сам явился к месту событий. Что он там увидел, его потрясло (как он пишет). При виде его люди — а это было чуть не все население Птолемаиды — легли на землю, обнажили шеи и кричали, что все готовы умереть, только бы не допустить осквернения храма. Петрония особенно потрясло, что в их числе были и женщины, и старики, и малые дети, и все готовы были умереть. Петроний находился в растерянности, писал мне, что, может быть, я соглашусь смягчить свое требование, потому что в противном случае придется уничтожить весь народ, а последствия такого шага могут быть непредсказуемы для Рима.
Я перечитал послание дважды и поднял глаза на Туллия Сабона. Он смотрел на меня прямо и, как мне показалось, со скрытой усмешкой. И… я вспомнил о Друзилле. Моя любимая Друзилла была в его руках. Я представил себе, как его мерзкие руки касаются ее тела, как его гадкие губы тянутся к ее божественным губам, а его глаза — эти отвратительные крысиные глаза, сведенные к переносице, — видят то, что им не предназначено видеть. Мне хотелось схватить стоявшую передо мной серебряную вазу и что есть сил ударить его по голове. Чтобы она раскололась надвое, чтобы он вскрикнул, как раненое животное, и рухнул бы на пол, заливаясь кровью. О боги, как я жалел, что за моей спиной нет сейчас моего беспрекословного Клувия — уж тот бы сделал все как надо, повинуясь одному только моему взгляду.
— Ты свободен, — сказал я Туллию, — ты можешь идти.
Но он почему-то не уходил, и лицо его уже щ скрывало усмешку.
— Убирайся! — закричал я и сам испугался своего крика,
И чтобы не видеть, подчинится мне Туллий или нет, я повернул голову и посмотрел на Агриппу. Он настороженно глядел в ответ. Кто бы знал, как я в эту минуту его ненавидел.
— Что ты мне тут говорил! — закричал я, почувствовав, как гнев поднимается Во мне и с каждым мгновением становится все яростнее. — Твои проклятые сородичи не желают подчиняться воле императора, восстают против Рима. Своими действиями они пытаются унизить Рим.
— Но, император! — вскинув обе руки перед собой, просяще выговорил Агриппа, но я не дал ему говорить.
— Молчи, Агриппа! — прокричал я еще громче, уже срывающимся голосом. — Ты обманул меня! Все эти твои игры и слова одна только хитрость. Любой народ, не подчиняющийся власти Рима, будет безжалостно уничтожен! Ты слышишь меня, Агриппа, безжалостно!
И тут что-то случилось со мной. Голос мой сорвался, поднявшись до самой высокой ноты, в глазах помутилось, и, еще хрипло выкрикивая: «Безжалостно! Безжалостно!», — я повалился на бок.
Я не потерял сознания до конца, а только не мог говорить и двигаться. Я видел и ощущал, что происходило со мной, хотя и смутно.
Меня подхватило несколько рук. Вокруг раздались крики, такие пронзительные, что казалось, я не выдержу и голова моя лопнет. Меня понесли к выходу, больно сжимая и дергая в разные стороны. Мимо, совсем близко — мне даже почудилось, что я ощутил его нечистое дыхание, — проплыло лицо Туллия Сабона.
Последнее, что я увидел, была моя собственная статуя, та Самая, где я опирался на облако. Мне померещилось, что глыба мрамора выскользнула из каменных рук статуи, и валится на меня, и вот-вот придавит. Я закрыл глаза и закричал.
Может быть, крик и не вышел громким, может быть, это и совсем не было слышно, но напряжение оказалось столь велико, что все остатки сил вылетели из меня с этим криком, и больше я не видел, не слышал, не чувствовал ничего.
Пришел в себя я быстро, кажется, в ту самую минуту, когда меня внесли в мою комнату и уложили на ложе. Во всяком случае, когда явился мой врач, испуганный и запыхавшийся, я видел уже без посторонней помощи и резким движением руки велел ему удалиться.
Я приказал позвать писца и, когда он явился, стал диктовать ответ Петронию. Весь гнев на Агриппу, на Туллия Сабона, всю боль о Друзилле я вложил в него. Я писал, что Петроний недостоин командовать даже манипулой где-нибудь на задворках Рима. Писал, что он трус, глупец, что он позорит не только звание полководца, но и просто гражданина Рима. Распалившись, я дошел до того, что обвинил его в сговоре с евреями, которые везде строят козни и хотят только одного — чтобы я умер, а они бы богатели и обманывали римский народ. Если понадобится их всех уничтожить, то я не остановлюсь ни перед чем. Но сначала должен умереть тот, кто предал меня и Рим, — сам Петроний. Я писал, что избавляю его от позора суда и повелеваю самому покончить счеты с жизнью сразу же по получении этого моего послания. И мой приказ ему — самое милосердное деяние, которое я когда-нибудь совершал.
На этом я закончил письмо Петронию и написал еще одно, тамошнему наместнику. Я приказал ему немедленно усмирить бунтовщиков, насильно поставив мои статуи в их храмах, и не останавливаться ни перед чем. И если возникнет необходимость уничтожить все, то я даю ему такое право.
Покончив с этим и наказав гонцам под страхом жестокой кары доставить мои послания как можно быстрее, я велел претору Октавию Руфу взять с собой нескольких солдат, отправиться в резиденцию Агриппы и передать ему мою волю: немедленно покинуть Рим и там, в Иудее, ждать моих дальнейших указаний. По его положению я бы должен был отправить к нему по меньшей мере нескольких влиятельных сенаторов, но я хотел унизить его и послал претора с солдатами, как к государственному преступнику. В моем сознании Иудея стала моим главным врагом. Она была виновата во всех моих бедах — и в деле с Друзиллой я ее считал виноватой особенно. Не имеет значения, что в этом не было ни крохи объективного: я так считал, значит, так было.
Если бы я мог вершить дела на расстоянии, я бы уничтожил Иудею в единый миг, чтобы не только населения не осталось там, но и построек, и даже самой земли. Не было бы земли, а на том месте, где прежде стояла Иудея, зиял бы черный бездонный провал.
Да, чтобы сделать это, нужно было быть богом, а я был всего-навсего императором. В те дни я особенно ясно понял разницу меж великой властью бога и ничтожной, по сути, властью императора. Но кому я мог сказать об этом моем открытии!
Гнев мой был сильным, и я даже упивался им, видя испуганные взгляды приближенных и слуг, но разве я мог знать, что мне готовило близкое будущее!
Проклятый Сулла, он всегда становился предвестником беды. Впрочем, в тот день он был вестником.
Когда мне доложили о его приходе, я обрадовался. Нет, не тому, что увижу его, а тому, что смогу проявить свой гнев. Разве не он так активно защищал моего главного врага — Иудею?!
Я приказал ввести его и принял величественную позу. Гнев на моем лице должен был прожечь его насквозь — ничего не было страшнее моего безмолвного гнева.
Он вошел. И по мере того, как он приближался и я лучше и лучше различал черты его лица, гнев мой исчезал как-то сам по себе, величественная поза перестала быть величественной, а сделалась чуть ли не жалкой, хотя я даже не пошевелился. Не выражение его лица, а сами черты были страшными. Он смотрел на меня, но как будто не видел.
— Что? — выдохнул я, отступив на шаг.
— Друзилла, — выговорил он каким-то голосом без выражения: просто воспроизвел звуки, составлявшие ее имя.
И тут я ясно понял, что случилось непоправимое. Нет, еще не смерть, но нечто хуже смерти.
— Где? — спросил я, подняв руку к груди, заслоняясь то ли от Суллы, то ли от этого непоправимого, что он принес с собой.
— У Марка Силана, — отвечал он.
— Что? — снова спросил я.
— Как я тебя ненавижу! — проговорил он вместо ответа и, повернувшись, медленным шагом вышел из комнаты. Мне показалось, растворился в сумраке у дверей.
Некоторое время я стоял не шевелясь и вдруг бросился за ним.
— Где он? Где?! — закричал я, выбежав в соседнюю комнату.
Слуги смотрели на меня в испуге, не понимая, что я от них хочу.
— Сулла-а! Сулла-а! — позвал я тихо и протяжно. Полная тишина вокруг была мне ответом.
Я должен был (и хотел) приказать слугам доставить Суллу сюда сию же минуту, но почему-то не смог этого сделать и сам смотрел на них испуганно, По-видимому, испуг мой был страшен, потому что в их глазах я увидел ужас и ужаснулся сам.
Я убежал к себе, метался из угла в угол, то ли крича, то ли шепча одно и то же: «Сулла! Сулла!», пока не изнемог и не упал на пол. Упал, прикрыв лицо руками, и больше уже не помнил ничего.
Ничего не помнил до той минуты, когда вышел из носилок у дома Марка Силана. Наверное, я приказал доставить меня сюда — не сами же они решили это з, а меня! Но как бы там ни было, выйдя из носилок, я знал, что приехал сюда, чтобы увидеть Друзиллу, и что я очень спешу.
Наверное, Марка Силана успели предупредить, и он ждал меня у порога. Бедный Марк, он выглядел дряхлым стариком. Он низко склонился передо мной, прошамкал беззубым ртом:
— Приветствую тебя, император!
Хотел продолжить, но я не позволил — поднял его, обнял, сильно прижав к груди. Кажется, мое усилие было для него чрезмерным: он прерывисто, со свистом дышал и весь обмяк в моих руках, так что мне показалось, будто я держу его на весу. Может быть, он и не был тяжелым, но держать его было неудобно, и я просяще оглянулся. Подбежали слуги, взяли Марка Силана под руки, я прошел в открытую дверь, а его повели следом.
Я не знал, куда нужно было идти, никого не было вокруг, и я шел словно в пустом пространстве мертвого дома. В мертвом доме мертвого города — так мне показалось. Но я вошел именно туда, куда должен был войти, и нашел то, что искал…
Открытые настежь двери, широкое ложе, и кто-то совсем маленький справа, на высоких подушках, укрытый покрывалом до подбородка. Я знал, что это Друзилла, но не узнал ее. Расстояние от дверей до ложа (всего несколько шагов) я проходил долго. И по мере того, как я приближался, голова лежащей на высоких подушках делалась все меньше и меньше. Когда я остановился на расстоянии вытянутой руки, мне показалось, что ее голова величиной с кулак. Если и не с мой кулак, то с кулак, по крайней мере, какого-нибудь борца, олимпийского чемпиона.
Да, это была она, Друзилла, но что же с ней стало! Седые, всклокоченные, словно бы засаленные волосы обрамляли изможденное, серое, с выпяченными скулами и глубоко запавшими глазницами лицо, или скорее то, что осталось от лица. Абрис тела под покрывалом был столь смутен, будто тела не существовало вовсе. Не знаю, каким образом я понял, что это Друзилла, — в ней не было, кажется, ни одной знакомой мне черточки. Глаза ее были закрыты, покрывало лежало недвижимо, и казалось, что Друзилла не дышала, но я почему-то знал, что она жива. Впрочем, принимая во внимание теперешний ее облик, совсем не имело значения, жива она или нет, потому что той Друзиллы — сестры, жены, любимой — уже не было в этом мире.
Я стоял перед ней и думал о себе. Я думал, что я настоящее бесчувственное животное, потому что мне было не жаль Друзиллы, а хотелось повернуться и уйти прочь. Я думал о том, что то, что мне казалось страшным и непоправимым, совсем не страшно, а о какой-то непоправимости и вообще не могло быть и речи. Вот только неприятно находиться здесь, смотреть на это страшное лицо и седые всклокоченные волосы. Как я могу сожалеть об этой женщине, что лежала передо мной, если она так не похожа на мою Друзиллу! Ведь я любил не эту, а ту — красивую, гибкую, страстную. Тело той благоухало, а от этой исходит неприятный тяжелый запах, вызывающий тошноту. И вообще, зачем я стою здесь и терплю все это — я, император?
Я услышал шорох за спиной и оглянулся. Мой личный врач склонился передо мной и смотрел на меня исподлобья. Я подумал: «А этот-то зачем здесь? Разве я болен?» Но он как будто ждал моего вопроса, и я, не понимая, чего он ждет, спросил:
— Ну?
— Император, я не смею выговорить того, что должен сказать, — проговорил он, все не разгибая спины, хотя я видел, что стоять согнувшись ему тяжело: лицо его уже было багровым от прилива крови к голове.
— А что ты должен сказать? — спросил я и сделал знак, чтобы он распрямился.
Он медленно распрямился и изобразил лицом крайнюю озабоченность. Потом прижал руки к груди и, отрицательно помотав головой, прошептал трагически, как актер в цирке:
— Нет! Нет!
— Да говори же ты, — сказал я с досадой и нетерпением, чувствуя прилив тошноты и прикрывая ладонью нос.
— О император, — провыл он, закатывая глаза, — я должен сообщить тебе страшную весть!
— Да сообщай же, несчастный! — шагнув к нему, сквозь зубы выговорил я.
— Она не доживет до вечера, — быстро сказал он.
— Кто? Почему до вечера? — нахмурился я, не понимая.
— Твоя сестра, — пролепетал он, испуганно на меня глядя, — она не доживет до вечера. Я делал все, что мог, но даже Эскулап не сделал бы большего.
Наконец-то я понял. Я снова надвинулся на него, а он сделал несколько коротких шагов назад, запнулся, упал на спину, раскинув руки в стороны, и тут же, словно ожидая пинка, поджал под себя ноги.
Да, я нашел выход из своего недовольства от вида лежавшей на подушках женщины, от тошноты, которую я едва сдерживал. Я коротко пнул лежащего носком сандалии (он сам подсказал мне это, поджав под себя ноги) и, пригнувшись к нему, выговорил медленно и со злобой:
— Это не она, а ты не доживешь до вечера, и никто, даже сам Юпитер, не сможет спасти тебя.
Я не помню точно, но, кажется, он взвизгнул как-то по-животному и затрясся всем телом. Я распрямился и отступил на шаг. В то же мгновение слуги бросились к лежащему, схватили его за руки и волоком потащили к дверям. Мимо Марка Силана, которого я только что заметил. Он стоял, поддерживаемый с обеих сторон, голова его склонилась набок, будто шея плохо держала ее. Он смотрел прямо перед собой и словно не заметил, как врача протащили мимо. Я подошел к нему. Я подошел к нему, потому что не хотел больше стоять у ложа и даже поворачиваться к нему лицом. Кроме того, тяжелый запах тут ощущался значительно слабее.
— Я скорблю вместе с тобой, Марк, — проговорил я, горестно покачав головой. — Для тебя, как и для меня, это невосполнимая утрата. Отныне, Марк, я хочу, чтобы ты считал меня братом. Ты слышишь меня? — добавил я, потому что мне показалось, что он не слышит; во всяком случае, голова его все так же лежала на плече, а глаза смотрели мимо меня.
Я едва заметно кивнул слугам, и они чуть встряхнули Марка. Голова его дернулась и медленно приняла нормальное положение, а взгляд если и не стал заметно осмысленным, то все-таки теперь был направлен на мои глаза.
— Ты слышишь меня, Марк? Мы всегда будем вместе и никогда не расстанемся. Тебе больше не нужно будет заботиться о своем будущем, я сделаю его прекрасным. Скажи мне, что ты хочешь? Ну скажи, я все для тебя сделаю.
Губы его дрогнули, и он что-то невнятно пробормотал. Я не понял и, пригнувшись, приблизил ухо к самым его губам.
— …проклят… — услышал я одно слово из нескольких, самое последнее слово.
Я взглянул на слуг: их лица были как из камня и не выражали ничего. Разумеется, они ничего не могли услышать. Но все-таки я внимательно и строго посмотрел в их лица, будто стараясь запомнить.
— Прощай, Марк, — быстро сказал я, — я распоряжусь, чтобы для тебя было сделано все, что ты… чтобы все было сделано.
И, проговорив это, я быстро вышел из комнаты.
Вернувшись во дворец, я все никак не мог понять, что же со мной случилось. Я не испытывал ни боли, ни страха, ни уныния, ни печали, а просто не мог понять — почему чувствую, что что-то случилось, если не чувствую ничего.
Так я просидел до самого вечера, пока не понял, что схожу с ума. Не то чтобы я сильно испугался, но мне было от этого как-то особенно не по себе: внутри меня словно все застыло. Нужно было что-то делать, а не думать. Все беды человека заключаются в том, что он пытается думать, когда ему плохо, а нужно не думать, а делать — все равно что, хотя бы просто взмахивать руками. У меня был испытанный способ не думать, и я позвал слуг и велел привести женщину. А потом крикнул им вослед, чтобы привели двух — все равно каких, только бы побыстрее. Я стал ждать и, хотя пытался заставить себя не думать, все повторял про себя: «Что же случилось? Что же такое со мной произошло?»
Я сидел на краю ложа, низко опустив голову и подперев ее руками, когда вдруг увидел женскую ступню, обутую в грязную сандалию, потом еще одну, появившуюся рядом. Сандалии были грязные, и кожа их была так тонка, что больше походила на материю, чем на кожу. И пальцы были грязны, с обломанными ногтями — неровные короткие пальцы плебейки. Я почувствовал запах пота, смешанного с дешевыми притираниями и винным духом.
— Император! — услышал я тихий голос слуги и медленно поднял голову.
Передо мной стояла женщина, за ней другая. Из-за спины последней, словно прячась от меня, выглядывал слуга. Когда наши взгляды встретились, он проговорил, уже едва слышно:
— Император, прикажешь их вымыть или…
Он не договорил и почему-то глупо улыбнулся.
— Иди, — сказал я, и он, попятившись, вышел в дверь и бесшумно прикрыл ее за собой.
Теперь я смотрел на женщин и все никак не мог понять, для чего они здесь и что им от меня надо. Та, что стояла ближе, была молода, лет семнадцати всего, вторая — значительно старше, лет тридцати или больше. Лица их оказались размалеваны и потны, волосы одинаково собраны в пучок. У старшей была большая грудь и крутые бедра, но толстая талия и ноги толстые. У молодой была плоская грудь, тонкая талия, зато несоразмерно худые ноги. Они смотрели на меня, улыбаясь, но в их улыбках чувствовался страх.
— Что? — зачем-то спросил я.
— Ну думай, мы не больные, — сказала старшая и, выйдя из-за спины молодой, взялась обеими руками за грудь и энергично потрясла ею, будто именно этот жест мог стать доказательством их здоровья.
— Ну? — опять спросил я, совсем не понимая, что я спрашиваю и зачем.
— Она хорошо танцует, — проговорила старшая и дотронулась до плеча молодой (та вздрогнула). — Солдаты любят, когда она танцует, а потом ее берут нарасхват. Один даже ударил другого ножом из-за нее, но не убил, а только ранил. Ее зовут Нунехия, она из Греции, там все хорошо танцуют.
— А ты? — сказал я. — А ты откуда?
— Я — римлянка, — гордо ответила она.
— Ты тоже танцуешь?
— Нет, сейчас нет, а раньше танцевала. Теперь у меня другое тело, для богатых мужчин, а не для всякой солдатни. Ко мне приходит даже один клиент сенатора.
— А-а! — протянул я. Ее разговор почему-то забавлял меня.
— Ты не веришь? — воскликнула она довольно энергично. — Я покажу, ты сам сможешь убедиться.
И не успел я ответить, как она скинула одежду и, обнаженная, подступила ко мне совсем близко, оттеснив молодую. Грудь ее свисала до середины живота, она поигрывала бедрами, переступая с ноги на ногу. Я все еще сидел на краю ложа, и низ ее живота оказался прямо перед моим лицом: я никогда не встречал столь буйной растительности, она казалась ненастоящей. Я было протянул руку, чтобы в этом удостовериться, но особенный запах женской плоти пахнул на меня, и я, отстранившись, сказал:
— Хорошо, хорошо, отойди. Пусть лучше она танцует. — И я кивнул на молодую.
Старшая недовольно повела плечами и, взявшись за грудь, снова потрясла ею, делая еще одну попытку понравиться мне, но я уже не смотрел на нее, а смотрел на молодую. Но та стояла, смущенно на меня глядя.
— Ну что ты, Нунехия, — строго сказала старшая, — что стоишь столбом, покажи, как ты танцуешь.
Молодая отошла на середину комнаты, некоторое время озиралась по сторонам, потом подняла обе руки, особенно их выгнув и широко растопырив пальцы, приподняла одну ногу, потом другую, прыгнула в сторону, назад, вперед и снова в сторону.
— Нет, нет, — брюзгливо воскликнула старшая, — раздевайся, так ничего не выходит, — И, повернувшись ко мне, добавила: — Раздетая она лучше, тем более, музыки нет.
С этими словами старшая подошла к молодой и ловко, едва ли не одним движением, стянула с нее одежду и отбросила в сторону. Молодая стояла, втянув голову в плечи и прикрывая руками низ живота. У нее и в самом деле не было груди, и сама она походила на подростка.
— Я тебе сказала! — крикнула ей старшая, довольно сильно ткнув в плечо, — И руки убери, все равно там смотреть не на что.
Младшая снова подняла и выгнула руки, растопырив пальцы, собираясь изобразить танец, но я сказал:
— Брось это. Иди сюда.
Она подошла только тогда, когда я повторил приглашение. Старшей я бросил:
— А ты танцуй.
— Я?
— Да, ты. Танцуй, а мы посмотрим. Перед клиентом сенатора ты ведь, наверное, тоже танцуешь!
Старшая не ответила и смотрела на меня высокомерно и презрительно, как это водится у проституток. Обычно меня это смешило, но сейчас разозлило, и я сказал:
— Ты очень упрямая. Если хочешь, я прикажу слугам высечь тебя — может быть, после этого у тебя прибавится желания потанцевать передо мной.
Снова она ничего не ответила, и высокомерная презрительность не исчезла, не заменилась страхом. По видимому, она испытала многое и мало чего боялась. Однако вышла на середину комнаты и стала танцевать — сначала медленно и как будто нехотя, но потом все быстрее и быстрее. Ее тяжелое тело, как ни странно, было гибким, по крайней мере достаточно гибким, чтобы движения походили на танец. Тяжелый запах пота наполнил все пространство и, кажется, в короткое время пропитал все вокруг. Я отвернулся и посмотрел на Нунехию. Она стояла возле меня, прикрывая ладонями низ живота и глядя в пол. Мне стало жаль ее как брошенного, потерявшегося, обиженного ребенка, я взял ее за руку повыше локтя и усадил рядом с собой. Наши бедра касались друг друга, но я не испытывал вожделения — просто от человеческого тепла рядом мне было покойнее.
Старшая все танцевала, гулко топая ногами, дышала тяжело и со свистом, а запах пота сделался невыносимым. Я хотел сказать, чтобы она прекратила, но тут почувствовал, как дрожит бедро Нунехии, прижатое к моему бедру. Я машинально положил ладонь на ее бедро, и тут же оно дернулось раз и другой. Это уже была не дрожь, а судорога.
— Что ты, что ты?! — повернувшись к ней, успокоительно проговорил я.
— Она всегда так, — вдруг сквозь одышку крикнула старшая, — если не танцует сама, а смотрит, у нее ноги дергаются, танцевать хочет!
И в самом деле — ноги Нунехии как-то странно задергались, а сама она смотрела на них со страхом, будто на нечто живое, ей не принадлежащее.
— А-а-а! — закричала старшая. — Танцуют, умирают!
— Умирают? — неожиданно для самого себя спросил я, сам не зная, кого спрашиваю, и сразу же вспомнил о Друзилле.
Мне показалось, что эти конвульсивно дергающиеся ноги есть ноги моей Друзиллы. Не знаю, почему мне так показалось, ведь не было никакого сходства. Но какое это имеет значение? Я много раз видел смерть и хорошо помнил предсмертное подергивание ног. То же самое было с Тиберием, когда я накрыл его подушкой.
Да, это были ноги умирающей, это был настоящий танец смерти. Я подумал, что ноги дергаются потому, что убегают из пространства жизни в пространство смерти и сам человек ничего не может поделать с таким неукротимым бегом.
Я пригнулся и, заглянув Нунехии в лицо, увидел лицо Друзиллы. Не это страшное лицо, что я видел в доме Марка Силана, а то, настоящее лицо моей Друзиллы — моей сестры, моей жены, моей возлюбленной… Это было ее лицо, только почему-то крикливо размалеванное и очень испуганное.
— Друзилла! — прошептал я и потянулся к ней, но неожиданно соскользнул на пол.
Голова моя оказалась возле ее дергающихся ног, и я сам задергал ногами. Вернее, они задергались сами по себе. То ли я боялся быть растоптанным этими бьющимися возле меня ногами, то ли… Я приподнял голову, посмотрел на свои дергающиеся ноги, и мне показалось, что я бегу, бегу и уже никогда не смогу остановиться.
Голова моя упала, стукнувшись затылком об пол, я услышал пронзительный женский крик и надвигающийся тяжелый топот. И больше не помню ничего.
Кажется, в то же самое мгновение, как я открыл глаза, Сулла сказал, что Друзилла умерла и ее уже похоронили. Я не понял и показал ему взглядом, что не понимаю, и тогда он повторил:, — Уже три дня, как ее похоронили.
— Где? — наконец смог выговорить я.
— Что «где»?
— Я спрашиваю, где похоронили?
— А-а… — Он пожал плечами. — В вашей родовой усыпальнице, где же еще!
— Знаешь, Сулла, а ведь я не хочу жить.
— Я знаю, — заговорил он спокойно, как об очевидном. — Ты не только не хочешь, ко уже и не сможешь жить.
— Совсем? — почему-то спросил я.
— Совсем, — ответил он и почему-то усмехнулся.
Здесь я снова потерял сознание, а когда очнулся, то не увидел Суллу и велел позвать его. Он пришел, склонился надо мной, и я спросил:
— Сколько теперь?
— Что «сколько», Гай, я не понимаю.
— Сколько прошло дней с тех пор, как похоронили Друзиллу?
Он задумался на несколько мгновений, как. видно, подсчитывая про себя, потом сказал:
— Не так много. — И закрыл глаза.
Так я несколько раз выходил из забытья и, спросив, сколько прошло дней с тех пор, как похоронили Друзиллу, тут же снова впадал в забытье. В последний раз Сулла сказал, что прошло уже двадцать восемь дней. Я закрыл глаза, думая, что снова впаду в забытье, и желая этого, но ничего не получалось.
Так закончилась моя болезнь. Священная болезнь, как о том говорили в Риме. Были слухи, которые я и сам распускал и поддерживал, что в те периоды, когда я находился в забытьи, меня не было здесь, а я был на Олимпе и беседовал с богами. Множество народу приходило ко дворцу, они сидели на площади с утра и до вечера (а некоторые оставались и на ночь), и все ждали того мгновения, когда я возвращусь, и смотрели на небо. На мое счастье и в подтверждение слухов, дважды разыгрывалась страшная гроза. Молнии прорезали небо от горизонта до горизонта, а гром гремел с такой силой, что люди в страхе падали на землю. И некоторые видели — как они сами утверждали — огромную колесницу Юпитера, на которой я возвращался с Олимпа.
Когда я наконец сумел подняться на ноги и подойти к окну и когда толпа увидела меня, радостные крики, казалось, сотрясли Рим. Мне кричали, что я божественный, что я любимый, что до меня не было, а после меня не будет в Риме такого императора. (Подлый народ, говоря о моей божественности, они все-таки не верили в мое бессмертие.)
Я еще несколько дней пролежал в постели. Мне не хотелось вставать. Сулла находился со мной неотлучно. Мы не говорили о моей болезни и обо всем, что связано с нею. Собственно, мы почти не говорили.
Не буду объяснять, что делалось в моей душе, — не хочу, да и не смогу тоже. Скажу только, что мне в самом деле не хотелось больше жить после того, как умерла Друзилла. Не то чтобы я хотел смерти — нет, пожалуй, не хотел, но жить прежним Гаем, императором и быть прежним Гаем-императором я уже не мог.
В один из дней я спросил Суллу, знает ли он, что случилось с Друзиллой? Он сказал, что знает, и рассказал мне. По его рассказу выходило, что Друзилла смирилась со своей участью. По крайней мере, она не пыталась бежать из казармы преторианцев, где с нею по очереди спали Туллий Сабон и командиры когорт. Из-за этой очередности среди командиров даже возникали серьезные распри, а однажды было обнажено оружие. Да и Туллий Сабон вел себя не лучшим образом. Сначала он сам наслаждался Друзиллой в течение нескольких дней, потом заявил командирам, что она останется у него на неопределенное время и он отдаст ее командирам только тогда, когда сам этого захочет. В среде командиров было брожение, вылившееся в открытое недовольство. Они все вместе явились к дому Туллия и потребовали отдать им Друзиллу. В случае отказа они угрожали, во-первых, пожаловаться императору, а во-вторых, если это не даст желаемого результата, объяснить все солдатам и предложить им самим решить этот вопрос. Туллий сначала кричал на них грозно, угрожая всевозможными карами, потом пытался дружески урезонить и, наконец, сдался и отдал Друзиллу. Она послушно пошла в казарму и делала все, что от нее хотели (говорят, что даже танцевала обнаженной, но это по слухам). При этом — и это совершенно точные сведения — она ни с кем не разговаривала: ни с Туллием, ни с командирами. Она делала все, что они хотели, и молчала при этом.
А потом она заболела и угасла всего в несколько дней. Судя по всему, это была нехорошая болезнь любви, которой болеют проститутки. Но, возможно, это было что-то другое, или она умерла от тоски и обиды.
Когда ее привезли домой, она была уже совсем плоха и не походила на прежнюю Друзиллу. Ее муж, Марк Силан, нежно за ней ухаживал и плакал беспрерывно. Правда, после того, что с ним случилось в тюрьме, он и сам очень ослаб, и бывает, что плачет без всякой причины, но все же. Дня два, пока она еще не впала в окончательное забытье, она нежно смотрела на мужа и говорила, что очень его жалеет и виновата перед ним. И еще говорила, что очень плохо, что у них нет детей, и если бы у них были дети, то с ними не случилось бы того, что случилось. Она завещала Марку не долго держать по ней траур, а скорее жениться, но так, чтобы обязательно были дети, много детей, как можно больше. Потом она впала в забытье, лежала как мертвая, а потом и совсем перестала дышать.
Он закончил свой рассказ, а мне все хотелось спросить его, вспоминала ли она обо мне? Я не посмел спросить впрямую, а спросил: может быть, ему известно, о чем она говорила еще? Он понял мой вопрос и сказал, не глядя на меня:
— Нет, Гай, у меня нет таких сведений.
Решение уйти из этой жизни, перестать быть императором и прежним Гаем — это решение мое стало твердым. Только нужно было все как следует подготовить и уйти так, чтобы меня не искали, чтобы думали, что я умер или ушел на Олимп, что, собственно, одно и то же, а пусть каждый думает, как ему хочется. Главное, чтобы все были уверены, что меня нет среди живых, потому что бежавший император, как известно, представляет большую опасность. Император не может бежать и жить как частное лицо, и если он даже сможет бежать, то непременно должен умереть. Непременно и обязательно.
Следовательно, я должен умереть. Но умереть так, чтобы это видели все, то есть публично. Значит, нужно устроить празднество, когда соберется в одном месте очень много народа, чуть ли не весь Рим. Это первое, самое нетрудное. Второе — найти человека, который сыграет меня, но так, чтобы все поверили, что это именно я, а не подставное лицо. И третье — заговорщики. Это самое трудное, потому что нельзя положиться на подставных лиц, на ложных заговорщиков. Ведь кто-нибудь из них обязательно проговорится, и тогда вся комбинация потеряет смысл. Нет, заговорщики-то должны быть самыми настоящими, и убить они должны настоящего императора. То есть должны быть твердо уверены, что убили настоящего.
С празднеством было легко — пока я болел, я все детально продумал. Подставным лицом должен был стать Сулла. Я был уверен или почти уверен, что он согласится. Самое сложное было с заговорщиками. Они есть, и это мои же собственные гвардейцы. Но они должны действовать в тот день и в ту минуту, когда это нужно будет мне, то есть когда все будет готово для моего ухода. Нужно было проникнуть в заговор и управлять им изнутри, но я все никак не мог придумать, что же для этого нужно. Но судьба сама шла мне навстречу.
Сулла сообщил мне, что командир пятой когорты хочет сообщить мне важные сведения и просит его тайно принять. Он боялся приходить во дворец, и мы назначили встречу в безлюдном месте у реки. Я спросил Суллу, не может ли это быть ловушкой заговорщиков, ведь Клавдий Руф (так звали командира) настаивал, чтобы мы с Суллой явились только вдвоем, и добавил, что выйдет к нам лишь тогда, когда в этом убедится. Сулла сказал, что, конечно, может быть всякое, но что, по его сведениям, Клавдий не замышляет против меня ничего дурного. Впрочем, раздумывать было нечего, удача сама шла в мои руки, и в назначенный день, когда стемнело, мы с Суллой отправились на встречу.
Должен признаться, что, когда мы прибыли на место, меня охватил страх. И причина была не в том, что на меня могли напасть заговорщики, а в том, что в таком месте на нас могли напасть обыкновенные грабители. Поеживаясь от холода — вечер был сырой — и озираясь вокруг, я думал о том, как же живут простые люди, не имеющие дворцов, охраны и всего прочего, что оберегает и защищает человека. Может быть, они столь просты, что не боятся? Или боятся, но ничего с этим поделать не могут?
Мы ждали довольно долго, и я совсем замерз. Роща заслоняла огни города, и темнота вокруг была непроглядной. Я видел, что и Сулле не по себе, он вздрагивал от каждого шороха, но пытался скрывать это. Впрочем, я почти не видел его лица. Я подумал, что все это глупо — условия Клавдия и наше долгое пребывание здесь, в темноте и холоде, — потому что как же этот проклятый Клавдий мог удостовериться в такой темноте, что мы одни? Может быть, это все-таки ловушка и через короткое время мы примем смерть? Я вздохнул. Но от утомления, а не от страха — я уже не боялся смерти.
Наконец послышались приближающиеся шаги. Шел один человек, не крадучись, но осторожно. Сулла взял меня за руку (его пальцы были холодны) и проговорил в темноту:
— Германик.
— Император, — ответил ему низкий голос, и вслед за этим: — Идите за мной.
Не выпуская моей руки, Сулла пошел на голос, потянул меня за собой. Я послушно пошел. Некоторое время спустя голос впереди сказал:
— Осторожно, здесь камни.
Мы поднялись в гору. Я с трудом различал силуэт идущего впереди человека — то он мне казался огромным, едва ли не в два человеческих роста, то совсем маленьким. Вошли в рощу, и тут я увидел огонь костра невдалеке. Мы с Суллой остановились одновременно, и Сулла, кажется непроизвольно, сжал мою руку. Но человек впереди, по-видимому, понял наши опасения, подошел к нам совсем близко, сказал медленно и чуть растягивая слова:
— Холодно. Это мой костер. Там нет никого.
Впрочем, отступать нам все равно было некуда, и мы подошли к костру. Человек указал на заранее подложенные рядом ветки, мы сели. Он остался стоять, и лицо его было плохо различимо. Я сказал:
— Садись. Я хочу видеть, с кем говорю.
Чуть помешкав и как бы не решаясь, он сел на землю, и наконец я смог разглядеть его. Нет, я не помнил его лица, тем более что сейчас он был одет как крестьянин. Если бы на нем была военная форма, я непременно бы вспомнил, потому что, конечно же, не раз должен был видеть его во дворце — командиры когорт там поочередно дежурили. Но в этом ли сейчас было дело?
У него оказалось противное лицо: широко расставленные глаза, маленький, словно бы приплюснутый нос, бугристая кожа и непомерно широкий рот с толстыми, как бы вывернутыми губами. Я подумал, что он, наверное, из вольноотпущенников и, конечно же, в нем течет какая-то чужая кровь — сирийца или даже негра. Я хотел спросить его об этом, но не стал и сказал другое:
— Ты узнаешь меня? Говори, что ты хотел мне сказать.
— Я узнал тебя, император, — проговорил он и попытался подняться, но я жестом остановил его.
— Вот и хорошо, что ты узнал своего императора, это делает тебе честь, — выговорил я без улыбки и, увидев, что лицо его сделалось растерянным, закончил чуть мягче: — Говори же, я слушаю тебя. У меня мало времени.
Он смутился еще больше и никак не мог начать. Больше я не торопил его, ждал терпеливо. Наконец он начал, заикаясь и поминутно вытирая лоб ладонью.
Долго он не мог говорить внятно, и речь его трудно было понять. Сулла строго прикрикнул на него:
— Говори внятно, император пришел сюда не для того, чтобы выслушивать твое мычание!
Мне показалось, что после этих слов он и вообще не сможет говорить, но я ошибался, и с этой минуты речь его стала вполне понятной.
Он сказал, что пришел сюда, потому что он верный солдат и еще потому, что породнился с императором (то есть со мной). Для него была большая честь находиться с сестрой императора, и он понимает, что в нас теперь течет одна кровь и император для него все равно что брат или отец.
Тут он стал зачем-то говорить, что он не как другие, а понимал, что это сестра императора, то есть все равно что сам император, и потому он обращался с ней с должным почтением.
— Замолчи! — воскликнул Сулла, — Что ты несешь!
И только тогда я понял, что в словах Клавдия была
мерзкая двусмысленность, и не имеет значения, что она вышла случайно, потому что ведь все равно он спал с Друзиллой. Мне представилось, как эти мерзкие вывернутые губы касались ее губ, и его «должное почтение» выглядело особенно противным.
— Оставь это, — медленно и угрожающе проговорил я. — Говори по делу, или ты думаешь, что я пришел сюда, чтобы выслушивать, как ты спал с моей сестрой?!
Клавдий онемел, смотрел на меня со страхом и обидой, как несправедливо униженный ребенок. Если бы он не был столь противен мне, то я, наверное, смог бы его пожалеть. А так, кроме ненависти к нему и омерзения, во мне не осталось ничего.
Молчал я, молчал Клавдий. Неизвестно, сколько бы продолжалось такое молчание, если бы не Сулла. Он сказал:
— Клавдий! Император вполне понимает и принимает то почтение, которое ты оказал его сестре. Император не сомневается в твоей Преданности, иначе он бы не был здесь. Но сейчас ты должен сказать главное. Говори, император слушает тебя.
Эти простые слова почему-то правильно подействовали на Клавдия, и его последующий рассказ звучал довольно внятно.
Он сказал, что в гвардии созрел настоящий заговор и в любой подходящий момент заговорщики готовы выступить. Заговор зрел давно, но по-настоящему оформился только сейчас, то есть в тот период, когда Друзилла уже была у них. Главный пункт идеологии заговорщиков заключался в том, что император настоящий сумасшедший. Причем сумасшедший самого вредного толка. (Клавдий проговорил это «сумасшедший», прямо глядя на меня, как если бы произносил «божественный». Вот и пойми после этого истоки его недавнего страха.) Доказательство тому — как они все решили — Друзилла, потому что только сумасшедший может отдать свою сестру на поругание солдатам. При этом о породнении и всем таком прочем они и не вспоминали.
Я молчал, а Сулла спросил о деталях. Но Клавдий не знал ничего определенного, сказал только, что возглавляет заговор Туллий Сабон, командир преторианцев, и что он, по-видимому, сносится с кем-то из сенаторов. Но с кем, Клавдий не знает.
Понятно, что мы сюда пришли напрасно, потому что ничего нового этот проклятый Клавдий нам не открыл — то, что заговор существует, я знал и без него. Туллий Сабон, конечно, не главное лицо, за ним стоят Сенаторы, но что мне за толк знать, кто именно, если її не могу, да и не желаю ничего предотвращать.
Я встал, Сулла и Клавдий встали тоже. Мне хотелось вытащить меч и прикончить Клавдия тут же — просто так, потому что мне было противно на него смотреть. Если бы не игра, которую я задумал и которую должен был тонко и осторожно вести! Но разговаривать с Клавдием мне не хотелось, и я посмотрел на Суллу. Сулла понял мой взгляд, утвердительно кивнул и, обращаясь к Клавдию, сказал:
— Император доволен тобой и желает по-настоящему отблагодарить тебя за преданность. Ты станешь командиром преторианцев вместо Туллия Сабона. Император полагает, что это достаточная для тебя награда. Ты понял?
— Да, император, — дрожащим голосом проговорил Клавдий, почему-то глядя не на меня, а на Суллу, будто это он, а не я был императором. Я заметил, что такой взгляд Клавдия приятен Сулле, и тогда же подумал: «Хорошо, ты еще успеешь побыть императором!»
А Сулла, ответив благосклонным кивком на слова Клавдия, продолжил:
— Ты должен вести себя умно, мой Клавдий, и ничем не выдать себя. Пусть заговорщики думают, что ты с ними. Прояви осторожное рвение, словесно поноси императора — император дозволяет тебе это, — но будь начеку и обо всем доноси мне. Осторожность и преданность — вот самое главное, и в скором времени ты сам станешь командовать гвардией. Теперь иди, как бы нас не увидели вместе.
И он величественным жестом отпустил Клавдия. Тот низко склонился перед ним и, пятясь, исчез в темноте. И Сулла, и Клавдий вели себя так, будто меня не было здесь и будто я не был императором. Мне не понравилось такое поведение Суллы, но я промолчал, и, когда на обратном пути Сулла стал говорить мне, что вел себя так, чтобы раскрыть заговор и подавить его как можно быстрее и успешнее, я благосклонно кивнул. Я кивнул, передразнивая поклон самого Суллы, но он либо не заметил этого, либо не хотел замечать. Впрочем, было темно.
Когда мы вернулись во дворец, я совершенно продрог и никак не мог согреться: ни вино, ни горячая ванна почему-то не помогали. Я боялся, что заболею — это оказалось бы сейчас хуже всего: времени для решительных действий мне было отпущено мало. Сулла суетился возле меня, стараясь помочь, заглядывал в глаза, и, как я ни был плох, я все-таки понял, что его игра в императора во время разговора с Клавдием была не одна лишь игра, то есть, может быть, была совсем не игра. Это я понял, но только не мог понять, как это осторожный Сулла не смог удержаться, и решил с грустью, что мои дела и в самом деле очень нехороши, а власти у меня, может быть, и нет совсем.
Как бы там ни было, я сделал вид, что ничего не произошло, и велел Сулле прийти ко мне утром для разговора, а сам лег в постель. Заснуть я не мог долго, дрожь била все тело нещадно. Но при этом — что очень странно — мысли мои оставались ясными. Более ясными, чем обычно. И, пролежав полночи не сомкнув глаз и борясь с дрожью, я детально продумал весь план своих дальнейших действий. И лишь только план этот ясно предстал перед моим внутренним взором, как дрожь оставила меня, и я уснул.
Утром я чувствовал себя бодро, а следов вчерашнего недомогания не было вовсе. До прихода Суллы я еще успел поработать некоторое время со своим секретарем, то есть заняться так называемыми государственными делами, чего не делал давно. Все это время удивление не сходило с лица секретаря, а я, напротив, был серьезен и сосредоточен. Знал бы он причину такой моей серьезности, он бы удивился еще больше.
Лишь только вошел Сулла, я поманил его в самый глухой угол комнаты и отпустил секретаря. Он как-то странно вглядывался в мое лицо, но я делал вид, что ничего не замечаю.
Мы сели, и я попросил его высказать свои соображения по поводу вчерашнего свидания с Клавдием. Он стал довольно пространно рассуждать о возможностях подавления заговора и наказания заговорщиков, причем советовал мне впрямую обратиться к народу.
— За помощью? — спросил я.
Он почему-то смутился, увел взгляд в сторону и стал говорить, что народ любит меня, почитает как бога и не даст в обиду и что, поступив так, я разом лишу заговорщиков их, так сказать, социальной опоры.
— Ты думаешь, — сказал я ему, когда он закончил, — что у этого жалкого Туллия Сабона есть социальная опора? Разве ты не знаешь, что он совершенный дурак и животное? И разве ты не знаешь, что он в заговоре только потому, что у меня уже нет власти? О какой же социальной опоре тут может идти речь, мой Сулла!
Он смутился еще больше, и тогда я неожиданно выговорил:
— Я знаю, мой Сулла, что ты хотел бы побыть императором. Я говорю «побыть», потому что быть им ты все равно не можешь.
Сулла испуганно посмотрел на меня — он понял, что я знаю все. Я усмехнулся и положил ему руку на плечо.
— Нет, нет, — проговорил я как можно ласковее, заглядывая ему в глаза (при этом он старательно отводил взгляд), — я говорю это тебе не для того, чтобы уличить. Я все понимаю, потому что когда-то и сам я мечтал стать императором. Ты не должен бояться, я хочу помочь тебе. Ты сможешь побыть императором, а при удачном стечении обстоятельств… Но не будем загадывать, а подождем.
Испуг на его лице сменился недоумением. Я не стал томить его и рассказал о своем плане ухода в другую жизнь.
— Но для начала меня должны убить, — пояснил я, — вернее, должны думать, что убили. Я все предусмотрел, мы устроим празднество смерти бога, то есть меня. Смерти здесь, на земле, и воскресения там, на Олимпе. Но об этом я тебе расскажу позже. Сейчас главное — побудить заговорщиков действовать в нужное нам время. Придется пожертвовать Клавдием, тем более что он мне противен. Я приглашу Туллия Сабона.
Я видел, что Сулла в смятении и мало что понимает из моих объяснений. Не скрою, мне нравилось смотреть на него такого, растерянного, непонимающего. Скажу больше — жалкого. И скорее для полноты собственного удовольствия, чем по делу, я сказал:
— Тебе все равно некуда деваться, мой Сулла. Бежать и таиться? Нет, тебя все равно разыщут и убьют. Так уж сложились наши судьбы, что моя смерть тянет за собой и твою. Поэтому мы умрем вместе — я имею в виду: для всех других. Сами же мы станем жить другой жизнью. Жизнью вольных и свободных людей. Вспомни о «братстве одиноких». Мы с тобой будем этим братством.
Сказав это, я пояснил Сулле, что от него сейчас требуется. Он должен тайно выехать из Рима (для отвода глаз, официально, я придумаю для него некое дипломатическое поручение) и спрятать в указанных мною местах некие суммы денег, которые нам понадобятся в нашей другой жизни. Денег этих хватит еще на три жизни, а то и на четыре. Скорее всего мы их не проживем, но кто знает!..
— Надеюсь, мой Сулла, у тебя не возникнет мысли бежать с этими деньгами. Если ты не вернешься к назначенному сроку, я стану искать тебя повсюду, и тогда… Но ты понимаешь меня.
Теперь я видел, что Сулла понимает, и снова потрепал его по плечу. О боги, и этот человек когда-то считался моим учителем! В эту минуту я пожалел, что расстаюсь с императорством, потому что более мудрого правителя, чем я, Рим себе отыскать не сможет. Впрочем, судьба Рима меня уже мало интересовала.
Я отпустил Суллу. Я все решил для себя. Если Сулла обманет, я останусь императором только для того, чтобы поймать и наказать его. Я придумаю такую казнь или такие казни, от которых содрогнутся не только люди, но и небо. Чем не цель жизни и не цель власти! Чем это деяние хуже какого-нибудь нового завоевания для Рима? Мне нет дела до Рима, и тщеславие уже давно не снедает меня. Уважение других, преклонение, почести — что все это стоит по сравнению с настоящим удовлетворением от самого себя. Я и есть Рим, а за границами моего тела заканчивается и он. Кому дано это понять и оценить? Никому. Следовательно, настоящая власть и настоящее удовлетворение нечто совсем другое, чем это принято у людей. Потому-то их поклонение совершенно ничего не стоит.
Сулла уехал, а я пригласил к себе Туллия Сабона. Мы не виделись с ним с тех пор, как со мной случился этот припадок на пире у Агриппы. Не знаю, возможно, он полагал, что я совсем развалился. По крайней мере, вошел он ко мне как хозяин, громко топая и бряцая амуницией — этОт идиот в любых случаях одевался так, будто был в походе. Может быть, и спал он, не снимая доспехов.
Его трудно было чем-либо смутить, но, увидев меня, он смутился. Я встретил его, сидя в кресле в свободной, даже расслабленной позе, с ленивым, почти равнодушным выражением на лице. Впрочем, я в самом деле был спокоен, и мне не особенно пришлось притворяться.
— Рад видеть тебя, мой Туллий, — проговорил я, не предлагая ему сесть, — что хорошего ты можешь мне сообщить? Как дела в Риме, каково настроение у твоих гвардейцев? Рассказывай, рассказывай, я внимательно слушаю тебя.
Он плохо умел скрывать свои чувства и смотрел на меня с настоящим удивлением. Для полноты впечатления я еще зевнул с протяжным и сладким стоном.
— Ну, что же ты! — поторопил я его, впрочем, без всякого нетерпения. — Говори, говори, не стесняйся, император внимательно слушает тебя. Может, у тебя какие-то неприятные для меня известия? Но не бойся, говори прямо.
Туллий еще помялся некоторое время и только после моего повторного приглашения сумел что-то произнести. Он невнятно промямлил, что все в порядке и он не знает, какие неприятные известия император имеет в виду, — у него, мол, никаких сведений нет.
— Да, мой Туллий, — сказал я, многозначительно помолчав, — ты даже себе представить не можешь, как я люблю и уважаю тебя — твою преданность и твои воинские заслуги. Потому что если бы этого не было, — тут я сделал паузу, еще более многозначительную, и, подавшись вперед, закончил: — Если бы этого не было, мне пришлось бы сурово наказать тебя, и отставление от должности в этом случае было бы самым милостивым с моей стороны наказанием. Ты это должен иметь в виду.
Я смотрел на него снизу вверх и изображал лицом переход недовольства в гнев — плавный, естественный и одновременно страшный переход. Воистину, не устаю повторять, что я был великим актером, потому что сообразно с изменением моего лица изменялось и лицо Туллия: настороженность перешла в неуверенность, а неуверенность в страх.
— Я не понимаю, — сказал он глухо, и голос его дрогнул настолько, что мне показалось, сейчас раздастся всхлип, — чем я мог прогневить императора. Я — преданный солдат, неоднократно доказавший…
— Оставим это, мой Туллий, — перебил я его, — я и не собираюсь отрицать твои прошлые заслуги. Но как я должен относиться к человеку, который готовит заговор против своего императора, то есть против меня! Скажи, мой Туллий, как бы ты относился к такому человеку, будь ты на моем месте?
— Я… но я… — только и смог выговорить Туллий, озираясь по сторонам.
Он, конечно же, полагал, что я не просто так завел этот разговор и что в любую секунду могут выскочить мои люди и взять его. В прежнее время я так бы и поступил, но теперь… Впрочем, даже только видеть его испуг мне было приятно, больше скажу, сладостно.
— Я верен тебе, император, — совсем неуверенно выговорил он, побледнев лицом. — И никто, как я…
Тут что-то случилось с ним: он не договорил и схватился обеими руками за горло, будто на него напало удушье. Туллий, конечно, был дурак и животное, но он не был трусом (тем более вряд ли умел притворяться), так что его страх несколько смутил меня. Я подумал, как бы не случилось худшего — если он умрет тут же, на моих глазах, то окончательно порушит все мои планы. И я, успокаивая его, поднял руку и старательно — что далось мне с некоторым трудом — улыбнулся ему.
— Что с тобой? — проговорил я едва ли не ласково, — Успокойся, я не обвиняю тебя. Напротив, я пригласил тебя, чтобы посоветоваться, потому что лучшего советчика я найти не смогу. Кроме того, это касается твоих преторианцев.
Туллий несколько успокоился. По крайней мере, отнял руки от горла и уже не озирался по сторонам. Только лицо было все еще белым как полотно, и его маленькие глазки смотрели на меня, как из-под маски. Он вздохнул раз и другой, протяжно и неровно, и я, глядя на него, подумал, что, возможно, я ошибаюсь и моя власть не столь уж слабая, как мне представлялось, если испуг Туллия столь велик.
Но сейчас не время было для подобных размышлений, и, опасаясь снова вогнать Туллия в прежнее состояние, я быстро продолжил:
— Ты должен понять, мой Туллий, с присущей тебе мудростью, сколь я был удивлен, когда на тебя поступил донос. Разумеется, я не обратил бы на это никакого внимания: доносчики всегда были противны мне, если бы он не исходил от одного из твоих командиров.
В этом месте моей речи маленькие глазки Туллия стали большими. Это произошло так внезапно и очевидно, что я по-настоящему испугался и несколько подался назад, вдавившись спиной в спинку кресла.
— Кто? — выдавил Туллий, и глаза его, казалось, вот-вот выпадут из глазниц.
— Клавдий Руф, — быстро проговорил я, теперь уже сам несколько испугавшись.
— Клавдий Руф, — повторил он за мной, с моей же интонацией, явно не понимая, о чем я говорю.
— Да, Клавдий Руф, командир пятой когорты.
— А-а, — протянул Туллий, и глаза его снова сделались маленькими, только, кажется, еще больше сдвинулись к переносице, — пятой когорты…
— Да, да, — подтвердил я, — пятой когорты, — и быстро продолжил: — Явился ко мне этот Клавдий и рассказал о заговоре, главой которого, по его словам, являешься ты, мой Туллий. А теперь оцени степень доверия к тебе: я не стал проверять, не стал ничего выяснять, а решил поговорить с тобою прямо, как солдат с солдатом.
Я жил в детстве в военном лагере, но никогда не был солдатом, во всяком случае, в том смысле, в каком я это сказал. Но для Туллия такие выражения должны быть более понятными. И я не ошибся — его лицо приняло вполне осмысленное выражение, а на щеках появилось что-то наподобие румянца.
— Подлый изменник! — наконец сумел выговорить Туллий своим обычным голосом, впервые за все время нашего разговора.
— Да, да, — подтвердил я, более скоро, чем это требовалось, — это именно так. Или скорее всего, что так, — мне нужно разобраться. Вот я и позвал тебя, чтобы посоветоваться.
Как-то так неожиданно получилось, что Туллий Сабон из обвиняемого превратился в обвинителя. И я вдруг подумал, что какую-то минуту назад он озирался не потому, что опасался моих людей, спрятанных тут же, а ожидал нападения на меня своих гвардейцев. Мне представилось, что я опоздал — и со своим планом, и с разговором, и вообще, — и вот сейчас толпой ворвутся солдаты, и я даже не успею подняться с кресла. Хотя, если и успею, это ничего не изменит.
В то время, когда я представлял себе это, Туллий говорил. Я был поглощен своими мыслями и не слышал, что он говорит, но видел его свирепое лицо, сверкающие глазки. Кожа на его лице сделалась багровой, а от прежней бледности не осталось и следа. Я прислушался. Он говорил о том, какой же негодяй Клавдий Руф и что он никогда ему не доверял. (Я вспомнил, что Клавдий был выдвиженец Туллия и он сам представлял его мне, но, разумеется, Туллий сейчас не хотел помнить об этом.)
Да, у меня и в самом деле теперь не было власти, если я должен был выслушивать гневные речи Туллия. Он уже вполне оправился от испуга и сейчас вольно или невольно пугал меня. Он кричал, какой подлец и негодяй этот мерзкий Клавдий и как он его ненавидит, а я слышал, какой подлец я сам и как он ненавидит меня.
Казалось, он никогда не сможет остановиться — он уже свободно взмахивал руками и угрожающе надвигался на меня. Я сидел, все глубже вдавливаясь в кресло, и ощущал себя подсудимым. Если бы он захотел ударить меня, он бы свободно мог это сделать, я, наверное, даже не смог бы укрыться от удара.
Пришлось ударить первым. Впрочем, мне больше ничего не оставалось. Когда он угрожающе навис надо мной, я, поймав его на паузе, быстро проговорил:
— Да, да, мой Туллий, я понимаю твое негодование, но тебе все равно придется доказывать свою невиновность.
— Невиновность? — спросил Туллий уже без прежней энергии, делая шаг назад.
В лице его уже не было той уверенности, и я воспользовался минутой.
— Невиновность, — повторил я и продолжил: — Посуди сам: Клавдий твой человек, я помню, как ты представлял мне его и говорил о его достоинствах. Если бы ты сам открыл его предательство, тогда другое дело, но ведь открыл его я. Твой человек предатель, а ты ничего об этом не знаешь. Или — как могут подумать — не хочешь знать. Ты возглавляешь гвардию, то есть то подразделение, которое отвечает за безопасность императора. Ты делаешь своего человека командиром одной из когорт. И этот же человек покушается на жизнь императора. Так что — либо ты не соответствуешь своей должности, либо…
— Но я… — начал было Туллий, не столько возмущенно, сколько с испугом. Только я не дал ему говорить.
— Я не обвиняю тебя, — произнес я как можно более угрожающим тоном, — но тебе придется, во-первых, во всем этом тщательно разобраться, во-вторых, все равно доказать свою невиновность.
И, посмотрев на него пристально и жестко (насколько мог, потому что и сам боялся), я сделал величественный жест рукой и сказал:
— Иди. Даю тебе три дня. Иди, мне надо заняться неотложными государственными делами.
А так как он не двигался с места, я мельком — но чтобы он сумел заметить — посмотрел мимо него в один дальний угол комнаты, потом в другой. Посмотрел так, будто там были спрятаны мои люди и будто они только ожидали от меня знака. Я не очень надеялся на успех, но поведение Туллия превзошло все ожидания. Он вздрогнул, напрягся всем телом и стал пятиться к двери. Я смотрел на него, пока он не скрылся за нею.
Лишь только дверь за ним закрылась, мои руки упали с подлокотников, а голова опустилась на грудь. Я не ощущал своего тела и не мог пошевелиться. Так я просидел до самого вечера. Слуги входили ко мне несколько раз, но никто не посмел меня окликнуть. Я не слышал, как они зажигали светильники, но именно их свет заставил меня поднять голову. Я с трудом встал и подошел к окну. Как и всегда в подобные минуты, я пожалел, что Суллы не было рядом.
Нужно было бы отдохнуть, прийти в себя, но для этого не нашлось ни времени, ни возможностей. Я жалел, что отправил Суллу с известным поручением, мне его очень не хватало. Я представил себе, что он никогда не вернется. Мне сделалось страшно: все мои планы рушились, и вся моя жизнь в этом случае уже не могла иметь никакого смысла.
То, что я боялся за свою жизнь и не мог перебороть страх, — об этом и упоминать излишне. Звуки на улице и во дворце, шорохи в комнате (реальные и мнимые), да и сама тишина — все вызывало во мне приступы страха. Казалось, что вот-вот сейчас они ворвутся с обнаженными мечами и перекошенными злобой лицами… Кажется, я дошел до настоящего сумасшествия: прятался за занавески, за дверцу шкафа… Не было такого места в моей комнате, куда бы я ни пытался прятаться.
Конечно, я говорил себе, что должен взять себя в руки, что страх не позволит исполнить мой план, что страх сделает мою смерть неминуемой и скорой, тогда мечтать о другой жизни — это все равно что мечтать родиться снова. Говорил себе, убеждал себя как мог, но это мало помогало, и приступы страха приходили все чаще и продолжались все дольше. Я понимал, что если Сулла не вернется, то я погиб окончательно и факт моей физической смерти ничего к этому не прибавит, потому что я умру еще до этого, растворюсь и исчезну внутри собственного страха. А на то, что Сулла вернется, у меня не было никаких реальных надежд. Я ставил себя на его место, и получалось, что возвращаться не было никакого резона. Любовь ко мне, преданность императору и все такое прочее есть одни только мертвые понятия, когда у тебя много денег и ты можешь бежать. Я бы не вернулся. Так почему же должен был вернуться он!
И как всегда в последнее время в мою жизнь снова вторгся Туллий. Неведомо для себя он направлял события в нужное русло, а я только покорно следовал за ним.
Три дня спустя он явился ко мне и доложил, что заговор раскрыт и ему нужно лишь мое письменное предписание, чтобы схватить и наказать виновных. Он говорил, а я некоторое время не мог понять, о чем он говорит, и смотрел на него бессмысленным взглядом, кажется, еще и с открытым ртом. Он называл мне имена сенаторов-заговорщиков, я послушно кивал, но сами имена ничего мне не говорили, словно это было только сочетание звуков, за которым не стояло ничего. Туллий протянул мне список, я взял, пробежал по нему глазами и снова послушно кивнул. И когда Туллий произнес, что вина злодеев не нуждается в доказательствах, а возможный суд над ними покажет только слабость императора, а не его силу, я произнес вслед за ним:
— А не его силу.
— Я не совсем понял, император, что ты имел в виду? — произнес Туллий, несколько озадаченный.
— То самое, о чем ты говорил мне, — сказал я, кивнул и неуверенно улыбнулся.
Не знаю, о чем при этом думал Туллий, но он зачем-то снова стал убеждать меня в виновности сенаторов, которые были в его списке. Я хотел сказать, что со всем согласен, что он напрасно утруждает доказательствами и себя и меня, но был так слаб, что не смог выговорить ни единого слова, а сидел, склонив голову и глядя в пол.
— Тогда надо позвать секретаря, — наконец произнес он и пригнулся, чтобы заглянуть мне в глаза.
Я с усилием поднял голову, встретился с ним взглядом и, не понимая, что нужно ответить, повторил его последнюю фразу:
— Тогда надо позвать секретаря.
Уж не помню, сразу ли явился секретарь или мы еще некоторое время переговаривались с Туллием таким образом, но, когда он явился, я почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, голова уже не падала на грудь, а руки держались на подлокотниках кресла довольно уверенно.
Дальнейшее помню весьма смутно: говорил Туллий, говорил секретарь, что-то говорил я. В конце концов я подписал бумагу, и Туллий ушел. Я не сразу отпустил секретаря, велев ему задержаться. Я боялся, что Туллий вернется, а находиться с ним один на один я был не в силах.
Прошло еще несколько дней, но возможно, что и недель — я очень смутно ощущал движение времени. Дважды я выходил к народу, а один раз выступал в сенате. Но что я говорил и говорил ли вообще, сказать не могу. Я видел лица, слышал голоса, но все как в тумане. Удивительно, что этого никто не заметил, то есть не заметил того, что меня, в сущности, нет и что передвигается, присутствует и даже, наверное, произносит более или менее связные речи одна только моя оболочка. Если бы я стал убивать всякого, кто попался мне на пути — слуг, сенаторов, обычных прохожих, — то, несмотря на мое императорство, меня бы схватили и посадили в клетку, как дикого зверя. А вот то, что вместо меня функционирует какая-то оболочка — функционирует и правит ими, — это почему-то никого не волновало. Каждый занимался своими делами (плебеи — своими, патриции — своими), а я оставался как бы сам по себе.
Вот в те дни я по-настоящему понял, что хочу жить сам по себе: никем не править и никого не представлять. И та самая другая жизнь, в которую я собирался вступить соответственно своему плану, представлялась мне в самом выгодном свете. Зачем быть императором, если можно быть самим собой? Тщеславие? Но все это вздор, если приходится быть разряженной куклой и изображать, что ты не кукла, а вершитель чужих судеб. Каким я на самом деле был вершителем, думаю, ясно из всего вышеизложенного.
Когда эти простые мысли явились мне, я выздоровел, и мир перед моими глазами достаточно прояснился. Меня теперь не волновала власть, не донимал страх, не нужны были женщины, а я желал лишь изобразить свою смерть как можно правдивее — и уйти отсюда навсегда. Даже возможное невозвращение Суллы уже не приносило мне прежних волнений. Если он сбежит с деньгами и не подготовит материального фундамента моей будущей жизни — то что из того! В самом деле, разве я могу знать, что по-настоящему понадобится в той жизни!
Да, мне скучно было без Суллы, но не более того. Я подумал, что и без его помощи приведу свой план в исполнение. Мне нужен человек на роль меня самого, императора Гая? Я найду такого. Я, в конце концов, куплю такого, тем более что он не будет знать, что ему суждено умереть.
Так вот, я перестал ждать Суллу, его возвращение или невозвращение уже не имело особого значения. По крайней мере, сейчас Сулла мне еще не был нужен, его появление на сцене планировалось значительно позже. Сейчас я играл с Туллием Сабоном, и мы оба старались играть свои роли хорошо. Во всяком случае, убедительно.
Бумага, которую я тогда подписал, была написанной для него ролью, и то, что он не догадывался об этом, оказалось еще лучше — ведь он не был великим актером, как я. Чтобы ему играть правдиво, ему нельзя было знать, что он играет, а нужно было думать, что он не играет, а живет. Он так и думал, и в этом состояла вся ценность его игры. Для меня, по крайней мере.
Злой умысел заговорщиков стоил им слишком дорого, они за него жестоко поплатились. Туллий Сабон оказался изобретательнейшим палачом. Кажется, он получал от этого истинное удовольствие. Не могу сейчас вспомнить, сколько имен было в его списке, но, по-видимому, достаточно много. Думаю, что список этот увеличивался по мере того, как Туллий входил во вкус. Возможно, он приносил мне на подпись еще и другие списки — я не помню. Но, конечно, не в этом дело, потому что спектакль разыгрывался не по моему или его желанию, а по тексту трагедии. Кем написанной? Судьбой, если она есть, богами, если они существуют. Все равно кем, пусть даже иудейским богом, которого они так любят, — мне-то что за дело?
Меня никоим образом не смущало и то обстоятельство, что никакого заговора не существовало вовсе, то есть те, кого пытали в моем спектакле, в жизни были чисты. Но никакой жалости я в отношении их не испытывал. Более того, я получал от разыгрываемой трагедии определенное удовольствие. Как зритель, только и единственно как зритель. Ведь актер, умирающий на сцене, доставляет зрителям удовольствие своей игрой. И чем правдоподобнее он играет, тем большее доставляет удовольствие: удовольствие-переживание, удовольствие-страх, удовольствие-ужас. Все верят в смерть актера, и никто не жалеет о его смерти, но, напротив, хвалят его за смерть, восторгаются им.
Заговорщики в моем спектакле играли безупречно, я не сделал в их адрес ни одного замечания. Никто из них не сфальшивил, замечательно и правдиво сыграв свою роль от самого начала до самого конца. Кто бы помнил о них, если бы они остались живы! Кто бы оплакивал их! Нет, я им дал возможность вполне проявить себя, и, если бы они могли видеть себя со стороны, они бы были мне благодарны. Но я не ждал от них благодарности, потому что делал все это единственно из любви к искусству.
Туллий докладывал мне о ходе спектакля ежедневно. Он был хорошим помощником режиссера и вовремя выводил на сцену все новых и новых персонажей. Порой он удивлял меня, потому что среди схваченных заговорщиков я вдруг узнавал своих прежних друзей. Иногда, когда пытки были особенно жестокими, а палачи особенно усердными, — не узнавал. И тогда Туллий подсказывал мне, склонившись к моему уху.
— Не может быть, что это он, — говорил я, когда он называл очередное имя.
— Но это именно он, император, — утверждал Туллий, несколько обиженный моим недоверием, и предлагал мне подойти поближе, чтобы в точности удостовериться.
Я мягко отклонял его предложение, говоря, что, конечно же, верю ему. Не в том было дело, что я боялся вида крови или что мне было неприятно смотреть вблизи на обезображенное пытками тело. Просто на маску актера лучше смотреть издалека, и тогда ты веришь, что это живое лицо, а при приближении видишь всего-навсего маску, и тогда впечатление от игры становится не таким сильным и острым.
Один-единственный раз я нарушил свое правило. Это случилось тогда, когда пытали Клавдия. Да, того самого командира когорты, с которым я встречался ночью, на берегу Тибра. Я сам сказал Туллию, что желаю посмотреть на него. Мне показалось, что Туллий смутился.
— Сегодня будут допрашивать еще двух сенаторов, — сказал он мне, — Надеюсь, что они назовут кое-кого. У меня есть сведения.
— Очень хорошо, — ответил я, дружески потрепав его за плечо, — но мне и в сенате надоело смотреть на их лица. Кстати, не кажется ли тебе, мой Туллий, что все они похожи друг на друга? Все на одно лицо.
Туллий пожал плечами — мой вопрос отчего-то показался ему трудным.
— Не знаю, император, — отвечал он нерешительно, будто ожидая от меня подвоха, — я не думал об этом. Императору виднее, потому что я не заседал в сенате.
— Ну, ну, — улыбнулся я ему, — тебе не стоит так принижать себя, мой Туллий, тем более что это ты их делаешь еще более одинаковыми, чем они были в жизни. Уверяю тебя, что каждый из них тщился быть необыкновенной и неповторимой личностью и, уж разумеется, не желал походить на других — ни лицом, ни поведением, ни одеждой. Но я-то всегда знал, что они одинаковы: одинаково тупы, одинаково алчны, одинаково тщеславны. Другие, может быть, не видели их одинаковости, но только не я. Но ты, мой Туллий, ты это видел, хотя, возможно, и не вполне осознавал. Их мнимый блеск несколько смущал и пугал тебя. Но когда они оказались в застенках, ты все прекрасно понял и сделал их одинаковыми. Одинаково окровавленными, одинаково изуродованными, одинаково униженными. Не так ли?
Он согласно, но несколько неуверенно кивнул, кажется, еще не понимая, куда я веду. Я же сказал:
— Но и это не все. Я хочу сказать, что это еще не абсолютная, не вполне совершенная одинаковость. Еще не та, к которой ты стремишься. Вот когда ты умертвишь их, тогда они будут одинаково мертвыми. Это абсолютная одинаковость, скажи мне?
— Я не знаю наверное, — проговорил он, не глядя на меня.
— Должен тебя огорчить, но ты ошибаешься, — сказал я, тронув его за подбородок, и заставил смотреть в глаза. — Это еще не абсолютная одинаковость. Признайся, что я прав, ведь у них неодинаковый рост, разные ступни и все такое прочее. Кроме того, твои палачи не очень соблюдают правила симметрии — у одного переломано то, у другого другое. Нет, мой Туллий, абсолютная одинаковость наступит тогда, когда они станут прахом. Должен тебе заметить, что греческий обычай сжигания мертвых мне больше по сердцу. Тут одинаковость праха достигается быстро и без хлопот. Наши гробницы и саркофаги только замедляют процесс. Не скажу, сколько лет нужно, чтобы кости превратились в прах, но, уверяю тебя, очень много. По крайней мере, дольше человеческой жизни. Ты, конечно же, понимаешь, мой мудрый Туллий, к чему я веду?
Туллий ничего не ответил, а только болезненно мне улыбнулся. Лицо его побледнело, а правое веко задергалось, будто он пытался мне подмигнуть.
— К тому я веду, — продолжал я, — что все мы будем прахом, и все достигнем одинаковости: и последний раб, и ты, Туллий, и я тоже. Представь себе, как я держу в руках урну с твоим, Туллий, прахом. Представь, как я высыпаю его к себе на ладонь. Вот на эту самую. — Тут я раскрыл ладонь и поднес ее к самым глазам Туллия (его и без того близко расположенные глаза сейчас почти слились у переносицы). — Я высыпаю твой прах на ладонь, он струится меж пальцами, ветерок подхватывает его и уносит. Через минуту твоя урна пуста: ни тебя, ни даже твоего праха — ничего не осталось. Правда, из уважения к твоим прежним заслугам я прикажу сохранить урну и написать на ней: «Здесь хранился прах Туллия Сабона». Если ты хочешь, я окажу тебе такую услугу. Ну, ты хочешь? Скажи, не стесняйся, я уверяю тебя, что обязательно сделаю это.
Я убрал ладонь от его лица. Оно было теперь белым как полотно. Глазки в самом деле слились у переносицы, и он был сейчас похож на циклопа Полифема, тем более что ростом был значительно выше меня. Правда, я не ощущал себя Одиссеем и не бросился бежать, а холодно сказал ему:
— Отведи меня к Клавдию. Я хочу видеть его. И пусть все командиры когорт присутствуют при нашем свидании.
Он шел за мной деревянной походкой, и мне все казалось, что он не удержится на ногах и, не сгибаясь, рухнет на землю. Впрочем, главное, чтобы упал не на меня, а в противоположную сторону.
Некоторое время пришлось ждать, когда соберутся все командиры. Ждать не хотелось, ожидание было тягостным, но в этот раз я проявил терпение. Мы вошли вместе: я, за мной — Туллий, за ним толпой — командиры. Странно, но я не слышал звука их шагов, а вот деревянную поступь Туллия за спиной слышал отчетливо.
Мы вошли в темный сарай, пропахший навозом (по-видимому, еще недавно здесь держали лошадей). Для пыток Клавдия, разумеется, не нашлось лучшего помещения, чем этот вонючий сарай. Как же, невелика птица! Сенаторам предоставили (я в этом убедился сам во время посещений) значительно лучшие помещения.
Было сумрачно, я приказал внести факелы. Клавдий был привязан к деревянной решетке, стоял на коленях, свесив голову на грудь. Волосы на голове торчали клочьями, были в бурых пятнах запекшейся крови. Я подошел совсем близко, присел возле него на корточки, не оборачиваясь, приказал поднять его голову. Приказание исполнили не сразу, никто из командиров не решился, дождались слуг.
Когда голову подняли, мне стало страшно, и я едва сдержал себя, чтобы не подняться и не уйти тут же. Лицо Клавдия в самом настоящем смысле было маской — опухшее, глянцевидное, в кровавых подтеках. И только глаза (может быть, именно это испугало меня) смотрели прямо на меня и были живыми. Не знаю для чего, но я протянул к нему руку и едва не дотронулся до его плеча. Меня остановил Туллий.
— Нет, император! Нельзя! — воскликнул он за моей спиной довольно фальшиво.
Однако я отдернул руку.
— Это почему? — недовольно обернулся я к нему. Полифем-Туллий смотрел на меня единственным глазом, в котором был испуг. Замечу, что двойной испуг, так как глаз все же был составлен из двух.
— Император, мне не хотелось говорить тебе об этом… — начал Туллий, мельком оглядываясь по сторонам и давая мне понять, что не хочет говорить в присутствии командиров.
— Говори! — приказал я и поднялся.
— Видишь ли, — глядя в сторону от моих глаз, сказал Туллий, — он не простой заговорщик. Он… как бы это лучше сказать… Он был… он заражен дурной болезнью. И он… твою сестру… Мне не хотелось тебе говорить.
— Вот как! — сказал я, холодно усмехнувшись. — А я и не знал. Спасибо, что ты сказал мне об этом. Выходит, что во всем виноват этот Клавдий, твой выдвиженец.
— Император! — произнес Туллий, и мне показалось, что лицо его сделалось красным. Впрочем, в колеблющемся свете факелов это труднее было увидеть ясно.
— Да, мой Туллий, это именно я, твой император, — выговорил я громко и обвел взглядом стоявших за спиной Туллия командиров, — тут ты не ошибся. Но я еще и ваш брат, потому что мы ведь породнились. И он, — я указал на Клавдия, — тоже твой брат. Но я сейчас не об этом, а о другом. Если мой брат, Клавдий, заразил мою сестру, Друзиллу, дурной болезнью, то заразились и некоторые из вас. Он командир пятой когорты, следовательно, командиры шестой, седьмой и остальных тоже заразились. А? Так получается, мой Туллий? Так что воистину, больная гвардия императора Гая!
— Нет, нет, император, — горячо сказал Туллий и оглянулся на командиров, как бы ища поддержки, — это не так.
— А как? — крикнул я, уже не в силах сдерживаться: шагнул к Туллию, приблизив свое лицо к его лицу так, что глаза его снова слились в один и он снова стал Полифемом.
— Он был последним, император, — быстро проговорил Туллий чуть в сторону, боясь, что его дыхание достигнет меня, — Он был последним, после него не было никого.
— То есть как это последним? — грозно выговорил я. — Он не мог быть последним! А-а, — протянул я, будто только что догадался, — значит, ты нарушил мой приказ. Почему ты его нарушил? Ведь я сам ввел очередность, и это слышали все. Ну, пусть мне скажет кто-либо из вас, что он не слышал! Говорите!
Командиры стояли, низко опустив головы, никто не сказал ни единого слова и не посмел поднять на меня взгляд.
— Негодяй! — прокричал я (в этот раз непритворно; наверное, и мое лицо тоже сделалось багровым). — Вы нагло нарушили приказ императора! Вы все будете жестоко наказаны! Я начинаю думать, что Клавдий был прав и все вы заговорщики: от нарушения приказа до измены всего один шаг.
Кто бы знал, как я их всех ненавидел! Я ненавидел их так сильно, потому что еще сильнее ненавидел самого себя! Я был противен самому себе — ощущал свое нечистое дыхание и мерзкий запах собственной плоти! Эти мужланы, толпой стоявшие передо мной с опущенными вниз головами, они все спали с моей Друзиллой.
Но это я, я отдал ее им! Мне казалось, что я слышу их пыхтение и ее стоны. Не стоны страсти, а стоны боли и унижения.
Мне хотелось броситься тут же на землю, кататься по земляному полу, покрытому соломой и навозом, — кататься, кричать, рвать волосы на голове, приказать им, чтобы они пытали меня, чтобы они сделали со мной то, что они сделали с этим несчастным, по-своему преданным мне Клавдием.
Не знаю, как я сумел сдержаться, как пересилил собственные отчаяние и злобу. Все они стояли передо мной виноватые и покорные и казались безропотными слугами императора. Но я-то знал, что это не так и что в любую минуту — даже в эту самую — они готовы броситься на меня и растерзать в клочья. И тогда участь несчастного Клавдия покажется мне счастьем, если я еще успею хоть о чем-нибудь подумать. Но, конечно же, не успею, потому что я не Клавдий: императора убивают сразу, а убивать было профессией стоявших передо мной людей. Нужно было родиться в Риме, нужно было прожить всю жизнь при дворе, чтобы знать это. Я это знал. И это знание позволило мне сдержаться. Императору нельзя ссориться с гвардией. Это закон империи, закон жизни. В конце концов, в этом проявляется обычный здравый смысл.
Я желал, чтобы они посягнули на меня, но не теперь, а в выгодное для меня время. И, справившись со своим лицом, я подошел к командирам, потрепал по плечу двух или трех (никто из них, правда, так и не поднял головы) и произнес примирительно:
— Ну, ну, поднимите головы. Мы братья, а чего не бывает между братьями! Император умеет гневаться, но умеет и награждать. Я доверяю своей гвардии. Заговор раскрыт, империя спасена, вы хорошо потрудились. Вы все получите щедрое вознаграждение — мне ничего не жаль для братьев.
Если бы не те усилия, которые я прилагал, чтобы справиться со своим лицом и голосом, я бы мог получить от собственной игры настоящее удовольствие. Но сейчас было не до этого. Сейчас мне нужен был выигрыш во времени, и я его получил. Командиры подняли головы, а Туллий перестал быть Полифемом: глаза его хоть и сходились у переносицы, но все-таки их опять было два, а не один.
— Хорошо, что ты предупредил меня, мой Туллий, — как ни в чем не бывало проговорил я. — Императору не время болеть, тем более дурной болезнью. Впрочем, его болезнь есть наказание судьбы, потому что посягательство на жизнь императора — дурная болезнь. Я был не прав. — Тут я возвысил голос, обращаясь не к одному Туллию, а ко всем. — Я был не прав, и император имеет мужество признать это. Ваша мудрость, ваша преданность и ваше чутье выше всяких похвал. Да, вы нарушили приказ и поставили Клавдия последним, но этим вы сделали гвардию здоровой. В сущности, Клавдий и в самом деле был последним… последним…
Я так и не нашел определения, но и без того все было ясно. Я всматривался в их лица и думал: неужели ни один из них не понимает игры? Хотя — какая разница, ведь мне всего-навсего нужно было выиграть время, и, кажется, я этого вполне добился.
— Он сказал что-нибудь? — деловито спросил я у Туллия, — Назвал имена сообщников?
Туллий облегченно вздохнул и, чуть склонившись ко мне, стал называть имена, планы заговорщиков и все такое прочее. Говорил он очень подробно, словно заранее выучил все наизусть, но я не слушал. Какое мне было дело до тех или иных имен, до еще живых и уже мертвых? Я ухожу от этого мира, и он уже перестал для меня существовать. Я смотрел на Туллия и думал о том, что он не знает, как мало ему осталось жить. А ведь у него, наверное, большие планы, и он видит себя владельцем богатой виллы, а то и нескольких вилл, почетным гражданином, может быть, даже сенатором. Он видит, а я знаю, что он уже, в сущности, мертв. Я представил, как он лежит бездыханным, в крови, раскинув в стороны руки, и как жирные мухи ползают по его бледному и одутловатому лицу. В моем воображении он почему-то лежал на животе, уткнувшись лицом в землю, и я все никак не мог понять, один у него глаз при этом или два. Это не имело ровно никакого значения ни для меня, ни тем более для него, мертвого, но отчего-то мне было интересно: все же один или два?
Подробности Туллия были утомительны, хотя я не слушал и не понимал того, о чем он говорит. Но я выдержал: кивал время от времени, принимал то глубокомысленный, то гневный вид и сумел дослушать до конца. По-видимому, Туллий был доволен, да и командиры позади него стали вести себя посвободнее: переговариваться, конечно, не решались, но, по крайней мере, переминались с ноги на ногу и смотрели по сторонам. Но я был доволен больше всех. Мне уже не жалко было несчастного, по-своему преданного мне Клавдия, и, когда Туллий закончил, я бросил на Клавдия брезгливый взгляд и процедил сквозь зубы:
— Этот изменник достоин самой страшной казни, но я думаю, что мы ограничимся распятием, потому что много чести придумывать для него что-нибудь новенькое.
Сказав это, я оглядел стоявших передо мной. Никто из них ничего не ответил, и только Туллий согласно, но тоже не очень решительно, кивнул.
— Хорошо, — кивнул я в ответ, будто это они предложили мне распятие, а я согласился, — пусть будет так. Я окажу вам честь и буду присутствовать при этом. Распорядись поставить перекладину тут же, у конюшни.
Туллий почему-то не сразу понял, и мне пришлось повторить. Он что-то сказал ближайшему из стоявших командиров, тот кивнул и вышел. Я уже пожалел о своем распоряжении, потому что не знал, что же теперь делать: отбыть во дворец, а потом вернуться или ждать здесь? Я ощутил некоторый не уют в присутствии стольких людей, угрюмо молчавших, и мне захотелось бросить все и уехать. Но отступать было поздно. Я посмотрел по сторонам и остановил взгляд на Клавдии. За все время моего здесь пребывания он ни разу не пошевелился, не простонал и вообще ничем не дал знать, что еще жив. И в самом деле, непонятно было, жив он или нет. Если нет, то распятие отменялось и мне можно было спокойно удалиться.
— Как ты думаешь, мой Туллий, он еще жив? — спросил я, кивнув на Клавдия.
— Жив, император, — уверенно отвечал Туллий, — он побывал в опытных руках, что ему сделается!
— Это хорошо, — покивав, проговорил я лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить и заполнять время ожидания. — Значит, ты считаешь, что с ним больше заниматься нечего — он все сказал?
— Да, император, — едва ли не с гордостью ответил Туллий и даже приосанился каким-то особенным образом, — уверяю тебя, что негодяй сказал больше, чем мог. Сосуд пуст, из него не выжмешь и капли вина.
Я удивленно на него посмотрел, и мое удивление на этот раз не было притворным: никак не ожидал, что этот идиот умеет говорить образами, даже и такими примитивными.
— Это ты хорошо сказал, — заметил я с дружеской улыбкой, — сосуд и в самом деле пуст — так разобьем же его, чтобы взять новый,
Я и сам не понял, что я такое говорю, но Туллий довольно улыбался, поводил головой и только что не подмигивал мне — видно было, что быть с императором на короткой ноге для него обычное дело.
Несмотря на заверения Туллия, я не был уверен, что Клавдий жив, но больше не поднимал этого вопроса: мне нужно поприсутствовать при казни, а ему теперь уже все равно — даже если жизнь еще теплилась в нем, то голова вряд ли что-либо сознавала.
Надо отдать должное расторопности помощников Туллия — они все сделали очень быстро. Вернулся командир, которого посылал Туллий, что-то прошептал ему на ухо, и Туллий, повернувшись ко мне, сказал с почтительным поклоном, будто приглашая не на казнь, а к застолью:
— Все готово, император, мы ждем только тебя.
Я не ответил, даже не кивнул и быстро вышел наружу
сквозь шеренгу расступившихся командиров — я больше не в силах был оставаться здесь, сарай казался мне ловушкой.
На площадке около сарая, тоже загаженной и смрадной, уже все было приготовлено: перекладина, веревки, яма; несколько солдат стояли рядом, они вытянулись при моем появлении. Но я только мельком взглянул на них, я подставил лицо солнцу — неожиданно яркому и теплому для поздней осени. Когда я ехал сюда, а потом входил в сарай, было пасмурно, и казалось, что вот-вот пойдет мелкий противный дождь. Но солнце!.. Да еще такое! Я подумал, что это какой-то знак мне, но не мог понять какой. Соображая, я сделал короткий шаг вперед и вдруг, почувствовав под ногой что-то мягкое и скользкое, едва не упал. Солдаты подхватили меня с обеих сторон — я наступил на откуда-то взявшуюся тут, у конюшни, коровью лепешку, к тому же еще и свежую. Я зачерпнул носком сандалии теплую, зеленоватого цвета жижу и брезгливо пошевелил пальцами ноги. Солдаты, по-видимому, неправильно поняли мое движение и еще крепче ухватили меня за руки, а один из моих слуг, встав на колени передо мной, осторожно приподнял мою ногу.
Не понимаю, что такое со мной случилось — возможно, что виновато было неожиданно выглянувшее солнце, слепящее глаза, — но прикосновение чужих рук было мне значительно противнее, чем то, на что я наступил.
— Прочь! — крикнул я.
Слуга выронил мою ногу и едва не опрокинулся на спину. Солдаты же выпустили меня только тогда, когда я резким движением стряхнул их с себя.
Только в это мгновение подошли Туллий и командиры.
— Угодно будет императору переобуться? — осторожно произнес Туллий за моей спиной.
— Императору угодно смотреть, — зло процедил я сквозь зубы. — Начинайте!
И, несколько раз тряхнув ногой, я повернулся к дверям сарая и встал, скрестив руки на груди. Солнце теперь было сзади, и я ощущал его тепло спиной и затылком, но прежнего удовольствия уже не испытывал. Опять злость и раздражение явились во мне, хотелось сказать Туллию и им всем что-нибудь самое резкое, самое обидное, и я едва сдерживал себя, напрягши руки и прижав их к груди с такой силой, что трудно было дышать.
Наконец в дверях сарая показались двое солдат, они волокли Клавдия. Тело его безжизненно висело в их руках, а голова свободно болталась из стороны в сторону. Я снова подумал, что Клавдий мертв. Его уложили на перекладину, стали привязывать. То ли перекладина была узкой, то ли его тело было как-то особенно расслаблено, но оно норовило упасть то на одну сторону, то на другую, и двое солдат, ругаясь вполголоса, £ с трудом поддерживали его.
Уже руки и ноги Клавдия были привязаны, уже солдаты взялись за веревки, чтобы поднять перекладину, как мне в голову пришла новая мысль. Разумеется, безотчетная злоба и усталость сегодняшнего дня были v тому виной, но что поделаешь, если в какие-то моменты не можешь сдержаться. И не только не можешь, но и не хочешь, и, зная, что, очевидно, вредишь самому себе, все равно делаешь это.
— Стойте! — громко произнес я, и солдаты замерли, повернувшись в мою сторону.
В свою очередь я посмотрел на Туллия. В его лице была тревога. Мне показалось, что у него чуть подрагивают руки. Он проговорил, неуверенно улыбаясь: — Что-то не так, император?
— Все не так! — отрывисто сказал я и продолжил со все более и более нарастающим озлоблением: — Ты думаешь, я пришел сюда, чтобы посмотреть, как распинают какого-то Клавдия? Кто он такой? Скажи мне, кто он такой, чтобы император присутствовал при его казни? Он что, сенатор? Или хотя бы консул? Командир пятой когорты — да у меня тысяча таких когорт! Ты понимаешь, ты понимаешь меня?
Конечно же, Туллий не понимал. Теперь он смотрел на меня испуганно, так, будто с моим лицом в одно мгновение произошло что-то необычное и странное. Может быть, у меня, как и у него недавно, глаза сошлись к переносице и из двух образовался один? Может быть, теперь я сам сделался Полифемом и взирал на него своим единственным глазом, алча крови? Все могло быть, потому что гнев во мне перешел все возможные границы, и я сам удивляюсь, как я еще мог стоять недвижимо со скрещенными на груди руками, а не бросился на Туллия или на других или не покатился по земле со стонами и воплями. По-моему, Туллий тоже был удивлен и напуган этим. Наверное, и другие были точно так же напуганы, но я не смотрел на них, а видел перед глазами лишь лицо ненавистного Туллия — в эту минуту вся скверна мира выразилась для меня в его лице.
— Значит, не понимаешь! — негромко, медленно и угрожающе проговорил я, не отрывая взгляда от лица Туллия. — Тогда я тебе объясню, для чего я здесь, чтобы ты хорошенько все понял и чтобы все вы, — я выбросил руку в сторону стоявших плотной группой командиров, — чтобы все вы поняли. Поняли, что это ваш товарищ, что он не более виноват, чем все вы, и, главное, чтобы знали, что каждый из вас и все вы вместе можете оказаться на его месте!
Я сделал паузу. Я хотел увидеть, какое впечатление произвели на них такие мои слова. Если бы они бросились на меня в следующее мгновение, я бы, наверное, был только рад этому.
Но никакого видимого впечатления мои слова на них не произвели. Группа командиров, стоявшая чуть поодаль, так же продолжала стоять (выражение на их лицах с моего места трудно было определить), Туллий тоже не упал на колени, не бросился бежать, только правое веко снова стало подергиваться и на лбу выступила испарина. Впрочем, возможно, что и от солнца, которое припекало все сильнее.
Гнев мой несколько ослабел, но зато решимости стало больше. И уже довольно спокойно, но с абсолютной уверенностью, что этому нельзя прекословить, я распорядился:
— Пусть солдаты отойдут, а вы (я ткнул пальцем в сторону группы командиров) возьмитесь за веревки. Все, ни один не останется в стороне. Надеюсь, что мне не придется повторять приказание дважды!
Но мне пришлось, потому что никто не сдвинулся с места: солдаты все так же стояли у перекладины, держа в руках веревки, командиры — все той же плотной группой. Вокруг наступила такая тишина, что казалось, весь Рим прислушивается к ней. Весь Рим, все провинции, все сопредельные государства. И даже боги, если они все-таки существуют, в полном молчании, настороженно смотрели с небес. Все ждали, чем же закончится противостояние, и хотели понять, есть ли еще у римского императора власть.
И когда тишина — я ясно почувствовал это — достигла критической точки и любой, самый незначительный и случайный шорох мог взорвать ее, я произнес:
— Римский император, Гай Германик, приказывает вам. Исполняйте!
И, сказав это и достаточно небрежно посмотрев на Туллия, я повел рукой в сторону перекладины. Он помедлил всего несколько мгновений и, ничего не ответив мне, пошел в сторону командиров. Он был значительно выше меня ростом и шел, так низко опустив голову, что, глядя со спины, казалось, будто головы нет вовсе. И я произнес про себя: «Гвардия обезглавлена», хотя и сам не понял, что имею в виду.
Я не слышал, что Туллий говорил командирам и что они, возможно, отвечали ему, но переговоры оказались короткими. Медленно, очень медленно, будто все это происходило во сне, все они, так же плотно держась друг возле друга, двинулись в сторону перекладины. Туллий шел позади всех, так же низко свесив голову на грудь. Сейчас он не казался обезглавленным, но напомнил мне Клавдия в тот первый момент, когда я увидел его, войдя в сарай: так же низко голова свисала на грудь.
Когда подошли командиры, солдаты аккуратно положили веревки на землю и так же медленно отошли в сторону.
Все последующее в самом деле происходило, как во сне, и я смотрел завороженно. Одни взялись за веревки, другие за основание перекладины, и она пошла вверх. Вернее, поплыла, и словно бы сама по себе. Теперь я смотрел только на тело Клавдия, оно уже не казалось мне мертвым. Более того, в нем даже была какая-то красота. Оно поднималось все выше и выше, и я, поднимая вслед за ним взгляд, увидел облака — особенно белые и особенно пышные. И тело поднималось к облакам медленно, но неуклонно. И, лишь достигнув их, оно остановилось. Нет, не остановилось, а стало парить, недвижимо зависая где-то в самой высокой точке.
И, не отдавая себе отчета, что я делаю и зачем, я медленно, не отрывая взгляда от парящего в небесах тела, пошел к перекладине. По мере приближения голова моя закидывалась все выше и выше, так что заломило в затылке и что-то хрустнуло в основании шеи. Когда я услышал и почувствовал хруст, я остановился и только тогда опустил взгляд.
Я увидел, что все стоящие вокруг командиры смотрят на парящее над ними тело, запрокинув головы. Они были так сосредоточены, что не заметили, как я подошел. И Туллий, оказавшийся рядом со мной, ничего не замечал вокруг и смотрел вверх, раскрыв рот. Я никогда бы не подумал, что его лицо может выражать такой мистический восторг, но сейчас оно его выражало. Оно даже показалось мне красивым, я не ощутил ни гнева, ни раздражения, но, напротив, мне хотелось протянуть руку и положить ее на плечо Туллия по-братски, с любовью.
Я уже развернулся в его сторону, но тут мой взгляд как бы сам по себе потянулся к телу Клавдия и, достигнув его, остановился.
— Он жив, — пробормотал я, — он не может быть мертвым. Он умер за наши грехи. За наше бесчестье, за наши алчность и злобу. Нет, он не умер, он не может умереть.
Проговорив это, я понял, что если сейчас же не узнаю, жив он или мертв, то сам не смогу жить.
— Туллий! — позвал я. — Ты слышишь меня?
Мне пришлось повторить, пока он сумел повернуться ко мне. Он смотрел на меня не понимая; кажется, он не видел меня вовсе.
— Туллий, ты слышишь меня?
Он не слышал. Тогда я, совершив усилие над собой, поднял руку и тронул его за плечо раз и другой. Только несколько мгновений спустя лицо его приняло наконец осмысленное выражение, и он сказал:
— Да.
— Туллий! Клавдий не может умереть, потому что он страдал за нас.
— Да, — снова сказал Туллий.
— Ты понимаешь, он жив, он не может умереть. Ты должен сделать это.
— Да, — сказал Туллий, кивнув, и только потом спросил: — Что?
— Нужно проверить. Я знаю, что он не умер.
— Как? — На лице Туллия выразился испуг.
И тут я что-то вспомнил, еще сам не зная что. Я не знал, что вспомнил, но знал, что нужно сделать.
— Копье, — сказал я. — Нужно попробовать его копьем.
Туллий уже пришел в себя окончательно.
— Да, император, — кивнул он и отошел.
Не могу сказать, сколько он отсутствовал, но мне показалось, что очень долго. Вернулся, держа в руке копье.
— Делай, — сказал я и, подняв руку, указал пальцем на парящее над нами тело Клавдия.
Он снова кивнул и, медленно подняв копье, сначала поднес острие к груди висевшего над нами и только потом резко ткнул его в грудь. Тело не дернулось. Туллий ткнул еще раз, но результат был тем же. Этот второй удар решил все. Я почувствовал жжение в затылке, и солнце ослепило меня, хотя я стоял к нему спиной. Я понял, что Клавдий мертв, и, глядя на теперь уже окончательно мертвое тело, я вспомнил мальчика, которого приказал распять после того, как мы с Макроном задушили Тиберия.
Тогда тоже было солнце, слепившее глаза, и я приказал солдату добить копьем мальчика, потому что от солнечного света болели глаза, а смотреть на распятого, но еще живого, было невыносимо, а отойти я не мог. Сейчас я не мог вспомнить лица мальчика, но отчего-то было необходимо его вспомнить. Я подумал, что если подниму голову и посмотрю на Клавдия, то обязательно вспомню. Но взгляд мой, дернувшись вверх, остановился на полпути. Я испугался, дрожь пронизала все мое тело, и я невольно отступил назад. Я понял, что Клавдий похож на того мальчика, удивительно и невероятно похож. Более того, он и был тем мальчиком, только повзрослевшим за эти годы. Значит, он не умер тогда, когда мы с Макроном убили Тиберия, а умер сейчас, когда…
Я был так испуган, что непонятно было, как я еще жив. Выходило, что мальчик не умер, а ждал… ждал моей смерти. Она уже где-то здесь, совсем рядом, но я не вижу ее, потому что солнце слепит глаза. Я медленно развернулся, но ничего не увидел, перед глазами была лишь белая пелена.
И вдруг посреди этой пелены я увидел… Сначала это было только мутное пятно. Оно приближалось, принимая очертания человека. Только очертания, и больше ничего. Я скорее почувствовал, чем понял, что это и есть смерть и что она неотвратимо приближается. Нужно было бежать, но я не мог не только бежать, но и просто шевелиться. Значит, от смерти никуда не уйдешь, будь ты хоть император, хоть кто угодно. Я уже не чувствовал страха, его было больше, чем может почувствовать человек.
Смерть подошла совсем близко и остановилась. Я ощущал ее дыхание. («Странно, — подумал я, — что смерть дышит так же, как и человек».) И вдруг я услышал:
— Гай!
Это смерть позвала меня, но почему-то очень знакомым голосом. Я узнал его сразу, но не мог поверить, что это голос… Суллы.
— Гай, — снова позвал голос и добавил еще тише: — Император.
Почему-то именно по этому последнему «император» я понял, что это Сулла, а не смерть, и тут же увидел его. Одежда его была запыленной, а лицо усталым, с синими кругами вокруг глаз.
— Сулла! — выговорил я хрипло и бросился ему на шею.
Мы сидели в моей комнате, во дворце, я держал Суллу за руку. Сейчас мне представляется, что я не выпускал его руки несколько дней, с той самой минуты, когда он подошел ко мне у распятия.
Он много говорил все эти дни: рассказывал о поездке со всеми подробностями — в каких местах спрятаны были деньги, где сколько, называл ориентиры и приметы. Я довольно плохо слушал его, потому что после всего произошедшего был слишком слаб, но отчего-то все сказанное им запомнилось очень ясно, будто он не говорил, а записывал все это в моем сознании. Наверное, причиной было то, что я держал его за руку. Мне кажется, если бы он и вовсе ничего не произносил вслух, я все равно узнал бы и запомнил все подробности, так как, держа его за руку, я как бы слился с ним и знал все то, что знал он.
Он спросил меня:
— Скажи, Гай (теперь он снова говорил мне: «Гай» и не добавлял: «император»), ты в самом деле твердо решил уйти? Как бы там ни было, но тебя ждет трудная жизнь и ты будешь совершенно беззащитен.
— Почему же? — спросил я.
— Я вывожу это из своего теперешнего путешествия, когда я ходил без охраны, в простой одежде. Понимаешь, я увидел другую жизнь, жизнь изнутри. Не знаю, я не могу хорошо объяснить, но я ощутил, как она страшна и жестока. Видишь ли, Гай, сидя здесь, мы не понимаем этого.
— Ты прав, — отвечал я, — не понимаем. Скажу больше — никогда не поймем. И сидя здесь, и поскитавшись несколько дней, как ты. Не поймем, потому что хотим понять, а не жить. Гости никогда не поймут хозяев, пока они гости. Чтобы понять, нужно жить.
— Может быть, ты и прав, — сказал он, подумав, — но беззащитность… Ты же не можешь отрицать, что будешь там без защиты!
— Ты имеешь в виду охрану, слуг, моих гвардейцев?
— Хотя бы и гвардейцев. Хотя бы разбойники или кто другой не смогут на тебя напасть, когда ты под охраной. Никто не посмеет обидеть или унизить тебя. Кроме того, ты не знаешь той жизни и еще долго не сможешь быть в ней своим.
— Да, Сулла, своим я не стану, наверное, довольно продолжительное время. Возможно, что на это уйдут годы. Но что из того! Оставшись здесь, императором, я не протяну и нескольких месяцев. А когда убьют меня, то ведь не пощадят и тебя. Так что мы вместе с тобой обречены.
— Я не думаю о себе! — воскликнул он, посмотрев на меня с укором, и я почувствовал, что он не лукавит, и пожал ему руку, которую все еще держал в своей руке.
— Конечно, мой Сулла, — проговорил я с улыбкой, — я нисколько не сомневаюсь в твоей любви ко мне, как и в твоей преданности. Именно потому я и не хочу, чтобы тебя убили. Как ни говори, из-за меня. Но у нас с тобой, посуди сам, нет выбора. Представь себе, что оба мы больны страшной смертельной болезнью и знаем, что очень скоро непременно умрем. И вдруг приходит некто — я не знаю, бог или врач, — кто угодно — и предлагает нам изменить жизнь в обмен на выздоровление. Неужели же мы с тобой откажемся и гордо заявим, что не хотим никакой другой жизни, а желаем умереть: я — императором, ты — ближайшим другом императора? Конечно же, не откажемся и даже раздумывать не будем. Так почему же сомневаемся сейчас? Ты не хуже меня понимаешь положение вещей. Мы не спасемся, пойми, у нас нет выбора.
Так мы переговаривались довольно долго. Разговор наш делался вялым, угасал и наконец угас. Сам не знаю, зачем мы об этом говорили, потому что все уже было решено мной, и убеждать Суллу не имело ни смысла, ни резона. Конечно, лучше быть другом императора Рима, чем спутником странствующего изгнанника. Но ничьим спутником (и своим собственным тоже) я не собирался его делать, потому что ему уготована была смерть. Его смерть была залогом моей будущей жизни, но не мог же я беседовать с ним об этом. Желание умереть за императора или друга — благородное желание. И в таком желании Суллы не приходилось сомневаться. Но желание и исполнение желания есть все-таки разные вещи, хотя кажутся очень похожими. Желать умереть, пока этого не требуется, даже приятно. Но разве кто-нибудь станет утверждать, что так же приятно принять смерть! Нет, никто не станет.
Кроме того, Сулле и. не надо было знать о моих действительных планах — хотя он и не желал этого, но все равно он должен был быть уверен, что я возьму его с собой. Мне нужно было его свободное согласие. И наконец я услышал его.
— Да, Гай, — сказал Сулла со вздохом — то ли некоторого сожаления, то ли неизбежности, — я, конечно, пойду с тобой. Я все равно бы пошел. Ты мог бы не убеждать, а попросить меня об этом.
— Я понимаю, мой Сулла, — отвечал я с грустью (снова играл), — что ты пошел бы и без моих объяснений, но дело в том, что я уже не буду императором, а останусь только твоим другом, и мы будем совершенно равны.
— Ты всегда будешь для меня императором, Гай! — воскликнул он неожиданно горячо. — Я навсегда останусь твоим другом, но никогда мы не будем равны. Ты всегда будешь первым, и я горячо желаю этого.
Бедный Сулла! Если бы он знал, какую участь я ему уготовил. Но ему и не следовало этого знать, как не знает этого теленок, которого разукрашивают цветами, оглаживают, лелеют, чтобы потом принести в жертву богам.
Впрочем, я довел игру до конца: потянулся к Сулле, обнял его за шею, прижался щекой к его щеке. Я ощутил, как дрожь пробежала по всему его телу и как его слеза пробежала по моему лицу. Да, дрожь еще можно было изобразить, но заплакать мне было трудно, несмотря на весь мой актерский талант. Но его слезы заменили мое неумение: когда я отодвинулся от него, все мое лицо было мокрым. От его слез, разумеется, но он ведь не знал этого и смотрел на меня с умилением.
В тот вечер нашего общего умиления я не заговаривал с ним о моем плане, чтобы не разрушать реальностью идиллию. Но уже утром следующего дня, лишь только он вошел, сказал:
— Теперь я объясню тебе, что нам нужно сделать. И я стал объяснять ему идею празднества в честь распятого и воскресшего бога. Этим богом, разумеется, был я сам. Я должен буду показать народу, как мучается за него бог-император Гай, какие он принимает муки, чтобы Рим благоденствовал. И, прежде всего, должен показать неверность и низость преторианцев. Пусть люди поймут, кого они теряют или могут потерять.
Это что касается идейной подоплеки празднества. Что же до самого действа, то оно должно происходить следующим образом. За городом, на широкой поляне (цирк тут не подходит, потому что это не представление, а действо), будут установлены две вышки с площадками, в четыре примерно человеческих роста каждая. Позади вышек сооружается специальная подъемная мачта, которая поднимет мою скульптуру в виде распятого на перекладине. Все будет устроено таким образом, чтобы поднять скульптуру над вышками на высоту самих вышек. Под основанием вышек, в земле, выкопают глубокую и широкую яму, заполненную горючим веществом. Яма будет замаскирована так, чтобы ее не было видно. Вышки соединены галереей. Правая вышка предназначается для императора. Не для меня, а для Суллы, одетого в императорскую одежду и загримированного под меня. На площадке второй вышки будут стоять гвардейцы, командиры когорт и сам Туллий Сабон, От вышки императора будет вести к лесу глухая крытая галерея. Площадка сделана в виде клетки, как и открытая галерея, соединяющая обе вышки. Как и другая, где будут стоять гвардейцы.
Действие начнется с пения хора перед вышками и декламации чтеца. Монолог напишу я сам. В монологе будет говориться о злодействах гвардейцев, предавших императора. О том, что его власть и его жизнь, невзгоды и заботы этой жизни есть как бы перекладина, на которой он распят как последний раб. Впрочем, о злодействах гвардейцев будет сказано не сразу, а в самом конце монолога. Сначала все будет туманно, иносказательно, но в конце вещи будут названы своими именами, и гвардейцы будут обвинены открыто.
В тот момент, когда все будет сказано, позади вышек поднимется мачта со скульптурой распятого императора, то есть моей. И сразу же по крытой галерее поднимется Сулла и выйдет на площадку императорской вышки в облачении императора. После этого зажгут горючее вещество в яме. Оно разгорится не сразу. Сначала пламя высветит как бы парящего в небе императора и императора, стоящего на площадке в клетке. Это должно означать муки императора-бога, распятого и парящего над всеми, и муки императора-человека, заточенного в клетку своей власти…
Дальнейший смысл действа уже не имеет существенного значения, то есть для публики, а будет иметь смысл лишь для меня, Суллы и гвардейцев. Когда огонь станет сильнее и подожжет основание вышки, где будут стоять гвардейцы (вышка гвардейцев с деревянными опорами, тогда как вышка императора — с металлическими), у них останется лишь два выхода: либо попытаться спуститься по лестнице, по которой они поднялись на вышку, либо перебежать на площадку вышки императора и спуститься по глухой галерее. Спуститься со своей вышки они не смогут, потому что, как только в яме зажгут огонь, лестница, ведущая на их площадку, упадет. Им ничего не останется, как только перебежать на площадку императора. Когда они будут перебегать, Сулла откроет дверь клетки, запрет ее снаружи и быстро уйдет. А гвардейцы, попав на площадку императорской вышки, в самом деле окажутся в клетке. Им некуда будет деться, и они заживо сгорят. Я буду ожидать Суллу в конце галереи, и мы благополучно уйдем.
Я объяснил Сулле, что, когда он выйдет в дверь клетки, прежде чем запереть ее снаружи, он быстро снимет императорское одеяние и бросит его на площадку. После того как все окончится и гвардейцы сгорят заживо, люди обнаружат среди сгоревших тел металлические знаки императорского отличия и будут уверены, что император сгорел вместе с гвардейцами. Конечно, одного тела как бы не будет хватать, но ведь никто не станет заранее считать, сколько было гвардейцев на площадке: восемь, девять или десять. Так что смерть императора станет очевидной. Мы же с Суллой благополучно выйдем из города, переодевшись в самую простую одежду, сядем на заранее приготовленных лошадей и отправимся в Иудею, где и начнем нашу другую, новую жизнь.
Это я рассказал Сулле и спросил его, что он думает о моем замысле. Он отвечал, что все продумано великолепно и у гвардейцев не будет ни одного шанса на спасение.
Бедный Сулла! Бедный, несчастный, глупый Сулла! Он не предполагал, что и у него не будет ни одного шанса, потому что я не объяснил ему главного.
Он сможет войти на площадку императорской вышки, но не сможет покинуть ее, когда огонь начнет лизать опоры. Замок будет устроен особенным образом — открыть его изнутри невозможно. Он сгорит вместе с гвардейцами, а я в эти минуты уже буду далеко.
Я не утерпел и все-таки сказал Сулле:
— Как бы там ни было, но ты все равно побудешь императором. Не имеет значения, что ты играешь роль. Во-первых, никто этого знать не будет — все будут видеть тебя императором. Во-вторых, все мы в этой жизни играем какую-то роль. Знаешь, вспоминая себя мальчиком в военном лагере, я иногда не верю, что я настоящий император, а мне кажется, что я играю чью-то чужую роль.
Сулла не отвечал, и лицо его было грустным. Я так и не смог добиться от него: хочет ли он побыть императором или нет. Минутами мне казалось, что он понимает мой настоящий замысел и чувствует неминуемость смерти. Я стал осторожно выяснять это, обсуждая с ним подробности предстоящего. Нет, он, конечно, не догадывался. Но тогда отчего на лице его была грусть, похожая на смертную тоску?
Впрочем, какое мне до этого дело! Может быть, такая грусть есть преддверие смерти, не осознаваемое человеком!
Не могу сказать, что мне совсем не было жалко Суллу. Порой я даже думал: «Как же я буду обходиться без него! В той, в другой жизни?» Но на то она и другая жизнь, чтобы в ней не осталось никого и ничего из жизни предыдущей. Кроме того, мне не нужны были свидетели: я должен был умереть для всех. Для Суллы, при всем моем желании, нельзя было сделать исключения. Ведь нельзя предугадать, как он поведет себя, когда я перестану быть императором: мы можем поссориться, и он захочет выдать меня. В конце концов, он может просто проговориться — человек есть человек. Я, правда, тоже могу проговориться, но это совсем другое.
Итак, с Суллой все было решено, оставались Туллий Сабон и гвардейцы. Конечно, мой замысел был беспроигрышным, но это только в том случае, если гвардейцы захотят войти в клетку. Если ничего не заподозрят. А ведь они вполне могли и не пойти. Нужно было заманить их, найдя причину, по которой они захотят пойти сами. Этой причиной могли быть угроза их жизням и моя собственная смерть. Я буду один, без охраны, в железной клетке, в каких-нибудь двадцати шагах от них. Лучшего времени, чтобы расправиться со мной, им не найти. Мне нужно было убедить в этом Туллия Сабона, и я пригласил его к себе.
Мы не виделись с того самого дня, когда казнили Клавдия. Дважды Туллий просился ко мне на прием, но я отказывал.
Когда он вошел, я почувствовал в нем напряжение. Он склонился передо мной достаточно низко и почтительно, но при этом, как мне показалось, очень осторожно, будто ожидая подвоха. Мельком оглядел комнату, встал так, чтобы не быть спиной к двери.
— Ну что, мой Туллий, — проговорил я холодно и со скрытой угрозой. — Я недоволен тобой и твоими гвардейцами. Я больше не верю в их преданность и решил во всем серьезно разобраться. Кое-кого из командиров придется отослать в дальние гарнизоны. Но имей в виду, это наказание будет самым легким. Только для нерадивых. Тот же, кто окажется замешанным в заговоре против меня — хоть как-нибудь, хоть самым ничтожным образом, — будет жестоко наказан. Сегодня я назначу сенаторов, которые будут разбирать это дело. Ты понял меня, Туллий? Ты хорошо меня понял?
Да, он хорошо меня понял, его рука невольно коснулась ножен. Я подумал: знай он, что его ожидает, он немедля вытащил бы меч и убил меня на месте.
— Отвечай, я жду!
— Не понимаю, император, — сумел выдавить он, — что ты имеешь в виду.
Он хотел еще что-то добавить, но я не дал ему говорить, остановив властным жестом руки (который, должен признать, дался мне непросто):
— Я недоволен тобой и не буду скрывать этого. Если ты виновен, ты будешь наказан по закону. Если нет, то будешь отправлен в провинцию. Туда, откуда я привез тебя в Рим. Это все, можешь идти.
Туллий постоял несколько мгновений неподвижно, потом повернулся и, даже забыв поклониться, пошел к двери. Когда он был уже в двух шагах от порога, я остановил его:
— Да, забыл тебе сказать. Я назначил празднество в честь избавления от смерти, и я отложу разбирательство вашего дела до его окончания. Праздник уже назначен, и я не хочу его испортить — римский народ, в конце концов, не виноват, что у меня такие гвардейцы. Поэтому во время праздника ты и все командиры когорт будете находиться рядом со мной. Подробности тебе объяснит мой секретарь. Теперь иди!
Он смотрел на меня, и мне казалось, что он не может сдвинуться с места.
— Иди же, Туллий, я не хочу видеть тебя, — сказал я и отвернулся.
Пока я не услышал стук двери за своей спиной, я и сам не мог пошевелиться.
* * *
Кажется, я никогда не был столь деятельным. Энергии было столько, что я не успевал воплощать ее в дела. Я прежде не мог себе представить, что с таким рвением буду стремиться к собственной смерти. В каком-то смысле это были самые счастливые дни моей жизни. Ощущалось, что вся моя жизнь воплощена в этих нескольких днях. При этом я не старался их растянуть, но, напротив, старался все сделать быстрее.
Кроме собственно энергии и мысль моя работала четко (я даже думал, что если бы она работала столь четко во все время моего императорства, то обстоятельства сложились бы по-другому и мне не нужно было бы делать то, что я делал, — то есть готовить-свою смерть).
Итак, я действовал сразу по нескольким направлениям. Во-первых, пригласил архитектора, объяснил ему замысел сооружения, начертил примерный план и обсудил все детали. Приказал начать работы немедленно и закончить в наикратчайшие сроки. Архитектор был наделен чрезвычайными полномочиями, все чиновники римской городской администрации обязаны были исполнять его требования, и никто не должен был чинить ему препятствий.
Во-вторых, из Греции (где он тогда находился), был немедленно отозван в Рим любимый легион моего отца. Многих офицеров легиона я знал с детства. Пока легион находился в пути, я, не доверяя охране, сделал так, чтобы народ сам охранял меня. Был распущен слух, что против императора готовится заговор с целью его убийства и что нити заговора ведут в Иудею. Недоверие к иным народам, а тем более к евреям я использовал очень хорошо. Стали говорить, что я собрался издать законы, по которым каждый член еврейской диаспоры должен будет отчитываться перед специальной комиссией о своих доходах, и что я хочу поставить некий предел их богатству, а то, что останется сверх предела, будет роздано самым бедным горожанам поровну.
Уже через день после того, как были распущены такие слухи, у моего дворца стали собираться толпы народа, требующие покарать заговорщиков. Люди не уходили домой и ночью. Некоторые лавки богатых евреев оказались разбиты и разграблены толпой. Разумеется, среди толпы находились и мои люди, умело направлявшие народный праведный гнев. Чтобы беспорядки не вышли из-под контроля, мне пришлось выйти на площадь перед дворцом и поговорить с людьми. Речь моя была довольно уклончивой, и я только намекал на грозящую мне опасность, но просил людей сохранять спокойствие и разойтись по домам.
Речь моя произвела то самое впечатление, которого я и желал. Народ не только не разошелся по домам, но, напротив, толпы перед дворцом сделались еще более многочисленными. Люди сами установили круглосуточные дежурства, по ночам жгли костры. Площадь перед дворцом стала похожа на некое подобие военного лагеря.
Этого я и добивался. В такой обстановке гвардейцы не смогли бы выступить. Так продолжалось до того времени, пока не подошел легион из Греции. Легион встал лагерем недалеко от Рима, а несколько когорт вошли в город. Прибытие легиона возбудило народ еще больше, произошло братание горожан с солдатами. Из толпы кричали, что гвардия ненадежна, а некоторые призывали даже идти к казармам преторианцев и расправиться с ними.
Такого энтузиазма я никак не ожидал, и кровавая резня мне сейчас была ни к чему, потому что в этом случае всегда неизвестно, как она в конце концов отразится на моей персоне — кто может сказать с уверенностью, в какое русло войдет так называемый праведный гнев? Пришлось снова выходить и разговаривать с народом.
Я сказал, что не сомневаюсь в верности гвардейцев, и публично похвалил Туллия Сабона. Легион же прибыл на всякий случай, и лишь только опасность минует, он возвратится к месту своей постоянной дислокации. В доказательство своих слов я назначил и гвардейцев, и солдат легиона в равном количестве нести дежурство во дворце.
Народ несколько успокоился, но от дворца не уходил. Тогда через день я объявил о намеченном празднестве и о том, что во время праздника будут раздаваться народу щедрые подарки. Люди приветствовали мое сообщение криками восторга. Наверное, кроме Туллия Сабона и командиров преторианцев, не было ни одного человека в Риме, который бы не славил меня.
Должен заметить, что всеобщий энтузиазм в отношении ко мне народа довольно сильно на меня подействовал. Я даже стал сомневаться в необходимости своего ухода, потому что стало казаться, что власть моя, как никогда, крепка, а любовь народа, как никогда, сильна. Наверное, и «Божественный» Август не возбуждал такой любви. Что же мне теперь мешало расправиться со своими противниками и благополучно править до самой старости?!
Да, искушение было велико, но я сумел, хотя и не без труда и сомнений, перебороть его. Я уже упоминал, что в последнее время мысль моя работала необыкновенно четко. Она-то и не позволила мне проявить слабость. И я сказал себе, что нет ничего ненадежнее на свете, чем любовь народа. По крайней мере, к живущему, а не к мертвому. Мертвого могут любить сколько угодно долго, и чем дальше, тем больше. С годами мертвый может стать едва ли не совершенством (и не важно, был ли он совершенством при жизни), и поклонение ему становится необходимой частью образа жизни. Мертвого хвалить и почитать легко и приятно: он не влияет на твою жизнь, он служит примером и, главное, его всегда можно сравнить с живущими, и сравнение, конечно же, будет не в пользу последних.
Другое дело — живущий и действующий, тем более правитель. Сегодня его действие популярно и его славят и любят, но завтра, когда он сделает нечто, что может ущемить большую часть народа (хотя его действие может быть самым разумным), от вчерашней любви не останется и следа — его станут поносить так же яростно, как восторженно любили только недавно.
Меня любили всплесками. Лучше бы меня так не любили, а относились б ко мне ровно. Впрочем, и это не избавляет от возможности погибнуть от рук заговорщиков. Тем более что народ ничего особенного не решает, хотя и выглядит грозной силой.
Так что, несмотря на сомнения, я не отступил от своего замысла, и энергии для его исполнения у меня не стало меньше. В сопровождении солдат (не гвардейцев) я несколько раз посещал место строительства и наблюдал за ходом работ. Темпы меня вполне удовлетворили. Я сделал несколько замечаний, но в целом был доволен расторопностью архитектора и работой строителей.
Что же до скульптуры в виде распятого на перекладине, то сначала я по совету Суллы хотел вызвать скульптора из, Греции. Но потом решил, что обойдусь и своим, потому что совершенство скульптурного изображения в моем замысле не играло большой роли. Тем более что она нужна была только для одного представления. Ведь если бы я не собирался уйти навсегда, а остался в Риме, то на какое место можно было бы водрузить мою скульптуру в виде распятого на перекладине?! Во избежание возможных толков ее нужно было бы разбить на куски или спрятать.
Пришедший скульптор долго не понимал, что я от него хочу, все никак не мог взять в толк, почему нужно изображать императора Рима, распятого на перекладине как последнего раба. Когда же он понял, то на лице его проявился явный страх: он стал бояться, что после окончания работы его накажут, а не наградят за содеянное — шутка ли, изображать императора столь, мягко говоря, непочтительным образом. Я старался ему все объяснить, ласково с ним разговаривал, но все было тщетно — на мои уговоры он кивал, но, когда я спрашивал, готов ли он приступить к работе, он отвечал, что никогда не посмеет изобразить императора подобным образом.
Я не думал, что возникнет столь неожиданное затруднение. Видя, что по-хорошему я уговорить его не могу, я, раздражившись по-настоящему, сказал, что в таком случае он будет немедленно предан смерти: его вывезут за город и распнут на перекладине и что, может быть, тогда он правильно поймет, чего хочет от него император. Он бросился на колени, умоляя пощадить. Я изобразил непреклонность, отвернулся от него и позвал стражу. Он завопил во весь голос и распластался у моих ног, умоляя пожалеть его маленьких детей, которые останутся без кормильца. Некоторое время я не отвечал, потом отослал стражу и приказал ему подняться.
— Хорошо, — проговорил я, глядя на него в упор, — я пощажу тебя. Более того, ты получишь щедрое вознаграждение, если сделаешь все как надо и в срок. В противном случае твои дети станут сиротами. И перестань причитать, я не могу этого слышать.
Он и в самом деле перестал причитать и смотрел на меня теперь со слезами чуть ли не умиления. Еще бы, я только что даровал ему жизнь!
Я велел оборудовать мастерскую для него тут же, во дворце, и поставил у дверей охрану — скульптор и его помощники не должны были покидать помещение до окончания работы и не должны были ни с кем сообщаться; все, что им было нужно, доставляли прямо в мастерскую.
Мне осталось заняться двумя вещами: текстом для чтеца и хора и гримом Суллы. Не стану говорить, что я обладал поэтическим даром, хотя в детстве, в доме моей бабки, некто Алкид, называвший себя поэтом (мне кажется, что называл только потому, что был выходцем из Греции, где, по моему мнению, всякий, кому не лень, слагает стихи), занимался со мной стихосложением. Его мудреные объяснения были мне непонятны, и я так и не научился отличать дактиль от хорея[26]. Для своего монолога я выбрал гекзаметр, наверное, только потому, что знал — величайшие поэмы написаны именно гекзаметром. Я не тщился написать величайшую поэму (к тому же для этого у меня не было времени), но величественность момента предполагала именно этот размер.
Сначала у меня ничего не получалось, я никак не мог правильно сосчитать слоги и впервые пожалел, что так плохо слушал в свое время Алкида (не могу сказать, какой он был поэт, но уж со слогами у него, должно быть, было все в порядке). Я бился два дня, но, кроме нескольких строк, ничего не смог написать. Да и те вышли корявыми. Оно бы ничего — для меня тут важен был смысл, а не форма, — но не хотелось быть посмешищем в глазах толпы.
Разумеется, ничего не стоило заказать монолог какому-нибудь поэту, но как я мог быть уверен, что он не поймет моего замысла и не предаст меня — стража у дверей тут абсолютной гарантии не давала. Пришлось мучиться самому. Пришлось призвать на помощь Суллу. Он сказал, что тоже не силен в стихосложении, но что на моем месте он бы попытался подражать великим образцам. Я грубо отвечал ему, чтобы он помнил свое место, и велел ему уйти. Но когда он ушел, а я снова сел за сочинение монолога, я подумал, что в его предложении есть своя правота.
Велел принести из библиотеки несколько известных поэм и выбрал «Георгики» Вергилия[27]. Копаться в остальных мне было лень, а о «Георгиках» я довольно много слышал еще от Алкида, который, прикрыв глаза, помахивая рукой и завывая, любил читать наизусть большие куски. Надо было бы спросить, гекзаметром ли написаны «Георгики», но обнаруживать свое невежество мне сейчас не хотелось. Впрочем, какая разница, поэма и без того звучала торжественно. Почти наугад я выбрал кусок, собственноручно переписал его, оставляя большие пробелы между строками, и под каждой строкой стал подставлять свои слова с одинаковым количеством слогов. В некоторых местах, где было можно и подходило по смыслу, я оставлял слова и выражения автора. Через пять дней упорной работы мы с Вергилием наконец справились с монологом. Я прочитал его вслух, и он мне очень понравился. Нужен был слушатель, и я пригласил Суллу. Конечно, хотелось бы прочитать свое сочинение лучшему, чем Сулла, ценителю, но он был единственный, кто был посвящен в мою тайну.
Кажется, я никогда так не волновался, зачем-то долго объяснял Сулле смысл написанного, мялся, вдруг заводил посторонние разговоры, отвлекался на что-то другое. Я и боялся читать, и одновременно страстно желал этого. Наконец я решился. Сначала голос мой был глух и невнятен, я задыхался и плохо проговаривал отдельные слова. Но постепенно, заметив неподдельное, как мне показалось, внимание Суллы, я почувствовал себя свободнее, голос мой окреп, дыхание стало ровным, и я уже декламировал, не замечая ничего вокруг, ощущая лишь великую, прежде мне незнакомую сладость звуков.
Когда я закончил, пот выступил у меня на лбу, а руки дрожали, и я не мог поднять глаз на Суллу. Стал перебирать бумаги на столе, поправлять одежду, зачем-то заглядывать в окно. Вдруг Сулла сказал как-то очень просто:
— Знаешь, Гай, а ведь ты мог быть поэтом.
— Оставь это, — отвечал я ему деловым тоном, — мне не нужна похвала. Скажи мне другое: понятно ли то, что я хотел там выразить?
— Нет, Гай, — снова проговорил Сулла, и теперь в его голосе слышалось неподдельное восхищение, — ты в самом деле мог быть поэтом. Не нужно быть знатоком, чтобы сказать: великим.
— Ну, так уж и великим! — усмехнулся я, но усмешка вышла какой-то жалкой, какой-то просительной.
— Нет, правда, я никогда еще не получал от стихов такого удовольствия. Понимаешь, они проникают в самую душу и что-то производят там. Не могу объяснить что, но что-то божественное. Нет, Гай, тебе нужно заняться этим — величие поэта может быть выше величия императора.
Он не останавливался, все говорил и говорил, и речь его лилась плавно. Я слушал не перебивая и все не мог наслушаться, хотя принимал самый равнодушный вид. Все внутри меня кричало: говори, говори, еще, еще! И он, словно слыша мой внутренний крик, говорил.
Я уже забыл и не хотел вспоминать, что думал о Сулле как о ценителе невысокого ранга, потому что теперь он мне казался очень даже серьезным ценителем. И я подумал, что, когда слова идут от сердца, это значительно глубже, чем когда они от ума и знаний. Я вспомнил глубокомысленных философов, которые всегда были мне так противны, и еще больше уверился в своей правоте. Еще я подумал, что всегда недооценивал Суллу, а это человек острого ума с чувствительным сердцем.
Наверное, если бы Сулла не остановился, я мог бы слушать его сколько угодно времени — без пищи, воды и отдыха. Да, счастье поэта ни с чем не сравнимо. Правда, как обычно говорили, у поэта больше несчастий, чем счастья, но думать об этом сейчас не хотелось.
Всему приходит конец, и даже речам Суллы, которые, казалось, будут длиться вечно. Когда он замолчал, я посмотрел на него с сожалением, которое не подумал скрыть.
— Значит, тебе понравилось? — произнес я хрипло (голос плохо повиновался мне).
— Ты не представляешь себе, Гай, что это такое, — отвечал он горячо. — Это как у великих поэтов! Я теперь понял, что этот дар вверен человеку богами!
Я ничего на это не ответил, а только неопределенно пожал плечами. И тут Сулла, подавшись ко мне, снова заговорил, горячо, страстно:
— Тебе нужно было быть поэтом — это ошибка, что ты стал императором. Не сочти мои слова глупостью или дерзостью, но поэт выше императора, и его божественность есть настоящая божественность, а не определение власти и мудрости. Только сейчас я понял, каким даром одарил тебя Юпитер. Ты в самом деле бог! Помнишь, как мы с тобой говорили, сможешь ли ты стать богом. Но тебе не нужно им становиться, потому что ты уже и есть бог. Как Гомер[28], как Вергилий или Гесиод[29], а возможно, что и выше! Ты можешь написать прекрасные поэмы и никогда не умрешь. Гомер и Вергилий будут жить вечно, как и ты.
Упоминание Вергилия, моего невольного соавтора, было не очень приятно, и мне даже хотелось сказать Сулле, чтобы он называл другие имена. Впрочем, эта шероховатость в его речи совсем не портила главного, хотя мне стало казаться, что это не просто похвалы, но Сулла куда-то ведет. И я не ошибся.
— Ты должен остаться императором, чтобы быть поэтом! — вдруг патетически провозгласил он.
— Что значит остаться? — недоуменно спросил я, еще не вполне спустившись с высот поэтического восторга.
— Да, да, остаться! — горячо выговорил он. — Ты не имеешь никакого права зарывать в землю свой талант, ведь он вручается богами одному из многих тысяч. Ты должен остаться, чтобы воплотить то, к чему ты призван!
— Но, дорогой мой Сулла, — довольно вяло возразил я, — поэт везде поэт, где бы он ни был и чем бы ни занимался. Власть, императорство и все такое прочее тут не имеют никакого значения. Ведь ты сам говоришь, что дар этот вручен богами.
Сулла несколько смутился и не смог сразу ответить. Не находя нужных слов, он пробормотал:
— Да, да, конечно, но я хотел сказать… хотел… Только некоторое время спустя он нашелся: — Но видишь ли, Гай, императорство тоже вручено тебе богами. Значит, их воля… их воля заключается в том, чтобы ты был поэтом-императором…
— Или императором-поэтом, — перебил я, глядя на него строго, — Конечно, почему бы и нет: император в свое удовольствие пописывает стишки. Ничего, мой Сулла, мне нравится.
— Я не то хотел сказать, — растерянно произнес Сулла и вдруг добавил совсем тихо, но довольно четко: — император.
Но мне уже не нужны были его оправдания, я все понял.
— Скажи, мой Сулла, — произнес я, прямо глядя в его глаза, — признайся мне честно и откровенно: ты не хочешь идти со мной и ты не хочешь участвовать в том, что я придумал? Скажи, и я не буду принуждать тебя, ведь мы друзья, и если уйдем вместе, то должны уйти друзьями.
Он ответил не сразу, некоторое время сидел, опустив голову. Был вечер, пламя светильников горело не ярко, и мне трудно было определить, покраснело его лицо или побледнело, но я ощутил, как что-то сделалось с ним. Наконец он поднял голову, его глаза показались мне какими-то тусклыми, он выговорил едва слышно:
— Император, я пойду за тобой, куда ты скажешь.
Злость поднялась во мне высокой волной, я поискал глазами, что бы схватить тяжелое и ударить Суллу. Ничего не попалось на глаза, и, наверное, это сдержало меня.
— Уходи, — сказал я с напряжением в голосе, едва пересиливая себя. — Чтобы сказать мне то, что ты хотел сказать, не было нужды так долго и красиво распространяться о моем поэтическом даре. Никогда я не думал, что ты будешь лукавить со мной так явно и так грубо. Уходи. Утром я жду тебя, чтобы посмотреть, как ты выглядишь в гриме. Иди, я очень недоволен тобой.
— Прости, император, — выдавил он и пошел к двери, низко опустив голову, сгорбившись.
Мне было противно смотреть на его старчески согнутую спину.
* * *
Как я ни был зол на Суллу, как ни противно мне было его неожиданное предательство, я сумел сдержаться и не дал выхода злобе. Я умел теперь мыслить ясно, мысль была сильнее гнева. В другое время и при других обстоятельствах Сулла жестоко бы поплатился за этот разговор, но сейчас мне не имело смысла расправляться с ним, тем более что все равно через несколько дней он должен был умереть.
Тогда же у меня возникло какое-то странное подозрение, что Сулла что-то замышляет. Нет, не подозрение, а только ощущение, что здесь что-то не так, что-то стоит за его поведением и словами. Мне следовало тогда спокойно обдумать все это, но у меня не хватило терпения. О, если бы я знал, что ожидает меня в будущем! Но об этом после.
Свое недовольство Суллой я продемонстрировал тем, что не принял его на следующее утро и заставил дожидаться у дверей моего кабинета едва ли не полдня. Нарочно, чтобы только досадить ему, я отправился осматривать стройку, хотя еще вчера не планировал этого. Я смотрел, слушал разъяснения архитектора, но мысли мои были далеко: я думал о Сулле. Я все никак не мог справиться со злобой, поднявшейся во мне вчера вечером. Трудно себе в этом признаваться, но я чувствовал себя униженным, потому что сейчас было очевидно, что все слова Суллы о моем поэтическом даре оказались ложью. Я никогда прежде не считал себя поэтом, но почему-то, когда он говорил, когда так восхищался, я не принял его слова за лесть. Теперь я на себе прочувствовал, что значит зыбкое счастье поэта: сейчас ты на вершине блаженства, а через минуту падаешь в пучину унижения и тоски. Проклятый Сулла!1 Мне хотелось уничтожить его теперь же, задушить своими собственными руками и увидеть его агонию. Хотелось, хотя я понимал, что это вряд ли излечит меня.
Когда я вернулся, он стоял возле дверей кабинета, кажется, на том самом месте, где я оставил его. Я не заговорил с ним, не посмотрел на него, прошел мимо. Переждав довольно долго и чуть успокоившись, я велел позвать его. Он вошел, держа в руках коробку, которую я до этого не видел. Оказалось, что там краска для грима.
Я смотрел на него и все никак не мог понять, зачем он явился и зачем я сам позвал его. Не для того же, чтобы наброситься, повалить на пол и схватить руками за горло!
— Что ты хочешь? Я слушаю тебя, — сказал я холодно.
В глазах Суллы мелькнул испуг.
— Ты сказал, император, чтобы мне… чтобы я… гримировался, — произнес он, заикаясь на каждом слове, едва слышно.
— А-а, — протянул я и покачал головой. Признаюсь, его испуг был мне приятен. Не более того. То есть он не умалял моего унижения, но все же. — Раздевайся, — сказал я несколько минут спустя (я выматывал его, мне хотелось сделать ему как можно больнее), — посмотрим, какой ты император.
Я подошел к двери и велел страже никого не впускать ко мне, потом достал свое парадное одеяние и протянул его Сулле. Он стоял как будто в нерешительности. И тут у меня возникла новая мысль, показавшаяся мне оригинальной.
— Ты одеваешься, мой Сулла, но сначала я хочу увидеть тебя раздетым.
— Я не понимаю, император, — едва ли не жалобно выговорил он и посмотрел на меня умоляюще.
Но я был неумолим и показал ему рукой, чтобы он раздевался. Он повиновался, хотя делал все замедленно, как во сне, словно надеясь, что я остановлю его. Наконец он остался совершенно голым и стоял передо мной, прикрыв ладонями низ живота и переминаясь с ноги на ногу. Я подошел к нему вплотную, сказал, глядя в глаза:
— Убери руки.
Он убрал. Я сделал шаг назад, чуть пригнулся, внимательно рассматривая предмет его мужского достоинства, потом проговорил очень серьезно:
— Да, мой Сулла, ты похож на императора, особенно этой частью тела. Римские матроны, уверяю тебя, были бы довольны.
Я выговорил это и еще что-то похожее на это, сам не очень понимая, что и зачем говорю. Мне нужно было только унижение Суллы, и я его добился. Он смотрел на меня затравленно, минутами мне казалось, что он может броситься на меня, и я желал этого.
— А теперь, — сказал я, усмехаясь, — наложи грим и надень парик.
Его рука потянулась было к одежде, лежащей возле него на кресле, но я остановил это его движение:
— Нет, нет, это потом, сначала загримируйся. Садись к зеркалу и приступай.
И снова Сулла послушно повиновался. Я видел его унижение, видел, что не только лицо, но и все тело пошло пятнами, но почему-то не чувствовал полного удовлетворения. Более того, собственное унижение стало еще ощутимее. Но я уже не мог остановиться: подошел, заглянул Сулле в лицо, издевательски улыбнулся. Руки его дрожали, и грим он накладывал неловко, неровно, неумело. Когда он закончил и приладил на голову парик, я велел ему выйти на середину комнаты и внимательно, с подчеркнутой скрупулезностью осмотрел его всего.
— Да, Сулла, очень хорошо, — проговорил я, закончив осмотр. — Не могу точно сказать, насколько ты похож на императора — пусть это решат другие, — но на публичную девку ты очень даже похож. Я много встречал таких, когда болтался с Эннией по притонам. Впрочем, там были и мужчины такого же сорта. Но нет, ты больше похож на женщину, на самую настоящую публичную девку — ты уж прости. И знаешь, какая мне пришла сейчас замечательная мысль. Не нужно никакой императорской одежды: ты загримируешься и выйдешь на публику вот в таком же виде. А, хорошо я придумал? Скажи!
Он молчал, смотрел на меня прямо, но как бы сквозь меня, будто стоял один. А я уже не мог остановиться:
— Тебе нечего обижаться, мой Сулла, на то, что я сказал, будто ты похож на публичную девку. А кто же ты есть на самом деле, как не публичная девка? Ты пользуешься благами так называемой дружбы со мной, как девка пользуется благосклонностью богатого клиента. Я зову тебя, когда мне скучно, и вышвыриваю тебя, когда ты мне надоешь. А ты терпишь и еще улыбаешься, потому что у тебя такая работа. У тебя такая работа — быть публичной девкой. Вот сейчас я сделаю с тобой что-нибудь непотребное, и ты подчинишься, и еще улыбаться будешь. Ну, улыбайся! Улыбайся, я тебе сказал! Улыбайся!!!
Последнее я прокричал во весь голос. Но вдруг что-то случилось со мной — неожиданное и невообразимое. Я смотрел на голого Суллу в нелепом парике, с размалеванным лицом — и увидел себя. Не себя теперешнего, а себя маленького, лет всего пяти. Мне вспомнилось, как мой отец Германик, любивший грубые шутки, одел меня в женское платье, намазал щеки, губы, глаза краской и так вот вывел из своей палатки. Было это в военном лагере. Он провел меня по лагерю, держа за руку, а солдаты собирались кучками и шли за нами. Они смеялись шутке отца, отпускали остроты, которые я не понимал, но которые все равно были обидными. Потом мы с отцом остановились, он отошел, а солдаты собрались в круг, где в центре стоял я — маленький, униженный, беззащитный. Солдаты любили отца и ко мне относились очень хорошо, и смеялись они тогда беззлобно и весело, но этот позор я не мог забыть всю мою последующую жизнь. Я бросился тогда, убежал в палатку отца, забился в угол и плакал, сотрясаясь всем телом, и меня долго не могли успокоить.
И вот я увидел в Сулле себя того, маленького. Слезы навернулись на глаза, и Сулла, стоявший передо мной, стал плохо виден.
— Сотри грим и иди, — только и смог выговорить я, едва сдерживая подступившие к горлу рыдания, и слабо махнул рукой куда-то в сторону двери.
Не знаю, не могу сказать, ушел ли он сразу же или нет, — я плохо понимал, что происходит вокруг. Едва ли не вслепую, покачиваясь, я дошел до ложа, коснулся его края коленями и упал ничком, крепко зажав рот ладонями, чтобы мои рыдания не услышали за дверью.
Весь следующий день я не покидал своей комнаты и никого не принимал. Ближе к вечеру пошел в мастерскую скульптора, здесь же, во дворце. Скульптура была почти уже готова. Сам мастер и помощники смотрели на меня со страхом. Скульптура стояла в самом центре комнаты, только ноги еще виделись плохо оформленной массой.
Не стану лгать — я по-настоящему испугался. Это был я — по крайней мере, лицо мастер изобразил очень похоже, — и я был распят на перекладине. Но не сам этот факт распятия испугал меня, а то, что выражение лица скульптуры не соответствовало тем мукам, которые испытывает человек, наказанный таким страшным образом. Лицо было величественным и спокойным, и мне показалось, что губы раздвинуты в слабой улыбке. И чем дольше я смотрел, тем больше раздвигались губы и улыбка проявлялась все явственнее.
Я не мог оторвать взгляда от своего лица, так странно и страшно улыбавшегося мне. Случайный шорох за спиной (это был мастер, стоявший позади меня) принес избавление: я вздрогнул, и взгляд мой сдернулся с собственного лица, на котором была уже не улыбка, а гримаса.
— Что? — отрывисто спросил я, резко обернувшись.
Мастер смотрел на меня испуганно, но его губы, как мне показалось, тоже почему-то медленно раздвигались в улыбке.
— Да, да, — сказал я и, протянув руку, зачем-то дотронулся до его плеча. Будто бы только за тем, чтобы удостовериться, живой это человек или тоже мраморное изваяние.
Он был живым. Был испуганным и жалким. Мне стало легче.
— Ноги, — сказал я, указывая за спину, где стояла скульптура, но не оборачиваясь, — главное, ноги. Чтобы каждый палец, слышишь, каждый палец был похожим! Ты понял?!
Он кивал на каждое мое слово и, конечно же, ничего не понимал. Я еще что-то говорил, все возвышая голос, и вдруг, оборвав себя на полуслове, вышел.
Прошло еще несколько дней. Архитектор доложил мне, что работы движутся к завершению, просил еще два или три дня для проверки механизмов. Я посетил строительство, остался доволен работой механизма для подъема скульптуры, крытой галереей, ведущей в лес, и всем прочим. Можно было назначать день праздника, и я его назначил.
В народе, как мне сообщали, по этому поводу ходило множество слухов. Главное в них было то, что нечто там должно произойти такое, что, может быть, перевернет все прежние представления о силе императорской власти. Такого рода слухи вредили моему плану (я опасался, что гвардейцы под каким-либо предлогом откажутся в нем участвовать), и я велел распустить другие: что по окончании праздника каждый пришедший получит денежную премию по списку. Мне передавали, что такие списки уже составлялись горожанами.
Моя скульптура в виде распятия была готова. Ее, укрыв, перевезли на место праздника и прикрепили к подъемному механизму. Я велел наградить скульптора, но оставил его во дворце под охраной до самого окончания праздника.
Яму под вышками заполнили горючим веществом и замаскировали. По всему периметру поляны через каждые тридцать шагов стояли солдаты, никого не допуская внутрь. Любопытных, появлявшихся в поле зрения солдат, по моему приказу отгоняли, а особенно настырных хватали и подвергали наказанию.
Прошло довольно много времени с тех пор, как я не виделся с Суллой, с того самого дня, когда я так жестоко поиздевался над ним. Честно скажу, мне было трудно увидеть его снова, и, если бы можно было не видеть его никогда, я бы именно так и сделал. Я было стал думать, чтобы заменить Суллу кем-нибудь другим, а его просто оставить в покое — пусть будет что будет. Но, разумеется, это было невозможно, потому что моя тайна должна оставаться тайной для всех.
Скрепя сердце и чувствуя неловкость, я все-таки послал за ним. Когда он вошел, я поднялся ему навстречу, и мы обнялись.
— Скажи, Сулла, ты не сердишься на меня? — спросил я, заглядывая ему в глаза.
— Нет, император, — отвечал он, — как же я могу сердиться на моего императора?
— Оставь это, Сулла. Скажи, разве ты не веришь, что мы друзья, братья… Вспомни о «братстве одиноких». Ты помнишь? Скажи, скажи!
— Да, император, я помню, но нас тогда было больше.
— Больше? — не понял я. — Что ты имеешь в виду?
— Я говорю о Друзилле. Ведь она тоже была в нашем братстве.
— А-а, — протянул я. Я забыл о Друзилле, а он имел смелость напомнить мне о ней. — Да, Друзилла, — сказал я, помолчав, — мне трудно вспоминать о ней. Я так ее любил. Ты же знаешь, Сулла, как я ее любил.
— И она тоже любила тебя, — сказал он. — А потом…
Он не договорил, но и без того все было понятно.
— Сулла, мне не нравится наш разговор. Ведь ты пришел не для того, чтобы упрекать меня? В конце концов, Друзилла была моей сестрой, а не твоей.
— Да, император, это так.
— Моей, а не твоей, — повторил я раздраженно. — И кто ты такой есть, чтобы упрекать меня?
— Да, император, — отвечал он, — я всего-навсего твой раб, публичная девка, как ты верно выразился в прошлый раз.
— Если мне захочется, — не сдерживаясь, закричал я, — ты будешь публичной девкой, и оденешься, как публичная девка, и разукрасишь лицо, как публичная девка. И все равно будешь рад этому и станешь славить меня.
— Да, император, это так, — спокойно и холодно согласился он, — только я не понимаю…
— Что ты не понимаешь? — перебил я его.
— Не понимаю, — так же спокойно сказал он, — при чем здесь «братство одиноких» и наш совместный уход.
Проклятый Сулла! Он был прав. Сколько раз невыдержанность подводила меня и подвела опять. Всего в течение каких-нибудь двух дней мне нужен был соратник и друг — любящий, преданный, доверяющий. Всего на два дня нужно было смирить свою злобу. Не для кого-нибудь, не для Суллы, а только для самого себя. И даже этого я не умел сделать.
— Скажи, Сулла, — проговорил я, глядя в сторону, — ты доверяешь мне?
— Ты спрашиваешь: люблю ли я тебя? — сказал он, помолчав. — Конечно, император, я люблю тебя и сделаю все, что ты захочешь. Если мне придется умереть, то я радостно умру за своего императора.
— Придется умереть? — спросил я, внимательно посмотрев в его глаза. — Почему ты так говоришь? Что ты имел в виду?
— Ничего. Я сказал это, потому что радостно умру за тебя, если придется, вот и все.
Я смотрел на него так внимательно, будто хотел проникнуть внутрь его существа. Нет, он не издевался надо мной, по крайней мере, я этого не увидел. Но в таком случае это звучало самой сокрушительной издевкой. Гнев снова явился во мне, но я сумел сдержаться.
— Нет, — проговорил я особенно спокойно, — я говорил не о дружбе, не о любви к императору. Я только хотел знать, доверяешь ли ты мне.
Он кивнул и выговорил едва слышно:
— Да, Гай, я доверяю тебе.
Мы молчали еще некоторое время. Я никак не мог перейти к тому, для чего позвал его. Наконец я сказал:
— Зато я доверяю тебе, мой Сулла. И ты в этом сможешь скоро убедиться. После праздника мы уйдем вместе, но потом, если ты захочешь, я отпущу тебя. Ты заберешь половину денег, которые ты спрятал для меня в тайниках, и станешь жить сам. Купишь себе дом, или поместье, или все что угодно. Ты знаешь, там очень много денег — половины их хватит тебе еще на две жизни.
Вместо ответа он кивнул. Что означал его кивок: согласие с моим новым планом или что-нибудь другое, я не знал, но спрашивать не стал. Я вполне понимал бессмысленность этого разговора: любишь — не любишь, доверяешь — не доверяешь. Что могут значить слова!
— Хорошо, Сулла, — сказал я, — об этом поговорим после. — И добавил: — После праздника. А теперь нам нужно заняться твоим одеянием и гримом. Пожалуйста, приступай, у нас не очень много времени.
Мне не пришлось повторять это дважды: Сулла поклонился и вдруг в несколько движений ловко скинул одежду, оставшись совершенно голым. Потом, ни слова ни говоря, взял коробку с гримом, сел в кресло у зеркала и сосредоточенно стал заниматься своим лицом.
Я опустился в свое кресло, развернув его так, чтобы не видеть Суллы — мне неприятно было смотреть сейчас на его наготу. Гнев то поднимался во мне, то стихал — Сулла снова унизил меня, в этот раз откровенно и нагло. Я ощущал себя так, будто не он передо мной, а я перед ним стою голым и беззащитным, и он издевательски внимательно рассматривает мою наготу.
— Я готов, император, — услышал я и обернулся.
Сулла стоял в парике, с гримом на лице, и губы его
были раздвинуты в едва заметной улыбке. Я хотел сказать ему (должен был сказать), чтобы он примерил императорское одеяние, но я только смотрел на него и не мог вымолвить ни слова.
Я смотрел на него не отрываясь, и мой взгляд был прикован к его губам. Мне казалось, как и тогда, когда я рассматривал скульптуру, что губы незаметно, но явственно раздвигаются, превращая улыбку в гримасу. Красные, грубо размалеванные губы на чужом безжизненном лице.
«Ты умрешь», — произнес во мне как будто чей-то голос. То ли мой, то ли не мой — я не сумел понять. Как и не сумел понять того, кто же умрет: я или Сулла?!
Меня охватил страх, и, не помня себя, я выкрикнул:
— Ты! Ты!
— Нет, император, — услышал я голос Суллы как будто издалека, — это ты, а не я.
— г- Что? Что ты говоришь! Что ты… имеешь в виду?
— Я имел в виду, император, — сказал он, теперь уже открыто улыбнувшись и пожав плечами, — что я так похож на тебя, что это уже не я, а ты. И ты смотришь не на меня, а на самого себя.
— Да, да, — отрывисто и не понимая, что говорю, сказал я. — Ты прав. Конечно. — И, махнув на него рукой, добавил: — Хорошо, иди. Возьми мое одеяние, примеришь его у себя, я не буду смотреть. Иди, прошу тебя.
Я не дождался его поклона, подошел к столу, сел, обхватил голову руками.
С той самой минуты страх больше не отпускал меня. То он делался совсем невыносимым, то чуть ослабевал, но не оставлял меня, поселился во мне, как болезнь — неизлечимая, тягостная, непременно ведущая к смерти.
Прежде я тоже боялся смерти, но не так, как сейчас. И даже я страшился не смерти, а покушения на мою жизнь: взмахов рук, ударов кинжалами, криков, боли, крови. Боли, наверное, сильнее всего боялся. Сейчас этой боязни не было уже. Возможно, она еще где-то жила во мне, но глубоко и была перекрыта новым страхом. Смерть представлялась мне бездной — пустой, черной, холодной, бездонной, куда я упаду и буду лететь — одинокий, никому не нужный, никого и ничего не видящий. Буду лететь вечно и никогда не достигну дна. Я сам, своими руками открыл эту пропасть, заглянул в нее, и теперь она не отпускала меня, втягивала в себя неумолимо. Я мог думать об этом или не думать, бояться или не бояться, изображать, что все идет по-старому, доказывать себе, что никакой опасности нет, что все придумано мной самим. Я мог делать и думать все что угодно, а смерть — черная пропасть — делала свое. Я уже приблизился к ее краю, мне оставалось сделать всего один шаг, чтобы нога моя больше никогда не ощутила тверди.
Все было готово к действу, которое я придумал. Ничего уже невозможно было остановить. Явился архитектор и сообщил мне, что все готово, все устроено так, как я приказывал, и спросил, буду ли я присутствовать на репетиции. Я смотрел на него, не понимая, что же он от меня хочет и при чем здесь какая-то репетиция.
— Нет, нет, не буду, — проговорил я, отмахиваясь от него и не вполне понимая, от чего отказываюсь.
Он ушел смущенным, как видно приняв мое недовольство на свой счет.
Я долго сидел один, глядя в одну точку, ни о чем не думая и ощущая только, как во мне шевелится страх.
Услышал шорох у двери, обернулся. Слуга осторожно сказал, что пришел начальник хора, которого я вызвал: ему уходить или ждать? Я сказал, что пусть войдет, хотя и не помнил, как вызывал его.
Он вошел, и я спросил его, чего он хочет. Почему-то он принял мои слова за шутку и широко мне улыбнулся. Стал говорить, что все готово и мой текст столь хорош, столь великолепен, что сам по себе, безо всякого усилия, врезается в память. Я не позволил ему распространяться в похвалах, а строго спросил:
— Никто из участников хора за это время не покидал отведенного им помещения?
— Нет, нет, император, — вскинув руки и помахав ими перед собой, заверил он меня, — никто никуда не выходил, я сам строго следил за этим. Я следил Также, чтобы никто ничего не понял, а только чтобы я один…
— Как же ты мог уследить за этим? — надвинувшись на него, зло выговорил я. — Ты что, им внутрь головы заглядывал?
— Нет… но я… — бормотал он в испуге, только чуть отклоняя от меня лицо, но не решаясь попятиться.
— А ты, значит, хорошо все понял, — в том же тоне продолжал я, — если следил, чтобы не поняли они?! Ну, говори же!
— Нет… то есть да…
— Ах, вот как! А знаешь ли ты, несчастный, что ты проник в важную государственную тайну? Скажи, кто-нибудь позволял это?
— Я думал… — побагровев, пролепетал он и жадно схватил ртом воздух.
— Ты думал. А кто тебе позволил выходить из помещения? Вот я прикажу придушить тебя здесь же, тогда ты поймешь, что такое государственная тайна и кто ты сам такой есть, чтобы быть ее обладателем. Да ты просто заговорщик, и тебе место не на празднике, а на перекладине!
Он, разумеется, был не виноват, но мне необходимо стало отвести душу. Неожиданно он упал передо мной. Даже не упал, а рухнул — сначала на колени, а потом просто лег на пол. Все тело его сотрясала дрожь. Он был толст, с мясистым лицом, и мне показалось, что его хватит удар. Это оказалось бы очень некстати сейчас. И хотя я был так раздражен, что мне хотелось пнуть его ногой, я нагнулся, взял его под мышки и помог подняться. Он оказался очень тяжел, и, когда он наконец встал на ноги, а я отпустил его, я сам дышал тяжело и, наверное, как и он, покраснел лицом. Он все что-то порывался сказать мне, но губы его дрожали, в углах их выступила пена, и он смог воспроизвести только невнятные междометия.
— Успокойся, — говорил я ему более с досадой, чем успокоительно, — никто тебя не тронет. Ты будешь вознагражден, я сделаю тебя начальником над всеми хорами империи. Успокойся, ты слышишь меня?
Он слышал, поминутно кивал (но, может быть, просто тряс головой) и наконец смог выговорить:
— Я хотел… хотел…
— Да, да, я знаю, — успокоил я его, — ты все правильно хотел, это я не понял тебя. Иди же, иди и делай, что делал, — завтра праздник.
Я крикнул слуг и велел отвести его в помещение, где находился хор. Слуги взяли его под руки, повели к двери. Он скреб носками сандалий по полу и все порывался обернуться и сказать мне что-то.
Когда его вывели, я с грустью подумал, что убиваю все, к чему ни прикоснусь.
Наступил день праздника. С утра я чувствовал себя разбитым, хотя проспал довольно много. Все мне казалось, что я не сделал чего-то важного, и никак не мог сообразить чего. Понял только к полудню, когда ко мне пришел Сулла показаться в одежде императора. Не помню, звал я его или нет, но встретил его если и не с откровенной радостью, то по крайней мере вполне благосклонно. Он был в парике, гриме (в этот раз грим был наложен аккуратно), подобранный, строгий. Я осмотрел его внимательно, нашел, что он совсем на меня не похож, но сказал обратное: очень даже похож. Он ничего не ответил, а только кивнул. Я еще раз напомнил ему весь порядок действий и где буду ждать его, когда все, закончится. Он снова кивнул — он явно не хотел говорить со мной. Что ж, нам в самом деле говорить больше было не о чем, и я отпустил его жестом руки.
А вот когда он ушел, я вспомнил, что же мне нужно было сделать, что томило меня с самого утра. Дело в том, что я поручил Сулле (кому же еще я мог это поручить!) позаботиться о лошадях, провизии и обо всем, что нам понадобится в пути. Он договорился с неким продавцом, и мальчик, сын последнего, должен был ждать нас ночью в условленном месте, на той стороне Тибра, с лошадьми и поклажей.
Но вот теперь, увидев Суллу, я понял, что этот вариант мне не подходит и я сам должен позаботиться о своем уходе. Пусть первый вариант останется запасным, на всякий случай. Мало ли что может произойти!
Я взял охрану и выехал из дворца. Через час мы были на моей загородной вилле. Я отправил слуг, остался в комнате один и переоделся в одежду горожанина, которую, тоже на всякий случай, уже давно хранил там. Выйти незамеченным не составило большого труда: я хорошо знал свою виллу, а солдаты знали ее значительно хуже. Тогда же я подумал, что и убийца мог бы проникнуть внутрь достаточно легко, и, значит, моя жизнь при всей моей власти и при всей мощи империи, которая меня оберегала, стоила не очень дорого.
Довольно быстро я добрался до окраины города, нашел торговца лошадьми, сказал, что мой хозяин поручил мне купить лошадей, немного провизии и кое-что из того, что может понадобиться в пути. Торговец усмехнулся и спросил: далеко ли собрался ехать мой хозяин? Я понял, что он имел в виду, и сказал то, что он от меня ждал:
— Когда дома жена, до любовницы всегда путь неблизкий.
Мой ответ понравился торговцу, и он сказал, что может устроить все сам, и назвал цену. Цена была смехотворной, но я отчаянно торговался. Наконец мы сумели договориться, и он обещал ждать меня на южной окраине города в таверне «Три гладиатора». Он был очень доволен сделкой, по-видимому, решил, что прилично надул меня. И я, в свою очередь, принимал довольный вид, показывая ему, что получил все за бесценок. Он проводил меня до дверей, дружески похлопав по плечу на прощанье. Разумеется, он посчитал меня полным идиотом.
Я не боялся быть узнанным. Во-первых, кто же мог подумать, что император разгуливает без охраны в самом скромном платье, во-вторых, никто из людей, обитающих в этой части города, никогда не видел императора близко. Кроме того, я помнил, как мы когда-то свободно шатались по притонам с Эннией, и никому не пришла в голову мысль, что мы не те, за кого себя выдаем.
На обратном пути, правда, случился небольшой сбой: меня задержала у виллы моя же собственная охрана. А так как она состояла из солдат легиона, а не из гвардейцев, то некоторое время ушло на выяснение моей личности. Когда я было властно заявил, что я император, а потом попытался уйти, один из солдат больно схватил меня за руку и отшвырнул назад. Пришедшие начальник караула и управляющий виллы освободили меня. Я подошел к солдату, который так грубо обошелся со мной. Он был бледен и смотрел на меня неподвижно. Неожиданно для всех я поблагодарил его за службу и сказал командиру, что солдат достоин повышения. Все облегченно улыбнулись, кроме солдата, испуг которого, по-видимому, оказался слишком велик. Я подумал, как он в старости — если сумеет дожить до преклонных лет — будет рассказывать внукам, что смело отшвырнул самого императора, когда тот попробовал ему перечить.
Некому было спросить меня, как я вышел из дому и почему расхаживаю в такой одежде, — все-таки у императора есть свои преимущества: ему на задают неприятных вопросов.
Мы вернулись в Рим только с наступлением сумерек. Народ уже толпами валил за город, и мы не без труда добрались до дворца. Здесь меня уже дожидались Туллий Сабон с командирами когорт, сенаторы и прочие. Я ласково заговорил с Туллием, улыбнулся командирам, но все они смотрели на меня настороженно. Туллий спросил, кто будет сопровождать меня к месту праздника: они или солдаты легиона? Я сделал удивленное лицо:
— Не понимаю твоего вопроса, мой Туллий. Разве римский император уже лишился гвардии? Разумеется, преторианцы, и ты будешь идти рядом со мной.
Туллий смотрел на меня излишне внимательно, соображая своим неповоротливым умом, нет ли тут подвоха. Чтобы успокоить его, я добавил:
— Мы будем стоять полночи на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Еще никогда римские императоры не ставили гвардию столь высоко.
На его лице промелькнуло нечто похожее на высокомерие. Наверное, он полагал, что обманул меня. Но не это было главным. А главным было то, что тщеславие Туллия оказалось сильнее разума, ощущения опасности: даже похвала того, кого он так ловко обманул, была ему приятна.
Я улыбнулся ему, дружески потрепал за плечо, сказал, чтобы он распоряжался здесь по своему усмотрению и ожидал моего выхода. Он выглядел довольным и горделиво обвел взглядом всех, стоявших вокруг. На лицах сенаторов отразилось нескрываемое неудовольствие.
Пройдя к себе, я быстро переоделся. Мое одеяние и одеяние Суллы были совершенно одинаковыми. Я посмотрел на себя в зеркало и остался доволен.
Оглядел комнату, подумал, что, наверное, больше не увижу ее никогда, но не испытал ни грусти, ни сожаления. Стремление к гибели — пусть и притворной — было сильнее всего. Для меня самого эта притворная гибель не была таковой, а казалась настоящей, и больше всего на свете я желал, чтобы она скорее совершилась. Я ничего не взял на память, потому как — что же умирающий может прихватить с собой? Ничего не может, даже собственное тело. И я решительно вышел из комнаты.
Перед дворцом меня поджидали богато украшенные носилки, но я сказал, что пойду пешком. Туллий Сабон стал говорить мне, что так идти опасно: людей слишком много и будет трудно обеспечить мою безопасность в таких условиях.
— Не беспокойся, мой Туллий, — сказал я, пристально на него глядя, — римского императора хранят боги.
Такое мое заявление, конечно, звучало не очень убедительно, достаточно вспомнить судьбу моего предшественника, Тиберия. Впрочем, заговорщики тут были ни при чем, ведь это мы с Макроном благополучно задушили его.
Гвардейцы и солдаты легиона образовали вокруг меня квадрат, и мы стали продвигаться в сторону поляны, назначенной для праздника. Шли мы медленно, сквозь толпы народа громко приветствовавшие меня. Солдаты теснили толпу, раздавая удары направо и налево, но восторг людей от этого, кажется, возрастал еще больше. Туллий шел чуть позади меня, время от времени я ощущал его дыхание у самого уха. Ему ничего не стоило ткнуть меня кинжалом в спину, но я знал, что он никогда не решится на это прилюдно. Время от времени я оборачивался и смотрел на него. Его лицо было напряженным и даже, как мне показалось, чуть испуганным. Может быть, он боялся, что кто-то из толпы захочет покуситься на его собственную жизнь? Или он боялся за мою? Последнее выглядело особенно комично: охранять меня столь тщательно для того, чтобы через короткое время убить самому. Бедный Туллий, он не знал своей судьбы!
Наконец мы добрались до места празднества. Здесь стоял невообразимый шум, и даже крики радости по поводу моего прибытия тонули в нем. Казалось, весь Рим сгрудился на этой поляне, и я подумал, что наша столица не так уж густо заселена.
Вышки величественно поднимались над поляной. Хор уже выстроился под ними. Начальник хора ходил взад и вперед вдоль первой шеренги, как полководец накануне сражения. Сумерки уже сгустились в полную темноту, но бесчисленное количество факелов ярко освещало место действия. Мы прошли и остановились позади вышек, где было довольно темно и где со стороны поляны нас не стало видно. Я сказал Туллию, что пора начинать, и велел ему с командирами подняться на свою вышку. Мне показалось, что он был в некоторой нерешительности, как и подошедшие командиры. Вдруг мне почудилось, что они задумали покончить со мной здесь же, не дожидаясь начала действа. А почему бы и нет? Здесь это сделать было даже удобнее, чем на вышке. Признаюсь, холод пробежал по моей спине, и я невольно сделал несколько шагов в сторону, громко воскликнув:
— Архитектора и начальника хора срочно ко мне!
Насколько я мог понять и увидеть (здесь было
достаточно темно), командиры когорт этого не ожидали. В их группе произошло некое неопределенное движение, словно бы они не знали, бежать им, напасть на меня или оставаться на месте. Туллий Сабон отделился от них и приблизился ко мне. Когда до меня осталось еще несколько шагов, я быстро отошел назад, где оказалось значительно светлее, и уже что было сил закричал, срывая связки:
— Срочно ко мне! Срочно ко мне!
Туллий Сабон остановился и замер на месте. «Ко мне» прозвучало как призыв о помощи. Хотя, собственно, это так и было.
Архитектор и начальник хора уже бежали ко мне, когда я сказал, обращаясь к Туллию:
— Нечего тянуть, мой Туллий, — поднимайтесь на вышку, сейчас я отдам приказ начинать.
После секундного промедления он все же повиновался: махнул рукой командирам и сам пошел к вышке. У меня отлегло от сердца. Подошедшим архитектору и начальнику хора я не смог сказать ни слова, только непонимающе смотрел в их испуганные лица.
Я дождался, пока Туллий Сабон с командирами покажутся на площадке своей вышки, и, отпустив охрану, пошел к туннелю вышки императорской Здесь меня уже ждал Сулла: когда я приблизился, он неожиданно выступил из темноты. Он был точно в таком же одеянии, как и я, в парике и, кажется, в гриме. Но, конечно, рассмотреть его тщательно не позволяла темнота.
Должен заметить, что как только я увидел, что преторианцы во главе с Туллием Сабоном в западне, то тут же и потерял осторожность — передвигался в темноте свободно и беспечно. О том, что преторианцы могли нанять убийц или на меня могли напасть другие заговорщики (ведь ненавидящих меня было очень много), об этом я не думал.
Но когда я увидел Суллу, то вздрогнул, хотя сразу узнал его. Даже и сейчас, по прошествии стольких лет, не могу себе объяснить, почему я его испугался и, разговаривая с ним, стоял чуть поодаль, так, чтобы в случае чего суметь убежать или, по крайней мере, иметь такую возможность.
— Ты готов? — спросил я, и голос мой напрягся.
— Да, император! — ответил он, и мне показалось, что в его тоне проскользнула насмешка, — я готов выполнить все то, что ты приказал.
— Вот и хорошо, — произнес я, — тогда разойдемся.
— А твоя одежда, император? — вдруг напомнил он мне.
И правда, я совсем забыл о том, что мне необходимо переодеться. Я знал, что одежда лежит в нише, в начале туннеля, но проходить мимо Суллы, а тем более поворачиваться к нему спиной мне не хотелось. Я принял надменное выражение — хотя в темноте Сулла вряд ли смог его как следует рассмотреть — и сказал холодно и деловито:
— Хорошо, подай.
Он скрылся в туннеле и довольно долго не появлялся. Наверное, трудно искать в темноте, но об этом я не думал, а ждал чего-то нехорошего: вдруг Сулла выскочит оттуда не один или один, но с кинжалом в руке? Зачем Сулле нужно убивать меня, я не знал, но очень боялся. Сам не понимаю, зачем я остался ждать, а не сбежал отсюда. Наверное, тоже от страха.
Наконец он появился, держа в руках одежду. Он вышел как-то странно, с вытянутыми вперед руками.
— Стой! — остановил я его и отступил на шаг. — Положи!
Он остановился и, не сводя с меня взгляда, осторожно положил одежду на землю у ног. Не распрямился, а остался полусогнутым, настороженно глядя на меня снизу вверх.
— Теперь иди, — проговорил я с трудом, чувствуя, что голос плохо повинуется мне, — в туннель. Жди там и делай, как мы договорились.
Он медленно распрямился, как бы вытянув руки из-под одежды, лежащей у его ног, — они были пусты. Он словно бы нарочно, только для меня, пошевелил пальцами. Я облегченно вздохнул. Сказал еще с трудом, но уже значительно мягче:
— Иди, Сулла, скоро мы будем вместе. Иди, я буду ждать тебя.
Он поклонился, пробормотал что-то (я услышал только «император») и, попятившись, скрылся в темноте туннеля. Я не испытал ни малейшего сожаления от того, что через короткое время его уже не будет среди живых. Его, моего Суллы, единственного друга. О чем сожалеть, когда я умирал так же, как он. Или почти так же. Но ведь я, в конце концов, император, а кто он такой, чтобы умирать так же, как и я!
Все-таки с некоторой опаской я подошел к тому месту, где лежала одежда: помедлил, прислушиваясь и напряженно глядя в темноту, куда скрылся Сулла, потом быстро нагнулся, поднял одежду и отбежал в сторону. Совсем не задумываясь о том, что меня могут увидеть, я переоделся. В стороне были воткнуты в землю два горящих факела. Это сделали по моему приказу. Так же по моему приказу никто не смел подходить к вышкам с тыльной стороны — солдаты оцепления стояли так далеко, что не могли видеть, что делается здесь.
Шум на поляне стал стихать и в какие-то несколько мгновений стих вовсе. Наступила полная тишина, но длилась она всего несколько секунд. Послышался голос начальника хора, объяснявшего смысл праздника. Я вслушивался в то, что он говорил, напрягая слух. Подумал раздраженно: «Отчего он говорит так тихо?!» Если так плохо слышу я, находясь в каких-нибудь ста шагах от него, то как его смогут услышать те, кто стоит в толпе в середине поляны, уже не говоря о тех, кто находится в дальнем конце. И тут же я понял, что говорит он громко — голос его уже сорвался на хрип.
Все дело в том, что мы были не в театре, я не подумал об этом. В театре слышно каждое слово говорящего, пусть даже зрители сидят на самых высоких и отдаленных от актера местах. Но здесь была поляна, окруженная лесом, и слышимость оказалась совершенно иной. Надо было предусмотреть это заранее, теперь уже поздно.
Это новое обстоятельство несколько испортило мне настроение: все-таки мою гибель нужно было разыграть более совершенно. Я уже не различал, что говорит начальник хора, и понял, что он закончил, только тогда, когда услышал другой голос. Это был голос чтеца. Слышимость стала несколько лучше — у чтецов хорошо поставленный голос. Я разобрал начальные строки своих стихов.
Через мгновенье я забыл, где нахожусь. О боги, какое же это счастье — слышать свое сочинение в совершенном исполнении. А исполнение казалось мне совершенным. Я слушал и думал о том, что вот так же, как и я, воспринимают мою поэму толпы людей, стоявшие на поляне. Не видя их, но как будто ощущая каждого, я чувствовал, какое наслаждение я им доставляю. Представил, какие раздадутся крики восторга после того, как представление закончится. Как из толпы станут кричать: «Автора!», как я выйду к ним смущенный и гордый и как меня увенчают лавровым венком победителя[30]. Поэты будут завидовать мне, а люди, когда я буду проходить мимо, станут указывать на меня детям и благоговейным шепотом произносить мое имя. Я слушал, закрыв глаза, подняв голову к звездному небу, и истома наслаждения пронизывала тело от головы до пят.
Вдруг чтец как бы споткнулся на слове. Я вздрогнул и открыл глаза.
— Ехидны-гвардейцы, предатели Рима и чести… и пел с секундного молчания продолжил чтец, и голос его зазвенел.
Но это были последние строки, которые я уловил. Он продолжал, но я уже не слышал ничего — я смотрел туда, где на площадке вышки находились преторианцы. Как и я, они уже не слушали чтеца. Они оглядывались по сторонам, держась за ножны и обхватив пальцами рукояти мечей. Не было сомнений: они вели себя так, будто ожидали внезапного нападения. Туллий Сабон подскочил к железной двери и взялся за решетки обеими руками. Отсюда было хорошо видно, как он дергал дверь, пытаясь ее открыть, и как это ему не удалось. Он повернулся, что-то сказал гвардейцам, некоторые из них бросились к нему и навалились на дверь.
В ту же самую минуту со стороны поляны донеслись крики, тут же потонувшие в общем шуме толпы. Я не мог понять, почему кричат люди, но невольно направил взгляд на площадку императорской вышки: там уже стоял Сулла — я пропустил момент, когда он входил в дверь. Сулла должен был стоять на площадке в величественной позе императора, но он почему-то не стоял, а раскачивался из стороны в сторону, совершая руками какие-то нелепые движения.
Я сделал несколько шагов вперед, чтобы получше разглядеть его, и едва не угодил в яму, наполненную горючим веществом. Раздался треск веток, маскировавших яму, и я едва успел убрать ногу. Я не мог встать поближе, но и с этого места императорская площадка была хорошо видна. Я не мог оторвать взгляда от стоявшей на ней фигуры в императорской одежде, совершавшей руками, а теперь уже и всем телом нелепые и даже уже стыдные движения. Кривляясь, фигура повернулась в мою сторону, и я ясно увидел, что это не Сулла. Парик был сбит набок, а лицо грубо и вызывающе размалевано.
Не могу сказать, продолжал ли декламацию чтец, вторил ли ему хор, но если они и продолжали, никто их уже не слушал. Шум вокруг стоял невообразимый. Но посреди этого шума я смог расслышать громкий крик Туллия. Может быть, там были какие-то слова, но до меня донесся только крик — страшный, звериный. Я посмотрел: Туллий стоял у перехода на площадку императорской вышки, указывал рукой на кривляющегося там человека, и преторианцы плотной группой стояли за его спиной. В следующее мгновение я бросился к факелам, воткнутым в землю. Схватил оба, добежал до края ямы и сунул их под маскировочные ветки.
Никак не ожидал, что огонь вспыхнет так быстро. Не прошло и нескольких мгновений, как пламя вырвалось наружу и поднялось над ямой едва ли не в человеческий рост. Оно облизало опоры вышек, и сухое дерево загорелось, как солома. Жар сделался нестерпимым, и я отбежал от ямы, успев увидеть только, как преторианцы перебегают на площадку императорской ложи. Вдруг позади меня раздался скрежет. Я резко повернулся и отпрыгнул в сторону.
И сразу же увидел свою статую, медленно поднимающуюся над ямой на конце длинной стрелы. Шестерни механизма скрипели и скрежетали так пронзительно, что заглушали крики на поляне и треск огня. Но я не смотрел уже ни на пламя, ни на вышки, заслоненные им, я смотрел на поднимающуюся вверх статую, зловеще освещенную бегающими отблесками огня. Вот только теперь мне сделалось по-настоящему страшно.
Распятая мраморная махина висела едва ли не над головой, и строгое лицо императора, мое собственное лицо, спокойно взирало на то, что творилось внизу.
Не знаю, как это лучше объяснить, но собственное мое существо как бы покинуло меня и по линии взгляда перетекло в статую. Теперь я сам стал мраморным изваянием, висящим над пламенем. Подо мной были вышки и поляна, на которой метались люди, давя друг друга. На площадке императорской вышки шевелился клубок тел как единое живое существо со множеством рук и ног, дергающихся в разные стороны.
Я был спокоен. Я был удивительно спокоен. Так я не ощущал себя никогда прежде. Я спокойно подумал о том, что теперь я настоящий, а не придуманный бог: всесильный, равнодушный, бессмертный, взирающий с недосягаемых высот на суетливое людское копошение Это были великие мгновения счастья, и я, смертный, сумел познать его. Такие мгновения стоят долгой и так называемой счастливой человеческой жизни.
Вдруг мраморное мое тело качнулось, что-то треснуло позади меня — и я полетел вниз с раскинутыми в стороны руками. Мне не было страшно в тот миг, когда я летел в огонь. Но стало страшно уже в следующий миг, когда мое существо возвратилось в мое прежнее тело. Я, Гай Германик, стоял на земле, а моя статуя в виде распятого на перекладине бога медленно, как бывает во сне, падала вниз. Она рухнула в яму, а искры поднялись до небес. Частицы веток, пропитанные горючим веществом, падали на меня и вокруг. И я, обезумевший от ужаса, бросился бежать, не сознавая, куда бегу, без надежды спастись от этого падающего с небес огня.
Я смог добежать только до кромки леса и, споткнувшись, с размаху упал на живот, больно ударившись о землю. Не могу сказать, сколько я пролежал здесь, наверное, недолго. Когда поднял голову и огляделся, увидел, что вокруг меня дымится земля. Огонь был где-то позади, и крики сюда доносились глухо. Я подтянул ноги, встал на четвереньки, только потом с трудом поднялся. Стоял, покачиваясь и боясь одного: что не удержусь и снова упаду на землю. Если упаду, то уже не поднимусь никогда. Развел руки в стороны и сделал осторожный шаг вперед, потом еще и еще… Так я добрался до ближайшего дерева и обхватил ствол руками.
— Га-ай! — услышал я донесшийся до меня крик и через короткое время снова, еще протяжнее: — Га-ай!
Я боялся разжать руки и, насколько возможно вывернув шею, посмотрел за спину. Кто-то в белом длинном одеянии шагах в семидесяти от меня стоял на поляне. Пламя освещало его сзади, в правой руке он держал короткий меч. Я видел его достаточно ясно, хотя лицо было в тени. Он повернулся в одну сторону, потом в другую, резко взмахнул рукой и, разрубив мечом воздух, прокричал, кажется сотрясаясь всем телом:
— Гай, я убью тебя! Я убью тебя, Гай!
Проклятый Сулла! Я еще плотней прижался к стволу, как бы желая слиться с деревом.
— Я убью, убью, убью тебя! — кричал Сулла.
Но я уже не смотрел на него. Осторожно перебирая ногами и раздирая о кору прижатые к стволу ладони, я передвинулся так, чтобы ствол прикрывал меня от него. Я напряженно вслушивался, упершись взглядом в ствол, но больше не услышал крика.
Когда я наконец решился и выглянул, его уже не было на поляне. Я с усилием разжал руки и, спотыкаясь на каждом шагу, пошел в глубину рощи. Падал, лежал ничком на земле, вставал, шел, падал опять…
Когда вышел к реке, уже светало. Припав ртом к воде, я жадно и долго пил, как загнанное животное. Потом сел, тяжело дыша и опершись о землю руками, потом поднял голову. В небе над рощей поднимались и падали багровые сполохи огня, и мне казалось, что горит само небо…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ (Из воспоминаний Никифора Тирского)
Я человек ничем не примечательный, всего лишь жалкий раб Господа нашего Иисуса Христа. Иные говорят обо мне как о великом проповеднике и человеке святой жизни. Но я — пыль в глазах Господа, а земная слава есть одна только тщета. Да и о какой славе я говорю, когда нас гонят повсюду и предают страшной смерти, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Община наша мала и немноголюдна, и мы живем, как горстка овец среди сонмища волков. Но я не ропщу, потому что вера в Господа и служение Ему есть единственное счастье человека. Жаль, что это понимают столь немногие.
Придет время, и я опишу все страдания и все победы нашей веры, хотя лучше об этом скажут другие, те, кто праведнее и достойнее меня. Я же хочу рассказать о том, как Господь призвал меня к служению Ему. Может быть, моя история будет кому-то полезна и направит еще сомневающихся на путь истины. Никто не ведает, куда повернется и к чему выйдет его жизнь, это знает только Господь, потому что пути Его неисповедимы. И только Он знает, кто и каким путем приведет человека к истине
Такой человек был в моей жизни, и я ему многим обязан, хотя зла в нем было значительно больше, чем добра, Вернее, он весь был сложен из зла, но при этом… Впрочем, лучше обо всем по порядку.
Отец мой был грек, мать — еврейка. У отца была шерстобитная мастерская, и некоторое время, пока дела шли хорошо, они жили в Иерусалиме[31]. Они переехали в Тир[32] незадолго до моего рождения. В ту пору дела в мастерской отца пошли значительно хуже, а когда мне минуло десять лет, он почти совсем разорился. Нас было восемь человек детей, и жили мы впроголодь. Я был третьим ребенком. Все мы, старшие дети, помогали отцу, но жизнь наша не делалась лучше. Мать бралась за любую работу, а отец совсем пал духом и часто болел. И вот, когда мы дошли до настоящей нищеты, в нашем ломе появился этот человек.
Он был не стар, лет тридцати пяти или сорока, одет не очень богато, но вполне достойно. Правда, казался он старше своих лет: в длинной редкой бороде было много седых волос, а лоб прорезали глубокие морщины, и взгляд его голубых глаз был очень усталым.
Не знаю, как он попал к нам, но пробыл у нас два дня и две ночи. Спал он на постели родителей, а они на это время ушли в сарай, где стояла лошадь гостя. Утром третьего дня отец позвал меня и в присутствии этого человека стал говорить, что хочет отдать меня ему в учение. Я не очень понимал, что это должно означать, и смиренно слушал отца. Отец говорил довольно долго, а потом спросил, согласен ли я пойти с этим человеком? Я сказал, что сделаю так, как хочет отец.
— У тебя послушный сын, — сказал гость, повернувшись к отцу.
Отец ничего не ответил, я заметил, что он как будто чем-то недоволен, но не хочет, чтобы гость видел это.
Тогда тот обратился ко мне:
— Скажи, как тебя зовут?
— Никифор, — ответил я.
— Хорошее имя, — улыбнулся он и, шагнув ко мне, положил руку на мое плечо.
Рука его была тяжела, он сжимал плечо пальцами, будто испытывая его крепость. Мне стало больно, я попытался отстраниться, но он не отпускал меня. Я посмотрел на отца, но тот отвел взгляд в сторону, будто ничего не заметив.
— Никифор, — сказал гость, наконец выпустив мое плечо, — теперь ты будешь жить со мной. Ты ни в чем не будешь нуждаться, но я хочу одного — чтобы ты был послушен. Скажи, ты будешь слушаться меня?
Я снова посмотрел на отца. Лицо его было как из камня, я никогда его таким не видел.
— Ну, — настаивал гость, — говори!
Вместо меня ответил отец:
— Он будет, — глухо произнес он и почему-то покачал головой.
— Хорошо, — сказал гость отцу, — пусть он идет пока. Будем считать, что мы договорились. Я беру его. Мы уедем сегодня же.
Отец сказал, чтобы я вышел. Я повиновался, но, выйдя из комнаты, неплотно прикрыл дверь и слышал весь их разговор. Я не все понимал, о чем они говорили, но было достаточно того, что понял. Выходило, что отец продает меня за деньги и что гость дает за меня очень крупную сумму. Отец просил добавить еще золотой, но гость упорствовал и говорил, что и того, что он дал, хватит нашей семье на несколько лет безбедной жизни. Отец вяло возражал, и мне было неприятно слышать его голос. Я так и не понял, сумел ли отец выпросить лишний золотой или нет, потому что в эту минуту меня позвала мать. Когда я подошел к ней, она молча обхватила мою голову руками, крепко прижала к груди и заплакала. Ее слезы капали мне на макушку.
Сборы были недолгими, но прощание тягостным и надрывным. Мать плакала в голос и заламывала руки, отец был бледен и стоял, низко опустив голову. Мои братья и сестры обступили меня и стояли молча, кажется, плохо понимая, что происходит и почему этот чужой, с тяжелым взглядом человек увозит меня с собой.
Не могу сказать, что в ту минуту я был очень расстроен. Если бы не причитания матери, то я и совсем бы не плакал. Я чувствовал себя значительно взрослее братьев: не их, а меня выбрал этот человек, не у них, а у меня начинается настоящая взрослая жизнь. Но когда мы отъехали — гость посадил меня перед собой на седло — и я оглянулся, слезы затуманили мои глаза. Я вдруг ясно почувствовал, что, может быть, уже никогда не увижу ни родного дома, ни родителей, ни братьев и сестер. Кто же мог знать, что детское предчувствие меня не обмануло. А мой новый хозяин, словно бы поняв то, что со мной происходит, пришпорил лошадь, и через пару минут мы уже были далеко.
Моего хозяина звали Гай. Я долго не мог понять, чем же он занимается, то есть каким ремеслом. Он не походил на ремесленника, а скорее был похож на торговца, но только ничем не торговал. Мы переезжали из города в город, из селения в селение и нигде не задерживались больше одной ночи. Чаще всего мы ночевали на открытом воздухе, прямо в поле, а если попадался лес, то в лесу (лес в наших местах попадается крайне редко). Мы передвигались довольно быстро — в первом же городе Гай купил для меня лошадь — и за довольно короткое время изъездили полсвета. Кесария, Иерусалим, Вифлеем, Александрия, Эдесса, Самосата[33] — это перечень только крупных городов, где мы побывали.
Гай был человеком суровым, требовательным, но при этом обращался со мной вполне хорошо и не бил даже за серьезные проступки. Впрочем, я был послушным ребенком и по-своему привязался к нему. Я готовил еду, стирал, ухаживал за лошадьми и выполнял всякие другие его поручения. Он сам обучил меня всему, ругал, когда я делал что-то плохо, и хвалил, когда делал хорошо. Вообще-то он был справедливым человеком и никогда не бранил меня зря.
Так прошел год, другой, третий. Я быстро рос и в свои четырнадцать лет чувствовал себя вполне взрослым. Я уже не думал, чем занимается Гай, потому что он ничем не занимался, а только путешествовал. Это было странное занятие, но тогда я еще не понимал этого.
Одевались мы хорошо, ели всегда сытно и никогда не мерзли — что еще нужно человеку, чтобы быть счастливым! Сначала я тосковал по дому, но потом привык к новому своему существованию и не представлял себе, как можно жить по-другому.
Признаюсь, мой хозяин очень меня интересовал, особенно когда я стал взрослее и привык к нему. Во-первых, он знал довольно много языков, но особенно чисто говорил на латинском. Здесь, на Востоке, никто так хорошо не изъяснялся на латыни, кроме разве римских чиновников. Но они стояли так высоко над всеми, что казалось, их и нет вовсе. Другие наречия он знал хуже и иногда спрашивал меня, что означает то или иное слово.
Во-вторых, в каждом крупном городе, куда мы приезжали, он отыскивал какую-нибудь религиозную общину и, хотя сам не участвовал в диспутах, очень внимательно слушал. Таких общин на Востоке бессчетное множество, и у каждой свои верования. Теперь-то я понимаю, как были они все слепы и глухи, проповедуя и отстаивая каждый свое, когда истина была уже открыта. Но тогда я этого не понимал и был ко всему этому равнодушен. Но Гая, напротив, все это очень интересовало, и порой мне казалось, что вся его жизнь только и состоит из удовлетворения такого интереса.
В-третьих, Гай все время что-то писал, занимаясь этим в любую свободную минуту, порой даже пренебрегая едой и сном. Мы возили с собой большое количество свитков и письменных принадлежностей, причем пергамент он покупал самый дорогой, самого лучшего качества. Он очень дорожил написанным и, когда ложился спать, всегда клал свитки у изголовья, а засыпал, положив на них руку. Я долго не понимал, чего он боится — разве это кому-нибудь могло быть нужно!
И, в-четвертых, самое главное. Не сразу, но по прошествии довольно долгого времени мне стало казаться, что мы от кого-то бежим и кто-то невидимый все время преследует нас.
Об этом нужно сказать особо. Я уже говорил, что мы никогда не оставались на одном месте больше одной ночи. Бывало, что мы жили в городе неделями, но место ночлега меняли каждый вечер. Это было очень неудобно — всякий знает, что такое переезд. Хотя вещей у нас набиралось не так уж много, но все равно переезжать каждый раз на новое место было обременительно. Конечно, со временем я привык к этому, и все же…
Но переезды тут не самое главное, а самое главное состояло в том, что Гай вел себя крайне осторожно. Скажу более, настороженно. Мне казалось, что он ни-когда не знает покоя. Если мы прибывали на постоялый двор, то, прежде чем поселиться, он внимательно осматривал все помещения, вглядывался в лица людей, долго и подробно о чем-то расспрашивал хозяина. Только убедившись, что все в порядке, он оставался там на ночь.
Он все время был в напряжении, даже когда мы останавливались в поле и вокруг не было ни души. Сначала я думал, что он боится разбойников, но оказалось, что я ошибался, потому что когда мимо нас проезжало или проходило несколько человек, он оставался спокойным, но стоило появиться одинокому путнику — все равно, пешему или конному, — как Гай вставал и незаметно клал руку на меч, который всегда возил с собой. И пока путник не проезжал или пока он не видел ясно его лица, он пребывал в напряжении. Я называю это напряжением, но правильнее сказать, что это был страх.
Хотя должен заметить, Гай не был трусливым человеком, в чем мне не раз пришлось убедиться. В путешествиях случается разное, и на нас неоднократно нападали. Правда, больше трех нападавших не было никогда, но Гай умел справиться с тремя Он ловко орудовал мечом и делался столь неистовым в драке, что те из нападавших, кого он сразу не убил, бежали в страхе. Я и сам боялся его неистовства, при том что в отношении меня он никогда его не проявлял.
Я даже стал думать, что, может быть, Гай какой-нибудь государственный преступник, скрывающийся от властей? Но от властей он особенно не скрывался, да и на преступника не был похож.
Было еще одно странное обстоятельство — у Гая никогда не кончались деньги. То есть, возможно (и даже наверняка), они и кончались, но откуда-то прибывали снова. Потому что не носил же он все деньги с собой. Я не один раз — сейчас мне стыдно вспоминать об этом — рылся в его вещах во время его отсутствия, но никаких денег не находил. Я знал, что у него под платьем на поясе висит кожаный кошелек, но туда могли поместиться от силы несколько золотых. Впрочем, золотыми он никогда не расплачивался, а только мелкими монетами. Это и понятно: опасно, если кто-либо видит, сколько у тебя денег.
Мне страшно хотелось расспросить его обо всем этом, любопытство временами просто съедало меня, но я не смел. Достаточно было встретиться с его взглядом, чтобы отпала всякая охота задавать ненужные вопросы.
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, Гай взялся учить меня латыни. К тому времени я уже кое-что знал, но теперь учение было настоящим, серьезным Он был хорошим учителем, терпеливым и одновременно требовательным, а я — говорю без ложной скромности — оказался способным учеником. Он и сам говорил мне не раз:
— Я очень рад, мой Никифор, что взял у родителей тебя, а не кого-то из твоих братьев. Клянусь Юпитером, никто из них не смог бы превзойти тебя в таланте учиться. Учись, слушайся меня, и со временем ты станешь моим наследником, ведь я совсем одинок.
Однажды он сказал мне:
— Жаль, Никифор, что ты так поздно родился, а мы так поздно встретились. Если бы ты родился на десять лет раньше, ты мог бы познать совершенно другую жизнь и увидеть меня в таком величии, какого ты и представить себе не можешь.
— А какое это величие? — наивно спросил я.
— Смотри в пергамент, ты снова наделал ошибок! — раздраженно проговорил он вместо ответа, — Придется переписывать заново.
Такие его внезапные переходы от благодушия к раздражению, а то даже и гневу (бывало и такое) отбили у меня охоту спрашивать его о прошлом.
Обучение мое продвигалось успешно, с некоторых пор он стал говорить со мной только на латыни, и, когда я путал слова или употреблял неправильный оборот, он сердился, но все же терпеливо поправлял меня. Когда же я говорил правильно, а особенно когда правильно понимал, он был очень доволен и не скупился на похвалы. Полагаю, ему просто нужен был собеседник, говорящий с ним на родном языке. А то, что латынь его родной язык, у меня больше не было сомнений.
Всякое знание требует применения, и я уже довольно легко справлялся с латинскими авторами, сочинения которых покупал для меня Гай. Он не скупился, хотя сам никогда не читал и отзывался о писателях с нескрываемым презрением, называя их дурными актерами, не нашедшими применения на сцене и потому пишущими для других. К слову сказать, это было не самое резкое определение, которое он им давал.
Я же, напротив, чем больше совершенствовался в латыни, тем более увлекался чтением и просил Гая купить мне еще. С некоторых пор я стал свободно ориентироваться в сочинениях современных и старых авторов и даже мог читать длинные поэмы.
Гай не очень любил слушать мое чтение вслух, быстро утомлялся, и лицо его делалось сонным. Но зато он любил, когда я пересказывал прочитанное своими словами. Внимательно слушал, переспрашивал содержание отдельных эпизодов, просил меня рассказывать еще и еще. К слову сказать, я делал это охотно.
Такое его поведение несколько удивляло меня: мне всегда прежде казалось, что он хорошо образованный человек. Впрочем, все познается в сравнении, и когда я узнал многое и о многом, я понял, что Гай знает мало и никакого особенного образования не получил. Мне стало казаться, что он не обучен самым простым вещам, и я даже ощущал в отношении его некий род превосходства.
Но только временами и только некоторое время. Дело в том, что в Гае было нечто такое, чего я не знал, не понимал и чему — не побоюсь сказать — по-настоящему завидовал. Это трудно объяснить, но был в нем некий род величия, которое отличало его от других: и очень богатых, и очень образованных. Порой, когда он смотрел на человека, тот чувствовал — и это было довольно заметно — нечто подобное страху или смущению. Или тому и другому вместе. Не стану говорить, что люди трепетали перед ним, но некоторый неосознанный трепет все-таки испытывали. Испытываемый людьми трепет иногда выливался в подобострастие, а иногда в злобу. Но разве в этом дело! Гай вел себя и держался так, будто был по меньшей мере властелином мира, причем настоящим, а не придумавшим сам себя.
Я полагал, что если прочитаю то, что он пишет, то смогу понять в нем многое, если не все, но добраться до его сочинения было крайне трудно — чтобы не сказать: невозможно. Он не любил, когда я находился рядом во время его писаний, и всегда отсылал меня куда-нибудь или что-то поручал делать. Если он сам уходил, а я оставался то он непременно брал написанное с собой. Такое его поведение сделало мое любопытство особенно сильным, но я так и не смог тогда удовлетворить его.
Прошло еще время, мне минуло семнадцать лет. Я уже не был тем наивным мальчиком, который уехал неизвестно с кем и неизвестно куда Гай перестал быть для меня просто хозяином — я чувствовал в себе мужскую силу, а знания, которые я получил, читая литературные произведения, придавали мне уверенности в себе и порождали чувство собственного достоинства. Нет, я не перестал уважать Гая и подчинялся ему практически беспрекословно, но все же наши отношения стали другими. Он и сам уже не относился ко мне, как к мальчику, и в его приказаниях и наставлениях была та мера осторожности, которая указывала на то, что он учитывает и мой возраст, и мое ощущение самого себя.
Как-то он сказал мне:
— Послушай, Никифор, может быть, тебе лучше вернуться в родительский дом? Ты уже далеко не мальчик, скоро станешь настоящим мужчиной, ты достаточно хорошо образован и найдешь себе лучшее применение, чем без конца путешествовать со мной. Я вижу, что тебе скучно, что наша жизнь и я сам надоели тебе. Скажи прямо, не нужно стесняться. Я дам тебе денег, на первое время тебе вполне хватит, а там… Скажи, что ты думаешь об этом?
Я ответил не сразу. Он угадал — я в самом деле часто думал о том, чтобы покинуть Гая и жить самому (признаюсь со стыдом, что о родительском доме и своих родных я не думал вовсе, будто их и не было никогда у меня). Мне в самом деле несколько наскучила такая жизнь, моя молодость требовала развлечений, любви и всего того, чем тешится несовершенная человеческая натура. Мне представлялось, что, когда я стану свободен от Гая, у меня начнется другая, замечательная и интересная жизнь.
Но так я думал, пока молчал Гай. Но лишь только он сказал о том, о чем я думал сам, как я испугался: как же я буду без него? Все-таки за эти годы нашего бесконечного путешествия я повидал довольно много, и жизнь людей вообще не представлялась мне легкой. Эта наша с Гаем жизнь, несмотря на постоянные переезды, была более или менее беззаботной: нам не нужно было думать о заработке, у нас всегда были деньги. Мы не знали, что такое изнуряющий каждодневный труд и думы о завтрашнем дне. Несмотря на свою молодость, я все это достаточно хорошо понимал.
Я испугался еще и того, что подумал: Гай не хочет, чтобы я был с ним. Возможно, для него я уже не очень удобный спутник и, расставшись со мной, он снова возьмет какого-нибудь маленького мальчика из бедной семьи.
— Ну, Никифор, что же ты молчишь? — повторил он. — Отвечай же.
— Ты хочешь прогнать меня, — проговорил я с настоящим, а не притворным чувством, опустив голову, — я тебе больше не нужен.
Я не видел его лица, но по чуть слышному звуку, который сорвался с его губ, понял, что он усмехнулся. Я хорошо знал Гая, и, когда уловил этот звук, у меня отлегло от сердца. Я не ошибся, и он сказал:
— Нет, Никифор, мне хорошо с тобой. Скажу больше, я к тебе привязался. Но мне казалось, что я наскучил тебе.
— Нет, нет! — вырвалось у меня. — Ты не можешь мне наскучить.
Он посмотрел на меня пристально. Я понимал, что он знает обо мне больше, чем я говорю; порой мне казалось, что его и вообще невозможно обмануть — его взгляд проникал в самое сердце.
— Хорошо, Никифор, — проговорил он, отвернувшись, — тогда собирайся, нам пора ехать.
Сначала мне казалось, что мы путешествуем без всякого плана. Впрочем, когда я был моложе, я просто не задумывался над этим. Но, став старше, я увидел, что мы посещаем города с определенной периодичностью. Некоторое время я не придавал этому значения, но потом стал думать, что все это неспроста. Антиохия[34], Самосата, Эдесса, Пальмира[35], Иерусалим, Александрия: мы двигались как бы по кругу (я здесь не называю более мелкие населенные пункты). Но мало того что в наших передвижениях был свой маршрут и особая система — тут было еще что-то. Дело в том, что обязательно по прибытии в очередной город Гай оставлял меня одного на довольно продолжительное время и непременно под вечер. Куда он уходил и зачем, я не знал, не мог догадаться, а спрашивать его, разумеется, не смел.
Я не имею в виду здесь те часы, которые проводил Гай, слушая религиозные диспуты, а иной раз и участвуя в них. Во-первых, иногда он брал меня с собой, во-вторых, бывало, я приходил туда за ним, и он всегда оказывался на месте. Я имею в виду другое: в первый день прибытия в очередной город он оставлял меня, уходил, ничего не объясняя, и отсутствовал довольно долго. Возвращался всегда в хорошем расположении духа и, если мы ночевали на постоялом дворе, непременно заказывал хороший обед и делал мне мелкие, но приятные подарки.
Ходить с ним в общины я не любил. Меня утомляли скучные религиозные споры, тем более что многого я просто не понимал, а люди, занимающиеся этим, казались мне не вполне здоровыми. Но с тех пор, как меня заинтересовали вечерние отлучки Гая, я стал постоянно сопровождать его и терпеливо выслушивал все эти высокопарные глупости, что изрекали собравшиеся там люди, мнящие себя чуть ли не пророками. Должен заметить, что, когда говорил Гай — а случалось это крайне редко, — мне его слова глупостью не казались. Мысли и определения его были четкими, а вопросами он часто ставил в тупик своих самоуверенных собеседников. Но относились к нему там довольно хорошо и даже уважительно. Еще бы относились плохо — ведь всякий раз он покупал на свои деньги еду и питье для всех!
Однажды я спросил его, зачем он это делает, то есть зачем поит и кормит всех этих дармоедов? Он отвечал, что, во-первых, это его дело, а во-вторых, это он делает для себя, а не для них. Я не очень понял, что он имел в виду, но он больше ничего не сказал, а я постеснялся расспрашивать.
Я подозревал, что его рукопись тоже содержит какой-нибудь религиозный трактат, но, конечно, не был в этом уверен. Правда, с некоторых пор меня это меньше волновало, а я страстно желал другого: проникнуть в тайну его вечерних отлучек.
Долго я не решался проследить за ним, но любопытство стало сильнее страха. В тот раз мы прибыли в Эдессу, со всеми обычными предосторожностями поселились на постоялом дворе. Ближе к вечеру он собрался, дал мне несколько указаний по хозяйству и ушел. Я последовал за ним. Народу на улицах было много, и я боялся, что потеряю его в толпе, и потому шел за ним на довольно близком расстоянии. С другой стороны, люди на улицах прикрывали меня, и ему трудно было заметить слежку. Я был уверен, что он об этом даже не помышляет, ведь за все время пути он ни разу не оглянулся. Так мы вышли за город. Здесь следить за ним стало труднее, тем более что сумерки сгустились почти в темноту. Но его белое платье все равно хорошо виднелось, он шел в сорока — пятидесяти шагах впереди меня быстрым уверенным шагом, направляясь к роще за городом. Он все не оборачивался, хотя я каждую секунду ждал этого со страхом. Я решил, что если он обернется, то я тут же убегу, и он вряд ли сумеет понять в темноте, кто его преследовал.
Так мы вошли в рощу — он, потом я. Его белое платье мелькало среди деревьев, казалось, что он бежит, и я едва поспевал за ним. Вдруг он исчез, словно в одно мгновение растворился в темноте. Я в нерешительности остановился. Темнота, деревья вокруг, шум ветра в листве — все это страшило меня, и я пожалел, что пошел за Гаем. Но отступать было поздно, и, пересилив страх, я осторожно пошел вперед. Но удалось мне сделать всего несколько коротких шагов.
Внезапно меня сильно толкнули в плечо, я не удержался на ногах и с невольным стоном упал на землю. Тут же на меня навалилось чье-то тело, придавило, словно глыба камня, так что я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, и я почувствовал, как острое железо уперлось мне в шею. От страха и неожиданности я не смог даже закричать, уже не говоря о том, чтобы позвать на помощь. Острие все глубже проникало в шею, и я понял, что наступила моя последняя минута. И тут я выдохнул едва слышно, сам не понимая, что говорю:
— Га-ай!
— Мерзкий ублюдок! — услышал я голос Гая и ощутил его горячее дыхание. — Мерзкий ублюдок, я убью тебя!
Это был Гай, и я не понимаю, почему сразу этого не понял. Сказать, что он был в гневе, значило не сказать ничего — я видел, что он впал в свое страшное неистовство. Не отпуская меня, он приподнялся над моим лицом, ткнул рукой, в которой держал меч, и лезвие, скользнув по моей шее, глубоко ушло в землю.
До сих пор не могу понять: промахнулся ли он или сделал это нарочно? Он дернул меч на себя, и я скорее почувствовал, чем увидел его острие у самых моих глаз.
— Говори, ублюдок, — процедил он сквозь зубы, содрогаясь всем телом, — говори, кто послал тебя?!
— Я… я… — только и смог выдавить я.
— Нет, ты ответишь! — прокричал он так громко, что его крик непременно услышали в городе. — Кто послал тебя, кто нанял тебя и сколько тебе заплатили?! Говори, или ты умрешь сию же секунду!
При всем ужасе, который я испытывал, при всем оцепенении, в котором находился, я каким-то невероятным образом все же сумел сообразить, что если сейчас не отвечу, то умру теперь же. И я выдавил из себя, хрипя:
— Я сам… я хотел… мне было…
— Сам! Сам! — прокричал Гай надо мной, но я ощутил, что сказал самое верное из того, что можно было сказать.
Еще несколько мгновений острие меча подрагивало где-то у глаз, но вдруг Гай, опершись рукой о мою грудь, поднялся.
— Вставай! — выговорил он уже довольно спокойно, но все еще тяжело и прерывисто дыша. — Иди за мной!
И, повернувшись, он пошел по направлению к городу. Я торопливо поднялся и, зажав рану на шее рукой, потрусил за ним. Странно, но у меня ни на одно мгновение не возникло желания бежать, хотя я легко мог это сделать (Гай шел быстро и ни разу не обернулся). У меня не только не возникло такого желания, но я больше всего боялся, что он уйдет, а я останусь. Теперь я страшился потерять его из виду больше, чем тогда, когда следил за ним. Все тело мое содрогалось от боли и страха, а рука, которой я зажимал рану, была в крови — кровь прожималась сквозь пальцы и текла по запястью к локтю, — но я шел и шел, не в силах оторвать взгляда от белеющей впереди спины Гая.
Когда мы вернулись на постоялый двор, я едва передвигал ноги. Хозяин и другие постояльцы смотрели на меня со страхом, но никто из них не посмел спросить Гая, что со мной случилось. Гай обернулся ко мне и коротким движением руки приказал, чтобы я шел в нашу комнату, а сам что-то тихо сказал хозяину. Тот как будто переспросил, и тогда Гай громко и раздраженно ответил:
— Я же сказал — лучшего!
Только потом я понял, что разговор шел о враче. До его прихода Гай сам промыл мне рану и перевязал чистым холстом, который принесла жена хозяина.
Врач явился довольно поздно, он почему-то с опаской взглянул на Гая, а тот кивнул ему на меня. Увидев повязку, сквозь которую сочилась кровь, он удрученно покачал головой, но тут же принялся за меня и возился с раной до поздней ночи.
По-видимому, я потерял много крови, хотя рана не была глубокой. К тому же она загноилась, и мы пробыли на постоялом дворе больше недели. Это случилось впервые, когда мы пробыли больше дня в одном месте. Все эти долгие дни Гай выглядел очень озабоченным: то ли оттого, что рана медленно заживала, то ли оттого, что пришлось задержаться здесь. Он почти никуда не выходил, но мы не разговаривали. Врач посещал меня каждый день и все так же с опаской поглядывал на Гая. Он менял повязки, накладывал на рану какие-то резко пахнущие снадобья, заставлял меня открывать рот и показывать язык, хотя это всякий раз причиняло мне боль.
То ли врач был хорош, то ли молодой организм справился с болезнью, а скорее всего и то, и другое, но к концу недели я чувствовал себя уже довольно хорошо, стал вставать и выходить во двор. И когда на следующий день Гай спросил меня, в состоянии ли я ехать, я ответил, что чувствую себя вполне крепким. Он недоверчиво посмотрел на меня, но тут же стал собираться.
Еще через неделю я был совершенно здоров, и, если бы не рубец, который я случайно задевал время от времени и болезненно это ощущал, я бы и не вспоминал о ране.
Гай не заговаривал со мной о происшедшем, и это томило меня. Теперь он говорил со мной только по делу, да и то односложно: сделай это, купи то, пойди туда. Было бы значительно легче, если бы он напоминал мне о моем проступке. Он едва не убил меня, но я не чувствовал к нему ни злобы, ни обиды и винил только самого себя. Порой я тоскливо смотрел на него, и, когда наши взгляды встречались, мне порой казалось, что он вот-вот скажет мне то, чего я жду. Но он молчал и равнодушно отводил взгляд. Он даже не злился на меня, по крайней мере, никак злобы не показывал, и это был род пытки, которую он для меня придумал.
Не выдержав, я как-то сказал ему с горячностью:
— Я больше так не могу, Гай. Ну скажи хоть что-то, только не мучай меня. Если ты желаешь, я уйду, хотя мне не хочется расставаться с тобой. Я не хотел принести тебе вред, мне было просто любопытно.
Он ответил сразу и очень спокойно, будто не заметил моего состояния:
— О чем это ты? И я не хочу расставаться с тобой. Кстати, я заметил, что твоя лошадь хромает. Посмотри, что с ней, нам предстоит долгий путь.
С этого самого дня стена, разделявшая нас, постепенно делалась все тоньше и тоньше, пока не исчезла совсем, и мы словно бы вернулись в прежнюю колею нашей жизни: снова я читал своих любимых латинских авторов, пересказывал прочитанное Гаю, он с интересом слушал, а порой просил повторить. Я занимался нашим хозяйством, он все писал свое сочинение, и мы продолжали наше нескончаемое путешествие.
В тот раз мы прибыли в Антиохию. Остановились на постоялом дворе (думаю, излишне объяснять, что всякий раз мы останавливались у новых хозяев), и к вечеру Гай собрался и хотел было уйти. Но замешкался, не уходил, время от времени странно поглядывая на меня. Я понимал, что это та же самая отлучка, как и тогда, когда я пытался следить за ним, но я делал вид, будто ничего не понимаю, и с особенным рвением продолжал заниматься хозяйством. Он вышел, но тут же вернулся.
— Послушай, Никифор, — сказал он, пристально на меня глядя, — мне кажется, что тебе нужно развлечься.
— Развлечься? — не понял я.
— Да, развлечься, ведь у тебя совсем нет развлечений. Наши однообразные путешествия, я вижу, утомляют тебя. А ты молодой человек, тебе скучно с таким, как я. Я и сам был молод и хорошо это понимаю.
— Нет, Гай, — ответил я, по-видимому, более горячо, чем было нужно, — ты ошибаешься, мне совсем не скучно с тобой. И я счастлив…
Но он не дал мне договорить, поморщился и махнул рукой:
— Оставь это, мы не первый день знаем друг друга. Я все понимаю, но молодость есть молодость. Вот скажи мне: разве тебе не хочется женщины?
Он никогда так со мной не говорил, я покраснел и опустил глаза. Дело в том, что он попал в самую точку — с некоторых пор женщины очень волновали меня. Я засматривался едва ли не на любую женщину, которая встречалась: на молодую и не очень, на красивую и некрасивую. Они снились мне каждую ночь — обнаженные, соблазнительные, источавшие особый запах, от которого голова идет кругом и самопроизвольно извергается семя. Я очень стеснялся этого и больше всего боялся, что Гай что-нибудь заметит.
Казалось, он читает мои мысли, потому что он произнес.
— Здесь нечего стесняться, все мужчины когда-нибудь в первый раз проходят через это. Оставь свою работу, пойдем со мной.
Я покраснел еще больше, но повиновался, и мы вместе вышли. Шли мы молча, он впереди, я чуть сзади. Гай остановился у довольно красивого дома, ярко освещенного изнутри, оттуда доносилось пение и веселые крики. Он сказал, чтобы я подождал здесь, а сам вошел внутрь. Через некоторое время он вышел, но не один: с ним была женщина. Она показалась мне очень красивой: одежда до половины открывала ее стройные ноги, пояс отмечал тонкую талию и широкий таз, а грудь… Грудь была такой, что я в смущении опустил глаза. Гай подозвал меня коротким движением руки. На ватных ногах я подошел к нему. Он вытащил несколько серебряных монет, протянул мне, проговорил, кивнув на женщину, которая стояла рядом — упершись одной рукой в бок, а другую заведя за затылок:
— Вот, отдашь ей, но только когда будешь уходить, не раньше Можешь остаться до утра, но помни, что на рассвете нам нужно ехать. Не бойся, иди, она сделает все сама.
И с этими словами он подтолкнул меня к женщине Только теперь я заметил, как сильно разукрашено ее лицо, и почувствовал особенный женский запах, исходивший от ее тела. У меня закружилась голова, а все тело сделалось тяжелым, словно не моим. Я посмотрел туда, где только что стоял Гай, но его уже не было.
— Какой красавчик, — произнесла женщина, особенным образом растягивая слова. — Ты в первый раз? Не бойся, это не страшно, я научу тебя.
И она крепко взяла меня за руку у запястья и повела за собой внутрь дома. Мы прошли просторную комнату, где стояли столы, сидело много мужчин и женщин, шум голосов и крики оглушили меня. Мы стали подниматься по скрипучей лестнице на второй этаж. Мужские голоса кричали снизу:
— Иди к нам, Мариам!
— Ты перешла на мальчиков?!
— Смотри, как бы он не испачкал тебя раньше времени!
Я готов был провалиться сквозь землю споткнулся на ступенях, но женщина поддержала меня. Моя неловкость вызвала внизу взрыв хохота.
— Что ты смеешься, Акила, — крикнула женщина, обращаясь к кому-то сидевшему внизу, — уж, верно, он не такой немощный, как ты!
И снова взрыв хохота потряс комнату. Ей что-то ответили, но мы уже были наверху, прошли короткий коридор, и она толкнула одну из дверей, пропуская меня внутрь. Войдя, она заперла дверь на засов и, повернувшись ко мне, улыбнулась:
— Не обращай внимания, они просто пьяны. Лучше выпей вина.
И, подойдя к столу в углу, она взяла кувшин, наполнила две чашки вином и одну подала мне. Я взял чашку, но руки мои дрожали, и я расплескал вино.
— Какой ты неловкий, — сказала женщина и, выпив свою чашку, взяла другую из моих рук.
Комната была маленькой, половину занимало ложе, широкое и низкое, покрытое каким-то тряпьем. Светильник на столе давал мало света, но все равно я сумел разглядеть, что стены выщерблены и неровны, а потолок закопчен. Больше ничего разглядеть не успел, потому что женщина вдруг скинула одежду и осталась совсем голой. Она прыгнула на ложе и поманила меня рукой:
— Иди, не бойся, тебе будет хорошо.
И мне было хорошо. Все происходило, как в тумане: тело освобождалось от того, что томило его, но тут же наполнялось снова, и все хотелось и хотелось освобождаться. Я так нравился Мариам, что всю ночь она не выпускала меня из объятий и научила многому тому, о чем я прежде и помышлять не мог.
Я уснул только перед самым рассветом. Едва провалился в сон, как Мариам разбудила меня:
— Уходи, твой хозяин велел, чтобы ты ушел на рассвете. Скажу тебе, он щедрый, твой хозяин.
— Это не мой хозяин, — холодно сказал я.
— А чей же? Разве мой?
— Это вообще не хозяин.
— А кто же? Не отец, не брат, не дядя. — Она приподнялась и заглянула мне в лицо.
— Откуда ты это знаешь? — спросил я.
Она усмехнулась:
— Дурачок, мне не нужно знать, я это вижу. Не хочешь, не говори, мне-то какое дело!
Мне нечего было ответить, я не знал, как мне определить наши отношения с Гаем. Впрочем, Мариам это и не интересовало, что, правда, несколько обижало меня, ведь молодость так ранима и придает большое значение тем вещам, которые с возрастом кажутся смешными.
Мне так не хотелось уходить, но уже рассвело, и я встал и оделся. Мариам не пошла провожать меня, лежала, уютно устроившись на ложе, и только напомнила мне про деньги, которые дал мне Гай и о которых я совсем забыл. Покраснев, я вытащил монеты и положил их на стол.
— Приходи, когда захочешь, — проговорила Мариам, махнув мне рукой на прощанье, — ты мне понравился.
Я хотел сказать, что люблю ее, но не сумел этого выговорить.
Когда я вышел из комнаты, то испугался, что кто-нибудь увидит меня. Но, пройдя по коридору и спустившись по лестнице, я так никого и не встретил.
Когда я вернулся на постоялый двор, Гай уже ждал меня у ворот с оседланными лошадьми. Я думал, что он станет выговаривать мне за опоздание или, еще хуже, будет подтрунивать надо мной, но он только сказал: «Пора ехать», — и подал мне повод моей лошади.
Еще долго я вспоминал о Мариам, строил какие-то несбыточные планы: как вернусь к ней, заберу ее с собой и мы станем жить вместе, как муж и жена. Жизнь с ней представлялась мне чувственной и счастливой. Мне все хотелось спросить Гая, когда мы снова будем в Антиохии, но, глядя на его покачивающуюся в седле спину, я только вздыхал.
Разве я мог знать, что прошедшая ночь была началом моего падения?!
В следующем городе, куда мы прибыли — кажется, это была Самосата или Эдесса, — повторилось то же самое. Под вечер Гай собрался уходить, подозвал меня, дал несколько серебряных монет, сказав, что мне нужно развлечься. В этот раз я взял деньги без особого смущения. Он указал несколько мест, куда я могу пойти, и добавил строго, чтобы утром я не опаздывал — он не хочет всякий раз делать за меня мою работу.
Новую женщину, которую я нашел, звали Лидия, она сказала мне, что она гречанка. Она мне очень понравилась, показалась даже лучше, чем Мариам, моложе и красивее. Мне не хотелось уходить от нее, но, помня о том, что сказал мне Гай, я заставил себя подняться.
Вернулся я вовремя, и по лицу Гая было видно, что он доволен. Когда мы отъехали, я стал думать о Лидии и уже не вспоминал о Мариам. Но, думая о Лидии, я теперь не представлял себе, что когда-нибудь заберу ее с собой и мы будем жить, как муж и жена. Я вспоминал ее ласки, ее шепот, запах ее тела, и мне было приятно об этом вспоминать. И еще я думал о других женщинах, которые у меня будут в будущем, и каждая из этих женщин, как мне казалось, обязательно откроет мне какую-то особую тайну своего тела.
В самом деле, женщин, с которыми я проводил ночь, становилось все больше и больше — по крайней мере, в каждом большом городе, где мы останавливались, было по одной. Но никаких тайн своего тела они мне не открыли. Просто потому, что в этом деле и не было никаких тайн. Были вожделение и страсть, было приятное от них освобождение, но больше не было ничего. Да вскоре мне ничего уже и не нужно было: я просто хотел женщину и покупал ее, когда Гай давал мне деньги. А Гай мне давал их не скупясь. Я посещал не самые лучшие притоны, но и не самые грязные, где женщины вульгарны, некрасивы и от них дурно пахнет. К тому же Гай предупредил меня, чтобы я был осторожен и не заразился какою-нибудь дурной болезнью. А в дешевых притонах вероятность заразиться была значительно больше.
Я вполне освоился в этих местах, которые прежде обходил стороной, знал женщин по именам, шутил с ними громко и непристойно, и завсегдатаи притонов, взрослые мужчины, считали меня равным себе, хлопали по плечу и пили вместе со мной. Я стал развязнее, грубее и временами грубо говорил даже с Гаем. Но только иногда, когда возвращался утром в сильном опьянении. Потом просил прощения, говорил, что виноват и что это никогда больше не повторится — ведь он давал мне деньги, и я зависел от него. Гай качал головой и смотрел на меня сурово. Порой мне казалось, хотя он этого никогда мне не показывал, что он доволен тем, каким я стал.
Я вошел во вкус такой своей жизни, и мне требовалось все больше и больше денег. Пока еще Гай давал мне их, но мне приходилось выпрашивать, и всякий раз это было сопряжено со все большими для меня трудностями. И снова меня стала посещать мысль о том, чтобы обнаружить, откуда Гай берет деньги — ведь откуда-то он их брал! Я считал, что будет справедливо получать от них хотя бы половину. Тем более что ему самому деньги были, как мне представлялось, не очень и нужны: он не пил, не посещал притонов, не покупал дорогой одежды.
Заниматься хозяйством — даже таким небольшим, какое было у нас, — мне стало крайне обременительно Я подумал, что мы вполне могли бы нанять для этого слугу, и однажды сказал об этом Гаю.
— Я согласен, — отвечал он с кривой усмешкой, — но при условии, что содержание слуги ты возьмешь на себя.
— Как так? — не понял я.
— Очень просто, мой Никифор, — сказал он, холодно на меня глядя, — я научу тебя. Ты будешь отдавать слуге половину тех монет, которые я даю тебе для развлечений. Но если ты сумеешь договориться, то сможешь отдавать даже меньше половины.
Мне нечего было ответить, а Гай не продолжал разговора. Я затаил злобу и сказал себе твердо, что все равно доберусь до источника, из которого Гай берет деньги. Никаких угрызений совести от таких моих мыслей я не испытывал.
Некоторое время спустя течение нашей жизни неожиданно изменилось. Участие Гая в религиозных диспутах и наша постоянная кочевая жизнь, полная лишений, принесла свои плоды: к нам стали приставать странники, которых в Иудее всегда было во множестве. Они, почти как и мы, кочевали из города в город, просили милостыню у храмов, говорили между собой о пророках и о мессии, который вот-вот должен был появиться, наказать богатых и облагодетельствовать бедных. Они приставали то к одной религиозной группе, то к другой в поисках пропитания и истины. (Замечу в скобках, что истина была уже открыта, но они не ведали об этом.)
И прежде случалось, что после диспутов, особенно когда там говорил и Гай, к нему подходили люди и просили объяснить его учение, а то и сказать, как нужно жить. Гай отмахивался от них довольно грубо, заявляя, что никакого учения у него нет, а как жить, он и сам не понимает. Но надо знать подобных людей — от них не так-то просто было отделаться. Они шли за нами до постоялого двора, а когда мы заходили внутрь дома, ждали нас на улице. А при каждом появлении Гая приставали снова. Но мы уезжали, а они оставались, и так до следующего раза.
Но, по-видимому, слух о Гае и его разговорах и жизни распространился достаточно широко, и вот в один из дней к нам подошла группа людей: шесть мужчин и две женщины.
В тот раз мы не въезжали в город, а остановились недалеко, у оливковой рощи. Как эти люди узнали о нашем местонахождении, до сих пор остается тайной. Они подошли, поклонились Гаю и мне, и самый старший из них, с седыми волосами и длинной, как у Гая, бородой, сказал:
— Мы пришли, Учитель, чтобы сопровождать тебя и прикоснуться к истине, которую ты в себе несешь.
— Я не несу в себе никакой истины, — довольно грубо ответил Гай, — уходите. И никакой я вам не Учитель!
— Нет, Учитель, — спокойно проговорил старший, — мы ощущаем эту истину в тебе и не можем тебя покинуть. Спроси всех, они скажут тебе то же самое.
И он повернулся к остальным, которые закивали головами и выговорили нестройным хором:
— Да, да, мы тоже так думаем.
— То, что вы думаете, — воскликнул Гай сердито и махнул на них рукой, словно пытаясь отогнать, — мне безразлично! Уходите, оставьте нас в покое, мне никто не нужен, я просто хочу отдыхать.
— Но, Учитель, — невозмутимо продолжил старший, — истина, которую ты носишь в себе, не принадлежит тебе одному, но принадлежит Богу и людям. Бог вложил в тебя эту истину для того, чтобы ты открыл ее нам. Мы жаждем ее, ты должен понять нас.
— Нет у меня никакой истины! — скорее с досадой, чем зло, выговорил Гай, и лицо его выразило нечто похожее на страдание. — Прошу вас, уйдите, мне нечего вам открыть! Вы ошибаетесь, я не тот, за кого вы меня принимаете. Вы ошибаетесь, поймите!
— Люди могут ошибаться, а Бог — нет, — резонно заметил старший.
— Да при чем здесь Бог! — вскричал Гай в страшном раздражении, и мне показалось, что то состояние неистовства, в которое он время от времени впадал, уже близко. — Я просто человек, я не могу вам ничего сказать.
— Пророки тоже люди, — вставил старший и зачем-то поклонился Гаю.
— Но я не пророк. Поймите вы, не пророк! Я более грешен, чем каждый из вас в отдельности и все вы вместе взятые! — уже не говорил, а кричал Гай, тяжело дыша и сбиваясь в словах. — Кроме того, у нас была трудная дорога, мы устали, мы хотим отдохнуть.
— Мы это понимаем, — кивнул старший, — мы не будем мешать, тебе.
Он поклонился Гаю, махнул рукой своим спутникам, зашагал вдоль рощи, и они все послушно двинулись за ним.
Мы с Гаем смотрели им вослед. Гай тяжело дышал и прижимал правую руку к груди, его лицо заметно побледнело. Я не очень понимал, отчего он так расстраивается: мало ли сумасшедших вокруг, и разве лучше было бы, если б вместо них на нас напали разбойники? А эти хотя и сумасшедшие, но все же вполне мирные люди — бедные и убогие. К тому же они ушли, не причинив нам никакого вреда.
Но я ошибался — они не ушли. То есть остановились невдалеке от нас, на расстоянии каких-нибудь ста шагов. Сели в кружок, кажется, достали какую-то еду, не таясь посматривали на нас.
— Что делать? — обратился ко мне Гай. В лице его были нерешительность и мольба (признаюсь, я никогда таким его не видел).
Я пожал плечами, сказал, хмыкнув, но, правда, не очень уверенно:
— Пусть себе сидят, нам-то какое дело.
— Собирайся, мы уезжаем, — быстро сказал Гай и пошел к лошадям.
— Но лошади устали, — возразил я, — лучше бы им дать отдохнуть.
— Мы уезжаем! — громко и зло крикнул он, так, что сидевшие поодаль люди не могли его не услышать.
Я вздохнул и принялся собирать вещи.
Мы въехали в город; за время всего пути Гай ни разу не оглянулся, зато я ежеминутно оборачивался назад — те люди упорно шли за нами. Они шли быстро, едва ли не вровень с лошадьми. Конечно, наши лошади устали, но все же…
Не буду подробно описывать, как это все происходило, но мы так и не смогли оторваться от идущих за нами: и в городе, и потом, когда на следующее утро покинули его. Они уже не подходили к нам близко, не заговаривали, но упорно и неотступно следовали за нами. Мы пришпоривали лошадей, меняли направление, прятались от них в лесу. И порой казалось, что все, мы уже никогда не увидим их. Но они появлялись снова и снова, и, как мне показалось, их стало больше. Они располагались в ста шагах от нашей стоянки или во дворе постоялого двора, если мы заезжали в город, но лишь только мы трогались в путь, как вставали и они.
— Это неспроста, — говорил мне Гай, поглядывая на преследователей, — говорю тебе, это неспроста.
При этом в глазах его был страх и руки заметно дрожали.
— Скажи, Никифор, что же нам делать?! — приставал он ко мне, хватая за руки.
Я уже перестал удивляться такому его состоянию. Более того, мне оно было выгодно: моя роль в нашем сообществе становилась значительно весомее.
— Не стоит обращать внимания, — успокаивал я его и сам ощущал в звуках собственного голоса покровительственные нотки, — они не причиняют нам никакого вреда. К тому же от них есть и определенная польза: они всегда рядом, и разбойники в этом случае вряд ли решатся напасть на нас.
— Есть кое-кто похуже разбойников! — воскликнул он возбужденно, и по тому, как он посмотрел на меня, я понял, что он сказал лишнее.
— Кто похуже? — быстро спросил я, не сумев скрыть любопытство.
— Это я так… вообще, — пробормотал он едва ли не смущенно и, отвернувшись, уже стоя ко мне спиной, добавил: — Не имеет значения.
Но тогда же я ясно понял, а не просто почувствовал, что за его словами скрывается какая-то тайна. Как же мне хотелось расспросить его и даже заставить открыть тайну, но я вполне понимал бессмысленность расспросов и решил дожидаться удобного момента.
Гай наконец смирился с нашими преследователями, но другого выхода у него и не было. Он сказал мне:
— Что с ними будешь делать, пусть остаются. А ты полагаешь, они защитят нас в случае чего?
— Ну конечно, Гай, — ответил я с нескрываемым удовольствием, — ведь они так любят и почитают тебя.
— Хорошо, — проговорил он, сдаваясь, — но сделай так, чтобы они не мешали мне и не подходили близко.
— Да, Гай, не беспокойся, я скажу им, — заверил я его с радостью.
Для моей радости были свои причины. Я уже говорил, что мне надоело заниматься хозяйством, и все думал, на кого бы переложить эти заботы. А тут являются эти люди — воистину, они мне были посланы Богом!
И я отправился к ним уверенным шагом, с выражением достоинства на лице. Они все поднялись при моем появлении, их было уже одиннадцать человек, восемь мужчин и три женщины. Из женщин всего одна могла еще как-то заинтересовать меня, да и то лицо ее было каким-то испуганным и неживым. Две другие в этом смысле не представляли никакого интереса: не старые еще, но какие-то бесформенные, с натруженными, узловатыми руками и широкими ступнями, разбитыми долгой ходьбой. Мужчины были разные — старые и молодые, — но на них я внимания не обратил.
Я сказал старшему, тому самому, кто тогда разговаривал с Гаем, что Учитель согласен, чтобы они были рядом, но пока не хочет вступать ни в какие беседы, а только разрешает сопровождать его. Еще я добавил, уже от себя, приняв самый строгий и неприступный вид, что Учитель излагает письменно свое учение, и если они хотят помочь ему в этом, то должны вести себя правильно, то есть так, как я им укажу.
Когда я закончил свою речь, среди них прошел шум одобрительных возгласов, а старший, многозначительно кивнув мне, выговорил:
— Мы сделаем все, чтобы Учителю было покойно.
И они это делали. Не знаю, как Гай, но я в самом деле обрел покой. Наступило время, когда мне просто нечего стало делать, и порой я не знал, куда себя деть. Все, что прежде делал я, делали эти люди: готовили еду, носили воду, ухаживали за нашими лошадьми, чинили наше платье и обувь и все такое прочее. Женщины особенно одна из них, старшая и самая некрасивая, — ; готовили отменно, я уже давным-давно не ел с таким удовольствием. Но они делали значительно больше, чем я мог мечтать.
Я уже упоминал, что они просили подаяние у храмов. Пристав к нам, они не оставили своего занятия. Когда мы прибывали в очередной город, часть из них оставалась возле нас — занимаясь повседневными делами и еще для охраны Учителя, — а другие отправлялись к храму. Прежде я не знал, что можно собирать так много, но, по-видимому, наши спутники были опытны в таких делах. Конечно, это было невесть что в сравнении с тем, сколько тратил Гай, но к тем деньгам, которые я получал от Гая на развлечения, эти, то есть их деньги, были весьма значительным и приятным дополнением. Я вел себя не по годам осмотрительно и не брал все, что они добывали, а часть оставлял им. Но, разумеется, ничего не отдавал Гаю. Да он и не знал ничего. Думаю, что если бы узнал, то очень бы рассердился. Во избежание случайностей я предупредил старшего, что Учитель будет недоволен, если увидит, что я беру деньги, и что я буду тратить их на Учителя сам, но так, чтобы он ни о чем не догадался. Старший сказал, что это правильно, потому что главное для Учителя — это покой.
Как бы я ни относился к этим людям, но должен отдать им должное: они в самом деле искренне любили Гая. Он никогда не разговаривал с ними, но они были счастливы только оттого, что он не гонит их от себя. Они все являлись на религиозные диспуты, которые посещал Гай, и сидели поодаль, внимательно слушая. Когда Гай выступал — что случалось довольно редко, — лица их по-настоящему светились счастьем. Порой я даже завидовал им: у них был смысл жизни, а у меня его не было.
Но вообще я чувствовал себя вполне хорошо в новом своем положении. Я имею в виду, что стал как бы управляющим нашей странной общины. Наши спутники, несмотря на молодость мою, относились ко мне с настоящим уважением: еще бы, ведь в их глазах я был приближенным Учителя и, в отличие от них, он разговаривал со мной. Я настолько освоился в новой своей должности, что, когда они спрашивали меня, что говорит Учитель, я не отвечал им, мол, ничего особенного он не говорит, но, напротив, изрекал придуманные мной глубокомысленные фразы вроде «Любите друг друга, как Бог любит вас» или что-нибудь в таком же роде. Они были очень довольны и по вечерам, собравшись в кружок — я это видел не раз, — подолгу обсуждали сказанное мной. Я усмехался про себя, думая: как же легко быть пророком!
Моя жизнь вне общины была такой же, как и прежде, и даже более интенсивной: я шатался по притонам, покупал множество женщин, пил вино, орал непристойные песни. Денег, что давал мне Гай и члены общины, на все это хватало с лихвой. Но, с другой стороны, известно, что развлечения ненасытны и с каждым разом требуют все больше и больше. И мне казалось, что денег уже мало. Я стал думать, как бы взять у Гая побольше, и снова решил проследить за ним.
Но судьба распорядилась по-своему. Однажды поздно вечером Гай вернулся в крайне подавленном состоянии. Таким я его еще никогда не видел. Все его тело сотрясалось от ужаса, и он долго не мог выговорить ни единого слова. Я спрашивал его, что случилось, но он только тряс головой и смотрел на меня с испугом.
В тот раз я ничего от него добиться не смог. Чуть только он пришел в себя, как приказал мне собираться, и мы выехали, несмотря на то, что на дворе стояла ночь. Наши спутники послушно последовали за нами.
Страх Гая не проходил, он стал по-настоящему болезненным. Он боялся заезжать в города и останавливаться на постоялых дворах. Мы разбивали лагерь в виду города так, чтобы подъезды к нему просматривались со всех сторон и чтобы никто не смог подойти к нам незамеченным. Он сказал мне, а я передал нашим спутникам, чтобы теперь они держались поближе к нам, и еще Гай велел купить для них оружие. Члены нашей общины были счастливы, все молодые мужчины довольно хорошо вооружились и ни на шаг не отходили от Учителя. Но все эти меры предосторожности никак, казалось, не повлияли на Гая — он плохо спал, кричал по ночам, порою вскакивал в страхе, и на лице его при этом было настоящее безумие. Днем он тоже не знал покоя, беспрерывно озирался по сторонам и порывался бежать, если кто-нибудь появлялся на горизонте. Я чувствовал, что все это не кончится просто так, но что-то обязательно должно случиться. И это случилось.
Мы с Гаем обедали, когда я увидел, что миска сначала застыла в его руках, а потом упала на землю, при этом руки его оставались на весу в том же положении, в каком они держали миску. Я поднял голову: Гай смотрел мимо меня остановившимся взглядом, и лицо его стало белым как полотно. Я оглянулся и сначала не увидел ничего и, только присмотревшись, заметил фигуру одинокого всадника у самого горизонта, на фоне заходящего солнца. Трудно было понять, двигается всадник или стоит на месте.
Я снова посмотрел на Гая. Не отрывая взгляда от всадника на горизонте, он оперся, кажется, не сгибавшимися руками о землю и медленно поднялся. Отступил назад, еще и еще и вдруг, страшно закричав, бросился бежать. Я сам ощущал оцепенение во всем теле и смотрел на него, не в силах сдвинуться с места.
Когда я пришел в себя, было уже поздно. Продолжая кричать, Гай добежал до лошади и вскочил в седло. Крик его был страшен, и лошадь, испугавшись, понесла. Когда я добежал до другой нашей лошади, Гай был уже далеко. Клубы поднявшейся пыли отмечали его путь.
Я скакал, не помня себя, и едва не затоптал Гая. Я увидел его, лежавшего ничком на земле, и в пыльном тумане едва успел повернуть лошадь в сторону. Когда я спешился и подбежал к нему, он только тихо стонал. Я осторожно перевернул его на спину: его лицо, шея и руки были в крови. Подбежали другие, подняли Гая и перенесли к стоянке. Он был в сознании, смотрел на нас, но, кажется, плохо понимал, что с ним происходит. Всадник же, его так напугавший, исчез, словно его и не было вовсе, и, хотя я видел всадника своими глазами, потом мне казалось, что, как и Гаю, он просто привиделся мне.
Гай долго не мог прийти в себя по-настоящему, и дело было не в одном только его испуге, а еще и в том, что он сильно разбился, упав с лошади. У него было разбито лицо, повреждена рука и еще что-то внутри самого организма: время от времени выступала розовая пена на губах, и он жаловался на боли в груди и в боку. Мы отвезли его в город, на постоялый двор, женщины заботливо ухаживали за ним, и каждый день приходил врач, которого я нанял. Врач сказал, что повреждения серьезные, что внутри образовалось опасное для жизни кровотечение, и он не уверен, выживет Гай или нет. Тогда же я испугался его возможной смерти и с горечью подумал: как же буду без него? В самом деле, я понял, что не смогу жить без Гая, и даже не мог себе представить, как именно буду жить. У меня не было никакого ремесла, я привык к большим деньгам, привык не отказывать себе ни в чем, а мое знание латыни — да кому оно было нужно! Неужели мне предстояла та же жизнь, что и членам нашей общины: кочевать из города в город и просить милостыню у храмов? Нет, это невозможно было представить.
Я брал Гая за руку, склонялся к нему и произносил горьким шепотом:
— Не умирай, прошу тебя!
Он смотрел на меня спокойно, и глаза его были пусты. Так продолжалось недели две — состояние Гая то ухудшалось, то улучшалось, и снова ухудшалось, так что казалось, он уже не выберется. Но организм его оказался довольно крепким, уход женщин за ним слишком хорош, да и судьбой ему начертано было, наверное, умереть не в этот раз. Врач потом говорил мне, что это его метод лечения принес желаемый результат, но я-то знал, что дело было не в лечении. Чтобы это понять, нужно было знать Гая, я знал его хорошо. Сначала он стал садиться на постели, потом вставать и ходить с
— 392 -
посторонней помощью и, наконец, стал ходить самостоятельно. Шрамы на лице затянулись, но рука, правда, так и осталась кривой, и он не мог действовать ею в полную силу.
За все время его болезни мы почти не разговаривали. То есть я пытался говорить ему что-то и даже пытался читать латинских авторов или пересказывать прочитанное, как он любил. Но сам он говорил мало, только тогда, когда ему было что-нибудь нужно или когда жаловался на сильную боль в груди.
Он все чего-то или кого-то боялся, велел, чтобы члены общины всегда находились рядом и чтобы, кроме врача, к нему не допускали никого.
Лишь только он стал вставать и передвигаться самостоятельно, как сказал мне, что мы должны уехать.
— Куда мы поедем! Ты еще так слаб, — пытался отговорить его я, но он упорно настаивал на своем: — Мы должны ехать сейчас же. Скажи им, чтобы собирались.
Делать было нечего, не мог же я удерживать его силой. И на следующее утро наш караван, в котором было уже четыре лошади, вышел из города. Я хорошо знал тот маршрут, по которому мы кочевали с Гаем, и не стал менять его. Переход был не очень длинным, но Гай оказался слишком слаб, и мы часто останавливались, разбивали лагерь и лишь тогда, когда он чувствовал себя лучше, собирались и двигались снова. В следующем городе — не помню точно, где это было, — Гаю снова сделалось плохо, он впал в забытье, метался на постели, что-то бессвязно выкрикивал и стонал. В его бессвязном бреду я довольно ясно расслышал только имя — Сулла. Оно мне ни о чем не говорило, никакого Суллы я не знал ни теперь, ни прежде. Но имя это он повторял часто, то ли обращаясь к этому неведомому Сулле, то ли умоляя его о чем-то.
Когда он пришел в себя и снова стал вставать, я решился спросить его: кто этот Сулла, который так часто являлся ему в бреду? Я и представить себе не мог, что этот вопрос так на него подействует.
— Что?! Что ты говоришь! Предатель! — вскричал он, вскинул руку и с силой ударил меня по лицу. В первый раз за долгие годы нашей совместной жизни он ударил меня.
Он пытался ударить еще раз, но я перехватил его руку. И вдруг он заплакал: зарыдал, затрясся всем телом, сел на пол и укрыл лицо в ладонях. Я растерялся, пытался его успокоить, стал говорить, чтобы он простил меня, если я его обидел, и что я этого не хотел, а спросил не думая. Но Гай долго не мог успокоиться.
Я поднял его и перенес на постель, укрыл, дал горячее питье, сел рядом, ласково гладя его по голове. А он плакал, сотрясаясь всем телом, и слезы неостановимо текли по щекам. Тогда-то у меня впервые мелькнула мысль, что Гай сошел с ума. То есть не то чтобы он стал совершенно сумасшедшим, но что и прежде в нем, в этом смысле, всегда было что-то странное, а теперь это проявилось так зримо и ясно.
Он не вставал весь следующий день, всю ночь и полдня еще. Он совсем не говорил со мной и не отвечал на мои вопросы. В тот день я куда-то выходил, а когда вернулся, женщины сказали, что Учитель хочет видеть меня. Несколько раз посылал за мной, меня искали, но не нашли.
Я вошел к Гаю. Он сидел на постели, разложив перед собой на коленях свитки написанного им сочинения.
— Сядь, — сказал он строго и тем тоном, который был у него еще до болезни, — мне нужно поговорить с тобой.
Велел закрыть дверь и сказать, чтобы к нам никто не входил. Я исполнил это и сел на постели, в ногах, внимательно на него глядя.
— То, что я тебе скажу, — начал он и тяжело вздохнул, — может показаться невероятным. Но ты обязан выслушать меня и верить каждому слову.
— 394 -
Он сделал паузу, пристально на меня посмотрел и, когда я опустил глаза, не выдержав его взгляда, медленно выговорил:
— Ты должен знать, кто я такой на самом деле. Я — император Рима, Гай Германик по прозвищу Калигула. — Он снова замолчал и наконец добавил: — Ну, что ты скажешь на это?
Каждый поймет, что мне нечего было ответить. Так же, как нечего было бы ответить, если бы он заявил, что он Юпитер или царь Эдип[36].
Я поднял глаза и со страхом посмотрел на него — как я еще мог после этого на него смотреть!
— Ты, конечно, не веришь мне, — проговорил он, усмехнувшись, — но у меня есть доказательства. Я хочу, чтобы ты прочел это. — И он тронул рукой свитки.
— Да, — отвечал я, — конечно.
Я понимал, что он не в себе, и мне не хотелось его раздражать.
— Ты понял меня? — сказал он и сдвинул свитки в мою сторону. — Приступай же. Приступай же!
— Сейчас? — спросил я недоуменно.
— Немедленно, — кивнул он.
Я пожал плечами и взял первый протянутый им свиток. Что мне еще оставалось делать, я стал читать!
Это была исповедь Гая Германика, написанная им самим. Должен заметить, что я увлекся чтением. Если бы я не видел, как Гай писал это свое сочинение, я бы никогда не поверил, что оно написано им — так хорошо и так проникновенно оно было написано. Исповедь оказалась длинной, и я читал ее целых два дня, отрываясь только на еду, короткий сон или тогда, когда необходимо было сделать какие-то распоряжения.
Когда я закончил чтение, он аккуратно сложил свитки в специальную сумку, которую всегда носил с собой, положил ее в изголовье и, повернувшись ко мне, спросил:
— Ну как? Что ты обо всем этом думаешь?
Я ответил то, что думал:
— Никогда не представлял себе, Гай, что ты… что ты умеешь писать так хорошо и интересно. Ты настоящий писатель, и многие из современных авторов позавидовали бы тебе. И многие из тех, известных, которые уже умерли, позавидовали бы тоже.
Моя похвала никак на него не подействовала, лицо его оставалось непроницаемым.
— Мне не нужны твои похвалы, — холодно проговорил он. — Хорошо или плохо написана моя исповедь, мне совершенно безразлично. Я писал ее не для кого-нибудь, а только для самого себя. Если бы не моя болезнь и не необходимость открыться, то никто и никогда не узнал бы, что там написано и кто я такой. Скажи мне прямо — ты веришь, что я Гай Германик, бывший император Рима?
— Да, — сумел выдавить я из себя, глядя в сторону.
— Значит, не веришь, — сказал он. — Но это понятно. И принимаешь меня за сумасшедшего, это понятно тоже. Но все это не имеет большого значения для того, что я хочу тебе открыть. Никогда бы не открыл, если бы не моя теперешняя немощь. И вот что я тебе хочу еще сказать. Ты никогда не думал, откуда у меня деньги? Я ни с кем не общаюсь, не веду торговли, не занимаюсь ремеслом. Ну, отвечай!
— Я не знаю, Гай, — смиренно улыбнувшись, отвечал я, — я правда не думал об этом.
— И потому пытался следить за мной, — усмехнулся он. — Ну ладно, забудем, что было, я давно простил тебя. Тебе уже известно из прочитанного, что по моему приказу Сулла положил деньги в разных тайниках, известных только мне и ему. Так вот, я хочу показать тебе один из тайников. Может быть, ты тогда лучше поверишь в мой рассказ. Сейчас вечер, самое время идти за золотом. Вставай, помоги мне. Мы отправимся сейчас же.
С этими словами он взял свою сумку со свитками, спустил ноги на пол.
Я был так поражен сказанным и прочитанным, что не мог ни возражать, ни спрашивать. Помог ему одеться и, поддерживая под руку, вывел наружу.
Расстояние было не очень большим, но шли мы долго. Несколько раз Гай останавливался, садился на землю и отдыхал. Наконец мы достигли места.
— Вот, — указал он рукой, — отодвинь эту плиту.
Лунный свет был достаточно ярким, но никакой плиты я не увидел. У меня мелькнула мысль — в который уже раз, — что Гай совершенно сошел с ума и не может контролировать своих поступков.
— Да вот же, — указал он рукой в то же самое место, — у самого дерева. Только сгреби. листву.
Я нерешительно шагнул туда, присел на корточки, сгреб ладонью листву. Каково же было мое удивление, когда рука моя ощутила гладкую поверхность камня! Я энергично сгреб остатки листвы. В лунном свете передо мной открылась гладкая плита, и, взявшись за край, я сдвинул ее в сторону. Она легко поддалась, будто управлялась изнутри каким-то особым механизмом.
— Сунь туда руку, — сказал Гай.
Я просунул руку в образовавшийся проем, рука моя нащупала целую россыпь монет, я ухватил, сколько смог, и вытянул руку. От волнения я выронил несколько монет, и они с глухим звуком запрыгали на поверхности плиты.
— Те, что выпали, возьми с собой, а остальные положи на место, — сказал Гай и поднялся.
Он стоял надо мной и казался сейчас значительно выше ростом. Настолько выше, что это представлялось нереальным. Более того, он как будто рос на глазах, нависая надо мной огромной человеческой глыбой. Меня охватил страх. Я бросил монеты внутрь и задвинул плиту на место. Потом поднял рассыпавшиеся монеты — их было четыре или пять, — припорошил листвой каменную плиту, медленно встал.
Мы с Гаем были одного роста, даже я чуть повыше, но сейчас он все равно возвышался надо мной. Его лицо было в тени, и, когда он заговорил, мне показалось, что голос идет откуда-то с неба:
— Ты не сможешь убить меня сейчас, хотя очень хочешь. Это просто сделать, но ты не сможешь. Есть еще несколько тайников, и там значительно больше денег. Их так много, что, если они достанутся тебе, ты будешь самым богатым человеком в империи, богаче самого императора. Кто у нас теперь император? Кажется, Нерон? Так вот, ты будешь богаче Нерона. А если убьешь сейчас, то будешь значительно беднее его. У тебя нет выбора — ты не убьешь!
Наступило долгое молчание. Я уже не видел, не чувствовал Гая рядом. Только огромная тень, как огромная туча, висела надо мной. И снова раздался голос. Теперь я был уверен, что он лился с небес:
— Ты уже прочитал мою исповедь и знаешь, кто такой Сулла, и понимаешь, что этот Сулла преследует меня. Он мститель, я не осуждаю его, но боюсь. Я боюсь не смерти, а его, мстителя. Если сможешь — пойми, если нет — то просто слушай. Незадолго до того, как я испугался всадника и пытался бежать, а потом разбился, упав с лошади, я обнаружил в одном из тайников записку Суллы. Там было одно слово: «Смерть». И это слово не смогла бы вывести ни одна рука, кроме его. Он единственный, кто знает расположение тайников, знает, что я появляюсь в этих местах, но не знает, в какое время и где я появлюсь. Он не взял из тайников ни одной монеты, хотя мог забрать все и сделать меня нищим. Ему нужны не деньги, ему нужна моя жизнь. Отныне ты будешь сберегателем ее, моей жизни. Если Сулла убьет меня, тебе никогда не разгадать тайны и не взять всех денег. А ведь ты никогда не сможешь удовольствоваться частью, если будешь знать, что можно взять все. Если ты попробуешь продать меня Сулле, то сумеешь продать, но денег все равно не получишь. Ты не знаешь Суллы, а я хорошо знаю его. Все, Никифор, пойдем.
Только это последнее — «Никифор, пойдем» — было произнесено голосом Гая. И в то же мгновение тень надо мной исчезла, и я увидел перед собой освещенное лунным светом лицо Гая. Оно было похоже на маску, но все же это было его лицо. Он молча повернулся и медленно, с трудом ступая, пошел в направлении города. Спустя несколько секунд я последовал за ним.
Уже когда мы вернулись на постоялый двор, я вдруг подумал, что при желании самостоятельно не смогу найти место тайника. Как его нашел Гай, да еще в темноте, мне неизвестно. По-видимому, он знал особые приметы.
Я не спал всю ночь, хотя очень устал. Я думал, думал, думал и ни к чему не мог прийти. В то, что Гай бывший император Гай Германик, — в это я не верил, то есть никаким образом поверить не мог. Да и кто из здравомыслящих людей, даже имея на руках неопровержимые доказательства, сможет поверить в такое?
Долгие годы ходит с тобой человек, ест, пьет, спит, как все другие люди, что-то пишет, о чем-то говорит, и вдруг — император. Нет, император — это не человек, это что-то другое. А Гай хоть и был странным, но все же был человеком. Конечно, он был не в своем уме, если смог придумать такое. С другой стороны, он все же написал исповедь. Я, конечно, не знал жизни императоров, но мне казалось, что все это так и было или должно было быть. Думаю, если бы исповедь прочитал кто-нибудь из его бывших приближенных, он был бы того же мнения, что и я.
Я строил догадки, опровергал их и строил новые. Голова моя шла кругом, я уже и сам чувствовал, что по-настоящему схожу с ума. Я сам видел деньги, сам брал их. И даже теперь, раскладывая на столе принесенные монеты, я не верил, что был там и что они есть. Не верил в тот тайник, который видел, и тем более не верил в другие тайники. Чем больше я не верил в это, тем больше мне хотелось добраться до денег. Не до одного тайника, не до двух, а до всех разом. Слова Гая о том, что я могу стать богаче императора Нерона, до сих пор звучали в моих ушах. Они проникли в глубь моего существа, в каждую клетку, я был отравлен ими. Хотел я этого или не хотел, верил или не верил, я не в силах был отступиться. Участь моя была решена.
Утром я вышел во двор, ощущая шум в голове и тяжесть в ногах, как будто за эту ночь я прибавил к своему возрасту лишних двадцать лет.
Но разве я мог предположить, что последующие события будут развиваться с такой невероятной быстротой и что развязка близка!
С рассветом, как и обычно, мы собрались и отправились в путь. Забыл сказать: в нашей общине к этому времени было уже около сорока человек. Мы передвигались значительно медленнее, чем прежде, когда были вдвоем. Лошади были только у нас с Гаем и для поклажи, остальные шли пешком.
Слух о Гае, Учителе, прошел по всем уголкам Иудеи, а возможно, и за ее пределами. Бывало, когда мы подъезжали к городу или деревне, нас встречала толпа людей, приветствующая Гая, протягивающая к нему грудных детей, чтобы он наложил на них руки. Чаще всего Гай отмахивался от них резко и раздраженно, но порой делал, как они хотели: возлагал руки на головы младенцев и говорил ласковые слова. Когда они обращались к нему, они говорили «Учитель», а когда говорили о нем, называли его Гай Иудейский. Я не раз сам это слышал от разных людей. Часто ему выносили еду и одежду и еще что-нибудь, нужное в хозяйстве. И еще многие просили взять их с собой. Гай неизменно отказывал, то резко, то ласково, но люди все равно приставали к нашей общине, и она становилась все многолюднее.
Здоровье Гая все еще оставалось слабым, и я уже не верил, что он когда-нибудь станет прежним Гаем. Тем более что его подозрительность и страх сделались совершенно болезненными. Он вздрагивал от каждого резкого звука, от обычного звука шагов, боялся всякого незнакомого человека, все равно — старика, мальчика или женщину.
Он часто говорил мне, беря за руку так крепко, что становилось больно:
— Ты будешь владеть всем, всем, будешь богаче любого смертного. Я все равно скоро умру, а у тебя длинная жизнь, и ты не пожалеешь.
Я кивал на его слова, успокаивал его как мог, говорил, что ничего мне не надо, а только чтобы он был здоров и спокоен. Но, оставаясь один, думал другое. Думал о том, что достаточно какой-нибудь случайности, чтобы Гай погиб, а ведь он может умереть и просто от страха. Что же тогда будет, с чем же я тогда останусь? Я так хотел разгадать его тайну, так желал этого несметного богатства, что совершенно забросил развлечения и больше не ходил по притонам. И женщины перестали меня волновать, я думал только об одном — как сделать так, чтобы Гай открылся мне, и чем быстрее, тем лучше. Я чувствовал, чувствовал, что времени у нас остается мало. И, как оказалось, чувство меня не обмануло.
Как-то Гай сказал:
— Никифор, ты должен меня внимательно выслушать.
Я ответил:
— Конечно, Гай, я внимательно слушаю тебя.
— Ты сделаешь то, что я тебя попрошу? — спросил он.
— Да, Гай, — кивнул я, — сделаю, ты можешь не сомневаться.
— Хорошо, — согласился он и после некоторого молчания продолжил: — Мы должны бежать от них, и как можно быстрее. — И он указал на членов нашей общины, сидевших поодаль. — Я терпимо относился к ним, они были нашей защитой. Но сейчас все изменилось. Если явится Сулла, они не смогут защитить меня. Они слишком болтливы, говорят обо мне первому встречному, так что найти меня, Гая Иудейского (он усмехнулся), не составляет большого труда.
— Нет, Гай, ты ошибаешься, теперь ты в большей безопасности, чем будешь тогда, когда мы останемся одни, — сказал я убежденно, хотя не был в этом особенно убежден. — Да, тебя легче обнаружить, но, пока эти люди вокруг нас, постороннему невозможно причинить тебе вред. Они не допустят, не позволят, они так любят тебя. Они отдадут свои жизни и жизни своих детей ради тебя. Посмотри на их лица, они не раз доказывали тебе свою преданность.
Гай вздохнул:
— Да, эти люди любят меня, я верю в их искренность. Но пойми, Никифор, их слишком много, ты не знаешь всех даже по именам, а есть такие, я уверен, кого ты не знаешь даже в лицо. А это значит…
Он замолчал, и я спросил:
— Что это значит?
— А это значит, что всегда найдется предатель, который предаст за деньги, или за идею, или за женщину, или просто так, чтобы только поглазеть на смерть ближнего. Ну, скажи, Никифор, разве я не прав?
Он был прав, мне нечего было возразить. Но уходить от общины так не хотелось. Здесь было тепло, уютно, беззаботно, безопасно. И мне явилась спасительная, как мне казалось, мысль, и я тут же высказал ее:
— То, что ты сказал, Гай, это верно, мне нечего возразить. И хотя я не могу сравниться с тобой по опыту жизни, но и я понимаю, что среди даже самых честных людей всегда можно найти предателя. В крайнем случае невольного.
— Да, Никифор, — сказал он, улыбнувшись, — я и не заметил, как ты стал взрослым Если ты согласен со мной, то нам придется сделать так, как я сказал.
— Подожди, Гай, я хочу сказать еще, — проговорил я, притрагиваясь к его руке (она была холодна). — Почему бы не использовать многолюдство нашей общины и твою известность тебе же во благо, Сулле в самом деле сейчас легче найти тебя. Но мы это знаем и устроим ему западню
— Я не понимаю тебя Никифор, — строго сказал Гай.
— Все очень просто, — как можно смиреннее продолжал я. — Мы обратимся к самым преданным из наших людей и объясним им, какая тебе угрожает опасность. Мы не будем говорить о Сулле, но скажем, что у тебя есть религиозные враги, лжепророки, которые только и желают твоей смерти. Скажем, что нам стало известно, будто они хотят подослать к тебе убийц, и что жизнь твоя ежеминутно подвергается страшной опасности.
— И что из того?! Что из того?! — воскликнул он нетерпеливо. — Ведь они не знают Суллы! Не могут же они не подпускать ко мне никого.
— Да, это трудно, — согласился я. — Но мы можем сделать так, что некоторые из них, самые верные твои последователи, сами будут распускать слухи, что недовольны тобой, что ты лжепророк, обманщик и все такое прочее, что говорится в этим случаях. Они будут трезвонить об этом повсюду и при этом будут следовать за нами. Если Сулла придет сам, то он обязательно выйдет на них, чтобы подобраться к тебе, а если наймет убийц, то на наших людей выйдут они. Как я понимаю, Сулла придет сам.
— Он явится сам! — проговорил Гай в страхе, озираясь по сторонам и почему-то пряча под одежду руки.
— Вот видишь, — сказал я осторожно, — значит, он выйдет на наших людей. Они схватят его и приведут к тебе.
— Нет, нет! — вдруг вскричал он. — Я не хочу его видеть!
— Хорошо, хорошо, — поправился я, уже жалея о сказанном. — Они не будут приводить его к тебе, а убьют его там же или передадут его мне, я сам убью его.
— Ты, — медленно выговорил Гай, крепко схватив меня обеими руками за ворот. — Но разве ты сможешь? Разве ты убивал кого-нибудь?
— Нет, не убивал, Гай, но ради тебя я сделаю это.
— Ты не знаешь Суллы, ты не представляешь себе, — говорил он, брызгая слюной и дергая меня за ворот. — Ты не знаешь, не знаешь., ты не можешь!..
И в это мгновение он обмяк разом и повалился на землю, увлекая меня за собой.
С ним случился припадок, один из тех, что повторялись время от времени, но этот был особенно сильным. Он бился, выкрикивал бессвязные слова, но минутами сознание его прояснялось, и, найдя меня взглядом, он кричал:
— Ты продал меня, продал! Я не верю, не верю тебе!
Должен заметить, что такие припадки Гая производили на членов нашей общины неизменно сильное впечатление, они видели в этом что-то вроде священного бреда пророка, в эти минуты общающегося с ангелами. Они внимательно вслушивались в его бессвязные речи и всегда извлекали из них нечто особенно мудрое. Внутренне я всегда смеялся над ними. Но, с другой стороны, эти припадки укрепляли авторитет Гая и власть его в нашей общине. А значит, и мою власть тоже.
Но сейчас, когда он начал выкрикивать, что я продал его и он не верит мне, наши спутники стали смотреть на меня подозрительно. Я почувствовал отчуждение, исходившее от них, и мне сделалось страшно. Слепая любовь к одному может воплотиться в столь же сильную ненависть к другому, к тому, кого люди сочтут врагом любимого.
Гай перестал выкрикивать свои обвинения и впал в забытье. Я сказал людям, чтобы они уходили и что я сам позабочусь о Гае. Они не повиновались, впервые за все время, как пристали к нам. Не ответили, не возразили, а как будто не услышали моего приказания. Перенесли Гая на постель и остались с ним до самого рассвета. Они сидели таким плотным кольцом, что если бы я и захотел подойти к больному, то не сумел бы этого сделать. Но я боялся их и не подходил.
С того самого дня они больше никогда не оставляли нас одних и всегда находились рядом. Думаю, если бы Гай приказал им обратное, то они не повиновались бы и в этом случае. Но Гай не приказывал и то ли не замечал, то ли делал вид, что не замечает их постоянного присутствия возле нас.
Я чувствовал на себе пристальные взгляды членов нашей общины — куда бы я ни шел, куда бы ни отлучался, я ощущал их взгляды спиной, затылком, каждой клеткой своего существа. Мне казалось, что Гай успокоился, но это было какое-то странное и неестественное спокойствие. Он почти не заговаривал со мной, а порой словно бы не замечал меня вовсе. Мне уже самому хотелось поговорить с ним, сказать ему, что он был прав, что люди, окружающие нас, опасны, несмотря на всю их любовь. И, более того, опасны этой своей любовью. Мы с Гаем потеряли самое главное, что было у нас, — свободу.
Те деньги, что мы взяли из тайника, закончились, а за. новыми, судя по всему, Гай не собирался идти. Впрочем, сейчас они были ему не нужны — все необходимое доставали члены общины, и ему не о чем было заботиться.
Сначала положение мое в общине выглядело двусмысленным, странным, а через некоторое время напряжение достигло едва ли не своей высшей точки. За мной стали следовать уже открыто. Когда я отправлялся куда-нибудь по делам, то двое или трое молодых и сильных людей следовали за мной — в нескольких шагах позади, но шли за мной настойчиво и упорно. Так не могло больше продолжаться, что-то нужно было предпринять, и после долгих раздумий и колебаний я решился.
Как-то я подошел к седому старику, старейшине нашей общины и старшему в ней, и сказал, что нам нужно переговорить. Он молча смотрел на меня, не отвечая. Я повторил свою просьбу, он помолчал еще, потом ответил:
— А Учитель знает, о чем ты будешь говорить со мной?
Этого я никак не ожидал, растерялся и с трудом выговорил:
— Да. То есть я хотел сказать… Да, конечно.
— Я не верю тебе, — сказал старик, — но выслушаю, а потом все расскажу Учителю.
— Хорошо, — сказал я, — но Учитель сам…
Тут он перебил меня и строго сказал:
— Говори.
Вокруг стояли люди, и я все никак не мог начать. Я был в таком напряжении, что у меня заметно дрожали руки.
— Но я хотел бы… — сказал я старику, с натугой выговаривая слова враз онемевшими губами, — хотел бы говорить с тобой один на один.
Он странно усмехнулся, посмотрел на меня с прищуром:
— У меня ни от кого нет секретов, а если они есть у тебя, то это твоя беда. Говори же, я слушаю тебя.
Я уже пожалел, что затеял этот разговор, но что мне оставалось делать? Путаясь и не находя нужных слов, высказал ему то, о чем мы говорили с Гаем. То есть, чтобы несколько членов нашей общины, живущих вместе с нами, стали бы распространять слухи, будто они недовольны Учителем, что Учитель обманщик, лжепророк и все такое прочее. И что делать это нужно для того, чтобы выявить людей, угрожающих жизни Учителя.
— Скажи же нам, Никифор, — снова усмехнувшись, проговорил старик, когда я закончил, — что это за люди, которые хотят смерти нашего Учителя, великого и святого Гая Иудейского? Я уверен, что во всей Иудее не найдется человека, способного поднять на него руку. Или это люди Рима? А? Скажи нам! Может быть, и ты один из этих людей?
Каким образом я устоял на месте, а не побежал тут же, лишь только он произнес эти слова, я не знаю. Наверное, страх был так велик, что разум уже плохо подчинялся, а чувство самосохранения было подавлено.
— Что… ты… такое… говоришь? — неуверенно промямлил я.
Но мой вопрос не смутил старика.
— Я говорю, что ты один из тех римлян, которые желают смерти Учителя.
— Но я не римлянин, я родился в Тире, я такой же. как вы! — умоляюще выговорил я, обводя взглядом стоявших вокруг.
Все они смотрели на меня неподвижно, и в их глазах был ледяной холод. В их глазах — я увидел это ясно — стояла смерть. Моя смерть.
Я уже не знал, что говорить, и стоял, опустив голову
— Мы разберемся, — сказал старик, — римлянин ты или нет. Й ты сам знаешь, что будет с тобой, если окажется, что ты один из них. — Тут он кивнул кому-то за моей спиной и строго произнес: — Отведите его и смотрите за ним хорошо и не подпускайте его к Учителю.
Я оглянулся. Один из двух молодых и сильных парней крепко взял меня за плечо и толкнул в сторону, а другой ухватился за одежду на спине. Они повели меня в конец лагеря, заставили сесть на землю, а сами сели рядом
Так я оказался пленником нашей общины.
Они не отходили от меня ни на шаг, стража менялась каждое утро. Меня плохо кормили, на ночь связывали по рукам и ногам крепко. Я пытался разговаривать с ними, умолял их отпустить меня, требовал, чтобы меня отвели к Учителю, но они молчали в ответ и смотрели в сторону
Когда наш лагерь поднимался, отправляясь в путь по известному уже маршруту, меня вели позади со связанными за спиной руками. Если им казалось, что я иду медленно, то они толкали меня в спину, а то и пинали ногами. Я все не мог понять, откуда у них такая ненависть ко мне. И еще я не мог понять одного, главного: почему не приходит Гай? Почему он не спрашивает, где я, и не велит привести меня к нему? Я понял это, когда сам увидел его.
На одной из стоянок я увидел Гая на лошади, он проезжал мимо в каких-нибудь тридцати шагах от того места, где сидел я. Я вскочил на ноги и попытался броситься к нему, крича: «Гай, Гай, это я, я здесь!» Мои охранники повалили меня на землю, и я получил несколько сильных и болезненных ударов ногами, один из них в голову. Лежа на земле с окровавленным лицом, я высоко поднял голову, и в это мгновение наши взгляды встретились. Гай посмотрел на меня так, будто я был камень или животное. Посмотрел и равнодушно отвел взгляд. Я ткнулся лицом в песок и заплакал, завыл страшно, по-животному. В моем Страшном вое была нечеловеческая смертная тоска. Меня подняли и поволокли куда-то, но я уже не ощущал боли, не осознавал ничего вокруг, да и не хотел осознавать.
Значит, это он, Гай, все дело в нем. Он хотел избавиться от меня и избавился таким страшным, таким предательским образом.
— Будь ты проклят! — прокричал я из последних сил. — Будь ты проклят!
А через три или четыре дня, сейчас точно не помню, ранним утром в лагере произошло какое-то странное движение: крики, хаотическое топтание людей, детский плач, конский топот. Те, что охраняли меня, стояли и напряженно смотрели в ту сторону. Мне показалось, что на лагерь кто-то напал, и у меня мелькнула мысль, что, возможно, мое освобождение близко. Некоторое время спустя к нам приблизилась группа людей. Они возбужденно переговаривались. Впереди шел тот самый старик. Они подошли, старик все никак не мог справиться с одышкой, наконец сказал, обращаясь ко мне:
— Ответь нам, римлянин, где Учитель?
— Я не римлянин, — отвечал я, — и почему ты спрашиваешь у меня об Учителе?
Он сделал знак охранникам, они взяли меня за плечи и сильно встряхнули.
— Отвечай, римлянин, где Учитель? — снова сказал старик.
— Я не римлянин! — закричал было я в ярости, но тут сильный удар по голове свалил меня на землю.
На некоторое время я потерял сознание, а когда открыл глаза, увидел лицо старика так близко от своего, что от неожиданности отпрянул назад.
— Говори, где Учитель, или мы убьем тебя, — медленно выговорил он, брызгая слюной и обдавая меня тяжелым чесночным духом.
— Я не знаю, я ничего не знаю! — отвечал я, вжимаясь затылком в землю. — Откуда мне знать, если вы держите меня здесь?
— Страшись, римлянин, ты еще не знаешь, что такое пытки любящих Учителя людей, — с угрозой выговорил старик и, протянув свой грязный корявый палец, больно ткнул меня в щеку.
— Но я не знаю! Как же я могу знать, — жалобно выговорил я и попытался закрыться от него рукой, но кто-то, крепко ухватившись за запястье, отвел мою руку в сторону.
— Ты знаешь, римлянин, и ты все скажешь нам, — проговорил старик, и лицо его отдалилось.
Меня подняли и поставили на ноги. Я увидел, что вокруг нас стоит целая толпа людей, едва ли не все члены нашей общины. Я почувствовал, что гибель моя близка, и, сам не сознавая, что делаю, пал на колени и обхватил ноги старика руками.
— Умоляю, умоляю тебя! — плакал я, прижимаясь мокрым лицом к его грубой, дурно пахнущей одежде. — Я ни в чем, ни в чем, ни в чем не виноват! Я ничего не знаю, я так любил Учителя! Я ничего не знаю, пойми меня!
Старик не ответил. Меня схватили за руки и оттащили от него.
— Смотрите, чтобы не сбежал, — сказал старик моим стражникам и, повернувшись, молча пошел к лагерю. Толпа людей, возбужденно переговариваясь, последовала за ним.
Я понял, что Гай бежал и мое пленение есть часть его плана И еще я понял — это трудно было не понять, — что если в ближайшие часы не смогу убежать от них, го меня ждет неминуемая смерть, и ни мои оправдания, ни мои мольбы не будут иметь для этих людей никакого значения и смысла.
В тот день мы находились вблизи города. Пришла женщина, сказала моим стражникам, что Иосиф (так звали старика) велел передать, что мы заночуем в городе, и приказал вести меня в середине колонны. Стражники кивнули и подтолкнули меня вперед. Я сделал несколько неуверенных шагов и упал на землю. Они пнули меня ногой, я с трудом поднялся, но через несколько шагов упал опять Я притворялся, делая вид, что не в силах двигаться У меня не было никакого определенного плана побега но что-то внутри меня подсказывало, что делать нужно именно так Они снова пнули меня, я снова поднялся и снова упал Тогда они взяли меня под руки и потащили за собой Ноги мои волочились по земле, а голова болталась из стороны в сторону. Дыхание было хриплым и неровным Когда меня подтащили к старику и он, ухватившись рукой за подбородок, поднял мою голову, я закатил глаза и простонал.
— Что с ним? — спросил он стражников. — Вы били его?
Стражники, оправдываясь, отвечали, что нет, не били и что, наверное, я притворяюсь. Они опустили меня на землю, я сделал вид. что пытаюсь встать, но не могу.
— Хорошо, — сказал Иосиф, сейчас некогда разбираться Положите ею на повозку и идите рядом — И, обращаясь ко мне, добавил — Смотри, римлянин, ты играешь в плохую игру
Я не ответил, а сам подумал, что игра моя, может быть, единственно возможная в моем положении и что если это не спасет меня, то уже не спасет ничто.
V нас была единственная повозка для перевозки поклажи, на нее не разрешалось садиться даже детям. Не знаю почему, но так распорядился Иосиф.
Меня бросили на повозку. Ноги мои свисали сзади и, если колеса попадали в яму, скребли по земле. Некоторое время я лежал закрыв глаза, стараясь отдохнуть и набраться сил. Стражники шли рядом и обращали на меня мало внимания. К ним подходили люди, и они заговаривали с ними. Разговоры были одними и теми же — об исчезновении Учителя. Говорили, что каких-то людей еще с вечера видели возле лагеря и что, конечно, Учителя выкрали не без моего участия. Говоря обо мне, никто не обращал на меня никакого внимания, будто меня и нет рядом. Наверное, все они полагали, что я без сознания. Осторожно, не поднимая головы, я огляделся. Город был уже виден, и, чтобы войти в него, нужно было миновать оливковую рощу. Я неплохо знал эти места, мы уже не один раз проходили здесь с Гаем. Дорога опускалась в низину, а потом поднималась в гору. Проход в роще был очень узким, и, когда наш караван вошел в него, повозка отстала. Я ждал, ждал и дождался того момента, когда стражники прошли чуть вперед, а возница, держа лошадь под уздцы, потянул ее в гору. Я сполз на землю, тут же вскочил и что было сил бросился в рощу.
Я ничего не видел и не слышал ни впереди, ни вокруг. Ветки хлестали по лицу, но я не чувствовал боли. Не знаю, как я не разбил голову о ствол, не напоролся на сук и ни разу не споткнулся. Если сзади и были погоня и крики, то я не слышал ничего. Я не бежал, а летел над землей, как выпущенный из пращи камень, и упал, как камень, когда закончилась энергия полета. Ударился о землю, и тьма покрыла меня.
Когда я открыл глаза, вокруг было темно, и я не сразу понял, жив я или мертв и где нахожусь. Перевернулся на спину и увидел звезды — они были яркими. Такими яркими я их не видел никогда. Тишина вокруг стояла такая, будто я был единственным живым существом на всей земле, и я не чувствовал ни страха, ни боли и не мог оторвать взгляда от звезд на небе. Мне так хорошо и покойно было лежать здесь, что хотелось лежать вечно. Темень, тишина, звезды, и больше ничего. И больше не надо ничего. Я поднялся только тогда, когда небо стало бледнеть и звезды исчезли. Сказка кончилась, и меня снова охватил страх. Я почувствовал озноб, боль в ногах, голод. Поднялся и побрел вперед, то и дело натыкаясь на стволы и цепляясь одеждой за сучья. Когда стало уже совсем светло, я добрался до города.
Не буду описывать всех своих дальнейших скитаний, скажу только, что мне пришлось тяжело. Одежда моя пришла в совершенную негодность, денег не было, а страх быть узнанным и пойманным преследовал меня повсюду.
Я ушел из того города тогда же, на рассвете. Шел, то прося пропитание, то воруя, если предоставлялась такая возможность, и много дней спустя, оборванный и грязный, со спутанными волосами и заострившимся от голода лицом, я наконец добрался до Эдессы, того города, где Гай показывал мне тайник.
Дождался вечера и пошел за город. Я бродил в роще до самого утра, но так и не обнаружил тайника. Искал до полудня, но все было тщетно. Несколько раз мне казалось, что я узнаю дерево и ручей, но все было не то. Я лег на землю ничком и долго лежал неподвижно. Мне было так плохо, что даже плакать не было сил. И не было сил проклинать Гая и свою несчастную судьбу.
Каким бы я несчастным и потерянным себя ни чувствовал после того, как не смог найти тайник, надежда найти Гая все-таки не покинула меня окончательно. Впрочем, никакого другого пути у меня и не было: либо найти Гая и попробовать добиться от него раскрытия тайны, либо — не хочется об этом говорить — нищее полуголодное существование.
Но некоторым образом я все же привык к этой своей новой жизни, и она уже не казалась мне столь страшной, как когда-то. Я брался за любую работу, умело просил милостыню, изучил людей, знал, что у этого можно просить и он даст, а у этого даже и спрашивать нет никакого смысла — хоть умри перед ним, все равно не даст и куска хлеба.
Не могу даже сказать, что я жил теперь впроголодь — недостаточно сытно, но вполне сносно для того, чтобы преодолевать такие большие расстояния. У меня была мечта обзавестись лошадью. Купить я ее, конечно, не мог, а решил украсть. Последнему я научился и делал это достаточно ловко. Однажды мне повезло, и я увел лошадь с рынка, едва ли не из-под носа у хозяина. Лошадь была старая, плохонькая, но и она значительно облегчила трудности долгих, утомительных переходов. Я шел по тому же маршруту, по которому мы столько лет ходили с Гаем, а потом вместе с членами нашей общины. Мне были знакомы каждая роща, каждое деревце, кажется, каждая выбоина на дороге — я мог идти по этому маршруту с закрытыми глазами. В каждом городе, в каждом населенном пункте, где мы прежде останавливались, я оставался по нескольку дней. Присматривался, осторожно выспрашивал людей и ждал счастливого случая, что вот вдруг где-нибудь на улице увижу Гая. Правда, с каждым новым городом эти надежды таяли. Но я шел дальше и верил, верил…
Однажды случилось чудо. Но не то, которого я желал и жаждал, но еще более чудесное. В тот час я обедал, сидя у стены храма, неторопливо и устало поглощая свою скудную еду. Сначала я увидел ноги — человек подошел и остановился передо мной. Я не поднимал головы и ждал, когда он уйдет. Мне не с кем было разговаривать и не о чем. Но он не уходил, и я вынужден был посмотреть на него.
Это был мужчина лет пятидесяти, с короткой, аккуратно подстриженной бородой и довольно красивым лицом. Среднего роста, среднего сложения, ничем особенно не примечательный. Одет был не богато, но и не бедно, так, как одеваются горожане среднего достатка. На плече висела объемистая дорожная сумка, он придерживал ее рукой. Другой рукой неторопливо теребил свою курчавую с проседью бороду и не сводил с меня взгляда.
Наши взгляды встретились, и он медленно, как бы узнавая, раздвинул губы в мягкой улыбке. Но глаза его при этом не улыбались и словно прожигали меня насквозь. Мне стало страшно, и это был не обычный испуг, а как будто какой-то потусторонний, неведомый мне до этого страх. Я смотрел на него и не мог пошевелиться.
— Никифор? — спросил он, четко выговаривая каждый звук.
Я не ответил, а только испуганно кивнул.
— Долго же я искал тебя, — проговорил незнакомец, — и все-таки не думал найти тебя так скоро.
Я снова бессмысленно кивнул, как будто он спрашивал меня о чем-то.
Он усмехнулся:
— Не надо бояться, Никифор, я не причиню тебе никакого зла. Напротив, я готов дать тебе денег. Вижу, что для тебя они будут не лишними.
— Я ничего не знаю, — быстро сказал я, хотя он не успел ни о чем спросить, кроме имени. — Я ничего не знаю, ты, наверное, ошибся.
— Нет, я не ошибся, — спокойно отвечал незнакомец. — Ведь ты Никифор, воспитанник некоего Гая, которого люди называют Гай Иудейский.
Когда он произнес это последнее «Гай Иудейский», мне показалось, что губы его задрожали.
— Я ничего… — начал было я, но он перебил:
— Оставь это. Повторяю, я не причиню тебе зла. Мне нужен Гай, и я хочу, чтобы ты провел меня к нему.
— Но я не знаю, где он, — сказал я. — Я сам ищу. То есть…
Тут я остановился и, с трудом сообразив, что этого не нужно говорить, продолжил:
— Я давно не видел его, и никто не знает. Никто не знает, и я не уверен, жив ли он вообще
— Жив, — неожиданно уверенно выговорил незнакомец, — Я знаю это — он не может умереть
— Почему? — сам не понимая, что говорю, спросил я.
— Потому что я знаю, — ответил он и вдруг, присев на корточки, протянул руку и крепко сжал мой локоть. — Ну, ты же разумный юноша, Никифор. ты проведешь меня к Гаю. Имей в виду, он будет рад встрече со мной и, думаю, тоже наградит тебя.
— Но я не знаю, — жалобно и просительно протянул я, не решаясь высвободить руку, хотя мне было боль но, — Я правда не знаю, где он, я не видел его уже больше года. Он бежал, а меня держали в плену Я сам едва уберегся от смерти. Если они найдут меня, то убьют Откуда же я могу знать, где он
Не понимаю, зачем я проговаривал ему всю эту бессмыслицу Наверное, всему виною этот неведомый, потусторонний страх и его взгляд, прожигавший меня насквозь.
А он смотрел на меня так, будто ему все было известно в подробностях — вся моя жизнь, от самого начала до сегодняшнего дня.
— Ладно, Никифор, — остановил он мои сбивчивые излияния. — Оставим это Может быть, ты вспомнишь, если я скажу тебе, кто я такой — Он сделал паузу и, приблизив свое лицо к моему лицу. четко и медленно выговорил — Я Сулла.
Лишь только он произнес это я в страхе отшатнулся от него так резко, что ударился затылком о стену, из глаз моих брызнули искры.
— Видишь, — сказал он, когда я чуть пришел в себя — значит, тебе все известно, — Значит, твоя память пойдет теперь по нужному руслу — И добавил с уже знакомым мне дрожанием губ — Значит, мой любимый Гай все таки открылся и страх его стал сильнее разума.
Он взял меня за руку и, довольно грубо дернув, сказал:
— Пойдем, Никифор, нам предстоит долгий путь, а человеческая жизнь так коротка.
С этого момента я сделался пленником Суллы. Пленником особого рода, почти добровольным пленником. Это трудно объяснить, почти невозможно. Но я так боялся его, что не смел бежать. Он не угрожал мне, не связывал меня на ночь, не говорил, что если я побегу, а он поймает меня, то мне будет плохо. Ничего этого он не говорил и не делал. Но я словно был привязан к нему невидимой веревкой: не очень короткой, не очень длинной, но очень крепкой, которую не развяжешь, не разрубишь, а главное, не посмеешь разрубить.
До сих пор не могу понять, верил ли он в то, что я не знаю, где Гай, но точно был уверен, что с моей помощью найти Гая будет значительно легче. Мы не жили вместе, так, как мы когда-то жили с Гаем, — я жил сам по себе, а он отдельно от меня, но все время находясь вблизи. И даже когда я не видел его, я все равно почти физически ощущал его незримое присутствие. Я мог бы сказать, что он постоянно следил за мной, но это неверно: не он следил за мной, а я не мог оторваться от него. Мне сейчас кажется, что если бы я сумел от него убежать и он потерял бы меня, то не он, а я не смог бы так жить.
Мои объяснения могут показаться путаными, но других у меня нет. Есть в мире вещи, которое не объяснишь человеческими словами, и чем упорнее будешь пытаться объяснять, тем дальше будешь уходить от истины. Только Господь знает все. С этим нужно смириться, но не с грустью, а с радостью.
Прошло больше полугода с того дня, как ко мне подошел Сулла. Сначала был страх, потом неудобство от его постоянного присутствия, потом, как это всегда бывает с человеком, я просто привык к нему. Когда я ехал по дороге, или когда останавливался отдохнуть у рощи, или сидел вместе с другими нищими у ворот храма, мне не нужно было оглядываться за спину и смотреть по сторонам — Сулла неизменно был где-то рядом. Ехал в двухстах шагах за мной, стоял на другой стороне улицы, его глаза встречали мой взгляд из толпы где-нибудь на рынке или на празднестве. Бывало, он исчезал на несколько дней, и тогда меня охватывало беспокойство. Я уже говорил, что не могу объяснить причину, но беспокойство было самым настоящим и все нарастающим. Когда он снова появлялся, я облегченно вздыхал.
Я ловил себя на мысли, что уже не ищу Гая, то есть не было уже прежнего упорства в достижении цели. Да и сама цель — Гай — потускнела и маячила передо мной нечетко, словно в рассветном тумане. Я все еще желал обещанного Гаем богатства, но уже не верил в него. Может быть, не знаю, но если бы не Сулла, я уже не ходил бы по известному маршруту, но, пока он был, я, как подталкиваемый чьей-то рукой, шел и шел неостановимо.
Время от времени до меня доходили слухи о жизни нашей общины. Она не распалась, даже разрослась и приобрела среди людей довольно заметное влияние. Их теперь называли последователями исчезнувшего Гая. Правда, не знаю, как они называли сами себя, наверное, по-другому. Я знал о них не много — то, что они есть, то, что проповедуют свое учение (мне неинтересно было, в чем оно заключалось) и что возглавляет общину Иосиф, тот самый старик. Когда-то я страшился встречи с ними и был очень осторожен. Но прошло много времени, и, думаю, обо мне забыли. Да и вряд ли кто-нибудь из них сейчас смог бы опознать меня. Давным-давно уже не было того уверенного, властного, самодовольного Никифора, а был обычный нищий странник, кочующий из города в город, смиренно и умело собирающий милостыню у храмов.
Не думал, что судьбе будет угодно столкнуть меня с одним из бывших спутников, и, разумеется, не предполагал, что эта встреча так круто изменит мою последующую судьбу. Если бы встреча эта произошла где-нибудь в толпе на рынке или на паперти храма, я не был бы так удивлен. Но она произошла на дороге, когда я был один, если не считать где-то вдалеке следовавшего за мной Суллы.
Я увидел странника, идущего мне навстречу, обычного странника, каких я встречал тысячами — бедно одетого, смертельно усталого, с неподвижным и отсутствующим выражением на лице. Когда мы поравнялись, равнодушно скользнув друг по другу взглядами, что-то как будто шевельнулось во мне. И я, оглянувшись на него, уже прошедшего мимо, вдруг окликнул:
— Ананий!
Он остановился, словно ткнулся в каменную стену. Я опять сказал.
— Ананий, ты ли это?
Он повернул ко мне лицо, долго, как бы не понимая, смотрел на меня, потом, едва заметно пошевелив губами, удивленно выговорил:
— Это ты, Никифор?
Это был Ананий, один из тех, кто первым пристал к нам с Гаем. Он узнал меня, но не подходил и смотрел настороженно
— Ананий, рад тебя видеть! Что ты делаешь здесь? Куда идешь? — воскликнул я, поворачивая лошадь и направляясь к нему.
И вдруг он сделал несколько торопливых шагов в сторону от дороги. Я остановился, и только тогда остановился он. И тут я понял, чего он боится. Вспомнил тот день, когда Гай бежал из общины, мой арест, угрозы старика. Да, да, конечно, Ананий стоял всегда рядом со стариком. Он боялся, что я буду мстить за свои тогдашние муки.
— Не бойся, Ананий, — сказал я ему как можно более приветливо, — я давно забыл, что произошло со мной в общине. Все прошло, я забыл об этом. Я не желаю тебе зла. Сам не знаю почему, но я так рад нашей встрече.
Я спрыгнул с лошади и направился к нему, выставив перед собой руки. Он шагнул мне навстречу, и мы обнялись. Краем глаза я увидел следовавшего за мной Суллу. Он остановился, тоже слез с лошади и уселся на обочине дороги.
У меня в седельной сумке была кое-какая еда, и я пригласил Анания разделить со мной трапезу. Он с радостью согласился, от его прежней настороженности не осталось и следа. Мы отошли от дороги, уселись на камни, и я достал еду. Ананий ел жадно, виновато поглядывая на меня. В ответ я поощрительно улыбался, а сам подумал, что есть люди, чье существование много хуже моего.
Насытившись, Ананий стал особенно разговорчив. Он сказал мне, что прошло уже несколько месяцев, как он покинул общину, потому что жизнь там сделалась совершенно невыносимой, и что он с грустью вспоминает то время, когда в ней были мы с Гаем. Иосиф, тот самый старик, захватил в общине полную и беспрекословную власть, держал всех в черном теле и жестоко наказывал провинившихся, иногда даже смертью. Никто не смел ему перечить, и все боялись одного только его недовольного взгляда. Ананий бежал от них так же, как когда-то бежал я. За ним гнались, но Бог, как выразился сам Ананий, в тот раз был на его стороне, и ему удалось оторваться от погони. Теперешняя его жизнь была похожа на мою как две капли воды, с той лишь разницей, что я вел ее дольше и был значительно опытнее, хотя и моложе годами.
— Да, — вдруг спросил Ананий, прервав свой рассказ и посмотрев на меня так, будто только что встретил, — а почему, ты не с Гаем?
— С Гаем? — переспросил я, не понимая.
— Ну да, — еще больше удивился он, — ведь вы с ним были неразлучны.
— Были когда-то, — сказал я и покосился в ту сторону, где на обочине дороги сидел Сулла. — Но с тех пор как он бежал, я больше не видел его и не знаю, где он. Порой мне кажется, что его давно уже нет в живых.
— Как нет в живых! Что ты такое говоришь! — воскликнул Ананий. — Не далее как месяц назад я сам видел его.
Если бы в эту минуту меня неожиданно ударили палкой по голове, я бы не так удивился.
— Ты… видел… Гая?! — выговорил я с таким трудом, будто только что научился говорить.
— Ну да, — отвечал он, пожав плечами, словно бы то, что он сказал, было известно всем, кроме меня одного, — видел, вот так же близко, как тебя. Он постарел, и рука у него такая же кривая, и он стал немного странным, но в остальном он такой же, как и был.
Только в эту минуту я осознал смысл сказанного Ананием, вскочил на ноги и, нависая над ним, воскликнул:
— Где?! Где же ты видел его?!
— В Антиохии, — проговорил он растерянно, глядя на меня снизу вверх.
— Как, как ты его нашел?! — Я схватил Анания за одежду у ворота и сильно потряс его.
— Что ты! Что ты! — испуганно закричал он. — Я случайно, я не хотел. Просто один мой родственник…
От волнения он не сумел договорить и уставился на меня округлившимися от страха глазами.
Не сразу я понял, что не добьюсь от него ничего, если стану пугать его своей взволнованностью и криками. И, осознав это, я заставил себя успокоиться, хотя спокойствие далось мне с большим трудом. Наконец я сумел разговорить Анания, и вот что он мне рассказал.
Убежав из общины, он скитался по разным городам и как-то забрел в Антиохию. Там у него жил дальний родственник, а Ананий уже дошел до полной нищеты и голодал в самом настоящем смысле. У него было мало надежд на помощь родственника, он помнил его как скаредного и недоброго человека. Но деваться было некуда, и он решился найти его. Каково же было удивление Анания, когда родственник встретил его ласково, накормил, одел, дал на дорогу немного денег, пригласил заходить не стесняясь, если будет нужда. Ананий поблагодарил за прием и заботу и, не удержавшись, спросил, отчего же в нем произошла такая перемена. Ведь шел он к нему без всякой надежды.
Родственник кротко улыбнулся (Ананий все никак не мог привыкнуть к этой его кроткой улыбке) и смиренно отвечал, что не нужно собирать себе богатств на земле, а нужно собирать себе богатства на небе. И еще он сказал, что всякому человеку следует поделиться с ближним последней рубашкой и последним медяком. И еще долго и увлеченно говорил ему родственник о тщете человеческой жизни и о благах небесной жизни, куда отлетает душа, когда человек умирает.
Ананий мало что понял, но больше из вежливости, чем из любопытства, спросил, что это за учение и кто его основатель? Родственник ответил, вдруг посмотрев на Анания строго, что это единственно истинное учение, как он выразился, Господа нашего Иисуса Христа, не какого-то там пророка, а настоящего Сына Божьего, распятого злыми людьми, врагами Бога и истины, и принявшего смерть за грехи всех людей на земле. Под строгим взглядом родственника Ананий, подражая ему, кротко улыбнулся и согласно кивнул. А родственник все продолжал говорить об учении Сына Божьего и, кажется, все никак не мог остановиться. Ананий внимательно слушал, но уже не понимал ничего.
Закончив, родственник сказал, что последователи Иисуса Христа называются христианами, и ему очень бы хотелось, чтобы и Ананий принял истинную веру и обрел настоящее бессмертие души.
— Ты хочешь, Ананий, — спросил он, — обрести бессмертие?
— Конечно, хочу, — отвечал Ананий самым убедительным тоном, на который вообще был способен.
Но родственника это не очень убедило, и, недоверчиво посмотрев на Анания, он сказал, что хотя их община не слишком велика, а власть преследует их везде, где может, к ним приходят не одни только бедняки, но и очень состоятельные и образованные люди. Например, есть у них человек, который пожертвовал общине все свое богатство. А на такие деньги можно жить с большой семьей и слугами и две, а то и три жизни. Ананий снова покачал головой, всем своим видом изображая почтение и удивление. Родственник посмотрел на него недоверчиво и сказал, что может отвести его в общину, пусть Ананий послушает и посмотрит на людей. Ананию ничего не оставалось, как только согласиться — чем ему еще можно было отблагодарить столь щедрого и милостивого родственника!
На следующий день, вечером, родственник повел его на окраину города, где находились заброшенные еще при императоре Августе серебряные рудники. Со всеми возможными предосторожностями по замысловато вьющейся тропинке они подошли к одной из пещер. Родственник сказал человеку, стоявшему у входа, какие-то непонятные слова, и тот пропустил их внутрь. В конце узкого прохода Ананий увидел свет и услышал негромкое пение. Пространство, где находились люди, было довольно небольшим: человек двадцать сидели прямо на земле, касаясь плечами друг друга; несколько человек пели, остальные слушали. Три или четыре факела были воткнуты в землю по обе стороны пещеры, и отсветы пламени делали лица людей особенно загадочными. Пение прекратилось, и один из них, не старый, с черной курчавой бородой и горящими глазами, стал говорить об истине, о бессмертии души, о тщете человеческой жизни, то есть почти то же самое, что говорил накануне Ананию его родственник. Ананий плохо воспринимал слова говорившего и слушал невнимательно, рассеянно поглядывая по сторонам.
И вот тут родственник вдруг легонько толкнул его в бок и, кивнув на человека, сидевшего у противоположной стены, сказал шепотом, что это тот самый, кто отдал все свое богатство общине и живет теперь, как и все они, одною истинною верой. Взглянув на того, на кого указал родственник, Ананий с удивлением узнал Гая. Гай внимательно слушал говорившего, иногда задумчиво кивал. Все то время, что они пробыли в пещере, Ананий не сводил глаз с Гая, но тот не смотрел на него. Он и вообще ни на кого не смотрел, слушал говорившего, кивал и одновременно будто бы был погружен в свои мысли.
Когда собрание закончилось и все разошлись, а они с родственником вернулись домой, Ананий так и не решился спросить его о Гае, а тем более не сказал, что знал его когда-то как Гая Иудейского. Почему-то он понимал, что этого говорить нельзя.
Сказать, что я был поражен рассказом Анания, значило не сказать ничего. Не могу сейчас передать своих тогдашних чувств, скажу только, что я был взволнован так, как если бы своими глазами увидел сходящего с небес Бога Я долго сидел в молчании, внутри меня образовалась пустота. Словно рассказ Анания открыл тайное окошко где-то внутри меня и вся моя прежняя жизнь вышла в это окошко и улетела неизвестно куда, оставив внутри пустое, мертвое пространство.
Ананий не прерывал молчания, только время от времени с любопытством и настороженностью поглядывал на меня.
Вдруг я сказал
— Ананий, ты отведешь меня к Гаю?
— Не знаю, — ответил он, — я не собирался в Антиохию.
— И я не собирался в Антиохию, — откликнулся я, — но теперь поеду туда. Прошу тебя, поедем со мной Ты должен отвести меня к Гаю.
Некоторое время Ананий сопротивлялся, пожимал плечами, делал недовольное лицо. Но я все же смог убедить его ехать со мной. Сейчас я отдал бы все на свете, только чтобы заставить его поехать. Правда, у меня ничего не было.
Убеждая его, я было собрался открыть ему тайну Гая и пообещать часть денег, причитавшихся мне, но вовремя сдержался. Зато я сказал ему, что вместе нам будет лучше, что по дороге мне известны места, где подают щедрую милостыню, а в некоторых местах нас будут кормить просто так. Еще я пообещал, что буду отдавать ему большую часть того, что соберу сам, и что мне ничего не нужно, а еды я возьму ровно столько, чтобы только не умереть с голоду. Кажется, этот последний довод его особенно убедил, и он сказал мне, что хотя это для него и неудобно и в Антиохию он не собирался так быстро, но только ради того, чтобы помочь мне, пожертвует своими планами.
— Ты не пожалеешь, Ананий, — сказал я ему. — Истинно говорю тебе, не пожалеешь!
Это последнее я произнес каким-то странным для самого себя голосом, словно бы не своим. Словно бы не я, а кто-то во мне произнес эти слова. И Ананий услышал их точно так же. Он смотрел на меня, раскрыв рот, и послушно, испуганно кивнул.
Я уступил ему место в седле, а сам пошел впереди, ведя лошадь. Лишь только мы двинулись в путь, как и Сулла (я все время не выпускал его из виду) прыгнул в седло и поехал за нами, держась на расстоянии все тех же двухсот шагов, что и прежде. Воистину, он был моей тенью.
Я шел, а Ананий ехал и болтал без умолку, как видно, довольный своим новым положением. Но я не слушал его, я думал о своем. Сейчас я почему-то совершенно не сомневался, что найду Гая. Меня тревожило только одно — как уехать от Суллы. Скоро у меня созрел план. Но я не открывался Ананию, я не знал, как он примет его и как поведет себя при этом.
Мы двигались довольно быстро, и я все время торопил Анания. Находясь в зависимости от него и боясь, что Ананий будет недоволен, я старался делать все, что было в моих силах, чтобы ему стало удобно со мной. Просил милостыню так проникновенно и с такой дрожью в голосе, будто от того, дадут мне или нет, зависела вся моя жизнь. И люди проникались этим и щедро одаривали меня. Я крал одежду, пищу и деньги, где только можно было украсть, и совершал это так смело и хитроумно, будто всю мою жизнь занимался только этим. Скажу без особого преувеличения, что ели мы сытно и жили вполне хорошо. По крайней мере, Ананий (я это отчетливо видел) был доволен. Сам он перестал ходить за милостыней и лениво ждал моего возвращения. Он так утвердился в новом своем положении, что даже стал помыкать мной — говорил, что это он есть не будет, а хочет другого, что одежда, которую я украл для него, подвергая опасности свою жизнь и свободу, тесна ему и он не собирается носить чьи-то обноски. Его поведение выводило меня из себя, но я был терпелив и, какие бы претензии он мне ни предъявлял, отвечал смиренно, что прошу у него прощения и впредь постараюсь делать так, как он хочет. Ананий милостиво прощал меня и напоминал, что, только снизойдя к моим горячим просьбам, изменил свой маршрут и потерял многое из того, что мог бы иметь, будь он один. Я снова благодарил его и старался всячески ему угодить.
Много дней спустя — это время показалось мне вечностью — мы наконец достигли Антиохии. Сулла, как и всегда, словно тень следовал за нами, то исчезая из поля моего зрения, то появляясь вновь. Глупый и беспечный Ананий так и не заметил его присутствия рядом. Больше всего я боялся, что Сулла подойдет к нам: заговорит, станет угрожать и, главное, поймет, что именно Ананий мой проводник к Гаю. Если бы он понял это, то я стал бы ему не нужен. Я решил про себя безжалостно, что убью Анания в тот самый миг, как только Сулла подойдет к нам, и при этом не буду выяснять., догадался ли он обо всем или подошел по другой причине. Я достал себе нож (украл у одного мясника), наточил его до самой невозможной остроты и, пряча от Анания, всегда носил при себе. Если бы Ананий узнал, какой опасности подвергается его жизнь ежеминутно и от чего она зависит, то умер бы от страха тут же передо мной. Но пока он лениво продолжал путь в моем мягком седле, сытно ел и сладко спал. Я удивлялся его безмятежности и завидовал ей.
Когда мы достигли Антиохии и, не въезжая в город, расположились недалеко, в поле, на отдых, я попросил Анания внимательно меня выслушать. Я сказал ему, что у Гая есть деньги, много золотых монет, которые он обещал мне и которые обязательно отдаст, лишь только я встречу его. Дальше я сказал, осторожно указав на Суллу, сидевшего поодаль, что вот этот человек враг Гая и хочет забрать у него те деньги, которые принадлежат мне. Он преследует меня повсюду и ждет той минуты, когда я встречусь с Гаем. Ананий посмотрел в ту сторону, где сидел Сулла, и лицо его вытянулось от удивления и страха.
— А что он сделает с тобой, с нами? — наконец сумел выговорить он, повернувшись ко мне.
— С тобой он ничего не сделает, — отвечал я, вздохнув, — а меня убьет.
— Убьет! — страшным шепотом произнес Ананий
— Убьет, — подтвердил я довольно спокойно.
Такое мое спокойствие было, конечно, наигранным.
Я хорошо чувствовал Анания и понимал, каким образом можно испугать его по-настоящему. И я не ошибся — Ананий был сильно испуган.
— Что же теперь будет? — едва не плача, произнес он.
— Не бойся, Ананий, — сказал я, — мы сумеем перехитрить этого человека.
— Но как? — пролепетал Ананий — Я не хочу, я боюсь! Это не мое дело, а твое.
Тут он, поминутно поглядывая на Суллу, стал упрекать меня за то, что я ввязал его в эту историю и что только одного того страха, которого он натерпелся, когда бежал из общины, хватит на всю его жизнь и другого такого переживания он просто не перенесет.
— Понимаю, Ананий, — сказал я с обреченностью в голосе, — но что же теперь делать!
— Я не хочу, я уйду… — заплакал он, и слезы крупными каплями побежали по его лоснящимся щекам.
Вот тогда я и сказал ему, что у меня есть план и что главное — это вовремя предупредить Гая. Ведь община христиан не даст его в обиду, но если этот человек, Сулла, явится к Гаю внезапно, то последний не сумеет защититься сам и не успеет позвать на помощь.
Наш разговор с Ананием был долгим и тяжелым. Впрочем, я заранее предполагал это. Он то плакал и просил отпустить его, то ругал и поносил меня самыми последними словами, то впадал в совершенное оцепенение и бессмысленно молчал. Но я все-таки сумел ему втолковать, что нужно делать, и убедил, что это наш единственный шанс на спасение. Ему некуда было деваться — причитая и жалуясь на свою несчастную судьбу, он вынужден был согласиться.
Мы въехали в город и, следуя указаниям Анания, оказались на той улице, где стоял дом его родственника. Когда мы проезжали мимо, Ананий незаметно указал мне на него. Я спокойно прошел дальше (напоминаю, что Сулла все время следовал за нами), и вскоре мы оказались на другой стороне города. У меня было припасено немного денег, и мы поселились на постоялом дворе. Я велел принести еды и сытно накормил Анания. Несмотря на свой страх, он ел с обычной жадностью и, насытившись, несколько успокоился.
Я дождался вечера и строго приказал Ананию делать, как я сказал. За все время нашего долгого пути впервые я не просил, а приказывал. Для большей убедительности я вытащил и показал ему нож, говоря, что, если он выдаст меня, у меня не будет никакого другого выхода, как только покончить с ним. Он в страхе смотрел на нож и беспрерывно кивал. Мы поменялись одеждой: он надел мою, я — его. Правильнее сказать, я делал все за него — его руки не слушались, а губы дрожали. В самом конце я повязал его голову моим платком, который стал носить некоторое время назад, так чтобы он запомнился Сулле. Лицо под ним, да еще в темноте, трудно было разглядеть.
— Ну все, Ананий, пора, — сказал я, оглядывая его внимательно и придирчиво.
Но Ананий не двигался с места. Его тело била мелкая дрожь, взгляд был неподвижен — мне показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Я с ужасом подумал, что из-за глупости и трусости Анания мне так ничего и не удастся сделать. У меня мелькнула мысль оставить его в покое и положиться на судьбу.
Но отступать было поздно. Загасив светильник, я крепко взял Анания за плечи, толкнул к выходу. К моему удивлению, он пошел, к тому же довольно ровным шагом, хотя и напряженно ступая. Осторожно прячась за выступами коридора, в котором на мое счастье было почти совсем темно, я последовал за ним. Он медленно сошел со ступенек и оказался во дворе.
Тут произошло невероятное, я меньше всего ожидал этого. Постояв несколько мгновений, Ананий вдруг бросился со всех ног к лошади, которую мы привязали тут же, отвязал, вскочил в седло и, ударяя ее ногами и рукой, ускакал в темноту. Прошла минута, а то даже и две, когда я увидел проскакавшего мимо Суллу. Воистину, тогда Господь был на моей стороне, и я, никогда не думавший о Боге, мысленно вознес ему хвалу.
Лишь только затих топот копыт, как я соскочил со ступенек, прижимаясь к стене дома, и юркнул в темноту. Как и в тот раз, когда я бежал из общины, ноги несли меня сами — я не бежал, а почти летел над землей.
Едва ли не в несколько минут я оказался у дома, указанного мне Ананием. Справившись с одышкой, постучал и спросил хозяина. Ко мне вышел пожилой, опрятно одетый человек, вежливо и даже смиренно спросил меня, что мне нужно. Я принял самый несчастный вид и намеренно сбивчиво, но довольно понятно стал говорить, с какими трудностями я добирался до Антиохии, чтобы только примкнуть к общине христиан. Я увидел — что было естественно — недоверие в его взгляде и тут же сказал ему про Анания. Что встретил его в Эдессе, где он поведал мне об единственно истинном учении Господа нашего Иисуса Христа. Последнее я произнес твердо и с особенным чувством. Стоявший передо мной человек удовлетворенно повел головой, а я, не давая ему прервать меня, сказал, что жажду истины и что это единственный смысл и единственное оправдание моей ничтожной жизни.
Я еще довольно долго распространялся о своих исканиях, о тех сектах, к которым пытался примкнуть, но из которых уходил, понимая всю неправоту их учения. Я сказал ему, что и прежде слышал о христианах, но только Ананий смог разъяснить мне смысл бессмертия души и гибель Сына Божьего, умершего за грехи всех людей на земле.
— Не умершего, — мягко прервал меня хозяин, — а воскресшего.
Я принял лицом радостное выражение, будто воскресение из мертвых неведомого мне Сына Божьего могло быть моей личной радостью. Я находился в особенном вдохновении и при разговоре с родственником Анания, думаю, не сделал ни единой ошибки.
— Как тебя зовут, юноша? — спросил он.
— Никифор, — едва ли не пропел я.
— Где ты остановился, Никифор? — снова спросил он, ласково на меня глядя.
Я виновато пожал плечами и ничего не ответил.
— Понятно, — кивнул он, — оставайся пока у меня. У меня маленький дом и большая семья, но, как учил Господь: возлюби ближнего, как самого себя. Ты нравишься мне, Никифор, пойдем в дом.
Я остался у него на ночь, пробыл весь следующий день, до вечера. Должен признаться, хозяин замучил меня разговорами об учении христиан. Он говорил, говорил, говорил — по-видимому, это доставляло ему большое удовольствие. Я делал вид, что внимательно слушаю, изображал лицом крайнее удивление, страх, восторг. Но, честно сказать, я мало что понял из его разговоров, да и слушал невнимательно. Голова моя была занята другим. Я боялся, что Сулла, догнав Анания и выпытав у него все, вдруг явится сюда, за мной. И тогда… мне страшно было представить, что же будет тогда.
Внимая хозяину, я прислушивался к каждому звуку, доносившемуся с улицы, к каждому шороху в доме. Мой страх был так велик, что дрожали и губы, и руки. Я пытался скрыть свое состояние от хозяина, но, с другой стороны, дрожь была очень к месту — хозяину, конечно, казалось, что это он так взволновал меня пересказом учения христиан.
Уж не помню, как я дожил до вечера. Я молил Бога, чтобы хозяин повел меня в общину сегодня же, ведь завтрашнего дня у меня уже быть не могло. Если даже Ананий не сказал ничего или просто умер от страха, все равно Сулла доберется до меня.
Было уже поздно, когда хозяин сказал, что нам пора идти. Мы прошли на окраину города, к тем самым заброшенным серебряным рудникам, о которых упоминал Ананий, и вскоре оказались у одной из пещер. Хозяин сказал что-то стоявшему у входа человеку, и мы вошли. Да, рассказ Анания был точен: туннель, свет в конце туннеля, тихое пение, тесно сидящие люди, отсветы огня на лицах.
Лишь только мы сели, как я увидел Гая и уже не мог оторвать от него глаз. Ничего не видя и не слыша вокруг, я смотрел на него, и мне казалось, что, если только на мгновение отведу взгляд, Гай исчезнет. Он был в задумчивости, и за все время собрания ни разу не посмотрел в мою сторону.
Когда все закончилось и мы вышли, я спрятался і» темноте за камнями и не отзывался на голос хозяина, нетерпеливо и настороженно окликавшего меня. Наконец он ушел, и его голос звучал все глуше и глуше
— Никифор! Где ты, Никифор! Отзовись!
Я осторожно вышел из-за камней и побежал в ту сторону, куда ушли все, — так же, как меня потерял мой хозяин, я мог потерять Гая. Минутами казалось, что я его уже потерял, и сердце мое в страхе сжималось в груди, а крик: «Гай, где ты?!» — застревал в горле. Мне казалось, что к пещере в рудниках вела одна-единственная тропинка, но, возможно, их было несколько, и Гай ушел совсем в другую сторону. В темноте я едва различил, как люди, шедшие сначала плотной группой, стали расходиться. Я не знал, за кем мне идти, и просто двигался вперед.
И вдруг я увидел Гая. Он вышел из темноты в полосу света, будто бы чудесным образом соткался из холодного ночного воздуха. Показался и снова исчез в темноте. Я бросился туда, куда он исчез, и уже через несколько шагов ткнулся в его спину. Он быстро отступил в сторону, прижался спиной к стене дома. Я не видел его лица, но мне показалось, как что-то блеснуло в темноте.
— Га-ай! — позвал я протяжно — Это я, Никифор
Почему-то я побоялся сделать шаг в его сторону и,
оставшись на месте, тихо проговорил:
— Я так долго искал тебя, Гай Не уходи Я должен сказать тебе. Сулла где-то рядом
— Никифор, — наконец услышал я, и после недолгой паузы снова, со столь знакомыми мне интонациями: — Знал бы ты, Никифор, как близко стоял от своей смерти, всего в шаге от нее Не понимаю, почему ты не сделал этого шага
С этими словами его тень отделилась от стены, и я почувствовал его тяжелую руку на своем плече. Он что-то спрятал под одежду и вдруг я понял, что это было оружие — меч или нож. В самом деле, может быть, смерть еще никогда не подходила ко мне так близко.
— Пошли, — сказал он и быстро пошел вперед.
Я последовал за ним, стараясь не отставать, но ноги мои стали словно из камня, и я с трудом передвигал их.
Шли мы долго. Он привел меня к маленькому домику, едва ли не сараю, на противоположной от рудников окраине города, толкнул дверь — она оказалась не заперта, — вошел внутрь. Я — за ним. Остановившись сразу за порогом, ждал. Он что-то делал в темноте. Наконец зажег светильник и пригласил меня внутрь помещения.
Жилище его было убогим: земляной пол, глиняные, со сквозными дырами стены, низкая узкая кровать, стол. И больше ничего.
— Садись, Никифор, — сказал он, указывая на кровать, а сам остался стоять у узкого окна. — Садись, отдохни. Я вижу, ты очень утомился.
Я присел на самый край кровати, доски жалобно заскрипели.
— Говори, Никифор, я слушаю тебя, — сказал он некоторое время спустя.
Я не знал, с чего начать, молчал, и тогда он помог мне:
— Ты говорил о Сулле. Скажи, неужели он подошел так близко?
— Да, — кивнул я.
И вдруг меня словно прорвало. И я, волнуясь, стал пересказывать ему свою жизнь с того самого времени, когда Гай покинул общину. Он ни разу не прервал меня, не задал ни одного вопроса. Минутами мне казалось, что он не слышит меня. Жалкое пламя светильника почти не давало света, но порою глаза Гая словно вспыхивали ярко, и мне делалось страшно. Я сбивался в своем рассказе и не сразу находил нить продолжения. Наконец я закончил, сказав:
— Вот и все, Гай. Я искал тебя, чтобы предупредить.
Он долго молчал, потом неожиданно выговорил:
— Да ты, наверное, голоден, Никифор. У меня есть немного еды.
С этими словами вышел в прихожую, принес холщовую сумку, пододвинул стол к кровати, достал из сумки две лепешки, одну протянул мне. Ржаная лепешка больше походила на сухарь. Я откусил и стал жевать, с трудом глотая. Во рту у меня было сухо, и кусочки лепешки больно царапали горло. Я не мог есть и осторожно положил лепешку на край стола. Мне показалось, что Гай улыбается. Дожевав свою лепешку, собрав крошки в ладонь и отправив их в рот, он сказал:
— Прости, Никифор, больше у меня ничего нет.
Я не удержался и спросил:
— Зачем ты так живешь, Гай? Ведь у тебя есть…
Он остановил меня движением руки:
— У меня ничего нет, кроме веры в Господа нашего Иисуса Христа, — неожиданно проговорил он.
— Но, Гай, я хотел сказать…
Он снова перебил меня:
— Не говори о том, чего не знаешь.
Я уже боялся спрашивать его, а он, посидев некоторое время молча, вдруг стал говорить мне о тщете человеческой жизни, о бессмертии души, о распятом и воскресшем Боге, о богатстве, которое человек должен собирать не на земле, а на небе. Он говорил мне то же самое, что говорил родственник Анания, — заученные, скучные, непонятные слова. И даже голос его, когда он говорил это, был как будто не вполне его голосом. В паузе между его речами я быстро, чтобы он не успел перебить, спросил:
— Да неужели ты все отдал этим христианам? И жуешь теперь эти черствые лепешки, которые невозможно проглотить?
Он посмотрел в мою сторону и, усмехнувшись, ответил:
— Я их проглатываю очень хорошо. И больше мне ничего не надо.
— Но деньги, деньги!.. — вскричал я, забыв об осторожности. — Значит, ты отдал им все деньги!
— Если бы я отдал им все деньги, — тихо и медленно выговорил он, — то христиане давно бы уже правили Римом. Нет, Никифор, я не отдал все деньги. Мне и братьям моим нужно так мало.
— Но зачем нужно жить так, здесь? — воскликнул я, обведя рукою комнату, — Разве лучшая жизнь мешает вере?
— Мешает, — спокойно и убежденно проговорил он, — Здесь, на земле, человеку ничего не нужно, здесь он временный житель.
— Да я понимаю, — сказал я. — Но я не понимаю…
— Оставь это, Никифор, — перебил он меня. — Вот что я тебе скажу. Ты вроде Суллы, не можешь отстать от меня. Моя прежняя жизнь не отпускает меня, не позволяет спокойно приготовиться к жизни небесной. Что ж, — он вздохнул, — значит, я еще не искупил своих грехов. Не буду скрывать от тебя, я и сейчас боюсь Суллу. Не боюсь смерти и желаю ее, а его боюсь. Раз уж ты явился, значит, Бог снова послал тебя мне. Что ж, будем бежать вместе. Ты пойдешь со мной, Никифор?
— Да, да, пойду, — горячо воскликнул я. — Но мне кажется, что деньги…
— О Господи, — остановил он меня, впервые повысив голос, — Как же тебя интересуют деньги! Забудь о них, они больше не имеют значения. Забудь о них — будто их нет и не было никогда. Их не было никогда так же, как не было Гая Германика, императора Рима, самого грешного человека на земле.
Мы еще разговаривали некоторое время в том же духе, но я ни в чем не смог убедить его. Я подумал, что не напрасно считал его сумасшедшим, вот теперь его сумасшествие проявилось явно и вполне. «Гай Германик, — зло думал я про себя. — Разве бывший император Рима, каким бы он ни был и куда бы ни занесла его судьба, станет довольствоваться этой черствой лепешкой, до боли царапающей горло!»
Гай уже не интересовал меня, теперь я думал о Сулле. Конечно, я страшился его — трудно было предположить, как он поведет себя, если я выдам ему Гая. Но с ним, с Суллой, я связывал свою последнюю надежду. Деньги, проклятые деньги не давали мне покоя. Я уже не мечтал получить их все, я готов был довольствоваться небольшой их частью. Но я не мог смириться с тем, что не получу ничего.
— Завтра мы уйдем, — сказал Гай, — а теперь пора спать.
Он уступил мне свою кровать, а сам лег на полу у окна, подстелив под себя какую-то рваную холстину. Я был так удручен, что даже не стал протестовать. Волнения последних дней так утомили меня, что, лишь только голова моя коснулась подушки, я уснул.
Гай разбудил меня на рассвете:
— У нас мало времени, Никифор. Сулла может явиться в любую минуту. Вот тебе деньги. — Он протянул мне несколько золотых монет. — Пойди и купи для нас лошадей. Не торгуйся, плати, сколько запросят, у нас очень мало времени.
Он достал из своей сумки еще одну лепешку, как видно, последнюю, с хрустом разломил и отдал мне половину. Я взял, и мы вышли на улицу.
— Вон, видишь рощу на той стороне, — вытянув руку, указал мне Гай. — Там я буду ждать тебя. Как только ты вернешься, мы тут же уедем из этого города. Спеши, мой Никифор, — добавил он, подталкивая меня в спину, — и бойся встретиться с Суллой.
Последнюю фразу он проговорил каким-то странным тоном: внешне спокойно, но в глубине таились то ли насмешка, то ли угроза. Впрочем, это я понял несколько позже.
Мы расстались. Он вошел в дом, прикрыв за собой дверь, а я, зажав в руке монеты, зашагал вдоль улицы.
«Постарайся не встретиться с Суллой! — повторял я про себя, усмехаясь и прибавляя шаг. — Я постараюсь встретиться с ним как можно быстрее».
Я подошел к храму, где еще со вчерашнего вечера должен был ждать меня Ананий. Я молил Бога об одном: чтобы он оказался на месте — ведь в этом случае Сулла обязательно должен быть рядом. Я указал Ананию именно это место, потому что там всегда много народу, днем и ночью, и, пока Ананий находится там, Сулла не может на него напасть.
Я вышел на площадь и стал пробираться к храму, внимательно глядя по сторонам, сквозь толпу верующих и нищих, торговцев и калек. Но не успел я пройти и половины пути, как услышал:
— Я здесь, здесь, Никифор, — и увидел, как, стоя у входа, Ананий энергично машет мне рукой. Его лицо выражало такую радость, будто я мог принести ему весть о получении огромного наследства.
Я подошел к нему, он схватил меня за руки и, не выпуская их, быстро и возбужденно заговорил:
— Я думал, с тобой что-то случилось. Я так боялся, ты не представляешь, как я боялся. Он все время был здесь, он и сейчас где-то здесь. Подходил ко мне, понимаешь, подходил и спрашивал о тебе! Сказал, что убьет меня, если ты не вернешься! Видел бы ты его глаза — он может убить взглядом, не вынимая меча.
— Да, да, Ананий, — успокоил я его. — Все прошло, успокойся, ты в безопасности. Успокойся, вот тебе золотой.
Я протянул ему монету. Он взял ее и торопливо спрятал под одежду.
В ту же минуту меня как будто кто-то толкнул в спину. Я оглянулся и увидел Суллу. Он стоял далеко у стены дома на противоположной стороне площади. Но я увидел его так, будто он стоял здесь совсем один, а площадь была пуста. Не повернувшись к Ананию, словно тут же забыв о нем, я пошел к Сулле. Я прошел свободно, будто толпа расступалась передо мной. По крайней мере, я не замедлял шага и никто ни разу не толкнул меня.
— Я ждал тебя, Никифор, — спокойно сказал Сулла, когда я подошел. — Я знаю, что ты хочешь отвести меня к Гаю. Пойдем.
Я не ожидал от него этого и испуганно молчал.
— Пошли же, Никифор, — продолжал он, — чем быстрее ты сделаешь это, тем скорее тебе станет легче.
— Что — это? — с трудом выдавил я из себя.
— Как — что? — казалось, искренне удивился он. — Предашь своего любимого Гая. Я говорю о предательстве.
Он был прав: как бы там ни было, но никак по-другому мое намерение назвать было нельзя.
— Не переживай, Никифор, — взяв меня за руку, проговорил Сулла. — Гай предал в своей жизни стольких близких ему людей, что твое предательство совершенно ничтожная капля в море его предательств. Твое нельзя назвать даже каплей. Так что не думай ни о чем, и пойдем поскорее.
Он потянул меня за руку, и я послушно двинулся за ним.
— Никифор! А я, Никифор? А как же я? — услышал я за спиной крики Анания, но не обернулся.
Сулла вел меня за руку, все убыстряя шаг, я уже почти бежал за ним, едва успевая. Не я вел его, а он меня — мы кратчайшим путем приближались к дому Гая. Если он знал, куда идти, то зачем же я был ему нужен?
Вдруг, еще сам не понимая, что и зачем я делаю, я остановился и, резко дернув, вырвал руку.
— Ты чего это? — удивленно обернулся он ко мне.
— Я не пойду дальше, — сказал я, — не хочу.
— Не хочешь? — проговорил он. — Но ты уже предал его мысленно, рассказал, где он находится. Почему бы тебе не пойти вместе со мной?
— Я ничего не рассказывал! — воскликнул я. — Ты лжешь, лжешь, я ничего не рассказывал тебе.
— Еще как рассказывал! — спокойно возразил он, — Словами или по-другому, не имеет значения. Ты думаешь, предательство живет одними только словами?! Ты ошибаешься, словами оно живет меньше всего.
— Но я не пойду, — уже не очень уверенно отозвался я.
— Еще как пойдешь, — улыбнулся Сулла. — Ведь ты хочешь богатства, спрятанного в тайниках. И ты куда угодно и на что угодно пойдешь, лишь бы получить его.
— Но разве ты, — весь замерев изнутри, осторожно спросил я, — разве ты откроешь мне?..
Он повел плечами:
— Может быть, и открою, — и тут же добавил, подняв брови: — А может быть, и нет.
— Но тогда зачем, тогда зачем мне идти с тобой?! — Я выговорил это уже чуть не плача.
— Затем, что ты хочешь. Я единственный, кто может дать тебе то, что ты желаешь. Даже если я не дам, ты все равно пойдешь, потому что я могу дать. Впрочем, как хочешь. Мне некогда.
И, оставив меня, он быстро зашагал дальше.
Я смотрел на его удаляющуюся и все уменьшающуюся фигуру. И вдруг мне стало страшно — если он уйдет сейчас, то все кончено, навсегда и бесповоротно. А значит, снова бесконечные скитания, милостыня у храмов, бесприютная жизнь, голод и нищета.
Я сорвался с места и побежал за ним, крича на ходу во все горло:
— Подожди, Сулла, я с тобой, с тобой.
Догнал его и пошел рядом. Он не замедлил шага,
только мельком взглянул на меня. Тут я, еще не оправившись от бега, задыхаясь и торопясь, стал говорить ему, как я нашел Гая в общине христиан, как был у него дома и ночевал там и что Гай показался мне настоящим сумасшедшим. Сулла не смотрел на меня, ничего не отвечал, я боялся, что он не слушает и не слышит. Тогда я проговорил, озабоченно и по-деловому, стараясь подольститься к нему:
— Он приказал мне купить лошадей. Он ждет меня с лошадьми там, в роще. Я покажу. Как же мы придем к нему так, ведь он сказал…
Здесь Сулла перебил меня:
— Ему не понадобится лошадь. Туда, куда я отправлю его, не ходят даже пешком.
— Куда?! — невольно вырвалось у меня.
Он не ответил и только улыбнулся одной половиной лица. Я забегал вперед, указывая ему дорогу. Когда мы подошли к дому Гая, я протянул руку в сторону рощи:
— Вон там, там он ждет меня.
Сулла кивнул, потом толкнул дверь и вошел в дом. Минуту спустя он появился снова. Его лицо показалось мне побледневшим, а голос, когда он сказал мне: «Ну, где там? Веди», — заметно дрожал.
Мы быстро достигли рощи. Я подошел к тому месту, о котором говорил Гай, но там не было никого. Я виновато обернулся к Сулле:
— Не знаю… он сказал, что будет ждать здесь.
Сулла вздохнул и устало провел ладонью по лицу.
Некоторое время он молчал, бессмысленно глядя себе под ноги, потом проговорил едва слышно:
— Он уже далеко. Я должен был понять.
— Как — далеко? — не сообразил я. — Он же сказал, что будет ждать меня здесь, велел привести лошадей как можно быстрее. Он же сам сказал мне.
— Помолчи, — махнул на меня Сулла и медленно опустился на землю.
Я постоял перед ним, не зная, что же мне теперь делать, и ничего не понимая, потом торопливо проговорил:
— Подожди, я сейчас, я посмотрю. Я скоро. Он должен, должен быть где-то здесь.
Не дожидаясь ответа Суллы, я вбежал в рощу. Роща оказалась небольшой, и я быстро прошел ее всю из конца в конец. Гая нигде не было.
Я вернулся к Сулле. Он все еще сидел на земле, низко склонив голову. Я тихонько опустился рядом, не решаясь спросить, что же теперь делать.
Мы просидели так долго. Наконец Сулла поднялся.
— Ну что, Никифор, теперь будем искать вместе, — проговорил он без выражения; черты лица его заострились, а кожа стала серой; он выглядел так, будто только что потерял самого близкого на свете человека.
— А как же он, Гай? — почему-то испуганно спросил я. — Ведь он сам сказал мне…
— Ты наивен, Никифор, — перебил он меня. — Ты всего-навсего начинающий предатель, а Гай — мастер предательства, бог предательства, если хочешь. Вставай, пошли.
Я никогда не мог себе представить прежде, что буду странствовать с Суллой так же, как раньше странствовал с Гаем. Порой я ловил себя на том, что путаю Суллу и Гая, а иногда просто ошибаюсь, говоря «Гай» вместо «Сулла». Сулла никогда не поправлял меня: то ли делал вид, то ли не замечал моей ошибки. Должен сказать, что он обращался со мной хорошо: никогда не заставлял делать ту работу, которую не хотел делать сам, — мы все делали вместе. Он не брал себе лучшего куска, не покупал лучшей одежды и, кажется, вполне доверял мне. Одно было плохо — мы почти не разговаривали.
Я думал, что он будет рассказывать мне о Гае, о прошлой их жизни, но об этом он не заговорил ни разу, а я не решался спрашивать. Но он и вообще не вел никаких разговоров. Просто разговоров, что необходимы людям, когда они всегда вместе, делят стол и ночлег, все трудности и опасности долгого странствия. Впрочем, грех было жаловаться на жизнь — теперь я был сыт, одет и беззаботен. Что же до странствий, то к ним мне было не привыкать. Я думал, что если бы пришлось, то я уже не смог бы жить оседло, так я привык к беспрерывной перемене мест.
Мы двигались по тому же самому маршруту, по которому когда-то ходили с Гаем: Сулла так же хорошо знал его, как и я. В отличие от Гая, он не скрывался от меня, когда шел к тайнику, если мы прибывали в нужный город. То ли он был уверен, что я не стану преследовать его, то ли вообще никого и ничего на свете не боялся, то ли ему было все равно. Я не делал попыток следить за ним или выведать у него что-либо — опыт моей недавней жизни многому научил меня. Лучше так, чем среди нищих у храмов. Я молил судьбу только об одном: чтобы такая жизнь продолжалась всегда.
Прошло уже около года, когда Сулла однажды сказал мне:
— Никифор, ты хотел бы побывать в Риме?
— В Риме? — переспросил я. — Конечно, хотел бы. А что, разве мы едем в Рим?
Не сразу, после долгого раздумья, он ответил:
— Да, в Рим. Больше некуда. Все говорит за то, что Гай уже там.
— В Риме? — удивился я. — Но откуда ты это можешь знать?
Он посмотрел на меня со странной улыбкой:
— Откуда же я могу знать еще, как не от его братьев христиан? Гай сделался у них влиятельным человеком и отправился в Рим с какой-то особой миссией.
— Но тебе… тебе откуда это известно?! — нетерпеливо спрашивал я. — Разве ты входишь…
Он перебил меня:
— Вхожу. И уже очень давно. Пожалуй, раньше, чем твой Гай. Я слишком хорошо его знал и не мог не догадаться, к кому он примкнет в конце концов. И сам примкнул к ним. И, как видишь, не ошибся. Кроме того, — продолжал он, — Гай взял из тайников слишком много денег. Не все, конечно, зачем ему все, но много — больше, чем нужно, чтобы странствовать по Иудее, но достаточно для того, чтобы дойти до Рима и жить там. В местной секте христиан, где я вчера побывал, рассказали мне об этом. Так что, Никифор, готовься, тебе предстоит увидеть Рим.
— И императора? — не удержавшись, выпалил я.
— Может быть, и императора, — отвечал он, усмехнувшись загадочно.
Дорога до Рима показалась мне длиною в целую жизнь. Не буду описывать наше долгое странствие, скажу только, что по пути случилось много всего. Сулла не ошибся, Гай в самом деле отправился в Рим. Об этом нам говорили христиане едва ли не в каждом городе, через который мы проезжали. Я с удивлением обнаружил, что Сулла среди них был совершенно своим. К нему относились с большим уважением, внимательно слушали, когда он говорил, и старались помочь во всем. Я слышал, как он сказал однажды, выспрашивая о Гае, что у него к Гаю поручение от какого-то Павла[37]. Кто такой этот неведомый Павел, я не знал, но, по-видимому, христиане хорошо это знали — лица их при упоминании этого имени принимали восторженное и почтительное выражение. И спрашивали Суллу, чем они могут еще помочь, и помогал и, если он просил. Мы уже были в нескольких переходах от Рима, когда Сулла внезапно заболел.
Не могу точно сказать, отчего это произошло: то ли простудился, то ли его организм не выдержал стольких переходов, то ли он предвкушал встречу с Гаем сказались его волнения по этому поводу. Скорее от го вместе. Он слег в горячке и пролежал так несколько недель. Иногда мне казалось, что он уже не сможет подняться. Я заботливо ухаживал за ним и очень злился, что он умрет. Порой я плакал, глядя на его бледное с истончившейся кожей лицо и спутанные потные волосы, раскиданные по подушке.
Он был еще очень слаб, когда сказал мне, что нам нужно ехать.
— Но как же ты поедешь, Сулла? Ты слаб и не сможешь держаться на лошади, — попытался отговорить его я. — До Рима еще далеко, да и неизвестно, как будет там.
— Если я не смогу держаться в седле, — проговорил Сулла слабым, но уверенным голосом, — тогда ты привяжешь меня. Нам нужно в Рим. Каждую минуту со мной может приключиться худшее, и я могу не успеть. А я должен.
Вместо ответа я только вздохнул. Что он должен и что он может не успеть, я знал, и говорить с ним об этом было и напрасно, и излишне. Гай. Его волновал только Гай: встреча с ним и месть ему.
За время наших странствий с Суллой во мне произошла странная перемена. Я так привык к Сулле и так сроднился с ним, что поиски Гая представлялись мне чем-то совсем другим, не похожим на месть и убийство. Я сопутствовал Сулле и помогал ему в поисках так, будто мы искали родного, потерявшегося когда-то человека и будто розыск его и встреча с ним есть благо и радость для нас троих.
Я пытался убедить Суллу повременить с отъездом, но мне это не удалось, и уже следующим утром мы тронулись в путь.
Его не пришлось привязывать к седлу, но он и в самом деле был очень слаб. Мы ехали медленно, и я всегда был рядом. Дорога утомила его окончательно: его мучила одышка, боли в груди, и он мог передвигаться только с моей помощью.
Если бы не болезнь Суллы и связанные с ней заботы, то Рим, наверное, произвел бы на меня значительно большее впечатление. Но я так устал, так измотался, что, когда увидел стены великого города, у меня уже не было сил удивляться и радоваться по-настоящему. Да — город, да — большой и красивый, столица великой империи, но… рядом Сулла, который уже не мог обходиться без меня, долгий мучительный путь, неизвестность будущего. Мне даже показалось, что я уже был в Риме — когда-то давно, не помню когда, но был. Впрочем, все это уже не имело большого значения. Главным стало довезти Суллу до места. Сейчас, как никогда я был уверен в том, что ему не прожить долго.
Договорившись с каким-то мужчиной, торговавшим у ворот овощами, я перевез Суллу в его маленький дом. Жилище было тесным и неудобным, но какая разница! Я уложил Суллу в постель, велел хозяину пригласить врача, дал несколько монет женщинам, чтобы они являлись по первому зову и делали все, что я скажу. Сулла был бледен и смотрел на меня жалобно. Когда я, покормив его, сел рядом, он произнес:
— У меня никогда не было детей, а я всегда мечтал о сыне. Если бы он был у меня, Никифор, я бы желал, чтобы он походил на тебя.
На моих глазах выступили слезы. И, не смея броситься ему на шею, я только нежно дотронулся рукой до его руки.
— Я никогда не оставлю тебя, Сулла. Я всегда буду с тобой, — выговорил я, прерываясь на каждом слове.
Слезы душили меня.
Он странно улыбнулся мне:
— Успокойся, Никифор, мне не прожить долго. Денег я взял много, они будут твои. Это не то несметное богатство, о котором говорил тебе Гай, но на несколько лет хватит. Ты разумен и смел, и ты сумеешь устроить свою жизнь.
— Нет, нет, Сулла, не говори так, я не хочу оставаться один. Я хочу быть с тобой.
Он снова улыбнулся и, неопределенно поведя головой, вздохнул.
Ту ночь он спал плохо, бредил во сне, несколько раз я слышал, как он звал Гая. А утром он велел мне сходить к одному влиятельному члену общины христиан и узнать о Гае. Я сказал, что это может подождать, что я не хочу оставлять его одного.
— Это не может подождать, — строго ответил он. — Иди, Никифор, и не беспокойся, со мной ничего не случится. — И, помолчав, добавил: — Ты же знаешь, я не могу умереть, не увидевшись с нашим любимым Гаем.
Спорить с ним было бессмысленно, и, спросив адрес, я пошел.
Город был мне незнаком, и я долго искал нужный дом. Почему-то я думал, что это будет богатое жилище, но это оказался убогий домик, прилепленный к множеству таких же убогих домов. Я постучал раз и другой, но никто не отозвался. Тогда я, вдруг невольно разозлившись, стал бить кулаком в дверь.
— Что ты шумишь! — произнес женский голос позади меня.
Я обернулся. Передо мной стояла бедно одетая женщина, почти старуха, пристально и настороженно на меня глядевшая. Я сказал, что приехал издалека, что мне нужен хозяин, и назвал его имя. Лишь только я назвал имя, как женщина повернулась и быстро пошла вдоль улицы. Подождав несколько мгновений, я бросился за ней. Догнал, остановил; взяв за руку, сказал, что мне очень, очень нужен этот человек. Добавил, что я приехал издалека и что христианская община Антиохии послала меня к нему. Услышав последнее, женщина вырвала руку и попыталась убежать. Я снова догнал ее, преградив путь:
— Так ты можешь мне ответить, где он? Скажи только это!
— Тише, что ты кричишь! — проговорила она шепотом и боязливо огляделась по сторонам, — Иди за мной.
Шли мы недолго. Она вдруг свернула к одному из домов и, приоткрыв дверь, юркнула внутрь. Я последовал за ней и едва не натолкнулся на нее в темноте.
— Тихо! — предупредила женщина, и некоторое время мы напряженно молчали, прислушиваясь: я — к ней, она — к чему-то неведомому мне.
< Потом она спросила, что мне нужно, — так, будто я не говорил с ней только что. Пересилив досаду, я довольно спокойно объяснил ей, кого ищу и зачем, и, сам не зная почему, упомянул Гая. Может быть, это вырвалось случайно, а может быть, для того, чтобы просьба моя выглядела убедительней.
— Так ты знаешь Гая! — вдруг воскликнула она.
— Да, — ответил я горячо и неожиданно добавил: — Я знал его с детства, он мне как отец. Мы потерялись, и я уже столько времени не могу отыскать его.
— Ты опоздал, юноша, — проговорила она с тяжелым вздохом.
— Как, разве он умер?!
— Еще нет, — едва расслышал я, — но уже скоро.
— Что скоро? — вскричал я. — Где он? Я хочу видеть
его!
— Не кричи так! Если нас услышат… — Она не договорила, но ее молчание было красноречивее слов.
Я проникся ее испугом и напряжением и прошептал осторожно:
— Ты знаешь, где он? Скажи! Мне нужно увидеть его!
Я ждал долго. Наконец она сказала:
— В цирке. В клетках, где держат диких зверей. Он там не один, их много. Уже сегодня они примут мучения и смерть и уже сегодня предстанут одесную Бога, как мученики Его.
Кому пришлось жить во время правления проклятого Нерона, знают, какой мучительной смерти предавали христиан по его приказу. Муки продолжались и продолжаются по сей день, но то, что делал Нерон, вспоминается с содроганием. Убивали и другие, и другие издевались и мучили, но он не просто убивал и не просто мучил, он делал из мучений и смерти представление для потехи римской черни. Это нельзя назвать местью и нельзя назвать наказанием, это ужасная смертельная потеха — я не могу найти другого определения. Гладиаторы тоже гибли в цирках на радость толпе, но у них был хотя бы шанс на спасение. У несчастных христиан этого шанса не было никогда.
Женщина, говорившая со мной в темноте незнакомого дома, поведала, что проклятый Нерон[38] придумал очередное ужасное развлечение. Что будет представлено в цирке, она не знала, но знала, что всех последователей Христа, живших в Риме, всех, кого сумели выловить и забрать, ждет неминуемая гибель. Еще она добавила, что своими глазами видела среди пленников Гая.
— Где это? Куда нужно идти?! — забыв об осторожности, вскричал я.
— Там, в цирке.
— Где? Где это? Проводи меня! Прошу тебя, сделай это для меня так же, как ты сделала бы это во имя Бога.
— Хорошо, я отведу тебя, — после короткого молчания согласилась она.
Женщина шла торопливо, но мне казалось, что она движется еле-еле, и я беспрерывно подгонял ее. Она послушно кивала и все убыстряла шаг.
Мы подошли к цирку, и с одной его стороны я увидел довольно большую толпу людей.
— Там, — сказала женщина, указав на толпу. — Иди.
Я сделал несколько шагов в ту сторону, вдруг остановился, оглянулся, но — женщины уже не было на месте. Она словно бы растворилась в пространстве.
Я подбежал к тому месту, где толпились люди, и, с остервенением работая руками, протиснулся к самой стене цирка. Перед широкой железной решеткой стояла шеренга солдат. Толпа напирала на них, солдаты грубо отталкивали людей. За спинами солдат, за решеткой, тоже находились люди. Их было много. Я понял, что это пленники. Там были не только мужчины, но и женщины, и даже дети. Все они с каким-то особенно отрешенным выражением на лицах смотрели на толпу, но, кажется, не видели ничего.
— Гай! — закричал я что было сил. — Гай! Это я, Никифор! Гай! Гай! Позовите Гая!
Мой крик тонул в шуме толпы, в ругани солдат, в лязге железных доспехов. Его невозможно было расслышать, но в ту минуту, сейчас я совершенно уверен в этом, Бог вел меня.
Я стоял в каких-нибудь пяти шагах от решетки и вдруг за решеткой увидел человека, который махал мне рукой и с радостным выражением на лице кричал:
— Гая! Он зовет Гая!
Я ничего не понимал, невольно пожал плечами, но вдруг увидел его, Гая. Он протиснулся сквозь толпу пленников и, взявшись обеими руками за прутья решетки, смотрел в мою сторону. Человек, который мне махал, что-то говорил ему, указывая на меня пальцем. Взгляды наши встретились.
— Гай! Это я, Никифор! — закричал я. — Я люблю тебя, Гай! Ты слышишь меня!
Он слышал и видел меня, но он молчал. Он молчал и кротко улыбался. Так он не улыбался мне никогда. Слезы застряли в горле, и я не мог больше произнести ничего.
И тут я вспомнил о Сулле. Прохрипел натужно, больше для себя, чем для Гая, который не мог меня услышать:
— Подожди меня, Гай, я сейчас! Я скоро, ты только дождись меня!
Мне трудно было оторвать от него взгляд, но я заставил себя и, повернувшись, полез сквозь толпу.
Потом я бежал, задыхаясь и ощущая острую боль в боку, и мне все казалось, что если сейчас упаду, то уже не смогу подняться.
Я пробежал по двору, потом по коридору, мимо прижавшихся к стене испуганных женщин, и не вошел, а ворвался в комнату, где лежал Сулла. Я задыхался и не мог говорить. Сулла тяжело приподнялся на локтях, напряженно на меня глядя.
— Что?! Его нет? Он умер?! — отрывисто выговорил он.
— Нет, нет, — выдавил я, преодолевая одышку. — Он жив, только… они убьют его. Только ты можешь…
— Что я могу?
— Можешь… можешь спасти его!
И, торопясь, сбиваясь, путаясь поминутно и злясь на самого себя, я рассказал Сулле все.
— Помоги мне встать, — сказал он и опустил ноги на пол. — Одежду! Быстрей! Мы должны торопиться!
Я крикнул заглянувшему в комнату хозяину, чтобы он быстро приготовил лошадей. Лицо мое при этом, по-видимому, было страшным, потому что он кивнул испуганно и тут же исчез.
Я вывел Суллу во двор. Он ступал тяжело, но держался довольно прямо. Лошади уже ждали нас. С помощью хозяина мы усадили его в седло. Я вскочил на свою лошадь, обнял Суллу за плечи, и мы тронулись. Он крепко вцепился в гриву лошади, я видел, как побелели косточки его пальцев.
— Быстрее, быстрее! — повторял он. — Не бойся, Никифор, я смогу доехать.
Уже не помню, долго мы ехали или нет, но когда добрались до цирка, там у решетки стояла такая же толпа. Я спрыгнул с лошади, помог слезть Сулле и, придерживая его, прошел с ним сквозь толпу. Она расступилась, сам не знаю почему. Мы подошли к решетке и остановились перед шеренгой солдат.
— Постой здесь, Никифор, я сейчас, — сказал Сулла и медленно побрел вдоль шеренги.
Я видел, как он подошел к начальнику караула, стоявшему поодаль. Он стал что-то говорить ему, указывая на решетку. Тот сначала слушал, глядя в сторону, потом посмотрел на Суллу и кивнул. Сулла протянул руку к руке начальника караула, и мне показалось (но, может быть, я ошибаюсь), что он дал ему золотой. Начальник караула лениво обернулся и зычно крикнул:
— Эй, Антоний, возьми его, он тоже из этих.
Стоявший у решетки солдат подошел к Сулле, схватил его за одежду и потащил за собой. Там, с краю решетки, была калитка, которую я сразу не заметил. Солдат подтащил Суллу к ней, открыл и толкнул внутрь. Люди внутри приняли его, сомкнулись, и я больше не видел Суллу.
Я стоял онемев. Все произошло так быстро, что даже страх не успел овладеть мной. Я почти равнодушно глядел перед собой, и шеренга солдат перед решеткой, решетка и люди за ней — все это сливалось в моих глазах в однообразную колышущуюся массу.
Я понял, где нахожусь и что случилось, только тогда, когда толпа рассеялась, а за решеткой уже не было никого. Я бросился к воротам цирка и вместе с другими, стиснутый толпой со всех сторон, не прошел, а вдавился внутрь. Не помню, как я пробрался к местам у самой арены, помню, что меня несколько раз ударили по голове, но я плохо чувствовал боль.
Цирк был полон, шум стоял невыносимый. На арене установили множество столбов, они располагались на разных уровнях — одни на искусственно насыпанных горках, другие в вырытых ямах. По приветственным крикам и возгласам: «Да здравствует император!» я понял, что в цирк прибыл Нерон. Но я даже не посмотрел в ту сторону. Я неотрывно глядел в другую, туда, где во внутренней стене располагалась округлая решетка.
Ждать пришлось недолго — она медленно поднялась, и толпа людей, подгоняемая солдатами, вышла на арену. Солдаты хватали людей и привязывали их к столбам. Я смотрел, смотрел, ища Гая и Суллу, и вдруг увидел их.
Сулла едва передвигал ноги, голова его была склонена на грудь. Гай вел его, одной рукой поддерживая за плечо, а другую перекинув через шею. После того, как я увидел их, они успели пройти всего несколько шагов. Четверо солдат подбежали к ним, разъединили, потащили и привязали к ближайшим столбам. Столб Гая располагался чуть выше другого столба, где привязали Суллу.
Мучеников было много, человек семьдесят или восемьдесят. Когда подготовка завершилась, солдаты ушли с арены. А через короткое время откуда-то из невидимых мною труб на арену потоком хлынула вода.
Крики и стоны внизу, радостные вопли сверху и вокруг оглушили меня. Я не видел ничего, только эти два столба, и дрожал всем телом.
Когда вода дошла Сулле до половины груди, он поднял голову и прокричал что-то. Я видел только его раскрытый в крике рот. Гай рядом с ним молчал. Высоко закинув голову, он смотрел в небо.
В это же мгновение голова моя запрокинулась назад, и, успев увидеть бледный кусочек неба, я упал без чувств.
Не помню, как я вернулся в дом нашего хозяина — сам или с чьей-то помощью, в этот день или на следующий.
Болел я долго и тяжело и уже думал, что не смогу подняться. Но молодой организм пересилил болезнь. Я встал, распрощался с хозяином, не взявшим с меня ничего, и после нескольких дней поисков все-таки нашел ту самую женщину, которая провожала меня к цирку. Она свела меня с оставшимися в живых членами общины христиан. В сумке Суллы было еще много денег, я отдал их все и остался у этих людей.
Вся моя последующая жизнь не связана с предыдущей и является темой совсем другого рассказа.
Примечания
1
Иманов Михаил Алиевич родился в 1952 году в городе Норильске Красноярского края, в 1982 году закончил Литературный институт им. Горького в Москве, а в 1985 году в издательстве «Современник» вышла его первая книга — роман «Действующее лицо», который получил премию имени Горького.
Позднее книги Михаила Иманова печатались в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Ковчег» и др. На сегодняшний день он является автором девяти книг. Тематика его романов самая разнообразная, но непременно в каждом из них отражен самобытный взгляд автора на «вечные» проблемы человеческого бытия.
Роман об императоре Рима Гае Калигуле (12–41 гг. н. э.) — новое произведение Михаила Иманова. Печатается впервые.
(обратно)2
Германик (Германик Юлий Цезарь; 15 г. до н. э. — 19 г. н. э.) — римский полководец, племянник Тиберия и отец Калигулы. Тиберий усыновил его по желанию Августа, лишив тем самым права наследования собственного сына Друза Младшего. Поэтому Германика иногда называют сыном Тиберия и внуком Августа. В 12 г. н. э. стал консулом, успешно воевал на стороне Тиберия в Германии, неоднократно участвовал в походах за Рейн, где и получил свое прозвище. Был отправлен с миссией на Восток — там, в Антиохии, заболел и умер.
(обратно)3
Когда умер Август, легионы отказались признать Тиберия… — Август Гай Октавий (до 27 г. до н. э. Октавиан; 63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — внучатый племянник Цезаря, усыновленный им в завещании. Римский император с 30 г. до н. э. Даже после смерти он считался идеальной личностью, образцом. Добился единовластия в результате побед при Филиппах над Брутом и Кассием и при Акции над Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой VII, тем самым завершил гражданские войны в Римском государстве, начавшиеся после смерти Цезаря. Сосредоточив в своих руках власть, сохранил, однако, традиционные республиканские учреждения. Проявил себя как сторонник римской культуры, ратовал за возврат к старым обычаям. Август стал гарантом «Римского мира», который сделал сорокапятилетний период его правления счастливой эпохой. В 38 г. до н. э. женился вторым браком на Ливии Друзилле, которая постаралась сделать наследником Тиберия, своего сына от первого брака. Август не любил пасынка, но из государственных соображений исполнил волю Ливии и усыновил Тиберия, объявив его своим преемником.
(обратно)4
Тиберий Клавдий Нерон (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — сын Ливии Друзиллы и пасынок Августа. С 14 по 37 г. н. э. римский император. Чтобы стать наследником Августа, ему пришлось выполнить два условия: развестись с женой, чтобы взять в жены дочь Августа Юлию, а также усыновить и признать наследником Германика, отца Калигулы, вместо собственного сына Друза Младшего. Тиберий стал императором в пятьдесят пять лет, но оставался зависим от матери до самой ее смерти. В политике опирался на преторианцев; сумел добиться улучшения финансового положения империи. Как полководец Тиберий зарекомендовал себя в сражениях с германцами, паннонцами и даками. В 26 г., после смерти матери, в возрасте 70 лет Тиберий удалился на остров Капри в Неаполитанском заливе, где и окончил свои дни, ожесточась и ненавидя весь свет, мучимый болезнями.
(обратно)5
…миф о Нарциссе — греческий миф о юноше, влюбившемся в самого себя. Он был необычайно красив, но отвергал благосклонные взгляды самых прекрасных женщин, и богиня правосудия Немезида решила его покарать: однажды на охоте он увидел свое отражение в воде и влюбился в него. С тех пор он не мог оторваться от лицезрения самого себя и умер от этой любви. На месте его гибели вырос красивый, но холодный цветок нарцисс.
(обратно)6
…о своей сестре Друзилле, — Друзилла Юлия, родная сестра Калигулы, умерла в 38 г. н. э., через год после восшествия его на престол. Долгое время была его постоянной любовницей, фактически женой, и, в отличие от остальных любовниц и от других сестер, которые, согласно историческим фактам, также были любовницами императора, имела на Калигулу большое влияние.
(обратно)7
Наша бабка, Антония… — Антония Младшая, мать Германика и бабка Калигулы; была знаменита своим целомудрием и красотой. Император Тиберий после смерти матери сделал Антонию ее преемницей на посту жрицы Августа, который еще при жизни был признан «Божественным». Калигула всевозможными унижениями и обидами (а быть может, и ядом) свел ее в могилу.
(обратно)8
Откуда появился Сулла… — По данным римского историка Светония (ок.70 — ок.140 гг.), описавшего жизнь и привычки двенадцати римских цезарей — от Юлия Цезаря до Домициана, при дворе Гая Германика Калигулы был некий астролог Сулла, который предсказал императору преждевременную смерть. Возможно, он стал прототипом этого героя романа.
Стр. 58. Будут говорить «Божественный», как об Августе. — Бесчисленные победоносные войны и особая интерпретация развитой греческой мифологии привели к тому, что ведущие государственные деятели Рима стали претендовать на божественное происхождение, на особое покровительство божества, на уготованное их душам бессмертие и особое место в звездных сферах или полях блаженных. Постепенно сформировался императорский культ, начавшийся с обожествления Цезаря и Августа, а затем их преемников. Императоры отождествляли себя с богами, их жены — с богинями. У них были жрецы и жрицы, им воздавали божественные почести. Лишь развитие христианства постепенно ослабило этот культ.
(обратно)9
…Макрона, командира преторианских когорт, — Преторианцы (от лат. pretoriani) в Риме первоначально охраняли полководцев, затем так стали называть императорскую гвардию, которая в конце концов превратилась в главную движущую силу дворцовых переворотов.
(обратно)10
Когортами (от лат. cohors) называли подразделение легиона, они состояли в среднем из 360–600 человек, легион, в свою очередь, состоял из 10 когорт. При Августе преторианцы сформировались в 9 когорт по 1000 человек. Макрон Невий Серторий — военачальник, командир преторианской гвардии при Тиберии и Калигуле; подавил заговор своего предшественника Сеяна и сменил его на этом посту. Вступив в связь с женой Макрона Эннией Невией, Калигула проложил себе дорогу наверх. Согласно некоторым историческим данным, Калигула впоследствии принудил Макрона и Эннию к самоубийству.
(обратно)11
…участвовал в триумфе (от лат. triumphus). — Торжественное вступление в столицу Рима полководца-победителя с войском. Процессия двигалась торжественным маршем от Марсова поля на Капитолий. Триумф устраивался лишь по решению сената и являлся высшей наградой полководцу.
(обратно)12
…прикрывала наготу скомканной столой. — Столой называли нижнюю женскую одежду знатных римских дам из тонкого полотна, которая напоминала греческий хитон.
(обратно)13
…поднимался на Капитолий… Капитолий — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На нем находился храм, посвященный Капитолийской триаде: Юпитеру, Минерве и Юноне, в нем проходили заседания сената, народные собрания.
(обратно)14
…обутые в калиги. — Обувь воинов Древнего Рима, полусапоги, преимущественно солдатские, до половины покрывающие голень. Позднее этим словом обозначали обувь епископов и сандалии богомольцев. Именно от этого слова произошла кличка императора — Калигула («Сапожок»). В детстве юному Гаю, сыну Германика, приходилось Сопровождать отца в его походах, он провел несколько лет в военном лагере и носил форму рядового солдата.
(обратно)15
«Божественный Юлий», — Имеется в виду Гай Юлий Цезарь (100 — 44 гг. до н. э.), знаменитый полководец и диктатор, образовавший в 60 г. союз с Помпеем и Крассом (1-й триумвират). Консул и наместник Галлии. Опираясь на армию, он начал победоносную борьбу за единовластие. Сосредоточив в своих руках ряд важнейших республиканских должностей, стал фактически монархом, из-за чего и был убит. Цезарь первым получил титул «Божественного».
(обратно)16
Пантомим Мнестер — актер-пантомим, вольноотпущенник Тиберия, любимец Калигулы. Казнен Клавдием, дядей Калигулы (в 41 г. он займет императорский престол после гибели племянника).
(обратно)17
Валерий Катулл — придворный Калигулы. По Светонию, «Валерий Катулл, юноша из консульского рода, заявлял во всеуслышание, что от забав с императором у него болит поясница».
(обратно)18
…полагаются божественные почести… — Калигула стремился довести обожествление своей личности до абсолюта еще при жизни. Он не только облачался в атрибуты различных римских богов, но и выстроил храм, в котором стояла его статуя в виде Юпитера Аатийского — ее каждый день одевали так, как был одет сам император.
Стр. 208. Иудея — южная часть Палестины (получила свое название от Иуды, четвертого сына Иакова). С 63 г. до н. э. была подчинена Риму. С 6 г. н. э. Иудея становится прокураторской провинцией Рима со столицей в Кесарии. Население исповедовало иудаизм — к I в. н. э. монотеистическая религия с культом бога Яхве, которая требовала отказа от языческих культовых традиций и от почитания каких-либо божеств, кроме Яхве; исповедующие ее отказывались поклоняться каким-либо изображениям бога и чтили Священное Писание — Талмуд.
(обратно)19
Тетрарх — титул правителя в Иудее. Дословно означает «правитель четвертой части», но реально этот титул ниже царского.
(обратно)20
Туллий Сабон — собирательный образ. Его прототипами стали реальные убийцы Калигулы — командир преторианской когорты Касий Хэрея и префект претория Корнелий Сабин, сменивший на этом посту Макрона.
(обратно)21
Галилея — одна из областей Палестины (северная ее часть), самая населенная и плодородная; столица Тивериада. Галилея была родиной Иисуса Христа, там он читал свои первые проповеди.
(обратно)22
Александрия — город, основанный в Египте в 332–331 гг. до н. э. Александром Македонским. При Птолемеях (305 — 30 гг. до н. э.) — столица Египта и центр эллинистической культуры. Завоевана Римом. Один из главных центров раннего христианства.
(обратно)23
…некто Филон, по прозвищу Филон Александрийский. — Философ и религиозный мыслитель Филон Александрийский (ок. 25 г. до н. э. — ок. 50 г. н. э.) соединил иудаизм с греческой философией, прежде всего со стоическим платонизмом. Дал христианству идею богочеловека, посредника между небом и землей. Разработал аллегорический метод истолкования Библии, оказал влияние на последующее богословие своим учением о логосе.
(обратно)24
Агриппа, царь Иудеи… был племянником Ирода Великого… — Ирод I Великий (ок. 73—4 гг. до н. э.), царь Иудеи с 40 г., идумеянин по происхождению (Идумея — южная часть Палестины, жители которой в III в. до н. э. были обращены в иудаизм), жестокий и ловкий политик, оказал важные услуги римлянам, которые и возвели его на престол. Много занимался градостроительством, подражая греческим и римским образцам. Статуи языческих богов, украшавшие построенный Иродом ипподром, унижали его народ и оскорбляли религиозные чувства верующих. В христианстве ему приписывается избиение младенцев при известии о рождении Иисуса Христа. Племянник Ирода Великого Агриппа Ирод I (10 г. до н. э. — 44 г. н. э.) в течение четырехлетнего царствования (40–44 гг.) старался приобрести любовь иудеев и исполнял фарисейские предписания. Согласно христианским источникам, в угоду иудеям казнил святого апостола Иакова и заключил в темницу святого апостола Петра. В наказание за это был изъеден червями.
(обратно)25
И Александр держал половину мира, и Ксеркс Персидский тоже. — Имеется в виду Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.), царь Македонии с 336 г., сын царя Филиппа И. Победив персов при Гранике, Иссе, Гавгамелах, подчинил царство Ахеменидов, затем вторгся в Среднюю Азию, завоевал земли до реки Инд, создав тем самым крупнейшую мировую монархию древности. Ксеркс Персидский (? — 465 г. до н. э.) был царем государства Ахеменидов, сын Дария Ристаспа и Атоссы, вступил на престол в 486 г. В 480–479 гг. до н. э. возглавлял поход персов в Грецию, окончившийся поражением персов; подавлял восстания в Египте. Был убит в 465 г.
(обратно)26
…не научился отличать дактиль от хорея… выбрал гекзаметр. — Дактиль (от греч. daktylos — палец) — стихотворный размер, образуемый трехсложными стопами с ударением на первом слоге стопы; хорей (от греч. choreios — плясовой) — стихотворный размер с ударением на нечетных слогах стиха; гекзаметр (от греч. hexametros — шестистопный) — стихотворный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль, в котором первые четыре стопы могут заменяться спондеями — стопами из двух долгих слогов, по общей долготе равных трехсложной стопе.
(обратно)27
…выбрал «Георгики» Вергилия— Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт, в его произведениях наряду с эпикурейскими и идиллическими мотивами присутствует интерес к политической жизни Рима. Вершина его творчества — а также вершина всей римской классической поэзии — неоконченный героический эпос «Энеида» о странствиях троянца Энея (римская параллель греческого эпоса). Поэму «Георгики» («Земледельческие стихи») Вергилий написал в 36–29 гг. до н. э.
(обратно)28
Гомер — легендарный древнегреческий поэт, по античной традиции ему приписывается авторство «Илиады» и «Одиссеи».
(обратно)29
Гесиод — жил приблизительно в конце VIII — начале VI вв. до н. э., первый известный по имени древнегреческий поэт, создатель «Трудов и дней» — первого памятника греческого (и европейского вообще) дидактического эпоса, автор поэмы «Теогония» («Происхождение богов»). Кроме того, в античности его считали автором еще целого ряда назидательных и генеалогических поэм.
(обратно)30
…как меня увенчают лавровым венком победителя. — В античности сохранялась традиция устраивать ежегодные литературные состязания: победителя — автора лучшей пьесы награждали лавровым венком, словно полководца, удостоенного триумфа.
(обратно)31
…жили в Иерусалиме… переехали в Тир… — Знаменитая столица царств Давида и Соломона Иерусалим стала потом столицей Иудеи. В I в. н. э. город отличался архитектурным богатством и разнообразием, насчитывал до 250 тысяч жителей и был священным для иудеев.
(обратно)32
Тир был основан в IV в. до н. э. в Финикии, на восточном побережье Средиземного моря; город-государство, порт, знаменитый морскими путешествиями и открытиями в начале I в. до н. э. К I в. н. э. вошел в состав Римской империи; утратил свое былое значение, но вел морскую и сухопутную торговлю.
(обратно)33
Города в восточных провинциях Рима; все они связаны с зарождением христианства. Кесария — приморский город на северо-западе от Иерусалима, резиденция прокураторов Иудеи. Вифлеем — небольшой городок к югу от Иерусалима, в котором, согласно христианским канонам, родился Иисус Христос. Самосата — главный город сирийской провинции Коммагены на западном берегу Евфрата.
(обратно)34
Антиохия — город на р. Оронте, основан Селевком Некатором в 300 г. до н. э., столица Сирийского государства (после подчинения Риму — провинции Сирия). Местопребывание римского наместника.
(обратно)35
Пальмира — город в Сирии, крупный центр караванной торговли и ремесла. В 1-ІЙ вв. н. э. переживал период расцвета.
(обратно)36
Царь Эдип — герой греческого мифа, в наиболее полном варианте изложенного в трагедиях Софокла (ок. 496–406 гг. до н. э.) «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне». Эдипу суждено было убить отца и жениться на собственной матери.
(обратно)37
…поручение от какого-то Павла. — Святой Павел, один из двенадцати апостолов. Из-за того, что он проповедовал истинную веру язычникам в начале зарождения христианства, его еще называют «апостолом язычников». Родился в семье богатых иудеев, получил прекрасное образование. Был горячим ревнителем Моисеева закона и возмущался признанием Иисуса Христа как мессии. Но однажды, на пути в Дамаск, с ним произошел чудесный перелом, и он сделался покровителем христиан и проповедником новой веры. Со. своими проповедями Павел объездил всю Азию, Испанию, Британию, Италию. Он автор 14 посланий, представляющих собой систематизацию христианского учения, весьма самобытную. Во время гонений Нерона Павел был осужден на обезглавливание и казнен в Риме в 65 г. вместе с апостолом Петром.
(обратно)38
Нерон Клавдий Цезарь (37–68 гг. н. э.) — римский император с 54 г., из династии Юлиев-Клавдиев. Был жесток, самовлюблен и развратен. Репрессиями и конфискациями восстановил против себя различные слои римского общества. Вел войны с Парфянским и Армянским царствами, начал Иудейскую войну (66–73 гг.). На протяжении всей своей жизни безжалостно расправлялся с христианами: топил, жег, травил дикими зверями на потеху толпе. Один из римских цирков, место жестоких мучений христиан, даже получил название «цирк Нерона».
(обратно)



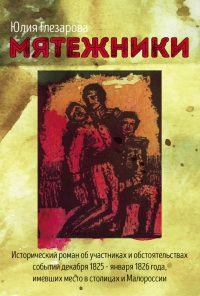



Комментарии к книге «Гай Иудейский. Калигула», Михаил Алиевич Иманов
Всего 0 комментариев