Ольга Гурьян ОДИН РЁ И ДВА БУ Историческая повесть
Имя первое: ТОКУИТИ
МЫШЕЛОВКА
Примерно лет двести пятьдесят назад, во время правления Токугава Цунайоси, которого народ прозвал «собачьим правителем», в эру Гэнроку, а по нашему счету в самом начале восемнадцатого века, жил в стране, где восходит солнце, в городе Эдо некий мальчик. Ему было в то время лет девять, а может быть, и немного больше — кто его знает? Кому была охота считать его годы? Такой ничтожный мальчишка!
Такой ничтожный, и не стоил он того, чтобы рассказывать о нем, если бы…
Началось это все с пустяка. Так, человек, ступая по крутой тропинке, неосторожно заденет ногой маленький камешек. Тот подскочит, покатится, зацепит другой камень, и уже, грохоча, несется с горной кручи обвал. И, захваченный им, сбитый с ног, человек падает в бездну.
Постараюсь-ка вспомнить эту историю по порядку.
Значит, лет двести пятьдесят назад жил-был в городе Эдо мальчик, и было ему в то время лет девять, а может быть, и немного больше — кто его знает? Уж очень он был мал и худ.
Его мать работала судомойкой в чайном доме. И нередко случалось, что, когда другие слуги были заняты, этого мальчишку посылали за покупками или с другими поручениями. Он был понятлив и справлялся с этим делом так удовлетворительно, что постепенно оно стало прямым его занятием. Время от времени ему даже перепадали две-три медные монеты, которые его мать тут же отбирала. Однако же он был воспитан таким количеством подзатыльников и в таких строгих правилах, что ему и в голову не приходило утаить какую-нибудь мелочь и купить себе лакомство или иначе потратить.
Каждый раз, когда его посылали с поручением, он стремился пройти мимо театра Ямамура-дза. Даже если его путь вел в другую сторону, он не стеснялся сделать небольшой крюк, задержаться ненадолго, пусть это грозило ему затрещинами и выговором за опоздание. Еще издали, завидев башенку перед входом в театр, он ощущал сердцебиение такое сильное, будто бежал в гору. По мере того как он приближался к театру, его лицо становилось так сосредоточенно, как бывает у людей, которые испытывают сильную боль и стараются ее скрыть. Что же влекло его так неотразимо?
На фасаде театра были вывешены афиши, постоянно менявшиеся, на которых яркими красками были изображены сцены из пьесы, которую в этот день представляли. Нельзя было отвести глаз от вида сражений и поединков, где воины в круглых широких шлемах, увенчанных крылатыми чудовищами, с лицами, искривленными страстью и гневом, поражали друг друга мечами с рукояткой, почти такой же длинной, как лезвие. Они топтали поверженного врага ногами, обутыми в башмаки из лохматых звериных шкур. В триумфе поднимали они кверху руки с надувшимися шарами мускулов или, сидя на высоком помосте в окружении советников, творили суд над лежащими ниц предателями. И сами, потерпев поражение или не в силах снести нанесенную им обиду, в белой траурной одежде вспарывали себе живот, а любимый друг, стоя за их спиной, взмахивал мечом, чтобы одним ударом снести голову и тем вовремя прекратить невыносимое страдание.
Но, как будто мало было этих изображений на афишах, на скамьях у входа в театр сидели зазывалы, босые, в длинных халатах, и рассказывали содержание пьес, то высоко вздымая над головой раскрытый веер, то, сразу закрыв его, стучали им по скамье, тем самым подчеркивая волнующие моменты и вызывая любопытство собравшейся вокруг них толпы. Носильщики спускали с натруженных плеч коромысла с тюками тканей; нищие, колотившие друг друга деревянными сандалиями, прекращали драку; дети требовательно дергали матерей за полу халата; дамы отдергивали занавески носилок; знатные господа ниже надвигали на лицо широкополые шляпы; бродячие собаки отгрызали хвосты рыб, небрежно висевших в руках хозяек, увлеченных голосами зазывал.
Каждый день мальчик на посылках ходил мимо театра, но ни разу не пришлось ему проникнуть внутрь. Только и оставалось с завистливой безнадежностью следить, как счастливцы, заплатившие за вход, протискивались в узкую — «мышиную щелку» — единственную дверь, предназначенную для зрителей. Да как он мог мечтать попасть туда, когда цена театрального билета была один рё два бу — сумма достаточная, чтобы на полгода купить рис для двух взрослых и одного ребенка!
И вот однажды случилось, что, посланный купить редкую и дорогую закуску, он очутился у двери театра с одним рё двумя бу, завязанными в узел в его набедренной повязке.
Бывает изредка, что вдруг находит на человека не то затмение, не то вдохновение. Вдруг поступит он неожиданно против всех правил и привычек и тем ломает надвое свою жизнь. Будто идет он с ясной головой и ледяными ногами над пропастью по тонкому шаткому мосту. Вдруг мальчишке представилось предсказанием свыше, указанием судьбы, что дал ему как раз один рё два бу, ни больше пи меньше, цену за вход. Ни на мгновение не колеблясь, он протиснулся между носильщиками и дамами, детьми, собаками, нищими, развязал узел, вручил деньги у входа и прошел в мышиную щель.
Стоит ли здесь упомянуть такую безделицу — у самого входа он задел ногой маленький камешек. Камешек подскочил и покатился прочь.
ВЕЛИКИЙ ДАНДЗЮРО
Снаружи — что говорить! — театры Эдо были пестры и нарядны: двухэтажные стены и башенка над входом. Но внутри зрители сидели под открытым небом. Можно было сказать: не дом, а кусок площади, огороженный с четырех сторон. Только сцена была покрыта крышей и вдоль стен шли узенькие навесы из циновок — невелика защита от солнца и дождя. Что поделаешь? Как на склонах гор вокруг Атами огненно-красные лилии — так на улицах Эдо обильно расцветали пожары, даже сложилась поговорка: «пожары — цветы Эдо». Каждые три-четыре года театры горели и, земля еще не успевала остыть, отстраивались вновь. Однажды ужасный пожар сразу уничтожил все тридцать театров города. Поэтому искусственное освещение было запрещено, приходилось давать представления при свете солнца, начинать на заре, заканчивать в сумерки.
С внутренней стороны стен в два яруса шла галерея. закрытая деревянной решеткой. Там невидимые для простых зрителей самураи — знатные господа и дамы — смотрели спектакль, пили, шумели и хохотали так громко, что иногда заглушали голоса актеров. А остальные зрители размещались, где удастся, ни земляном полу. Кому это было не по вкусу, могли за мелкую монету взять у слуги напрокат циновку или подушку и подложить ее под себя. Зрители при носили с собой коробки для курения с маленькой жаровенкой и подставкой для трубок, курили и болтали. Босоногие слуги, переступая через сидящих на полу, разносили подносы, уставленные мисочками с едой и чашками подогретой водки — сакэ. Многие тут же закусывали и кормили детей, а другие предпочитали пройти крытым переходом в соседнюю чайную, чтобы снова вернуться к началу излюбленной сцены или выходу известного актера.
Но мальчик, о котором я хочу рассказать, все десять часов просидел неподвижно, боясь покинуть и потерять свое место, так что руки и ноги у него затекли, а солнце немилосердно напекло ему голову. Есть ему не хотелось, к тому же у него не было больше денег.
Сперва он только смотрел и радовался, как прекрасно ожило обещанное афишами зрелище. Но постепенно, будто в приступе лихорадки, его тело немело, зрение мутилось, он перестал ощущать себя, захваченный и смятенный водоворотом пестрых и блестящих одежд, всплеском обнаженных мечей, грохотом барабанов и взвизгами флейт.
Едва ли он понимал, что происходит. Пьеса, только что кончившись, сменялась новой. Только что под стук деревянных трещоток черный занавес задергивался справа налево, и уже опять служитель развертывал его слева направо, сам скрываясь за его складками. Сцены сражений и убийств, шествия и танцы проходили перед глазами мальчишки и наслаивались одна на другую, таи что вскоре он перестал разбирать связь действий. Уже он не мог отличить злодея от мстителя и предателя от героя. Краски, звуки, движения накатывали волнами, захлестывали его с головой, так что временами ему казалось, что он не может дышать или сейчас лопнет. В то же время, будто его околдовали, он не смел закрыть глаза или пошевельнуться и тем самым дать себе недолгую передышку.
Но среди этого хаоса чувств и впечатлений было одно мгновение, такое отчетливое, что словно внезапная и молниеносная гроза сразу смела и очистила все предыдущее, и оно на всю жизнь запечатлелось в мозгу мальчишки.
Уже солнце начинало садиться и жар спадал, когда вдруг, спеша и толкаясь, все сразу вернулись зрители, которые раньше покинули зал. Вдруг все замолкло и замерло. Одним общим движением все головы повернулись назад и налево. Через весь зал от уборной актеров до сцены на уровне первого яруса проходили мостки — «дорога цветов». Там, сзади, в самом ее начале, кто-то невидимый поднял шестом занавеску, и оттуда вышел актер. Слуга, закутанный с головой в черный халат, освещал свечой, укрепленной на длинной палке, его лицо. В полумраке навеса маленький колеблющийся язык пламени выделил тенями нечеловечески огромные глаза, поднятые углами к вискам. Перебежав, огонек указал узкий рот, темной дугой опущенный книзу. Вдруг осветил все лицо, раскрашенное синей и красной краской, напряженное страстью, искаженное гневом, поражающее своей страшной силой. Актер ступил четыре шага, остановился, стукнул ногой по певучему дереву мостков, застыл в позе, и зал разразился воплями:
— Дандзюро! Дандзюро!
— Ты лучший в Эдо!
— Ты лучший во всей стране!..
Вместе со всеми мальчишка вопил, запрокинув голову, не сводя глаз с этого несравненного, этого лучшего во всей стране.
С этого мгновения он уже ничего вокруг не замечал. Будто одним своим присутствием Дандзюро начисто стер и декорации, и актеров. Ничего не было, кроме него.
Когда мальчишка очнулся, уже наступили сумерки. Он не помнил, как толпа увлекла и вынесла его с собой из театра.
Но сейчас он стоял один перед темным зданием, и сумерки сгущались, и люди, только что толкавшие его, куда-то исчезли. Он был так слаб, как осел, весь день таскавший тяжелые мешки. Ноги просто не хотели держать его. Он оглянулся, увидел скамейку, на которой уже не было зазывал, взобрался на нее и сел, упираясь в доски широко расставленными руками. Пород его взором всплывали глаза Дандзюро, их блеск и внезапное мерцание и скользящее движении зрачка, Бешеный топот ног и мягкий поворот тела. И сцена, когда ему приносят завернутую в красный шелковый лоскут голову убитого принца, и Дандзюро, развернув платок, вдруг узнает лицо собственного сына.
Удивление, недоумение, ужас, отчаяние поочередно отражаются на лице Дандзюро. Волосы на его голове встают дыбом, он заливается слезами. Но за ним следят, необходимо притворяться и скрыть свои горе. Он делает вид, что внезапно заболел, В смущении он не знает, как ему поступить. И вдруг решается солгать, признать голову принца.
Все эти семь различных выражений молчаливо и отчетливо сменились одно за другим, и зрительный зал, напряженно следивший за борьбой чувств Дандзюро, потрясенный совершенством его игры, испускает вздох облегчения и кричит:
— Маттэ имасита! Мы этого от тебя ожидали…
ВЫДУМКИ И СОМНЕНИЯ
Едва-едва начинало светать, когда мальчишка проснулся, свежий, отдохнувший, ужасно голодный. Уже он собрался вскочить, бежать к матери, поскорей набить живот едой. Но вдруг увидел, что над ним ватно-серое небо, а под ним голые доски скамьи. Вдруг вспомнил, что вовсе и не возвращался домой. Закуска, за которой его послали, не куплена. Деньги — один рё два бу — потрачены. Что теперь будет, что с ним сделают? Как сильно будут его бить за один рё два бу?
«Не могу я вернуться домой без денег, — думал он, утирая рукой мокрые глаза и нос. — Нет сомнения, изуродуют меня до смерти или до конца дней останусь калекой».
И чем больше он думал, тем меньше хотелось ему идти домой. В воображении слышался ему пронзительный голос матери: «Ах ты, проклятый воришка, и зачем ты родился на свет? Вот посадят тебя в тюрьму, отрубят голову, воткнут на бамбуковый шест, выставят напоказ у нового моста!..»
«Сразу не отрубят! — мрачно подумал мальчишка. — Пусть рубят, наплевать мне на них всех. И не жаль мне моей жизни. Разве я живу? Вчера представляли в театре — это жизнь! Халаты парчовые, машут мечами— князья и герои! Богатые!.. Ах, как хочется есть!»
Возможно, что тут бы он поднялся со скамьи и пошел домой. Его бы побили и накормили, и все пошло бы по-прежнему, и эта книга не была бы написана. Но в это время из переулка вдруг вышла женщина, пожилая, кругленькая, с лицом приветливым и задумчивым. Хотя на ней был скромный халат цвета корицы с белыми крапинками, видно было, что это не простая служанка — волосы не повязаны тряпкой, а со вкусом причесаны. В руках она несла два ведра и направилась к водоему напротив театра. Она зачерпнула воду так неловко, что чуть не утопила ведро, а вытаскивая его обратно, половину воды выплеснула на халат и на землю.
Мальчишка, воспитанный в строгих правилах уважения к старшим, не мог выдержать это зрелище и вежливо спросил:
— Тетушка, давайте я помогу вам!
Женщина обрадовалась необычайно, заулыбалась, сунула ведро мальчишке и быстро-быстро заговорила:
— Благодарение богам, что за хороший мальчик! Я просто уже не знала, что мне делать! Я к этому делу непривычная, а без воды как же обойтись? Ты, наверно, спросишь, зачем я так далеко пошла, когда у нас свой колодец за оградой,? Но, видишь ли, колодец-то без крышки и пользуется им весь переулок. По правде сказать, уж давно было пора его чистить. Вчера и взялись за это дело — все соседи помогали. Спустили грязную воду, и какой только дряни не оказалось на дне. Кто это накидал, и ума не приложу. И битая посуда, и мячики, которыми играют под Новый год, и три деревянные сандалии, все с левой ноги, видно, дрались ими. И женский парик — как он туда попал? Весь размок и порыжел, можно подумать — пучок водорослей. Ты сам понимаешь, из этого колодца сегодня еще нельзя брать воду, а служаночка у меня вздумала заболеть. Вот и пришлось мне идти самой. Думала, никогда не справлюсь…
Пока она так болтала, мальчишка успел наполнить оба ведра и, соскучившись стоять, сказал:
— Давайте уж я донесу вам ведра до дому.
— Благодарение богам! — воскликнула женщина. — Ах, что за мальчик! А тебе не тяжело будет, ты такой маленький?
— Вот еще, тяжело! — сказал мальчишка. — Вовсе и не маленький. Это у меня рост такой невысокий.
С этими словами он поднял ведра, а женщина засеменила вперед, указывая дорогу. Но, видно, она была из тех, кто не умеет молчать. И двух шагов не успела сделать, повернулась и спросила:
— А как тебя зовут?
Мальчик испуганно остановился. Он не знал, как ответить. Если она узнает его имя, она обязательно еще спросит, где он живет, и сразу отведет его домой, а там ждет его справедливая расправа. Он собрал мысли, но никак не мог придумать, что сказать. Женщина, удивленная, что он не отвечает на такой й вопрос, повторила:
— Как твое имя, мальчик?
Тогда он быстро назвал первое имя, которое пришло ему в голову:
— Токуити.
— Токуити, а твоя мать не рассердится, что ты задержался, помогая мне? Ведь, наверно, она послала тебя за чем-нибудь и теперь ждет не дождется и места себе не находит от нетерпения?..
— Ни за чем меня не посылали, — быстро прервал Токуити. (Уж мы теперь для удобства рассказа будем его называть этим именем.) — Никто меня не посылал! — крикнул Токуити. «Ах, посылали, посылали, а он украл деньги. Ждут, конечно, ждут, уже ждать перестали. Долго ли еще эта женщина будет мучить его, расспрашивая и выпытывая? Как заставить ее замолчать?»
И, уже один раз соврав, второй раз показалось ему это не так трудно и даже понравилось, что так легко пришла в голову спасительная ложь.
— Я сирота, тетушка, нет у меня матери, и никто меня не ждет.
— Бедняжка, — сказала женщина. — Нелегко тебе живется. Но я вижу, ты добрый мальчик, а доброе дело не остается без награды. — Она сочувственно вздохнула, а затем снова принялась болтать и, пока они прошли переулок, успела сообщить, что ее зовут О-Кику, что она живет у брата и ведет его хозяйство, потому что он овдовел. А брата зовут Хироси. А служанку зовут Мицуко, и она заболела оттого, что нарвала в саду неспелые сливы, а всем известно, как вредно есть сливы, пока они еще зеленые.
Токуити слушал ее невнимательно и думал: что же это за награда его ждет? Может быть, ему дадут за труды несколько медяков, и тогда он, пожалуй, сможет вернуться домой, и если будут его колотить, то не очень сильно. Тут ему вспомнился костлявый кулак матери и жирная ладонь хозяина, которая так сочно чмокала, когда он давал шлепка. Ах, очень не хотелось возвращаться туда. Но что было делать?
Так они незаметно прошли переулок, свернули в другой, а быть может, это был и третий, и остановились у высокого плетня. Изнутри его густо затянуло каким-то вьющимся растением, потому что сквозь щели ничего не было видно, а длинные стебли перекинулись через верхушку плетня и весь его испестрили твердыми зелеными листьями, такими блестящими, будто их только что помыли свежей водой. Тонкие усики завивались спиралью и слегка вздрагивали, будто манили и дразнили Токуити: «А вот зайди-ка, зайди! Ни за что тебе не угадать, что тебя ждет здесь!»
О-Кику отворила калитку, поманила Токуити рукой, позвала:
— Зайди же, зайди!
В тени деревьев стоял маленький дом, крытый тростником, с решетчатыми из некрашеного дерева стенами, затянутыми чистой белой бумагой. О-Кику отодвинула одну из этих подвижных стен и опять поманила Токуити. Он сбросил у приступки свои деревянные сандалии, опустил на землю ведра с водой и вошел.
— Прошу, подожди немножко, — сказала О-Кику. — Я сейчас вернусь.
Большая комната занимала всю восточную половину дома — видно, на день раздвинули перегородки, чтобы ветер из сада мог в нее проникнуть. Комната была пустая, прохладная. Пол, устланный чистыми серебристо-белыми циновками, и на нем две-три плоские подушки в ярких шелковых чехлах. В глубокой нише висела картина, верно очень старинная, — такая темная, что едва можно было различить извивы драпировок, круглые щеки и густые брови богини красоты. Перед ней стояла бронзовая ваза с изогнутой веткой цветущего дерева. По бокам ниши громоздилось в сложном переплетении множество ящичков и полочек разных размеров и из различного дерева. Токуити оглядел все и подумал:
«Это люди зажиточные. Неужто пожалеют подарить мне несколько монеток?»
Однако же О-Кику, вернувшись в комнату, и не подумала достать из-за пояса кошелек, положить деньги в заранее открытую ладонь Токуити. Нет, она поставила перед ним поднос на ножках, который принесла с собой. На подносе были мисочки и блюдца с едой.
— Кушай, Токуити, — сказала она. — Пожалуйста, ешь сколько хочешь, не стесняйся.
Он поел, встал и снова выжидательно посмотрел на нее. Но вместо того чтобы наконец отпустить его, О-Кику сказала:
— Куда же ты? Сиди, сиди, отдыхай!..
Весь день Токуити так и не решил, что же ему делать, и не мог понять, что собираются делать с ним. Каждый раз, когда он пытался встать, О-Кику быстро говорила:
— Подожди, Токуити, подожди немножко.
Накормив его досыта, она принесла халат, старенький, но еще хороший и тут же принялась очень ловко укорачивать его. При этом она беспрерывно болтала и задавала Токуити множество неприятных вопросов. Он старался отвечать односложно и с не привычки ко лжи очень боялся запутаться. Сперва он сказал, что отец у него был лодочник, а теперь умер, и мачеха выгнала его из дому.
— Бывают же такие жестокие женщины! — воскликнула О-Кику. — А свои дети у нее есть?
— Пять дочек, — сказал Токуити и вдруг вспомнил, что уже отвечал на этот вопрос и говорил, что у нее три дочки и сын. Но О-Кику, казалось, не слушала ответы и не замечала противоречий и опять спросила, чем занимается его отец. А Токуити, забыв, что рассказывал раньше, ответил, что отец — погонщик мулов и сейчас ушел куда-то на север.
Неизвестно, что бы он еще наговорил, по тут с улицы послышался голос продавца рыбы, и О-Кику поспешила к калитке. Здесь она долго торговалась и только вернулась с рыбой, как появилась Мицуко — служанка — и сказала, что живот уже не болит и она теперь здорова. Она взяла у О-Кику покупку и стала осуждать, что заплачено дорого, а рыба костлявая.
— Уж все знают, что обмануть вас нетрудно, — сердито говорила Мпцуко. — Всякому слову верите, всякого проходимца кормите. Как нас еще совсем не обобрали, понять не могу. Зачем вы сами пошли покупать, не позвали меня?
— Но, Мицуко, ты только посмотри, какая она красивая. — оправдывалась О-Кику. — Чешуя будто золотом тканая, а плавники зубчиками и прозрачные как газовая накидка. Настоящая придворная дама.
— Дама?.. — протянула Мицуко. — Я бы скорей сказала — старая нищенка. Плавники рваные, а чешуя — лохмотья в пестрых заплатах. Как эту рыбу ни приготовь, на вкус будет жесткая и сухая. Вам-то, конечно, все равно — вы ее есть не будете.
— Мне совсем не все равно. Зачем ты так говоришь? — с жаром ответила О-Кику. — Я, конечно, очень глупая, но не могу себя заставить съесть живое существо, все мне кажется, что это грех. Ты сама знаешь, что рыбаки и охотники после смерти попадают в ад. Ты знаешь песню?
Горе ловящему рыбу бакланами, Стягивающему баклану горло, Убивающему черепаху, чья жизнь Могла бы длиться тысячу лет. И, если сейчас он живет в достатке, Какое возмездие ждет его!— Сама я не ем, но других не осуждаю. Мой брат Хироси и ты, вы оба много работаете, вам нужна сытная пища, вам это не составится в грех.
Мицуко не стала слушать, засунула рыбе палец под жабры и ушла. А О-Кику пошла в сад нарвать цветов и взяла с собой Токуити.
Сад был невелик, по устроен с большим искусством. Дорожка, выложенная неровными, заросшими мохом плитами, вела к беседке в виде деревенской уединенной хижины. У ее входа стоял резной каменный фонарь. Были здесь и крохотная бамбуковая рощица, и две-три искусственные скалы, и круглый как радуга, мостик через ручеек.
Токуити хотел пройти за угол дома посмотреть, что там еще есть за углом, но О-Кику вдруг замахала руками, выпучила глаза и зашептала:
— Нельзя, нельзя! — и даже приложила палец к губам.
Токуити удивился, по послушно вернулся обратно. После этого до самого вечера он сидел в углу комнаты и думал, что давно ему пора уходить, но не знал, как это сделать. А О-Кику между тем достала кусок богатого шелка и начала шить платье, судя по размеру, девочке лет десяти — двенадцати. Но это было странное платье, и Токуити ни разу не видал, чтобы девочки носили такое: очень широкое, с длинным шлейфом, заложенным поперечными складками. При этом она тихонько напевала:
Госпожа улиточка, пляши, пляши, Рожками кивай, рукавом маши! А не станешь плясать, я брошу тебя Под ноги бычку, под копыто коня. Раздавят тебя, не оставят следа.От этого пения Токуити стало не по себе, слова показались зловещим предзнаменованием, будто угрожали ему. Он подумал: «Пошел бы я с утра прямо домой, уж давно бы меня поколотили, и все это было бы уже позади. И чем дольше я буду здесь сидеть, тем сильнее мне попадет».
Он глубоко вздохнул, набрался храбрости и сказал:
— Тетушка, отпустите меня домой. Там уже, наверное, ждут меня и беспокоятся.
— Подожди, подожди немножко! — воскликнула О-Кику. — Бедненький, ты, наверно, соскучился? Хочешь пирожок? Хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочешь, я расскажу тебе про героя Иосицунэ?
И не дожидаясь ответа, она начала свой рассказ.
РАССКАЗ О-КИКУ: КАК ИОСИЦУНЭ УЧИЛСЯ ВЛАДЕТЬ МЕЧОМ
Примерно полтысячи лет назад правил страной князь Тайра Киемори. Он был так жесток и необуздан, что казалось, самая кровь в его теле не течет ровным потоком, как у других людей, а беспрестанно кипит, как горячие ключи Одзигоку, что значит «большой ад». Про Киемори рассказывали, что однажды, когда он болел, так ужасен был жар, исходящий от него, что у тех, кто к нему приближался, опалялись ресницы и брови. И когда его окунули в ванну с ледяной водой, вся вода мгновенно испарилась. Воистину, не так смертельно было опуститься в жерло огнедышащего вулкана, как предстать пред его лицо.
Киемори один владел половиной всех земель и всячески мучил и притеснял простой народ. Мало того, он захватил столицу, и сам император, сын солнца, подчинился ему.
Но на севере страны, в области Оу, жили смелые и суровые люди. Они собрали большое войско и выступили против Киемори. Однако же Киемори разбил их в кровопролитном сражении, и их предводитель Мннамото Иоситомо был убит.
Сын Иоситомо, Иосицунэ, был еще очень молод, и мать, страшась за его жизнь, отдала его в монастырь.
Детское имя Иосицунэ было Усивака, что значит «молодой бык». И хотя лицом он был нежен, как девушка, но невероятной силой и стремительным бесстрашием он действительно был подобен быку. Все его мысли были о том, как отомстить за смерть отца и избавить страну от тирана. В монастыре его учили игре на флейте и чтению книг, а тому, как владеть оружием, не обучали. Но разве приучишь орла клевать зернышки и чирикать: «Хоке-ке» подобно священной птичке угуйсу? Разве обратишь героя, сына героя в монаха?
По ночам Усивака тайно пробирался через ограду монастыря и, не имея меча, сам себе соорудил деревянный меч и учился владеть им, нанося удары деревьям и скалам, так что они содрогались и падали расщепленные, будто пронесся здесь ураган. Под утро, спрятав меч под рясой, он снова возвращался в свою келью и, на вид смиренный и тихий, до вечера читал священные книги или, взяв метлу, убирал келью своего наставника, грел воду, молол чайный порошок. Словом, выполнял все повинности монастырского послушника.
Но однажды ночью из-за деревьев, поваленных богатырским мечом, вышел старик в скромной одежде. Его седые волосы были приподняты кверху и завязаны простым пучком. Лицо у него было темное и морщинистое, будто кора векового дерева, глаза маленькие и блестящие, как у птицы, бороденка будто комок серого моха, а длинный нос похож на обломанный сук. При виде старика Усивака опустил меч, а старик засмеялся и сказал:
— Разве достойно героя вести войну с неповинными деревьями? Ведь они не сумеют тебе ответить, так многому ли ты научишься, сражаясь с теми, кто не может защищаться и сам нападать?
Усивака ответил:
— Что же мне делать, почтенный старец? Я рад бы сражаться с людьми, отомстить за смерть отца. Но нет у меня настоящего меча и некому обучить меня воинским приема!
Тогда старик достал из дупла древнего дуба два сверкающих меча и сказал:
— Возьми один из этих мечей, я возьму другой и буду обучать тебя.
Усивака поклонился старику и сказал:
— Моя благодарность велика, как море, и продлится вечно, как горы. Но как мне узнать, кто мой благодетель?
В ответ старик засмеялся и сказал:
— Попробуй-ка угадай!
И тотчас в лесу раздались всевозможные голоса: трава зашелестела, деревья застучали ветвями, тростник засвистел, сгибаясь, лисы лаяли, волки выли, совы ухали, дневные птицы проснулись — затрещали, заверещали, зачирикали, — весь лес вторил голосу старика.
Усивака сказал:
— Учитель, я угадал, кто вы! Конечно, вы леший — хозяин леса и всего живущего в нем. Покорно прошу простить мне обиды, которые я по незнанию нанес вашим подданным.
Целый год леший обучал мальчика Усиваку обращению с оружием. А потом Усивака бежал из монастыря и направился к северо-востоку, в область, где жили приверженцы его дома.
Через горы, вдоль по дороге, берегом покрытого тиной потока, сквозь густые леса. На длинном мосту простучали его тяжелые шаги. В бамбуковых зарослях дожидался он рассвета, пока обильная утренняя роса покрыла тропинки зеленой равнины, отражая свет восходящего солнца. Здесь встретил он купеческий караван, присоединился к нему и после многих и великих приключений добрался до области Оу.
ТОКУИТИ В ОПАСНОСТИ
По мере того как О-Кику рассказывала, голос ее повышался и на лице отражались все чувства. Под конец она вскочила, уронив шитье с колен, стояла притопывая, а заключительные слова громко пропела. И, словно в ответ на эту песню, будто вызванные заклинанием, застучали, покатились дверные ролики, задняя стена комнаты немного раздвинулась, и оттуда вышел низенький старичок. По виду он был простой мастеровой, одет в широкие холщовые шаровары и короткую куртку, рукава перевязаны тесемкой выше локтя, ноги босые. Но О-Кику упала перед ним на четвереньки, приветствовала его почтительным поклоном.
Старик сел на подушку, достал из-за пояса трубку и кисет, прикурил от жаровни и спросил:
— Что это за мальчик?
— Это Токуити, — быстро ответила О-Кику. — он сирота, а у его мачехи пять дочерей и еще три дочери и сын, и она выгнала его из дому. Это добрый мальчик, он донес мне ведро с водой и не просил награды. Лицо у него милое и нежное, как у молодого Усиваки. У нас в доме нет детей, а вы знаете песню: «В полях рожденный, на горах рожденный — не все ли равно? Дороже тысячи рё драгоценный ребенок».
Старик докурил трубку, выбил пепел о край жаровни и сказал:
— Пожалуй, можно постелить ему в чуланчике.
С этими словами он опять ушел в ту же дверь, и она, простучав, задвинулась за ним. Но, наверно, он закрылась не совсем плотно, осталась незаметная щелка, потому что Токуити вдруг услышал оттуда тонкий скрежещущий звук — жжжззз, — будто точили нож.
Тотчас О-Кику поднялась, потянула Токуити за рукав и увела в чуланчик. Здесь она достала из стенного шкафчика стеганый тюфяк, расстелила его и поставила в изголовье низкую изогнутую скамеечку — деревянную подушку, отгородила постель ширмами, сказала:
— Спи, спи! — и ушла, унеся с собой светильник.
Токуити лежал на спине и смотрел в потолок. В саду луна гуляла между облаков, и от этого на потолке возникали странные тени. Токуити думал: «Лучше мне не спать эту ночь. Так все непонятно».
В его голове мелькало множество вопросов, и ни на один он не мог найти ответа. Зачем О-Кику привела его в этот дом и не хотела отпустить? «Подожди, подожди немножко!» Зачем она дала ему халат в красивую узкую полоску и ничего не потребовала взамен? За перегородкой точили нож, зачем? Может, заманили его сюда, а ночью придут и отрубят голову вместо какого-нибудь знатного мальчика? Они думают, он сирота, никто его не хватится, никому он не нужен. Отрубят ему голову, завернут в красный шелковый платок и подсунут кому-нибудь взамен головы принца. Ведь показывали это в театре, значит, так бывает…
Токуити тяжело вздохнул и повернулся на бок.
…Почему О-Кику так испугалась, когда он хотел завернуть за угол дома? Что они прячут там такое страшное? Зачем вечером точили нож? Нельзя, нельзя спать, надо дождаться рассвета и бежать. Ночью не убежишь. На ночь все улицы запирают рогатками, и стража ловит прохожих. Поймают его и дознаются, что он вор, украл у хозяина один рё два бу. Ребенок драгоценней тысячи рё? Это так только в песне поется, а на самом деле за один рё уничтожат его, пе оставят следа. Улиточка под копытом коня… Улиточка, улиточка, пляши, пляши… Ах, что делать? Надо дождаться рассвета. Только не спать, не спать!..
…В бамбуковых зарослях дожидался он рассвета, пока обильная роса покрыла тропинки…
С рассветом убегу домой! Мать, наверно, соскучилась и обрадуется. Роса на дорожках сада отразит свет восходящего солнца…
Но утром Токуити проснулся позже О-Кику. Пока она кормила его завтраком, ему казалось, что у него, как у собаки, уши направлены в разные сторовы. Одно, опущенное, небрежно слушает болтовню О-Кику, а другое, настороженно поднятое, ловит легкий шорох за перегородкой. Наконец она вышла из комнаты. Токуити тихонько встал, неслышно подобрался к двери в сад и слегка приподнял ее, чтобы не скрипнула и не стукнула, а бумажные перегородки не пошатнулись и не затрещали. Он выглянул в щелку — О-Кику не было видно. Тогда он проскользнул в дверь, быстро перебежал дорожку, спрятался за скалой и еще раз оглянулся. Никого в саду не было, дорога к калитке свободна.
Но он так хорошо выспался, утро было такое свежее, солнечный свет такой ясный, что ночные страхи рассеялись, будто туман, и он вдруг подумал: «Хотелось бы, пока я еще здесь, заглянуть за угол дома. Что они там прячут и почему мне не позволили идти туда?»
Скрываясь за стеблями бамбука, он пробрался до угла дома и, вытянув шею, попытался увидеть, что там. Но там тоже был сад, только и всего.
Токуити сделал еще шаг, обогнул дом и увидел, что бумажная стена комнаты слегка раздвинута. Он переступил еще раз и, скосив глаза, заглянул внутрь.
Токуити бросил туда лишь одни взгляд, увидел совсем небольшую часть комнаты, но все тело сразу покрылось ледяным потом, и едва двумя руками удалось ему удержать крик ужаса.
Перед ним на низком деревянном столе лежала голова Дандзюро. Окруженные глубокими тенями глаза смотрели неподвижным стеклянным взглядом. Рот, сведенный предсмертным мучением, изогнулся дугой. Лицо было покрыто синими пятнами, и кровь запеклась, заполнив морщины жирными красными полосами. В первое мгновение Токуити показалось, что голова очень маленькая, будто он смотрел на нее издали. Но тут же ему почудилось, что она растет, приближается и уже ничего, кроме нее, не видно. Токуити отпрянул и бросился бежать.
На дорожке он с размаху налетел на О-Кику. Она вскрикнула и бросилась к нему, широко расставив руки, будто загоняя курицу. Токуити шарахнулся в одну сторону, в другую, но всюду широкие рукава О-Кику хлопали, будто крылья, и преграждали путь. Тут охватила его такая ненависть, что он задохнулся, и пелена застлала глаза. Но тотчас кровь отринула к сердцу, жар сменился холодом, и, оскалив зубы, Токуити согнулся вдвое и изо всей силы толкнул О-Кику головой в живот. Она покачнулась, но в это время сзади накинулась на него выбежавшая на шум Мицуко. Одной рукой она схватила Токуити за ворот халата и начала колотить его по спине так мерно, будто ударяла вальком по белью.
— Оставь, оставь его! — закричала О-Кику, обхватила Токуити за пояс и пыталась оторвать его от Мицуко.
Пояс лопнул. Токуити выскочил из халата и, норовя сразу побить двух своих противниц, вертелся, как вьюн, брыкался, как лошадь, бодался, как молодой бычок. Под конец все трое сбили друг друга с ног, под их тяжестью затрещали сломанные стебли хризантем, а из-за угла дома выбежал старик Хироси. Потрясая руками в воздухе, он кричал:
— Встаньте, сейчас же встаньте!
Привычно повинуясь его голосу, обе женщины тотчас же поднялись и отпустили Токуити. А мальчик, все еще бледный от бешенства, кинулся к старику с воплем:
— Убийца, убийца!..
— Маа? — изумленно проговорил Хироси и так и остался стоять с раскрытым ртом.
— Разве я не видел голову Дандзюро? — кричал Токуити. — Там, в комнате, за углом, она лежала на столе, вся синяя и красная, как вареный омар. Вы его убили! Самого лучшего в Эдо, самого лучшего во всей стране!
Мгновение все уставились на него, будто не понимая смысла его слов.
Вдруг Мицуко взвизгнула и начала смеяться, закрывая рот разодранным в драке рукавом. О-Кику вежливо и негромко хихикнула. Хироси проговорил:
— Дурак! — и вдруг согнулся, хлопнул себя ладонями по коленям и залился тоненьким смехом.
О-Кику хихикала все громче и отрывистей, будто икала и не могла удержаться. А Мицуко хохотала так несдержанно, что ноги под ней подогнулись, и она вторично села на злосчастные хризантемы.
Токуити стоял растерянный и оскорбленный. Только что он вел себя, как герой, как мститель за убийство, только что с успехом дрался с двумя взрослыми и сильными женщинами, а теперь вдруг обозвали его дураком, стоят и насмехаются. Внезапная храбрость покинула его, и вместо нее, подобно чувству недомогания, возникло смутное подозрение, что, может быть, он действительно поступил неразумно. Может быть, он так ужасно перепугался, что стал храбрым от нестерпимого страха?
— Ни с того ни с сего налетел на нас, — сказала Мицуко, вставая и отряхиваясь, — Разъярился, как бычок, которого муха укусила в нос. Никакого у него нет понятия, если не сумел отличить голову куклы от человеческой.
— Куклы? — спросил Токуити.
— Есть у него понятие! — сказала О-Кику. — Он так взволновался, потому что куклы, которые делает мой брат Хироси, совсем как живые.
— Куклы? — спросил Токуити.
— Можно считать это похвалой моей работе, — сказал Хироси, — если мальчик испугался, увидев голову куклы.
— Куклы? — спросил Токуити.
— Да неужто ты никогда не видел кукол? — воскликнула О-Кику. — Разве ты не заметил, что это совсем маленькая голова?
— Можно показать ему кукол, — любезно сказал Хироси. — Идем!
И хотя страх Токуити еще не совсем прошел, и мальчик был недоверчив и настороже, любопытство оказалось сильнее. Он позволил О-Кику взять его за руку и вместе со всеми обогнул угол дома.
ЗА УГЛОМ ДОМА
Мицуко раздвинула затянутые белой бумагой стены мастерской. В открытую комнату ворвались и солнечный свет, и шум листвы, и песня цикады, чистая и ясная, как быстрые удары маленького колокола, — кана-кана-кана-кана! Толстый зеленый кузнечик с размаху впрыгнул в мастерскую, шлепнулся на пол и тоненько засвиристел: сон-гиис-сон-гиис-сон…
Это была хорошая и веселая мастерская. На чисто подметенном земляном полу лежала круглая подушка, плетенная из соломенных жгутов. Ее края немного обтрепались, и она была совсем плоская. Рядом с ней на лаковом подносе стояли чайник и чашечка. Тут нее было разложено на дощечке множество мелких стамесок — закругленные, треугольные, широкие, узкие, всякие, но все такие блестящие и острые, что какой же мальчик не почувствовал бы, что хочется взять их в руки и поскорей вонзить в кусок дерева, выбирая по крошке, по щепочке, пока получится вот такая голова, какая лежала на столе.
Но можно ли было так ошибиться! Конечно, она была маленькая, деревянная и раскрашенная. Краски стояли тут же, в чистых горшочках.
— Белая для молодого лица, красная для героя. У изменника голубой подбородок, нос белый, губы и морщины фиолетовые. У знатного злодея верх лица охра, низ серый, — услышал Токуити голос О-Кику. Но уже она тянула его за рукав, восклицая: —Смотри! Вот герои Усивака! Вчера я рассказывала тебе о нем. Молодой Иосицунэ! Разве он не похож?
Токуити поднял глаза и увидел стоящую на подставке готовую куклу. Действительно, лицом Усивака был прекрасен и нежен, как девушка, — белый, белый, как чистый снег. Рот маленький, узкий, тонкие брови чуть подняты к вискам. Прическа в две пышные пряди, а задние волосы подняты кверху. Глаза задумчивые, взгляд устремлен в одну точку, куда-то далеко вдаль и вниз.
Поверх доспехов на нем был плащ из темной парчи, так что почти и не видны были переплетенные красными шнурами ряды узких металлических полос— грудные латы, которые завязываются на спине. Из-под лат спускалась полоса заложенной складками ткани, обшитой золотой бахромой. Белый пояс, завязанный спереди бантом, и за ним меч. На лбу лента, наподобие диадемы.
О-Кику сняла куклу с подставки и, придерживал ее левой рукой, двумя пальцами правой коснулась ее правого локтя — и вдруг кукла ожила.
Как будто биение сердца О-Кику вдруг передалось деревянному телу, кукла дернулась и подпрыгнула с такой силой, будто хотела вырваться из рук О-Кику, улететь, как песня, как падающая звезда. Вдруг глаза куклы повернулись в одну и в другую сторону и перекосились в странной сосредоточенности. Брови нахмурились, ресницы опустились, скрывая глаза, и опять поднялись.
Семь чувств сменяли друг друга на прелестном кукольном лице.
— Как? Как это? — закричал Токуити, протягивая руки.
— Удивительно и кажется волшебством, не так ли? — сказала О-Кику. — А всего лишь протянуты внутри головы четыре шнурка от каждого глаза и брови. Здесь, ниже шеи, они выходят наружу, и я по очереди дергаю их… Не трогай! Не трогай! Кукла тяжелее тебя, и ты ее уронишь. Я сама с трудом могу ее удержать. — Она осторожно поставила куклу на подставку.
— Еще раз! — просил Токуити, но О-Кику, оглянувшись, увидела, что Хироси сидит на своей соломенной подушке и, с лицом, задумчивым, как во сне, смотрит на деревянный брусок, на котором уже были намечены круглая пятка и толстый, отставленный кверху большой палец ноги.
Хироси протянул руку и, не глядя, безошибочно взял нужную стамеску.
— Тише! — шепнула О-Кику, прижала палец к губам и увела Токуити из мастерской…
Вечером, когда О-Кику уложила спать счастливого и кроткого, как теленок, Токуити и вышла в большую комнату, Хироси сидел около жаровни и курил трубку.
О-Кику села, как полагается женщине, немного поодаль за его спиной и выжидательно смотрела ему в затылок. Хироси повернулся к ней и спросил:
— Тебе очень хочется, чтобы этот мальчик остался у нас?
— По моему глупому разумению, — ответила О-Кику, — и если позволено мне высказать мои мысли, я думаю, что нет большей печали, чем дом без детей. Наверно, боги наказывают нас за грех, который мы совершили в прежней жизни. И, когда мы умрем, кто будет молиться за нас и кормить наши голодные души? Токуити добрый и хороший мальчик. Как трогательно он просил у нас прощения! Как восторгался всем, что увидел в мастерской! Видно, ему не терпится скорее приняться работать. Он будет нам поддержкой в старости!
— Все это так, — ответил Хироси, — но не поздно ли ему начать обучаться ремеслу? От прадеда к деду, от деда к отцу перешло ко мне искусство резьбы по дереву. Моя первая игрушка была старая стамеска и деревянная чурка. Мои руки умнее меня, потому что в них умение моих предков.
Он выбил трубку о край жаровни и продолжал:
— У всех наших соседей ребенок растет в мастерской. Ты знаешь, что это так. Возьмем для примера Ясуо, который насекает на железе узоры из золота и серебра. На пластинке не больше моей ладони умеет он изобразить оленя в осенних травах или заснеженную горную местность с хижиной отшельника, пруд среди цветущих ирисов, лодку в тростниках, рыбачьи сети, поднятые на шесты для просушки. Сынишке Ясуо три года. Он сидит на полу мастерской, ему сунули в ручки гвозди, молоток, кусок металла. Он смеется, радуется, бьет молотком по гвоздю. Колотит, колотит, ни разу не ударил себя по пальцам. Это будет мастер.
— Я знаю сынишку Ясуо, — проговорила О-Кику и глубоко вздохнула. — Он такой жирненький, румяный, веселенький. Хочется взять его на руки и немного подержать.
— А наш друг Эдзо? — продолжал Хироси. — Его перегородчатую эмаль знает и ценит весь город. Он сам выкладывает на медной вазе узор из серебряной проволоки, такой легкий и тонкий, что дуновение ветра могло бы ее унести.
— Я знаю, — сказала О-Кику. — Как-то я была там, чихнула и испортила работу целого месяца.
— Да, — продолжал Хироси, — но, когда ваза нагрета и проволочки припаялись накрепко, кто наполняет перегородки красочным тестом? Его сын, который моложе твоего Токуити. Краски стоят перед ним во множестве маленьких чашек, а он ни разу не ошибся в оттенке цвета. Двумя тоненькими спицами набирает он ни больше, ни меньше краски, чем нужно, — так уверенно движется кисть его руки. А второй сын месяцами терпеливо полирует готовое изделие. Всего-то у него орудий— миска с водой, тряпка и два-три блюдечка с мелкой галькой, которую он набрал в ручье. Он трет и трет, и никогда ему не надоедает, и вся его награда и радость в том, что наконец-то проступит узор на поверхности гладкой и блестящей, как лед, как шелк, как лепесток цветка. Да что ремесло! Сыну ученого дают в руки кисть, едва ему исполнится пять-шесть лет. Сын самурая с детства владеет оружием. Из века так повелось, и таков непреложный закон. Занятие отца переходит к сыну и внуку. У каждого свое место в жизни, и горе тому, кто пытается его преступить. Кем был отец твоего Токуити?
— Я не знаю, — ответила О-Кику. — Погонщик мулов или лодочник?
— Смотри! — сказал Хироси и тихонько хихикнул. — Как бы река не потянула его, как много лет влекла лодку его отца. Подрастет, прыгнет в воду не хуже лягушки. Только всплеснет волна, расплывется кругами все шире и шире, а Токуити не видать. И, сказать по правде, он уже сейчас брыкается, как мул.
— Но ведь он просил прощенья, — прошептала О-Кику. — Пусть это нам зачтется как доброе дело.
— Если соседи начнут расспрашивать, — строго сказал Хироси, — я приказываю тебе солгать. Скажешь, что этот мальчик наш родственник, сирота, внук моего дяди. Только на этом условии он сможет спокойно жить у нас.
— Я не сумею солгать, — сказала О-Кику. — Я лучше скажу, что ты хочешь усыновить этого мальчика и что он твой ученик. Ведь это правда, не так ли?
Хироси засмеялся и сказал:
— Говори что хочешь!
Так случилось, что Токуити остался в этом доме.
УТРО ПРАЗДНИКА
Месяц за месяцем Сменяются полные луны. Ни одна не сравнится С пятнадцатою луной Осеннего месяца.Токуити проснулся от звука мерных тяжелых ударов, будто огромное сердце билось.
«Пятнадцатый день восьмого месяца, — подумал он. — Это Мицуко толчет рис в большой деревянной ступке. Вечером будут горячие рисовые пирожки».
Пата-пата-пата-пата. О-Кику подвязала за спиной длинные рукава, чтобы не мешать работе, покрыла голову синим полотенцем и усердно махала пучком мелко нарезанной бумаги, привязанным к короткой палке. Она чистила бумажные перегородки. К вечеру все в доме должно быть чистое-чистое в честь совершенной полной луны.
Руками подбирали каждый сухой листик, упавший в саду, выщипывали каждую завядшую травинку. Помыли искусственную скалу, и плиты дорожки, и даже камни на берегу ручейка. И время от времени поднимали голову, со страхом глядя, не выпустил ли бог ветра злые вихри, завязанные в его большом мешке, не нагнали бы они на чистое небо серые тучи, которые закроют лунный лик. Не тряхнет ли богиня дождя своими широкими юбками, так что все зонтики, изображенные на них, вдруг раскроются и оттуда прольется неожиданный дождь? Но небо было чисто и ветра не было.
Среди всех этих волнений уборки и готовки вдруг послышался испуганный голос О-Кику:
— Маа! Что же нам делать? Торговец овощами все еще не пришел! Ждать ли его, или он, не дойдя до нас, распродал свой товар и уже не придет, быть может?
— Придется ждать! — ответила Мицуко. — Возможно, он зазевался, глядя на небо, — с самого утра ждет полную луну. К завтрашнему очнется и придет.
И сама, очень довольная своей шуткой, она рассмеялась, заслонив рукой лицо.
— Нечего прикрывать рот рукавом, когда глупость уже выскочила, — сказала О-Кику. — Думаю, ждать уже не стоит. Но кто пойдет за покупками, если столько еще недоделанных дел?
— Надо попросить хозяина, — предложила Мицуко. — Может быть, он отпустит Токуити.
Хироси благосклонно выслушал просьбу и разрешил Токуити отлучиться из мастерской.
— Купишь хурму, — объясняла О-Кику. — Но смотри, выбирай яркую, крупную и круглую, чтобы спелая, вся светилась изнутри, как фонарик. Не забудь желтые сливы и каштаны. И еще купи горох и маленькие круглые огурчики. Ты найдешь лавку? Не заблудишься? Здесь недалеко. Как выйдешь из ворот — к востоку. Ты знаешь, где восток? А то был, говорят, такой случай. Послали мальчика купить мисо-тесто из соевых бобов, чтобы сварить из него суп. И дорогу ему подробно объяснили, и рассказали как узнать лавку — в дверях сидит деревянная кошечка и заманивает лапкой покупателей, а хозяйки полная и румяная, и мисо у нее самое лучшее и дешевое. Всё ему объяснили, только не догадались спросить, знает ли он, где восток. А он возьми и заверни не в ту сторону. Идет он, идет, и на каждом шагу ему попадаются лавочки, где продают мисо, но все не те. В одной сидит у входа деревянная кошечка, а хозяйка худая и сердитая. В другой хозяйка добрая и румяная, а кошки никакой нет. Блуждал он, блуждал из переулка в переулок, совсем запутался и только чувствует, что у него ужасно чешется подбородок. Наконец он нашел такую лавку, и такую кошечку, и такую хозяйку, и такое мисо. Купил и побежал домой. А на пороге его встречает незнакомая женщина, кланяется и говорит: «Что вам угодно, почтенный старец?» И оказывается, он ровно пятьдесят лет блуждал по переулкам, и борода у него выросла до самого пояса.
— Уж этого не может быть, — сказала Мицуко. — Если он пятьдесят лет не нес мисо, они бы сварили суп из бобов.
— Я знаю, где восток, и я не такой глупый, — сказал Токуити. — Я куплю все самое лучшее. Круглое и свежее, без единого пятнышка. Прошу не беспокоиться.
О-Кику протянула ему кошелек, проводила до ворот ж, наверно, стояла бы там, пока он не скроется из глаз, если бы Мицуко не позвала ее.
Уже два месяца, как Токуити жил в доме Хироси, и впервые он очутился на улице один и с деньгами за поясом.
«А если пойти погулять ненадолго?» — подумал он, свернул в переулок и сам не заметил, как очутился около Ямамура-дза.
На фасаде театра висели новые незнакомые афиши. Зазывалы в темных халатах сидели на скамьях у входа, стучали веерами и рассказывали содержание пьес. Токуити остановился посмотреть и послушать.
Его рука сама полезла за пояс, достала кошелек и, слегка подкинув кверху, взвесила его. Кошелек был тяжелый.
«Я мог бы пойти в театр и посмотреть представление», — лениво подумал Токуити.
Но, странно, ему не очень хотелось. Если бы еще в другой день, не сегодня. Сегодня он был так взволнован приготовлениями к празднику, так жарко возбужден в ожидании вечера. В толпе говорили, что Дандзюро уехал на гастроли в Осака и вместо него выступает другой актер. Нет, сегодня Токуити не хотелось в театр.
Но, не понимая причины своего нежелания, он подумал, что в этом его большая заслуга и добродетель.
«Я хороший и честный мальчик, — размышлял он. — Ведь если я истрачу деньги, заплатив за вход, а деньги эти не мои, то это будет кража и очень нехорошо».
Тут его лицо залило яркой краской, и он в ужасе подумал: «Но ведь я уже один раз украл. В тот раз я украл деньги!»
Непонятно было, просто невозможно себе представить, что за дикий порыв овладел им тогда и как он мог совершить такой дурной поступок?
«И я до сих пор не отдал матери деньги! А вдруг хозяин посадил ее в тюрьму? Вдруг она уже умерла от стыда и отчаяния? Но как я мог отдать их, если у меня их тогда не было? А сейчас-то у меня есть, и даже больше, чем надо. Нужно сейчас же бежать л вернуть их — один рё два бу. Но что я скажу О-Кику, если она заметит, что денег не хватает? Скажу, что меня обсчитали или что их украли у меня. Она всему поверит. Украли? Но ведь я сам их у нее украду!»
Он был в таком смятении, что слезы выступили у него на глазах. Обокрасть О-Кику — вернуть матери? Но тогда ему придется на всю жизнь остаться в кухне чайного дома, и он никогда уже не сможет вернуться в мастерскую Хироси, и никогда он не станет уважаемым и зажиточным человеком, известным мастером кукол. И О-Кику сшила ему совсем новый халат, который он мог бы надеть сегодня вечером, чтобы любоваться полной луной. Такой красивый яркий халат! К тому же, может быть, мать действительно умерла от стыда или какой-нибудь болезни, и, пойдя туда, он только напрасно себя погубит.
«В другой раз отдам, — подумал он. — Подарят мне когда-нибудь деньги, тогда я и отдам. И я не виноват, что в тот раз так случилось. Наверно, злой дух овладел мной и толкнул на воровство. Сам я не способен на такой недостойный поступок».
Токуити потянул носом и вдохнул горячий приторный запах — на углу продавец каштанов поставил свою жаровню и бамбуковой палкой мешал каштаны в медном котле. Коричневая кожица лопалась с громким треском, и в щелку, дразнясь, глядел нежный кремовый орех.
Токуити бросил презрительный взгляд на фасад театра, повернулся и пошел в овощную лавочку…
Вечером раздвинули стены, в ярком лунном свете расставили столики с угощением — в круглых вазах украшения из белой бумаги, на круглых блюдах лакомства — все круглое; пирожки, пятнадцать пирожков в честь пятнадцатой луны, хурма, сливы, каштаны — все круглое, потому что круг — знак совершенства.
После того как все долго любовались совершенным сверкающим лунным диском, Хироси сказал:
— Будем слагать стихи в честь луны.
И тут Мицуко зевнула. Бедняжка, ведь она весь день готовилась к празднику, но О-Кику засмеялась и, поддразнивая, проговорила:
Губы раздвинув, Мицуко круглым зевком Встречает луну.Но Мицуко ничуть не смутилась и тотчас ответила:
Любуясь луной, Еще на слепого наткнетесь. Он будет смеяться.— Возможно, возможно! — сказал Хироси. — В такую ночь трудно отвести глаза от божественного светила. Где уж заметить, что у вас под ногами? Однако же поэты видят всё и всё успеют воспеть. — И он, в свою очередь, прочел стихи:
В сиянье луны На полу, на циновке Тени от сосен.— Это Басе? — спросила О-Кику.
— Нет, нет, — сказал Хироси. — Это Кикаку, его ученик. Но если вы хотите, я расскажу вам о великом Басе.
Все подсели немного ближе, расправили складки одежды на коленях и застыли неподвижно, слегка наклонив головы и выпрямив спины. А Хироси начал свой рассказ.
РАССКАЗ ХИРОСИ: КАК БАСЕ ОЖИДАЛ ПОЛНОЛУНИЕ
Встретишь Басе на улице и не оглянешься посмотреть ему вслед. И в голову не придет, что прошел мимо несравненного поэта. Подумаешь: горожанин из небогатых, пожилой человек, больной или, может быть, невыспавшийся: лицо отечное, глаза припухшие. А присмотришься — странное лицо, противоречивое. Жиденькие усы и брови редкие, а волосы в них свисают длинные, затеняя глаза, как изображают древних мудрецов. Нос длинный, щедрый, толстый, мясистый, а рот чересчур маленький, поджатый, скупой. Но как великодушно он дарит нас дивными стихами.
Так, в лице ни красоты, ни величия, в простой одежде паломника, в соломенном плаще бродит Басе по стране от Осака до Оу. Случилось ему однажды идти одному по отдаленной сельской местности. Было это в полнолуние. Небо залито светом, светло как в полдень.
Так хороша была эта тихая, ясная ночь, что Басе не стал искать ночлега, а продолжал свой путь. Вдруг сломанная ветвь на дороге остановила его шаги, не-м ройный шум смутил его слух, и, оглянувшись, он увидел на опушке рощи нескольких крестьян, которые пили из маленьких чашек подогретую водку — сакэ и по очереди читали стихи. Басе хотел пройти мимо, не беспокоя их, но человек с полным и важным лицом — видно, староста ближней деревни — заметил его и сказал:
— Вон идет нищенствующий монах. Позовем его!
Так он сказал, и все остальные сейчас же закричали:
— Эй, ты, подойди-ка поближе! Садись отдохни, не бойся! Мы люди добрые, уж раз тебя сюда занесло, так и быть, угостим тебя чашечкой сакэ. Пусть никто не скажет, что в нашей деревне неприветливы к путникам в ночь полной луны!
Басе принял приглашение и занял самое нижнее место. Староста сказал с важностью:
— Собрались мы здесь, чтобы чествовать полнолуние. Каждый из нас по очереди должен сочинить об этом стихи. Понатужься и тоже придумай что-нибудь.
— Прошу меня извинить, — сказал Басе. — Я человек ничтожный. Как мне посметь принять участие в развлечениях такого уважаемого общества?
Сказал он это не потому, что презирал этих бедных людей, и не затем, чтобы пошутить над ними, а лишь не желая смущать их превосходством своего таланта и радуясь тому, что и в такой дикой местности люди любят поэзию. Но они не поняли его намерений, принимая его за необразованное и грубое существо, каким являются все нищенствующие монахи, думающие лишь о том, как бы выпить и поесть на дармовщинку. Поэтому они закричали:
— Ну, ну, худо ли, хорошо ли, сочини хоть одну строчку, всего пять слогов.
Басе улыбнулся, сложил почтительно руки и сказал:
— Если вам так угодно, не посмею я отказаться. Вот вам одна строчка:
Новолуние!Тут они начали смеяться и кричать, перебивая друг друга:
— Новолуние! Вот дурак! Глупый, как редька!
А староста сказал, поучая:
— Как же ты говоришь «новолуние»? Разве ты не понял, что стихи должны быть о полной луне?
Но другие перебивали его, восклицая:
— Да пусть его! Тем смешней! — И, вскочив со своих мест, столпились вокруг Басе, смеялись и насмехались.
Но он продолжал:
Новолуние! С тех самых пор я все жду… И вот наступила ночь.Тут они поняли, что никто из них не сумел бы выразить таким тонким, едва уловимым намеком томление о сияющей красоте луны, долгое ожидание я восторг этой ночи. В восхищении, изумленные, они спросили его имя.
— Мое ничтожное прозвище — Басе, — сказал он.
И все они склонились перед ним до земли, прося прощения и воздавая ему почести, потому что имя Басе известно по всей земле от края и до края: пастуху на крутых горных склонах, рыбаку на пустынном морском побережье — всем.
КРАСНЫЕ ЦВЕТЫ ЭДО
Один лист закружился, упал с ветки. Второй оторвался, лег рядом с ним. Вдвоем не так печально, не так ли?
Один за другим багровые листья кленов, колеблясь, падают. Все осыпались. Наступила зима.
Токуити проснулся и увидел, что вся комната полна чистым сверкающим светом.
— Первый снег выпал! — закричал он и выбежал в сад.
О-Кику уже стояла там, неподвижная, очарованными глазами смотрела на снег.
Пришел Хироси, прибежала Мицуко. Все стояли, смотрели на снег.
Снег выпал ночью, под утро ветер прогнал тучки, и теперь солнце светило яркое и холодное с большого голубого неба. Снег сверкал, пронзительно белый и прозрачный. От него пахло свежестью — чуть уловимый аромат, нежней и легче запаха цветов.
Внезапно Токуити почувствовал, что у него защипало глаза. Не оттого ли, что снег такой ослепительный? Он протер глаза рукой — это не помогло. Какая-то мутная пелена застилала все вокруг. В воздухе замелькали мохнатые черные хлопья. Снежные хлопья пушистые и белые и тают на ладони. А эти прилипли к коже, и нельзя их стереть. Вдруг О-Кику закашлялась и не могла остановиться.
— Сажа! — удивленно вскрикнула Мицуко, глядя на свои растопыренные пальцы. — Где-то горит!
Все подняли глаза и увидели, что день как будто померк, и ветер несет клубы дыма, и будто серым и едким туманом окутало дом и деревья.
— Горит далеко, — сказал Хироси. — Но пламя, подхлестываемое ветром, может перелететь сразу две-три улицы. Надо приготовиться.
С бледными лицами, но, двигаясь спокойно, все тотчас вернулись в дом. О-Кику сняла со стены и свернула изображение богини красоты и вместе с Мицуко собрала и связала в два больших узла одежду и постели. Хироси тщательно завернул кукол, а свои инструменты завязал в платок и спрятал в рукав. Все это они вынесли из дома и остановились у ворот.
Ветер дует во всех направлениях, как открытый веер, — сказал Хироси. — Неизвестно, откуда придет огонь и куда нам уходить. Сядем и будем спокойно ждать.
— Прошу извинить меня, — сказала О-Кику. — Может случиться, вы ничего не забыли? Что-нибудь очень важное? — И она значительно посмотрела на брата.
— Забыл, забыл! — проговорил Хироси и торопливо вернулся в дом.
Токуити, оглянувшись через плечо, увидел, что он вошел в большую комнату и прямо подошел к нагромождению полок в углу. Здесь он вынул один из ящичков — на нем был изображен цветок ириса. Потом, засунув руку по локоть в образовавшееся отверстие, он вытащил оттуда небольшой, но тяжелый мешочек и опять вставил ящик на место. Но рука у него дрогнула — мешочек упал на пол и зазвенел серебряным звоном. Хироси поднял мешочек, спрятал и рукав и вернулся к ожидавшей его семье.
Сперва они сидели молча, обхватив руками узлы, не в силах оторвать глаза от бушевавшего вдали мори огня. Из всех остальных домов в переулочке люди тоже вынесли свои пожитки, сидели и ждали, казалось, безучастно.
В это время в конце переулка показалась небольшая процессия. Может быть, двадцать или тридцать детей шли по нескольку в ряд под охраной взрослых мужчин. Эти мужчины останавливались у каждого дома и вежливо говорили:
— Начался пожар! Дайте нам ваших детей.
Детишки вставали и присоединялись к процессии. Девочки постарше несли на спине малышей. Когда они остановились около дома Хироси, Токуити гордо отказался уйти:
— Я уже большой и не покину моих благодетелей!
Дети ушли и скрылись вдали. Чтобы придать себе храбрости, они пели тоненькими голосами. Но слов уже нельзя было разобрать.
— Когда я была совсем маленькая, — заговорила О-Кику, — случился ужасный пожар, и вот так же собрали всех детей и увели в отдаленный храм. Там усадили нас в парке под соснами, и мы сидели смирно и только беспрестанно пели — одну песню кончим, сейчас же начинаем новую. И все время мы ждали, что скоро пожар окончится и наши родители придут за нами. Но никто не приходил. Под вечер монахи накормили нас, и каждому досталось по рисовому колобку.
Уж время бы наступить темноте, а небо было багровое от огня, и оттого так светло, как в полдень. Мы совсем ослабели от страха и от пения, и многие начали тихонько плакать, а некоторые заснули. Монахи принесли свои одеяла и постелили нам в большом храме, и весь пол был так тесно усеян детьми, что монахи переступали через нас, чтобы добраться до какого-нибудь малютки, рыдавшего особенно горько.
На рассвете по одному, по двое стали появляться взрослые, искать своих детей. Но вместо того чтобы увести их домой, они располагались под соснами и печально перешептывались между собой, и от этого многоголосого шепота казалось, что тысячи сосен шумят, кивая ветвями.
На следующий день пришел ко мне Хироси. В руках у него был небольшой узелок — все, что удалось ему вынести из бушующего пламени. Он рассказал мне, что наш дом сгорел и отец и мать погибли в огне. Я спросила его, что стало с моей кошечкой, и он ответил, что кошка убежала в самом начале и если она жива, то вернется на старое пепелище, а если нет, он достанет мне нового котенка. И хотя он был в то время совсем еще молодой мальчик, он так хорошо сумел меня утешить, что я, немножко поплакав, скоро успокоилась. По правде сказать, была я еще так мала и глупа, что не могла понять своей тяжкой утраты.
Мы прожили в монастыре несколько дней, и он все время нежно заботился обо мне, так что в самом деле заменил мне отца и мать.
В этот страшный пожар погибло семнадцать тысяч человек. За мостом Рёгацу в их память сооружен храм. Если пожар минует нас, я обещаюсь пойти туда, принести богам жертву…
— Просто уж не знаю, что делать, — сказала Мицуко и вздохнула. — Я уж с утра и крахмал развела, а теперь придется все перестирывать. Все в копоти.
— Я тебе помогу, — сказала О-Кику. — Не огорчайся.
Так они сидели, изредка перекидываясь двумя-тремя словами с соседями.
— Говорят, пожары бывают тогда, когда у плотников не хватает работы, — сказала одна женщина.
Но О-Кику с жаром возразила:
— Зачем так говорить? Ведь это неправда! Всем известно, что у нас в Эдо каждый день в неделе где-нибудь да горит. Кто-нибудь переносил жаровню с места на место и уронил уголек. Мало ли как это могло случиться!
— Такой был утром красивый снег, — проговорила одна девушка. — Можно было подумать, что весь сад усеян цветочными лепестками. Но лепестки не тают так быстро.
— Цветы Эдо — пожары, — сказала наставительно ее бабушка. — А снег еще будет, налюбуешься им. Еще много раз успеешь порадоваться ему, пока нетающий снег покажется в твоих волосах.
Между тем ветер утих и опасность миновала. Все вернулись в свои дома. С соседней улицы уже долетала песня возвращающихся детей.
Токуити заметил, что Хироси снова вынул ящичек с изображением ириса и положил на прежнее место тяжелый мешочек.
О НЕСЧАСТНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ
Лет за шестьдесят до начала этой повести приехал в Эдо человек, по имени Торая Дзироэмон. Он привез с собой из Киото несколько деревянных кукол, одетых, как мужчины и женщины, монахи, солдаты, всадники и носильщики. Торая открыл кукольным театр, и зрители с удовольствием смотрели, как куклы прыгают по сцене, стреляют из лука, правят лодкой и танцуют под аккомпанемент музыкантов, отбивающих такт веерами и барабанами. Но с течением времени пьесы становились все сложнее. Уже стук барабана казался простым и грубым, и его сменили мелодии струн сямисэна, и привезенных из Киото кукол уже не хватало, чтобы исполнить все роли. Так случилось, что внук основателя театра — и звали его Дзюромару— постоянно заказывал резчику по дереву Хироси все новых и новых кукол.
Однажды среди зимы Хироси собрался отвезти в театр только что выполненный заказ, тогда Токуити стал упрашивать взять его с собой. О-Кику, усердно протиравшая кукольные головы шелковым платком, тотчас поддержала его просьбу.
— Хоть я всего только женщина, — заговорила она, — и моя похвала немногого стоит, должны вы признать, братец, что Токуити усердно трудится и во всех делах у него самые лучшие намерения. Почему бы ребенку не развлечься немного, и это будет заслуженная награда. К тому же, естественно, что, надеясь стать со временем кукольным мастером, хотел бы он увидеть, как эти куклы разыгрывают различные чувства. А также следует добавить, что, если вы возьмете Токуити с собой, не придется вам зря тратить деньги, нанимая носильщика, а сможете вы, уложив кукол на тачку, довезти их до места.
— Хорошо, — сказал Хироси. — Я согласен, согласен.
Токуити скорей побежал переодеться в теплый халат…
Пока Хироси и Дзюромару развертывали и разглядывали кукол, Токуити чинно стоял за спиной Хироси, ни звуком, ни движением не выдавая своего нетерпения, но только сверлил глазами затылок Хироси и мысленно настойчиво повторял:
«Ну оглянись, ну оглянись, ну скоро ли?»
Наконец Хироси обернулся и, увидев отчаянное выражение его лица, обратился к Дзюромару со ело вами:
— Этот мой мальчик никогда еще не видел, как представляют куклы, и очень хотел бы посмотреть их игру.
— Конечно, пусть посмотрит, — любезно ответил Дзюромару. — Сегодня мы показываем печальную историю двух влюбленных — девушки Охацу, проданной хозяину чайного дома, и Токубэя, бедного приказчика, у которого обманом выманили деньги, так что не осталось у него средств выкупить возлюбленную. Решают они тайно убежать вдвоем. Пьеса уже началась, но самое интересное впереди.
Тут он объяснил Токуити, как пройти в зрительный зал, а сам снова занялся куклами. Так как Токуити еще никогда не бывал за кулисами театра, то не пошел прямо, как было ему указано, а, очутившись в коридоре, заглянул в первую дверь и увидел, что там какой-то старичок причесывает куклу, красиво укладывая волосы, перехватывает их на макушке полоской золотой бумаги и вкалывает в них богатые парные гребни.
Токуити прикрыл дверь и заглянул в следующую.
Здесь были прислонены к стене куклы, ожидающие выхода. Казались они вялыми и безжизненными. У одной голова была опущена на грудь, у другой склонилась вбок, что придавало ей опасливое и подозрительное выражение. Около кукол сидел на страже маленький мальчик. Увидев Токуити, он вскочил, и глазенки у него сердито сверкнули. Токуити отступил и поскорее задвинул дверь. Теперь он очутился перед занавеской, пальцем отвел ее немного в сторону и увидел сцену театра, но не прямо перед собой, как зрители из зала, а сзади, можно сказать, с изнанки — не лица, а спины, не декорации, а их бесцветную оборотную сторону.
За пересекавшей всю сцену низкой дощатой перегородкой кукольник в светло-голубой одежде, стоя на высоких деревянных подставках — сандалиях, вел главную куклу. Он держал ее на левой руке и этой же рукой управлял ее головой — движением ее глаз и губ, ее улыбкой и слезами.
Правой рукой он двигал правую руку куклы, и кукле, приложенной к сердцу человека, передавалось волнение его чувств и мыслей, так что казалась она чудесно ожившей. Рядом, незаметный в своем черном халате, помощник кукольника управлял левой рукой куклы. Сквозь узкие прорези в черной ткани закрывавшего голову капюшона его глаза, не отрываясь, следили за куклой, чтобы движение руки не нарушало гармонии остальных частей ее тела.
Кукла изображала женщину, а у куклы-женщины нет ног, потому что их не видно — они постоянно закрыты тяжелой оторочкой ее халата, и, следовательно, они не нужны. Но, скорчившись за перегородкой, второй помощник, также закутанный с ног до головы в черный балахон, то расправлял край ее костюма, когда кукла шла, то складывал его, когда она садилась. А так как снизу ему не было видно положение ее тела, главный кукольник направлял его то резким толчком локтя, то пинком ноги. Так, оживленная тремя людьми, кукла двигалась гармонично, в такт музыки сямисэна, в соответствии со словами рассказчика. Эти двое — рассказчик и музыкант сидели с правой стороны сцены. Перед рассказчиком на украшенном пышными кистями пюпитре была развернута книга — текст пьесы, и он то пел, то декламировал его. А музыкант, касаясь пластинкой слоновой кости струн сямисэна — трехструнной гитары, обтянутой кожей кошки, подчеркивал интонацию слов и волнение выражаемых чувств.
Пословица говорит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Вот сколько слов пришлось потратить, описывая все, что Токуити увидел в несколько кратких мгновений. Опустив край занавески, он коридором обогнул сцену, вышел в зрительный зал и сел на пол. Теперь, не замечая кукольников, он мог смотреть в лицо куклам, отдавая все свое внимание происходящему на сцене действию. И хотя он пропустил начало, но, вспомнив объяснение Дзюромару, все понял.
Час быка — третий час ночи. Фонарь освещает комнату в чайном доме. Все спят. Под лестницей, закрывшись клетчатым одеялом, спит служанка. Наверху каморка хозяина и чуланчики танцовщиц. Там тоже спят.
На верхней площадке показалась Охацу. На ней самые ее лучшие наряды — халат китайского светло-сиреневого шелка с рисунком павилики, поверх прозрачная накидка с цветными узорами, пояс с модным рисунком завязан спереди изящным узлом, широкий подол халата ложится веером.
Охацу на цыпочках идет к лестнице и смотрит вниз. Токубэй спрятался под домом, теперь он вылезает, машет ей и кивает, стараясь привлечь ее внимание. Она успокаивает его жестом, показывает на фонарь — спрячься, мол, тебя видно! Он проскальзывает в нишу около двери.
Своими белыми руками — каждый сустав пальцев подвижный — Охацу берет метлу, прислоненную к стене, привязывает к ней свой веер и со второй ступеньки лестницы пытается задуть фонарь. При каждой ее попытке Токубэй высовывает голову из прикрытия и снова прячется. Охацу тянется что есть силы, но не может достать фонарь. Тянется, едва касаясь ступеньки краем халата, дотянулась, гасит свет. И, не удержав равновесия, с треском падает вниз с лестницы. Служанка поворачивается во сне, а сверху, из своей комнаты, хозяин кричит:
— Фонарь погас. Вставай, зажги его!
Служанка встает кряхтя. Волосы у нее растрепаны, глаза полузакрыты. Спросонья она качается, ищет кресало, не может его найти, топчется взад и вперед. Чтобы не столкнуться с ней, Охацу за ее спиной повторяет ее движения, широко расставив руки с раздвинутыми пальцами, как делают люди, когда им приходится двигаться в темноте. Наконец ей удается схватить руку Токубэя. Держась за руки, влюбленные крадутся к выходу. Задвижка открыта, но дверные петли скрипят.
Служанка начинает стучать огнивом. В такт каждому скребущему звуку кремня они осторожно нажимают на дверь. С каждым ударом она открывается все шире. Тогда, обвив широкие рукава вокруг тела, чтобы не зацепиться и не застрять, Охацу и Токубэй пробираются в дверь осторожно, будто переступают через хвост тигра…
— Я иду домой, — шепнул за спиной Токуити голос Хироси, и мальчик неохотно поднялся и вышел из залы.
Странно было смотреть на яркий дневной свет и снующую по улице толпу. Как грубо ступали люд к. стучали деревянными подошвами, шлепали соломенными сандалиями. Ноги кукол совсем не касались пола, передвигались, будто плыли по воздуху волшебные создания.
— Вот не удалось узнать, что дальше, — грустно сказал Токуити. — Сумели ли они убежать и, поженившись, счастливо прожить вместе долгую жизнь?
— Нет, — сказал Хироси. — Вместе жить им не пришлось, но они умерли вместе на рассвете этого же дня. Прозвучала их предсмертная песнь:
Вы семь сосчитали ли Ударов колокола, Рассвет отмечающих? Шесть прозвенели, Остался один еще Отзвук последний, Который услышим мы Здесь, в нашей жизни.От этой печальной песни слезы выступили на глазах Токуити, он воскликнул:
— Никогда в жизни не был я так огорчен! Эти куклы куда лучше живых актеров. В одной-единственной из них чувства больше, чем в пяти людях!
— Восхваляя кукол, не забывай, не забывай одного! — возразил Хироси. — Чтобы оживить ее, понадобились талант и искусство пяти человек — тех трех, которые управляли ее движениями, певца, который одолжил ей свой голос, и музыканта, выразившего ее чувства. Не забудь и писателя, который придумал ее жизнь и написал ее слова. Вспомни и обо мне, вырезавшем ее тело из куска дерева. Кукла подобна человеку, одного ей не хватает.
— Чего же это? — спросил Токуити.
А Хироси ответил:
— Несколько лет назад жила в столице прекрасная дама. Ее возлюбленный уехал по делам службы, и она, тоскуя, заказала мне его деревянное изображение Приложив все свое уменье, удалось мне точно передать цвет его лица, и даже поры на коже были видны. Рисунок ушей, вырез ноздрей я выполнил с взыскательной точностью, даже число зубов во рту было правильно. Но когда дама, обрадовавшись, схватила куклу и прижала ее к себе, она испугалась и похолодела от отвращения и страха и выбросила куклу. Во всем эта кукла была подобна человеку, одного ей не хватало — жизни.
ПРОГУЛКА ПО МАЦУТИЯМА
Дни текли тихие и ровные, будто сматывалась длинная нить с клубка, будто невидимые пальцы перебирали косточки простых четок. День сменялся вечером, и ночь наступала в свой срок, и опять просыпалось утро. Хироси резал кукольные головы и обучал Токуити ремеслу. О-Кику шила кукольные платья и ухаживала за садом. Мицуко обо всех заботилась и всеми командовала — руки у нее так и летали, будто усердные птицы, строящие гнездо.
По вечерам все вчетвером собирались вокруг жаровни с углями и играли в тихие игры и рассказывали истории о героях древности и происшествиях на соседней улице.
В положенное время в эту жизнь, приятную, но однообразную, шумно врывались праздники, каждый со своими особыми развлечениями, и лакомствами, и обычаями.
Под Новый год выгоняли злых духов. Впереди шел Хироси в парадной одежде — складчатой юбке и накидке. В руках он нес плоскую корзинку с круглыми бобами, которых злые духи до ужаса боятся. Хироси сильными взмахами раскидывал бобы по всему дому, а О-Кику, Мицуко и Токуити бежали следом, вскидывая, подбрасывая, подгоняя, подметая бобы метлами, выкидывая их вон из дома. При этом они пели высокими голосами:
Счастье, сюда, сюда! Горе, несчастье, вон!В Новый год рисовые пирожки украшали апельсинами и крабами. Можно подумать, что краб, взобравшись бочком-бочком на апельсин, лакомится им.
В седьмой день первого месяца, в праздник весенних трав, Хироси опять надевал парадную одежду и варил густой суп из молодых трав. Вся семья набожно ела — это приносило здоровье на весь год.
Летом наступал праздник в память о родных, ушедших из этого мира. О-Кику украшала домашний алтарь. Из маленьких кривых огурчиков она делала лошадок — гриву и хвост из шелковых ниток, из стебельков конопли — ноги. Буйволов она делала из толстых фиолетовых баклажанов. Над алтарем развешивали гирлянды из длинной-длинной лапши и зажигали белый фонарь, обвитый бумажными шнурами. От потока теплого воздуха бахрома шнуров взлетала и кружилась.
В последнюю ночь праздника еду и фонарь помещали в маленькие, свернутые из циновок лодочки и спускали их на воду. Река Сумида текла в огоньках фонарей, как в сиянии звезд.
Люди теснились на мостах, перегнувшись через перила, следили каждый за своей лодочкой.
Осенью любовались кленами, весной — цветами вишни…
Шел четвертый год, как Токуити жил в доме Хироси, когда однажды, в начале весны, О-Кику сказала:
— Вишня уже зацветает. Боюсь, как бы внезапный ветер в одну ночь не развеял лепестки.
Хироси, поняв намек, усмехнулся и ответил:
— Не бойся, не бойся! Завтра будем гулять под цветущими деревьями. Думаю, лучше всего будет нам отправиться в Мацутияма.
О-Кику возразила:
— Не слишком ли далек туда путь? Пожалуй, устанем.
Но Хироси сказал, торжествуя:
— Я уже заказал лодку. Она будет ждать нас с утра у берега канала.
Пораженные и обрадованные, все принялись благодарить его, восклицая:
— Лодка! Какое счастье! Вот будет весело!
И действительно, наутро их ждала лодка, не слишком большая, но поместительная, так что все удобно расселись в ней. Лодочник оттолкнулся от берега длинным бамбуковым шестом и затем, медленно шагая по краю палубы, направлял путь лодки, в то время как второй лодочник, сидя на корме, греб длинным, гибким веслом. Они плыли под высокими дугами мостов, мимо каменных стен дворцов, мимо почерневших от времени маленьких домишек, где деревья неогороженных садиков спускались к самой воде и полоскали в ней свои ветви. Их перегоняли другие лодки, а иногда они сами перегоняли других и кричали им вдогонку веселые шутки, и все люди были нарядные, в халатах светлых, весенних цветов, и все смеялись и пели песни.
Наконец они выбрались из переплетения каналов и повернули к реке.
Сумида текла широкая и гладкая, сверкающая на солнце. Такой был сияющий весенний день.
А над рекой летали, в прибрежном иле ступали изящно птички, похожие на чаек, но еще прелестней, все белые, с красным клювом и красными лапками, — мияко-дори, и подобных им нигде на свете больше не водится. О-Кику достала из деревянной коробки сладкий пирожок и раскрошила им. Птички подхватывали крошки на лету, будто играли в быструю игру. Но когда О-Кику взялась за второй пирожок, Мицуко дернула ее за рукав и шепнула:
— Оставьте и нам немного!
О-Кику засмеялась и проговорила:
Мияко-дори! Ответьте на мой вопрос: Ждет ли нас счастье?Птички ничего не ответили. Наверно, они уже привыкли, что, по обычаю, все плывущие по Сумиде спрашивают их о счастье.
Ответил Токуити:
— Разве мы не счастливы? Я очень счастливый!
В Мацутияма они вышли из лодки.
Люди, не знающие правил хорошего поведения, радовались грубо: толпились, толкались и барахтались, чтобы подобраться поближе к деревьям, бессердечно ломали цветущие ветви, настойчиво уставившись, глазели на прохожих, полоскали руки и ноги в воде ручьев и, нарушая тишину визгливыми голосами, читали стихи, путая и перевирая древние строфы. Но семья Хироси вела себя скромно и сдержанно, и только по тому, как разрумянились щеки женщин, как блестели круглые глаза Токуити, можно было заметить, что они наслаждаются прогулкой. Токуити с легким стыдом вспоминал, как в первый год он вырвал свою руку из руки О-Кику, сбежал с дорожки и потянул за кончик цветущей ветки, чтобы понюхать ее. Теперь он знал, что это очень невоспитанно, и никогда бы не позволил себе ничего подобного. Теперь он уже не был ничтожный мальчишка, неумытое полуголое существо, а приемный сын почтенной и зажиточной семьи. Опустив глаза, он с тщеславным удовольствием смотрел, как ступают его ноги, обутые в красивые белые носки и сандалии на высоких подставках, с каждым шагом откидывая полы халата из прочной новой материи с крупным рисунком.
Так они медленно и чинно шли вдоль плотины. Откуда-то долетал звук дальнего колокола — нельзя было понять откуда, потому что облака цветущих в изобилии деревьев закрыли все окрестности. Можно было подумать, что не по земле движешься, а проплываешь по небу.
Вдруг Хироси шепнул:
— Смотрите, там, на террасе чайного дома, Дандзюро!
Токуити скосил глаза и увидел на нависшей над водой террасе небольшое общество. Двое были самураи — молодые господа в низко надвинутых на лоб больших шляпах, чтобы простонародье не могло рассмотреть их лица. Двое других были, вероятно, приживальщики. По тому, как они смотрели на богатое угощение и нерешительно играли палочками для еды, было видно, что они не знают, как поступить — есть или отказаться из скромности.
На почетном месте сидел невысокий и полный пожилой человек в простом клетчатом халате.
— Который? — шепнул Токуити.
— Не смотри пристально, не поворачивай головы. Тот, что посередке.
Прикрыв лицо рукавом, будто утирал он пот, Токуити все же умудрился еще раз взглянуть на Дандзюро. Неужели это был он? Совсем не похож, как выглядел со сцены. Ничуть не величественный, ничего геройского! Косматые брови, обрюзгшие щеки, в распахнутый ворот халата видна жирная шея, выражение лица брезгливое и скучающее, толстые пятки ног испачканы землей. И все же? Те двое знатных лебезили перед ним, их большие шляпы фасона «Туман над Фудзи» так и ныряли, будто утки, поочередно нагибаясь к нему. Своими палочками господа выбирали лучшие куски из блюд и клали ему на тарелку. А он даже не повертывал головы — такой знаменитый.
— Обедают, — сказала Мицуко печальным голосом.
Хироси засмеялся и спросил:
— Как говорит пословица: сперва рисовый колобок, а уж потом цветы. Ты тоже так думаешь, Мицуко? Я, пожалуй, согласен. Найдем чайный домик попроще и закусим.
Действительно, пройдя немного дальше, они увидели соломенный навес — временную харчевню, как их устраивают многие хозяева чайных домов для посетителей, пришедших погулять в пору цветения вишен. Под навесом на циновках и цветных одеялах расположились несколько семей и весело закусывали. Хироси тоже заказал циновку и велел подать чай.
Взрослые ели медленно, беседуя вполголоса. Но Токуити быстро утолил свой голод, ему надоело сидеть неподвижно, и он тихонько спросил О-Кику:
— Можно, я немножко погуляю?
— Иди, — сказала О-Кику.
За навесом, под которым угощали гостей, находилось небольшое помещение, огороженное циновками. Над ним вздымались приторные облака чада, и оттуда доносились громкие голоса. Что-то звучало в них знакомое. Небрежно подкидывая ногой камешек, Токуити пошел по тропинке, огибающей это помещение, увидел, что одна сторона открыта, и заглянул внутрь.
Там, опустив руки по локоть в лоханку с горячей водой, стояла и мыла посуду его мать.
На ней был все тот же халат, как четыре года назад, но совсем уже грязный и такой выношенный, что сквозь тонкую ткань видно было, как движутся острые лопатки. Пряди сухих волос свисали на шею, будто за четыре года ни разу не коснулся их гребень.
Вдруг она повернулась и посмотрела на Токуити.
Он мгновенно согнулся, опустил голову, делая вид, что поправляет перемычку у сандалии. Сердце билось у него во рту, кровь горячим потоком прилила к щекам. Пальцы шевелились, копошились над перемычкой. Не разгибаясь, задом, он медленно отступал.
Только очутившись перед навесом, он выпрямился и бросил взгляд через плечо. Никого за ним не было. Значит, не узнала. Может быть, даже не заметила. Не потребует обратно.
Токуити вошел под навес, сел рядом с О-Кику и прижался к ней. Она взглянула на него и с беспокойством спросила:
— Что с тобой, мой мальчик? Ты совсем бледный и весь дрожишь?
Пока она утирала ему лицо чистым платком, он, едва шевеля языком, бормотал:
— Уйдем, уйдем, отсюда! Я так испугался.
— Ах, храбрый какой! — воскликнула Мицуко. — Что же ты увидел такое страшное?
Но Токуити только дрожал, как в ознобе, и повторял:
— Уйдем, уйдем скорее!
— Наверно, увидел он какое-нибудь привидение! — воскликнула О-Кику. — И стыдно тебе, Мицуко, смеяться над бедным ребенком. Наверно, это место проклятое. Может быть, кто-нибудь погиб здесь насильственной смертью. Может быть, кто-нибудь предал здесь своего благодетеля или, еще ужасней, ребенок отрекся от матери, и теперь ее неутешная тень бродит в этих местах.
— Такой поступок непростительный грех, — наставительно сказал Хироси. — Цветы и деревья растут благодеяниями дождя и росы и признательны им, как отцу и матери. Насколько же больше человеческий род должен быть благодарен своим родителям, не всегда это бывает так!
— Уйдем, уйдем отсюда! — воскликнула О-Кику, и подхватив подол платья и обернув длинные рукава вокруг тела, она схватила Токуити за руку и, не дожидаясь, пока Хироси расплатится, быстро вышла из-под навеса.
НОЧНЫЕ ГОСТИ
Случилось так, что Хироси понадобилось уехать на несколько дней. Дело было неожиданное и выгодное. Как отказаться от такого случая? Но сколько тут было хлопот, сборов и наставлений! Хироси очень не хотелось оставлять беспомощных женщин, но О-Кику постаралась его успокоить.
— Прошу вас не волноваться, — сказала она. — Ведь с нами остается Токуити. Ведь он уже не маленький и, без сомнения, сумеет за нас заступиться в случае нужды. Вспомните, что герой Усивака был немногим его старше, когда так успешно сражался с грозным разбойником Кумасакой.
И, встав в позу, она продекламировала:
Пику занес Кумасака, ударил с такой силой, Что насквозь мог бы пробить железную стену. Но Усивака удар отразил и подпрыгнул в воздух. Неуловимый, туда и сюда заскакал он. И в то время, когда разбойник пытался схватить его, Мальчик сзади вонзил ему меч в прореху кольчуги. Пику свою уронил Кумасака и, руки раздвинув, За Усивакой погнался вдоль коридора, В угол его загнал, и казалось, уж выхода нету. Но, подобно зарнице, туману, луне, отраженной в волнах, Глазом он мальчика видел, а рукой не мог прикоснуться…— Все это так, это так, — перебил ее Хироси. — Однако же Усивака был герой, с детства обученный искусству сражаться. А Токуити всего лишь ученик кукольного мастера. Все же будем надеяться, что ничего дурного не случится. Кричите погромче — соседи вас услышат и позовут ночную стражу.
— Это не понадобится, — сказал Токуити. — Я сумею защитить женщин и без посторонней помощи.
Хироси с сомнением покачал головой, однако ж делать было нечего. Приходилось ехать.
Когда его проводили и вернулись в опустевший дом, им показалось, что время тащится, будто калека на двух костылях. Едва-едва дождались вечера.
Даже ужин не хотелось готовить, доели кой-какие остатки, и О-Кику сказала:
— Слава богам, один день уже прошел. Не лечь ли нам спать пораньше, чтобы скорее наступило завтра и тем приблизился срок возвращения уважаемого брата.
Только она это сказала, как послышался стук в калитку.
— Кто бы это мог быть? — воскликнула Мицуко. — Неужели хозяин забыл что-нибудь и ему пришлось вернуться с полдороги?
— Скорей, скорей беги отворить! — крикнула О-Кику. — Ах, да поторопись, не заставляй его дожидаться!
И Мицуко поскорей побежала к калитке, отодвинула засовы и распахнула створки.
Но вместо Хироси она увидела двух незнакомых мужчин в одних набедренных повязках и коротких куртках с подвязанными выше локтя рукавами. Лица у них были закутаны шарфами, а в руках они держали длинные мечи. Мицуко только набрала воздуху в рот, чтобы крикнуть погромче, когда один из незнакомцев, схватив ее, ласково проговорил:
— Какой хорошенький ротик! Только чересчур уж велик! — и в одно мгновенье заткнул открытый рот ее собственным рукавом и, распустив ее пояс, так ловко связал им ее руки и ноги и всю ее запеленал, что она стала похожа на кокон, из которого бабочке уж самой не вылупиться. Тут они оба пинками закатили ее с дорожки в кусты и прямо пошли в дом. Один остановился у входа, а другой вошел, потрясая сверкающим, как белое пламя, мечом.
При виде обнаженного меча Токуити вдруг почувствовал, что его руки и ноги обмякли и согнулись, и он нечаянно очутился на четвереньках и оказался в дальнем углу комнаты. Здесь он застыл неподвижно и почти без сознания.
О-Кику шагнула вперед, упала на колени и проговорила:
— Не убивайте нас!
— Мы вовсе не хотим убивать, — вежливо ответил разбойник. — Но нам нужны деньги. Дайте нам все, что у вас есть, и не вздумайте кричать. Если же вы не послушаетесь, придется нам вас прикончить. — И он с размаху воткнул меч в циновку, так что упругий клинок задрожал звеня.
Токуити смотрел на разбойника выкатившимися из орбит глазами, и ему казалось, что не может это быть на самом деле, а будто представляют в театре. И грозная поза разбойника, и его широкий жест, и самая угроза насильственной смерти — все это было так невероятно. Будто в смутном, густом тумане слышались голоса зазывал и великий Дандзюро вонзил меч в доски подмостков. В ушах шумела дальняя дробь барабанов…
Между тем О-Кику достала свой кошелек и подала его разбойнику со словами:
— Прошу извинить, что здесь так немного. Мой брат уехал и взял с собой деньги.
Разбойник открыл кошелек, пересчитал деньги и спросил:
— Это всё?
— Всё, — ответила О-Кику. — Клянусь богами!
Звук этих слов ударил слух Токуити, как будто в наизусть знакомой пьесе вдруг прозвучало что-то фальшивое, как будто актер ошибся, сбился и говорит не то. Он тихонько сделал О-Кику знак рукой. Разве она забыла, что на полке за ящичком с изображением ириса есть еще мешочек с деньгами? Но она повторила:
— Это все.
Разбойник проговорил:
— Госпожа, прежде чем прийти в какой-нибудь дом, собираем мы сведения о тех, кто в нем живет. Так мы узнали, что вы люди зажиточные, и выбрали день, когда ваш брат отлучился. Узнали мы также, что вы женщина набожная, соблюдающая посты, милостивая к неимущим и не оскверняющая свои уста лживыми словами. Приходится вам верить.
Эта речь чрезвычайно понравилась Токуити. Слова катились торжественно, как строфы древних стихов. Поза была безупречна. Не шевеля губами, Токуити про себя повторил возглас восхищенных зрителей: «Маттэ имасита! Мы этого от тебя ожидали!»
Теперь он уже сидел в своем углу, удобно поджав ноги и сложив руки на коленях. Он слушал и смотрел, будто все это его не касалось, и уже голова его слегка кружилась и ноги похолодели. Рот растянулся улыбкой, сердце билось от нетерпения. Что будет дальше?
А между тем О-Кику говорила:
— Я с радостью отдаю вам все, что у меня есть. Без сомнения, это наказание за мои прошлые грехи. Наверно, в одной из моих прежних жизней я брала у вас деньги в долг и не отдала или, может быть, даже ограбила вас. Ваше сегодняшнее посещение зачтется мне как искупление когда-то совершенного дурного дела.
Разбойник ответил:
— В таком случае вы говорите правду, и мне остается только уйти, униженно умоляя вас простить меня за беспокойство, которое я вам причинил. Вы достойная уважения женщина.
С этими словами он повернулся к выходу.
У Токуити углы рта опустились. Уже конец?
И ничего не случилось? О-Кику солгала, а разбойник поверил. Она обманула этого вежливого, благородного разбойника, который вовсе не хотел никого убивать, а только, подобно несчастному Токубэю, нестерпимо нуждался в деньгах. Может быть, ему надо выкупить свою возлюбленную, а теперь они умрут.
Арэ кадзоюрэба… Отзвук последний, Который услышим мы…Будто дернул его кукольник за невидимые нити, он выскочил из своего угла и крикнул:
— Подождите! В полке, за ящичком с изображением ириса… Выньте его, засуньте туда руку. Там много денег…
О-Кику закричала. Разбойник повернулся и ударил ее с такой силой, что она упала и откатилась в сторону. Выдернув ящик, он достал оттуда заветный мешочек, кинул его своему товарищу, и оба ушли.
Токуити мгновенье стоял неподвижно. Странный туман, застилавший его мысли, вдруг рассеялся. Вдруг он понял, что вовсе это не был театр, а произошло на самом деле. О-Кику лежит бледная, может быть, убитая. Сбережения многих лет усердного труда унесены. И он, Токуити, предал своих благодетелей. Его сердце сжалось от ужаса. Тело покрылось холодным потом. И, растерянно оглянувшись в последний раз, он выбежал из дома, по дорожке, через открытую калитку, по сонной улице, где еще виднелись две темные фигуры, уходившие вдаль.
Имя второе: МУРАМОРИ
ПЛАТА ЗА УСЛУГУ
— За нами погоня, — прошептал Дзюэмон.
— Тебе померещилось, — ответил Рокубэй. — Все тихо, город спит.
— Я ясно слышал, как сыплются камни из-под чьих-то бегущих ног.
— Какой-нибудь паршивый пес ищет нового хозяина. С тех пор как наш собачий правитель запретил убивать собак, развелось их столько, что стало больше, чем честных людей.
— Долго ли ты будешь зубоскалить, задерживаясь здесь? Бежим!
— Дурак, побежим не глядя — напоремся на ночную стражу. Уж тут нам не вывернуться. Нет, нам идти идти медленно, спотыкаясь и покачиваясь, чтобы приняли нас за подгулявших самураев, за чашкой вина забывших о позднем времени. — И громким голосом Рокубэй затянул пьяную песню:
Хо! Вот сейчас время! Вот сейчас время! Ха! Ха! О-о! Вот именно сейчас. Время пить! Именно сейчас!— Ха! Ха! О-о! — подтянул Дзюэмон, и, замолчав на мгновение, оба прислушалась. Теперь уже отчетливо было слышно, что кто-то бежит к ним.
Рокубэй тихонько выругался и заорал еще громче, коверкая слова заплетающимся языком:
Хо! Вот сейчас время!— Хо! Хо! Э-э! — подхватил Дзюэмон, покачиваясь и приплясывая. Но тут они увидели, что зря старались. Запыхавшись, подбежал к ним мальчик лет двенадцати-тринадцати, с размаху упал на колени и начал кланяться.
— Что тебе? — спросил Рокубэй.
Мальчик поднял голову. В темноте его лицо светилось, так обильно было оно залито слезами.
— Вы не узнали меня, господа? — спросил он прерывающимся голосом. — Только что… в доме Хироси…
— А, это ты! — сказал Рокубэй. — Пришел за наградой? Что же, ты оказал нам хорошую услугу. Не будь тебя, что бы нам досталось за наши труды? Одна мелочь!
— Я счастлив, что оказал услугу таким храбрым господам, — проговорил мальчик, и в его голосе слышалось такое отчаяние, что Рокубэй нагнулся и, взяв его за плечо, поднял. Мальчик не держался на ногах, задыхался, протягивал к ним руки и умолял — Господа, сжальтесь надо мной! Ведь теперь не могу я остаться в этом доме и у людей, которых я предал.
— Да что ты возишься с ним?! — крикнул Дзюэмон. — Того и гляди, нагрянет ночная стража и всех нас заберет. Отруби мальчишке голову, и тем самым сразу прекратится этот дурацкий шум.
Но Рокубэй отвел его руку и сказал:
— Подожди! Ведь мальчик прав. Куда ему деваться? К тому же он оказал нам услугу и заслужил, чтобы мы отплатили ему.
— Ну и уплатим ударом меча!
— Э, Дзюэмон, ненасытный у тебя меч, и вечно тебе хочется рубить. Зачем это? Мальчик смышленый. Росточек у него невысок, плечи узкие — такой мальчик нам очень пригодится. Возьмем его с собой и обучим нашему ремеслу. Вот это будет хорошая плата за услугу… Как тебя зовут, мальчик?
Но мальчик молчал и только утирал слезы. Рокубэй сказал с презрительной усмешкой:
— Вижу, боишься ты назвать свое имя, чтобы, став разбойником, не опозорить его. Ну, живо, отвечай! Когда я приказываю, следует слушаться. Как тебя звать? Говори первое, что в голову придет, мне безразлично, какую выдумаешь себе кличку.
Мальчик открыл рот, схватился за голову, проглотил слюну и вдруг выкрикнул:
— Мурамори!
— Ну, что же, Мурамори так Мурамори. Утри нос и идем, Мурамори.
(Читатель, конечно, уже догадался, кто был этот мальчик, но мы для удобства рассказа уже будем дальше называть его этим новым именем.)
Дзюэмон мрачно слушал и вдруг сказал:
— Что же, ты так и собираешься вести его в наш дом? Чтобы наутро он побежал и донес на нас и тем самым вымолил себе прощение? Один раз предатель— всегда предатель. Завяжи ему, по крайней мере, глаза, чтобы он не узнал дороги.
Мурамори послушно вытянул шею. Дзюэмон завязал ему глаза и, затягивая узел, больно прихватил прядь волос. Потом оба разбойника схватили его под руки и потащили за собой. Зажатый между ними, он не мог упасть, но его ноги то и дело отделялись от земли, когда то перетаскивали его через какие-то заборы, то протискивали в тесные проходы, то бегом пересекали какую-нибудь широкую улицу или площадь.
Наконец он услышал, как загрохотали засовы и медленно заскрипела тяжелая дверь. Его втолкнули внутрь какого-то помещения, и он упал, ударившись о каменный пол. Застучал, высекая искры, кремень об огниво. Грубая рука сдернула повязку с его глаз. Прямо перед собой Мурамори увидел подобие тускло мерцающего паука — шесть распростертых, скрюченных, с изогнутыми ладонями, направленных прямо на него золотых рук. Мурамори пронзительно пискнул и потерял сознание.
МУРАМОРИ В ОТЧАЯНИИ
С того мгновенья, как Мурамори очнулся в сыром полумраке заброшенного храма рядом с поверженной деревянной и позолоченной статуей шести-рукой богини, им овладело мрачное отчаяние. Храм стоял в самом сердце сложного сплетения тупиков и переулочков, на задворках каких-то разрушенных домов, и, если не знать к нему подхода, ни за что бы не найти его. Здесь было тихо и пустынно. Двор зарос горькими травами, с трудом пробивавшимися сквозь груды мусора. Иногда залетала заблудившаяся пчела, долго билась в серо-зеленой поросли и сердито улетала, голодная.
По утрам, когда разбойники отдыхали от ночных трудов, Мурамори печально гулял здесь, размышляя о своей жизни:
«Даже если бы я попытался уйти отсюда, заблудился бы я подобно мальчику, посланному за мисо, и не нашел бы я пути с этой отдаленной окраины к дому Хироси, А если бы и нашел, не посмел бы я туда войти. Что за злобный дух дернул меня за язык, так что невольно я выдал тайну ящичка с рисунком ириса? Ведь у меня были самые лучшие намерения — защитить этих женщин от любой опасности. Ведь в душе я очень храбрый. Не понимаю, что на меня нашло. А теперь уже никогда мне не вернуться. Что со мной будет, что ждет меня?..»
И он плакал так горько, что рукава его халата промокли насквозь. К тому же он ужасно боялся Дзюэмона, каждое мгновение ожидая, что сейчас разбойник выполнит свою угрозу — ни с того ни с сего отрубит ему голову.
Подобно древнему великану Бэнкэю, слуге Иосицунэ, Дзюэмон собирал мечи. Правда, было их у него не тысяча, а всего десять — двенадцать. Но, едва проснувшись, он доставал свои мечи из укромного тайника, где-то в темной глубине храма среди разбитых статуй. Он любовался ими, то размахивал, то вертел с такой быстротой, как воздух, колеблющийся над горячей почвой, так что они крутились подобно мельничным колесам. То он наносил воображаемые удары, все приемы знал в совершенстве и поочередно выполнял восьмисторонний взмах, колесо, поворот, вращение смерча, падение клинка, львиное скрежетание и лукавую увертку кленового листа. Огни плясали на острие меча, и Мурамори каждое мгновение ожидал, что сейчас меч вырвется из рук, синий, как молния, ударит его и рассечет так чисто, что там, где только что стоял он один, две его половины упадут близнецами на землю. Но Дзюэмон, наигравшись, проводил пальцем вдоль лезвия, дышал на него, протирал и снова прятал, завернув в шелковые тряпки. Кошелек, полный золота, порадовал бы его меньше, чем вновь добытый меч.
И собой Дзюэмон был страшен. Низкого роста, но широк в плечах, что казался квадратным. У него были густые, сросшиеся брови, толстые уши, взгляд исподлобья, руки обезьяны и голос отрывистый и низкий, как удар барабана. Иногда он подолгу, неподвижно уставившись, смотрел на Мурамори, и нельзя было понять, что у него в мыслях.
Но и от веселого щеголя Рокубэя тоже не приходилось ждать ни защиты, ни снисхождения. Рокубэй Пыл совершенно равнодушен к Мурамори, видно, только готовил себе в нем новое орудие. В первый же день он заговорил так:
— Не воображай, что мы взяли тебя из жалости или доброты или чтобы умаслить богов. Таких побуждений у нас нет, и ты должен отработать свое пропитание.
Мурамори поклонился и сказал:
— Приказывайте, господин. Я буду усердно выполнять мою работу.
Рокубэй посмотрел искоса, усмехнулся и продолжал:
— Наша работа, мальчик, полна опасностей, и нужно быть готовым встретить их. Тебе, малорослому и слабому, меч будет только помехой. Его вышибут у тебя из рук и обратят против тебя. Придется обучить тебя сноровке слабых, искусству уступать, тайной науке каратэ — какуто-дзюцу, умению защищаться голыми руками, используя силу противника ему же на погибель. Если ты будешь прилежно учиться, ребро твоей ладони станет острее меча, пальцы рук подобны кинжалу или клещам, ноги мощнее боевого молота.
С этого дня к душевным мукам Мурамори прибавились мучения телесные. Долгие часы подряд он ударял ребром ладони по углу черепицы или беспрерывно протыкал пальцами дыры в отвесно натянутой циновке. Сперва это казалось легко, потом руки распухли, кожа трескалась, пальцы кровоточили. Рокубэй говорил любезно:
— Со временем так закалишь свои руки, что сумеешь пальцами пробить насквозь грудную клетку человека и, раздвинув ребра, вырвать его сердце.
От одной этой мысли в животе Мурамори начинались спазмы, и он едва удерживал дурноту.
Однажды в самый разгар этих ужасных упражнений, когда Мурамори совсем уже изнемогал, а Рокубэй, сидя против него и прихлебывая сакэ из маленькой чашечки, повторял: «Не криви лицо, улыбайся. Еще раз. Еще…» — Дзюэмон неожиданно сказал:
— Дай отдохнуть мальчишке. Так ты, пожалуй, отобьешь у него охоту к нашему ремеслу. Надо ему хоть немного развлечься.
Мурамори сунул в рот ободранные до крови пальцы и, удивленный этой внезапной добротой, уставился на Дзюэмона, а тот продолжал:
— Борцы сумо уже разбили свои шатры в Кокугикане, и завтра начнутся состязания. Сам великий Кагамияма прибыл в Эдо и примет участие в борьбе.
— Кагамияма? — воскликнул Рокубэй, и, словно паутину метелкой, смело с его лица маску равнодушия. — Величайший из великанов, сильнейший из силачей!
И, перебивая друг друга, они принялись восторгаться знаменитым борцом:
— Он может в один присест съесть тридцать шесть чашек лапши и закусить их двадцатью белыми редьками!
— Нет, тридцать шесть коробок рисовых пирожков с рыбной начинкой съедает он зараз и запивает их шестью кувшинами сакэ!
— Он может, протянув руку, одним пальцем поднять мешок с рисом!
— Подобно своему учителю Рёгоку, он поднимает в каждой руке по корабельному якорю!
— Про него говорят, что однажды, когда разразилась внезапная гроза, а на улице какая-то девушка купалась в большой деревянной бочке, Кагамияма выбежал, схватил бочку с водой и с девушкой и мгновенно унес под крышу, так что, представьте себе, ни одна капля дождя не успела смочить красавицу.
— И не с ним это случилось, а с Акаси. И как было отличить, от чего девушка мокрая — от дождя или купанья?
— Вечно ты зубоскалишь! Вода для купанья горячая, дождь холодный.
— Ах, Кагамияма!..
— Кагамияма!..
И, наконец истощив восторг восклицаний, Рокубэй сказал снисходительно:
— Что же, возьмем с собой Мурамори.
После этого до самого вечера они ни о чем другом не могли ни говорить, ни думать и даже не вышли на промысел.
Уже они погасили светильник и приготовились спать, когда вдруг раздался голос Рокубэя:
— Счастливые эти борцы — сумо. Родится в крестьянской семье мальчишка небывалого веса, и вот уже открыта перед ним дорога. Сам правитель не брезгает принимать его во дворце. Самые красивые девушки считают счастьем служить ему. Народ толпами сбегается восторгаться им. А что он? Всего только гора мяса.
— Не завидуй, — сказал Дзюэмон. — И на нас прибежит любоваться толпа, когда, поймав нас, отрубят нам головы и выставят на мосту.
На это Рокубэй не ответил, а только проскрежетал зубами. А Дзюэмон, помолчав, сказал задумчиво:
— Мы-то сами выбрали эту жизнь и готовы к такой смерти. А ведь голову Мурамори тоже воткнут на шест рядом с нашими, и ему, наверно, этого не хочется.
ВЕЛИКАНЫ
Тысячи, десятки тысяч людей стояли так тесно, будто рыбы, набитые для засола в бочку. Но Рокубэй едва заметным прикосновением пальцев раздвигал толпу, а Дзюэмон и Мурамори следовали за ним, и таким образом они пробрались к тому месту, где возвышалась круглая эстрада. Она была пустая, только, немного отступя от края, ее окружала лежащая на досках настила плетенная из соломы веревка — круг, где происходила борьба.
Один за другим борцы входили в круг и становились рядом, касаясь веревки пальцами голой ноги.
Невероятно огромные, нечеловечески толстые, горы мускулов, с выступающими вперед круглыми животами, с шеями, такими мощными, что головы с маленькой, уложенной на макушке косичкой казались всего лишь украшением, придатком к этой могучей шее — великаны были совсем обнажены, если не считать передник, отороченный тяжелой золотой бахромой и расшитый гербами или иероглифами, изображающими имя борца.
Тотчас же из толпы стали называть эти имена, каждый изо всей силы выкликал имя своего любимца:
— Дайтэнрю — великий небесный дракон!
— Хакуюяма — светлая могучая гора!
— Двойной дракон, море сокровищ!..
— Который всех лучше? Который лучше? — спрашивал Мурамори, теребя Рокубэя за рукав.
Но Рокубэй только отмахнулся от него.
Последний борец вошел в круг, и все сразу повернулись спиной к зрителям — какие широкие, толстые спины! А затем один за другим удалились, оставив лишь тех двух, кому предстояло бороться.
Эти двое сели на корточки, будто два тигра, приготовившиеся к прыжку, вперили в противника грозный взгляд и застыли так. Неожиданно то один, то другой дергал рукой, будто собираясь нанести удар, и, передумав, опять опускал ее. Иногда, тяжело поднявшись, шли каждый в свою сторону, брали пригоршню приносящей счастье соли и бросали ее в круг, опять приседали, свирепо уставившись, и снова толчок, и снова спокойствие.
— Следи за руками, следи за руками, — задыхаясь от ожидания, шептал Дзюэмон.
Внезапно, как молния, борцы сцепились в тесном объятии, каждый стремясь засунуть свои руки под руки противника.
— Ааа! — стонали зрители. — Аа!
Вдруг один из борцов выпятил свой огромный живот, могучим усилием мускулов опустил его книзу, рывком взгромоздил на него противника, повернулся, откинулся назад, изогнувшись, как боевой лук, и противник скатился с выпуклого живота, будто с п> ры, и беспомощно упал, ударившись об пол.
Это было великолепно — и зрители выли, и барабаны рокотали, как прибой на морском берегу.
Одна за другой выступали новые пары, так же разбрасывали соль, так же приседали со сжатыми кулаками, свирепо глядели друг на друга, долго примеряясь к противнику, и потом внезапно оба прыгали, как тигры на добычу. Но победы каждый раз добивались по-новому.
То, засунув обе руки под руки противника, хватали его за набедренную повязку и поднимали его кверху. Несчастный беспомощно брыкался ногами и корчился в воздухе% как рыба, вытащенная из воды, а победитель нес его высоко вытянутой рукой до края круга и под хохот зрителей кидал его за веревку.
Или же обвивали ногой ногу противника под коленом, так что он терял равновесие и падал.
Или в то мгновение, когда противник налетал, отступали в сторону и звонким ударом ладони по спине сбивали его с ног, так что он спотыкался и падал, уткнувшись носом в доски помоста. Где уже перечесть все способы, все искусные приемы, все хитрые уловки в этой борьбе тяжести, расчета и силы!
Но наконец в торжественной процессии появился сам Кагамияма, многолетний победитель, ни разу не побежденный слава борцов сумо, самый высокий, самый тяжелый, самый сильный из всех.
Сперва вышел слуга, несший высокую, чрезмерно набитую подушку, и положил ее около веревки. Когда Кагамияма сядет на нее, она сплющится в блин. Затем показался низенький старичок в халате из золотой парчи и остроконечном, подвязанном подбородком колпаке — главный судья. За ним шли два борца, ученики Кагамиямы. Один из них, обернув руку платком, высоко вздымал великолепный меч.
— Что за меч! — прошептал Дзюэмон.
Когда вся свита заняла свои места, тяжелыми и важными шагами вошел в круг великан Кагамияма. Казалось, сами горы ему по плечо и головой он подпирает тучи. Он присел на корточки и, подняв руки, небрежно приветствовал обезумевших от восторга зрителей. Встал, ступил и остановился в середине круга. Исполняя древний ритуал, он захлопал в ладоши; вытянув руки, завертел кистями, так что они затрепетали, как толстые бледные бабочки; расставив ноги, упершись руками в колени, деликатно балансируя на одной ноге, поднял другую до уровня плеча и, опустив, грозно топнул ею. Так он показал свою силу и втоптал зло в землю в честь бога силачей.
Что касается самой борьбы, Мурамори неопытным взглядом не успел ее заметить. Только что выступил против Кагамиямы другой знаменитый борец, и вдруг, будто небо обрушилось и земля содрогнулась, Кагамияма выбросил его за веревку.
Еще предстояла заключительная церемония «танец с луком», когда какой-то дюжий человек схватил Дзюэмона за шиворот и закричал:
— Думаешь, в увлечении борьбой я тебя не замечу, не узнаю твою мерзкую рожу? Это ты в начале зимы наскочил на меня из-за угла и, оглушив ударами, украл мой кошелек и дорогой футляр с трубкой. Теперь не уйдешь, гнусный разбойник!..
Нападение было так неожиданно, что Дзюэмон только поднял локоть защитить лицо от ударов. Мурамори ждал, что Рокубэй сейчас заступится за товарища, но тот схватил мальчика за руку и нырнул в толпу.
— Почему… — начал Мурамори.
Но Рокубэй зашипел:
— Молчи, или я тебя убью! — крепче вцепился в него и, скользкий, как угорь, никого не задев, пробрался между людьми. Вскоре они оба очутились на краю поля и, замедлив шаг, пошли по каким-то незнакомым улицам.
Здесь Мурамори боязливо открыл рот и спросил:
— Если позволите задать вопрос?
Рокубэй оглянулся через плечо и любезно ответил:
— Теперь можно. Сколько угодно.
— Почему, даже если не было при вас меча, не применили вы искусство Каратэ — какуто-дзюцу, которым владеете в таком совершенстве? Ведь вы можете поворотом кисти вывихнуть руку врага, простым рукопожатием сломать ему позвоночник и по вашему желанию ударить так, чтобы только обезопасить врага, лишив его сознания, или мгновенно и неслышно убить.
— Зачем же мне это было делать? — спросил Рокубэй.
— Но для того, чтобы спасти Дзюэмона.
— Ты глуп! — сказал Рокубэй и засмеялся. — Если бы я ввязался в драку, мы привлекли бы к себе внимание, и, наверно, среди всех этих людей оказалось бы немало таких, которых случилось мне ограбить. Они, конечно, узнали бы меня, и со всеми сразу не сумел бы я справиться. А Дзюэмон уж как-нибудь выкарабкается из беды.
Действительно, не успели они запутанным и долгим путем вернуться домой, как появился Дзюэмон. Но в каком виде!
Сразу можно было заметить, что он перенес сильную трепку, потому что куртка висела с плеч полосами, тонкими, как лапша, в прорехи были видны кровоподтеки, один глаз подбит, нос распух. Он едва держался на ногах и без лишних слов добрался до своей циновки, упал на нее и закрыл глаза. Рокубэй искоса поглядел на него и сказал:
— Посиди с ним, Мурамори, а я побегу за помощью.
Скоро он вернулся, ведя за руку массажиста, молодого парня, рябого от оспы и слепого, потому что только одним слепым разрешается заниматься этим ремеслом, таким подходящим для людей, у которых осязание заменяет зрение и оттого так удивительно развито. Рокубэй подвел массажиста к ложу больного. Слепой вежливо поклонился Дзюэмону, ощупал его, а затем принялся его мять, гладить, взбивать и месить, как тесто, выворачивать суставы и ударять пальцами с такой быстротой, будто отбивал палочками барабанную дробь.
Мурамори с ужасом смотрел на эту пытку, ожидая, что сейчас Дзюэмон испустит дух. Но вместо того тот открыл глаза, пошевелил губами, потрогал свой нос и сказал:
— Мне уже лучше!
Рокубэй пошел проводить слепого, а Мурамори покипятил воду и подал Дзюэмону чашечку чаю. Тот выпил, попросил еще, а потом сел и заговорил:
— Большое неудобство нашей жизни, что всегда можно встретить знакомого.
— Что же тут плохого? — спросил Мурамори.
— А это ты сам видел сегодня на моем примере, — ответил Дзюэмон. — Посмотрю я, ты хороший мальчик, усердно ухаживаешь за мной, хоть ничего хорошего от меня не видел. Неужели тебе нравится наша жизнь и не хочется убежать подальше? Я бы на твоем месте убежал, пока не поздно.
— Что вы, что вы! — испуганно ответил Мурамори. — Мне здесь очень хорошо, и я очень благодарен вам и господину Рокубэю, что вы приютили меня и обучаете ремеслу.
— Не бойся, говори правду.
— Нет, — печально сказал Мурамори. — Мне некуда идти. В тот дом я уже не смею вернуться.
— Как это грустно, — заговорил, помолчав, Дзюэмон, — что человек, один раз поступив опрометчиво, увлекшись мечтой, поддавшись порыву, один раз отступив с узкой дорожки, проложенной ему обычаями, теряет свое место в жизни, отверженный, несется по течению — человек-волна. Но в твоем случае, Мурамори, еще не поздно раскаяться, попросить прощения, исправить свою ошибку. А вот со мной, нет, я хотел сказать, с одним моим приятелем случилось, что, восстав против бесчестного поступка, сам он навеки потерял честь.
— А может быть, ему тоже не поздно? — спросил Мурамори. — Может быть, геройским поступком он снова обретет уважение людей?
— Каких людей? — сердито сказал Дзюэмон. — А впрочем, хочешь, я тебе расскажу?.. Ночь длинная, и Рокубэй, видно, не скоро вернется.
РАССКАЗ ДЗЮЭМОНА: КАК БЫЛ ПОХИЩЕН МЕЧ МУРОМАСЫ
Мой приятель родился в княжеском замке. Но не в тех высоких и обширных залах, где стены украшены росписью и золотым лаком и откуда открывается вид на городок, распростершийся у подножия холма, как раб пред лицом владыки. Нет, он родился и тесной каменной каморке, такой холодной и темной, что она казалась щелью в громаде замковой стены. Отец моего приятеля был самурай, но не из гордых и роскошных приближенных молодого князя. Его служба состояла в том, что он воспитывал княжеских соколов, как до него занимались тем же его деды. И моему приятелю предстояла та же служба.
Но моему приятелю был противен запах птичьего помета и невыносимо низкое и зависимое положение. В своем теле он чувствовал богатырскую силу. Его голова была набита мечтами о подвигах, историями героев древних времен, будто трухлявый сундук истлевшими, старинными книгами. Под всякими предлогами удирал он из своей каморки, чтобы исподтишка любоваться рыцарскими состязаниями, про исходившими во дворе замка. Горькая зависть терзала его. Но пойми, о Мурамори! Он завидовал не бездельной жизни и богатым одеждам княжеских придворных, не веселым пирам, на которые его не приглашали, а только оружию молодого князя, блеску и крепости острых мечей.
Он всячески старался услужить хранителю княжеского оружия, бегал за ним следом, как собачонка, и будто подачку ловил на лету каждое снисходительно брошенное слово или указание. Таким образом он скоро узнал все княжеские мечи, если можно так выразиться, в лицо и различал их, будто знакомых людей, отдавая предпочтение одному, коротко кивая другому.
Среди этих мечей был один, работы оружейника Масамунэ. Об этом знаменитом мастере рассказывали, что он не иначе начинал ковать меч, чем постясь предварительно несколько дней. Чтобы отогнать злых духов, он вешал в своей кузнице священный соломенный жгут и лишь затем, повязав назад рукава, брался за молот и, ударяя им, пел: «Тэнка тайхэй, тайхэй», что значит «мир на земле». И его мечи, поднятые за правое дело, всегда приносили владельцу победу.
Но молодой князь предпочитал этому благородному и миролюбивому мечу другой меч — работы мастера Муромасы. Мрачный Муромаса, ученик Масамунэ, ударяя молотом, пел: «Тэнка тайран. Раздор на земле!» И владельцы его мечей постоянно ссорились друг с другом.
Мечи Муромасы плясали в своих ножнах, стучали и подскакивали, стремясь вырваться, и не успокаивались, не испробовав крови. Было даже небезопасно держать такой меч в руках, потому что, не найдя противника, меч обращался против своего владельца, и несчастным овладевало отвращение к жизни, и жажда крови, и желание смерти, если не чужой, так хоть своей, и человек как очарованный кидался на свой собственный меч и погибал.
Нот этот-то меч молодой князь постоянно брал с собой, когда спускался в призамковый городок. Увидев на длинном мосту нищего, или презренного торговца сандалиями, или старого крестьянина, согбенного под огромной связкой соломы и недостаточно быстро упавшего ниц при виде владыки, молодой князь вскрикивал:
— Мой меч хочет пить! — и, нагнувшись с седла, выхватывал меч из ножен.
Голова несчастного высокой дугой взлетала над перилами моста и с плеском падала в воду, фонтан горячей крови обагрял клинок до самой рукоятки. А княжеская свита наперебой восхваляла остроту лезвия и меткость удара.
Однако же во время состязаний во дворе замка упражнялись не смертоносными стальными мечами, а деревянными их подобиями во избежание царапины или — упасите боги! — ранения.
Как я уже говорил, мой приятель каждый раз, как ему удавалось ускользнуть от своей работы, постоянно наблюдал за этими состязаниями и вместе со всеми придворными восторженными криками приветствовал неизменные победы князя. При этом он заметил, что все попытки противников князя отразить его удары были удивительно и смехотворно неловки.
Моему приятелю было уже лет восемнадцать, когда однажды ко двору князя явился знаменитый фехтовальщик. Молодой князь сам пожелал сразиться с ним. Но, о чудо! Этот мастер, знаменитый по всей стране, фехтовал так плохо, что князь с первого выпада выбил меч из его рук. Такая очевидная несообразность так удивила моего приятеля, что он но сумел удержаться и громко вскрикнул:
— Он нарочно поддался! Это неправильно!
На этот возглас молодой князь обернулся, взглядом отыскал в толпе моего приятеля и позвал:
— Эй, ты, подойди сюда!
Мой приятель испугался и смутился, потому что на нем была старая одежда, порванная и испачканная птицами, за которыми он ходил. К тому же ни разу в жизни еще не приходилось ему приближаться к особе владыки. Однако же множество услужливых рук вытолкнули его вперед, он упал ниц перед князем и не смел поднять глаз. Князь смерил его взглядом и сказал:
— Так тебе не нравится моя победа? Может быть, ты фехтуешь лучше, чем этот знаменитый мастер?
И, так как мой приятель молчал, князь приказал:
— Дайте ему меч. Я хочу сам сразиться с этим никому не известным героем.
Ты можешь себе представить, в каком ужасе был мой приятель. Уже кто-то поднял его и встряхнул, кто-то сунул ему в руку деревянный меч, кто-то настойчиво шептал в ухо:
— А ты знаешь, как следует поступить, когда состязаешься с такой высокой особой?
Но он все стоял неподвижно, будто соломенное чучело. Но едва он почувствовал удар княжеского меча, как воинственный дух расширил его грудь и окрасил его бледные щеки, и, совсем забыв, с кем имеет великую честь и несчастье сражаться, в несколько кратких мгновений двумя-тремя искусными порогами руки обезоружил князя. Можно было подумать, что всех присутствующих поразил гром, — такая мертвая наступила тишина. Князь, бледный, как привидение, с усилием скривил рот в улыбку, пробормотал:
— Ты действительно хорошо фехтуешь! — поспешно повернулся и ушел. Свита бросилась за ним следом. А мой приятель убежал в свою каморку и в невыносимом ужасе бросился на кучу тряпья в углу.
— Что с тобой? Что с тобой?.. — спрашивал отец, но он не отвечал и только сильней зарывался в тряпье головой.
Вдруг дверь каморки приоткрылась, в нее просунулась голова слуги, а вслед за тем протиснулось его тело. Слуга почтительно поклонился и доложил:
— Владыка так доволен тобой, что приказал дать пир в твою честь. Живее одевайся и следуй за мной!
Пока мой приятель поспешно напяливал на себя все лучшее, что было у него и отца, слуга болтал:
— Владыка так доволен, что хочет назначить тебя своим оруженосцем. Он. изволил выразить, что впервые в жизни встретил честного человека, который не боится говорить правду в лицо и сражается подобно древнему воину.
Я не буду описывать этот пир, и заморские кушанья, и смущение моего приятеля, который даже не знал, как их едят. Скажу только, что к концу пира молодой князь проговорил:
— Возможно, что твоя сегодняшняя победа всего лишь случайность. Завтра сразимся еще раз, и если ты опять победишь, то будешь моим оруженосцем, и телохранителем, и самым близким другом.
С этими словами он поднялся, и пир кончился.
Когда мой приятель спускался к себе по узкой и темной лестнице, вдруг из-за угла вышла дворцовая служаночка. Эх, да что вспоминать! Сказать по правде, была она ему хорошо знакома, добрая и скромная девушка из небогатой самурайской семьи — самая могла бы ему стать подходящая жена.
Девушка приложила палец к губам и шепнула:
— Дзюэмон, постой!
Он остановился, а она шептала, беспрестанно оглядываясь, и так тихо, что он едва улавливал ее голос:
— Слушай! Когда князь после состязания вернулся во внутренние покои и мы подавали ему другую одежду, он был так гневен, что все мы дрожали от ужаса. Он позвал своего оруженосца и сказал ему, что завтра будет сражаться настоящим мечом, и приказал приготовить меч Муромасы, а тебе дадут ржавый клинок, который сломается от первого взмаха. О Дзюэмон, это смерть!
Он долго думал, хмуря густые брови, и сказал:
— Ты имеешь доступ во все дворцовые помещения. Укради меч Муромасы и принеси его мне.
Она в ужасе вскрикнула:
— Что ты задумал?
Довольно уж этот меч пил кровь невинных бедняков. Завтра я напою его знатной кровью, кровью труса и лжеца, коварного негодяя…
Она прервала его, дрожа и ломая руки:
— Опомнись, что ты говоришь? Даже мысль об убийстве господина — величайшее преступление. Верность владыке — первая заповедь самурая. Покорность воле владыки — закон чести.
Так она умоляла его, а он повторил:
— Ты принесешь мне меч.
Она молча плакала, а он повторил в третий раз:.
— Принесешь ты мне меч? Или хочешь, чтобы завтра меня подло убили?
Тогда она выпрямилась, утерла глаза рукавами и сказала:
— Принесу. Жди меня.
Он спустился в свою каморку, и отец, нетерпеливо ожидавший его возвращения, стал расспрашивать, на какое место посадили его на пиру, и кто сидел рядом, и какие кушанья подавали, и что ему говорили, и что он отвечал. Наконец, удовлетворив свое радостное любопытство, старик закрылся с головой стеганым одеялом и заснул. А Дзюэмон долго сидел неподвижно в мучительном раздумье, и уже наступила ночь, когда кто-то тихонько зацарапался за дверью, будто кошка скребла коготком, желая войти.
Дзюэмон поднялся, открыл дверь, и в комнату скользнула девушка.
Из широких складок своей одежды она достала меч и протянула его Дзюэмону.
Он схватил его, вытащил из ножен и по узору древесных колец на сверкающей стали узнал меч Муромасы и поспешно вновь опустил его в ножны.
Девушка заговорила:
— Вот я принесла тебе меч. А когда ты убьешь князя и пытками дознаются, что я похитила этот проклятый меч, казнят меня, и моих родителей, и мою престарелую бабку, и моего маленького братца — весь наш род. И тебя, убийцу, казнят мучительной казнью и твоего отца — весь твой род. Теперь делай что хочешь.
Он прислушался к дыханию спящего отца, он долго смотрел на бледное лицо девушки, он залился слезами и сказал:
— Прощай, больше никогда мы не увидимся. Я ухожу, и подумают, что я украл меч. Подумают, что я испугался и бежал. На тебя не падет подозрение, и ты будешь жива.
Он заткнул меч за пояс и ушел. Так как странен его знала, его выпустили из ворот замка…
— Это все? — воскликнул Мурамори. — А что же случилось дальше с вашим приятелем?
— Ничего хорошего, — мрачно ответил Дзюэмон.
— И вы ни разу больше не видели его?
— Каждый раз, когда я брею бороду и вместо зеркала смотрю в миску с водой, я…
ПИСЬМО
В это мгновение быстрыми шагами вошел Рокубэй. Все черты его лица так и прыгали, стараясь удержать спокойный и равнодушный вид. Едва владея своим голосом, он воскликнул:
— Я добыл огромное богатство! — и бросил Дзюэмону кошелек.
Дзюэмон искоса посмотрел на этот кошелек, тощий и сморщенный, как живот носильщика грузов, и спросил:
— Ты пьян?
Удача всегда появляется, когда меньше всего ее ждешь! — кричал Рокубэй. — Нужно только не растеряться, крепко схватить ее за хвост, пока она не улетела, как золотая птица феникс!..
Тут он заметил насмешливое выражение лица Дзюэмона, рассмеялся счастливым смехом и спросил:
— Ты не веришь? — сел рядом с ним и воскликнул: — Я сам себе сперва не поверил!
Действительно, то, что случилось с ним, было удивительно и неожиданно и доказывало, какой Рокубэй ловкий и сообразительный человек. Было от чего торжествовать!
Рокубэй проводил слепого массажиста до того места, откуда взял его, и повернул обратно, торопясь скорей вернуться домой, потому что уже темнело и близился час, когда запирают улицы. А так как он не успел переодеться, придя с состязания сумо, то на нем был его лучший халат, и он вовсе не хотел, чтобы, когда будут его колотить, ночная стража разорвала халат в лохмотья и вываляла его в грязи.
Он шел быстрыми шагами, с беспокойством замечая, как один за другим гаснут огни за бумажными перегородками домов, когда вдруг в пустынном переулке к нему подошел человек и, поклонившись, спросил:
— Не могли бы вы просветить меня и указать, где находится дом Сэдзи Исао?
Рокубэй удивился, потому что Сэдзи — один из самых крупных скупщиков риса и его имя и дом известны всему городу. Он спросил:
— Зачем это вам в такое позднее время?
Человек ответил:
— В том-то и дело, что поздно! И если я не успею вовремя добраться туда, мне придется ночевать под забором и без ужина. А между тем в доме Сэдзи, надеюсь, не откажут мне в теплой постели и вкусной еде.
— Думаете, не откажут? — медленно повторил Рокубэй, перед его мысленным взором возникли какие-то золотые искры, пятна, полоски — перья феникса. Мгновенно сообразив, как следует поступить, он заговорил приветливо: — Бывают же такие совпадения! Знайте, что я любимый племянник Сэдзи Исао. Нам с вами по пути, и я доведу вас в его дом кратчайшей дорогой.
Человек чрезвычайно обрадовался и принялся благодарить. А Рокубэй повел его в противоположном направлении, выбирая самые глухие переулки. По дороге он спросил:
— Как же случилось, что вы идете к моему дяде так поздно, и какое дело привело вас к нему?
Человек сперва не хотел отвечать, мямлил и бормотал, что только что прибыл в Эдо и его дело важное и тайное. Тогда Рокубэй сказал:
— Едва ли мой дядя примет первого попавшегося человека, который придет к нему неизвестно откуда и безо всякой рекомендации.
Тот ответил:
— У меня есть с собой письмо от торгового дома Таути в Осака, и я доверенный приказчик Таути Юдзи.
При этом он хлопнул себя рукой по бедру, и Рокубэй понял, что письмо, наверно, зашито у него в набедренной повязке.
— Что же, — заговорил Рокубэй и значительно подмигнул глазом. — Если дело обстоит так, надо бы с вами договориться. Мой дядя не предпринимает ни одного дела, не посоветовавшись со мной. Положите мне цель вашей поездки, и я постараюсь замолвить за вас словечко. Впрочем, я предлагаю вам свою помощь от доброго сердца, потому что и без пне хватает у нас торговых связей.
Тут этот человек еще немного помялся, колеблясь и раздумывая, но наконец сказал:
— Если вы действительно можете помочь, мой хозяин не поскупится как следует отблагодарить нас. И раз уж вы племянник такого богатого и влиятельного человека, придется мне рассказать вам все откровенно. Надо вам знать, что торговый дом Таути до последнего времени вовсе и не был торговым домом, а всего лишь лавочкой, где мы с Юдзи продавали рис домашним хозяйкам, отвешивая за раз не больше, чем на несколько бу. Однако же Юдзи — человек молодой и собой очень красив, а уж хитер, как барсук. Не так давно он встретился с богатой вдовой, и хотя лицо у нее истрепано, как старая сандалия, а волосы на голове поредели так, что кожа просвечивает, Юдзи женился на ней и мигом прибрал ее денежки к рукам. Но на этом он не успокоился и пожелал стать оптовым торговцем риса. А надо вам знать, что у нас в Осака нет людей более могущественных, чем оптовые торговцы. Посмотрели бы вы на их склады, которые беспрерывно тянутся вдоль набережных. Гавань Китахама так забита кораблями, что всю ее можно пересечь, ступая по доскам палуб и ни разу не замочив ноги. Кули с рисом грузят на баржи с такой быстротой и в таком множестве, что они летят по воздуху, будто осенние листья, подгоняемые ветром. И вот Юдзи, замыслив стать оптовиком, подумал, что если бы удалось заручиться хотя бы одним крупным поставщиком, то дальше дело само пойдет. Он предполагает предложить уважаемому Сэдзи цену большую, чем дают ему осакские купцы, и ваш почтенный дядя, подсчитав разницу, увидит, что это сделка выгодная. Сам же Юдзи вначале потерпит убыток, однако же, забрав в свои руки большое количество риса, сможет затем поднять на него цены, так что пострадают от этого только мелкие покупатели, бедные люди, которые и без этого привыкли страдать.
— Кто бы ни пострадал, лишь бы нам было хорошо, — сказал Рокубэй и сочувственно подмигнул приказчику, а затем, делая вид, что раздумывает над его предложением, спросил — А до сих пор вы не встречались с дядей?
— Он никогда не видел меня в глаза, — ответил приказчик.
Хо! Теперь Рокубэй крепко держал птицу счастья за ее золотой хвост. Он завил приказчика в темный тупичок, ласково сказал:
— Ловкачи вы с вашим Таути, — и дружески шлепнул по животу.
От неожиданности приказчик согнулся, а Рокубэй выкинул вверх острое колено и изо всей силы ударил его в переносицу. Приказчик покачнулся, и Рокубэй стукнул его ребром ладони по затылку, так что череп треснул и человек мгновенно и беззвучно свалился наземь, безжизненный, как соломенная кукла. Рокубэй вырвал письмо из его набедренной повязки и заодно взял и кошелек…
— Небогатый кошелек! — сказал Дзюэмон и засмеялся. — Едва-едва хватило бы этому человеку на обратный путь до Осака.
— Что мне до кошелька! Главное — письмо! Завтра мы будем купаться в золоте…
— Подожди! — прервал Дзюэмон. — Откуда ты знаешь, что в этом письме? Известны такие случаи, когда податель письма думал, что его ждет награда, а в письме было сказано: «Отрубите этому мошеннику голову».
Рокубэй пожал плечами, но все же раскрыл письмо и прочел:
— «Торгового дома Таути в Осака почтенному господину Сэдзи Исао письмо.
Имею честь сообщить почтенному господину:
Сведения о том, что вы постоянно с великим успехом ведете дела с самыми крупными фирмами нашего города, достигли слуха вашего покорного слуги. Но ввиду ничтожности моего дома до сих пор я не решался обращаться к вам.
Однако же за последнее время произошло изменение к лучшему и представились возможности, которые могут принести вам большую выгоду, если не побрезгаете снизойти и выслушать.
Не желая излагать подробности в письме, посылаю доверенного приказчика, который изложит суть моего предложения устно.
Таути Юдзи письмо почтительно запечатал».
— Неважно написано письмо, — сказал Дзюэмон. — Правила вежливости не соблюдены. В почерке никакого изящества. Сразу видно, что писал человек ничтожный и необразованный. Такого важного господина, как Сэдзи, который имеет дело с князьями и самураями, на это письмо не поймаешь. Нет, Рокубэй, твой золотой феникс просто дохлая курица.
— Ты очень образованный, — сердито ответил Рокубэй. — А я считаю, что, чем хуже написано письмо, тем значительней особа, писавшая его. Это только низким людишкам приходится бежать к писцу и просить, чтобы сочинил письмо повежливее и поуниженней. Видел ты когда-нибудь вежливого самурая? Ходят по улицам Эдо, безобразничают, и ругаются, и колотят ни в чем не повинных прохожих. Нет, прочтя это письмо, Сэдзи сразу увидит, что Таути из Осака так важен и богат, что может позволить себе быть безграмотным.
СКУПЩИК РИСА
Великий Сайкаку в своей достойной удивления книге «Эйтайгура» так описывает контору оптового торговца:
«…большие счетные книги разворачиваются облаками, счеты трещат, как град по стеклу, звон весов заглушает вечерний колокол, ветер вздувает занавески…»
Зачем мне искать других сравнений? Все оно в точности так и было.
Среди этого шума и усердной суеты Сэдзи Исао сидел на подушке, следя за приказчиками, диктуя писцам, принимая посетителей, замечая малейший промах или задержку, мгновенно разрешая все недоразумения.
По его виду никак бы нельзя было признать одного из самых богатых купцов Эдо.
Лицо у него было худое и такое острое, что постоянно казалось, что оно повернуто боком, узкое, как обушок ножа. Халат на нем был темный, на скромной подкладке. На узком поясе не болтались модные в то время безделушки: ни золотого лака — коробочек для лекарств, ни богато украшенного кошелька, прикрепленного резной из слоновой кости фигурной пуговицей, ни кисета, ни кресала, ни футляра с трубкой. На длинных пальцах ни одного кольца.
В то время, когда начинается эта глава, он беседовал с молодым самураем, пришедшим продать за деньги часть своего жалованья, которое выплачивалось ему рисом.
Сохраняя полную неподвижность, самурай вполголоса яростно торговался.
Исао слушал молча и наконец устало проговорил:
— Цены устанавливаю не я, а объединение оптовиков.
— Однако же могли бы вы мне оказать снисхождение, — шептал самурай. — Мой отец — лицо, приближенное к правителю. Кто знает, вам может понадобиться его покровительство. Никому не мешает иметь при дворе влиятельного заступника. Прибавьте хоть немного, я весь в долгах.
— Если вы нуждаетесь в деньгах, я могу вам дать под залог.
— Проще броситься в жерло вулкана, чем занимать у вас! Через год я понесу старьевщику мечи моих предков и все же не сумею рассчитаться с вами, — пробормотал самурай. — Приходится согласиться. Я продаю.
— Я покупаю, — сказал Исао.
В это время в контору ввели Рокубэя и следовавшего за ним Мурамори. Оба они были одеты скромно, но прилично. Поклонились почтительно, но с достоинством.
Исао спросил:
— Что вам надо?
Рокубэй ответил:
— Я доверенный приказчик торгового дома Таути в Осака. Вот письмо моего хозяина.
Исао внимательно прочел, проговорил:
— Сообщи подробности.
Рокубэй в кратких словах изложил суть задуманной сделки, однако же скрыл подробности, которые могли бы вызвать подозрение, умолчав и про лавочку, и про вдову, и про низкое положение Юдзи.
Исао посмотрел холодным глазом и сказал:
— Вы предлагаете мне обмануть моих постоянных покупателей, потерять их доверие и взять за это мошенническую цену, выше той, которая установлена объединением?
«О хитрый обманщик, настал твой черед быть обманутым», — подумал Рокубэй. Ему стало так смешно, он опустил глаза, чтобы Исао не прочел в них его мысли, и, понизив голос, ответил:
— Так, господин, но никто об этом не узнает. И мой хозяин согласен скупить весь рис, который есть на ваших складах, и впредь будет брать все, что вы сможете предложить ему.
Тень улыбки тронула губы Исао, и он сказал:
— Есть же такие безмерные богачи, пред которыми остается только преклониться! А я еще ни разу не слышал его имени! Но большие дела быстро не делают. Я попрошу вас дать мне время на размышление. Зайдите через несколько дней.
«Увидимся раньше, чем ждешь и желаешь», — подумал Рокубэй и, положив руку на плечо Мурамори, сказал:
— Это младший сынок господина Таути. Его отец хотел бы, чтобы он обучался торговле. И где же лучше узнать все тонкости этого искусства, чем в вашем знаменитом доме? Не согласились бы вы взять мальчика в ученики?
Исао окинул Мурамори взглядом и, казалось не заметив его бледности и смущения, его бегающих глаз и напряженности тела, подозвал одного из приказчиков и сказал:
— Этот мальчик — наш новый ученик. Возьмите его, позаботьтесь о нем и следите за его поведением. Он сын богатого отца и будет платить за свое содержание. Деньги получите вперед.
Рокубэй небрежно вручил приказчику кошелек убитого им ночью человека и удалился. А приказчик взял Мурамори за руку и отвел его в один из дворов за домом, где стояли огромные весы, на которых навешивали кули с рисом. Здесь он передал Мурамори другому приказчику. Тот торопливо пробормотал, так быстро, что слова сливались воедино:
— Следи-за-весом-каждого-мешка-заметив-недостачу-записывай-после-сверю-с-моими-записями, — и поскорее опять отвернулся к весам.
Пыль во дворе стояла густая и едкая, как туман. Тяжелые кули падали на весы и мгновенно исчезали. Носильщики метались как тени. Беспрерывный ивон вехгов был подобен набату во время бедствия.
Мурамори не отрываясь смотрел на весы и не видел их. Листок бумаги для записей, который ему сунули в руку, промок от пота. Пыль летела в его открытый рот, щекотала в носу, колола шею, прилипала к влажному лбу. Он ничего этого не замечал.
Всю предыдущую ночь Рокубэй не давал ему спать, заставляя еще и еще повторять новый прием каратэ — борьбы пустыми руками, — пока он научился выполнять его безупречно и молниеносно. После этого Рокубэй долго и подробно объяснял, что ему предстоит делать в доме Исао. И мысль о том, что ему предстоит сделать, и страх, что не сумеет он в нужное мгновенье правильно выполнить движение руки и ноги, так заполнили все существо Мурамори, что он очнулся, только услышав голос приказчика:
— Покажи-свои-записи-как-же-так-ничего-не-записано-почему?
Наконец день кончился, и Мурамори отвели в помещение, где ужинали приказчики.
Одни из них были сморщенные старички, желтые, как шафран, сгорбленные, как карликовые деревца. Им еду подавали первым и самые лучшие куски.
Много было здесь и молодых, здоровенных парней, видно только обучавшихся делу, и несколько подростков, бледных и тихих.
— Этот новичок не похож на мальчика из богатого дома, — шепнул один из старых приказчиков своему соседу. — Скорей, сказал бы я, сын зажиточного ремесленника. У него хорошие манеры, и ест он прилично. Но на лице у него написано какое-то странное смущение.
— Вы правы, — шепнул сосед, — я тоже заметил. Но думаю: это не смущение, а страх. Господин Сэдзи предупредил… — И совсем уже неслышно забормотал в подставленное морщинистое ухо.
Наконец и ужин кончился, и все разбрелись по углам. Мурамори постелили в одной комнате с тремя молодыми приказчиками.
Мальчик лежал, смотрел открытыми глазами в ногу, прислушиваясь к дыханию соседей. Один из них как лег, так сразу же громко захрапел:
— Харр-пию, харр-пию!..
Другие два недолго шептались и вскоре тоже заснули.
Ах, лучше бы умереть, убежать, провалиться, исчезнуть. Страшно!
Как незаметно подкралась ночь. Казалось, еще есть впереди время. Еще не скоро. Еще не сейчас.
Теперь настало это мгновенье, невыносимо страшное. Рокубэй, наверно, уже ждет. Надо подлиться, выскользнуть незаметно. Пора.
Мурамори пошевельнулся и прислушался.
— Харр-арр-пиюю!.. — Все трое спали.
Тогда он встал и на цыпочках направился к двери. Тотчас послышался стук кремня, высекавшего искры, и с одной из циновок раздался голос, удивительно бодрый:
— Мальчик, ты куда?
Мурамори замер, проглотил слюну, пробормотал:
— Прошу извинить… мне понадобилось…
— Иди, иди. Тут недалеко. За углом.
Мурамори раздвинул двери и выскочил из комнаты. Тут он остановился и оглянулся. Во всех соединенных переходами и крытыми галереями отдельных домиках, составляющих дом Исао, было темно. Только в угловом павильоне, стоявшем на невысоком холмике и заслоненном деревьями, виднелся слабый свет ночника.
«Комната Исао», — подумал Мурамори и заколебался, не посмотреть ли, спят там или еще не заснули. Но Рокубэй ждал, нельзя было терять время.
Ноги едва держали его, ступали неуклюже, задели камешек. Он, стуча, покатился по неровным плитам дорожки.
«Что я делаю, я разбужу весь дом», — подумал Мурамори, и холодный страх пробежал по его спине, всю кожу покрыл пупырышками.
Вот и ворота, и рядом с ними сторожка привратника. Мурамори остановился и начал дышать, как учил его Рокубэй. Втягивал живот и затем со свистом выдыхал воздух. Вскоре сердце забилось ровными, полными ударами. Теперь Мурамори был совсем спокоен. Каждое движение, которое ему предстояло сделать, он знал наизусть.
Дверь в сторожку была открыта, чтобы прохладный ночной воздух мог проникнуть внутрь.
Привратник сидел на циновке, наливал из чайника кипяток в чашечку.
Мурамори вошел и остановился против него на широко расставленных ногах, отвел левую ногу назад, высоко подняв ее, как делают танцовщики, и, внезапно качнувшись вперед всей тяжестью своего тела, кинулся на привратника, на лету ударив его ребром ладони под ухо, и тотчас отскочил.
Лицо привратника побагровело, он покачнулся и упал. Чайник откатился и разбился вдребезги.
Рокубэй говорил, что этот удар только лишит человека сознания, но никак не убьет его. А между тем голова привратника странно загнулась набок, и от уха к затылку шла узкая синяя полоса — след удара, нанесенного рукой Мурамори.
Не сводя с него глаз, ожидая, что сейчас привратник вскочит или, протянув руку, схватит его за щиколотку, мальчик обогнул лежащее неподвижно тело, снял со стены висящие на гвозде ключи и отпер ворота. Там уже стоял Рокубэй и гневно шептал:
— Что ты так долго?
В то же мгновение за бумажными стенами домов вспыхнули фонари, с треском раздвинулись все двери, и дюжие приказчики Исао, словно горох из прорванного мешка, высыпали из домов и, размахивая мечами, спешили к воротам. Рокубэй повернулся и бросился бежать. Мурамори бежал за ним, стараясь не отставать. На бегу он кричал:
— Господин Рокубэй, ведь я не убил его, не убил его, не убил?
Рокубэй не отвечал — не хотел или не слышал.
А может быть, Мурамори вовсе и не кричал? А слова только шепотом вырывались из широко открытого рта? Разве можно кричать, когда бежишь с такой быстротой, что дыханье режет в груди и не шатает воздуха? Может быть, его крик был совсем тихий и неслышный?
А может быть, он и вовсе не кричал. Может быть, это сердце в ужасе билось и, словно колокол, гремело в ушах:
— Господин Рокубэй, ответьте! Ведь привратник жив?
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
Мало того, что никакой выгоды не было Рокубэю в том, что он убил приказчика в темном тупике, — и кошелек с деньгами пришлось отдать, и письмо пропало даром. Мало того, что он едва спасся от слуг Исао, а преследовали его почти до самого храма, и в последнее мгновенье все же удалось, схватив Мурамори за шиворот, ускользнуть сквозь лазейку в чужом огороде. Нет, как будто мало было всего этого, ждала их еще новая беда.
Утром Дзюэмон обнаружил, что нет у них ни овощей, ни риса — не из чего готовить завтрак, и, взяв корзину, отправился в знакомую лавочку. Но вместо того чтобы отпустить ему товар, приятно поговорить о погоде и обменяться новостями, лавочник замахал руками и быстро шепнул::
— Уходи! Уходи скорей!
Дзюэмон обиделся и спросил:
— Разве так встречают старого покупателя? Что, тебе мое лицо вдруг разонравилось? Смотри, я тебя разукрашу, что тебе на самого себя будет противно смотреть.
Лавочник потянул его за рукав, увел за мешки и ящики и зашептал еще скорей:
— Что ты, что ты, я тебя очень уважаю! Потому и спешу предупредить. Ведь твой дружок сегодня ночью пытался ограбить самого Сэдзи Исао…
— Это не твое дело, — прервал Дзюэмон.
— Нет, нет, разве я посмел бы вмешиваться! Но Исао так обозлился, что еще на рассвете отправился во дворец правителя жаловаться на вас. А там у него немало должников, и среди них есть важные лица и даже, ходят слухи, один из князей. И теперь приказано изловить вас в трехдневный срок.
Дзюэмон гордо ответил:
— Пусть поймают облака, гонимые ветром, и выловят отражение луны в волнах. Как они найдут нас и таком большом городе?
— Но ведь они гнались за вами, и теперь им приблизительно известно, где вы прячетесь. Сыщики и стражники окружили все соседние кварталы и останавливают всех подозрительных прохожих. Исао подробно описал им высокий рост Рокубэя, его вздернутый нос и даже шрам на скуле, где кожу так стянуло, что он похож на маленькую черно-пурпурную орхидею. И нежное личико вашего мальчишки он тоже заметил. Прошу тебя, уходи! Если тебя застанут здесь, и я погибну вместе с вами.
Тут в лавочке послышался женский голос, взывавший:
— Господин лавочник! Господин лавочник, где вы?
И Дзюэмон поскорей ушел, второпях позабыв свою корзинку.
Что же теперь было делать? Два дня они сидели не евши, даже воды не смели вскипятить, боясь разжечь огонь, чтобы соседи, увидев дым над покинутым храмом, не сообразили, где их искать.
Голод так скрутил им кишки, что уже ни о чем другом не могли они думать, и тут Дзюэмон вспомнил давнишнюю свою приятельницу, бывшую танцовщицу, вышедшую замуж за хозяина харчевни. Не видя другого выхода, он решил навестить ее, Чтобы скрыть свое лицо, он покрыл голову полотенцем и завязал его концы под носом, как делают погонщики волов. В таком виде он рискнул пробраться в харчевню, но не вошел в переднюю дверь, а отправился прямо на кухню.
Недаром жена хозяина харчевни была когда-то танцовщицей и могла по своему желанию двигаться то плавно, как тихо текущий ручей, то стремительно быстро, как поток водопада, летящего с отвесной скалы. Каждой ногой умела она выписать отдельный узор, и каждая рука жила своей особой жизнью. Поэтому ей ничего не стоило одновременно рубить ножом начинку для пирожков, месить тесто, поправлять прическу и засыпать крупу в котел. Простая ложка в ее руках казалась веером, лютней, щитом, падающим снегом, бабочкой, летающей над подносом с закусками.
Да, жена хозяина харчевни недаром была когда-то танцовщицей и умела угадывать желания своих гостей и угождать им. При виде Дзюэмона она сразу поняла, что ему нужно, не стала терять времени на поклоны, а сейчас же усадила его на соломенную подушку, придвинула низкий столик и уставила его мисками с едой.
После того как он очистил все мисочки, жена хозяина харчевни снова наполнила их, и он стал есть спокойнее, уже не подвергаясь опасности подавить-мкомым куском. Мерно двигая челюстями, Дзюэмон пожаловался на свое ужасное положение.
— Можно подумать, — сказал он, — что мы дикие звери и охотники оцепили нашу нору, а собаки уже прибираются в единственный выход.
— Ах вы, бедняжки, — сказала жена хозяина харчевни, и слезы выступили на ее глазах. — И подумать, что каждую ночь вы рискуете своей жизнью и едва добываете себе на кашу с подливкой, а этот злой Исао, который безнаказанно грабит весь город, так вероломно преследует вас! Но если есть у вас есть один-единственный выход, значит, надо выйти it него.
— Как это сделать? — спросил Дзюэмон.
Тут она улыбнулась и сказала:
— Недаром я была танцовщицей и мне приходилось иметь дело и с богатыми купцами, и с самураями. Не раз случалось, что, налюбовавшись моими плясками, они пытались незаметно ускользнуть, не заплатив обещанное. Моя жизнь научила меня разным хитростям и уверткам. Придется ими воспользоваться. Ваш Исао ищет мужчину и мальчика? Пусть ищет!
— Куда же ты? — крикнул Дзюэмон, видя, что она бежит к лестнице, ведущей на второй этаж, и уже успела перескочить через несколько ступенек.
В ответ она только махнула рукавом, и не успел Дзюэмон вылизать дочиста последнюю мисочку, как она уже вернулась с большим узлом, завязанным в клетчатую тряпку, сунула его Дзюэмону и сказала:
— Мне уж это не понадобится. Бери и уходи, пока никто тебя не увидел.
Дзюэмон подхватил узел, и она вытолкала его вон.
Когда он вернулся в храм и они развязали узел, то нашли там три женских халата, три пестрых пояса и три шляпы, широкие поля которых завязываются под подбородком. А кроме того, красиво причесанный парик и коробочку с красками и притираниями.
Через недолгое время из храма вышла, изящно согнув колени и ступая мелкими шажками, высокая молодая дама. Подбитый ватой подол ее халата расстилался веером. Ее лицо и шея были густо набелены, брови подрисованы. Видно, она очень боялась загара, потому что поля ее шляпы были так тесно притянуты к лицу, что едва можно было ее рассмотреть. Следом семенила совсем молоденькая девушка, такая уж скромница, что при виде каждого прохожего вздрагивала и заслоняла личико широким рукавом. А позади тяжело ступала полная женщина в шляпе, надвинутой так низко, что бровей совсем не было видно. Лицо у нее было мрачное и сердитое. Ведь там позади, в храме, запрятанные в мусоре и битых кирпичах, остались двенадцать прекрасных мечей, которые никак невозможно было взять с собой.
В ПОИСКАХ УЖИНА
Из переулка вышли три женщины. Стоявший на углу сыщик уставился на шедшую позади толстуху и низко надвинутой шляпе.
«Вот такую жену! — подумал он, и дрожь пробежала у него по спине. — Как шагает! Такой скажешь слово, а она тебя кулаком раз в нос, раз в зубы!»
Так как он слишком усердно глядел на нее, то вовсе не обратил внимания на ту высокую, которая шла впереди. А жаль! Если бы он посмотрел попристальней, то заметил бы под белилами шрам на скуле, похожий на маленькую фиолетово-черную орхидею. И если бы он задержал эту высокую, с вздернутым носом и шрамом на скуле женщину, то, без сомнения, получил бы награду или даже повышение.
Приходится его пожалеть! Уж такой был он от рождения — никогда ему не везло.
И таким образом три женщины благополучно выбрались из окружавшего заброшенный храм кольца, ушли из опасного района и теперь уходили все дальше по направлению к большой дороге из Эдо в Киото.
— Господин Рокубэй, — жалобно сказала шедшая посредине девушка, — я ужасно хочу есть.
— Дурак, — ответила высокая женщина. — Следи за своей походкой. Ступаешь, как мальчишка, всех нас выдашь.
— Я так хочу есть, даже голова кружится, — прошептала девушка.
— И я хочу есть. Отойдем еще немного подальше, зайдем в харчевню.
— В харчевню опасно заходить, — вмешалась толстуха. — Могут встретиться знакомые.
— Сам наелся досыта, стал чрезмерно осторожным. Если нельзя в харчевню, зайди в лавочку. Купи нам хоть по мисочке мисо.
— У меня нет денег.
— Маа? — сказала высокая женщина и остановилась, удивленно раскрыв свой большой рот. — Куда же они делись?
— Ты что? Позабыл? — сердито зашептала толстуха. — В то утро, когда ты собрался в контору Исао, ты взял все деньги, которые у нас были, и, по правде сказать, не слишком их было много, и сунул их в кошелек, который добыл ночью. Ты еще сказал: «Уж очень этот кошелек тощий. Вдруг придется открыть его при посторонних? Даже неприлично доверенному лицу торгового дома Юдзи в Осака».
— Это верно, — подтвердила высокая, — так я и сделал. А потом пришлось мне оплатить содержание Мурамори. Я думал, ночью все верну, и бросил им кошелек, не считая, чтобы все видели, какой я богатый.
— Я хочу есть! — сказала девушка и всхлипнула.
— Молчи! Взрослый мальчик, а ревешь, как девчонка!
— Да что вы ко мне придираетесь? То я хожу как мальчишка, то плачу, как девочка. И то нехорошо, и по-другому плохо. Так что же мне делать?
— Что же нам делать? — повторила высокая женщина. — Ведь среди дня не приходится думать о том, чтобы ограбить кого-нибудь!
Между тем они уже успели дойти до окраины города. Место было пустынное, жалкие домишки чередовались с пустырями. Даже бродячих собак не было видно, и лавочек здесь почти уже не было. Только висела наглая вывеска ростовщика.
— Пришла мне мысль, — вдруг заговорила толстуха. — Здесь уж едва ли кто нас узнает, и незачем нам дальше ходить переодетыми. Снимем эти женские платья, которые мы накинули поверх нашей собственной одежды, и заложим их. Вот и лавка закладчика.
— Я останусь в этом платье, — сердито ответила высокая. — У меня очень заметная внешность. — Она двумя пальцами потрогала скулу. — А вы с Мурамори раздевайтесь поскорей.
Оглянувшись во все стороны, не видит ли их кто-нибудь, толстуха и девочка скрылись за поломанным плетнем, скинули свои платья и опять превратились в Дзюэмона и Мурамори. Перекинув оба платья через руку, Дзюэмон вошел в лавку.
Лысый старик ростовщик сидел на циновке и лениво торговался с молоденькой девушкой, державшей в руках закопченный медный котел.
— Не могу я дать больше, — говорил ростовщик, посасывая погасшую трубку. — Котел дырявый, и ты нарочно не вымыла его от утреннего риса, чтобы я не заметил дыру. Бери пятьдесят бу и проваливай. Больше никто не даст.
— Но я же вам говорю, господин, — охрипшим голосом повторяла девушка. — Моя мать больна, и пятьдесят бу мне не хватит на лекарства. Смилуйтесь и прибавьте еще! Ничего больше у нас нет, что можно было бы заложить. Все уже снесли в вашу лавку.
— В каждом доме что-нибудь да есть, стоит только поискать, — наставительно сказал ростовщик. — Поищи как следует. Наверно, найдется лишняя чашка, или старый зонтик, или нижняя одежда. Если не успела ее постирать, не стесняйся, я и грязную возьму.
— Ничего у нас нет, — плача, повторяла девушка. — На мне халат надет на голое тело, и не могу я стащить с больной матери одеяло, да и то рваное.
— Волосы у тебя хороши, — сказал ростовщик, — Густые и длинные. Продай свои волосы. Хватит и на лекарство, и на сытную еду твоей матери.
Девушка зарыдала в голос, вытащила из прически поломанную гребенку, так что волосы рассыпались черной волной и закрыли ей лицо. Она схватилась за них обеими руками и прижала волосы к глазам.
— Хорошие волосы, — сказал ростовщик, — годится для накладки, и у кого жидкие волосы, смогут вплести их в косу. Ну что, резать?
— Режьте, — прошептала девушка и вытянула вперед шею, будто клала голову под меч палача.
Недаром приятельница Дзюэмона была когда-то танцовщицей. Ее платья были хорошие, совсем почти новые. К тому же Дзюэмону некогда было спорить и торговаться. Он поспешно взял несколько серебряных монет и выбежал из лавки — уж очень противно пахло там заношенными тряпками ограбленной нищеты. В ушах так и звучал скрип ржавых ножниц, остригающих толстые пряди упругих волос.
При виде серебра Рокубэй чуть не заплясал о радости и крикнул:
— Пока ты там возился, мы с Мурамори обследовали соседние улицы и видели недорогую гостиницу. Спешим туда!
И, подобрав свое платье, чтобы не мешало широким шагам, направился к гостинице так быстро, чти Дзюэмон и Мурамори едва поспевали за ним.
Он так торопился, что, поднимаясь по ступенькам, нечаянно ударил ногой сидевшего на пороге человека.
Всем известно, что голова — самая уважаемая часть тела, а ноги — самая низкая и презренная. Поэтому к тем, кто делает шляпы, шапки и колпаки, относятся с уважением, и им по закону даже позволено носить за поясом один меч. А тех, кто плетет сандалии, ставят наравне с мясниками, кожевниками, живодерами и палачами, брезгуют прикоснуться к ним и даже не считают людьми/а самыми презренными созданиями. Нет большего оскорбления, чем толкнуть человека ногой, и поэтому Рокубэй очень испугался. Он уже собрался упасть на колени и покорно извиниться перед тем, кого невольно обидел. Но, обернувшись, заметил, что это всего-навсего старая женщина и к тому же нищенка.
Рокубэй отвернулся и хотел переступить через порог, но нищенка схватила его за подол и закричала:
— Ах, красавица, отчего же так невежлива? Гордишься шелковым платьем и набеленным личиком? Пройдет немного лет, и станешь ты еще уродливей меня! Откуда ты знаешь, кто я и кем была? Может быть, так я была знаменита своей красотой, что по всей стране при одном воспоминании обо мне людей охватывает сладостная тоска и они рады были умереть, лишь бы еще раз встретить меня. Откуда ты знаешь, может быть, я сама Оно-но Комати?
Рокубэй, тщетно пытавшийся вырвать свое платье из ее цепких когтей, остановился и спросил:
— А кто такая Оно-но Комати?
Дзюэмон громко засмеялся и воскликнул:
— Оно-но Комати жила тысячу лет назад!
— А когда она умерла, ты ведь не знаешь? — ядовито спросила нищенка. — Ведь никто не видел ее тела, и, может быть, за свой страшный грех она все еще бродит по дорогам.
— Кто это Оно-но Комати? — повторил Рокубэй.
— Дай мне серебряную монету, я тебе все про нее расскажу.
Хозяин, вышедший встретить гостей, нагнулся к Рокубэю и шепнул:
— Госпожа, она могла бы развлечь вас своим рассказом, пока я приготовлю закуску.
— Ладно, пусть рассказывает, — сказал Рокубэй. — Но лишнего серебра у меня нет. Хочешь, отдадим тебе все, что останется на блюдах после того, как мы поедим?
— Я голодна и согласна рассказывать за остатки вашего ужина, — сказала нищенка, отпустила полу Рокубэева платья, села поудобней, расправила свои лохмотья и начала рассказ.
РАССКАЗ НИЩЕНКИ: КАК ОНО-НО КОМАТИ ПОКИНУЛА ДВОРЕЦ
У прекрасной Оно-но Комати, дочери Иосидзанэ, князя Дэва, было, наверное, тысяча платьев, и она надевала на свое узкое тело сразу по шесть и по восемь халатов, один поверх другого, так что, когда она садилась, несгибающиеся складки одежд волнами окружали ее, и она казалась пышно распустившимся цветком пиона. А когда она вставала и шла, ее длинные и широкие шаровары — соломенно-желтые или травянисто-зеленые — и заложенный складками шлейф, висевший на помочах с плеч, тянулись и извивались за ней по полу, как листья цветка ириса.
Оно-но Комати была так прекрасна — во всей стране не было ей равной. Золотые птицы были приколоты на вороновых крыльях ее волос, таких длинных, что они стлались черным водопадом по спине до пят и на целый локоть волочились за ней следом. Ее брови были обриты наголо, и искусственные брови, короткие, густые и пушистые, похожие на толстеньких гусениц, наклеены посреди лба, что придавало лицу вид высокомерной невинности.
Оно-но Комати жила во дворце с мраморным крыльцом и тремя рядами колонн из дерева кедра, окрашенных киноварью. Она ездила в повозке на высоких колесах, которую влекли быки, белые или красные.
Оно-но Комати принимала участие во всех забавах молодой императрицы. Весной на празднике в храме Камо она сидела в императорской галерее, небрежным взором следя за играми фокусников и танцами молодых придворных. В летние ночи, когда все кусты парка были усеяны изумрудными крылатыми огнями, то вспыхивающими, то гаснущими, она, подколов сбоку шаровары, чтобы не мешали легким движениям, ловила веером светлячков. Будто привлеченные ее красотой, они во множестве слетались к ней, так что ее веер светился в темноте, как зеленоватая луна, и ее добыча была всегда больше, чем у других дам.
Все придворные господа были влюблены в Оно-но Комати. Едва наступало утро, они посылали своих пажей, чтобы передали ей любовные стихи, изящно переписанные на осыпанной золотыми блестками бумаге, привязанной к цветущей ветке. Так много их Пило, как дождевых капель в летнем ливне.
Только молодой капитан императорской гвардии Сии-но Сёсё не писал ей стихов. Это казалось ему так невозможно, как если бы вздумал он послать любовную записку богине.
Ежедневно встречая прекрасную даму, он ни разу не посмел обратиться к ней даже с ничего не значащими словами привета и не решался поднять на нее глаза, чтобы она не увидела в них пожирающее его пламя любви.
Однажды вечером придворные дамы развлекали императрицу игрою на лютне. Оно-но Комати это показалось скучно, и она вышла в галерею. Тучи, клубясь, закрыли луну, и купы деревьев едва выделялись тенями на темном небе. Ею овладела печаль, и она подумала:
«Я одинока!»
Шелка чьей-то одежды прошуршали по каменным плитам, и рядом с собой она услышала голос:
— Я люблю вас, я люблю вас.
— Многие любят меня, — ответила она равнодушно. — Кто вы?
— Никто не любит вас так глубоко, как несчастный Сии-но Сёсё.
— Сии-но Сёсё, сегодня вы клянетесь в любви, а завтра другая дама увлечет вас. В наше время ничто не вянет так внезапно, как цветок любви в сердце мужчины.
— Я буду любить вас вечно.
— Зачем же вечно? Если всего только сто дней подряд вы будете вспоминать меня; если сто ночей подряд, не пропустив ни одной ночи, вы будете подходить к моему крыльцу и оставлять зарубку на лаковой колонне, на сотый день я выйду за вас замуж.
На рассвете небо, омытое ночным дождем, было того нежного и прозрачного оттенка, которому пытаются подражать знаменитые китайские гончары, создавая фарфор цвета «небо после дождя». Воздух был свеж и бодрящ, и клены в дворцовом парке блистали в осеннем наряде, когда каждый отдельный лист подобен багряной, пурпурной, алой или розовой семиконечной звезде и все вместе сливаются в парчовом узоре.
Оно-но Комати вышла на крыльцо и увидела на колонне свежую зарубку. Она улыбнулась и вернулась в комнату.
Каждую ночь, каждую ночь в лунном свете и в темноте приходил Сии-но Сёсё. Когда лили ночные дожди, когда ночные ветры шумели в ветвях и шстья падали, как дождевые капли, когда снег лег на землю густым покровом и льдинки, тая, капали со стропил крыши, он приходил и уходил, приходил и уходил одну ночь, две ночи, три, десять… Он приходил и уходил, оставляя зарубку на колонне.
Оно-но Комати считала зарубки. Их должно было быть сто — не хватало еще одной.
В эту ночь ледяной ветер пронизывал до костей. Он дул со всех сторон и сбивал с ног. Он сорвал высокий черный колпак с головы Сии-но Сёсё. Он бил его по лицу влажными ладонями снега, он колол его острыми пальцами изморози. Сии-но Сёсё закрыл голову своим широким белым рукавом. Ветер рвал рукав, как парус тонущей лодки.
…Наверно, Оно-но Комати стоит, притаившись за колонной, и со страхом прислушивается к вою ветра, с нетерпением ждет, не услышит ли звук ножа, режущего последнюю зарубку. Она велела своим служанкам налить в фарфоровый чан кипящую воду для омовения и бросить в нее душистые травы. Она приказала согреть вино. Она приготовила одежды, подбитые пушистым мехом. О, как тепло! Она нагибается к нему. Край ее одежды скользнул по его щеке… И Сии-но Сёсё закрыл усталые глаза.
Оно-но Комати проснулась утром, зевнула и спросила служанку:
— Какая погода?
— Ах, госпожа, нестерпимо холодно. Всю ночь бушевал ледяной ветер. Дыханье застывает в груди.
— Я так сладко спала, ничего не слышала. Но если так морозно, я не выйду на крыльцо. Пойди и посчитай зарубки.
Через мгновенье служанка вбежала обратно и крикнула с порога:
— У крыльца господин Сёсё!
Оно-но Комати спросила небрежно:
— Он в свадебном наряде?
— Он мертв, — ответила служанка.
Тогда Оно-но Комати в ночной одежде и босая выбежала на крыльцо и увидела Сии-но Сёсё. Он лежал скорчившись, и снег не таял на его белом лице.
Невыносимая боль пронзила ее грудь, она бросилась на холодное тело, и зарыдала, и запричитала:
Я одинока. Под корень срезанная Трава — мое тело. Пусть бы река унесла, На дно увлекла меня.И так поочередно она кричала, плакала и выкликала стихами:
Цветы увяли. Полиняли их краски, Пока без смысла Моя жизнь протекала, Как бесконечный ливень.Наконец удалось ее оторвать от тела и увести в спальню, и здесь, истощенная горем и слезами, она заснула.
Между тем уже по всему городу распространилась ужасная весть. Молодая императрица в гневе воскликнула:
— Это позор для меня и всех моих дам, что такое бессердечное создание было среди нас!
В своем поместье князь Оно-но Иосидзанэ закричал:
— Будь проклят час, когда это презренное существо родилось в моем доме! Сто ночей без одной? Так пусть же сто лет без одного года бродит она по земле, всем ненавистная!
Служанки Оно-но Комати, трепеща от страха и отвращении, собрались у дверей ее спальни, и старшая служанка сказала:
— Мы свободные девушки и происходим из семей бедных, но уважаемых. Это пятно на нашей чести, что мы служили такому чудовищу. Так уйдем же скорей и поищем себе другую службу.
Через несколько дней князь Иосидзанэ пожелал у: шать, что сталось с его дочерью, и послал к ней своего меченосца. Тот вскоре вернулся и сообщил, что диорец пуст. Оно-но Комати исчезла, но весь пол в ее комнате усеян разорванными в клочья платьями и обрывками бумаги, на которых написаны ее почерком любовные стихи, обращенные к Сии-но Сёсё.
Думая о нем, Спала я только затем, Чтоб явился он. Знала бы я — это сон, Не проснулась бы!Оно-но Комати исчезла бесследно. Время от времени кто-нибудь встречал на дорогах уродливую нищенку: ее волосы — путаница холодного инея, ее лицо — паутина морщин. Когда спрашивали, что она несет в мешке, привязанном к поясу, она отвечала:
— Сегодня смерть, завтра голод — всего горстку бобов.
И если спрашивали ее имя, она отвечала:
— Когда-то я была горда, давным-давно была горда и прекрасна. Я слагала стихи. Если я назову вам, кто я, вы не поверите.
ПОГОНЯ
Во все время рассказа нищенка беспрестанно переводила глаза с мисочек, которые хозяин подавал полные с верхом, на те, которые уносились опустошенными. Наконец на столе осталась только коробка со сладкими пирожками. Мурамори, насыщенный, лениво жевал их, взял последний, с отвращением посмотрел на него и надкусил.
— Непонятно! — проговорил он. — Что же дурного сделала эта Комати, в чем ее преступление?
— Еще бы тебе понять! — с ненавистью ответила женщина. — Где уж тебе понять, что нет худшего злодея, чем человек, который думает только о себе, не заботясь о том, что от его прихоти другой человек может умереть. От чего бы он ни умер — от удара кулаком, от отчаяния, от холода…
Она поднялась, поправила свои лохмотья и прошипела ему прямо в лицо, так что брызги слюны упали на руку, державшую пирожок:
— …или от голода!
С этими словами она ушла, а Мурамори, недоумевая, спросил:
— И отчего это старое страшилище так на меня обозлилось?
Ему не ответили, а Дзюэмон подозвал хозяина и сказал:
— Отведите нам комнату, где мы могли бы переночевать. Утром мы позавтракаем, а затем, расплатившись с вами, направимся в дальнейший путь.
Мурамори никак не мог заснуть — сладкий пирожок стоял у него поперек горла. Он думал: «Какая страшная и все смотрела на меня, а что я ей сделал дурного. Разве это стыдно, что я все съел, ничего не оставил? Ведь долгих два дня не было у меня во рту ни крошки, кто знает, может быть, завтра опять придется голодать. Разве это не умно и не предусмотрительно, что я постарался наесться впрок? Нет, сама она дурная, жадная ведьма. Как у нее тряслась голова, повязанная тряпкой. Можно подумать, что она действительно не человек, а ведьма».
…Скупой искал жену, которая съедала бы только два зернышка риса в день. Вот он нашел такую и счел себя счастливым. Но однажды он вернулся домой неожиданно, заглянул в дырочку в стене и увидел, как жена снимает головную повязку, с которой не расставалась ни днем, ни ночью. И тут он увидел у нее на макушке дыру, будто открытый рот. В эту дыру она стала жадно пихать целые горы риса и рыбы. Тогда он понял, что женился на ведьме.
…«Это хорошо, что я не дал ей пирожок, — она бы сожрала его вместе с моей рукой. Как она смотрела на меня, будто я хуже всех! Но ведь это неправда! Я всегда был хороший, послушный мальчик. А если я ударил привратника, так я только исполнил то, что мне приказал Рокубэй. Значит, Рокубэй виноват. И еще неизвестно, может быть, привратник и не умер…»
Он проснулся оттого, что Дзюэмон тряс его за плечо и шептал:
— Вставай. Мы уходим.
— Но ведь еще рано, чуть светает.
— Если мы останемся до утра, придется платить за ужин и ночлег, а нам эти деньги самим пригодятся. Вставай!
Комната была на втором этаже: Рокубэй размотал женский пояс, которым было подвязано платье танцовщицы, крепко привязал один конец к перилам галерейки, а другой спустил вниз. Пояс был такой длинный, что почти хватило до земли. Дзюэмон подергал узел, перекинул ноги через перила, схватился за пояс и спустился вниз. Теперь была очередь Мурамори.
Он перегнулся через перила, и ему показалось, что до земли ужасно далеко. Какой-то куст вытягивал торчащую вверх ветку, будто пику. Большой круглый камень будто ждал, что об него расплющится чья-нибудь голова. Пояс качался, как шальной. Предутренний ветер относил в сторону его конец. Вдруг ноги Мурамори стали совсем мягкие — он никак не мог закинуть их через перила.
— Что же ты? — прошептал Рокубэй и вдруг схватил его за ворот халата и поднял на воздух.
Мурамори уцепился за пояс и закрыл глаза. Жесткая ткань обожгла ладони, и не успел он вскрикнуть, как Дзюэмон подхватил его и поставил на землю. Ноги у Мурамори тотчас подогнулись, и он сел на тот самый круглый камень.
Наверху Рокубэй подвязал за спиной широкие и длинные рукава, чтобы не мешали, и начал спускаться. Но непривычное платье путалось между ног, замедляло движение и вдруг зацепилось за какой-то крюк или выступ. Рокубэй задержался, стараясь освободиться. Подвязанные за спиной рукава не давали высвободить локти.
Мурамори стало смешно. Рокубэй вертелся, как пустая корзинка на конце шеста. Изогнувшись вдвое, он пытался развязать зубами узкий шнурок, которым подвязывают платье под верхним парадным поясом. Наконец ему удалось сбросить платье, и он соскользнул вниз. Со злостью он сдернул с головы парик и швырнул его наземь.
— Выходит, мы сполна расплатились с хозяином, — сказал Дзюэмон. — Оставили ему парик, платье и пояс.
Мурамори очень хотелось рассмеяться, но он побоялся…
Сперва они шли по большой дороге, пустынной и тихой в этот ранний час. Но едва рассвело, как стало там так людно, как на любой улице Эдо. Каждое мгновенье они то сталкивались с носильщиком, тащившим на коромысле квадратные, обернутые веревками тюки, то отступали на обочину, чтобы увернуться от палок наглых слуг, расчищавших дорогу знатному господину, спешащему со своей свитой на прием к правителю. То толкали их в спину носилки дамы, ехавшей на богомолье в пригородный монастырь, то чуть не сбивала их с ног тележка огородника. А уж пеших людей было столько, как песка на; морском побережье, и все они спешили — кто в город, кто из города, будто их подхватил смерч и крутит во все стороны.
— Среди стольких людей могут у нас встретиться знакомые, — сказал Дзюэмон.
Рокубэй усмехнулся и ответил:
— Стараниями Исао я стал теперь так знаменит, что, пожалуй, и незнакомые сразу узнают меня Лучше нам при первой возможности свернуть с этой дороги.
Вскоре они увидели какую-то уходящую в сторону узкую тропу, тянущуюся среди рисовых полей, и свернули на нее.
Кто ее знает, куда она вела? Однако же каждая дорога куда-нибудь да приводит, а наши путники стремились лишь к тому, чтобы отойти подальше от Эдо. Была она хороша уж тем, что ею, видно, мало пользовались, и им повстречались лишь два-три пешехода. К полудню они прошли мимо небольшой деревушки. Несколько собак залаяли на них, несколько ребятишек побежали за ними. Больше никого но было видно, но они сочли разумней не останавливаться здесь, а только купили в лавчонке пакет поджаренного риса и пошли дальше, жуя на ходу. Уже под вечер они увидели вдали городок, а за ним отвесные стены богатого поместья. К этому времени они успели так устать, ноги припухли, и животы подвело, что они скрепя сердце подумали, не рискнуть ли и переночевать в этом городке. Тут им неожиданно улыбнулось счастье. Немного не доходя первых городских домишек, они увидели харчевню, и к ней как раз подъехали верхом два господина. Они соскочили, небрежно захлестнули поводья за плетень и вошли внутрь.
— За ночь можно далеко ускакать, — сказал Рокубэй.
Дзюэмон ответил:
— По всему видно, эти господа зашли сюда ненадолго. Стой здесь, Мурамори, мы сейчас вернемся.
Они неслышно подобрались к лошадям, отвязали поводья, вскочили в седло и, повернув коней, помчались обратно. Мурамори только успел подумать, не бросили ли его уж на произвол судьбы, как Дзюэмон, нагнувшись с седла, подхватил его и посадил перед собой. О, как они мчались — ветер свистел в ушах. Но Рокубэй, оглянувшись, крикнул:
— Они выбежали на крыльцо! Они хватились лошадей! Да их много! Наверно, у них там была назначена встреча с приятелями. Скорей, скорей!
— Пешком нас не догнать! — крикнул Дзюэмон.
— Они не пешком. Выводят еще лошадей. Седлают их.
В это мгновенье начался дождь.
Сперва нерешительно упали одна-две капли, потом еще несколько, и вдруг ливень пролился сплошной пеленой, заслонив все вокруг, так что видно было не больше, чем на шаг вперед. Под порывами ветра дождь то трещал, будто щебень сыпался, то потоки воды отлетали в сторону и на мгновенье наступало затишье. В один из таких перерывов Дзюэмону показалось, что он слышит цоканье копыт.
— Нас догоняют! — крикнул он.
— Я слышу, — ответил Рокубэй.
— Прыгай с коня! Спрячемся в поле. Кони пусть бегут вперед по дороге. Погоня бросится за ними и потеряет нас. Я прыгаю!
НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ
Это было мучительное и, казалось, бесконечное странствие. С того мгновенья, как Дзюэмон сдернул Мурамори с седла и они выше колен погрузились и густую грязь затопленного рисового поля, и Мурамори с трудом вытащил ногу, а сандалия с нее отлетела в сторону и утонула, а когда он поднял вторую ногу, земля успела засосать вторую сандалию, и он, босой, топтался, будто месил черное тесто, — Мурамори почувствовал, что сейчас его душа отделится от тела. Он даже подумал, что приятнее и легче было бы лечь и умереть, чем продолжать этот невыносимый путь.
Промокшая одежда ничуть не защищала тело, а прилипала к нему ледяным объятием и тянула книзу. Было так темно, что, казалось, глаза навсегда потеряли способность видеть. Мурамори трясло от холода и усталости, и иногда он чувствовал, что больше нет у него сил, и он нарочно пытался отстать. Тогда Рокубэй хватал его за шиворот, встряхивал и давал подзатыльник. От этого ненадолго становилось легче, и Мурамори плелся живей.
Дзюэмон ступал терпеливо и упорно, как вол, законный в тяжелую повозку. А Рокубэй следовал ним, скользя и спотыкаясь, и беспрестанно ворчал и бранился сквозь зубы, ругая и небо и землю. Наконец он вскрикнул:
— Что за проклятая жизнь! Вот уж не думал я, что ждет меня такое, когда сбежал я от моего хозяина и взамен выбрал разбойничье ремесло. Сидел бы сейчас в его лавке, грелся у жаровни и торговал бы зонтиками! Хорошие там были бумажные зонты, и среди них некоторые такие большие, что мы все трое могли бы укрыться под одним зонтом.
— Зачем же ты ушел, если тебе там так нравилось? — насмешливо спросил Дзюэмон.
Зачем ушел? Ушел, и все тут. Хозяин был скупой. Как говорится: «Даже если споткнется, воспользуется случаем подобрать кремень». Денежный ящик у него всегда был на запоре. Одно бу уронит, весь двор перероет, до нового месяца будет искать его. Нас, приказчиков, если отпустит погулять в большой праздник, велит на обратном пути нарвать травы для похлебки… Мурамори, проклятый щенок, ты опять отстаешь? Думаешь, я буду тебя тащить за спиной, как годовалого младенца? Иди вперед, пока я не избил тебя!.. Да, а я по природе человек веселый и щедрый. Сам всех люблю и люблю, чтоб меня любили. Люблю, чтоб меня угостили, и сам не прочь напоить друзей допьяна…
— Господин Рокубэй, — всхлипнув, прервал его Мурамори, — а в рисовом поле водятся пиявки? Что-то кусает меня за щиколотку!
— Я тебе и ноги и голову откушу, если ты не перестанешь скулить!.. Да, а денег у меня никогда не было, и переменить хозяина я не мог. По закону подмастерья прикреплены к мастеру, слуги к господину, приказчики к хозяину лавки. Самовольно уйти нельзя! Мне это надоело, и однажды ночью я ушел и унес с собой деньги. А теперь уж не вернешься, и будь я проклят, если знаю, чем все это кончится!
— Очень хорошо знаешь, чем это кончится, — сказал Дзюэмон.
Рокубэй, обозлившись, закричал:
— А ты-то с чего такой спокойный? Можно подумать, что тебе нравится шлепать по пояс в грязи?
— Я привык. Не раз случалось, когда я охотился, проводить ночь, заблудившись в болоте или в горах, под дождем или снегом.
— Когда ты охотился! — с ненавистью закричал Рокубэй. — Знатный господин, самурайское отродье! Как же это случилось, что, вместо того чтобы охотиться и вытаптывать конским копытом чужую ниву, топчешь ты ее теперь босыми пятками и за самим тобой охотятся?
— Мои родители… — начал Дзюэмон и споткнулся о борозду, так что грязь всплеснула фонтаном и обрызгала его с ног до головы. Он утерся мокрым рукавом и невозмутимо продолжал: — Это правда, мои родители были дворяне — самураи. Но нельзя сказать, чтобы они были знатные. Отец всего-навсего ухаживал за княжеским соколом. А как случилось, что я чуть не убил моего господина и пришлось мне бежать, бросив отца на произвол судьбы, про это я не хочу рассказывать… — Дзюэмон замолчал, и дальше они брели уже молча, каждый погруженный в свои мысли.
А Мурамори, возмущенный, думал: «Вот злодеи! Покушались на господина. Обокрали хозяина, бросили отца. А я ничего дурного не сделал, и мне приходится страдать из-за них. Хотел бы я знать, водятся пиявки в рисовом поле?»
Сколько времени они так блуждали в полях и куда они двигались — вперед, назад или по кругу, когда неожиданно они наткнулись в темноте на что-то вроде стены. Ощупью они пробрались вдоль нее и, загнув за угол, увидели, что это человеческое жилье, и что внутри мерцает слабый красноватый огонек. Дзюэмон открыл дверь и первым вошел.
Посреди низкой комнаты стояла глиняная жаровня, в которой горели сырые щепки и обломки сучьев. Но соломенная крыша протекала, капли дождя шипели на огне, и ветер, проникая сквозь дыры в стене, отклонял пламя в сторону, так что дым и пар смешались, и плохо было видно, и тяжело дышать, У жаровни, мрачно задумавшись, сидел мужчина, такой худой, что позвонки на его спине выступали грядой унылых холмов, а руки и ноги были подобны засохшим ветвям. С его плеч свисало истлевшее тряпье, расползшееся узкими полосами, будто водоросли, оставленные на берегу морским отливом.
При виде вошедших он поднял голову и уставился на них бессмысленным взглядом. Может быть, с ног до головы перемазанные черной грязью, они показались ему болотными чертями. Но, быстро опомнившись, он вежливо упал на колени, уперся ладонями в пол и поклонился. Дзюэмон ответил тем же, и Рокубэй, мгновенье поколебавшись, присоединился и нему.
Тут из темного угла выползла женщина, не то старая, не то молодая, ее волосы были обмотаны тряпкой, зубы не покрыты, как полагалось бы, черным лаком, а белые, как у дикого зверя. Она тотчас принялась хлопотать. Выкатила кадку, наполнила ее горячей водой и предложила гостям помыться. Собрала их одежду, чтобы выстирать и высушить ее.
Расстелила у стены циновку, чтобы они могли лечь и отдохнуть. При этом она униженно попросила прощения, что нет в доме хотя бы плаща без подкладки, чтобы было чем укрыться.
Затем она начала перебирать, встряхивать и перевертывать свои горшки и тыквенные бутылки. Из одной выпала засохшая сороконожка, наверно скончавшаяся там от голода. На дне другой она набрала горсть черного ячменя и бросила ее в котелок с водой.
— Для нас такая честь, что вы соизволили пожаловать, — сказала она. — А угостить вас нечем. Прошу не взыскать! Ведь даже в праздник не разрешено крестьянам испечь несколько лепешек или сварить лапшу. Возделываем мы рис, а сами не знаем, какой он на вкус. Мы рады бы подать хорошее угощение, но где его взять?..
— У меня есть хорошее угощение! — перебил ее муж и засмеялся от удовольствия. — Немного, но хорошее. Уж не спрашивайте, где я его добыл! Ведь нам, крестьянам, запрещено варить сакэ. Говорят, что это непроизводительная трата зерна. Но у меня есть немного. — С этими словами он, оглядываясь через плечо, будто было там спрятано бесценное сокровище, порылся в темном углу комнаты и вытащил бутылочку, где на дне еще был остаток мутного сакэ, и с гордостью угостил Дзюэмона и Рокубэя. На закуску он достал серый кусок каменной соли и предложил пососать его.
Мурамори дали похлебку, он поел и лег спать.
Под утро он проснулся и увидел, что Рокубэй спит, а хозяин и Дзюэмон все еще сидят у потухшего костра и тихо беседуют.
Хозяин говорил:
— И когда с нас вторично потребовали налоги, мы собрались и составили просьбу помещику, чтобы отнесся милостиво к нашим слезам. Разве мы не люди и не созданы наподобие других людей? А между тем несем мы тяжелое бремя, ничего у нас нет. Того человека, который подал просьбу, распяли, и он умер в мученьях, а остальных помиловали. Но теперь снова требуют налог, и уже никто больше не решается просить из страха, что и его казнят.
— Я бы не стал просить, — сердито сказал Дзюэмон. — Я бы поджег поместье и всех бы там перебил — и господина и слуг.
— И об этом мы думали, — ответил хозяин. — Хотели взять колья и все вместе пойти требовать отмены этих несправедливых поборов. Но разве победишь кольями мечи?
— У меня есть двенадцать прекрасных мечей, — проговорил Дзюэмон. — Они бы пригодились. И есть у меня один меч — меч Муромасы. Довольно уж пил он кровь невинных людей. Я давно уж подумываю о том, чтобы омыть его и очистить, по самую рукоятку залив кровью жестоких властителей, которые терзают и мучают нас. Но уже светает. Пора нам уходить. Вставай, Рокубэй!
Рокубэй, ворча, поднялся. Мурамори вскочил и выглянул наружу. Дождь стал слабее, и в прорывах туч уже расширялись куски бледно-зеленого неба.
Хозяин пошел проводить гостей и указать дорогу, но, когда настало время благодарить и прощаться, Дзюэмон вдруг сказал:
— Я возвращаюсь в Эдо!
Рокубэй от удивления раскрыл рот, а Дзюэмон продолжал:
— У меня там двенадцать мечей, и я хочу отдать их этому доброму человеку, чтобы он и его товарищи могли добиться справедливости.
— Так пусть он сам пойдет и возьмет их, — сказал Рокубэй.
— Без меня ему их не найти — они хорошо спрятаны. К тому же есть среди них один, беспокойный в ножнах, требующий крови врага. Его я никому не дам. Сам возьму, чтобы заступиться за несчастных и угнетенных.
— Дурак! — сказал Рокубэй.
На этом они расстались, и Дзюэмон ушел в одну сторону, а Рокубэй с Мурамори в другую и направились к большой дороге Токайдо.
ХИТРОСТИ И ОБМАНЫ
Прежде чем переправиться через озеро и выйти на большую дорогу, всем, уходящим из Эдо, приходилось подвергнуться проверке и осмотру на заставе Хаконэ. Когда Рокубэй и Мурамори, преодолев крутой подъем по извилистой горной тропе, вошли в городок, там только что повесили молоденькую женщину.
Нельзя сказать, чтобы это было такое уж необыкновенное событие, — на заставе с подозрительными личностями расправлялись справедливо, но немного безжалостно, и это никого не удивляло. Но на этот раз бедняжка поразила воображение толпы своей молодостью и миловидностью.
Путники, ожидавшие своей очереди, чтобы пройти осмотр, обсуждали это происшествие.
— Бедняжка! — с чувством воскликнул какой-то молодой человек. — Она не могла объяснить, по какому делу покинула Эдо, смущалась и сбивалась в своих показаниях. У меня сердце перевернулось от жалости. Ведь, может быть, несчастная любовь заставила ее бежать, и она стеснялась признаться. По этому поводу я тут же сочинил стихи…
— Как она страшно кричала! — перебила его пожилая женщина. — Ох, как она кричала, когда палач потащил ее.
— Я не боюсь начальника, — сказала храмовая танцовщица в черном шелковом халате. — Я собираю пожертвования на храм, исполняя священные пляски на городских площадях. У меня есть бумага, которую дал мне наш настоятель. Я уже три раза проходила через эту заставу. Меня знают на всех пятидесяти трех станциях Токайдо.
— Это правильно, что на заставах так строго проверяют людей, — заговорил какой-то важный купец. — Мало ли кто пытается пробраться в Эдо. Закон следует соблюдать! Если людям запрещено без разрешения властей передвигаться по стране, значит, следует подчиняться. Я еду по торговым делам, и никто мне не препятствует. А так начнут бегать слуги от господ, разбойники от правосудия…
— Говорят, — сказал молодой человек, — недавно жена одного из южных князей, которую держали заложницей в Эдо, пыталась пробраться к мужу, переодевшись крестьянкой. Стерла лак с зубов, запачкала лицо и руки землей, взвалила за спину охапку соломы. Однако же ее узнали и вернули обратно.
— Но я, например, — вмешался в разговор Рокубэй, — хочу навестить мою умирающую бабушку. Несчастная старушка! Живет в деревне совсем одна. Хочет благословить меня перед смертью и боится, чтобы не растащили ее имущество. Неужели меня не пустят к ней?
— А ты можешь доказать, что это правда? — сердито спросил купец. — Может быть, ты вор и пытаешься скрыться? Не так давно у нас в Эдо какой-то негодяй чуть не ограбил господина Сэдзи Исао, скупщика риса. Может быть, ты и есть этот разбойник?
— Я! — возмущенно воскликнул Рокубэй и поднес руку к скуле, будто хотел почесать ее. — Да после такого оскорбления мне и сидеть рядом с вами неприятно! Стыдно вам, а еще пожилой человек! — С этими словами он встал и, продолжая почесывать щеку, другой рукой отряхнул пыль с сиденья. — Идем, сынок! Не годится тебе слушать, как обижают твоего честного отца!.. — И увел Мурамори подальше…
— Нет, — сказал Рокубэй, — видно, не так уж просто пробраться сквозь эту заставу. Придется нам несколько времени пробыть здесь. Идем искать ночлег.
Но всюду, куда они стучались, все помещения были заняты путниками, ожидавшими пропуска. Наконец в глухом переулке они набрели на маленький домик, и старуха хозяйка сказала:
— Вот уж повезло вам! Наверно, вы хорошие люди и бог путешественников покровительствует нам. Только что ушел человек, который целых три дня жил под деревом в моем саду, и теперь это место свободно.
— Сколько же он платил вам за тень дерева? — спросил Рокубэй.
— Десять бу, каждое утро. Так точно и аккуратно, как солнце, неизменно всходящее по утрам.
— Не может быть! — воскликнул Рокубэй. — Как же низко он обманул вас, почтенная женщина! По моему разумению, такой превосходный ночлег стоит никак не меньше двенадцати бу. Если вы согласны, я займу это место, и так как рассчитываю пробыть здесь не меньше двух суток, то сразу заплачу вам за две ночи. А дважды двенадцать — двадцать четыре.
— А мальчик тоже будет ночевать? — спросила старуха, и ее глаза заблестели от жадности.
— Положим за мальчика еще десять бу, а всего тридцать четыре, — быстро согласился Рокубэй. — Значит, мы с вами договорились. И можете считать что эти деньги уже у вас в кошельке.
С этими словами он схватил ее за руку, крепки сжал ее пальцы в кулак и для верности еще при хлопнул сверху ладонью. Старуха осталась стоять со сжатым кулаком, будто уже лежали там деньги, а Рокубэй спросил:
— Может быть, у вас есть еще комната?
— У меня всего одна комната, — ответила она. — Но, если вы пожелаете, я уступлю ее вам, а сама, так и быть, переночую под деревом. Но это уже будет подороже.
— Чтобы не обидеть вас, положим по двадцать бу, — быстро начал считать Рокубэй. — За две ночи — сорок, а если вычесть тридцать четыре за дерево, останется шесть, за два тюфяка — восемь, это четырнадцать. И утром чай на двоих, скажем, еще шесть — это двадцать. И за ваше хорошее к нам отношение еще удвоим — и это будет сорок. И так как я уже не буду спать под деревом, вычтем тридцать четыре, и с вас следует дополучить шесть бу.
Мурамори только было открыл рот, чтобы указать Рокубэю его ошибку в сложении и вычитании, но тот бросил на него такой свирепый взгляд, что лицо мальчика покрылось от испуга потом, и он сразу замолчал. А старуха в удивлении хлопала глазами и, не успевая следить за быстрым счетом, только спросила:
— А почему вы вычли с меня за тюфяки? Это надо прибавить.
— Верно, верно, — согласился Рокубэй. — Пересчитаем еще раз. Значит, за две ночи в комнате… два раза по двадцать будет сорок. И прибавить тюфяки — сорок восемь, и вычесть чай — сорок два. И за дерево я заплатил двадцать четыре. И значит, их тоже надо вычесть. Это будет восемнадцать бу. И, как только вы вернете мне их, мы будем в расчете за две ночи вдвоем в комнате, а вы ночуете под деревом.
Старуха поскребла пальцем в прическе и спросила:
— Это верно — восемнадцать? Вы как будто сказали шесть?
— Шесть — без тюфяков, с тюфяками — восемнадцать. Мой мальчик остается здесь и ляжет спать. Он очень устал за дорогу. Прошу вас, верните мне восемнадцать бу, я очень тороплюсь. Сейчас я ухожу, но скоро вернусь и попрошу приготовить мне чай и какую-нибудь закуску, а найдется кувшинчик сакэ, еще лучше. Если у вас сейчас нет восемнадцадцати бу, дайте сколько есть. Остальное вернете, когда мы будем уезжать.
Старуха достала из рукава платок с завязанными в нем монетами и уже хотела распустить узел, но Рокубэй быстро прервал ее:
— Сейчас уж некогда считать. А я потом посчитаю и, если окажется лишнее, все тотчас вам верну… Мурамори, ложись, спи! — И он быстро ушел.
Мурамори послушно лег, но не мог заснуть. Ему мешали мысли. «Вот теперь он забрал деньги у этой дуры, — думал он. — Вернется он, как же, дожидайся! А меня он оставил здесь на растерзание. Что мне делать? Что ждет меня?»
Но не успел он два-три раза перевернуться с боку на бок, как Рокубэй уже вернулся, поддерживая под локоть какого-то странствующего монаха. Монах рассыпался в благодарностях.
— Видно, боги сподобили меня встретиться с таким добрым человеком! — восклицал он. — Всю прошлую ночь я просидел на улице и думал, что и сегодня уже не придется мне отдохнуть. Все кости у меня ноют. И вдруг вы подходите и предлагаете ми разделить со мной вашу комнату. Какое благородство души! Какой добродетельный поступок!
— Прошу вас, не преувеличивайте мои достоинства, — скромно потупясь, сказал Рокубэй. — Для меня честь оказать услугу святому человеку. Так вы собираете пожертвования на сооружение нового колокола в вашем монастыре? В таком случае у вас должен быть подписной лист?
— Как же, — ответил монах и вынул из-за пазухи лист и довольно округлый кошелек. — Есть еще благодетели в нашей стране! Как видите, много набожных людей расписались здесь. Надеюсь, скоро уже смогу я вернуться в монастырь и отдохнуть.
— Надеюсь, вы не откажетесь от чашечки сакэ? — спросил Рокубэй. — Это поможет вам восстановить свои силы.
— Ну, если одну только чашечку, не будет в том греха, — ответил монах и облизнулся.
Рокубэй быстро сбегал к хозяйке и вернулся с кувшинчиком сакэ и блюдом закусок. Но прежде чем выпить, он достал коробочку для лекарств, какие все в то время носили на поясе, открыл верхнее ее отделение и достал оттуда темную пилюлю. Причмокивая от предстоящего удовольствия, он опустил пилюлю в свою чашку, налил сакэ и тщательно размешал пальцем. Залпом выпил, и тотчас по его лицу расплылось выражение блаженства.
— Что это? — спросил монах, как зачарованный следивший за его движениями.
— Превосходное лекарство, которое прописал мне известный врач, — ответил Рокубэй. — Стоит принять одну пилюлю, и всю усталость как рукой снимает.
— Нельзя ли мне тоже попробовать? — умильно улыбаясь, спросил монах.
— Это честь для меня, и для врача, и для пилюли, — сказал Рокубэй, снова достал коробку, вынул оттуда пилюлю и положил в чашку монаха: — Залпом пейте, не принюхивайтесь, опрокидывайте прямо в горло. На здоровье. Ну как?
— Странный вкус, но как будто неплохо, — ответил монах, и оба принялись за закуски. Прошло немного времени, монах начал зевать и потягиваться.
— Что-то гудит у меня в голове, как вечерние колокола Асакусы, — пробормотал он, качаясь, приподнялся, дополз до тюфяка и, повалившись на него, тотчас захрапел.
— Ну, теперь его и землетрясение не разбудит, — смеясь, сказал Рокубэй. — От этой пилюли спят сутки без просыпу.
— А как же вы? — спросил Мурамори.
— Моя — совсем другое дело. Но не будем терять времени!
С этими словами он быстро раздел монаха, накинул его рясу поверх своей одежды, спрятал волосы под монашеской шапочкой, а ее широкими завязками прикрыл шрам на скуле. Потом сунул за пазуху подписной лист и кошелек, велел Мурамори взять к руки корзинку для подаяний и смело направился к заставе. Там, бормоча молитвы, пробрался он вперед, и, так как бумаги монаха были в порядке, стража на заставе пропустила их.
А старуха хозяйка всю ночь считала и считала и только под утро сообразила, что ее обманули. Схватив метлу, разъяренная, она ворвалась в комнату и застала там только храпящего монаха, стыдливо прикрытого одеялом.
ПЕРЕПРАВА САНО
Как-то в холодное зимнее утро оказались они у города Сано, в провинции Кодзукэ. Ветер дул пронзительно, рвал одежду, забирался в рукава, леденил тело. Вчерашний снег замел дорогу, которой они прошли, а вновь падающие густые хлопья скрыли тропу, которой им предстояло идти.
Рокубэй был очень сердит.
— Правильные сложили стихи про это проклятое место! — воскликнул он.
Нет прикрытия У переправы Сано: Отдохнуть коням, Отряхнуть снег с одежды В белых сумерках.— А я вижу прикрытие! — закричал Мурамори. — Смотрите, вон там, видите, будто темное пятно среди всей этой белизны.
— Ничего я не вижу, — проворчал Рокубэй. — Совсем залепило глаза снегом. Однако же должна быть у переправы хижина перевозчика. Будем надеяться, что это действительно какое-нибудь жилье, а не заросль кустарника или просто холмик.
Когда они подошли поближе, они увидели, что это хижина, но дверь закрыта, а на ступеньках сидит женщина, вся съежившись в комок, запорошенная снегом.
При виде путников она вежливо подвинулась и сказала:
— Садитесь. С этой стороны ветер не так сильно дует. А перевозчика нет и нет. Я жду его с самой зари.
— Вернется! — сказал Рокубэй, искоса приглядываясь к женщине, и после недолгого молчания спросил: — Как же это вы, такая молодая и, судя по всему, из хорошего дома, очутились здесь совсем одна, и нигде не заметно ни ваших носилок, ни слуг.
— Нет у меня ни слуг, ни носилок, и все мое состояние в этом узелке, — ответила она. — Это очень печально, и не смею вас затруднять рассказом о моих горестях.
— Прошу вас, расскажите, — ласково сказал Рокубэй. — Когда поделишься своим горем с человеком, который искренне сочувствует вам, каждый несет лишь половину тяжести. Может быть, я сумею вам помочь.
— Еще и года нет, как меня выдали замуж, — начала свой рассказ женщина. — Вскоре после нашей свадьбы мужу пришлось по долгу службы сопровождать князя в его поездку ко двору правителя. Он обещал часто писать и надеялся скоро вернуться. Но вместо того вдруг неожиданно, среди ночи, меня разбудил его доверенный слуга и сообщил мне ужасную весть. Мой муж возбудил гнев князя, приняв прошение у крестьян одного из княжеских владений о том, чтобы снизили им налоги. Крестьян за их дерзость посадили в тюрьму и будут судить. А моего мужа без всякого суда, по одному приказанию князя, сослали на остров изгнания Садо. Остров Садо — край света. И еще слуга сообщил мне, что наше имущество будет конфисковано, а меня постригут в монахини. Мне показалось, что весь мой мир рушится и в осколках лежит у моих ног. Но я дочь самураев и с детства приучена владеть собой. Я не стала рыдать и рвать на себе одежду, как сделала бы какая нибудь простая женщина, а быстро оделась, собрали в узелок самое необходимое и незаметно ушла ш дому.
— Неужели ваш слуга отпустил вас одну и не пошел сопровождать вас, чтобы защитить от возможных опасностей?
— Зачем же мне подвергать его гибели? У него старая мать и малые дети. Я приказала ему остаться.
— Позвольте спросить, куда же вы направляетесь? — сказал Рокубэй.
— В страну Этиго, к острову Садо.
— То, что я слышал об этой стране, — заговорил, вздохнув, Рокубэй, — наполняет воображение ужасом. Говорят, в тех краях зима длится пять месяцев и снег выпадает так обильно, что сугробы достигают крыш, и, чтобы пройти по улицам, в снегу прорывают туннели. Тростниковые крыши домов укрепляют большими камнями в защиту от зимних бурь. Люди там суровы и говорят на непонятном наречии. А по пути туда придется вам перебираться через высокие горы, где красный дым вздымается вблизи и вдали и постоянно дует великий ветер. Но, если преодолев все трудности, вы достигнете Этиго, все равно вам не поселиться на острове Садо, где живут одни только ссыльные и даже стражи при них почти потому что с этого острова никуда нельзя убежать, разве броситься в море и утонуть. А остров так суров и безлюден, что изгнанники от лишений теряют силы и умирают.
— Я это знаю, — сказала женщина. — Но я поставлю шалаш на морском берегу и день и ночь буду смотреть на запад, туда, где лежит остров, постоянно покрытый густым белым туманом. Мне говорили, случается, что луч солнца прорезает тучи, туман откатывается в сторону, будто занавес, закрывший край света, и тогда ненадолго можно увидеть вдали покрытые снежными шапками белые пески побережья. И вдруг случится, что в такое мгновенье он выйдет из-за одинокой сосны и я увижу его.
— На таком расстоянии едва ли вы сумеете его различить, — сказал Рокубэй.
— Но я буду думать, что это он, — ответила женщина и вдруг зарыдала, закрыв лицо рукавом и кусая его край. Но, тотчас овладев собой, она спросила: — Что же вы посоветуете мне делать? Если перевозчик придет не скоро, я, даже перебравшись на тот берег, не успею до ночи дойти до какой-нибудь деревни.
— Глубоко сочувствую вам, — сказал Рокубэй, — и постараюсь вам помочь. Перевозчика нет, но вон я вижу его плот и шест лежит рядом. Если хотите, я переправлю вас на другой берег. Течение реки быстрое, и переправа трудна и опасна. Но я человек опытный. Доверьтесь мне!
Женщина вскочила, подхватила свой узелок и первая прыгнула на доски плота.
— Жди меня здесь, — шепнул Рокубэй и побежал за ней.
Со своего места на ступеньках хижины Мурамори смотрел, как ловко управляется Рокубэй с шестом и уверенной рукой ведет плот. Вот они перебрались через реку. Вот Рокубэй, взяв узелок из рук женщины, помогает ей вскарабкаться на скользкий берег, вот он повернул и уже плывет обратно. А женщина, вместо того чтобы идти дальше, бегает по берегу, протягивая руки, и что-то кричит. Ветер относит ее слова в сторону, и не поймешь, жалуется она, проклинает или просит о помощи.
Плот пристал к берегу. Рокубэй опять привязал его, положил шест рядом и подошел к Мурамори.
— Посмотрим, что нам досталось! — весело сказал он и бросил на ступеньку узелок. — Развязывай, у меня руки застыли.
В узелке оказалось немного еды, старинное зеркало в лаковой коробке, наверно свадебный подарок мужа, и пара теплых носков, а в одном из них — свернутый в комочек платок с завязанными в нем деньгами.
— Зеркало продадим в первом же городке, — сказал Рокубэй, — а носки мне не годятся — малы. Можешь надеть их.
— А как же женщина? — спросил Мурамори. — Ведь теперь без денег она не сумеет добраться до Этиго и погибнет по дороге от голода и холода.
— Это нас не касается, — сказал Рокубэй. — Сидела бы она у себя дома и дожидалась бы, пока ее отправят в монастырь, и все было бы хорошо. Мужа ей захотелось увидеть! Кто попал в Садо, того уж не увидишь — ни живого, ни мертвого. Ну, надевай носки, завязывай узелок, и идем. Перевозчика нам не стоит дожидаться, и необязательно идти этой дорогой. Нам с тобой все пути открыты.
С этими словами он повернулся и зашагал обратно к городку, откуда они ушли утром. Мурамори поспешил следом, но в последний раз оглянулся и увидел, что женщина на том берегу уже не бегает, а лежит неподвижно, растянувшись во весь рост.
Они отошли совсем немного, и хижина перевозчика едва скрылась из глаз за завесой мохнатых снежных хлопьев, когда Мурамори почувствовал, что носки жгут ему ноги. Можно было подумать, что он обул огненные сапоги и пламя от них поднимается вверх, охватило колени, острыми языками колет сердце. Он повернулся и быстро бросился бежать обратно. Рокубэй двумя прыжками нагнал его и схватил за шиворот.
— Куда ты? — крикнул он.
— Отдать женщине ее носки! Чтобы она не замерзла! Пустите! — кричал Мурамори, пытаясь вырываться.
— Дурак! — сказал Рокубэй и засмеялся. — А как ты переправишься через реку? — И отпустил его.
Мурамори стоял, смотрел растерянно.
— Тебе ее жаль? — с насмешкой спросил Рокубэй. — И очень глупо! А нас кто-нибудь жалеет? Пожалеют нас палачи, когда потащат нас рубить наши головы? Ты думаешь, герои жалеют тех, кого убивают, скупщики риса — тех, кого морят голодом? Если хочешь быть сильным и богатым, забудь о жалости.
Пришлось Мурамори признать, что Рокубэй говорит разумно. Подумав немного, он еще спросил:
— Позвольте спросить, а зачем вы взяли на себя труд перевозить ее на тот берег, когда и на этом могли бы отнять ее узелок?
— А если бы в это время вернулся перевозчик? — ответил Рокубэй. — Да еще, возможно, привел бы с собой одного-двух дюжих приятелей?
Приходилось признать, что Рокубэй поступил предусмотрительно.
Держась за руки, чтобы ветер не сшиб их с ног, протаптывая себе путь в глубоких сугробах, уходи ли они все дальше и дальше от переправы Сано. Странно, носки уже не жгли Мурамори, а приятно согревали его.
ВЕЛИКИЙ ДАНДЗЮРО
В течение двух лет Рокубэй и Мурамори исходили страну от края до края, где силой, где хитростью добывая средства к жизни. Постепенно сердце Мурамори ожесточилось. Уже Рокубэй вызывал в нем не только страх, но почтительное удивление, и он прилагал все усилия, чтобы добиться его похвалы. Уже весело было ему стоять ночью где-нибудь за углом, ощущая странную темную власть над чужой жизнью и имуществом, и, услышав шаги, выскочить, броситься в ноги прохожему, так что тот падал и Рокубэю нетрудно было оглушить его и ограбить.
Чаще всего, придя в какой-нибудь городок, останавливались они в гостинице и заказывали обед. Вдруг Рокубэй, пристально глядя на Мурамори, восклицал:
— Единственный мой сынок, что с тобой? Ты так бледен, не заболел ли?
— Кажется, я болен, — скорчив жалостную гримасу, отвечал Мурамори.
Среди общего сочувствия отводили им отдельную комнату, нежный отец укладывал сынка и трогательно ухаживал за ним. Но когда наступала ночь и все в гостинице засыпали, они оба вылезали в окно и поджидали на темной улице запоздалого прохожего. Иногда приходилось ждать несколько ночей, и тогда Мурамори не находил облегчения своей болезни и пребывание в гостинице продлевалось. Но иногда удача приходила с первого раза, и наутро хозяин ломал руки над неоплаченным счетом.
Куда только не заносили их нехоженые дороги!
Не буду подробно описывать все их странствия, скажу только, что к концу второго года они очутились на самом юге страны, на острове Кюсю.
Здесь в небольшом городке Рокубэй совершил такое дерзкое и дикое нападение на дом одного почтенного человека, что всех жителей охватило возмущение и они бросились преследовать разбойников. Рокубэй плохо знал эту местность, и ему негде были спрятаться. Пришлось ему с Мурамори бежать куда глаза глядят, напролом.
К полудню они оказались на склонах горы Кумамото, и хотя погоня давно потеряла их след, они не могли успокоиться и взбирались все выше и выше, пока не добрались до самой вершины горы, и здесь их путь преградило глубокое озеро, похожее на гигантский котел, в котором бурлила и кипела многоцветная вода — зеленая, желтая и огненно-красная.
Мурамори как зачарованный смотрел на это зрелище. Всплески кипящей воды бросали на скалы цветные отблески, будто беспрерывно вспыхивали и гасли огни гигантского фейерверка. Со дна озера слышались удары барабанов и гонгов. Пестрые испарения плясали над водой, потрясая прозрачными рукавами. Казалось, там, в глубине, празднуют какой-то жуткий праздник.
Вдруг огненное озеро задышало и взвыло, вся земля вокруг застонала и задрожала, и над озером сгустились зловещие пары, будто ад разверз свою пасть и изрыгает ядовитое дыхание.
Мурамори в страхе отступил и оглянулся, ища Рокубэя, но то, что он увидел, поразило его еще большим ужасом.
Рокубэй метался по берегу озера, размахивая руками, будто сражался с невидимым противником, отталкивая кого-то, защищая голову рукавом, падал, кланяясь, и снова отскакивая, и кричал, хрипя и задыхаясь:
— Я узнаю ваши лица! Отойдите, оставьте меня. Ведь все вы мертвы и должны лежать неподвижно. Не хватайте меня своими костлявыми руками! О, пощадите! Я лишил вас жизни, но, клянусь, я раскаюсь!
Он бросился бежать вниз с такой быстротой, что Мурамори едва поспевал за ним. Камни летели им вдогонку, земля крошилась под их ногами. Они падали, катились кубарем, хватались за кучки сухой травы. Приходится считать большой удачей и даже чудом, что им удалось живыми добраться донизу. С этого дня Рокубэя будто подменили. Пропала его веселость, вдруг беспричинно он начал задумываться, даже его сила, казалось, покинула тело.
— Я видел ад и тени убитых, — мрачно говорил Рокубэй. По ночам он вскакивал и кричал: — Они пришли за мной, те, кого я убил. Я узнал их лица!
Едва-едва удавалось Мурамори уговорить его выйти ночью на улицу и засесть в засаду. Случалось, что в последнюю минуту, когда прохожий уже приближался к темному углу, где они поджидали его, Рокубэй вдруг поворачивался и убегал.
Естественно, что теперь, когда дух Рокубэя так ослабел, им нередко приходилось голодать, и Мурамори это очень не нравилось. Он с презрением глядел на своего спутника и господина и один раз даже осмелился сказать:
— Уж теперь старые грехи не искупить тем, что мы поневоле постимся. Все равно вам гореть в аду, так лучше, пока мы живы, поживем весело.
— А ты разве не боишься возмездия? — спросил Рокубэй.
— Я ничего дурного не делал, — ответил Мурамори. — Только исполнял ваши приказания. Я не виноват, и мне не в чем каяться.
Так, отощавшие, обносившиеся, недовольные друг другом, они вернулись в Эдо, рассчитывая, что прошло уже довольно времени и о них успели позабыть. Здесь они разыскали свой старый храм. Он еще больше обветшал, и никто там не жил. Но среди мусора они обнаружили все двенадцать мечей Дзюэмона.
— Значит, не удалось ему пробраться сюда, — печально сказал Рокубэй. — Видно, узнали его и поймали, и теперь уже нет его в живых и даже голова его на шесте у моста истлела, так что и проститься с ним не придется.
Мурамори ничего не ответил и только презрительно усмехнулся.
В этот вечер они были так голодны, что Рокубкй все же решился выйти на разбой.
— Клянусь богами! — чуть не плача сказал он. — В последний раз! Завтра же пойду в монастырь и постригусь в монахи.
Мурамори опять ничего не сказал и, насупившись, пошел за ним следом. Они выбрали темную подворотню и стали ждать.
Где-то долго выла собака, и опять стало тихо. Уже луна взошла, а все не было прохожих. И вдруг они услышали шаги.
— Приготовься! — шепнул Рокубэй.
В лунном свете Мурамори ясно увидел идущего. Среднего роста, плотный, голова высоко поднята.
Огромные глаза, брови, поднятые к вискам, искривленный рот — Дандзюро!
Внезапно горячая ненависть залила грудь Мурамори и бросилась в голову. Во рту стало горько. Все поплыло у него перед глазами. Как? Сейчас ночной бродяга, подлый разбойник бросится на Дандзюро, великого, на несравненного, и поднимет на него меч?
Что это шумит, как прибой, и бьет в виски? Зал Ямамура-дза тяжело дышит в напряженном ожидании. Барабан отбивает бешеную дробь. Свеча вспыхивает и меркнет. О Дандзюро, твой спаситель близко! Молодой, прекрасный, смелый, добрый! О Дандзюро, я достоин тебя!
Я стою, готовый к выходу. Поверх сверкающих доспехов плащ из белой парчи. Сейчас, сейчас!
Поднятая шестом занавеска плывет вверх. Я ступаю на «дорогу цветов». Я ударяю ногой по певучим подмосткам… А-а!
В одно и то же мгновенье Рокубэй выскочил из засады, весь изогнувшись, как тигр, и его меч сверкнул в лунном свете, Дандзюро в ужасе откинулся назад и застыл, а Мурамори тем самым приемом, которому Рокубэй когда-то научил его, молниеносным движением ребра ладони ударил Рокубэя от уха к затылку.
Имя третье: КОРЭДЗУМИ
НАГРАДА ЗА ПОДВИГ
Лунный свет отразился на лезвии брошенного меча, такой яркий, что можно было на нем различить волнистый узор стали. Оттого что облака торопливо пробегали по лунному лику, стальные волны вздымались и опадали, и казалось, будто меч судорожно корчится в дорожной пыли, пытаясь подняться и не имея сил.
Дандзюро с трудом отвел взгляд от меча и посмотрел на своего спасителя.
Он с изумлением увидел, что это всего лишь мальчик лет пятнадцати-шестнадцати, но так мал и худ, что, возможно, был немного моложе или старше.
Мальчик смотрел на Дандзюро неподвижным взглядом, таким напряженным, что зрачки перекосились, будто скатились к переносице. Дандзюро проговорил:
— Ты спас мне жизнь!
Мальчик вздохнул, поднял обе руки к лицу и прижал кулаки к глазам.
— Я не могу понять, как это случилось? — сказал Дандзюро и искоса посмотрел на лежащее у его ног тело разбойника. Оно лежало неподвижно, неестественно повернутое в сторону. Из темного угла уже подползала к нему, трусливо поджав брюхо, бродячая собака, которых так много водилось в Эдо. Дандзюро с отвращением отпихнул ее и повторил: — Как это случилось? Отчего он упал, будто гром поразил его? Как это могло случиться? Может быть, он уже оттолкнулся ногой для прыжка, а ты так нечаянно вышел из-за угла, что он не рассчитал движение, упал так неудачно и сломал себе шею? Нет, не так! Ведь я видел, как ты внезапно мелькнул перед моим лицом и закрыл меня, не испугавшись его меча. Но отчего он упал? Ты подставил ему ногу, и он споткнулся об нее?
— Вы великий Дандзюро? — заговорил мальчик. Голос у него был хриплый, как у человека, который только что проснулся и еще не очнулся от сна. — Ведь вы Дандзюро? Я вас узнал. Я не мог стерпеть.
Такой, видно, слабый и с пустыми руками и бросился прямо под меч. Это удивительно! Это вызывает восторг! Можно подумать: молодой Усивака и свирепый разбойник Кумасака. Что за подвиг! Как мне благодарить? Ведь награда ничтожна в сравнении с таким геройством… Но что же мы стоим тут? Идем, я отведу тебя домой. Ночью на улицах небезопасно, и если один раз удалось нам спастись…
— Мне некуда идти, — сказал мальчик.
Несчастный ребенок! Такой заморенный и истощенный. Всей одежды на нем — короткая истрепанная куртка, ноги голые.
— Некуда идти? Тогда идем ко мне, — сказал Дандзюро и улыбнулся мальчику. — Как тебя зовут?
В ответ застывшее, напряженное лицо мальчика вдруг зашевелилось. Зрачки побежали в сторону, заметались и опять вернулись на место. Рот задрожал и полуоткрылся. Лоб собрался сосредоточенными морщинами и разгладился.
Вдруг мальчик выкрикнул настойчиво и отчетливо, будто приказывая:
— Меня зовут Корэдзуми. Я сирота. Мачеха выгнала меня из дому.
— Идем, Корэдзуми, — сказал Дандзюро.
«Я иду рядом с Дандзюро. Я иду в дом Дандзюро. Я совершил удивительный подвиг. Я иду за удивительной наградой. Я Усивака — молодой герой. Дандзюро восторгается мной. Все, кто узнает о моем подвиге, будут восторгаться. Я герой, я герой, я герой».
У калитки в высокой стене стоял старик и держал в руке, казалось бы, излишний в эту светлую ночь фонарь. Красные и зеленые полосы пробегали от фонаря по морщинистому лицу и камням порога. Вытянув шею, старик пристально вглядывался в даль и, увидев Дандзюро, еще издали начал кланяться и восклицать высоким певучим голосом:
— О, Дандзюро! Как ты поздно!
А Дандзюро также издалека закричал:
— О, Юмэй! Меня чуть не убили! Меня спас Корэдзуми! Посмотри на него!
— О, Корэдзуми! Ты спас Дандзюро! — закричал Юмэй. — Великое дело! Великое счастье!
— Я недостоин… — сказал Корэдзуми и, гордо улыбаясь, переступил порог.
Юмэй закрыл калитку и задвинул засовы. Далеко за высокой стеной остались темный закоулок, пахнущий плесенью и псиной, и голодное ворчание в кишках, и ожидание бредущей по пустынной улице добычи, и Рокубэй — на скуле маленький шрам, черно-фиолетовая орхидея, Рокубэй — неподвижный в пыли, Рокубэй — добыча собак. Корэдзуми переступил порог.
Какой большой сад! Воздух чистый и свежий и пахнет цветущими кустами. Красные и зеленые полосы фонаря на каменных плитах. Дорожка вьется между холмов, увенчанных купами деревьев с широко раскинутыми кронами. Она обегает вокруг пруда, где в тихой воде плавают звезды, и горбатый мостик, встречаясь со своим опрокинутым отражением, образует подобие полной луны. Странные изогнутые скалы, серебряные в ночном свете, испещренные темными пятнами моха, расступаются и открывают дом. Стены комнаты раздвинуты. Оттуда струится теплый желтый свет. С террасы спускается женщина.
— Меня чуть не убили! — кричит Дандзюро. — Корэдзуми спас меня! Вот Корэдзуми!
Женщина приветствует его поклоном и бормочет слова благодарности.
ТАНЦУЮЩИЙ МАЛЬЧИК
На второй или третий день своего пребывания в доме Дандзюро Корэдзуми проснулся на заре и вышел погулять в саду.
Он шел неторопливо, с легким сердцем и приятной улыбкой и вдруг увидел танцующего мальчика. Корэдзуми сразу узнал танец — урасима-маи. Его часто исполняли в чайном доме, где он жил когда-то, давным-давно. Это старая-старая сказка. Сын рыбака Урасима спасает от смерти черепаху. Но это не простая черепаха, это подруга дочери морского царя, и в благодарность она уводит Урасиму на морское дно.
Мальчик танцевал на морском дне. Морская вода зыбилась и колебала его тонкое тело. Его маленькие босые ноги с круглой пяткой и блестящими как перламутр ноготками ступали деликатно, раздвигая траву лужайки, будто пряди водорослей. То он плавно опускался на колени, устремляясь вперед, протягивая руку к кусту кораллов — подводных цветов, то скользил в одну и в другую сторону, охотясь за рыбкой, морской бабочкой, порхающей в подводном царстве. Плавники рыбки трепетали, когда она проплывала, то почти касаясь щеки мальчика, то взмывая вверх, и каждое ее движение было видно по вытянутым и согнутым пальцам ловящей руки. Неуловимая рыбка — как ни повернись, она все ускользает!
Мальчик танцевал, неподвижно глядя перед собой. Одна поза плавно переходила в новую, еще более прелестную. Слегка поднятое лицо выражали удивление и счастье. Он был красив необычайной и гордой красотой. Длинное нежное лицо, изящно изогнутый узкий нос, брови, взлетающие к вискам, маленький рот с одним опущенным уголком.
При виде этой совершенной красоты Корэдзуми на мгновение смутился, но мальчик был моложе его года на три, и, чувствуя свое превосходство, Корэдзуми расправил плечи, шагнул на лужайку и громко сказал:
— Я спас Дандзюро от меча разбойника!
Мальчик остановился, пошевелил пальцами ноги и ответил:
— Все в доме говорят об этом.
Корэдзуми не понравился его небрежный тон, и он сказал еще громче:
— Я герой!
Мальчик усмехнулся и ничего не ответил.
— Если бы не мое геройство, если бы я не бросился навстречу разбойнику и не защитил бы Дандзюро своей грудью, — закричал Корэдзуми, — не быть бы ему в живых!
— Вся наша семья глубоко благодарна тебе, — проговорил мальчик и повернулся, чтобы уйти.
Но Корэдзуми побежал за ним, выкрикивая:
— Дандзюро любит меня, как сына!
— Я сын Дандзюро, — тихо сказал мальчик.
Корэдзуми, не обращая внимания, кричал:
— Дандзюро обещал мне исполнить все мои желания! Я буду актером и буду играть в Ямамура-дза! Я буду играть Иосицунэ!
Мальчик посмотрел на него и сказал:
— Я думаю, что ты разбойник.
— Маа? — проговорил Корэдзуми. Он так растерялся, что не сразу нашел ответ. — Почему ты так думаешь?
— Я так думаю, — сказал мальчик, легким движением сел на траву и жестом пригласил Корэдзуми сделать то же. — Взрослые люди вообще очень доверчивы, — заговорил он. — Их легко обмануть. Они думают, что дети всегда говорят правду. А мой отец — человек такой высокой и чистой души, что у него никогда не бывает сомнения в чужой честности. Но я думаю, что твоя история очень неправдоподобна…
— Ты ошибаешься! — прервал Корэдзуми. — Ты еще очень молод и насмотрелся всяких драм о предателях и разбойниках.
— Может быть, — сказал мальчик и нахмурился. — Но ты мне не нравишься. И моей матери ты тоже не понравился. И Юмэй сомневается. Он говорит, что у тебя суставы на руках распухли, как у борцов каратэ — убийц с пустыми руками. И служанка удивилась, что ты пьешь сакэ, как старый пьяница, без всякой вежливости.
— Как надо пить сакэ? — растерянно спросил Корэдзуми.
— Моя мать говорит, что детям вообще не надо пить. Вежливые люди держат чашечку на кончиках пальцев и, едва только начнут им наливать, тотчас шевелят левой рукой под чашкой, будто подбирают капли — довольно, довольно, мне уж тяжело держать, сейчас польется через край! А ты выпил полную чашку и вторично протянул ее. А теперь, прошу, н мешай мне учить мой урок — этот танец.
Будто дали ему пинка. Корэдзуми сразу съежился и, отойдя к дому, сел и прислонился головой к ступенькам.
— Красивый сын у Дандзюро, — шепнул голос за его спиной.
Корэдзуми оглянулся и увидел молодого человека, чуть постарше его самого. Незнакомец улыбнулся, показав неровные зубы. Он весь был какой-то слишком длинный: длинное лицо, длинный мясистый мягкий нос, длинный, похожий на коробку подбородок. И нос, и подбородок, и тощее тело безостановочно шевелились, изгибались и вздрагивали, так что казалось, ни на мгновенье не знал он покоя. При этом он улыбался, а бегающие глаза искали взгляд Корэдзуми, будто цеплялись за него, ища подступ и доступ к его чувствам.
— Я Ханроку, — сказал незнакомец. — Икудзима Ханроку, актер, исполняю в Ямамура-дза незначительные роли и бегаю по поручениям. А ваше уважаемое имя и геройский поступок, которым вы спасли Дандзюро от верной смерти, уже достигли моих ничтожных ушей.
Весь изогнувшись, скользким движением Ханроку уже сидел рядом с Корэдзуми.
— Красивый сын у Дандзюро, — повторил он. — И хорошо танцует. Нам с вами, хоть расшибись, не достигнуть такого совершенства.
— Дандзюро обещал меня научить, — неуверенно возразил Корэдзуми. — Он меня любит.
Ханроку засмеялся. Не было слышно ни звука, только нос запрыгал, глаза заморгали. Ханроку затрясся, согнулся вдвое.
— Конечно, любит, — сказал он, давясь от смеха. — У Дандзюро обширное сердце, и многое там поместится. Недаром он такой толстый. Всех нас актеров он любит, как родных сыновей, однако ж не ошибитесь: его собственный сын — это совсем особо. Но мне надо спешить, я убегаю, убегаю. Надеюсь, мы с вами будем друзьями.
КОРЭДЗУМИ В ОБМОРОКЕ
К сожалению, с Дандзюро приходилось видеться редко. С раннего утра он вместе с сыном уходил в Ямамура-дза и нередко оставался там на всю ночь, так как после окончания спектакля приспосабливал для своего театра пьесы, написанные для театра кукол или старинного театра, или писал новые пьесы, заимствуя их сюжеты в танце, легенде или истории. Театральному искусству Корэдзуми обучался у Юмэя.
Юмэю было лет восемьдесят, и из них, наверно, около семидесяти он прожил на сцене. Другого дома и семьи он не знал.
До самого последнего времени он танцевал, прыгал и кувыркался как ни в чем не бывало и только после окончания спектакля с удовольствием думал, что ему не надо никуда идти, а всего лишь поднятый на второй этаж, в актерскую уборную, и там растянуться на своей циновке и уснуть, чтобы наутро снова проснуться полным сил.
Но однажды случилось, что, опустившись на колени, он уже не мог подняться. Так бы он простоял на четвереньках до скончания века, если бы театральный слуга в черном капюшоне не сообразил, что случилось, не подхватил его под мышки, взвалил себе на спину и уволок со сцены, к великому изумлению зрителей и актеров. К счастью, роль Юмэя была не так уж важна и вскоре должна была кончиться, а Дандзюро говорил то за себя, то за Юмэя, сам себе подавая реплики, и это было так смешно и неожиданно, что привело зрителей в восторг и на несколько лет после этого вошло в традицию.
Но после окончания спектакля Дандзюро поднялся наверх и спросил Юмэя:
— Как ты себя чувствуешь?
— Не могу разогнуться, — ответил Юмэй. — Будто ударили меня копьем в поясницу и ноги отнялись. Остается мне только умереть и просить прощения, что причинил беспокойство.
— Ты здесь и собираешься умирать? — спросил Дандзюро.
— Прошу извинить меня, — ответил Юмэй. — Но больше мне некуда деваться. Не догадался я вовремя обзавестись женой и детьми. Мне очень неприятно, но я надеюсь, что благосклонные боги помоет мне умереть к утру, чтобы я зря не занимал здесь места.
— По возрасту ты мне годишься в отцы, — сказал Дандзюро. — И в моей молодости ты был один из моих учителей. Без сомнения, играть тебе больше не придется, но ты заслужил почтенный отдых, и я хотел бы, чтобы ты еще пожил.
Затем он послал за носилками и приказал перенести Юмэя в свой дом.
Здесь старик вскоре поправился и остался жить на положении уважаемого родственника и друга…
Итак, искусству театра Корэдзуми обучался у Юмэя.
Сперва Юмэй показывал ему, как входить, садиться и вставать, как подавать и принимать различные предметы. Корэдзуми упражнялся в прыжках и кульбитах, учился актерской манере произносить слова и во всем этом оказывал быстрые успехи.
Но когда настало время соединять отдельные движения в танец, согласовать голос с звуком сямисэна, выражать чувства жестом и позой, учитель и ученик переставали понимать друг друга, будто с разных берегов реки перекликались на различных языках, и ветер уносил в пустоту обрывки слов. То Корэдзуми, внимательно повторяя заученные движения, терял внутреннее напряжение и шевелился деревянно, как кукла в руках неопытного кукольника… То, наоборот, входя в роль, дергался нелепо и необдуманно, так что пропадали красота и смысл. Юмэй терпеливо, в который раз повторял:
— Ни на мгновенье актер не должен терять из виду красоту впечатления, которое он производит, и держать в уме тонкое равновесие между своими духовными и физическими действиями. Пение и танец, различные жесты, изменения лица — все это действие тела. Но мысль объединяет их и управляет всем могуществом искусства. Ты думаешь об этом?
Но Корэдзуми не умел ответить.
Постоянно должен ты держать в мыслях, — говорил Юмэй, — что, играя роль героя, ты сам не становишься героем, а лишь изображаешь его. И если ты играешь старика, ни одного дня не прибавилось к твоим собственным годам. Ты — Корэдзуми, и ли на мгновенье не забывай этого. Но когда ты играешь, ты, оставаясь Корэдзуми, должен чувствовать подобно герою, подобно старику, подобно сосне, подобно бамбуку.
— Я стараюсь, — хмуро отвечал Корэдзуми. — Я не знаю, что вы от меня хотите. Я изо всех сил стараюсь, чтобы вы меня похвалили.
— Если ты хочешь, чтобы тебя хвалили, не стремись вызывать похвалу.
Юмэй гримировал Корэдзуми, сажал его перед зеркалом и заставлял подолгу всматриваться в странно яркое и незнакомое лицо. Дыхание Корэдзуми затуманивало полированную поверхность, взгляд погружался в отраженный взгляд. Чужие черты обволакивали кожу Корэдзуми, прилипая к ней, как кожица персика к нёбу. Нарисованный рот открывался и произносил певуче и протяжно слова роли.
— Кто ты? — спрашивал Юмэй.
— Я мальчик Косиро, — отвечало изображение в зеркале.
Тут Юмэй терял терпение, вскакивал и кричал:
— Ты Корэдзуми, Корэдзуми, Корэдзуми! Сколько раз повторять тебе, что, вглядываясь в грим Косиро, ты должен чувствовать подобно ему, но не превращаться в него, не терять себя и власть над собой. Ты Корэдзуми и только изображаешь Косиро. Ты понял меня?
Корэдзуми встряхивал головой, отгоняя наваждение, и повторял:
— Я Корэдзуми, Корэдзуми, Корэдзуми.
Эта роль Косиро необычайно нравилась ему, и он надеялся, что, когда он овладеет ею, Дандзюро разрешит ему сыграть ее на настоящей сцене, хотя бы по очереди со своим сыном, который всегда исполнял ее.
«Я напомню ему, что спас его жизнь, и он не сумеет отказать мне», — думал Корэдзуми и снова и снова прилагал все усилия, чтобы Юмэй остался им доволен, чтобы он мог похвастаться: «Юмэй меня хвалит!»
Но как это было трудно, и труднее всего было то место роли, где мальчик Косиро решает убить себя, чтобы спасти жизнь отца и честь дяди.
Веками выработанный ритуал самоубийства Корэдзуми разучил до мельчайших подробностей. Десятки раз повторял он движение, которым сбрасывают с плеч одежду. Снова и снова обеими руками почтительно поднимал над головой воображаемый меч, вонзал его в левую сторону живота и сильным поворотом кисти проводил им направо и вверх. Учился, даже в смерти сохраняя достоинство, не падать кое-как, некрасиво раскинув тело, а, сидя, склоняться головой вперед. Всю последовательность движений и поз Корэдзуми знал и твердо помнил.
В этот день в комнату, где они упражнялись, заглянул Ханроку, поклонился, упираясь ладонями в циновку, и так, не поднимаясь с полу, забрался в уголок и сел там. А Юмэй, точно желая похвастаться успехами своего ученика перед единственным зрителем, предложил Корэдзуми разыграть сцену самоубийства не с воображаемым мечом, а с его деревянным подобием.
В то мгновенье, когда Корэдзуми увидел лежащий на столе короткий меч, он вдруг почувствовал странную тошноту, будто душа, поднимаясь вверх к горлу, покидает тело и оставляет его пустым, чтобы другой мог войти и занять его. Невыносимый страх овладел им. Руки и ноги похолодели. Глаза расширились, и деревянный меч вдруг засверкал ослепительно, будто острая сталь.
«Я Корэдзуми», — повторил он мысленно, но уже понимал, что нет Корэдзуми, а на его месте мальчик Косиро, и сейчас он умрет.
Остатками воли он поднял меч. Не в силах смотреть на него, зажмурился и прикоснулся к животу, Ему показалось, что острая сталь вошла в тело Косиро плавно, как палочка в мягкий сыр, и взорвалась невыносимой болью. Перед глазами поплыли красные волны крови. И вместо того чтобы повернуть меч вправо и вверх, Корэдзуми с диким воплем выдернул меч из ужасной воображаемой раны, далеко отшвырнул его и без сознания свалился на бок.
Он открыл глаза и увидел сердитое лицо Юмэя. Так сердит был кроткий, терпеливый Юмэй, что голос отказывался служить ему, и он кричал хриплым шепотом:
— Редька! Бот ты кто! Глупая, бездарная редька! Да если каждый раз, когда тебе придется изображать на сцене смерть, ты будешь умирать — и тысячи жизней тебе не хватит!
Больше он не в силах был говорить, повернулся, ушел в сад и там, бормоча себе что-то под нос, все ходил и ходил вокруг пруда, как пчела, с жужжанием кружащаяся над круглой чашечкой цветка.
Ханроку выполз из своего угла и зашептал:
— О, Корэдзуми, ты был великолепен! Столько чувств отразилось на твоем лице! Я весь трепетал, переживая с тобой эту сцену. Так и хотелось крикнуть: «Я этого от тебя ожидал!»
Корэдзуми мрачно отвел протянутые руки Ханроку и сказал:
— Зачем ты меня утешаешь? Юмэй мной недоволен, и я знаю, что слишком увлекся и играл плохо.
— Ты сыграл хорошо! — с жаром воскликнул Ханроку. — Весь без остатка вошел ты в роль, можно сказать, перевоплотился в образ мальчика Косиро. Признаюсь, я плакал, глядя на твою дивную игру. Если Юмэй недоволен, причину угадать нетрудно. Зависть!
— Зависть? — в недоумении спросил Корэдзуми.
— Конечно, зависть! И боязнь, что Дандзюро лишит его своих милостей, если окажется, что ты лучший актер, чем драгоценное детище Дандзюро. Но мне надо спешить, я убегаю, убегаю. А ты отдохни. О, как я преклоняюсь перед твоим дарованием! — и, быстро поклонившись несколько раз, выскользнул из комнаты.
Когда Дандзюро вернулся вечером, Юмэй подошел к нему и жалобно заговорил:
— Прошу тебя, лиши меня своих милостей и выгони из дому, чтобы я мог со спокойной совестью умереть в придорожной канаве!
Дандзюро нахмурил брови, засверкал глазами и закричал:
— Весь день я топтался на подмостках, пока пятки распухли! Но, видно, не дано мне ни отдыха, ни покоя! Вот, думаю, идет мой друг и ждет меня тихая беседа с умным человеком. А ты открыл рот и извергнешь бессмысленные слова!
— Так, так! — обиженно, но кротко подтвердил Юмэй. — Я старый дурак и ни к чему уже не годен! Ты поручил мне дело, а я не умею его выполнить. Я не знаю, как быть с этим Корэдзуми?
— Что с Корэдзуми? Это хороший мальчик, и он спас меня от смерти. У него самые возвышенные чувства.
— Чувства! — воскликнул Юмэй. — Его чувства вздымаются, как прибой, бьющийся о скалы, разлетаются пустой пеной и увлекают его за собой, как пучок морской травы. Его чувства вспыхивают, как пламя, охватившее сухую солому, и уничтожают его. Его страсти опутывают его, как веревочная сеть. Как ему освободиться, чтобы он мог постигнуть смысл и средства искусства?
— Искусство проверяется мыслью, — проговорил Дандзюро, — напряженная мысль распутывает сети чувств и освобождает творца.
Это так, это так, и все мы это знаем. Нашей внутренней силой неослабно держим мы внимание зрителей. Но Корэдзуми не способен ничего удержать, так связан он сам разрушительной силой своих страстей.
Дандзюро неожиданно рассмеялся и сказал:
— Остается нам с тобой создать крыс, чтобы перегрызли веревки.
— Как это? — спросил Юмэй.
— Ты знаешь историю мальчика Ода из семьи Тойо?
— Никогда не слышал этого имени.
— Тогда слушай.
РАССКАЗ ДАНДЗЮРО: КАК КРЫСЫ ПЕРЕГРЫЗЛИ ВЕРЕВКИ
Если бы сделать из этой истории пьесу, мой сын мог бы танцевать роль Тойо Оды — такой же он стройный и глаза красивы и задумчивы. Нужно будет еще подумать об этом.
Семья была бедная — крестьяне, хотя в прежнее время были в роду Тойо поэты, садоводы и живописцы. Думаю, Ода был младший сын, иначе родители едва ли расстались бы с ним.
Отчего мальчика отдали в монастырь? Наверно, он был непригоден для тяжелых сельских работ. А может быть, родители увидели, что он не похож на других детей, и не было у них другой возможности дать ему образование. Маленький Ода стал послушником в монастыре.
Я не знаю, какой проступок навлек на него гнев настоятеля, но это можно придумать. Вообрази жаркий, влажный день, и настоятеля мучает жажда. Он посылает Оду вскипятить чайник. Он напоминает ему: не забудь как следует взбить веничком чай, чтобы образовалась густая пена. Последний раз чай был невкусный.
Ода выходит на террасу, садится на корточки мелет чайный порошок. Ручная мельница мерно постукивает. В ветвях деревьев громко стрекочут цикады.
Ода поднимает глаза и смотрит в белое от жары полуденное небо. Вдали бледно-серые, чуть намечены верхушки гор, такие прозрачные, что сквозь них виден воздух.
Руки Оды перестают вертеть рукоятку мельницы. Он сидит неподвижно, подняв лицо, смотрит на дальние горы. Мельница смолкла, цикады затихли. Белый как бумага, безмолвный мир. На первом плане темный, черный, изогнутый, будто изломанный, куст. Нагретый воздух колышется, густой, как морская рябь. Высоко вдали смутные очертания горы…
И вдруг этот мир рушится.
Настоятель содрогается от злобного крика. Дрожат полные щеки. Тяжелые четки сползли с плеча и со стуком упали на пол. И одновременно начинаются удары колокола: чин-кон-кан!..
— Бездельник! Ты хочешь моей смерти! Долго ли ждать мне и не дождаться чашечки чая?
Чин-кон-кан! Чин-кон-кан!
И Ода, оглянувшись, видит, что уже настал вечер и день прошел, пока он сидел неподвижно, глядя на далекие горы.
Приходится удивляться терпению настоятеля.
Если я напишу эту пьесу, я буду играть роль настоятеля — халат с широкими рукавами. Морщины на лице подчеркнуты. Маленькая шапочка монаха…
За проступком следует наказание. На всю ночь Ода привязан к столбу в пустом храме. Жесткие веревки опутали его и впиваются в тело. Как больно и страшно. Ода плачет, и слезы льются потоком, как вода из источника. Пол храма покрыт густым слоем пыли. Слезы растворили ее, и во впадине камня, будто тушь в тушечнице, темная жидкость.
И что-то шевелится, что-то шуршит в тишине и чуть слышно стучит, будто множество лапок с острыми коготками. Крысы? О, если бы это были крысы, и пришли и перегрызли веревки!
Нет, все смолкло. Это не крысы. Это ветка дерева терлась о решетку окна.
— Если нету крыс, я сам их придумаю.
Руки связаны за спиной, но ступня ноги свободна. Ода окунает в лужицу большой палец ноги и рисует им крысу. И вдруг задрожали усики, длинная мордочка сморщилась, принюхиваясь, глазки вопросительно смотрят на Оду.
— Освободи меня, — приказывает Ода, и крыса отделяется от пола и начинает грызть веревку.
Но ей неудобно. У нее нарисована только левая сторона, правого бока у нее нет — она не может повернуться.
Ода рисует новых крыс — все в разных положениях, и только закончит одну, как она, вскочив, принимается грызть веревки. На грязном полу остаются белые пятна, очертания оживших крыс, будто дыры на бумаге, из которой вырезали фигурки.
Веревки перегрызены. Ода свободен, и только поднялся и потянулся, чтобы расправить затекшее тело, как входит настоятель. Крысы метнулись и упали на пол, каждая на свое место. Только одна не успела лечь как следует, и на полу вокруг нее чуть сдвинутый белый ободок.
Начинается танец, выражающий изумление настоятеля и монахов, а затем их восторг при виде нарисованных крыс.
Здесь пьеса кончится, но Тойо Ода прожил еще много лет и стал знаменитым художником. Когда он поехал на запад, за море, чтобы ознакомиться с трудами других художников, его всюду встречали с восхищением, и, провожая на корабль, который должен был его отвезти домой, друзья подарили ему столько шелка и бумаги для картин, что корабль был подобен горе снега. Так Оде дали прозвище Сессю — корабль снега. Под этим именем его слава длится уже без малого триста лет…
— Сессю? — сказал Юмэй. — Это имя я знаю. И я видел его картины. Это несравненный художник и лучший во всей стране. Благодарю тебя за рассказ. Но как мне быть с Корэдзуми?
НОЧЬ В БАШНЕ ЯГУРА
Было уже почти совсем темно, когда два молодых актера из самых последних — из тех, которых зовут «лошадиные ноги», потому что, прикрытые каркасом из дерева и материи, изображают они лошадей, — когда эти два актера поднимались по шаткой лесенке к башне Ягура, украшающей фасад Ямамура-дза. Если бы было там немного посветлей, узнали бы вы в них Ханроку и Корэдзуми. В руках они несли ведра с водой, метлу с длинной ручкой и пучки нарезанной лентами бумаги.
Корэдзуми то и дело оглядывался через плечо и, видно, чтобы придать себе храбрости, во весь дух насвистывал песенку. Ханроку продекламировал:
Заклинателю, У которого нет трубы, Заклинателю без трубы По дороге придется Насвистывать. И все же, все же…— Я не могу понять тебя, — заговорил Корэдзуми. — Посланы мы сюда по страшному делу, а ты совсем не боишься.
Ханроку повернулся к нему, скорчил свирепую гримасу и проговорил:
— Ничего тут нет страшного. Просто грязная и скучная работа. К тому же я все заклинания знаю наизусть. Мне злые духи все равно что комнатные собачки.
И вдруг завыл:
Небо чисто, земля чиста, Чисто внутри, чисто вовне…— О, перестань, умоляю тебя, — прошептал Корэдзуми.
Но Ханроку, будто нарочно, запел еще громче:
Вы, к кому я взываю! Опустите поводья На шеи серых коней. Скачите скорей ко мне По длинным-длинным пескам.Засмеялся и сказал:
— Что тебе кажется таким страшным?
— И не стыдно тебе быть таким трусом? В театре упали сборы, нас послали убрать и вычистить башню Ягура, чтобы умилостивить злых духов. Мы их сейчас выгоним и выметем — чисто внутри, чисто вовне! Идем, не то задержимся там до утра.
— А вдруг они покажутся нам? Глаза красные, как вишни, и горят в темноте. Я знал одного человека, которому являлись тени убитых им людей и так преследовали его, что чуть не свели с ума. Никакой отваги в нем не осталось, такое стал ничтожество, хуже истрепанной сандалии. Возможно, что это были угрызения совести, а вовсе не духи. Но он даже узнавал их мертвые лица.
Ханроку беззвучно засмеялся. Нос извивался, как болотная пиявка.
— Но ведь у тебя чистая совесть, Корэдзуми? Тебе нечего бояться? И я знаю, что ты герой, ведь не так ли? Докажи мне свое геройство, Корэдзуми, — убери один в башне. Работы совсем немного, а у меня еще разные другие дела. Я тороплюсь, тороплюсь. А завтра за твою услугу я угощу тебя чашечкой сакэ. Согласен? Если есть тут духи, ты, конечно, сумеешь свернуть им шею!
— Можешь уходить, — сказал Корэдзуми. — А сакэ я теперь не пью.
— Тем лучше! — весело воскликнул Ханроку. — Мне больше останется.
И с этими словами Ханроку побежал вниз, и его босые пятки зашлепали по ступенькам, будто лягушки заквакали. Корэдзуми поднял брошенную метлу и вошел в башню.
В старые времена в поместье какого-нибудь князя иногда давались представления театра в пользу храма или монастыря. Знатные зрители располагались на возвышении против сцены, сидели церемонно: кулаки на коленях, складки торжественных одеяний широко топорщились. Простонародье, заплатившее за вход, толпилось, теснилось, толкалось внизу, дралось зонтами и сандалиями, стараясь краешком глаза хоть что-нибудь увидеть. Вся площадка была окружена забором из циновок, чтобы кто-нибудь не пролез бесплатно, а над входом помещалась сторожевая башня — Ягура. В ней находился большой барабан, сзывать подкрепление в случае беды, и три вида оружия: рогатина, копье и двузубец. Было бы стражникам чем защитить господ от мужичья. Впоследствии такие башенки стали строить над входами всех театров и считали, что в ней обитает дух — покровитель театра. Не было уже здесь ни копья, ни рогатины, только стоял на своей подставке большой барабан, возвещавший начало и окончание спектакля. Корэдзуми подошел и небрежно ударил по барабану ручкой метлы. Раздался глухой стон, будто отзвук далекой битвы, стук копыта проскакавшего серого коня, и опять стало тихо.
— Скачите скорей, — прошептал Корэдзуми, глядя на барабан. Потом вздохнул, опустился на пол и, заломив руки, взмолился безмолвно: «Злые духи, помогите мне понять самого себя!»
Так он долго лежал, прижавшись лбом и щекой к полу, тоскливо надеясь, что вдруг действительно появится сверхъестественное создание и вдруг разрешит все его сомнения, которые никто и он сам не могли разрешить.
О, какие печальные мысли!
«Я долго не решался напомнить Дандзюро о его обещании. Я выбирал время, откладывая со дня на день, следил за выражением его лица, стараясь угадать, когда он будет настроен благосклонно. Наконец я спросил:
— Господин Дандзюро, осмелюсь напомнить о вашем обещании. Уже два года я живу в вашем доме и обучаюсь искусству у Юмэя и все еще не знаю, примут ли меня в число актеров.
Он усмехнулся презрительно и сказал:
— Кошка спит у очага, собака на сырой земле. Каждое животное знает свое место.
Я ответил:
— Ведь я человек, а не животное!
Тогда он стал кричать на меня:
— Два года ты живешь у меня в доме, на тебе хорошая одежда, ты ешь досыта, и даже время от времени дарю я тебе несколько монет, чтобы ты мог исполнить свои прихоти. Это ли не плата за случайную услугу? Что тебе еще надо? Но если я тебе действительно обещал, хоть и не помню этого, что же, завтра возьму тебя в театр. Только не воображай, что я позволю тебе играть роли героев.
— Я буду благодарен за маленькую роль. Дайте мне только выйти на сцену, и вы увидите, каков я и на что способен!
Он ответил холодно и брезгливо:
— Ты думаешь, я не вижу, каков ты? Стоит тебе начать играть, будто унесенный потоком, теряешь ты всякое понятие, начинаешь пороть чепуху, собьешь с толку играющих с тобой, так что они потеряют нить и не будут знать, что им ответить. Большой актер, обладающий опытом и знанием сцены, умеющий взвесить впечатление, которое он производит, может позволить себе импровизировать. А в том, что ты делаешь, нет ни смысла, ни красоты, и обычно это идет вразрез с действием. Впрочем, к чему я это говорю, когда ты не можешь понять меня?».
Корэдзуми ничего не ответил. Что он мог ответить? И теперь уже больше месяца он числился актером — «лошадиные ноги», а еще ни разу он не вышел на сцену.
«О Дандзюро! Когда я, глупый ребенок, впервые видел тебя восемь лет назад, мне казалось, что сверкающий бог ступил на подмостки и весь мир засиял небывалыми красками, открылись морские глубины и разверзлась высота неба. Разве это тот же Дандзюро, этот полный, пожилой человек, усталый, презрительный, погруженный в свои мысли, равнодушный. Ах, равнодушный ли? К своему сыну он неравнодушен. Дает ему лучшие роли, следит за ним горящими глазами, улыбается каждому его движению. Что есть у этого мальчика, чего нет у меня? Красив? Талантлив? Еще бы! С детства вдалбливали ему все тайны искусства, подготовили и поднесли ему успех! Всю жизнь он шел по легким дорожкам, ни разу не ушибся о камень. Сын Дандзюро! А не будь у Дандзюро сына, быть может, он понял бы, как преданно Корэдзуми любит его, восторгается им, поклоняется ему… О, как я несчастен! — закричал Корэдзуми. — Что мне делать!»
Он сел и оглянулся.
Уже совсем стемнело. Черным пятном в темноте стоял перед ним барабан. В отчаянии, в бешенстве от непризнанных своих восторгов, разбитых своих мечтаний Корэдзуми ударил барабан кулаком и закричал:
— Злые духи, придите мне на помощь! Вы, к кому я взываю, скачите скорее, скорее, скорей! Не хочу я играть одного из толпы, одного из свиты, незаметного, выступающего вшестером и восьмером вслед за героем, которым восхищаются зрители! Я не хочу, чтобы Дандзюро любил своего сына. Я хочу, чтобы он меня любил! Я красивый, я храбрый, я талантливый! Почему Дандзюро не видит этого?
Рыдая, он снова бросился на пол, опрокинул ведро, и холодная вода окатила его с ног до головы, так что он вскочил, задыхаясь, и с проклятиями, ничего не видя и не разбирая в темноте, принялся за уборку. Если духам не понравится его работа, так им и надо!
ПЕРВЫЙ ВЫХОД
В то утро, когда Корэдзуми вернулся из башни Ягура, Юмэй встретил его радостный и торжественный.
— Поздравляю тебя, — сказал он. — Один из актеров внезапно заболел, и ты сегодня будешь исполнять его роль. Пьеса идет последней, движения простые, в час-два успеешь их выучить. А сейчас пойди отдохни. Ведь ты не спал всю ночь.
— О, какая радость! — воскликнул Корэдзуми. — Я лучше не буду спать и сейчас же начну учить слова.
— Никаких слов нет, — ответил Юмэй. — Твоя роль состоит в том, что в числе восьми слуг вероломного князя ты нападаешь из засады на благородного героя, и он всех вас побеждает. Ты будешь седьмой, выскочишь в свою очередь, подбежишь, а когда герой взмахнет мечом, сделаешь обратный кульбит, накроешь голову красным лоскутом в знак того, что ты убит, и выкатишься со сцены. Все это мы с тобой сделаем несколько раз, и ты сумеешь повторить без ошибки. А сейчас иди ложись. Я разбужу тебя.
Только Корэдзуми ушел к себе и лег, как двухстворчатая ширма у изголовья зашевелилась и оттуда выполз Ханроку. Он присел в ногах у Корэдзуми и спросил:
— Есть у тебя деньги?
— Нет, — с сожалением ответил Корэдзуми. — Я все потратил.
— Ах, как нехорошо, — сказал Ханроку и задумался.
— Зачем тебе деньги? — спросил Корэдзуми.
Ханроку посмотрел на него и коротко ответил:
— Нужно. — И опять замолчал, но не уходил. Наконец, глубоко вздыхая, он заговорил: — Корэдзуми, ты мой единственный друг. Сразу, как я увидел тебя, меня к тебе потянуло. Я тебе, так и быть, расскажу. Есть одна девушка…
— Девушка? — сказал Корэдзуми, отбросил одеяло и сел.
— Девушка, музыкантша в чайном доме. Как посмотришь на нее, глаза затуманивает — так мила. Такая красоточка! А веселенькая! Со всеми гостями щебечет, шутит, смеется так тоненько, будто пти или колокольчик.
— Какая тебе удача встретить такую девушку! — воскликнул Корэдзуми.
— Кому удача, но не мне, — мрачно возразил Ханроку. — Мне она нравится, а я ей нет. Смотреть на меня не хочет. Только и улыбнется, когда принесешь ей подарочек. А ты сам знаешь, заработок у меня совсем невелик, и подарки мои самые ничтожные, а после этого еще три дня ходишь голодный. И теперь ей захотелось парчовый пояс. Только об этом и говорит, даже всплакнула. Вот я и думаю, если бы я принес ей такой пояс, может быть, она стала бы благосклоннее ко мне. Так ты говоришь, у тебя нет денег?
— Нет, — огорченно сказал Корэдзуми. — Знал бы я, что тебе понадобится, ни за что не стал бы тратить.
— Ничего не поделаешь, — сказал Ханроку. — Придется доставать в другом месте. Ну, спи, спи! У тебя ведь сегодня первый выход на сцену.
Ханроку ушел, а Корэдзуми никак не мог заснуть. Лежал тихонько и сам себе улыбался.
«Что же, что роль без слов? Важно выйти на сцену! Многие великие актеры начинали с ничтожных, ролей. Сегодня без слов, завтра два-три слова, послезавтра зал кричит: „Корэдзуми!“»
Вскоре Юмэй пришел за ним и начал урок. Но не успели они проделать и первое движение, как услышали в саду грозный рев и жалобный визг и, выбежав из комнаты, увидели разъяренного Дандзюро, который, схватив Ханроку за шиворот, тряс его будто тряпку, а потом отбросил от себя и наподдал пинком в спину так, что Ханроку скатился со ступенек во двор и лежал там, корчась и извиваясь, как червяк.
— Чтобы больше я никогда не видел тебя! — кричал Дандзюро. — Ничтожный негодяй! И в театр не смей показываться. Пошел прочь! Проваливай, презренный воришка!
Ханроку поднялся и стоял бледный как смерть. Только кончик длинного носа шевелился и узкий язык облизывал губы.
— Вы еще пожалеете об этих словах, господин Дандзюро, — прошипел он. Видно, судорога сдавила ему горло и было трудно говорить. — Конечно, я ничтожество, и вам нипочем совсем уничтожить меня, а все же вы еще пожалеете, что поступили несправедливо. Вы напрасно обидели меня — я не виноват.
— Он не виноват! — воскликнул Дандзюро и презрительно рассмеялся. Густые раскаты хохота звучали как сочные пощечины. — Посмотрите-ка на этого святого! Только что я застал его в моей комнате, где он рылся в ящиках в поисках денег. Пошел вон, негодяй! Проваливай, пока я не убил тебя!
— Кто кого! — небрежно ответил Ханроку, поправил складки разорванного халата и вдруг повернулсся и быстро убежал.
Бедняга! — прошептал Корэдзуми, но Дандзюро бросил на него гневный взгляд, и он прикусил язык…
Восемь слуг вероломного князя спрятались в засаде, готовясь всей сворой напасть на героя. Все они на одно лицо — на голове три пышных пучка волос, торчащих в разные стороны. Грудь обнажена, и мускулы на ней очерчены жирной краской. Полосатые халаты подвязаны выше колен. За поясом два меча — короткий и длинный.
За кулисами слуга в черном капюшоне уже держал наготове восемь деревянных голов, связанных длинной веревкой, чтобы разом выбросить их на сцену, когда герой победит своих врагов. Но зрители все, как один, смотрели на «дорогу цветов», на кото рой появился Дандзюро. И Корэдзуми из-за скалы, служившей ему прикрытием, позабыв обо всем на свете и о том, что он на сцене и что это его первый выход, тоже смотрел на Дандзюро.
От создания мира не было такого величественного героя. Как прекрасно его гордое лицо! Как могучи раздутые шарами мускулы ног и плеч! И что за удивительный костюм! Натянутые на каркас огромные жесткие рукава, будто щиты чудовищных черепах. Три заткнутых за пояс меча, такие длинные, что как три синих сверкающих луча ореолом вздымаются над головой.
— О Дандзюро! Ты лучший во всей стране!
Герой ступает на сцену, и свора врагов, выскочив из-за прикрытия, окружает его кольцом, будто стая кровожадных псов. Герой, взмахнув мечом, вертит им над их головами, и вот уже первый злодей, опрокинувшись назад, покрыл голову лоскутом и убежал. В свою очередь подскакивает второй. Корэдзуми уже совсем близко. Он слышит тяжелое дыхание фехтующего Дандзюро. Ведь Дандзюро не так уж молод, а длинный меч неудобен для фехтования.
Сердце Корэдзуми сжалось от любви и жалости. Кровь волной прилила к голове и затуманила глаза.
«О Дандзюро, неужели я допущу, чтобы толпа подлых предателей убила тебя! Барабаны рокочут! Дандзюро, твой спаситель близко!»
Вдруг вспомнил он все приемы, которым его когда-то обучал Рокубэй. Один он бросился на шестерых злодеев, а те от неожиданности стояли как каменные болваны, открыв рот. Одного он ударил наотмашь, другого ткнул острым пальцем в грудь, так что тот, взвыв, запрокинулся навзничь, треснул головой в живот, четвертого, схватив за ногу, опрокинул. В одно мгновенье он раскидал их всех, так что со стонами отползли они во все стороны.
Зрительный зал хохотал, ревел от восторга. Девушки хихикали, застенчиво прикрыв рот, и вдруг начинали визжать. Люди вскакивали, чтобы лучше видеть; кто-то бросил на сцену кошелек, кто-то вопил:
— Не унывай! Лупи их!
И, неизвестно как, вдруг узнав его имя, кричали:
— Корэдзуми! Корэдзуми! Корэдзуми!..
Смущенный восторженным приемом, Корэдзуми мгновенье стоял неподвижно и вдруг, почувствовав бешеный взгляд Дандзюро, вспомнил заученные движения роли, сделал обратный кульбит, покрыл голову красным лоскутом и убежал. Тотчас слуга выбросил на сцену деревянные головы. Спектакль продолжался.
Но едва он кончился, Дандзюро вызвал Корэдзуми в свою уборную. Великий актер сидел перед зеркалом, поставленным на гримировальный ящик, и квадратиками мягкой бумаги стирал с лица краску и пот.
Когда Корэдзуми вошел и поклонился, Дандзюро повернулся так резко, что задел локтем зеркало. Он потер рукой ушибленное место и сказал:
— Поздравляю с первым выходом. Можешь считать его последним. — И вдруг закричал: — Дурак, ты сорвал мне сцену! Я играю, а приветствуют тебя! Не воображай, что я потерплю это и позволю тебе безобразничать в театре, где я первый, главный и единственный.
Он повернулся, поднял зеркало, поставил на ящик и снова принялся снимать грим. Потом заговорил уже спокойно:
— Что же мне с тобой делать, Корэдзуми? Как видно, совсем не способен ты быть актером. Попробуем, может, ты годишься быть куромбо — черным человеком, театральным слугой в черном капюшоне. Ты знаешь его обязанности? А впрочем, Юмэй все это тебе объяснит. Скажи Юмэю, что я приказал ему ему обучить тебя. Можешь идти.
ЧЕТВЕРО ПОД ЗАМКОМ
Юмэй сказал:
— Я иду в книжную лавку. Хочешь, пойдем со мной?
Корэдзуми не повернулся. Он стоял перед цветущим кустом, скрестив руки на груди, и смотрел в раскрытую чашечку цветка так сосредоточенно и сердито, будто вместо тычинок торчали там пауки и сороконожки.
— Не надо печалиться, — тихо заговорил Юмэй. — Я сочувствую твоей обиде, но, поверь, не так она ужасна, как тебе кажется. О Корэдзуми, черный человек так же необходим театру, как актер. который играет героев. Каждый в меру своего дарования служит искусству.
— Каждое животное знает свое место? — горько рассмеявшись, спросил Корэдзуми.
— Ты человек, а не животное, — сказал Юмэй. — Постарайся с честью и достоинством выполнять работу, которая тебе под силу.
Он открыл калитку, и они вышли на улицу. Прислонясь к стене, там сидел на земле Ханроку. Юмэй строго спросил:
— Что ты здесь делаешь?
— Сижу, наслаждаюсь приятной погодой, — нагло ответил Ханроку. — Других занятий у меня теперь нет, когда Дандзюро выгнал меня из театра.
— А другого места сидеть тебе нету? — сказал Юмэй. — Если я еще раз увижу тебя здесь, я пожалуюсь квартальным старшинам, и тебя посадят в тюрьму.
— Что же я сделал дурного? — дерзко спросил Ханроку. — Сижу у порога великого человека, надеюсь выпросить его прощение.
— Я тебя предупредил, — сказал Юмэй и пошел дальше.
Корэдзуми немного отстал и шепнул:
— Дандзюро в театре, ты напрасно тут ждешь.
— Оставь меня в покое, — сказал Ханроку.
Корэдзуми пожал плечами и нагнал Юмэя. Рядом, молча они прошли две-три улицы, увидели перед собой разукрашенный фасад книжной лавки. Всё также молча завернули они туда. У порога книготорговец встретил их низкими поклонами.
— Какой удачный день! — воскликнул он. — Я только что получил новые книги. Что разрешите показать вам? Есть книги с картинками и книги для чтения. Любовные истории из современной жизни.
— Нет, нет, — прервал Юмэй.
Но книготорговец не дал ему договорить и, взбираясь по лестнице на верхнюю полку, закричал оттуда:
— Я понимаю! Такие господа с утонченным вкусом не станут читать новые стихи, а всему предпочтут Басе. Вот его сборник «Сарумино — дождевой плащ обезьяны».
Зимний мелкий дождь. Обезьянке бы тоже Нужен был маленький плащ…Корэдзуми громко рассмеялся.
— Черного цвета и с капюшоном? — спросил он.
Книготорговец вздрогнул от резкого звука и, отводя глаза от смотрящего на него снизу сердитого лица, неуверенно продолжал:
— Может быть, вам понравятся его «Весенние дни» или «Зимние дни»?..
— Прошу извинить меня… — начал Юмэй.
Но книготорговец спрыгнул с лестницы и полез под прилавок, восклицая:
— Я понимаю, понимаю! Такие ученые господа читают только очень древние стихи. У меня случайно есть прекрасный экземпляр «Собрания тысячи листьев» на цветной бумаге…
— Позвольте!.. — твердо сказал Юмэй.
— Прошу вас? — спросил книготорговец и остановился, склонив голову набок и разглядывая непонятных посетителей.
— В следующий раз, — сказал Юмэй, — сочтем за счастье приобрести у вас книгу. Но сегодня мы пришли по другому делу. Мы из Ямамура-дза. Драматург Цуруя занял у нас деньги под новую пьесу, и мы хотели бы получить ее. Нам сказали, что сейчас он живет в вашем доме.
— Цуруя? — сказал книготорговец. — Как же, как же… — И он снял со стены большой ключ.
— Что это? — спросил, недоумевая, Юмэй. — Разве он сидит у вас под замком?
— Конечно, он не такое сокровище, чтобы держать его взаперти в несгораемой кладовой, — ответил книготорговец. — Однако он стоил мне достаточно дорого. Постоянно приходил ко мне и занимал деньги, клянясь, что его пьесу на будущий месяц обязательно примут в театр. То называл он ее «Двойное самоубийство в вишневом саду», то «Мститель с горы Имасэ». Заглавия заманчивые, и я ему не отказывал. А между тем я узнал, что пьеса вовсе и не написана, а деньги, которые он выманивал у меня жалкими словами, уверяя, что девять его детей голодают и голодным криком мешают ему творить, — эти деньги он проигрывал и пропивал. Наконец мое терпение истощилось, я решил проучить его и приготовил ловушку. А тут как раз присылает он своего младшего подмастерья — мальчишку Ити. «Идем, — говорю я. — Деньги у меня на втором этаже». Отвел его в пустую комнату и запер. Не проходит и часа, прибегает второй подмастерье — Иттю. «Не видели ли вы Ити?» — «Как же, — говорю я, — сидит наверху и угощается рисовыми пирожками. Не хочешь ли отведать?» Отвел его в ту же комнату и запер. Является Итидзан, помощник Цуруи. Самоуверенный молодой человек, и я его терпеть не могу. Говорит так небрежно: «Учитель посылал к вам Ити и Иттю, и они куда-то исчезли». — «Они здесь, — говорю, — просили у меня денег». «Да, да, — говорит он, — а где же деньги?» — «Наверху», — говорю я и запер его гам же. Наконец уже под вечер пожаловал сам Цуруя и кричит: «Я послал к вам Ити, он не идет. Я по-слал за Ити Иттю, он не идет. Я послал за Иттю Ипгдзана, он не идет. Где деньги?» — «Ждут вас, — говорю я. — Пожалуйте наверх». Запер за ним замок и сказал на прощание: «Ни одного бу ты не получишь, пока не напишешь пьесу и не вернешь долг». Теперь они все четверо сидят и пишут, а еду я им сую сквозь кошачью лазейку в дверях.
Пока книготорговец рассказывал это Юмэю и Корэдзуми, они успели подняться по лестнице и остановились у запертой двери. Книготорговец вставил ключ в замок и, надавив, повел его справа налево. Ключ заскрипел, выталкивая замок и освобождая скобы.
В четырех углах комнаты стояло четыре низких столика. На каждом лежала длинная полоса бумаги, частично исписанная, и мокрые кисти сохли на подставках. Но все четыре обитателя комнаты, растрепанные и полуобнаженные, столпились в ожесточенном споре у холодной жаровни, и сам Цуруя, размахивая длинным чубуком трубки, кричал:
— Я приказал тебе зарезать его! Как ты смел ослушаться?
Я не могу убивать по приказанию, — возражал Ити. Голос у него ломался, и он то пищал, то всхрипывал. — Я не согласен его резать! Это против моих убеждений!
— Зарежешь! — кричал Цуруя. — Зарежешь!
Тут он увидел вошедших и, повернувшись к книготорговцу, воскликнул трагическим голосом:
— А-а, коварный злодей, ты пришел навестить своих узников и еще привел с собой досужих зевак? Так полюбуйся же на горькую участь таланта! Мало того, что постоянно терплю я жестокую нужду! Что наша работа не пользуется у людей уважением! Что считают нас пониже актеров и немногим выше нищих! Еще собственный мой подмастерье не желает меня слушаться! Я придумал сюжет и распределил между моими помощниками отдельные сцены, предоставив каждому свободу в развитии действия и создании характеров. Однако они обязаны подчиняться необходимости сюжета…
— Есть о чем спорить, — с презрением сказал книготорговец. — Сели бы и написали поскорей и вернули мне мои денежки.
— Я тоже удивляюсь тебе, Цуруя, — сказал Юмэй. — Все равно актеры переделают пьесу, как им покажется лучше. На театральной афише не напишут твое имя, и не ждут тебя слава и одобрение зрителей. Делай так, как приказал тебе Дандзюро, и все будет хорошо… Идем, Корэдзуми.
Они ушли, и книготорговец опять повесил замок на дверь…
На улице у входа в дом Дандзюро они снова увидели Ханроку. Он сидел все в той же позе, только еще больше согнулся.
— Прошу тебя, уходи! — сказал Юмэй. — Я тебе же желаю добра.
Ханроку нехотя встал, посмотрел и отвел глаза. В его взгляде была такая холодная, такая невыносимая ненависть, что Корэдзуми вдруг понял, зачем он дожидается Дандзюро.
ВЕЛИКИЙ ДАНДЗЮРО
Там, где актерская уборная переходит в «дорогу цветов» и отделяется от нее занавеской, у самого выхода висело на столбе круглое зеркало. Актеры ненадолго останавливались перед ним, чтобы, всмотревшись в отражение грима и костюма, проникнуться духом изображаемого ими лица. «Глядя на сосну, чувствуй подобно сосне. Глядя на бамбук, чувствуй подобно бамбуку».
Корэдзуми остановился и посмотрел в зеркало — оно было черное и пустое: ничего не отражало, кроме черной пустоты. Он удивленно поднял руку ко лбу и не увидел ни лба, ни руки, только чернота в зеркале на мгновение заколебалась и застыла. Где привычные ежедневные черты милого лица, нежного, как лицо девушки? Или взамен его пестрый грим самурая или придворного? Ничего нет.
Что же он надеялся увидеть? Ведь теперь, с сегодняшнего утра, он — куромбо, черный человек, человек-невидимка. Тело закутано в черный балахон, лицо закрыто черным капюшоном. Корэдзуми печально улыбнулся — зеркало не отразило улыбки.
Обезьяне тоже нужен плащ…
Куромбо — театральный слуга — во время представления подает и уносит необходимые на сцеп о предметы. Он расправляет складки костюма, когда актер садится, он помогает ему спустить перед боем одежду с правого плеча, а затем снова надеть ее. После длинного монолога подает актеру чашечку с чаем, который актер пьет, отвернувшись от зрителей. Вытирает ему пот с лица после утомительной сцены. Кладет и убирает подушку у его ног. Освещает его лицо свечой, привязанной к длинной палке. Если актер забыл слова роли, подсказывает ему. И в промежутках между этими услугами стоит на коленях в дальнем углу сцены, повернувшись спиной к зрителю. Его не видят, не замечают.
— Корэдзуми, подвинься.
Чернота медленно откатилась налево, будто занавес. Вместо нее в зеркале возникло поразительное лицо.
Нечеловечески огромные глаза, поднятые углами к вискам, узкий рот, темной дугой опущенный книзу. Волосы завились, как черные змеи, поднявшиеся дыбом, чтобы смертельно ужалить. Страшное своей силой лицо, раскрашенное синей и красной краской, напряженное страстью, искаженное вдохновением. Великий Дандзюро!
Вдруг сердце Корэдзуми сжалось, и дыхание колючим острием остановилось в горле, и тело похолодело так, что, казалось, сейчас упадет, бездыханное. И через бесконечное мгновенье сердце вздрогнуло и опять расширилось, и горячие волны крови кругами побежали от него, ударяя в голову и заливая глаза красным туманом.
«Как я раньше не понял и был так доверчив? Вот враг! Великий Дандзюро! От него все беды и несчастья. Это он своим пестрым портретом на театральной афише, это он своим проклятым искусство в долгий и жаркий летний день соблазнил бедного мальчика на побегушках. Это он обещал успех, богатство, и роли героев и — ненавистный скупец! — отступил от своего слова, пожалел поделиться своей славой, всю ее приберегая для себя и своего сына. И даже ничтожные роли одного из толпы отнял у меня и сделал черным слугой-невидимкой — куромбо. Старый, столько лет уж на сцене, позавидовал молодости, испугался соперничества, своим толстым телом заслонил путь. Кошка спит у очага, собака на сырой земле. Корэдзуми, подвинься…»
Черная тень неслышно выползла из угла и, покачиваясь, остановилась у локтя Корэдзуми.
— Дай мне светильник, — прохрипел голос Ханроку.
— Зачем? — шепнул Корэдзуми, но уже знал зачем.
Ханроку, не отвечая, отнял светильник. Корэдзуми услышал, как зубы Ханроку лязгнули.
Внезапно, громче грома, загрохотала деревянная колотушка. Выход! Занавеска, поднятая двумя шестами, открыла «дорогу цветов» и море голов под нею.
— Дандзюро! Дандзюро!..
«Дорога цветов» засыпана цветами, завалена мешками с рисом, кусками шелковых тканей — подношениями восторженных поклонников. Бледные, запрокинутые кверху головы, широко открытые, кричащие рты:
— Дандзюро! Дандзюро!..
— Ты самый лучший, самый великий!
— Ты лучший во всей стране!..
Дандзюро ступает на «дорогу цветов». За его спиной длинная черная тень, извиваясь, прижимается к нему. Язычок пламени в светильнике дрожит и колеблется. А за ними вторая тень — Корэдзуми нерешительно протягивает руку.
И вдруг, не оглядываясь, неслышно для зрителей, Дандзюро взбешенно шепчет:
— Корэдзуми, редька, о чем ты думаешь? Навалился на меня и дышишь мне в затылок. Подвинься, дурак!
— А-а-а-а!..
Красный туман в глазах сужается, сужается, сужается…
Ничего не видно, кроме блестящей маленькой точки — рукоятки кинжала за поясом Дандзюро. Она так сверкает, что смотрящие на нее глаза Корэдзуми перекашиваются. Чья-то рука поднимается, вытаскивает кинжал из ножен и вонзает его в затылок Дандзюро.
Благородный даже в смерти, Дандзюро медленно, прекрасным движением склоняется вперед.
МАТЬ
Так как он был черный человек и люди привыкли не замечать его, никто не обратил внимания, когда Корэдзуми спустился с «дороги цветов», пробрался между зрителей и прошел через «мышеловку». У выхода один из зазывал с удивлением посмотрел на него и опять отвернулся. Невидимый в уже поредевшей к вечеру толпе, Корэдзуми перешел через улицу и остановился у водоема напротив Ямамура-дза. Он зачерпнул воду в одну из стоявших тут кадочек, откинул капюшон и, припав к ней, долго пил, а потом смочил горячий лоб и щеки. Но так ужасен был внутренний жар, сжигавший его, что вода не охладила его и не утолила жажды, а мгновенно испарилась, так что ладони опять были сухи, а язык во рту тяжелый и шершавый. Несколько времени он стоял, тупо глядя на водоем. Ломило виски, и одежда давила на плечи. Корэдзуми снял черный балахон, аккуратно свернул, положил на землю и, оставшись в обычной выходной одежде, медленно отошел и шаг за шагом пошел дальше.
Постепенно это мерное движение привело его в сознание. Он понял, что идет по улице, но не мог сообразить, зачем и куда. Обрывки бессмысленных слов носились в голове, мелькали туда и сюда, как юркие ящерицы, которых не поймаешь за хвост, потому что только схватишь его — и он обломится.
«Я очень устал, — с усилием думал он. — Отчего я устал? — И, сразу ослабев, прислонился к стене дома. — Что я сделал, что так невыносимо устал?» Вдруг в хаосе мыслей появилась блестящая точка Она росла, вытянулась, поднялась в воздух, превратилась в кинжал и вонзилась в толстый затылок Дандзюро. Мгновенно Корэдзуми вспомнил все, и им овладел ужас. Он оглянулся, но никто не смотрел на него.
Какая-то танцовщица входила в поставленные на землю носилки. Из-под подола пяти разноцветных халатов мелькнула ее босая нога с круглой пяточкой. Девочка в тоненьком платье купила один каштан у продавца на углу. Каштан был раскаленный, она подкидывала его на ладонях и дула на него. Прошел торговец цветами, неся за спиной высокую корзинку, тесно уставленную ветками хризантем в простых бамбуковых вазах. Прошла дама, держа на руках собачку. Собачка положила ей голову на плечо и высунула розовый язычок. У порога дома сидел бочар и, мерно ударяя деревянным молотком, чинил рассохшуюся кадку. Спустив с плеча короткую куртку, выставив напоказ татуированную грудь, прошел пожарный. Никто даже взгляда не бросил на Корэдзуми.
«Еще никто ничего не знает, — подумал он. — Еще есть время что-то сделать, где-то спрятаться. Здесь, в переулочке, должен быть дом Хироси».
Но, когда он представил себе, как они, если они еще живы, встретят его, он громко рассмеялся. Девушка, несшая на голове корзину с мокрым бельем, испуганно оглянулась на звук этого смеха и поспешно перешла на другую сторону.
«Куда же мне идти?» — думал Корэдзуми. Но всем, кто был близок ему, кто приютил его и заботился о нем, — всем он отплатил в свое время, и расчеты были покончены, и счет закрыт.
Одно за другим всплывали в памяти лица. О-Кику, мертвенно-бледная, лежащая на полу разграбленной комнаты. Рокубэй со свернутой набок шеей, И тощий, облезлый пес, подбирающийся к его телу. Привратник в доме Исао. Нищенка в придорожной гостинице, иссохшей ладонью утирающая голодную слюну. И какие-то безымянные в темных улицах… Да неужели на всем свете нет никого, кому он не причинил бы зла?!
Внезапно, оттесняя все другие образы, проплыло по воздуху худое лицо в ореоле всклокоченных волос и большая, как мутный жемчуг, слеза выкатилась из-под опущенных век. «Мать!»
Жива ли она? О боги, пусть она будет жива! Она добрая и не ведет счет проступкам и возмездию. Как-то под Новый год они долго ходили с ней по праздничным лавкам, и она купила ему пеструю бумажную игрушку.
Она такая добрая. Как он мог столько лет не видеться с ней, даже не вспомнить ни разу? Пусть она будет жива! Всю свою жизнь он будет служить ей, как верный сын.
Один рё два бу — с этого началось. И сколько раз он мог их отдать, и не отдал. Если он отдаст их сейчас, все простится. Все, что было. А может быть, этого не было? Может быть, нечистая совесть вызвала в его воображении странный ряд преступлений и все это только сон? Он отдаст ей деньги и очнется в тесном чулане, и мать нагнулась над ним, и прядь ее волос щекочет его детскую щеку, и ему всего девять лет. Надо скорей отдать долг.
Он вынул кошелек и, опустив в него два пальца, начал перебирать монеты, но все сбивался со счета Тогда он присел на корточки, высыпал деньги из кошелька на землю и стал считать. Оказалось ровно один рё два бу. Он пересчитал снова, и снова число сошлось, ни больше, ни меньше. И, приняв это за счастливое предзнаменование, он сгреб деньги обратно в кошелек и быстро пошел по направлению к чайной.
Он вошел туда, и служанка почтительно встретила его у порога, опустившись на колени и упершись ладонями в пол. Она спросила, что ему будет угодно, а сама исподлобья оглядела с ног до головы. Невысокий стройный молодой человек, одетый скромно, но по моде в узорный халат, заправленный в широкие складчатые брюки. Немного бледный, но спокойный и самоуверенный. В протянутой руке держит кошелек. Лицо нежное, как у девушки. Служанка улыбнулась ему и повторила свой вопрос.
Он сел на подушку и спросил:
— У вас здесь есть судомойка?
— Конечно, есть, — ответила она недоумевая.
— Я хочу сказать, немолодая судомойка, — объяснил он. — У нее когда-то был мальчик, сын, мальчишка на побегушках. Он потом исчез.
— Я знаю, про кого вы говорите, — ответила она. — Такая была у нас, но уже несколько лет, как умерла.
Молодой человек смотрел на нее безумными, неподвижными глазами. Его челюсть отвалилась, и рот был широко открыт, но ни одного слова оттуда не вылетало. Девушка испугалась и на четвереньках начала отступать к дверям. Он встал угловато, как деревянный, и заговорил голосом, пустым и лишенным выражения:
— Меня просили вернуть ей долг. Один рё два бу. Старый долг.
Он высыпал деньги на стол и опять пересчитал их.
— Один рё два бу. Раз нельзя их вернуть ей, попрошу вас потратить эти деньги, принеся жертву на ее могиле. Сейчас я заплачу вам за труды.
Он начал рыться за пазухой и в поясе, вывернул рукава и даже пощупал подол халата, веером выступающий вокруг щиколоток из-под брюк. Но ни одной монетки больше не мог найти. Тогда он махнул рукой и проговорил удивленно и медленно:
— Больше у меня ничего нет. Не забудьте, отдайте ей эти деньги.
С этими словами он вышел, а служанка пожала плечами, встала с колен и, оглянувшись во все стороны, смахнула деньги со стола в свой рукав.
ГОЛОВА НА ШЕСТЕ
Время остановилось для Корэдзуми. Серые сумерки обволакивали его, и не было ни дня ни ночи. Тело дышало, ноги двигались, но мысль умерла.
Уже скоро узнали его во всем квартале, и, глядя на истощенное тело, на лишенное выражения лицо, кумушки вздыхали и говорили сочувственно:
— Такой молодой, а волосы белые. Наверное, великое горе лишило его рассудка! — и останавливали мальчишек, которые гурьбой бежали за ним, дразня его, кидаясь камешками и крича: «Безумный! Безумный!»
То одна, то другая добрая женщина, шепча молитву, кормила его объедками, иначе, наверное, он умер бы от голода. Он не благодарил, ел равнодушно, не разбирая пищи.
Но иногда внезапно, на мгновенье сознание возвращалось к нему, будто молния прорезала густые тучи. Один раз он с удивлением увидел, что сидит в придорожной канаве, прислонясь к забору.
Он посмотрел на свои руки, худые и грязные. Повертел пальцами, разглядывая их, недоумевая, чьи же они, пытаясь вспомнить, что же произошло.
Уже воспоминания, теснясь, пытались пробиться сквозь толщу забвения.
В ушах загудело, боль пронзила виски, слезы брызнули из глаз, и он поскорее опять с облегчением погрузился в бездумье.
В другой раз он остановился перед лавчонкой ростовщика и долго смотрел на вывеску. Откуда-то издалека пришла память о том, что сюда приносят одежду и получают за это деньги. Зачем ему нужны деньги, было неясно.
Но он зашел в лавку, снял свои модные, заложенные широкими складками брюки, нарядную накидку, узорчатый халат и остался в одной набедренной повязке.
Ростовщик схватил брошенную одежду, щупал ее, мял, разглядывал на свет и наконец сказал:
— Эти вещи дорогие, но на что они годятся теперь? Вот дыра, вот прореха, так испачкано, что и цвет не разберешь. Много не могу дать, — и сунул Корэдзуми несколько монет.
Деньги надо считать. Зачем считать? Надо! И Корэдзуми начал считать:
— Один, два, три… — и опять: — Один, два, три… — И вдруг разжал руки. Монеты посыпались между пальцев на земляной пол, а Корэдзуми, не оглядываясь, вышел.
Однажды поздним вечером он очутился на площади у Нового моста. Площадь была безлюдна, луна освещала ее мертвенным сиянием.
Корэдзуми увидел бамбуковый шест и на нем голову Ханроку. На доске была надпись, и Корэдзуми прочел ее без удивления:
ИКУДЗИМА ХАНРОКУ — УБИЙЦА
Корэдзуми смотрел на голову. Лицо в лунном сиянии было белое. Красная краска для героя. Для изменника голубой подбородок, губы фиолетовые, белый нос. Белый длинный нос висел неподвижно фиолетовым провалом рта.
Глаза смотрели на Корэдзуми, Корэдзуми смотрел на Ханроку.
Облака набегали на луну, тени скользили по лицу.
— Я Корэдзуми, — прошептал Корэдзуми. — Я расписал нос белой краской, а подбородок голубой и смотрю в зеркало. Но не следует забывать, что я лишь изображаю злодея. Ни на мгновенье не следует забывать — я Корэдзуми!
Но уже чужие черты обволакивали его кожу, прилипая к ней, будто кожица персика к нёбу. У него оставалось сомнение, кто же чью роль играет, и отгоняя наваждение, Корэдзуми топнул ногой:
— Я Корэдзуми, актер. Я играю роль. Я не убивал Дандзюро. Я только хотел его смерти. Я мог отвести кинжал, но не сделал движения. Я убийца! — И вдруг закричал пронзительно и дико: — Я Ханроку, Ханроку, Ханроку! Я Икудзима Ханроку — убийца. Я убил Дандзюро! Я убил мою мать. Матушка, матушка! Я убил мою мать!..
А надо вам знать, что, хотя площадь была пустынна, был там еще один человек, сидел неподалеку, скрытый в тени, ужинал сушеной рыбкой. Был это не кто иной, как тот самый незадачливый полицейский, который несколько лет назад так глупо прозевал Рокубэя, когда того искали за ограбление скупщика риса. Нельзя сказать, что за это время сыщику повезло больше. Напротив, еще накануне его начальник кричал на него, бранился и даже ударил, упрекая в глупости, и трусости, и нерасторопности и клялся, что один еще промах — и выгонит он его совсем. А между тем за эти годы сыщик успел жениться, и уже жена народила ему трех детишек — все мальчишки и все вылитый отец. Надо было их кормить. Поэтому сыщик твердо решил показать свое рвение к службе и, подумав, что к выставленным на шестах головам казненных могут прийти соучастники, решил сверхурочно дежурить там каждую ночь. Какова же была его радость, когда он услышал безумные вопли:
— Я убил Дандзюро, я убил Рокубэя, и женщину на переправе Сано, и нищенку у дверей харчевни, и привратника в доме Исао. Я убил мою мать!
— Вот это злодей! — подумал сыщик. — За такого точно дадут мне повышение. Сейчас наброшу на него сеть и поймаю крупную рыбину.
Уже он взялся за обмотанную вокруг пояса грубую сеть, какими полиция опутывает опасных преступников, чтобы они не могли сопротивляться. Но тут же осторожность взяла верх над отвагой, и он подумал: «Однако же это, видать, человек отчаянный. Вон скольких убил. Ничего ему не стоит и меня убить, и спрашивается, кто же тогда получит новое звание? Уж лучше пойду поищу ночную стражу, и тогда мы все вместе мы без труда овладеем им».
— Я убил Дандзюро!..
Будто подстегнутый криком, сыщик поспешно согнулся вдвое, чтобы страшный злодей его не заметил, и шмыгнул в переулок.
Но когда, встретив наконец стражу, он вместе с ней вернулся на площадь, никого там не было. Только шест с воткнутой на него головой бросал длинную косую тень на белый под луной булыжник.
Бывает же, что так не везет человеку!
У ПОРОГА ЯМАМУРА-ДЗА
Внезапно Корэдзуми вспомнил все. Память хлынула, как река, прорвавшая запруду, и затопила его. Невыносимая тоска овладела им. Ломая в отчаянии руки, он то шел вперед, то останавливался.
Полная луна поднялась высоко. Облака рассеялись, и было светло как днем. Корэдзуми увидел, что стоит у водоема, напротив Ямамура-дза.
В лунном свете пестрые афиши, покрывающие фасад театра, побледнели и выцвели. Но ясно можно было различить сцены сражений и поединков, шествия и танцы. Черные высокие, загнутые вперед колпаки придворных и круглые шлемы самураев.
Но среди них Корэдзуми тщетно искал изображение Дандзюро — коренастое тело, могучие плечи, выкатившиеся белки глаз, вставшие дыбом волосы, искривленный рот. Вместо того всюду виднелся портрет юного красавца, тонкого и стройного. Узор его грима подражал лепестку пиона. Брови высокомерно вздымались к вискам. Дандзюро Второй.
Тогда Корэдзуми печально опустил глаза и вдруг заметил, что на скамье зазывал, которой полагалось бы быть пустой в этот поздний час, кто-то лежит съежившись. Корэдзуми подошел посмотреть на спящего. Тотчас, будто почувствовав его взгляд, человек открыл глаза и, выпрямившись, сел. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, и разом раздались два возгласа:
— Господин Юмэй!
— Корэдзуми, это ты!
Они пали друг другу в объятья и, будто не веря чуду встречи, опять отодвинулись и опять обнялись. Наконец Корэдзуми спросил:
— Господин Юмэй, почему вы здесь среди ночи?
— Лень было мне идти домой, — небрежно ответил Юмэй.
— Но дом совсем близко. Хотите, я вас провожу?
— Я больше не живу в том доме, — сказал Юмэй и вздохнул. — С тех пор как нет Дандзюро и в доме новый хозяин, молодой и гордый, почувствовал я себя приживальщиком. С первым Дандзюро нас связывали работа и дружба, для второго я нищий старикашка, некрасивая и невеселая обуза, мусор, который забыли убрать. Я ушел и снял себе каморку в предместье. Но уж очень далеко возвращаться туда из театра и снова приходить по утрам. Я теперь зазывала, Корэдзуми! В актеры уже не гожусь — ноги слабы и кости не гнутся. Но голос меня еще слушается, вот я и стал зазыванием зарабатывать себе на жизнь.
Корэдзуми опустился на землю у ног старика и, рыдая, воскликнул:
— Ваша печальная участь — моя вина! Если бы я не убил Дандзюро…
— Что ты говоришь! — прервал его Юмэй. — Икудзима Ханроку убил его. Я сам был в театре и все видел. Дандзюро вышел в сопровождении двух куромбо. Я обоих узнал по росту и фигуре. Ханроку держал светильник и был совсем рядом. А ты стоял поодаль, у входа. Я видел, как Ханроку переложил светильник в левую руку, а правой вынул кинжал Дандзюро из ножен и вонзил ему в затылок. А ты прыгнул с «дороги цветов» и исчез в общем смятении. Ханроку схватили с окровавленным кинжалом в руках.
— Но я хотел этой смерти! — вскричал Корэдзуми. — И я знал мысли Ханроку и не остановил его. О господин Юмэй! Вы думаете, я хороший? Я обокрал мою мать и бросил ее, и она умерла от горя.
— Может быть, она умерла от болезни? — нерешительно сказал Юмэй.
— Да, но меня не было с ней, и я не подал ей предсмертную чашку с холодной водой. Я предал своих благодетелей, и жил с разбойниками, и, повинуясь их приказаниям, приемами каратэ сбивал с ног прохожих, чтобы легче было их ограбить. Я низкое создание и достоин казни.
— Мне холодно, — сказал Юмэй. — Дай мне опереться на твою руку, и, может быть, я сумею добраться до моей каморки.
— Я отнесу вас на спине. Посмотрю я, стали вы маленький и легкий, как пушинка. А вы указывайте дорогу.
Он поднял Юмэя и понес его, как няньки носят за спиной малых ребят.
Немного помолчав, старик заговорил:
— Не могу я сказать, что нет на тебе вины. Но я думаю, что ты не один виноват. Никто не учил тебя добру и правильной жизни. Слабый ребенок, ты пошел по пути, указанному людьми равнодушными, или жестокими, или тщеславными. Бедный Корэдзуми! Будь я моложе, я взял бы на себя заботу о тебе. Но я так стал стар, что в любой день сам останусь без заработка. Бедный мальчик!
— Господин Юмэй, — спросил Корэдзуми, — как вы думаете, мог бы я стать зазывалой?
— Мог бы, мог бы! Актера из тебя не получится. Твои чувства владеют тобой, и ты не умеешь проверять их рассудком. Но когда, отдавшись восторгу, ты будешь кричать прохожим о великолепии ожидающего их зрелища, сам потрясенный, рассказывай, об актерах и пьесах, — всех захватишь и очаруешь.
— Господин Юмэй, — снова спросил Корэдзуми, — как вы думаете, хватит тогда моего заработка на двоих?
Но Юмэй ответил сонным, чуть слышным голосом:
— Тебе не будет тяжело, если я положу голову тебе на плечо и засну? Тебе не будет тяжело, сынок?




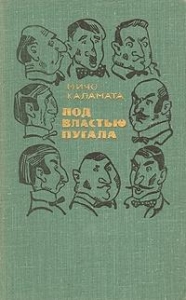
Комментарии к книге «Один рё и два бу», Ольга Марковна Гурьян
Всего 0 комментариев