Жорж Бордонов КОПЬЯ ИЕРУСАЛИМА
«Когда душу терзают огонь и тайное смятение, ее уже ничем не удержать, в страстях она не ведает пределов. Чем дальше, тем ярче разгорается этот огонь, душу охватывает неутомимая жажда опасности, покой претит ей безмерно; тронутое всепожирающим пламенем человеческое сердце обречено трепетать до тех пор, покуда смерть не остановит его».
Байрон1 ГИО — ОРУЖЕНОСЕЦ
Время от времени, кто-нибудь — чаще это были люди в летах — перебивал его:
— Гио, все это было так давно! Ты забываешь, что время идет. Дни юности встают перед твоими глазами как живые, когда ты рассказываешь о них. Однако жизнь меняется, и мы вместе с ней…
И тогда брови Гио неизменно хмурились, глаза темнели от гнева, и слышалось привычное:
— Времени не существует! Сколько можно вам повторять? Все это лишь дурные сны, что мучают слабые души тех, кто живет самим собой!
— Милый брат, скажи нам, как время может быть сном?
— Потому, что людские сердца и мысли, их пот и кровь, их надежды и печали, уходят и возвращаются. И героев, и святых на земле будет ровно столько, сколько жило и раньше. Призвание их — будь они прославлены или никому не известны — воодушевлять нас своим примером. Единый дух самопожертвования ведет их; они молятся о ниспослании его несравненной благодати; в нем их счастье.
Когда он хмурил брови, и глаза его блестели, подобно драгоценному сардониксу, а густая борода ниспадала, сливаясь с прядями непослушных волос, мелкие морщинки собирались на висках, и три глубокие борозды пересекали лоб и щеки, опаленные солнцем и ветрами, — он напоминал пророка Моисея, каким вытесывают его из камня для церковных порталов. Столь же удивительно широки были его плечи, мощно тело, заключавшее в себе едва сдерживаемую неистовую силу; огромным рукам его, казалось, более пристал меч, чем перо.
И тем не менее, в иерархии этой обители тамплиеров он занимал нижайшее место скромного оруженосца. Он упрямо отвергал белые одежды, рыцаря, не взирая ни на свои заслуги, ни на благочестие, ни на возраст, решительно не желая более возвращаться в мир. Ни объяснения, ни даже сколько-нибудь правдоподобной причины этого он не приводил. Но уважение, которое оказывали ему, могло сравниться лишь с почестями командора, а может быть, даже превосходило их.
Зимними вечерами или в короткие минуты отдыха все слушали его с благоговейным почтением, и глухим задумчивым голосом разматывал он нить своих повествований.
— Время, — повторял он часто, — не есть то, чем кажется. Сумею ли я вам когда-нибудь это объяснить? Если сравнить его с самым красивым деревом нашего леса…
— С Деревом-Фо?
— Облитый лунным светом, дуб этот кажется нам совсем иным, чем на самом деле. Каждая веточка предстает как бы одетой инеем, и мы невольно дрожим, поддавшись мимолетному впечатлению. А дерево-то остается прежним, со своей красноватой древесиной, покрытой корой, оно живет! Соки текут в нем подобно крови…
В деревне, под сводами обители, в лесной чаще во время дозоров поговаривали о том, что старый Гио был некогда вхож во дворцы, что, бряцая на лютне, он распевал там песни своего сочинения. А кое-кто из тех, что льстили себе мыслью о близкой дружбе с ним или же просто баловались чтением, так вот они утверждали — по дружбе, разумеется! — что это не кто иной, как Гио Провенский, слагатель чудных «Поисков Святого Грааля». Но когда его спрашивали об этом, он хмурился и бормотал: «Куда мне!» И правда: никто ни разу не застал его пишущим, разве лишь за перепиской орденского Устава. Но рассказывать он любил. Слова и образы струились из его уст подобно источнику в расщелине скалы.
— Как похожи на кровь древесные соки — в апреле они разогреваются, и дерево, охваченное жаром юности, зеленеет. Но лишь они замерзнут — оно теряет листву и умирает. В них — его жизнь. Соки поднимаются от сумрачных корней к стволу, по нему — к вершине, а оттуда — по бесчисленным ветвям к небесному сиянью!
— Ты говоришь, Гио, что дерево для тебя — картина времени, чем же тогда будут его соки?
— Если в моей притче есть смысл, то соки — это кровь, передающаяся от отца к сыну, сила, которая нас ведет и заставляет действовать. Это наша общая судьба, но в то же время и судьба каждого — тот долгий мучительный путь, что проходит любая тварь от тьмы к свету.
— Кто тебе это сказал?
— Ночь. Ты удивлен? Я любил ее как женщину.
— Любая женщина коварна и опасна для спасения души. Вспомни о нашем Уставе.
— Та, о ком я говорю, — самая чистая и нежная. Сколько раз помогала она мне на этом пути.
— Как это?
— Она уносила меня от самого себя. В ее нежном пении я парил ночной птицей, перелетая с ветки на ветку; легко и радостно переходил я от прошлого к настоящему. Люди, жившие давным-давно, становились мне близкими.
— Но почему же, Гио?
— Потому что я забывал себя, и в этом забвении мое существо множилось. Теряясь в неизвестных мирах, я вновь обретал себя… Когда в моих родных местах улыбается новорожденный младенец, женщины говорят, что он вспомнил звезды. Так и ночь — будь благословенна ее тишина! — возвращает меня в это первородное состояние. Она открыла мне, что эта бездонная пропасть, где кипят миры, рождаются мерцающие звезды, эти бушующие бездны, что мы носим в душе, — единое мерило, зеркало для нас самих — все это звездное небо. Ночь окрылила мою душу…
Он продолжал свою мысль:
— Прошлое не есть груда остывшего пепла. Это цветок, раскрывающийся от нежного прикосновения. Это трепет сумрака в гуще леса, вздохи надежд и разочарований. Все, что было, миновало — не умерло полностью. Если мы любим тех, кто был до нас, то и они платят нам тем же. Они входят в нашу плоть и кровь. Они глядят на мир нашими глазами, радуются нашей радостью. И одиночество поэтому — тот же обман, что и время: порыв души сокрушает его. И прибавлял, прикрыв темные, сморщенные, как у льва, веки, обрамленные прямыми ресницами:
— Я возлюбил все, что было и могло быть, все, что я видел или мог видеть, и прежде всего моего брата, человека: лишь в нем доступно лицезреть нам образ Божий. Та же ночь внушила мне эту любовь…
Его слушали. Одетые в плащи тамплиеров с крестами цвета крови на плечах, они были охвачены единым духом, ясным и безмятежным, всецело преданные служению Господу. Обитель укрывали темные своды деревьев, но старый седобородый кудесник раскрывал пред ними двери в неведомые небесные миры. Тот, кто просил для себя нижайшую должность брата привратника при представлении командору! Тот, кто, оставив седло, принуждал себя к самым тяжелым и грубым работам — и в саду, и в кузнице, и в мастерских! Сперва все решили, что он избрал эту обитель из девяти тысяч подобных, рассыпанных по всему королевству, только потому, что здесь его знали, и он мог бы пользоваться известными правами. Оказалось же, что одна лишь верность двигала его выбором. С изумлением все увидели в нем смиренника тише воды ниже травы.
Именно своим смирением покорил он сердца братьев храмовников. Исповеди же его ценились оттого не менее. Эти рассказы врачевали души, измученные осенью жизни, согревали опустошенные сердца, поддерживая в них спасительный пламень веры. Ради захожего странника или уступая просьбам новичка ему случалось повторяться, что ничуть не мешало слушателям, разве лишь несколько притупляло их любопытство. Старожилы выслушали эти истории по двадцать и более раз — истории о бедном славном короле и о местной девушке Жанне, которую еще помнили в округе. Рассказы о ней никому не надоедали — все знали, сколь дорога была она ему и что в ней — его горе и радость, а в его беспечальном сердце образ ее в который раз отзовется слезой и улыбкой. Все знали, что, в конце концов, именно из-за Жанны — хоть он и был тамплиером — постучался Гио в двери этой обители…
2 В ЛАНДАХ
— В то утро, — обычно начинал Гио, — я поднялся до зари и тронулся в дорогу. Не по своей воле! По пути из Нанта на меня напали двое разбойников, переодетых паломниками, — это были грабители из шайки Кокильи. Они оглушили меня и обобрали дочиста, и все это было бы не так уж и страшно, но они увели мою лошадь, что ввергло меня в бездну отчаяния. Сколько еще лье предстояло мне пройти!
Справившись с приступом горя и уныния — вполне простительными в моем положении, — я смирился со злой судьбой и вскоре нашел кров у виноградаря. Меня утешил глоток доброго старого вина, а потом сладкий сон в тепле сеновала. Так я и отправился ранним утром тою дорогой, что указал мне виноградарь. Про запас у меня имелась лишь горбушка хлеба да кусок сыра с бутылью вина, которыми снабдил меня этот великодушный человек.
На голове у меня была нахлобучена шапка, на плечах — плащ из грубой шерсти, на боку — котомка. Грабители оставили мне пояс и меч, хоть ножны были из доброй кожи с медными заклепками; они забрали только бирюзовый камень с наконечника, цвет которого напоминал мне небо Иерусалима и радовал глаз.
За весь день пути я не встретил ни души! На этих бесплодных землях, заросших чахлой травой и колючим кустарником волчьих логовищ, хозяйничала лишь тишина да проплывающие мимо облака. Эти облака, бегущие по небу над выжженной землей и каменистыми холмами, становились все темнее и мрачнее. Дождя не было, но ветер хлестал меня по щекам своим ледяным дыханием. Стаи ворон кружили тут и там над какой-нибудь падалью, или подстерегая гибель раненого животного, готовые тут же напасть и растерзать его. Я торопился. Из побега орешника виноградарь вырезал мне по росту гладкий и ровный посох. Я не привык к нему; эта палка мне скорее мешала, чем помогала. Однако избавиться от нее я не решался.
Около часа пополудни — так мне казалось, ибо бледное, будто бы обсыпанное мукой солнце проглянуло лишь на мгновение, — я устроил себе привал, чтобы съесть хлеб и сыр, запив их из бутыли. Опасаясь быстрого наступления ночи, снова пустился в путь. Я бы слишком быстро заледенел на таком холоде, лишенный всякой защиты, если не брать в расчет увядшую траву и плоские камни.
Ноги мои горели от усталости: они же привыкли к стременам, а не к булыжникам. Боль поднималась все выше и выше и охватывала колени. Чтобы придать себе духу и терпения, я вспоминал пилигримов, бредущих из Сен-Мишель-о-Периль в Рокамадур, оттуда — в Сантьяго-де-Компостелла, потом — испросить благословения у папы римского, чтобы отплыть в Иерусалим. Днем и ночью, весной и осенью, годами они напрягают все свои силы, чтобы получить исцеление, возблагодарить Господа Бога за явленную милость, или получить отпущение грехов. И голод, и жажда, и страх, и эта боль в мышцах, и мозоли на ногах, и эти тяжелые тучи, эта бескрайняя равнина — все им знакомо, все изведано. Какими счастливыми они себя чувствовали, если вечером удавалось найти добрый кров, тепло душевной беседы, сеновал для сна! Счастье вдвойне — уснуть среди домашних животных, в тепле их дыханья!
Эти мысли ненадолго развлекли меня. Я был еще молод и вспыльчив, досадовал на себя, что, обманувшись видом странников, не успел даже выхватить меч для самозащиты. Потом я стал упрекать себя за излишнюю доверчивость к виноградарю. Повстречаю ли я всадника, что возьмет меня на круп лошади, не догонит ли меня телега, едущая в деревню, о которой говорил виноградарь? И где она на самом деле, та деревня?
Я все шел и шел, а за окружавшими меня пригорками и кустарником открывались все такие же унылые холмы, столь же голые и пустынные. Немного спустя стали попадаться деревья, расщепленные молниями и выбеленные ливнями. Этих древесных скелетов становилось все больше и больше. Трава стала выше и гуще, но уже падали сумерки. Мне почудилось, что на вершине холма я различаю неподвижную фигуру пастуха, застывшего среди стада. По обычаю этих нелюдимов голова его была опущена вниз. Мне показалось, что лохматая собака бегает вокруг, сгоняя в стадо отбившихся овец; без сомнения, она встревожена моим появлением! Пастух этот был всего лишь стоячим камнем среди кусков гранита, отполированных ветром за многие столетия.
Я вспоминаю все эти пустяки, чтобы вы почувствовали всю странность обстоятельств, чтобы поняли, как против нашей воли и вне слабого сознания сплетаются нити событий. Сейчас-то я знаю, во имя чего я должен был подвергнуться нападению лжепилигримов, воспользоваться гостеприимством виноградаря, брести по долине; тогда же я этого не знал. А между тем все имело причину, тончайшее обоснование: и угнетавшая меня усталость, и то мучительное чувство заброшенности…
Потом, когда боль сковала уже мои бедра, я воззвал к моей лошади — и не про себя, а громко, во весь голос:
— Где же ты, мой дорогой товарищ? Что сделали с тобой эти злодеи? Куда увели тебя? Как плохо мне без тебя… Вот уже больше доброго десятка лет, как ездим мы с тобой вдвоем, и ни разу я не пожалел об этом! Когда я засыпал на земле, завернувшись в твою полосатую попону, ты спал рядом, и если я медлил открыть глаза при звуке трубы, ты касался моей щеки влажным языком. Когда мы оказались в горах, вечно покрытых снегом, хотя вокруг них простирается раскаленная пустыня, я ложился между твоих ног и с благодарностью в сердце принимал тепло твоего тела. Какой бы огромной ни была опасность предприятия, я ободрялся, сжимая ногами твои шелковистые бока. Шерсть твоя лоснилась от пота. Я чувствовал под собой жизнь большого, близкого существа. Я слышал свист воздуха, входившего в твои легкие, гул крови в венах. В дни печали, когда наши войска были сметены эмирами — сворой алых тюрбанов, пестревших подобно вишням в листве дерева, нежный блеск твоих глаз в ночи возвращал мне надежду. Ты говорил мне: «Мы живы!» Ты всегда благодарил меня за ведро свежей воды и торбу овса. Если объявляли прибытие какого-нибудь принца, или же иное празднество, я изо всех сил начищал твою шерсть и заплетал хвост. Я был бедным оруженосцем и не имел слуги для этого, но когда посреди церемонии ты радостно ржал — это вознаграждало меня за труды. Ты был прекраснее всех! Двадцать раз мне предлагали продать или обменять тебя. Возможно ли это? Пригоршню золотых монет за твою дружбу! Я не Иуда, я твой хозяин. И в тот вечер, когда мавры застали врасплох и ранили меня, ты отбивался зубами и копытами как настоящий воин, жертвуя жизнью во спасение своего собрата по оружию. Когда в твою грудь вонзилась стрела, я истратил все мои сбережения на снадобье, сам лечил тебя, стараясь увидеть в твоих глазах хотя бы проблеск жизни. Уже страшная серая пелена заволакивала их, и, целуя тебя в лоб под жесткими волосами гривы, я закричал, заклиная тебя жить. Ты услышал. Твое сердце превозмогло холод смерти, и ты выздоровел. О конь, друг мой, если верно, что ваше племя обладает памятью, вспомни обо мне! Найди меня! Ты достаточно силен, чтобы уйти от твоих похитителей! Как можешь ты нести на себе этих лжепаломников, стать сообщником их злодеяний — гордый боевой конь?! Может быть, ты думаешь, что я умер? Увы, я в дороге и в горькой печали о тебе, о единственном моем достоянии.
Тут я обернулся, — мне почудился его топот, померещилось облако пыли под копытами: позади клубился лишь вечерний туман, дыханье земли клонящегося к концу дня…
И тогда, почувствовав себя лишенным последней поддержки, я зашатался. Неверный отблеск освещал вершины ближайших холмов, дальние едва синели в полумгле. Вороны, упустив свою жертву, каркали над моей головой. Поднялся пронзительный ветер, ножом разрезавший воздух. Ночь еще не вступила в свои права, и я продолжал идти, хромая все сильнее и сильнее. Я осознал, наконец, пользу и необходимость дорожного посоха. Скоро сухие камни сменила влажная глина, тут же облепившая мою обувь. Мне показалось, что долина не хочет выпускать меня, что сейчас я увязну в какой-нибудь рытвине, я даже желал такого конца, с условием, чтобы он наступил быстрее.
Между тем, среди сгущавшихся теней мои усталые глаза заметили длинную темную полосу вашего леса, ряд соломенных крыш над прудом, деревенскую церковь и, на крутом склоне, белеющее пятно вашей обители. Я опасался поддаться миражу, как это бывало в долинах Святой Земли. Однако передо мной возвышался железный крест с владельческим щитом, на нем был различим лев с разинутой пастью и выпущенными когтями. А как сказал мне виноградарь, деревня называлась Сенпьер-Молеон! Был ли это тот самый лев, о котором он говорил? Тропинка, начинаясь у подножия креста, пересекала лес и поднималась к стенам укрепления. Ночной сумрак охватывал окрестности, туманил мою голову.
Я остановился на перекрестке, не решаясь выбрать дорогу. Отрешенно смотрел я на струйки дыма, подымавшиеся ввысь из труб, на туман, встававший над водой и медленно заволакивавший дорогу и дома. Мне показалось, что деревня уплывает от меня за горизонт. Я побоялся заблудиться. Несмотря на поздний час, лесная тропка выглядела короче и надежнее. Я отправился по ней. Не успел я сделать и нескольких шагов, как услышал голоса, которые, казалось, звали меня. Наверное, я испустил крик, потом все смешалось и потемнело; я видел лишь вспыхивающие, мигающие, кружащие вокруг меня горящие красным светом глаза…
Очнувшись от кошмара, я увидел сову, сидящую на низкой ветке. Она кричала, не сводя с меня глаз. Ее серое, в черную крапинку оперение странно врезалось в мою память. С трудом поднявшись, я нащупал на земле свою палку. Колени мои хрустели, как пучки соломы, но, однако, еще слушались меня. Я почувствовал себя лучше, бодрее. Луна мерцала сквозь сплетение ветвей и отражалась в лужах тропинки, бегущей к зубчатым стенам. Поблескивала кровля башенки. Я был спасен!
3 СЕРЖАНТ ЮРПЕЛЬ
Это было небольшое укрепление с хорошо защищенной шестигранной башней. Двор окружала толстая стена с бойницами и частокол из заточенных бревен. Деревья вокруг на большом расстоянии были срублены. Вдруг совсем рядом с моей шляпой просвистела стрела: приближаясь, я не пытался укрыться, а напротив, выбирал освещенные места. Из-за зубца показалась голова в шлеме:
— Человек, кто ты? Отвечай!
— Пеший паломник, прошу пристанища и пропитанья.
— Откуда ты?
— Из Нанта.
— Куда направляешься?
— В Иерусалим, морским путем. Сейчас я иду в Марсель.
— Значит, ты идешь в Иерусалим?
— Я возвращаюсь туда.
— У тебя меч!
— Я отдам тебе его.
— Как знать.
— Хочешь, я брошу его тебе, перед тем как войду?
— Подожди.
Больше не было слышно ничего, кроме свиста ветра в ветвях. Три сосны, стоявшие поблизости, качали своими мохнатыми кронами, как черными плюмажами. Вдали слышался протяжный вой. Вороны, как видно, следовавшие за мной, с карканьем кружили над головой. Обитатели дома — старик-хозяин, его дети, слуги и солдаты ужинали, сидя за длинным столом. Они припозднились из-за долгой охоты на оленя. Все молча ели, когда Юрпель, сержант маленького гарнизона и доверенное лицо хозяина, заглянул в дверь:
— Хозяин, человек у ворот просит приютить его.
— Кто он?
— При оружии, но в плаще и шляпе пилигрима.
— Куда он идет?
— В Иерусалим. Он обещает бросить меч, если его впустят.
— Отец, — сказал Рено, — не будьте легковерны. Вокруг полно этих негодников. Все они из одной банды, и орудует она как раз в окрестностях Нанта.
— Я знаю. Но этот может оказаться настоящим паломником, заблудившимся в Ландах. Мы не должны оставлять его на съедение волкам. Впусти его, Юрпель. Возьми его оружие и приведи сюда.
Этот диалог, переданный мне впоследствии во всех подробностях, замкнул кольцо судьбы. Я повторяю вам, что все было взвешено, отмерено, сказано во зло и во благо! Быть может, знай я заранее, что за этим последует, я предпочел бы остаться в лесу с волками. Когда я уж потерял надежду на то, что мне откроют дверь, и вознамерился влезть на какой-нибудь дуплистый дуб, собрав для этого свои последние силы, створки ворот вдруг тихо растворились.
— Бери мой меч, по уговору.
Двор был вымощен грубым булыжником. В каком-то сарае лаяли собаки; кудахтали куры, разбуженные шумом наших шагов. Этот дом был не из бедных! Десять свечей горели в красивых кованых канделябрах в форме лилии. В очаге пылал узловатый дубовый сук, отблески пламени плясали по стенам. Слуги хлопотали. Мне понравилось, что хозяин ужинал среди чад и домочадцев, по обычаю стародавних времен. Здесь были земледельцы и дровосеки, подстриженные в кружок; еще кто-то вроде церковного служки с угловатым лицом, тонкими губами и язвительным взглядом; солдаты в кольчугах на волосатой груди, с усами, вымоченными в вине и супе; наконец сам старый хозяин с двумя детьми, Рено и Жанной. У рыцаря Рено было шафранного цвета лицо, серые глаза, молодая бородка, тщательно расчесанные шелковистые волосы. У Жанны я мог разглядеть сперва только лоб, брови и подобные морской воде глаза изменчивого серо-зеленого цвета… Потом — улыбнувшиеся мне пухлые алые губы; потом — невиданный, удивительный ореол волос во всем их юном блеске. Казалось, эти золотые нити сработаны ювелиром — их хотелось потрогать рукой, чтобы узнать, из чего они сделаны.
Место по правую руку от хозяина было свободно: по традиции, оно отводилось нищему, незваному гостю, пришельцу, принять которого здешние люди всегда были рады, видя в нем образ Христа Спасителя. Именно туда меня и усадили. У хозяина был совершенно лысый, блестящий, как яйцо, череп, но на скулах и под носом курчавилась растительность цвета беличьего меха; мясистые щеки выдавали в нем бонвивана. У него были светлые глаза с прожилками на белках. Под холеной кожей рук вздувались синие вены. Во рту недоставало двух зубов. Он спросил:
— Как твое имя?
— Гио, мой господин.
— Откуда ты?
— Сейчас — ниоткуда, если не считать Иерусалима. Там моя земля.
— Я знаю.
— Король Бодуэн послал меня во Французское королевство, чтобы…
— Ты голоден. Подкрепись сперва, потом отдохни. У нас есть время.
Служанка поставила передо мной миску ароматного супа и наполнила вином точеный бокал самшитового дерева. Она улыбалась и, как бы извиняясь, говорила:
— К вашим услугам, добрый странник. Благословите меня!
Как голоден я был! Сидя спиной к очагу, я ощущал, как блаженное тепло охватывает меня после всех дорожных тягот и горестной пропажи коня! Жанна смотрела, как я ем; она перестала улыбаться, лицо ее потемнело: она поняла, она почувствовала мое отчаяние и все тяготы целого дня пути. Рука ее, лежащая на скатерти, чуть дрожала. Ногти ее длинных пальцев напоминали тончайшие раковины, что попадаются в песках Тира среди водорослей и вымытых обломков древесины. Она не сводила с меня глаз. Рено же, видя мой ненасытный голод, покачал головой и отпустил ироничное замечание. Жанна встревожилась, а старый хозяин, как бы извиняясь за молодость своего сына, положил руку на мое плечо. Мне дали сало, и я проглотил его с тою же прожорливостью. Свой кубок я опорожнял так, будто умирал от жажды. Мое усердие удивило эти простые души; солдаты не подавали виду, но женщины были явно растроганы моим несчастьем, одна из них даже перекрестилась. Мне было совестно привлекать столько внимания к своей особе, обходительность старого лысого сеньора меня смутила. Не решаясь начать беседу, пока я не наемся, ни слова не говоря, он наблюдал за мной так, как будто бы голод мой был для него неким неизвестным мне предзнаменованием.
Рожок протрубил ночной обход, солдаты и слуги поднялись и с сожалением откланялись, благословляя хозяина, его детей и даже меня:
— Доброй ночи, господа. И тебе, странник!
Остались лишь две молоденькие и разбитные служанки, пожиравшие глазами Рено. Хозяин сказал:
— Ну, чужестранец! Вот кресло, садись, грейся… Или ты хочешь отдохнуть?
В моих жилах разливалось вино с перцем; я был готов хоть сей же час снова отправиться в путь.
— Ты говоришь, что король Бодуэн доверил тебе некое поручение?
— Да, мой господин, как и многим другим. Я должен был доставить послание Людовику VII[1], королю Франции, и просить его о том, чтобы он нашил крест на свою мантию. Я видел также Бретонского герцога и ему передал ту же просьбу.
— Принять на себя крест?
— Да, мой господин.
— Король Людовик Седьмой уже побывал в Святой Земле, и с тех пор на Францию сыпятся неисчислимые бедствия. Говорят, что лучшая часть королевства скоро отойдет Англии. Мы же, живущие здесь, принадлежим герцогу Бретонскому.
— Я знаю лишь одно, мой господин. Огромная угроза нависла над Святой Землей. Она не принадлежит ни французам, ни англичанам, но — христианам, детям Божьим. Все остальное не важно, все минует, промчится, как птица в небе, облако в небесной лазури…
— Но мы-то останемся во Франции, чужеземец. Нам нужно заниматься нашими провинциями, нашими людьми.
— Пока неверные враждовали между собой, грабя друг друга, Иерусалимское королевство могло еще как-то существовать. Вся забота владетельных князей, правивших после Годфруа Бульонского, состояла лишь в разжигании распрей среди наших противников. Но вот над Востоком взошла черная звезда Саладина[2], великого султана. Он окружил наше маленькое королевство, захватив власть в Египте и взяв Дамаск. В Иерусалиме сейчас правит король Бодуэн Четвертый, шестнадцатилетний юноша. Амори, его отец, слишком рано умер. Лишь этот младенец охраняет сейчас от Саладина и Гроб Господень, и Голгофу, место святых Страстей Христовых… Все это, мой добрый господин, я должен был объяснить королю Франции и Бретонскому герцогу от имени моего короля Бодуэна, передавая его просьбу о помощи в деньгах и в вооруженных воинах.
— Ты многого добился?
— Мне достались красивые слова да обещанья, едва скрывавшие неприязнь. Дух крестовых походов угас…
— Не падайте духом, странник, — сказала Жанна. — Бог возбудит этот дух, сотворит многие чудеса во спасение королевства. Лучше расскажите нам о Иерусалиме. Пожалуйста!
— Этот город раскинулся по холмам, подобно лежащему оленю. Я не видел на свете ничего более прекрасного, чем это небо цвета драгоценного камня, это множество богатейших церквей. Этого не забудешь, как не забудешь ту самую оливковую рощу, где молился Спаситель в последнюю ночь перед предательством…
Мы пили подогретое вино. Всю мою усталость как рукой сняло. Рыцарь Рено перестал улыбаться, он заметно оживился. Я продолжал:
— Они не понимают, что там ждет их несравненная слава! Они лишь украшают перьями свои шлемы, золотят щиты, наряжаются в пух и прах, чтобы сражаться на турнирах! Это грех гордыни, самой низменной притом! А там сражение идет во имя веры, это надежный способ заслужить жизнь вечную и, кроме того, завоевать плодородные земли во славу и к пользе Господа.
Беседа затянулась далеко за полночь, Рено все расспрашивал меня о возможностях поживиться; Жанна — о красотах Иерусалима и о его шестнадцатилетнем короле; старый хозяин — об ослаблении франкского королевства под натиском Саладина.
По какой-то странной причине, ни в ту ночь, ни много позже, я ни словом не обмолвился о болезни короля Бодуэна, о той единственной смертельной опасности для королевства, молчать о которой заставлял стыд. Когда сон, наконец, охватил меня, старый хозяин сам проводил меня на ночлег. О, это была удобная кровать, а не куча соломы в хлеву.
4 ВАСАНСКИЙ КОНЬ
Ночь шла своим чередом. Луна плыла по прояснившимся, усыпанным звездами небесам. Деревья, схваченные морозом, чуть потрескивали. Зябкие птицы сбились в кучу, чтобы сохранить то тепло, что еще у них осталось, но мороз пробирался сквозь перья, впиваясь в их нежную белую кожу. Белки устраивались поудобнее в своих дуплах; они не боялись холода, запасшись орешками, которых им хватит до весны, и выглядывали наружу лишь для того, чтобы полюбоваться редким солнечным лучиком. Барсуки спали парами в глубине своих нор. Хорьки, куницы и ласки бродили с пустыми животами в поисках добычи. Лисы, приветствуя друг друга саркастическим смехом, спускались к деревне в надежде добраться до курятника. Совы на своих бархатных крыльях перелетали поляны; их тени скользили по мхам и обледенелым листьям.
Сколько же лет, увенчанная зубцами, возвышалась эта башня в самом сердце густого леса, защищая покой счастливого семейства? Под двускатной крышей дома кто-то спал, а кто-то и бодрствовал. И это были не только стражники, несшие караульную службу. Сквозь витражи часовни проникал слабый желтоватый свет. Тонкий лучик падал из трехлепестковой прорези ставня. Ночной сторож с удивлением смотрел на это необычное освещение. Пронзительный ветер дул из-за зубцов башни. Над маленькой жаровней можно было погреть руки, потом снова вернуться на свой пост. Что могло случиться такой ночью? Кто отважится выйти в лее, кроме разве заблудившегося странника? Вдали, насколько хватало глаз, вставали стволы деревьев, растущих так тесно, что их сухая листва сливалась в густой, темный, курчавый войлок. Месяц опускал к горизонту свои острые рожки. Человек отошел от амбразуры, заглянул во двор и снова посмотрел на огни в часовне и за ставнями. Жаровня, вспыхнув от налетевшего порыва ветра, осветила ярко-красным светом складки пелерины, в которую он завернулся от холода, и капюшон, надвинутый на шлем. Ступени винтовой лестницы заскрипели. Стражник насторожился, крепко сжав в руке лук. Было время обхода; сержант Юрпель не жаловал сонливых. Он тоже облокотился о зубец башни и проговорил:
— Хозяин молится Богу и девица жжет свечку.
Он глубоко вздохнул. Стражник отлично видел, что тот не прочь поговорить, что слова так и вертятся у него на языке, но, уж конечно, чесать-то им не след. Но он все-таки отважился спросить:
— Занятный малый этот пилигрим, а?
Юрпель пожал плечами и переменил тему:
— Если холода продержатся, завтра выпадет снег.
— При таком ясном небе?
— Тучи находят с рассветом.
— Возможно. Мне снег слепит глаза. Через какой-нибудь час я уж ничего не вижу. Моя стража в снег — пустое дело!
— Да ты уж отдежуришь к тому времени!
— Э! Иногда он лежит всю неделю и даже дольше. Дойдет и моя очередь.
— Дойдет!
— Вот бы узнать, почему хозяин все молится, он ведь строг насчет порядка, да и вздремнуть любит — возраст требует!
— А ты у него сам спроси.
— И именно сегодня! В часовне-то холодно, как на улице!
— Протри глаза! Твоя смена пока не кончилась, а я еще загляну к тебе!
Пока Юрпель спускался, воин ворчал себе под нос:
— Загляну-загляну, а сам-то спать пошел, в тепло! Ну, кончайся же, чертова ночь, нагляделись уже на тебя! Чтоб ты сдохла!
Часовня вряд ли заслуживала своего наименования. Она заключалась в выбеленных известкой стенах, перекрытых размалеванным дощатым сводом. Украшением служило единственное древнее распятие, которое местный умелец грубо наметил в стволе дерева, сохранив местами наплывы коры. Кроме него, была еще одна деревянная статуя, исполненная с несколько большим тщанием; она изображала крестоносца, обнимающего жену. Он, в остром шлеме, и она, закутанная в свою вуаль, — пара стариков, прижавшихся друг к другу в порыве сдержанной, безгрешной нежности, трогала за душу. Так было представлено возвращение из Иерусалима: отец и мать господина Анселена, весьма обедневшие, но несказанно богатые взаимной любовью, не чаявшие ничего иного, кроме врат райской обители.
Алтарь был сложен из позеленевших камней и накрыт плитой с вырезанным на ней крестом. Вот и все… Нет, я забыл шлем, щит и меч старика отца, посвященных им святой церкви. Истертые плиты каменного пола были столь же влажны, как и камни снаружи. Еще там стояли три скамьи и кресло с кожаной спинкой. Анселен зажег свечу и сел в кресло. Подперев рукой подбородок, он глубоко задумался…
Не удивляйтесь, милые братья, если я поведаю вам мысли каждого, кто был там в ту достопамятную ночь. Один за другим, не исключая и рыцаря Рено, все они поделились ими со мной.
«Дни мои пролетели, как облака, — размышлял старый хозяин, — минуты радости неслись на всех парусах, а горе замирало в невыносимом безветрии. Я был молод и полон задора, кровь переливалась в моих жилах, смелые мысли… О, старый мой отец! Ты, обнявший мать мою как невесту, только ты достиг истинного счастья и отошел в иную жизнь с верой и умиротворением. Да, надо быть слепцом, чтобы не завидовать тебе, не стремиться подражать во всем! Через месяц, день в день, умерла и она, и какое ликование, какая улыбка облегчения осветили ее измученное лицо! Я упрекал тебя за то, что ты продал столько земельных наделов, так ослабил наше былое могущество, и все для того, чтобы снарядить воинов, отправиться воевать в такую даль и вернуться, покрытым славой и святостью, но почти разоренным. Я же пустил корни здесь, вместо того, чтобы внять могучему голосу, неотступно взывавшему ко мне. Я истратил лучшие годы жизни, чтобы скопить золото и выкупить все, что ты продал. Как скупец, я сократил дворню, отказался от лошадей и собак, от нарядов и драгоценностей; я перестал выезжать и был всеми забыт. Любовь могла еще спасти меня и вернуть к жизни. Но рождение Рено и Жанны стоило жизни их матери. Больше я не женился. Все шло по-прежнему. Но иногда во мне просыпалась ваша кровь, и старые рыцарские сны обступали меня, и тогда я вскакивал в седло и мчался куда глаза гладят, чтобы ветер скачки прогнал из моей головы эти образы. Мало-помалу природа, снисходительная к нашему брату, сделала свое дело, и я успокоился. Волосы мои поседели, потом выпали. Но можно ли вообразить существование более жалкое, чем мое? Я вызываю лишь сострадание, и если вы спросите меня: „Анселен, что сделал ты в жизни?“, я отвечу, как на духу: „Ничего“. А между тем, это „ничего“ именуют здравым смыслом. У меня просят совета. Мне внимают, меня чтят. И все лишь потому, что я убелен сединами и отвечаю не торопясь! Еще говорят, что я никому не причинил зла. Что бы это значило?.. И вот в этом уютном обжитом небытии, на которое я сам себя обрек, что-то случилось, вы слышите меня?.. Появился этот человек! Этот пилигрим! Он, избежавший стольких опасностей, повидавший короля Франции и нашего Бретонского герцога, по пути из Иерусалима попадает именно в мой дом… Именно к нашей двери привела его невидимая рука… Очень странный человек… Усталый и измученный, он светился внутренним огнем. Он окинул взглядом всю комнату и стол, уставленный яствами, и людей, и пылавший камин. Он был счастлив, но душа его кипела от нетерпения… Вы слышите меня?.. Он принес с собой другой воздух, другие мысли, другой образ жизни — и у меня перехватило дыхание! Этот счастливый вечер в его жизни — мгновение, завтрашний день не застанет его здесь. Внимая его речам, я все больше и больше проникался симпатией к нему, и стыд за мое бездействие все сильнее мучил меня. Я чувствовал, как прежняя, давно оставившая меня лихорадка, таинственным образом возвращается ко мне… Он говорил о юном шестнадцатилетнем короле, противостоящем султану Египетскому, о нуждах нашей бесценной Святой Земли, о близкой потере Гроба Господня, и слезы застилали мои глаза… В одну секунду рухнула вся моя жизнь. Каждое его слово пробивало брешь в той твердыне обмана, что я возводил с таким старанием, пребывая под властью иллюзий и обольщения. Когда он произнес: „Мне достались одни красивые слова да обещания, едва скрывавшие неприязнь. Дух крестовых походов угас“, я принял его презрение на свой счет. Господи, Боже мой, суди люди Твоя, вот я весь пред Тобой. Вера моя тепла, а Ты отвергаешь таких. Тебе дороги ледяные иль пылающие, а я не из таких — я всего лишь пресыщенный старик, страдающий от несварения…»
Огромные всевидящие глаза Бога смотрели с распятия на его лысую голову в венчике седых волос. Кожа ее была розовой и такой гладкой, что блики от свечи весело плясали на ней. А внутри, в этой костяной коробке, как цыпленок в яйце, мучительно зарождалась всепоглощающая мысль, дававшая этой жизни цель, смысл и назначение.
Анселен преклонил колени, задрал бороду к резному лику. Терновый венец, никогда прежде им не замечаемый, поразил его: он был сплетен из настоящих черных колючек.
— Господи, Боже мой, неужели они оставят Твой Святой Гроб?.. Можно ли помыслить о таком позоре?.. Шестнадцатилетний король пред лицом неверных, пред ненавистью Саладина… Тюрбаны алеют, как вишни в листве!.. Места Твоих Страстей поруганы и осквернены!.. Знать бы, о, если еще не поздно…
Он начал молиться. Капли расплавленного воска падали на его одежду; он не замечал этого. Но когда холод сковал его ноги, он поспешил подняться и снова на какое-то время сел в кресло; он был изнежен и прихотлив.
Жанна все не гасила свечку. Волосы, рассыпавшись по подушке, делали лицо ее совсем маленьким, и оно казалось почти детским. Я говорю так потому, что много позже часто видел ее спящей. Именно меня посылали будить ее, когда она была нужна тому, кто стал ей дороже всего на свете. Глаза ее были открыты — глаза, изменчивый цвет которых я пытался определить так долго: то они казались мне голубыми, то серо-зелеными, то золотисто-коричневыми. Ее кровать с точеными колонками и тяжелыми занавесями была покрыта кусками меха, сшитыми вместе наподобие шахматной доски. На маленьком столике горела свеча, рядом лежал Часослов, с которым она не расставалась…
В ее мечтаниях не было ни горького неистовства, ни отчаяния мыслей ее отца. Ничем не омраченные, по-весеннему свежие чувства и помыслы владели всем ее стройным существом; пагуба не коснулась их. Восторг, великодушие легко и естественно вспыхивали в ее сердце.
«Здешние девушки, — думала она, — не могут понять слов и устремлений этого человека. Замуж они выходят лишь для того, чтобы получать золотые безделушки, платья-блио, расшитые цветами и птицами, пояс благородной дамы красной кожи с драгоценными камнями. Неважно, что муж еле таскает свое брюхо на петушиных ножках и нос его покрыт прыщами, лишь бы домен его был из значительных и толпа восторженных вассалов целовала бы вновь окольцованную руку! Что же касается меня, то пусть мой супруг будет беден, только бы отвага его вызывала зависть… Гордячка!.. Гордячка!.. С ума сошла от гордости! Такой тебя погубит, говорила нянька… Здешние думают, что лучше их мест нет и в помине, а дома красивее всего, что когда-либо строилось… Но там, в том городе, что раскинулся по холмам подобно лежащему оленю, в Иерусалиме… В ИЕРУСАЛИМЕ!.. Тамошние женщины не ждут, пока виконт или герцог пригласит их на турнир, а потом на танец. Их мужчины задают настоящие сражения. А женщины молятся за них. Жизнь их — сплошное мучение, но они чувствуют свою необходимость. Встречая, они любят и утешают. В их объятиях мужчины вновь обретают надежду. Там, у них, нет этого Людовика Седьмого, короля, который из-за безрассудных выходок теряет провинцию за провинцией, потому что не смог удержать Альеонору на прямой дорожке. У них — шестнадцатилетний король, и с ним стремя в стремя они сражаются с темными демонами. Это страна Христа Спасителя. Там — пальмы и оливы, песчаные пустыни, где скачут всадники на резвых конях… Они охотятся не на вепря. У них нет времени для дрессировки охотничьих соколов! Они мчатся в пыли, под палящим солнцем. Они возводят белоснежные дворцы — нисколько не похожие на те неуклюжие домищи, где сложены мешки с зерном, бочки и соленые свиные окорока… Ах, Жанна, не верь, не верь этому гостю! Ты склонна к фантазиям, и он обольстил твое воображение. Иерусалимские женщины такие же ничтожные бездельницы и обманщицы, как и здешние! Те же трусы встречаются среди мужчин… Иерусалимскому королю всего шестнадцать лет! Как может его молодость противостоять алчности и умудренности Саладина! Спаси его Господь! А что же ты, Жанна? Что будешь делать ты, когда угаснет твоя красота, о которой все говорят? Какой женщиной будешь ты в замужестве? За тобой ухаживают. Многие стараются сорвать твой поцелуй, заручиться обещанием. Ты не богата; ты не спешишь с выбором; но еще чуть-чуть и будет слишком поздно: расцветет красота других девушек и к ним отойдет твое первенство… Я не знаю, чего я хочу, но только не того невыносимого существования, что влачат здешние женщины в подчинении у мужей, которые лишь охотятся, пьют и бегают за служанками, когда им надоедают жены! Невыносимо жить без цели день за днем под этим серым небом: осень, зима, весна, потом лето, и снова осень!.. Быть никчемной, ненужной, потому что и мужу ничего от тебя не нужно, кроме сына, чтобы увековечить его бесславное имя! Никогда не совершить ничего из тех великих дел, что хранит память многих поколений людей, что из жизни делают житие! Из всех наших мужчин найдется ли хотя бы один, кто отважился пойти дальше предела своих желаний, кто хотя бы задумался об этом?..
Больше всех меня любит Ги де Реклоз, и мне он наименее неприятен. Но он колеблется с предложением, все высчитывает, каково будет мое приданое. Эта нерешительность оскорбляет меня! Смогу ли я с такой горечью на сердце разделять его ложе? Чтобы разузнать, сколько за мной дадут, он расспрашивал наших людей; со мной он ведет себя осторожно, но когда я слышу скрип его тяжелых сапог, я презираю его… Если бы я была религиозна, и вера моя была бы достаточно сильна, а жизнь в миру — несчастна, то я ушла бы в монастырь и служила бы лишь Богу. Увы, я не святая и не хочу ею быть. Слишком горячая кровь течет в моих жилах. Я была бы плохой послушницей… Во мне даже нет того духа самопожертвования, который мог бы все исправить. Я не смогла бы отказаться от надежды на неведомое. Мне кажется, что жизнь может быть так прекрасна…»
В соседней комнате, лежа в темноте, брат ее также предавался размышлениям:
«Мы слишком бедны, и он решил зря не тратиться, — еще бы — три лошади и новое вооружение. Отец, посвящая меня в рыцари, специально выбрал для церемонии нашу часовню, а не деревенскую церковь. Свидетелями моего посвящения были сержант Юрпель, наши солдаты, да крестьяне. Ну и дела! Если бы я получал доспехи у герцога, как Ги де Реклоз, меня бы узнали; наше старинное имя вышло бы наконец из забвения, в которое его погрузила бедность; герцог заметил бы меня. Получив какой-нибудь фьеф[3], или же хорошую службу, я мог бы выгодно жениться. Отец же не дал мне ничего, кроме меча, да и тот слишком стар, непригоден. И что мне делать в Сен-Пьере — разве что взимать аренду, управлять доменом, следить за порубками леса да охотой добывать пропитание домашним? У нас нет даже приличной посуды, чтобы с честью принять друзей… Если этот сумасшедший не врет, и если есть на свете справедливость, Господь Бог мог бы и вернуть нам то, что было Ему отдано — добро, пожертвованное во имя службы ему.
Этот бродяга утверждает, что, кроме славы, там можно захватить и обширные плодородные земли. Юнцы, младшие в семьях, без гроша за душой, оставшиеся там, получили титулы князя Тивериадского, графов Триполи или Эдессы, канцлеров и коннетаблей[4]. Жалкие церковные служки стали архиепископами и патриархами; у себя они бы остались звонарями, а принцы дрожали бы над своим клочком леса или над тремя арпанами[5] виноградника! Там же они живут во дворцах на берегу моря, окруженные рыцарями и мавританскими рабами. Здесь пора приключений прошла… Но это в том случае, если Гио говорит правду. Но зачем ему врать? Иерусалимскому королю шестнадцать лет. Мне — чуть побольше. Мы бы смогли договориться…»
А я, утомившись, спал мертвым сном, без мыслей и сновидений. Но, как я уже говорил, та ночь не могла пройти без чудес. Перед самым рассветом на башне протрубил рожок. Заскрежетали створки ворот, раздался и быстро смолк смех, послышались голоса, цоканье копыт по мостовой, ржанье, которое я тотчас же узнал. Я вскочил и выбежал во двор в одной рубашке. Там, среди солдат и слуг с фонарями в руках, стоял васанский конь. Он нашел меня, пройдя тот же путь через лес. Он бился со своими похитителями, чтобы освободиться. Один из них выбил ему левый глаз. Кровь, стекая по его морде, капала на землю.
5 ГУМНО В МОЛЕОНЕ
— Вот это меня убеждает! — воскликнул Анселен.
— Что же именно, господин мой?
— Человек, к которому ластятся собаки, а лошадь верна и предана, может быть послан только Богом. Я сомневался в тебе, и я прошу прощения. Но к делу!
Внезапно, без малейшего объяснения, он приказал Рено, своему сыну, отправиться в обитель, а сержанту Юрпелю — к самым зажиточным крестьянам домена:
— И пусть они приведут с собой лучших товарищей, самых решительных и сильных… Ты, Рено, должен предупредить и наших лесорубов — нужно разделить поручения, ведь время идет. Чтобы все были здесь после шестого часа; выпивки и закуски будет вволю.
Рено спросил:
— Мой досточтимый отец, какая муха вас укусила?
— Раскаленный железный прут. Вы отправитесь в путь сразу после завтрака.
— Могу ли я осведомиться о ваших планах?
— Не охлаждай моей решимости, сын. Я сам еще слишком слаб и неуверен. Лучше поставить себя перед свершившимся фактом.
— Никак не уловлю смысла того, что вы задумали.
— Проклят будет тот, кто пойдет на попятную! Я действую против своей воли; не суди меня слишком строго; ты не раскаешься в этом, напротив: новости обрадуют тебя.
Анселен задумался, стараясь казаться решительным, на самом же деле — скрывая неуверенность. Потом он обратился ко мне:
— Я иду с тобой, оруженосец Гио. Пойдем лечить твоего коня.
Он долго изучал разбитую глазницу, полную черных блестящих сгустков, откуда, из-под века, на черную с белым шерсть капала алая кровь.
— Я не верну ему глаза, — сказал он, — но через неделю все затянется. Я прикажу выточить для него глазницу из меди, чтобы она защищала рану от пыли и насекомых.
— Сможет ли он служить как и прежде, лишенный половины зрения?
— Нужно только захотеть, и ты сам будешь смотреть за него. Будь уверен, Гио, у меня есть необходимые мази. Но можешь ли ты подождать с неделю?
— Могу ли я оставить его теперь? Он мне дороже, чем брат.
Мы отвели коня в конюшню. Пораженные его подвигом, конюхи не пожалели ни свежей соломы, ни овса, ни воды. Когда он насытился, Анселен приступил к лечению.
— Держи его, Гио. Самое мучительное — это промыть рану… О! Смотри! Под гривой еще одна рана, но она не опасна…
Я уже говорил, что это был настоящий боевой конь, Он не пошевелился, не издал ни звука — стоял прямо, лишь колени его слегка дрожали. Когда все было кончено, Анселен вымыл руки в тазу, который принесла служанка, и, помрачнев, проговорил:
— Эх, Гио, осталось самое трудное…
Решив, что он говорит о коне, я испугался.
— Нет, нет, — сказал он, — что касается его, то все в порядке, я спокоен. Я беспокоюсь о моей дочери…
— Осмелюсь ли я спросить, мой господин?
Но он в порыве смущения уже отвернулся. Рожок с донжона протрубил час первой трапезы. Подкованные сапоги протопали по мощеному двору.
— Пойдем завтракать, Гио.
У входа в зал он дружески взял меня под руку:
— Чего я боюсь, так это своего возраста… И его слабостей. Но, быть может, хватит и одного доброго намерения, лишь бы оно было искренним?
— Вера движет горами, и вы это знаете!
— Но я знаю и то, что старость — это предательство.
— А я, например, знаю одного человека, изуродованного страшным недугом, тело которого подчиняется воле и разуму.
— Он из породы героев, но я, Гио, я всего лишь старый барон, заплывший жиром. Жратва задавила мой дух, да он и от роду был не из лучших.
— Вы клевещете на себя без всякого снисхождения.
— Нет. Я погряз в обжорстве; в нем-то и была вся моя служба, но сейчас…
Тут он растворил дверь. Все присутствующие поднялись, приветствуя его. Над большими блестящими мисками с молоком, стоявшими на скатерти, поднимался пар. Служанки намазывали хлеб маслом и медом.
— Садись, Гио. Начинайте без меня, я отлучусь ненадолго.
Вздохнув, он взялся за перила и поднялся в комнаты. Место Жанны за столом оставалось пустым.
— Молодая госпожа почивает, — проговорил один из слуг, чтобы прервать молчание.
Всех насторожило странное поведение господина, его осунувшееся после бессонной ночи лицо и тот взгляд, исполненный беспокойства и нежности, которым он окинул общество, обернувшись.
Надеясь хоть что-то выудить, Юрпель отважился шепотом спросить:
— Вот бы узнать, что он задумал!
Он посмотрел на Рено, потом на меня, и не спеша вытер скатертью свою бороду и усы. У него была вытянутая мордочка и зубки грызуна, а маленькие серые глаза глядели с невыносимой пронзительностью. За долгие часы дозоров ветры так выдубили и отполировали его кожу, что она стала похожа на кору. Клоки волос, свисавшие с его губ и подбородка, напоминали скорее обмерзшие, побелевшие стебли плюща. Брови того же материала были похожи на опрокинутую борону. Шлем оставил на его лбу глубокую красную и шершавую вмятину, продавив нос посередине. На правой руке недоставало трех пальцев, на запястьях он носил почерневшие от пота кожаные наручни с позеленевшими медными гвоздиками.
— Узнать бы, — повторил он, — зачем это он нас посылает к деревенским и на хутора? Что мы должны им сказать?
Рено пожал плечами:
— Спроси у чужестранца.
Мог ли я их успокоить? Я ответил:
— Я только вчера увидел сеньора Анселена, но я могу вам сказать, что ваш господин — лучший из всех, какие могут быть!
— Ты ловко выкрутился! И впрямь, мой отец из тех, кто поделится последней рубашкой.
Вернулся Анселен. Он был сильно возбужден и тщетно пытался скрыть крайнее волнение. Грузно сев, он спросил:
— Что у нас сегодня на завтрак?
Служанки засуетились, его чашка наполнилась жирным молоком.
— Нет, дай мне вина и вот этого свежего козьего сыра!
Рено и Юрпель старательно угощались. Но он, откусив пару раз, к вину и не притронулся, все оно осталось в его стакане.
— Не заболела ли молодая госпожа? — забеспокоилась самая пожилая служанка, старая кормилица девушки. — Она же всегда приходит самой первой!..
Жанна дождалась, пока все выйдут из зала. Бросившись к своему отцу, она опустилась на колени и в знак покорности поцеловала его руку. Смутившись, он поднял ее, грубыми ладонями осторожно прикоснулся к ее нежным, покрытым пушком щекам, и вернул ей поцелуй. Прижав ее лицо к своему, он почувствовал, что веки девушки опухли, а на губах своих ощутил соленую влагу ее слез.
— Я переоценила свои силы, — сказала она. — Огорчение застало меня врасплох. Простите!.. Простите, если я вас разочаровала…
Он сжал ее в своих объятиях. И она, такая хрупкая и нежная, прижалась к его широкой груди, как маленький птенчик прячется под крылом своего родителя. И новые потоки слез потекли по ее щекам уже от радости, от избытка чувств. Я любовался белым пушком на ее затылке, прядями кос. О, нежный цветок, в котором весна сливается с летом, сила — с грацией…
В этом месте повествования Гио всегда добавлял:
— Братья мои тамплиеры, я рассчитываю на ваше снисхождение. Пусть суд ваш будет справедлив. То, что Жанна была наипрекраснейшей из всех, я чувствовал в тайниках своей души. Но я не подозревал, какая пылкая, прекрасная душа соединилась с совершенным лицом и телом, сколько высоких мыслей рождалось в этой головке с ореолом волос цвета солнца, — все это проявилось впоследствии и поистине лишило меня рассудка… Ее волосы светились в темноте залов и коридоров! Я не мог оторвать от них глаз! Это были волосы ангела. Но, милые братья, я этого тогда не знал. А она тем более не могла знать, потому что была ангелом в женском образе. И даже ее слабости — досада, краткие приступы гнева, обычное высокомерие благородной девицы, что охватывало ее минутами, только увеличивали мою веру в нее. Все это было как бы ножнами, в которых скрывается блеск безупречного клинка…
И вот, чуть позже шестого часа, появилась толпа жителей деревни, дровосеков, угольщиков, кузнецов; многие пришли вместе с женами. Всех их собрали на гумне. Это гумно сейчас разрушено, но было оно необыкновенных размеров и свидетельствовало о былом богатстве рода Молеон. Под его крышу, напоминавшую опрокинутую колыбель, стекались рожь и овес с обширнейших полей. На равных расстояниях крышу подпирали столбы, выточенные из тридцатилетних дубов, поставленные на искусно вытесанные и сложенные каменные основания. Прорезанные узкими арочками стены должны были опираться на контрфорсы, подобные храмовым, столь толсты и массивны они были. Пол был вымощен теми же вытертыми валунами, что и двор снаружи. В глубине был хлев, где стояли быки и рабочие лошади; для верховых коней были еще отдельные стойла. На столбах для освещения крепились факелы. Их дымный свет выхватывал из темноты то чью-то заросшую рожу, багровые щеки или лохматую гриву; то хищные челюсти, то жидкие, то кустистые бороды; или же бритые черепа, поднятые капюшоны и одежду цвета травы и крестьянского труда. Единственное красное пятно резко выделялось среди этой блеклой нищеты. Это была юбка жены кузнеца, который слыл негласным деревенским вожаком и сейчас стоял, надменно вскинув голову с подстриженными волосами цвета сажи.
Никто из них не догадывался о причинах сборища. Многие опасались худшего. При всем уважении к старому господину они были готовы сражаться за свою скромную долю. Они мечтали лишь о том, чтобы жить в своей хижине — отогревать у огня свои разбитые тяжелой работой кости подле жены, посланной милостивым Богом в бесконечной доброте своей, да любить ее. Вся радость жизни заключалась для них в улыбках детишек и в словах кюре под церковными сводами, когда тот читал проповеди о райском блаженстве. Рай этот представлялся им апрельским лугом, усыпанным благоуханными цветами, рыбной речкой, лесом, полным дичи, откуда не гонят браконьеров, обильно плодоносящим садом, где каждый может угоститься вволю. Столы там уставлены караваями белого хлеба и таким старым янтарным вином, что оно загустело, как мед. Деревья зеленеют круглый год. Дамы и девицы в белом, распевая во славу Господа, ходят по лугу легкими шагами, не приминая травы. Под облаками парят голубки, а не ястребы или каркающие вороны. Леса звенят от пенья синиц и малиновок. Только и дела, что купаться, да наслаждаться покоем вечного света. Не будет ни ночи, ни смены времен года. Пребудет вечная весна, и всем возвратится красота молодости и прежнее незапятнанное и беспечальное сердце. Иной раз их навестит Иисус Спаситель, во всем похожий на старого хозяина, кроме приступов тоски, да жира, сковывающего движения. Господу всегда будет тридцать лет, и чело его будет подобно снежной вершине.
В этой вере они сменяли друг друга — сын шел за отцом, как волны бесконечного моря бегут одна за другой, чтобы разлиться наконец по песку. Они не кляли свою судьбу. Нехитрые домашние радости и представления о рае крепко сплелись в их душах в одно целое.
Чего же хотел от них старый господин? Должно быть, случилось что-то важное, раз он созвал их в неурочное время — ведь он всегда уважал труд каждого! Удивленно взирали они на господина, стоявшего между Жанной и Рено. Заметили они и Юрпеля, как всегда мрачного, не находящего себе места, а также мой шерстяной плащ и шляпу пилигрима.
— Вот он, — шептали они, — человек на коне, что прибыл сегодня ночью!
— Пешком, сосед. Вот странно-то! Пешком, я тебе говорю! Коня-то он потерял. А смелая скотина его нашла, бредя через Ланды, да еще и без глаза, выбитого грабителями…
— А рана на шее? Из нее хлестала кровь.
— Слыханное ли дело?
— Конь постучал копытом в ворота сеньора. Солдаты открыли.
— Это заколдованное животное!
— Балда, просто конь любит своего хозяина.
— Говорят, странник прибыл из Иерусалима.
— И что туда вернется.
— Храни его Господь от дурной встречи!
Они не умолкали, не принимая дела всерьез, до тех пор, пока не вошел командор тамплиеров. Расступившись, они пропустили его. Он шел солдатской походкой, в своей белой мантии, наброшенной поверх кольчуги, рассеянно отвечая на приветствия, немного смущенный таким скоплением народа.
— Добро пожаловать, командор Эмери.
— Мэтр де Молеон, я внял вашему зову, хотя сын ваш, Рено, не дал мне никаких объяснений. Что заставило всех собраться?
— Вы скоро узнаете. Ваше присутствие мне необходимо.
Старый господин сцепил ладони — они слегка дрожали, и все это заметили — сосредоточился. Он опасался, что, запутавшись в словах, испортит свою речь, тем более что выступать на людях он до смерти не любил.
— Командор Эмери, дети мои Жанна и Рено, добрый сержант Юрпель, и все вы — дровосеки, пахари, земледельцы моего Молеона, друзья и товарищи, доныне и навеки…
Дыханье его пресеклось, хотя мысли теснились в голове. Он испустил вздох и продолжил:
— Пилигрим, которого вы видите здесь, по имени Гио, воин из Иерусалима, оруженосец короля Бодуэна IV. Сюда его привело Провидение, чтобы поведать нам о несчастьях Святой Земли… Друзья мои, знайте же, что иерусалимскому королю не более шестнадцати лет. Защита Святого Гроба Господня возложена на хрупкие плечи. Ему не хватает средств, а более всего — воинов. И я решил возложить на себя крест, как сделал это в свое время мой отец, и предложить свою службу Бодуэну. Я отбуду, как только наш сеньор, виконт де Мортань, введет во владение моего сына…
Послышались вздохи, восклицания. Тамплиер Эмери заключил старого хозяина в объятия. Жанна высоко держала голову, но слезы неудержимо катились из ее глаз и губы дрожали.
Рыцарь Рено побледнел — никто не мог бы сказать, от гнева или от волнения. Один из землепашцев, выйдя из толпы, приблизился:
— Господин, — сказал он, — я потрясен и восхищен вашей решимостью. Но, будучи вашим молочным братом, я по себе знаю чем опасен ваш возраст. Вы умрете по дороге, и все мученья окажутся напрасными. Путешествие по морю и поединки уже не для вас. Даже если вы доберетесь до Иерусалима, то не сможете предложить королю ничего, кроме подагры. Хорошенькая услуга!
— Я все предусмотрел. И хочу сказать кое-что еще, мой молочный брат. Ты перебил меня!
— Я, — сказал кузнец с тем природным достоинством, что позволяло угадывать в нем побочного сына сеньора, — я тоже возражаю. Война — занятие молодых.
— Господин, — воскликнула женщина, — узнаешь ли ты меня? Я сборщица лекарственных трав и повитуха. Я хорошо тебя знаю, потому что давно слежу за тобой. Тело твое переполнено вредными парами. Оно не выдержит ни долгих скачек, ни палящего солнца. Испорченная кровь прильет к сердцу, и ты погибнешь в одиночестве, вдали от нас. Хорошо ли это?
— Спокойствие, друзья мои. Я отправляюсь не один. Король Бодуэн будет рад моим спутникам. Ведь речь идет о том, чтобы охранять Гроб Господень, о котором вечно болит наше сердце, чтобы спасти Иерусалимское королевство, заключающее его в себя, как в раку. Разве не дороги вам наши реликвии? И защитить надо священнейшую из них — Гроб Господа Христа, ту самую гору, где палачи воздвигли Крест Истинный, давший нам жизнь вечную. Я одену, вооружу и посажу на коней всех, кто отважится. Если они оставляют здесь жен и матерей, то из любви ко мне о них позаботится мой сын Рено, ваш новый господин. Кто чувствует в себе решимость?
Мужчины разбились на группы, с жаром обсуждая его слова. Женщины причитали. Голоса отдавались гулким эхом под крышей гумна, как будто бы кто-то растревожил осиный рой.
— Отец, — спросил Рено вне себя от волнения, — почему ты не позвал приходского священника? Так положено по обычаю.
— Я сам пойду к нему, босой, чтобы испросить посох с набалдашником и суму пилигрима. Сегодня я не был уверен в моей решимости.
— Вы предупредили мою сестру, но не меня!
— Ты бы разубедил меня.
Вперед вышли двенадцать человек, старшему из них не было и тридцати лет: трое землепашцев, шестеро мускулистых скотников и трое лесорубов, носы и руки которых все еще были вымазаны в саже, а белые зубы сверкали в улыбке. Женщины всхлипывали, сжимая в мольбе руки, но в глубине их душ отчаяние боролось с гордостью. Подошел подмастерье кузнеца. Щеки его были еще по-детски розовы, но сквозь них уже пробивался первый пушок. Старуха, у которой из-под накрахмаленного чепца был виден один только нос, закричала:
— Дурное число, господин. Не бери его! Молод еще.
— Не продаешь ли ты сама дюжину яиц с походом, матушка? Он подрастет в дороге, твой молодец, и вернется к тебе красавцем. …Приблизьтесь, мои спутники. Еще ближе! Чтобы я смог заключить вас в свои объятия… Мы вместе пойдем в нашу церковь, получим посох и сразу же тронемся в путь. Мы договоримся. Устраивайте ваши дела, а я займусь своими…
Один из них спросил:
— Может быть, мы переждем эту собачью непогоду?
— Ждать не могу. Гио — он перед вами — поведет нас. Корабль ждет в Марселе. С радостным сердцем мы погрузимся на него!
— С радостным сердцем, сеньор Анселен!
— Я закончил. А сейчас, дорогие друзья, ешьте, пейте и не взыщите за беспокойство. Жанна и Рено, позаботьтесь о наших людях. Я же поговорю с моими спутниками.
Мы остались в зале вместе с командором Эмери; потом к нам присоединились еще трое внезапно решившихся солдат.
Тамплиер проговорил:
— Я получил распоряжение Головной Обители тамплиеров. В Иерусалим необходимо послать троих наших рыцарей со свитой, всего десять человек. Вы отправитесь вместе. С тамплиерами ваши ночевки будут безопасны, господин Анселен.
— Тринадцать и два, и еще три, и десять — это же будет двадцать восемь человек, считая и меня! Я думаю, что придется доставать мой старинный стяг, раз пошли такие дела! Знамя да меч — вот и все, с чем возвратился мой отец из Святой Земли.
Он ликовал. Страхи, сомнения, мелкие слабости внезапно оставили его. Как только объявил он свое торжественное решение, все стало просто, но, увы, далеко не так, как казалось тогда!
6 ГИ ДЕ РЕКЛОЗ
Этот самый Ги де Реклоз, которого старая кормилица и вся челядь прочили Жанне в женихи, вскоре появился, но без свидетелей. Он был при параде: сапоги кордовской кожи со шпорами в руку толщиной вызолоченными в два слоя, алая мантия с галунами, накидка с горностаевым воротником и шляпа, опушенная тем же мехом. Он был надушен, манерен и завит до неприличия. Сквозь редкую бороденку просвечивал узкий подбородок, над верхней губой пробивались молоденькие усики, по краям заплетенные в смешные косички. Круги под глазами свидетельствовали о том, что дни свои он проводит явно не за молитвой. У него был тонкий голос, которому он старался придать «мужественную» хрипотцу, и длинные девичьи ресницы. Я еще раз прошу у вас, милые братья, прощения за мою злость. Ги де Реклоз не угодил мне, но так ли уж он отличен от других юношей?
— Сеньор Анселен, — сказал он, — поговаривают о вашем скорейшем отбытии в крестовый поход. Только и разговоров, что о сборище на вашем гумне; все в тревоге.
— Я не заслужил такой чести, Ги.
— Уверяю вас, говорят лишь о вашем внезапном и неожиданном для такого возраста решении.
— Не думаешь ли ты, что я не смогу удержаться в седле и метнуть копье?
— Я далек от этих мыслей, господин. Ваши подвиги всем известны.
— Интересно, кто же эти все. Я ведь не участвовал ни в одном состязании и не появлялся на турнирах.
Ги де Реклоз мучительно покраснел, прокашлялся и начал другим тоном:
— Господин Анселен, вы не ждали меня?
— Я думаю, тебя ждал кое-кто другой. Хочешь, я ее позову.
— Минуту. Вам, конечно, известно, что Жанна очень дорога мне?
— Дерзость тебе к лицу. Еще что?
— Мое чувство к ней растет и становится все сильнее… Я не могу ни есть ни спать, как подумаю, что она не станет моей супругой, желанной и почитаемой.
— Поистине лучше не скажешь! Но жениться, дорогой мой господин Ги, лучше не под влиянием безумного порыва или каприза. Жанне, как и тебе, еще нет семнадцати.
— Но мне-то уже исполнилось!
— Совсем недавно! Подождите, подумайте. Жизнь длинна.
— Сеньор Анселен, потеряв отца, я давно стал испытывать к вам чувства преданнейшего сына. Будь отец жив, он взял бы на себя эту вылазку, которая мне так мало удалась, не правда ли?
— Без сомнения.
Слова застряли в горле этого петушка в пестром оперенье. Он бы и запел, да забыл глотнуть воздуха. Старый хозяин терпеливо ждал. Нетрудно было догадаться о том, что последует за этим, наконец Ги отважился:
— Господин Анселен, вы приняли решение об отбытии, и все приветствуют его. Всем известно также, что Рено вводится во владение фьефом, и это прекрасно.
— Благодарю тебя.
— Но… Подумали ли вы о вашей дочери?
— Что-то не понимаю.
— Вдруг, — я, конечно, молю и буду молить Бога, да хранит Он вас в здравии и благополучии, — но вдруг вы… вы… останетесь в Святой Земле…
— Ты хочешь сказать, что я не вернусь в Молеон?
— Да, сеньор, да! Что же тогда будет с Жанной?
— В Молеоне у нее и кров и дом. Рено великодушно позаботится о ее содержании.
— А если она выйдет замуж?
— Она последует за супругом, как того требует закон.
Чей-то сапог, как петушиная шпора, поскреб по полу.
— Господин Анселен…
— Слушаю, слушаю!
— Как бы вы распорядились на ее счет, наделив ее землей или деньгами, и сообщили ль бы ваше решение, в случае, если я решусь полюбопытствовать?.. Три фермы — Эссарте, Ревейра и Соле прилегают к моему фьефу… Рено не обеднеет, если предположить, что они отойдут к Жанне и это будет ее приданое…
— Эти фермы приносят наибольший доход.
— Мои земли — самые плодородные в нашем графстве.
— Ты хочешь сказать, что, выбирая Жанну, ты оказываешь ей много чести? Но для этой роли есть вдовицы и бесприданницы.
— Мне семнадцать лет, сеньор!
— О да, ты многого хочешь: и денег, и молодости, и красоты… Скажи же мне, Ги, по собственному ли почину ты пришел ко мне? Слыханное ли дело? В семнадцать лет?
— Меня послала моя мать, господин Анселен; это она.
Жанна спустилась по лестнице так тихо, что ее не заметили. На последних ступеньках она прислушалась и вдруг заговорила:
— С вашего позволения, досточтимый отец, я отвечу Ги так, как будто бы я была его матерью. Милый мальчик, Жанна не продается, тебя обманули. Она станет твоей женой, когда ты докажешь, что ты мужчина.
— Жанна, что же я должен сделать?
— Ты должен заслужить меня, а не торговаться! И ты последуешь за мной!
— Куда же ты едешь?
— Я вышью иерусалимский крест на своей пелерине и ты также сделаешь это — таково мое условие.
— Жанна, но я же должен заботиться о наших землях, управлять людьми! Может быть, потом….
— Именно сейчас, Ги де Реклоз, когда кровь наша горяча от безумств молодости. Те мучения, что испытывает теперь мой дорогой отец, отказываясь от привычной жизни, для нас, еще не пустивших в ней цепкие корни, обернутся радостью и счастьем, чудесным приключением.
— Понимаешь ли ты, что говоришь?
— А ты, неужели ты считаешь, что я должна просиживать за прялкой или за ткацким станком, дожидаясь твоего возвращения? Если ты хочешь, мы вместе отправимся на защиту Гроба Господня. Ты будешь защищать его мечом, а я — тою нежностью, что дам тебе.
— Мне кажется, ты безрассудна.
— А мне кажется, что ты слишком рассудителен. Знай же, что мужчина — это тот, кто выбирает труднейшее и идет во всем до конца. И мой супруг будет именно таким, потому что я буду любить его любовью полной и беспредельной, тою любовью, которою монахиня любит Христа! А раз я буду достойной и способной вынести за него все мучения, то и он должен быть достоин моей любви. В ином случае, супружество — это кощунство, и я отвергаю его. Ты молчишь, Ги де Реклоз? Ты испугался? Ты мечтал о нежной, веселой, понимающей подруге, которая, обладая приличным доходом, будет услаждать тебя пением, рожать тебе детей, доставлять тебе все удовольствия, закрывая при этом глаза на твои похождения?.. Я же хочу всего в обмен на все, мне нужно быть прекрасной для тебя и гордиться тобой… Ты все молчишь?
— Твои речи застали меня врасплох. Так долго ты со мной еще никогда не говорила.
— Я бы говорила еще и еще. А ты подумай. Ведь речь идет не о вступлении в брак, а о возложении креста, о том, чтобы отправиться в путь за женой, что тебе дороже всех на свете, с которой, дорогой мой, ночи твои стали бы коротки.
— Я подумаю, но до чего же неожиданно твое предложение!
— Лучше уж тебе сразу узнать мой настоящий характер.
— Да, это предпочтительнее, но мне надо все обдумать.
— Но не медли с решением.
— Будет очень трудно убедить мою мать.
— Все-таки попытайся, ведь я не изменю своему слову…
— Так ты решительно намерена следовать за отцом?
— Да, решительно. Прощай, Ги. А может быть — до свидания: все зависит от тебя.
Жанна улыбалась, пока лошадь, стоившая куда больше своего седока, уносила заморыша к темному лесу; конечно, она вела себя так, не желая тревожить отца. Глаза же ее блестели стеклянным блеском, и за иронией я угадывал обиду. Потом, узнав ее лучше, я понял, что любое проявление трусости или эгоизма выводило ее из себя, оскорбляло ее достоинство. Мне еще много придется говорить о ее характере, но сейчас я скажу о том, что мне кажется самым важным: за все время, что мы провели вместе, связанные взаимным уважением и почти что родственными чувствами, она горевала лишь о своем ближнем. Я ни разу не замечал, чтобы она щадила или жалела себя. Она заботилась только о других, все время радея о том, чтобы эти люди были достойны ее представлений о них. Она восхищалась женщинами куда менее красивыми, чем она сама, и никогда не любовалась своей собственной красотой, хотя имела точное о ней представление. Здесь я прервусь, милые братья, дабы не возбуждать ваших подозрений.
Сеньор Анселен был тугодум. Из-за отсутствия привычки быстро соображать, а может быть — из-за лени, он начисто был лишен живости мысли. Наморщив лоб и сложив руки на груди, он с недоумением смотрел на дочь:
— Жанна, объясни-ка мне, что это за фокусы?
— Тут нечего объяснять. Я только жалею, что ничего не сказала тогда, на гумне, когда вы призывали людей. Наши землепашцы откликнулись бы дружнее.
— Выслушай меня, мое дорогое дитя, и не сердись, пожалуйста. Я полностью разделяю твое мнение о Ги де Реклозе. Хотя он и молод, но мать его слишком навязчива, и подобная выходка окончательно уронила его в моих глазах. Будь он во сто крат лучше, я и то не стал бы принуждать тебя выйти за него, а предоставил бы полную свободу действий.
— Неужели вы думаете, что дело тут только в Ги?
— Ты могла бы обойтись с ним помягче, и незачем было объяснять все крестовым походом.
— Крестовый поход — не повод для отказа, досточтимый отец. Я решила последовать за вами.
— Нет!
— Вам потребуется мое присутствие, моя забота. Я не затрудню вас, напротив, постараюсь быть полезной.
— Я сказал «нет»!
— Оруженосец Гио, вступитесь за меня; прошу вас, постарайтесь его убедить.
— Крестовый поход — это мужское дело. Бывают обстоятельства, в которых отец не может рисковать.
— Что вы имеете в виду?
— Наивное дитя, я могу умереть в пути или на море. Кто заступится за тебя?
— Оруженосец Гио, люди из нашей свиты. Вы, наверное, думаете, что я не способна сама за себя постоять?
Тогда вмешался я:
— Госпожа, пожалуйста, оставьте нас вдвоем.
Ока сразу поняла, что я решил взять старого хозяина хитростью, а не идти напролом. Нужно было прекратить сражение, удалиться на цыпочках, дать созреть этой мысли в его большой лысой голове. Но, прежде чем я открыл рот, он проговорил:
— Гио, вполне достаточно меня и волонтеров домена. Сын и дочь останутся здесь, дома.
— Но, господин мой, если воля Жанны такова? Если ее проснувшиеся разум и чувство повелевают ей отправиться в путь?
— Еще раз и окончательно — нет! Это безумие, и я запрещаю его своей властью.
— Никто не спорит, сеньор Анселен, вы имеете на это полное право.
— Я подозреваю, что совесть и сердце Жанны пробудились с чьей-то помощью. Признайся, что ты тайно переговорил с ней?
— Мы говорили только в вашем присутствии. Но не удивляйтесь, и раньше у многих призвание к крестовым походам пробуждалось именно так. Оно походило на развитие болезни. Сестра увлекала брата, сосед — соседа, один человек воспламенял целую деревню. Это было как снежный ком. Огромные толпы двинулись на восток.
— Да там и остались!
— Однако же ваш родной отец умер в собственной постели.
— Он был из другого теста — суров и могуч, а Жанна такая хрупкая…
— Силы жизни сокрыты и неведомы, господин Анселен. Случается, простая горячка в один день скрутит здоровяка, а какой-нибудь заморыш выберется из худшей переделки. Поверьте мне, ничто не может удержать душу, охваченную страстным стремлением стать участником крестового похода, даже родительская воля отца.
— Ты сам заявлял, что дух крестовых походов угас.
— Значит, я ошибался, он все же еще не угас окончательно. Однако больше я ничего не скажу и не стану уговаривать вас. И так я уже почти жалею, что попал сюда и разрушил покой вашего дома.
— Напротив, я благодарю тебя и знаю, что ты доволен сам. И все-таки Жанна и Рено останутся здесь. Они обязаны позаботиться о Молеоне.
— Да, должны. Но лишь из послушания вам.
Здесь оруженосец Гио снова прерывал свой рассказ. Он отпивал глоток вина, рассеянно помешивая угли в жаровне. Иногда в такие моменты он просто замирал, опустив веки, или же, обводя затуманенным взглядом своих слушателей собирался с мыслями.
Снаружи завывал порывистый ветер, дождевые струи хлестали по деревянным ставням. Клочья сажи падали из трубы в камин и оседали черноватой пылью на раскаленных угольях, рассыпаясь в языках пламени…
После полудня Жанна собралась на охоту со своим братом. Все мы сидели за столом, когда она попросила его об этом ровным голосом, хотя глаза ее уже блестели от предвкушения удовольствия. Рено был удивлен, но согласился. Было ясно, что она хочет воспользоваться поводом, чтобы переговорить с юношей и сделать его своим союзником. Погруженный в свои мысли, старик не обратил на это внимания. Почему бы и нет, — думал он, — она огорчена отказом, ей нужно встряхнуться и развеяться. Между тем он знал, что она терпеть не может эти соколиные забавы, находя их бессмысленными и жестокими. Ему же самому был крайне необходим покой. Душа его разрывалась на части: одна ее половина стремилась хотя бы к внешнему умиротворению; другая терзалась тайными упреками: «Вправе ли я запретить ей следовать за мной, ей, всегда и во всем впадающей в крайности? Остудить ее юный восторг? Разочаровать ее, выдвигая пустые доводы, о которых она вспомнит потом отнюдь не с благодарностью? В ее возрасте невозможно быть хладнокровной. А когда речь идет о Иерусалиме!..»
Он еще делился со мной своими тревогами, а Жанна уже садилась в седло с соколом на руке. Прекрасная пестрая птица била крыльями. Бледный солнечный луч осветил лес. Рыцарь Рено, забыв свою вчерашнюю обиду, весело смеялся. Он помахал нам рукой и перегнулся через седло, чтобы поцеловать сестру. Они проехали под аркой ворот и пустили лошадей в галоп. Большие серые собаки окружали их и лаяли во всю глотку.
— Разве можно быть такими красивыми! — воскликнул старый сеньор. — И ты хочешь, чтобы они растеряли свои сокровища в дороге?
— Боже сохрани, но неисповедима воля Его.
Он издал нечто вроде стона и сказал:
— Вот именно! «Богу угодно» — это был клич первого крестового похода! Ему угоден отец. Ему угодна дочь. Кто еще? Мой удел обезлюдит.
— Сеньор Анселен!
— Да, я увлекся. Но ее просьба отравила мою радость. Я ехал с чистым сердцем человека, оборвавшего все свои связи и отрекшегося от всего. Сейчас же та нить, что связывает меня с Жанной, дрожит во мне и не дает мне покоя. Я пытаюсь понять, кто из нас прав, дорогой Гио, но мне это никак не удается.
Он трижды повторил:
— Тоска замучила меня!
Мне так хотелось сказать ему: «Самое трудное еще впереди. Готовьтесь к новому нападению», — но, из осторожности, да и пожалев старика, я воздержался. Он еще не созрел для поворота в мыслях. По собственной глупости я мог привести его в бешенство. Если бы я начал говорить, он вскочил бы в седло, догнал детей и не дал бы им столковаться обо всем.
О чем они говорили тогда, мне неизвестно. Я видел лишь, что, отправившись на охоту веселыми, они вернулись тихим шагом, в строгом молчании. Охотничьих птиц с ними не было. Гоня прочь беспокойство, старый господин спросил:
— Вы потеряли их?
— Нет, отец.
— Юрпель рассвирепеет. Он так старался их выдрессировать, и именно для вас!
— Вот, — сказала Жанна, — их колпачки и окольцовка.
— Вы их сняли?
— Отныне соколы нам больше не нужны.
Пухлые губы Анселена задрожали. Предательская влага заблестела в уголках его глаз.
— Отец, — воскликнул Рено, — я должен поговорить с вами. Иди, Жанна. Оруженосец Гио, вы можете остаться.
Вчетвером мы вошли в зал. Наступил решающий момент. Нам помогала мысль о том, что потом мы бы легче вздохнули, радость снова снизошла бы на нас.
— Отец, — начал Рено, — по счастью, виконт еще не дал нам ответа по поводу фьефа.
Анселен попытался и на этот раз уйти от разговора, в тщетной попытке оставить все как есть, ухватившись за эту соломинку.
— Ты шутишь, Рено. Фьеф принадлежит тебе. Ответ виконта нужен лишь для проформы. Я ввел тебя во владение Молеоном на общем сборе, и все признали тебя хозяином, — вот это важно.
— Я не шучу. Я не желаю этого. Кроме того, мы потеряли соколов не по случайности и не из-за неумения: мы сами выпустили их на свободу… Отец!
— Да, мой сын?
— Жанна и я, мы говорили сейчас с глазу на глаз, как ни разу не говорили прежде, полностью открыв свои сердца друг перед другом. Мы убедились в истинности поговорки о том, что нельзя разделить близнецов, не причинив им вреда, настолько сильна связь между ними. Чего захочет один, того же хочется и другому, даже если он сам этого не понимает; но бывает достаточно одного взгляда, одного слова — и все становится ясно.
— Да, так говорят. Но ваши характеры совершенно несхожи. Я не упрекаю тебя, Рено. Ты такой, какой есть.
— Отец, не время сейчас сличать наши достоинства. Я знаю, что Жанна лучше меня, я уверен в этом. Предположим даже, что мой голос — лишь слабый отзвук ее голоса…
— Напрасно ты так уничижаешь себя!
Разговор затихал; быть может, он так бы и иссяк, подобно ручью в песках. У Рено ходили желваки на скулах, взгляд тяжелел, однако причиной тому был отнюдь не гнев.
— В любом случае, — заметил он, — даже если причины и разные, решение наше обоюдное и окончательное.
— Отвага Рено превосходит все мои качества, вместе взятые, и намного, — сказала Жанна. — Я давно это чувствовала, а сейчас я могу восхищаться ею без оговорок. Он доказал ее мне.
Рено, смущенный похвалой сестры, решительно заключил:
— Мы почтительно просим вас согласиться на наш отъезд.
— Слово согласия никогда не сорвется с моего языка!
— Наша нижайшая мольба тверда: не из мимолетной прихоти мы просим вас об этом, но потому, что разделяем ваше пылкое желание послужить Господу!
— Но он не требует этого! Он дает райское блаженство и тем, кто заслужит его у себя дома.
— Однако не этому учили вы нас, ставя в пример жизнь нашего предка, вашего собственного отца, когда повторяли, что наша относительная бедность почетнее богатства других.
— Так плохим же учителем я был! Ну вот что, Рено: пришел конец твоему нетерпению — ты теперь хозяин в Молеоне и предел твоих желаний достигнут.
— Да что вы о них знаете?
— Ну зачем тебе ехать? Из страсти к самопожертвованию?
— Предположим, что к ней добавился изрядный аппетит на славу и деньги! Земли, завоеванные у неверных, — это Божий дар. Отказаться от него — святотатство.
— Учел ли ты все подстерегающие вас опасности? Дорога ненадежна, опасно и плавание. Положение маленького королевства, окруженного несметными силами Саладина, безнадежно. Вместо славы и завоеваний тебя, может быть, ожидают поражение, отчаянное бегство, позор…
Жанна вступила в разговор:
— Там славно и поражение. Но в чем же тогда ваша собственная цель, если вы не верите в спасение Иерусалима?
— Моя жизнь уже утратила свое значение.
— Отец, как дурны ваши слова. Никто сам себе не судья. Никто не властен сам осудить свою жизнь или распоряжаться ею по собственной прихоти.
— Вот потому-то я и не хочу, чтобы вы рисковали жизнью, за которую я несу ответственность.
— Отец, — снова заговорил Рено, — могу ли я хоть раз высказать вам начистоту все, что я о вас думаю?
— Да, можешь.
— Вы отправляетесь с Гио потому, что вы устали убивать то самое время, которое медленно убивает нас. Каждый проводит свои дни по-своему.
— Ты так считаешь?
— Я же хочу жить, а не существовать подобным образом.
— Понимаю, я был безвольным, малодушным человеком…
— Но вы взглянули правде в глаза, — сказал я, — и, осознав это, не замедлили принять решение. Ваша решимость делает вам честь, мой господин.
Жанна преклонила колени перед старческой рукой и коснулась ее губами:
— Отец, та истина, что открылась вам, всегда в вас и пребывала! В ее духе вы воспитывали нас. И сейчас, когда воспитание дало свои плоды, когда судьба дает нам шанс стать достойными наших предков, — неужели именно сейчас вы нас разочаруете? Неужели же, продолжая эти увертки, вы разрушите тот ваш образ, что был для нас примером, восхищал наши сердца на глазах всех людей Молеона?..
При всей жестокости этих слов и переполнявшей их горечи уязвленного чувства, мучительно дрожащий голос Жанны продолжал ласкать его душу:
— Отец мой, все трое, мы живем одними и теми же надеждами, верим в грядущую радость, стремимся стать чем-то большим, нежели мы есть! Зачем же вы себе уготовили лучшую долю, оставляя нас — недовольных, праздных, в тяжких думах о вас — одних в Молеоне?
Страстный, дрожащий, неотразимо нежный ее голосок журчал и обволакивал сердце, подобно мягкой, нежной руке, заставляя его непроизвольно сжиматься:
— Сжальтесь над нами — не теми Рено и мной, что мы есть, а во имя тех, кем мечтаем мы стать…
Старый отец тряс головой, грудь его тяжко вздымалась, воздуха не хватало. Но Жанна не щадила его:
— Мы мучим друг друга, а ведь все так просто! Или же все мы возвратимся в Молеон, или все погибнем вблизи могилы Спасителя, в местах Его крестной муки, исполненные любви к Нему…
— О, замолчи! Замолчи, предательница, ты слишком красива, слишком права! Пощади меня… Я настаиваю на отказе. Оставь меня в покое! Дайте мне наконец отдохнуть от вас!.. Я сказал «нет». Я повторяю: «нет».
За ужином царило недоброе молчание, подобное затишью перед бурей, когда природа вслушивается каждой веткой, каждой травинкой и листком во вздохи готового вот-вот проснуться ветра, а черные тучи наползают с гор.
7 СУМА И ПОСОХ
После ужина не засиживались. Жанна и Рено, пожелав нам спокойной ночи, поднялись в свои комнаты. Служанки, любившие обычно задержаться, сделав вид, что убирают со стола или поддерживают огонь, на самом же деле — чтобы перехватить пару-тройку господских слов — в этот вечер спешно откланялись. По обычаю пришел Юрпель с отчетом о прожитом дне; он отказался от кресла и даже от глотка вина, что предложил ему хозяин; более того, он и не заикнулся о соколах, пропавших в лесу. Поприветствовав нас, он сказал:
— Ночь будет холодной и снежной. Сони, берегитесь, я пройду дозором лишний раз!
— Холодной и снежной, — повторил хозяин и погрузился в свои размышления.
Мы остались одни, сидя друг против друга под колпаком камина, жар которого достигал наших ног. Редко я испытывал столь тягостное молчание, как тогда. Хоть он меня и не просил о том, мне так нужно было поговорить с Анселеном, и прежде всего о том, что в некоторых ситуациях никак нельзя изменить ход событий. Но мне казалось предпочтительнее, чтобы он сам добрался до этой очевидной истины. Голова его подрагивала, все та же буря противоречивых мыслей бушевала в ней. Вздохи, обрывки слов вырывались из-под растрепанной бороды. Он резко поднялся и своим доверительным жестом дотронулся до моего плеча:
— Ах, Гио, невеселый я товарищ!
— Я разделяю ваши тяготы.
— Точь-в-точь как в пословице: «Маленькие дети едят кашу, большие грызут сердца своих родителей». Но они таковы, каковы они есть, а не какими их хотелось бы видеть.
— Не будьте столь несправедливы, мой господин Анселен. В них ягодки превзошли обещания цветочков.
— Что вы об этом знаете, Гио!
— Это ваша плоть тревожится об их плоти, затронуто ваше родительское чувство. Оно заранее восстает против физических мучений, что угрожают им. Ваше христианское сердце возрадовалось. Искорка, что вы затеплили, оберегали и поддерживали на протяжении многих лет, внезапно засияла солнцем!
— Жанна — возможно, ну а Рено?
— В земных созданьях все перемешано. Его страсть к завоеваниям перекрывает желание послужить Богу, не менее живое и полезное. Это точно так же, как и в вашей душе стремление к счастью омрачено опасениями. Все это вполне естественно. Такова наша человеческая природа.
— Да, золотые слова. Но согласись, что сегодняшний день был долог, и я нуждаюсь в отдыхе.
— Сегодня вы, мой господин, получили благословение небес.
Я помог ему наладить огонь на ночь. Он задул свечи, оставив одну себе, а другую протянув мне. На лестнице он вдруг остановился. Перила заскрипели под его сжавшимся кулаком. Воздух заклокотал в груди.
— Ничего, — пробормотал он… — ничего не будет, просто усталость…
Только лишь он растянулся на кровати, дурнота снова охватила его. Щеки стали мертвенно-бледны. С трудом он развел сведенные челюсти; капли пота заблестели на лбу.
— Вы хотите, чтобы я кого-нибудь позвал?.. Господин Анселен, вы слышите меня?
Крупный череп качнулся слева направо по подушке. Посиневшими пальцами он пытался сбросить с себя беспощадно давившую тяжесть.
— Вы не хотите?.. Может быть, Жанну?
Он заморгал очень быстро и это было более чем ясно.
В спешке я ворвался к ней без предупреждения. Картина, что предстала тогда перед моими глазами, навеки запечатлелась в памяти. Я опишу вам ее сейчас, хоть и придется оставить Анселена одного в кровати, пытающегося сладить со своим изношенным сердцем. Девушка еще не легла. Она проводила остаток вечера в одиночестве. Казалось, она не чувствует ледяного холода своей комнаты; не услышала она и грохота, с которым я ворвался в дверь. Она сидела за столом перед масляным светильником и, подперев голову рукой, пребывала в глубокой задумчивости. Да что я говорю! Казалось, она вся ушла в свои мысли. Наверное, готовясь ко сну, она была охвачена ими внезапно, да так и замерла, сидя в кресле. Ее распущенные волосы рассыпались по обнаженным плечам. Язычок пламени таял в кромешной темноте, выхватывая из нее обрез Часослова и часть стола, а еще — шелковистую кожу плеча, оборку расстегнувшейся рубашки, красный расшнурованный корсет и нижнюю юбку. Обнаженные до колен ноги — я приношу свои извинения, братья тамплиеры, — чуть заметные в темноте, были освещены слабым лучиком света до самых кончиков носков, лежавших на подушечке. Кожа руки, на которую она опиралась, была столь тонкой и прозрачной, что свет лампы, казалось, пронизывал ее насквозь. Лицо было повернуто ко мне своим тонким профилем, золотившимся на фоне этой давящей тьмы. Волосы же шевелились, дрожали — жили своею собственной таинственной жизнью. Цвет их напоминал краски осеннего луга…
Здесь я оканчиваю свое описание. Жанна подняла наконец свои огромные блестящие глаза, без, паники и ложного стыда привела себя в порядок и последовала за мной. Хозяин дома уже обрел ровное дыхание и нормальный цвет лица. Жанна объяснила мне, что его сердечные приступы всегда были таковы — мучительны, но скоротечны. Она плеснула капель в оловянный кубок, добавила в него воды из маленького кувшинчика и, приподняв изголовье отца, помогла ему напиться. Я пришел в восхищение, увидев, что за ее хрупкостью — эти прозрачные руки — скрываются такая сила и ловкость…
Весь большой дом — отныне уж более не счастливый — снова отходил ко сну. На этот раз сон охватил всех и каждого, даже скот на его соломенной подстилке, даже охотничьих собак в тяжелом запахе псарни. Лишь дежурный стражник бдел под крышей башни у одного из зубцов. Он грел свои руки над угольями жаровни и вглядывался в беспросветную мглу. Ни в комнате Жанны, ни в часовне уже не светились огоньки, не было даже луны над лесом, ни малейшего просвета на небе. Юрпель стучал зубами, кутаясь в свое тонкое одеяло. Вдруг он резко сорвал его с себя и отправился в первый обход, надеясь размять заледеневшие ноги. Бегом он поднялся по башенной лестнице. Из каждой бойницы лицо его обдавало ледяным ветром.
Что до меня — я спал в это время по-кошачьи, вполглаза, как и всегда, когда я не разбит усталостью. Временное бездействие и хорошая кормежка полностью восстановили мои силы. Я уже почти забыл мою дорогу в Ландах. Под легкой вуалью сна что-то во мне с нетерпением ждало утра, беспокойно вслушивалось в малейший шорох, подкарауливало малейшее событие, которое могло бы укрепить мои надежды.
Ночь же прошла тихо и мирно; радостный рожок стражника уже приветствовал занимавшийся день, когда я услышал шаги мэтра Анселена. Он был более оживленным, чем накануне. Проходя мимо, постучал костяшками пальцев в мою дверь. Петли коротко проскрипели. Старик вошел в комнату дочери. Таким образом, нас разделяла теперь лишь тонкая перегородка. Голоса свободно проникали за нее. В Молеоне не заботились о таких мелочах; здесь не было места тайным перешептываниям: никто не имел секретов от остальных. Мое вторжение лишь на один день ослабило дружеские узы семейства, и день этот подходил к концу.
— Будь счастлива, — сказал старый господин. — Зима — во всем своем великолепии: ночью выпал снег. Все вокруг бело, ты это любишь. Когда ты была маленькой, ты думала, что с неба падает голубиный пух… Жанна, дитя мое, проснись!.. Жанна, весь Молеон под снегом!..
Голос Жанны был слишком тих, чтобы дойти до меня. Анселен же продолжал:
— О! Дорогое мое дитя, это еще не все. Ведь мартовский снег чреват оттепелью и скоро сойдет. Я же пришел сказать то, что обрадует тебя гораздо больше. Но мне, однако, нравится, что счастливый день этот начался с чистейшего предзнаменования… Ты еще не догадалась? После стольких мучений и споров между нами и смятения в моей собственной душе я пришел наконец к ответу. Это будет «да».
С той стороны перегородки послышался крик, исполненный ликования и любви, затем какие-то всхлипы.
— Ты увидишь Иерусалим, и все будет…
Я больше не слушал; набросив плащ, я выскочил наружу. Старый хозяин неплотно прикрыл за собой дверь. Он сидел на кровати.
— Отец, — говорила Жанна, — отец, любовь моя к вам всегда пребудет в сердце, — сегодня благодаря вам у Господа Иисуса закроется одна из ран. Вы выдернули одну из черных колючек Его тернового венца.
— О, Жанна, откуда ты это взяла? Благослови тебя Бог!
— Я стану вашей преданной служанкой на все время пути. Отец, отец, вы — самый благородный из рыцарей!
— Скоро ты их узнаешь лучше!
— Возможно. Я рассчитываю на это. Но в моем сердце ваше место было и навсегда останется первейшим.
Он гладил ее по щеке, нежно и долго, как будто она была маленькой девочкой, и этой лаской он отгонял от нее все страхи и печали. Отбросив любопытство, я счел нужным войти и, преклонив колена перед распятием, висевшим на побеленной стене у изголовья, воскликнул:
— Слава Тебе, возлюбленный Господь, Ты, великой мудростью Своей замыкающий круг и связывающий судьбы детей Твоих! Слава Тебе, Христос Искупитель, убедивший нашего доброго господина Анселена в том, что предначертанное воплотится по воле Твоей, ибо достоин он Света Твоего. И если сам я стал всего лишь грубым и ничтожным орудием воли Твоей, слава Тебе. Но если я окажусь достойным Твоей награды — я, который только лишь слепо повиновался Тебе, постучавшись в дверь Молеона, — я нижайше молю о том, чтобы счастье этого дня оказалось лишь бледным отблеском ослепительного солнечного сияния, что ждет их! И чтобы я навеки остался незаметной тенью, повсюду следующей по их стопам…
И случилось так, что господин Молеон, его близнецы, а также вызвавшиеся добровольцами землепашцы и дровосеки приняли посох и суму пилигримов. В главном церковном нефе собрались все прихожане; были здесь и соседние сеньоры, и тот, кто управлял тогда этой обителью со всеми своими рыцарями и оруженосцами. Трезвонили колокола. На паперти Ги де Реклоз кинулся в ноги Жанны и обнял ее колени:
— Я умоляю тебя! О! Я умоляю тебя во имя спасения души…
— Присоединяйся к нам, Ги.
— Ты мне дороже всех, а остальное неважно!
— Поедем с нами. Там — спасение.
— Моя мать не разрешила мне и дяди тоже. Это безумная идея — отправиться в Иерусалим, да еще в такое время года.
— Безумие из-за трусости отказаться от любви только потому, что путь к ней далек и труден, потому что мать и дяди против. Тем хуже для тебя!
— Я любил тебя и люблю!
— Любишь достаточно, чтобы мечтать ночами, но слишком мало, чтобы отказаться от своей прекрасной шляпы. Оставь меня.
— Жанна, Жанна моя, ты видишь мое унижение!
— Так спасай по крайней мере свое достоинство, раз ты остаешься здесь. Перестань смешить людей.
Священник произнес замечательную проповедь о Голгофе. Бедняга никогда в жизни не ступал по этой горе страдания, не видел своими глазами ни гефсиманских олив, ни небесной эмали Святого Града. Но душа его была доброй. Для него город Спасителя походил на Мортань, где был графский замок и где сам он появился на свет; гора — на местные холмы, густо поросшие замшелыми дубами. Я слушал вполуха — мне хватало моей радости, она была для меня лучшей проповедью, и я предавался ей без удержу. В первом ряду, между Жанной и Рено, преклонил колена хозяин, за ним — наши спутники и ваш покорный слуга. Вокруг нас теснились остроконечные капюшоны, шерстяные накидки прихожан и прихожанок. Тамплиеры помещались в хоре церкви, в своих негнущихся блестящих кольчугах и белых плащах Ордена. Напротив них — мелкие землевладельцы округи, и среди них — припавший к столбу, рыдающий Ги де Реклоз, выставлявший напоказ свое горе, в надежде смягчить Жанну таким приемом. Но та не замечала его: она молилась. Старый кюре Сен-Пьера, хоть и был он простоват и несколько неотесан, старался изо всех сил служить как можно лучше, ибо понимал, что присутствует при самом достопамятном событии, помимо, конечно, пресуществления вина и хлеба в плоть и кровь Господа Христа. Он бы затруднился объяснить вам, что это за событие, а впрочем, кто бы смог тогда это сделать, кто бы предсказал последствия? Маленький родничок может положить начало огромной реке, но чаще всего — ручейку; иногда же водяная струйка возвращается обратно в ту самую землю, что ее породила, оросив и освежив зелень по берегам. Даже я, многое уже испытавший в жизни, не мог ни о чем догадаться! Но во мне жил, что-то суля и предзнаменуя, образ Жанны, сидящей за столом перед масляным светильником. Кюре сделал знак. Ему подали паломнические котомки и посохи. Я сразу заметил, что они украшены султанами из перьев, как у совы, трепещущими при каждом движении. Мне стало смешно, но я сдержался из уважения к святости места. Стараясь придать побольше торжественности своему голосу, кюре произнес слова благословения и, вручая каждому его суму и посох, провозгласил:
— Во имя Господа нашего Иисуса Христа получи эти дары в помощь и ознаменование твоего паломничества, да будешь достоин достичь в чистоте и целости пределов Гроба Господнего в Иерусалиме, цели твоего обета, и да вернешься ты жив и здоров по окончании твоего пути.
В этот момент Ги де Реклоз выступил вперед, приблизился, простер руки, но вдруг, опустив голову, вернулся и сел на место. Поднявшись на мгновение над рабским состоянием, он чуть было не завоевал свою Жанну и снова потерял ее, на этот раз уже навсегда, низведя свое существование к мелким ежедневным удовольствиям, отрекшись от той малой толики добра, что была в нем. Как вам известно, на следующий год он женился на графстве Мортань в лице тощего, неуживчивого существа, единственной дочери виконта, которая не дала ему потомства. Осенью его запорол кабан. Стремясь ко всему, он не получил ничего. Но оставим это.
В дверях церкви, когда колокола, окончив свой перезвон, дали ему возможность заговорить, господин Анселен сообщил во всеуслышание, что он предает своих людей и владения под покровительство тамплиеров Молеона, поскольку сын его Рено отбывает вместе с ним в крестовый поход. Молодые деревенские женщины протягивали ему младенцев для поцелуя, а закаленные всеми напастями и горестями жизни старики набожно касались полы его плаща.
На этом месте почти всегда Гио прерывал свое повествование до следующего вечера и возобновлял его, то удлиняя, то сокращая подробности, судя по своему настроению и достоинствам захожего гостя. Если тот уже странствовал по дорогам Франции и пересек Средиземное море, то Гио только обозначал путь следования сеньора Анселена, сообщая лишь особые его подробности. В противном случае он, отдавшись сладким воспоминаниям, с удовольствием воскрешал в памяти день за днем, проведенные им среди маленького воинства. На прощанье же он обычно говорил своим слушателям:
— Не напоминает ли вам эта трогательная и красивая церемония передачи посохов обряд посвящения в рыцари? Не становится ли паломник, принявший посох с просветленным сердцем, рыцарем нашего Искупителя, соратником Христа, который предпочел одиноких страдальцев богатым счастливчикам? Не станет ли паломнический посох настоящим мечом, пламенно разящим злоумышленника? — И, улыбнувшись, он добавлял:
— Правда, для нас он так и остался священным символом, аллегорией! Мы увязывали его вместе с вещами и постелью. Ведь наш хозяин, как и обещал, наделил каждого хорошей лошадью со всем снаряжением. Вдобавок для перевоза припасов у нас было четыре мощных мула, взятых от сохи. На случай неприятной встречи в пути имелись новые мечи и хорошо окованные ясеневые копья… Но, милые братья, я злоупотребляю вашим терпением. Уж время отдыхать. Спите сном праведников.
8 КОНЬ ЗАРЖАЛ
— Вот так, слово за слово, нога за ногу, — приступил Гио к рассказу следующим вечером, — в начале апреля мы тронулись в путь. Нужно было составить конный отряд, не разоряя при этом домен. Юрпель негодовал:
— Кто же останется со мной, в конце концов? Хромые и косолапые? Вы наносите мне урон, господин Анселен!
Бедняге куда больше хотелось последовать за нами, чем оставаться сторожем молеонской башни, жить приключениями, а не ходить в ночные обходы. Он говорил:
— Это несправедливо, мой господин. Я должен быть там, куда бы вы ни направили ваши стопы, чтобы защищать вас от всяческих козней, командовать нашими людьми на суше и на море. Кому, как не мне, заботиться о корме, о привалах, об исправности оружия и упряжи? Раз за хозяйством будут следить тамплиеры, то почему бы одному из их рыцарей со своими сержантами и оруженосцами не поселиться здесь постоянно? Тогда необходимость во мне отпадет.
— Я все понимаю, мой дорогой Юрпель, — терпеливо отвечал Анселен. — Но я также знаю, что ты мое единственное доверенное лицо здесь и что лишь при твоем присутствии с нашими людьми ничего не случится.
— Но почему же вы в этом так уверены?
— Потому что все тебя знают и ты всех знаешь. Ты ведь родился в этом доме. В случае опасности ты сможешь найти убежище — никто лучше тебя не знает тайные тропы в лесу и подземные ходы. Да, Юрпель, я прошу у тебя тяжкой жертвы, но сам пойми…
— Я люблю вас и Господа в равной степени. Я привязан к этому дому, но еще более — к моей райской доле, если мне она назначена.
— Достаточно доброго намерения. Почтение, которое ты питаешь ко мне, не позволяет тебе ослушаться. С другой стороны, во всех моих приказаниях я дам отчет перед Господом Богом и архангелом Михаилом, судией душ человеческих. Ах, верный друг мой, не думай, что с легким сердцем отказываюсь я от твоего общества…
Кузнец заострил наконечники наших копий, наточил лезвия сабель, обил полосками металла наши мечи, украшенные чеканными львами с оскаленными клыками и выпущенными когтями. Деревенский шорник смазал салом поводья и сбруи наших лошадей. Белошвейки приготовили нам запас рубашек и перемену верхней одежды. Скорняки сшили кожи, которые должны были защитить нас от ночной свежести или на случай дождя. Маленький подручный кузнеца и четверо пахарей не были наездниками, и мы по очереди учили их держаться в седле, ехать рысью и галопом, брать препятствия. Не обошлось при этом без шишек с одной и хохота с другой стороны! Жанна с подругами вышивали вымпелы на копья и чинили старинный рыцарский стяг: весь в дырках, с оборванной бахромой — ведь Анселен хотел войти в Иерусалим «с высоко поднятой головой», по его собственному выражению, а это означало, что фамильные регалии должны были развеваться по ветру и сверкать на солнце!
По приглашению виконта, — в сопровождении Рено он совершил по крайней мере пять вылазок в Мортань. Сеньор не спешил с согласием. Его беспокоило, что такое прекрасное владение, как Молеон, — хотя бы временно — было доверено тамплиерам. Он рассыпался в похвалах белым плащам, однако не доверял им. Возможно, он предчувствовал, что в конце концов оно так и останется в их руках, сам же, несомненно, предпочитал — в том случае, если Жанна и Рено не вернутся из Святой Земли, — передать надел одному из своих прихлебателей. Он заставил также Анселена поклясться на Евангелии в том, что он не брал на себя долгов и не оставлял земель в залог Ордену. Возможно также, что все эти осложнения исходили от Ги де Реклоза, мать которого была в родстве с виконтессой.
— Я буду жаловаться нашему герцогу, — гремел старый господин, сотрясая стол кулаками. — Виконт злоупотребляет своей властью!
Жанна посоветовала ему отправиться в сопровождении командора тамплиеров, прославленного монаха-воина, поселившегося в этой сельской обители в надежде на исцеление. На его плече никак не заживала ужасная рана, края которой все время раскрывались, несмотря на лечение разными мазями. Казалось, рана жила собственной жизнью. Не всегда, правда, ибо временами наступало улучшение. Ни малейшей жалобы не срывалось с уст командора. Он был столь силен и упорен, что, не бледнея, все еще скакал верхом и простаивал на коленях церковные службы… Вплоть до того дня, как… Но вы сами знаете, что случилось с ним, покоящимся теперь в нашей часовне… Упокой, Господи, его чистую душу!
Лишь только он предстал перед виконтом — лицемерным существом в золоте и соболях, с землистого цвета лицом — как сражение было выиграно. Виконт не вынес ясного взгляда голубых глаз командора; они поразили его в самое сердце:
— Господин тамплиер, зачем же было вам беспокоиться? Дело давно решенное! Разве я могу в чем-то отказать сеньору Анселену, столь добропорядочному и почтительному по отношению ко мне? Меж нами нет и не было никогда и тени осложнений. Просто я был слишком занят разными неприятными обязанностями, которые накладывает на меня мой сан, и поэтому не подписал вовремя рескрипт.
Тамплиер не произнес ни слова ни в похвалу, ни в осуждение. С суровым лицом он наблюдал, как перо яростно скребет по пергаменту, как застывает воск с оттиском печати виконта. Он даже не снизошел до благодарности. Льстец же не знал, как ему держать себя. Его козьи глазки так бегали по лицам от одного к другому. Внимательному зрителю эта молчаливая сцена сказала бы о многом.
И вот наступил последний вечер в Молеоне, и все собрались на последнюю трапезу за длинным столом. Несмотря на то, что нам не терпелось пуститься в дорогу, нас охватила тревога, действию которой мы пытались сопротивляться. Жанна встала первой. Проглотив хлеб с маслом и кружку парного молока, она обошла весь дом сверху донизу. Добравшись до самого верха башни, она из-за зубцов долго глядела на мягкие очертания родных черепичных крыш, большую каминную трубу, из которой уже валил серый дым, на полный народа двор, конюхов, навьючивавших мулов, и взнуздывавших верховых лошадей, слуг, запасающих воду на день из колодца, и на темный, бескрайний, густой лес Молеона, встающий сразу за стеной и частоколом ограды, спускающийся до самых деревенских хижин и снова поднимающийся к подножию обители, сливаясь с голубой линией холмов. Ощущая какое-то смутное предчувствие недоброго, девушка кусала губы, чтобы не расплакаться. Подбадривая ее, стражник отважился сказать:
— Вы еще увидите все это, госпожа! Вернетесь, и найдете все точь-в-точь таким же! Дом прочен, да и мы на месте!
В знак благодарности она легко коснулась пальцами стальных колец его панциря. Тут стражник, в свою очередь, закусил губу и пробормотал:
— Нам будет не хватать вас, госпожа! Возвращайтесь скорее!
После рукопожатий, объятий, поцелуев женщин, под их причитания мы наконец тронулись. Последним взгромоздили на коня хозяина: он настоял на том, чтобы перецеловать всех пожилых женщин домена и служанок. Потом он долго и пристально посмотрел на свой дом. Никогда раньше он не казался ему столь прекрасным! Будучи человеком простым и непритязательным он никогда не замечал, что лес его источает чудесный аромат, холмы напоминают морские волны, а на ветвях деревьев живет множество певчих птиц!
Весь деревенский люд вышел к нам, чтобы проститься; толпа окружала тамплиеров, отправлявшихся в путь по приказу Великого Магистра Иерусалимского. Эти добрые люди, сами того не желая, замедлили наше шествие. Но можно ли было оказаться столь черствым, чтобы обидеть их? То, о чем говорили сердца и уезжавших, и остающихся, помимо слов, стоило полудневной задержки! В окружении детей-певчих из церкви вышел приходской священник с серебряным, усыпанным цветными камнями крестом в руках. Он дал нам святой воды. А когда перед ним преклонили стяг Анселена и золотая бахрома коснулась травы, он щедро окропил его. И вот, у конца пруда, процессия разделилась! Однако некоторые, самые сильные и наиболее преданные, следовали с нами до самой границы владения, среди них был и Юрпель. То место было отмечено железным крестом, на котором висел герб рода Молеонов.
— Вот, — простонал Юрпель, — вот, мой господин, я и возвращаюсь с тяжестью на сердце!
— Не переживай так! Если я, что очень вероятно, осяду там, а Жанна и Рено вернутся восвояси, то я вызову тебя. Обещаю тебе это и клянусь: остаток дней мы проведем вместе.
— О, господин, спаси вас Бог! Я буду жить этой надеждой.
— Ты можешь и должен так поступать.
И вскоре Юрпель, поворотив коня, пришпорил его и исчез за кустарниками.
— Вот сейчас, — проговорил Анселен, — мы действительно в пути.
И вдруг, не отъехав и лье от железного креста, васанский мой конь заржал, да так странно, что я забеспокоился. Бока его так и ходили подо мной.
— Он не до конца оправился от раны!
— Нет, — ответил тамплиер, скакавший рядом со мной, — он чует падаль. Это свойство его породы, разве вы не знаете?
Действительно, как же я мог забыть, что от природы он обладал даром ясновидения? Я имел тому много примеров, но, встревожившись до крайности, совсем упустил это из виду. И чем дальше мы продвигались, тем беспокойнее он становился, тем чаще вырывалось у него это тревожное ржание, от которого прядали ушами остальные лошади. Немного погодя впереди нас в небо взвилась стая черных воронов. Они растаскивали останки человека, по-видимому, убитого и почти съеденного волками прошлой ночью. Среди обрывков одежды и обглоданных костей один из нас заметил свинцовую раковину и воскликнул:
— Это заблудившийся паломник! Помолимся за него!
Его пояс был цел, хотя и хранил следы волчьих клыков; к нему был привязан кожаный кошель. Кто-то открыл его и высыпал на ладонь содержимое: несколько монет и камешек бирюзы — тот самый, что украшал мои ножны. Так вот кого почуял мой васанский конь — то был один из его похитителей, лжепилигрим, разбойник, не по праву украсивший свою шляпу раковинами! Услышав это, тамплиеры выстроились впереди нас, сжав руками копья. Но до самого вечера нам не попалось ни одного грабителя: должно быть, они побоялись нашего сопровождения или же рассеялись по вспаханным виноградникам. Однако это происшествие омрачило настроение путников. Дорожные песенки, что мы было затянули так весело, показались теперь неуместными. Мы переговаривались между собой через головы наших лошадей, однако голосов не повышали. Некоторые в этом в общем-то обычном происшествии увидели дурной знак; они еще не привыкли встречать человеческие останки вдоль дорог…
Мы подкрепились в Брессуире, в просторной риге, что называлась постоялым двором паломников Сантьяго-да-Компостелла и была в то время почти пуста. Жители деревни принесли нам мяса и вина. Они сообщили, что дорога на юг наводнена подозрительными шайками, а по тем-то и тем-то лесам бродят стаи волков. Владелец земли, сеньор де Бомон, вышел приветствовать нашего старого господина. Он подтвердил слова своих людей и радушно пригласил его провести ночь под крышей своего имения. Однако Анселен отклонил его. И оказался прав, ибо мы добрались до Партенэ без происшествий; там нас принял такой же паломнический приют, где было тепло и имелись хоть какие-то лежанки. Колбасник угостил нас пирогом с кабаньим мясом, виноградарь принес бочонок своего вина, узнав среди наших людей своего двоюродного брата. Мы с аппетитом подкрепились, и вас отвели на покой. Здесь в первый раз Жанне пришлось раздеваться прилюдно. И я могу подтвердить, что, несмотря на свою несравненную красоту, в этих грубых людях она возбуждала не похоть, но величайшее уважение, что-то вроде трогательного преклонения.
Лежа рядом с Рено, я услышал ее шепот:
— Как ты, братец?
— У меня все хорошо.
— Ты жалеешь о Молеоне?
— Да, немного.
— Мечтай о Иерусалиме.
— Я только этим и занимаюсь.
— Если Гио говорит правду, то Иерусалим подобен оленю, раскинувшемуся среди холмов. Как ты думаешь, сможем ли мы тогда думать о чем-либо другом, вернемся ли мы домой?
— Мы обо всем с тобой забудем…
— Наш отец говорит, что у Гио золотые уста, он просто очарован им. Ах, Боже мой, вдруг он услышит!
— Успокойся, он спит.
— Как ты думаешь, Иерусалим такой и есть, как о нем говорит Гио?
— Гораздо лучше, сестренка! Я уже узнал у Гио много интересного: названия улиц и частей города, его дворцов и башен. Король живет во дворце Монт-Руаяль…
— Шестнадцатилетний король?
— Да. А тамплиеры живут в храме Соломона, под куполом, крытым чистым золотом…
— Не может быть!
— Гио так сказал. А еще то, что в конюшне под эспланадой храма можно поставить более тысячи лошадей. Он перечислил мне и деревья, которые там растут: пальмы, оливы, и плоды, что они дают. Назвал реки и озера — все это полезные сведения.
— Да, но говори потише…
Вокруг них храпели спящие, некоторые раскинулись, обнажив всю нищету тленной плоти, раскрыв рот с гнилыми остатками зубов. Лишь немногим сон возвращал кротость детского облика. В углу комнаты тамплиеры накинули на одеяла свои белые плащи — то ли для того, чтобы защититься от искушения, то ли, чтобы ангелы небесные, пролетая над ними с раскинутыми крыльями, сразу же их заметили.
— Нет, нет, — возразила Жанна, как опытная женщина. — Это для того, чтобы разгладить ткань. Всегда, в любых условиях они должны быть прекрасны: Орден наказывает грязнуль и неопрятных… Скажи, ты правда думаешь, что мы увидим фонтаны в садах и внутри домов?
— Да, я надеюсь.
— И что, у нас будет такой дом?
— Все зависит от моих успехов. Отец стар, но я буду ему опорой.
— А правда ли, что у нас будут рабы мавры?
— Жанна, неужели ты не хочешь спать? Перестань, завтра будет долгий день. Мы еще не скоро доберемся до пристаней Марселя…
9 ЛЕГЕНДА О КРОВОТОЧАЩЕМ КОПЬЕ
— Гио, дорогой Гио, идите сюда!
— С удовольствием.
Васанский конь приблизился к изящной белой кобыле Жанны. С утра наш небольшой отряд продвигался по пустынной дороге через равнину. Ни одного деревца не заслоняло горизонт, и, следовательно, впереди не было никакой опасности. Соломенные крыши деревенских домиков мелькали время от времени в перелогах полей. Ни единой башни, ни какого-либо укрепления не возникло на этих плоских землях: из-за отсутствия удобных для обороны мест, источников для наполнения оборонительных рвов, лесов для охоты, единственного развлечения сельских сеньоров. А между тем это была живописная и плодородная местность, если судить по распаханным полям, — похожим на шахматную доску. Кое-где на лугах паслись стада, кобылы с жеребятами дремали в тени орешника или же теснились вокруг какой-нибудь лужи. Облака странствовали по небу следом за нами. Они были светлее и выше, чем в Молеоне, и между ними сквозило по-летнему голубое небо. Солнце, также припекало сильнее; лучи его, чередуясь с полосами тени, скользили по равнине. Мы двигались по дороге, покрытой щебнем и без малейшего изгиба стрелой уходящей за горизонт. Колеса повозок прорыли в ней две глубокие колеи, между которыми, один за другим, мы двигались мелкой рысью.
В замшевом корсете и юбке, в зеленом плаще и в кожаной обуви того же цвета, с обнаженной головой, ловко устроившись в высоком седле, рядом весело скакала Жанна. Замечая все на своем пути, она то напевала, то умолкала, то улыбалась, то становилась серьезной.
— Пожалуйста, Гио, расскажите мне о шестнадцатилетнем короле…
Любопытство ее во всем, что касалось юного монарха, было просто неутолимым. Мне казалось, что я рассказал все, что можно, но она снова и снова расспрашивала меня.
— Милый Гио, вы не говорили мне ни о его матери, ни о дне его рождения…
Кто смог бы промолчать, когда она так просила?! Однако я попытался охладить ее интерес к королю.
— Но, госпожа моя, его появление на свет было совершенно обычным.
— Вы в этом уверены?
Влечение, что внушил наш юный король этой женской душе на столь огромном расстоянии, развлекало и забавляло меня, однако оно будило и опасения. Страшно подумать, что произойдет, когда она увидит принца, каким горьким разочарованием сменится теперешний ее восторг! Куда мне деться тогда от ее справедливого гнева?
— Я не был еще в Святой Земле, когда он появился на свет, моя госпожа…
— Возможно, Гио. Но вы так внимательны и участливы к ближним — вы, несомненно, справлялись о нем у окружающих, были знакомы с очевидцами его детских лет?…
Да, она была прирожденным дипломатом. Мое, зачастую нескромное любопытство, по ее словам, оказывается, было любовью к ближнему! Ну как не полюбить ее хотя бы за эту чуткость, за которой угадывалась, однако, недюжинная проницательность!
— Матерью Бодуэна была Агнесса де Куртенэ. Бароны Святой Земли, патриарх и епископы противились этому браку Амори, он ведь состоял со своей женой в недозволенном родстве, а также и по другим причинам, которых я не знаю. Когда Амори венчали Иерусалимской короной, он расторг свой брак, несмотря на то, что имел в нем двоих детей: Сибиллу и Бодуэна. От второй жены у него родилась дочь Изабелла, а вскоре он скончался от воспаления внутренностей. По церковному праву Бодуэн, прижитый в незаконном браке и рассматриваемый как незаконнорожденный, не может наследовать отцу. Вы следите за моей мыслью?
— Этот закон слишком жесток.
— Между тем, будучи единственным сыном Амори и зрелым не по годам, Бодуэн получил корону. Учителем и наставником его был архиепископ Гиом Тирский, замечательный человек. Вот и все, что я о том знаю.
— Не было ли его рождение отмечено каким-нибудь необыкновенным предзнаменованием, как это часто случается с принцами королевской крови?
— Венценосный младенец сам по себе явление необыкновенное. Если он становится славным полководцем, все сразу вспоминают о маленькой сабельке, в которую он играл.
— Ну а он?
— Мне рассказывали о столь странном происшествии, что я не решаюсь говорить о нем.
— Я прошу вас об этом.
— Я предупреждаю, что это бабья болтовня.
— Все равно, говорите.
— Якобы в ночь его рождения в комнате появилось копье, несомое невидимой рукой. Оно прошло через закрытую на замок дверь, пересекло зал, обогнуло колыбель наследника и исчезло. Из него сочилась кровь.
— Что?
— Капли крови выступали на острие и стекали по флажку. «Но нигде, — утверждала кормилица, — ни на занавесях колыбели, ни на мощеном полу или на вытканных мавританскими рабами коврах не нашли ни пятнышка, хотя кровь была алая и густая, на каплях играли блики свечей. В тот самый момент Бодуэн открыл глаза и испустил свой первый крик».
— Что за тайный смысл скрывает это знамение?
— Да это, может быть, всего лишь выдумки старой кормилицы!
— Мне кажется, вы не открыли мне всех ваших мыслей.
— Да, я часто, даже слишком часто задумывался над загадкой этого видения кровоточащего копья у колыбели…
— И что же?
— Даже если это выдумки служанки, или ее сон, приснившийся у изголовья младенца — все равно здесь кроется какая-то зловещая тайна. Но какая?
— По-моему, — произнесла она, вздернув свой маленький твердый подбородок, — это похоже на предопределение.
— Чего же?
— Страдания и славы, столь возвышенных, исполненных такого пыла и самоотречения, что в будущем человека, которому судьба послала этот знак, причислят к великим. Вот что я вижу в этом.
Так вот чего, сам того не сознавая, я и боялся, думая о короле! Страдание и слава, и никаких радостей жизни. Знание тайны давило на меня тяжким грузом, но почему-то мне казалось предательством открыться кому-нибудь раньше времени.
В полдень мы подкрепились в городе Мель, гордо возвышавшемся на неприступной скале, известном своими искусными чеканщиками, отливающими такие красивые серебряные денье. Господин Анселен выразил желание запастись ими, но немедленно раздал нищим, облепившим его толпой на пороге монетного двора. Один из тамплиеров сказал:
— Господин Анселен, простите мне мою смелость, но если вы будете столь щедро раздавать милостыню, то уже в Марселе у вас ничего не останется. Вспомните, сколько стоит дорога.
Хозяин поблагодарил за науку, но отдал последнюю монетку хромому, цеплявшемуся за его стремена крючковатыми пальцами в красных пятнах.
В глубине ущелья у подножия городских укреплений возводилось приоратство. Один из каменщиков, которому мы дали немного вина и мяса, посоветовал нам быть осторожнее, миновав Ольне.
— Эта Ангулемская дорога крайне опасна. Она идет через заброшенный и заросший лес, хозяин которого вот уже десять лет как умер, а братья его воюют за морем. А между тем дорога заросла и стала настоящим логовом для лютых и алчных разбойников. С ними шутки плохи, предупреждаю вас! Это грязное отродье ни перед чем не остановится! Говорят, что это потомки мавров, осевших поблизости после проигранного сражения. Мне же кажется, что рожи их черны от грязи, или же они специально мажутся сажей, чтобы люди их не признали.
— Так ты их видел?
— Они дерзают подходить к самому городу, чтобы грабить и разбойничать здесь; кое-кто говорит, что это шайка преступного сеньора, спустившегося с гор Оверни.
Тамплиеры тоже слышали об этой дороге страшные вещи. Они полагали, что нам нужно ночевать в Ольне, а не дальше, как предполагалось сперва. Это сокращало дневной переход, но мы опасались идти на такую встречу в сумерках. А если бы мы разбили палатки в чистом поле, чтобы выиграть время, то непременно подверглись бы ночному нападению… Жанна участвовала в общем обсуждении и проявила больше осмотрительности, нежели ее брат. Рыцарь Рено не боялся ничего на свете, разве только того, что битвы Святой Земли прекратятся до его прибытия. Он смеялся над нашим малодушием — правда, в отсутствие тамплиеров! По дороге в Ольне нас нагнал некий рыцарь. Он был на прекрасном коне столь светлой масти, что своей окраской он напоминал плод апельсина! Пурпурный, сплошь затканный цветами плащ ниспадал с его плеч! На шляпе сверкал драгоценный камень. Сзади нас послышались крики:
— Ги де Реклоз! Это Ги!
Однако это был не он. Но Жанна, удивленная нахлынувшей надеждой, обернулась на крик. Мы окликнули рыцаря, но он, вместо того, чтобы обменяться общепринятыми приветствиями, лишь пришпорил своего коня. Тот взвился на дыбы и унесся стрелой. Очень быстро мы потеряли их из виду.
— Должно быть, это сам дьявол, принарядившийся к празднику!
— Да нет, он просто спешит к своей подружке!
Последовали столь вольные шутки, что тамплиеры поспешили скорее опередить нас. Жанна же сохраняла ровный тон и не мешала своим спутникам привычно болтать и шутить.
Мы продвигались довольно быстро, и было еще светло, когда над деревьями, покрытыми нежной зеленью, показался шпиль Ольнейской колокольни. Вечернее солнце золотило эту церковь, показавшуюся мне одной из самых красивых в Бретани и Пуату. Многие превосходили ее размерами, но не тонкостью резьбы и изяществом очертаний. Она была как крепость души, как открытая прекрасная книга. Портал ее напоминал заставку в Часослове; великолепно изукрашенный, он настраивал на строгую сосредоточенность. Церковь притягивала к себе властно и неудержимо всякий взор, всякую душу — в том числе, я думаю, и душу грешника. Куда бы тот ни спешил — он не смог бы продолжить своего пути без того, чтобы не зайти сюда. Он уступил бы любопытству, а попав в этот храм, насладился бы мелодией живого камня!
Ну а нам, за неимением приюта для паломников, посчастливилось переночевать в нем. На закате, а затем на восходе солнца, я растолковывал Жанне эту резную каменную скрижаль. Арки портала вобрали в себя весь бестиарий: львы, сирены, крылатые псы, змеи, орлы; но также и двенадцать старцев — хранителей светильника, Евангелисты, разумные девы, весьма отличные от дев неразумных, Спаситель в окружении святого Павла и святого Петра. Два ангела собирали кровь первосвященника Христова, распятого вниз головой на перевернутом кресте. Изображенные персонажи были обрамлены расписной листвой, лучистыми звездами, гранеными алмазами. Никогда Жанне, привыкшей к грубо сложенным часовням и капеллам ее края, не доводилось видеть такого пиршества искусства, читать такую каменную повесть! Да и я, повидавший немало церквей в моих странствиях, ни разу еще столь глубоко не прочувствовал всех символов нашей религии. Более того, мне показалось, что я разгадал наконец загадку «Рыцаря Константина», что изображался обычно на фасадах святилищ вдоль главных дорог паломнического пути. Это вовсе не император, нет, это крестоносец, держащий путь на Восток. Его рука в перчатке указует не что иное, как направление, дорогу, что ведет туда. Это открытие привело меня в прекрасное расположение духа.
Жанна ахнула при виде капители с резным изображением двух слонов под попонами с поднятыми хоботами. Она не подозревала о существовании этих животных и спрашивала, достигают ли они размеров лошади. Мы веселились как двое детей. Со всем вниманием она рассматривала рельеф с изображением Далилы, обрезающей Самсону волосы. Она заметила:
— Если верно, что из эгоизма или неверности женщина может отнять у мужчины всю силу, то должно быть верным и то, что она может сделать его сильнее и лучше, отдав ему всю свою нежность и постоянство?
— Конечно, это вполне возможно, но, должно быть, встречается крайне редко.
— Хорошо, что хотя бы возможно…
После ужина, когда мы совершили вечернюю молитву, Рено и Анселен удалились, она же осталась рядом со мной на скамье перед алтарем:
— Дорогой Гио, этот день надо отметить белым камешком.
— Почему, госпожа моя?
— У меня появился новый бесценный друг.
— Это так.
— Ведь между нами установилось нечто вроде единения в сердцах и в мыслях. Разве это плохо?
— Если это странствие ведет нас в рай, то благодаря вам я изведал его предместья.
Немного помедлив, она продолжала:
— Вы никогда не говорите о себе, это удивляет меня. Были ли у вас отец и мать, семья?
— Я один на свете. Отца своего я помню лишь смутно. Мать умерла. Больше никого нет.
— И из-за этого одиночества вы приняли на себя крест, или же вас потянуло к приключениям?
— Признаться, скорее из отвращение к миру. Я долго думал, что достаточно поступать правильно, чтобы преуспеть в жизни. Как я ошибался! На собственном опыте я убедился, что если ты беден, то все твои таланты — излишни, если не предосудительны.
— Вы были бедны, милый Гио?
— Почти, во всяком случае настолько, что не мог свободно бывать у тех, кого любил, как мне казалось.
— У знатных людей?
— Да, первейших в королевстве. В те времена моей ревнивой женой была моя непомерная гордость.
— Вы из благородной семьи?
— Да, мне говорили так, но оттого лишь тяжелее страдания, когда у тебя нет ни дома, ни домена, ни богатой родни.
— И вы нашили крест, чтобы отказаться от мира?
— Я продал остатки своего наследства, чтобы справить себе доспехи, и уехал.
— С горечью в сердце!
— С больной душой. Ничто не удерживало меня, я никому не был нужен. Но как только предо мной предстали Иерусалим, Голгофа, Гефсиманский сад — вся моя горечь ушла, растворилась… Я стал свободен и со всем пылом души полюбил все это. Успех, богатство — все, чего я еще недавно так страстно желал, стало ничтожным в сравнении с безмерной радостью скачки по песку пустыни или в пыли Святых Мест…
— Я так и думала!
— Но, госпожа моя, здесь нет никакой заслуги! Я не заслужил эту радость, я получил ее в дар.
— А теперь?
— Жизнь моя легка, ибо я люблю ее.
— Возвращались ли вы в родные места, когда ездили с поручениями Бодуэна?
— У меня не было на то времени, да я и не хотел этого.
— Значит, вы полностью исцелились, дорогой Гио. Интересно, что же станет со мной, когда я увижу Иерусалим…
Наши спутники храпели. Лишь маленький огонек на алтаре бодрствовал вместе с нами. И именно там, под сводами Ольне, и родилась наша незабвенная дружба.
10 ПРИЮТ В ПРАНЗАКЕ
Каменщик оказался прав. На этом отрезке Ангулемской дороги, ведущей через Бракону, в густом заброшенном лесу, у нас была очень неприятная встреча. В то время как мы медленно продвигались с копьями наперевес, с обнаженными мечами и надвинутыми шлемами — тамплиеры открывали и замыкали шествие, а боковая стража пробивала себе путь в зарослях — внезапно до нас донеслись крики и звон мечей. Дорога круто спускалась вниз к оврагу и становилась все темнее и опаснее из-за низко нависающих ветвей деревьев и их выгнутых к земле толстых стволов, зарослей травы и переплетенных корней. Снизу поднималась пелена тумана. Нам не оставалось ничего другого, как устремиться вперед всем вместе, что мы и сделали. Радом со мной смело обнажила свой меч Жанна. Васанский конь, белая кобыла и другие лошади воинственно ржали, оскалив зубы и ощетинившись гривами. Мулы дрожали от страха, и один из них упал, покатившись по камням, ломая ветки своей тяжестью; к счастью, он вез лишь наши пожитки! Мы вступили в полосу тумана и вскоре очутились у развилки лесных дорог, посреди которой возвышался замшелый крест. Вокруг него несколько пилигримов жестоко сражались с разбойниками. Узловатые палки ударялись о щиты, мечи со свистом рассекали воздух. Едва завидев нас, разбойники разбежались, как стая воробьев, и исчезли в мшистых зарослях, спасаясь от нашего преследования. Удалось поймать лишь двоих, которые тотчас же были связаны и обысканы. В их карманах оказалось немного золота и перстней. Как и говорил каменщик, они вымазали себе лица углем, чтобы стать неузнаваемыми. Пилигримы сгрудились вокруг нас, благодаря Господа и вознося ему молитвы. Они умоляли позволить им похоронить убитых: целая дюжина убитых паломников лежала, распростершись на мшистой земле. Анселен позволил им это, вопреки увещеваниям тамплиеров.
— Это неосторожно, господин Анселен. Разбойники вернутся с подкреплением и застанут нас во время похоронного шествия, — сказал я.
— Они не осмелятся на это.
— Вы даете им возможность собраться вместе.
— Оставить этих мертвых без погребения?
— Для пилигримов любая земля будет пухом!
— Бросим их на съедение воронам?
Как я уже говорил, Анселен был упрямей быка. Ни в чем не отказывая, мягко, с обезоруживающей любезностью, он настаивал на своем решении или упорствовал в своем желании. Так наши крестьяне вместе с пилигримами принялись копать могилу новопреставленным.
— Милостивый сеньор, мы пропадем, если снова окажемся одни. Проводите нас до Ангулема! Ах, благородные рыцари, правая рука нашего Господа Христа, снизойдите к нашему несчастью…
Мы посадили раненых на крупы лошадей и тронулись, пребывая в большой тревоге. Небо было ясно, солнце почти в зените. Однако по мере того, как мы углублялись в чащу этого проклятого леса, свет мерк, едва пробиваясь сквозь густую листву, колючую кору стволов, молодую поросль и переплетенные ветви деревьев. Плющ и вьюнок, карабкаясь по стволам, свисали сверху длинной бахромой. Огромные, не менее бочонка, пучки омелы тянули соки из ветвистых дубов. За этим неподвижным хаосом мерещились крадущиеся злодеи, подстерегающие нас древние чудовища. А между тем наши пахари и дровосеки — люди с прекрасным аппетитом, привыкшие к тому же к частым и обильным трапезам — умирали с голоду! Но было бы безумием спешиваться для того только, чтобы попировать вволю. Все теснее и теснее обступала нас эта древесная пустыня. Страх ожидания сжимал горло. Слышался лишь стук подков, звон доспехов да хриплые крики воронов. Они следили за нами с надеждой, предчувствуя, что скоро мы доставим им обильное пропитание: и они в этом не ошиблись. Своими маленькими насмешливыми глазками они разглядывали нас с нескрываемым превосходством. Их карканье все время раздавалось впереди нас.
— Падальщики! — прорычал выведенный из себя крестьянин.
И бедняга начал вертеть своим мечом в воздухе. Никто, даже маленький кузнец, и не подумал шутить и смеяться. Но если эти гарпии, перелетая с дерева на дерево, громко переговаривались и шумно оповещали друг друга о наших намерениях, то они же и предупредили нас об опасности. Мы обратили внимание на их стаю, кружащую над той частью леса, что резко вдавалась в дорогу…
Тамплиеры взяли копья наперевес. Резкий свист послышался из дуплистого дуба. В нас полетели стрелы. И вдруг, как туча саранчи, на нас накинулись разбойники. Многие из наших были опрокинуты неожиданным ударом. Я приблизился к Жанне. Она мне крикнула:
— Если они одолеют нас, убей меня, Гио!
Она не хотела живой попасть к ним в руки. Они бы пощадили ее, чтобы превратить в животное для своих развлечений. Силы небесные, в случае необходимости, я, безусловно, сделал бы это! Но, к счастью, с нами были рыцари обители со своими оруженосцами. Их ремеслом была война, и они были столь же умелы, сколь и бесстрашны. Среди них в первых рядах бился Рено; раскроив чей-то череп, он разражался зычным смехом. К Анселену вернулся пыл молодости; всем весом тела налегал он на свою утыканную остриями палицу, подобно тому, как лесоруб налегает на свой топор. Мозг брызгал из-под разбитых шлемов, глаза врагов вылезали из орбит. Я же пронзал самых дерзких, тех, кому удалось добраться до Жанны, проскользнув между лошадиных ног, и тех, кто пытался перерезать их сухожилия своим длинным широким ножом. Бандиты были вооружены гораздо хуже нашего; они несли потери, но все равно упорно наступали. Перевес был слишком незначителен, исход неясен. Сеньор, собравшийся в крестовый поход, — это обещало много золота! Однако их ожесточение оказалось вынужденным. Когда, обескураженные нашим сопротивлением, они начали сдавать, огромный черный демон в разорванном плаще, перепоясанный некогда красным, усеянным сверкающими заклепками поясом, мечом гнал их вперед. Этот человек кричал и выл как бешеный волк. По его кольчужному нагруднику рассыпалась борода, столь же черная, как и его лицо. В то время, как его люди получали и раздавали удары, он равнодушно стоял в стороне. Своими бесцветными глазами он сверлил Жанну, развевающуюся кипу ее волос, сверкающую на фоне зелени. Вне всякого сомнения, он приказал взять ее живой и доставить в его пользование! Поэтому бандиты старались отделить нас от наших товарищей, не поразить, а выманить нас подальше. Когда показалось, что наши дрогнули, трое их смельчаков бросились к лошади Жанны, пытаясь схватить ее за ноги и стащить с седла. Она сжала пальцы. Но ее меч оказался зажат в перевязи шлема. Я же был слишком занят своей собственной обороной, чтобы прийти к ней на помощь. Спас ее маленький кузнец. Его топор творил чудеса, раскраивая туловища, отрубая конечности, сокрушая плечи. Но предательский клинок пронзил ему спину. Другой — разбил лоб. Он упал на колени, вытянулся, заливаясь потоками крови.
Внезапно разбойники отступили. Мы сочли это за хитрую уловку. Но нет, они прервали сражение и устремились к кустам и мшаникам врассыпную, спасаясь от нашего возмездия. Многие были повержены, другие добровольно сдались в плен.
— Чудо! Чудо! — твердили наши пилигримы.
Виновником этого «чуда» был один из рыцарей Храма. Разгадав замысел черного человека, он устремился на него с поднятым копьем и пригвоздил ко мху, да с такой мощью, что древко копья переломилось возле флажка. Смерти главаря было достаточно для того, чтобы обескуражить негодяев. Мы повесили в назидание им шестерых или семерых из их шайки на дубах, растущих вдоль дороги…
Привязав своих мертвых и раненых к лошадям, мы снова двинулись вперед. Но, выйдя из этого гибельного леса, мы погрузились в глубокое уныние. Скольких товарищей мы потеряли! Пятерых землепашцев, троих дровосеков, двоих из слуг и солдат Анселена, одного рыцаря и пятерых оруженосцев Храма. Что же до бедных пилигримов, якобы спасенных нами, то среди них в живых не осталось ни одного! У нас было много серьезно раненых, в том числе и подручный кузнеца, другие были задеты слегка. Из осторожности мы подкрепились и выпили по глотку вина, не слезая с седел. Во второй половине дня, проплутав среди равнины, мы заметили деревню, именуемую Пранзак. Неподалеку от церкви находился приют для пилигримов. Здесь мы попросились на ночлег. Было решено, что мы остановимся здесь хотя бы на несколько дней, отдых был для нас первейшей необходимостью.
Этот приют в Пранзаке был укрепленным поселением, содержавшимся братьями госпитальерами. Они сделали все, что было в их силах, чтобы облегчить наше состояние. Но ни свежеиспеченные пироги, ни кабаньи окорока, ни вино из их подвалов не смогли вернуть нам вчерашней безмятежности.
В капелле госпитальеров, при зажженных свечах, на застеленных черным носилках наши погибшие спутники готовились совсем к иному странствию! Они лежали вокруг тамплиера в пробитой окровавленной кольчуге, со скрещенными руками на рукояти зазубренного меча. Неподвижные, как статуи, братья госпитальеры бдели и молились над мертвыми вместо нас…
Для Жанны и меня ночь эта также была бессонной; мы, вместе с лекарем приюта, пользовали раненых. Этот монах был поражен, с каким умением Жанна промывала раны, с какой ловкостью накладывала повязки. Но удивлению его не было предела! Она умела также вправлять сломанные кости, приготовлять лубки, как это делают лекари в наших военных лагерях.
— Госпожа, — спросил монах, — кто научил вас всему этому?
— Двое людей, — ответила она, улыбнувшись, — старший пастух домена и Юрпель, воин моего отца.
— Признаюсь откровенно, я плохо подумал о вас, когда увидел среди мужчин. Теперь же прошу за это прощения. В Святой Земле вы станете необходимой для своих друзей.
— Она бесценна уже сейчас!
Его быстрые глазки, похожие на яблочные семечки, бегло окинули меня. Он сделал это не из подозрения, а для того, чтобы понять и оценить чувство, внушившее мне такой ответ. Затем он загадочно улыбнулся. Мне показалось тогда, что он разделяет мое восхищение Жанной и радость прислуживать ей. Но теперь я не могу сказать, что понял до конца, о чем он тогда подумал.
— Сейчас, — сказал он, — мы займемся этой стрелой. Дело трудное, и бедняга будет очень страдать. Хватит ли у вас духа, госпожа? Никто не осудит вас, если вы откажетесь сразу.
Но духу ей хватило, правда, при каждом стоне терзаемого нами раненого она крепко стискивала зубы. Нужно было извлечь застрявший наконечник сломанной стрелы из его живота. Брат надрезал рану маленьким серебряным ножичком и в несколько приемов захватил острие щипцами. Вынимая его, он разорвал какую-то вену, и кровь хлынула широким бурлящим потоком; проклиная нас, человек испустил дух. Только тогда Жанна согласилась присесть. Она была бела, как саван, и лекарь протянул ей склянку, висевшую у него на поясе. Один из братьев подозвал нас. Кузнечный подмастерье внушал серьезные опасения.
— У него сломана черепная кость.
Однако он был еще жив, несмотря на два тяжелых ранения — спины и головы. Жанна присела возле него, взяла его руки в свои — она не могла помочь ему ничем больше, кроме как молитвами своей безгрешной души:
— Господи, Боже мой, снизойдите к этому младенцу в великой милости Своей. Во имя славы Вашей, горя любовью к Вам, принял он на себя крест. Исцелите его во имя любви к Вам, но введите его в Царствие Ваше, если так угодно Вам.
Как только прозвучал колокол, сзывавший на полночное бдение, маленький кузнец скорчился на своем ложе и простонал:
— Я умираю за вас, госпожа моя!
И она поцеловала грубую руку, лежащую в ее ладонях, она согрела ее теплом своих нежных губ! Умиротворенный этим поцелуем и милостью Божьей он затих и погрузился в вечный сон, устремив на нее оставшиеся открытыми глаза. Мы отнесли его в капеллу и накрыли черным покрывалом. Один из госпитальеров произнес:
— Счастливый юноша, он умер за святое дело. Отцу своему небесному вручит он душу чистую, как голубица. Я завидую ему. Он не успел нагрешить.
Тою же ночью среди спящих случился переполох. Нас срочно вызвали. Господин Анселен был разбужен тем, что кто-то вытаскивал у него кошель со всем нашим состоянием! Человек этот скрылся, но он не мог никуда выйти из дома. Конечно же, он не был ни храмовником, ни жителем Молеона. С горьким чувством, при свете факела принялись мы за поиски. Кошель был обнаружен у одного из пилигримов, спасенных нами с таким трудом. Эта кража возмутила даже самых кротких. Они потребовали немедленного возмездия. Рыцарь Рено выхватил меч:
— Этого ему мало! — прорычал он. — Прежде чем его повесить, надо отрубить ему эту грязную клешню!
— Нужно, чтобы он сперва покаялся, — сказал старый Анселен.
Провинившийся встал перед ним на колени:
— Добрый господин, молю вас о снисхождении, ведь я — дурное семя, кающийся грешник, презренное отродье… Искушение пробудило во мне дурные привычки. Сто раз заслуживаю я смертной казни, ибо не смог искупить грехи, несмотря на все мои усилия…
— Веревку! — кричали вокруг. — Это лжепилигрим!
Но тут вмешалась Жанна и добилась его помилования.
11 РОЗА В ПЛЕВЕЛАХ
Весна наступала вместе с нашим продвижением. Путь из Ангулема в Суйак, а оттуда к Муассаку с его прекрасным аббатством был не чем иным, как прогулкой среди зеленеющих лугов и виноградников. Каким миртам и ясным было все вокруг! Разбуженные весенним теплом расцветали цветы на лугах и на деревьях, и насколько же они были ярче, богаче и разнообразнее, цветов скудной земли Молеона! Леса были светлыми рощицами, в которых приморская сосна росла бок о бок с ивой и каштаном. Своими воздушными кронами они осеняли прекрасные жилища с белыми стенами, нежнейший ветерок играл их ветвями. Жалкие хижины с темными стенами из гранита, крытые порыжелым от осенних ливней камышом, сменились нарядными просторными домиками под круглой черепицей, уютными и приветливыми, с гроздьями винограда над окошками и цветущими полянками перед дверьми. Их свежевыбеленные известкой стены и наличники радовали глаз. Они сияли так же ярко, как и зеркало пруда, игравшего отблесками отвесно падавших лучей. Все было залито этим волшебным светом, преображавшим живые существа и мертвую природу: кровли деревенских построек, башни замка, возвышавшегося над излучиной реки, зеленые кроны деревьев. Ворон здесь было гораздо меньше, чем голубей. Тут и там собирались они стайками и о чем-то ворковали между собой. В людях не было никакой подозрительности, напротив, для каждого встречного была у них в запасе приветливая бесхитростная улыбка, говорившая о великодушии, ироничности и веселом нраве. Их мелодичную речь приятно было слушать. Чувствовалось, что они любили людей и жизнь вообще. Казалось, главная их забота состоит в том, чтобы странник надолго запомнил их деревеньку. Все дома в деревне были щедро изукрашены, но в этой чрезмерности угадывались хвастовство и дух соперничества: каждый стремился устроиться богаче, просторнее своего соседа. Нельзя сказать, чтобы хромала их вера, но эти ясные сумерки, жемчужные зори, благостные небеса отнюдь не способствовали глубокому самопогружению.
— Добрые люди, — говорили они в простоте сердечной, — Господь Бог не хочет смерти грешника. Для того чтобы заслужить Его милость, надо только заботиться о своей жене и о своем винограднике, воспитывать детей в трудолюбии, добывать хлеб свой в поте лица, жить в добрососедстве и добродушии, быть верным товарищем в несчастии, помогать бедному да скончать дни свои в мире и довольстве самим собой. Ведь если ангелы пребывают в веселье, отчего же не радоваться и нам всему тому, что мы имеем?
В этом и заключалась вся их философия. Если их спрашивали:
— Что такое, по-вашему, рай?
— Добрая земля, дающая два урожая винограда в год, без заморозков, с ласковым морем, полным рыбой, с солнечными днями и долгими, безмятежными ночами. Вот и все, друзья! Что может быть лучше? Чего еще желать человеку?
При всем том они были красноречивы, чутки, смекалисты; предприимчивы в делах, хоть и отрицали это; хитры в торговле, хотя вполне вероятно, сами не сознавали этого. Как бы хотел я иметь столь беззаботный характер и провести свои дни в одном из этих беленьких домиков! Но при моем темпераменте я не просидел бы на месте и месяца.
— Разве вы торопитесь? Не остаться ли вам на недельку? Говорят, что скоро прибудут еще паломники, а вас теперь слишком мало, чтобы пускаться в дорогу!.. Доблестные воины, неужели вы не выпьете винца? Вам надо подкрепиться и взять с собой запас…
Они были растроганы, когда прощались с нами. Однако я уверен, что в глубине души они посмеивались над нашей одержимостью: ведь Господу Богу угодна оседлая жизнь человека, среди добрых соседей, в окружении жены и детей, с запасами вина со своих виноградников, в этом зеленеющем крае, в милом свежевыбеленном домике!
Немного не доходя Суйака мы нагнали процессию пилигримов. Они направлялись в Сантьяго-да-Компостелла. Это были уроженцы облачной Гаскони, искусные певцы, охотно подыгрывающие себе на дудках:
Однажды тридцать человек Отправились в Сантьяго. Да скоро младшему из них Вдруг денег недостало. Его подняли, потрясли Да бросили на дно реки…Песня их повествовала о юном паломнике, добравшемся до берегов Эбро в Испании и оказавшемся без денег, за что он и был утоплен сборщиками дорожной пошлины. Но святой Иаков воскресил его и доставил живым и здоровым в Компостеллу.
Эти веселые пилигримы попросили проводить их до Тулузы. Когда мы согласились, они изъявили желание идти через Рокамадур, церковь которого во имя Пресвятой Девы гордо возвышается на отвесной скале. Анселену о ней говорил один из его бретонских родственников. Он решил, вопреки нашей воле, отправиться туда, чтобы вознести Господу славу за избавление наше от разбойников. Что можно было возразить на это? Разве не было известно, что смерть с наточенной косой ожидала нас в той долине? Анселен говорил:
— Мы помолимся о душах наших погибших и о здравии раненых, оставленных в Пранзаке.
Однако именно в Рокамадуре случился с ним приступ его болезни, столь внезапный и жестокий, что мы боялись потерять его. Стоя после плотного ужина на молитве вместе с нами, он неожиданно лишился чувств. Мы подхватили его; веки Анселена были опущены, глаза под ними закатились, дыхание не слетало с губ. Жанна схватила его за руку:
— Отец! Любимый! Не покидайте нас… Не сейчас…
Но Анселен, казалось, уже не мог услышать этого восклицания, уловить легкое дыхание дочери у своего виска.
— Мне кажется, он отошел, — проговорил задумчиво один из тамплиеров.
Ко рту Анселена поднесли зеркальце полированной стали.
— Нет, он не умер.
И действительно, лицо старого господина скоро порозовело, насколько мы могли заметить это в дрожащем сиянии свечей. Подошел священник с гостией в руке, Анселен вздрогнул, как бы пробуждаясь от глубокого сна; он протер глаза и привстал. Мы не смогли помешать ему встать на колени и причаститься святым тайнам; Жанна и Рено поддерживали его. Как обычно после приступов он сделался весел и доброречив; он выговорил своей дочери за ее беспокойство по пустякам и просил у нас прощения за то, что смутил наш покой. Тамплиер оставался озабоченным. Он счел нужным мягко заметить ему:
— Брат Анселен, видит Бог мое почтение к вам! Ваша преданность Гробу Господню радует меня как монаха, а ваша отвага в Браконском лесу восхищает как воина. Однако вы меня беспокоите.
— Что я вам, баба, что ли?
— Смелостью вы превосходите юношей в цвете сил, однако…
— Разве Господь Бог запрещает умирать за него?
— Он послал вам это испытание вдобавок к обычным трудностям дороги. Но мне кажется, что вам необходим отдых.
— Разве вы не видели, как я сокрушал бандитов?
— Я видел это, но все же опасаюсь, как бы вас не подкосила усталость, и нам бы не пришлось оставить вас одного в каком-нибудь приюте среди бальных и увечных. Вы отлично понимаете, что мы не сможем дожидаться вашего выздоровления.
— Так я и не задержу вас. Позаботьтесь привязать меня к седлу, и я доеду куда нужно. Известны случаи, когда рыцари предпочитали умереть вот так, среди своих спутников, чем мучиться и страдать на убогом ложе… Даже если бы я сомневался в своих возможностях, я все равно предпочел бы ехать. Вот я и поеду, даже против вашей воли, брат мой! Бог даст мне в великой милости своей увидеть Гроб Сына Своего Господа Иисуса Христа… Вы слышите меня? Я хочу достичь Иерусалима хотя бы мертвым.
Так и вышло! Ибо воля возносит человека над его слабостями, силы небесные сокрушают дьявольские козни и уловки. Лукавый поразил старческую плоть этой смертной истомой, источником греха и отреченья, чтобы тот повернул поводья и возвратился в Молеон в надежде поправиться или же умереть среди своих. Невольно тамплиер подверг Анселена самому подлому и опасному искушению! Но осторожные советы не могли затушить огонь, пылавший в его душе. Поймите правильно! Под влиянием моего появления и рассказа о шестнадцатилетнем короле, ведущем неравную борьбу с неверными, Анселен вырвался из сумерек своей жизни, приближавших смерть, и вновь пережил бури своей юности, вернул то, чем более всего дорожит человек: самоуважение. И поэтому для него было не столь уж важно, что его сердце — маленький комочек внутри еще сильного тела — изношено и разрушается.
Остаток путешествия прошел без каких бы то ни было происшествий и затруднений. Анселен часто упрекал нас за то, что, заботясь о его самочувствии, мы сокращаем время переходов и продлеваем привалы. Он делал вид, что не понимает:
— Вы так боитесь жары? Но что же с вами будет, добрые мои спутники, когда мы очутимся в пустыне? Вы потребуете соломенных шляп? Если вы приучитесь спать в тени после каждой трапезы, сарацины защекотят вас… своими копьями!
От Рокамадура до Тулузы, через Суйак, куда мы должны были вернуться, путешествие прошло столь же успешно. Нам попадались только пилигримы Святого Иакова — веселый и любопытный народец:
— Откуда же вы идете таким манером? Вам далеко не уйти! Вы, конечно, верхом, но Иерусалим, друзья, это Иерусалим!.. Говорят, султан задумал прогнать оттуда добрых христиан? Бог не допустит этого.
Никто из них не решился последовать с нами, несмотря на наши приглашения и увещевания тамплиеров. Они были согласны подвергаться опасностям на дорогах Испании, преодолевать горные потоки и перевалы в Пиренеях, пересекать Ланды, страдая от голода и жажды, добрести до самого Рима, однако отказывались пускаться по морю на кораблях:
— Говорят, что капитаны судов — вероотступники, предавшиеся Магомету, что они продают паломников работорговцам. Мне что-то не хочется вместо ослика вертеть водяное колесо или мельницу для зерна.
Анселен покачал головой. Он отвел меня в сторону и сказал:
— Дорогой Гио, я разделяю твою тревогу. Вполне возможно, что дух крестовых походов действительно угас. Тем важнее для меня отправиться в дорогу. Но как это обидно! Как ты думаешь, наберется ли достаточно народу, чтобы заполнить корабль в Марселе?
— Я не имел успеха в Париже и Нанте, но это не означает, что ничего не удалось и моим сотоварищам. Я уверен, что нас ждет приятная неожиданность. И на худой конец, господин Анселен, вспомните, что Великий Магистр призвал тамплиеров не только из Молеона.
— Их много, но кто из них отправится в путь? Лишь бы они не обогнали нас, это было бы еще хуже.
— Марсель — это порт Святой Земли. Вы не представляете себе, какую торговлю он ведет.
В Тулузе, прекрасном городе, так и кишащем торопящимися людьми, носилками и всадниками, случай свел нас с графом Раймоном Тулузским. Заметив наши всклокоченные бороды, длинные шевелюры, пыльные одежды с вышитыми на них крестами, он спешился, раздвинул свою охрану и подошел поприветствовать нас. Анселен, мелкий бретонский землевладелец, до того смешался, что лишь что-то пробормотал в ответ. Он не мог представить себе, что столь владетельная особа снизойдет до беседы с ним, как если бы он был ему ровней! Единственный раз в своей жизни он был принят Бретонским герцогом, да и то лишь для того, чтобы получить надменный взгляд и два-три сухих слова. Он не ведал того, что граф Тулузский правит с огромным трудом, что права его ограничены выборным капитулом, и что за этой любезностью скрывается самое заурядное притворство, ибо народное признание либо приходит само собой, либо оплачивается слишком дорогой ценой! Небрежно завязанная узлом золоченая лента — знак его иллюзорного достоинства — венчала его лоб. Прохожие окликали его со смущающей фамильярностью, на которую он живо реагировал, и от которой, вероятно, жестоко страдал. Как бы то ни было, он оказал нам великодушнейшее гостеприимство и, увидев наши колебания, сказал:
— Милые друзья, окажите мне честь и примите приглашение во имя уважения к родственнику, графу Раймону Триполитанскому. А в благодарность, раз уж вы направляетесь туда, попрошу вас доставить ему мое собственноручное послание.
Мы узнали впоследствии, что Триполи заклинал его принять крест для защиты бедствующего франкского королевства. Мы поняли также, что все поведение его по отношению к нам было всего только пустой любезностью: он долго перечислял нам причины своего отказа. Все, что увидели мы в его дворце, оскорбило нас. Мы чувствовали себя за морем, в гостях у какого-нибудь знатного иноверца, таковы были тамошние обычаи и развлечения, невероятно роскошные шелковые занавеси на стенах, изобилие ковров, устилавших пол. Здесь, похоже, думали только о фонтанах, корзинах с цветами да любовных утехах. Истинными хозяевами замка были трубадуры, соперничавшие друг с другом в причудливых странностях, захваленные сеньорами, обожаемые дамами. Каждый вечер, если не весь день, танцевали до упаду. Девицы выставляли свои прелести под прозрачными покрывалами и стучали в бубны. Все и вся предавались чувственным наслаждениям. В первый же день мы увидели игравшего на гитаре епископа в сопровождении вертящихся и скачущих девиц! А в это время за стенами дворца, на улицах города изможденные люди в черной одежде провозглашали новую веру. Их именовали Совершенными Катарами. Те, кто более других предавался земным радостям, были в первых рядах внимающих этим Совершенным.
Тамплиеры испросили у графа позволения ожидать нас в одной из обителей Тулузы, сославшись на требование своего устава. Жанна умоляла отца ускорить отъезд, сколь ни был бы он неучтивым. Рено же напротив, быстро привык к этой беззаботной жизни, девичьи взгляды и льстивые речи обманули его простоту. Он участвовал в турнире и завоевал корону. Жанна же пала духом. Нет, нельзя сказать, что бы ей совсем не нравились ухаживания, но все юноши были заняты главным образом только своими нарядами и украшениями; надушенные и напомаженные, некоторые даже нарумяненные, они были больше похожи на женщин. Любовь была для них делом всей жизни. Но не та страсть, что наполняет и украшает собой каждый день; это были лишь мелкие проделки, продиктованные похотью и ведущие прямиком в спальню. В одну секунду многие из них объявили себя до смерти влюбленными в Жанну. Они немедленно начали соперничать между собой в бесполезных и дорогостоящих подарках, утомлять виршами, заказанными у трубадуров:
Чуть раскрывшаяся роза, Лилия белей снегов, Я люблю вас без притворства, Всю жизнь смотреть на вас готов.А вот еще — она со смехом показывала мне их:
Розочка, цветок фиалки, Нежность, кротость, Красота. Я вас помню днем и ночью И храню в душе любовь.Недоверие, с которым она отнеслась ко всем этим залогам любви, лишь усилило горячность их желаний, но все это выглядело вот как:
— Госпожа моя, кому оставили вы свое сердце?
— Оно при мне, прекрасные сеньоры.
— Не хотелось ли вам его отдать кому-нибудь?
— Я отдам его тому, кто будет его достоин.
— Что же нужно для этого сделать? Спеть песню?
— Нет, следовать за мной.
— За тобой можно идти хоть на край света!
— Не так далеко, сеньоры. Достаточно будет, если один из вас возьмет на себя крест.
Все без исключения грубо расхохотались, но когда поняли, что это не шутка, то отвернулись от нее, предпочтя объявить ее безумной, нежели признать, что она презирает их. Узнав об этом, граф Раймон прозвал ее «моя дикарка» и не на шутку заинтересовался ею. Как и все его окружение, он был весьма женолюбив. Тут, несмотря на все испытываемое им почтение к графу, забеспокоился, наконец, и Анселен. Он хлопотал о письмах к Триполи «из-за корабля в Марселе». Граф Раймон настоял на предоставлении ему чести торжественно проводить нас до ворот города. Он даже снабдил нас почетной стражей. В момент прощания он спросил:
— Не правда ли, господин Анселен, Тулуза не сравнима ни с чем?
— Без сомнения, господин граф, это самый богатый и благородный двор.
— Однако вы, кажется, чем-то опечалены? Позвольте узнать, чем же?
— Тем, что никто из всей этой богатой публики не захотел отбыть с нами за море.
Улыбка исчезла с лица графа.
— Тулуза послала многих своих уроженцев в Святую Землю, разве вы не знаете этого? Мой предок помогал Годфруа Бульонскому при завоевании Иерусалима; он должен был стать королем. Теперь другим предстоит обеспечивать смену.
Этот довод сбил Анселена с толку. Он не знал что ответить.
— Но вы, — продолжал Раймон, — можете найти себе подкрепление по дороге. Я знаю, что один из моих виконтов спит и видит во сне Иерусалим. Это Жофре де Минерв. Навестите его от моего имени. Скажите ему, что я с удовольствием приму его фьеф под свое покровительство, если он решится следовать за вами.
— Где эта его Минерва, государь мой?
— Люди стражи проводят вас туда.
12 АНСЕЛЕН СОКРУШАЕТСЯ
Без задержки, через Кастры, Лодев, Сент-Гилем-ле-Дезер мы скоро достигли этой самой Минервы.
— Это бесполезно и нечестно, — говорили каши тамплиеры, к которым присоединились многие из их тулузских братьев. — Мы отклоняемся от Марселя из-за пустяков, разве только для того, чтобы потакать вашим причудам!
Анселен же настаивал на том, что убедит Жофре Минервского:
— Дорогие братья, — отвечал он, — не лишайте меня этой заслуги. Владелец Минервы слывет доблестным воином с твердым характером. Если он сомневается, дело наполовину выиграно… Лесное сражение обескровило наш отряд. В каком виде предстанем мы перед королем Бодуэном: «Ваше величество, вот люди Франции!» — А сколько их?
— Анселен, вы боитесь, что нам не хватит кораблей в гавани, и вы же сами задерживаете нас.
— Гио, я прав. Чем больше нас будет в Марселе, тем легче мы погрузимся. Ради кучки наших людей не снарядят целый корабль. С отрядом же Жофре де Минерва — иное дело!..
Мы снова уступили ему. Наверное, эта благодатная страна смягчила наши души. Какое воодушевление охватывало нас под этим небом цвета ириса, пропитанного солнцем! Растянувшись цепочкой, мы двигались мимо обсыпанных пыльцой олив, светлых утесов, под нескончаемое стрекотание стрекоз. Холмы были густо-синего цвета, а земля, дороги, деревни были окрашены в медовые тона, отдавали потемневшим золотом…
Укрепление Минервы было почти мавританским на вид, со своим узким донжоном, вздымавшимся над холмами. Два почти пересохших потока, протекавших по дну головокружительных ущелий, огибали плоскогорье в форме сердца, служившее основанием постройке. Обороне служили не только эти препятствия и сторожевые башни — каждый дом в округе представлял из себя настоящую крепость. Внизу, на равнине возделывались поля и оливковые рощи. Среди кипарисов по склонам холма поднимались ровные ряды виноградников. Никакое другое место во Франции не напоминало столь живо природу Иудеи. Даже церковь, беспримерной древности, была похожа на одно из восточных святилищ. Жофре де Минерв отнюдь не отличался оливковым цветом лица и напомаженной прической герцога Тулузского. Напротив, у него была светлая борода и голубые глаза северянина. Это показалось нам обнадеживающим. В своей одежде он не признавал украшений; походка его была решительной, речь — как у воина. Жители Минервы не были с ним запанибрата: они по-настоящему любили его. Здесь не было ассамблей, ограничивавших его власть; виконт был полновластным хозяином своей земли, но не ее тираном. Когда Анселен передал ему слова графа Тулузского, он не стал прибегать к уловкам:
— Да, это так, — отвечал он. — Я давно и искренне мечтаю нашить крест на мои одежды. Увы! Это означало бы предать мои земли на откуп и разграбление дорогим соседям, Тренсавелям Каркассонским и баронам де Ластур.
— Граф Раймонд взял бы их под свое покровительство.
— Как раз этого я боюсь больше всего! Он воспользуется моим отсутствием и наложит на мои владения свою лапу. Он, несомненно, превратит в свою собственность земли, зависящие от него лишь формально. В тяжелый час я готов служить Тулузе, но только добровольно: я ненавижу двуличие ее двора.
— Господин виконт, — настаивал добрый Анселен, ничего не смысливший в этих тонкостях. — Нет на свете силы, способной противостоять церкви, ее проклятию, рано или поздно настигающему виновного. Если кто-то — будь то граф Раймон Тулузский или один из ваших соседей — завладеет Минервой в ваше отсутствие, он будет отлучен от церкви! Вы забываете, что над земными владыками стоят епископы.
— Господин Анселен, вы незнакомы с церковью наших краев. Наши епископы не проклинают тех, кто дает им привилегии! Порча напала на здешний клир… Поэтому, при всем желании ехать, я не могу себе этого позволить… Вы, вероятно, сурово осуждаете меня?
— Мне вас жаль. Ваше прирожденное великодушие разбилось о пустые хлопоты.
— А вы согласились бы потерять ваше состояние, отречься от своего народа?
— Сеньор виконт, я — всего лишь мелкий деревенский землевладелец; вокруг меня живут лишь землепашцы и лесорубы.
— Минерва была пожалована моим предкам самим Карлом Великим!
— Вы променяли любовь к Господу на клочок земли!
— Да, это так, господин Анселен. Но есть еще одна причина. Говорили ли вы когда-нибудь с людьми, именуемыми Совершенными, сектантами новой религии?
— Нет, конечно.
— Сделайте это, и вы увидите, какая угроза нависла над нашим краем. Вы поймете тогда, что однажды здесь вспыхнет война. Эти люди в черном найдут для нее повод. Продажность епископов облегчает им задачу. На самом деле они завидуют нашей роскоши, нашему времяпрепровождению, нашим непомерным богатствам. Все это будет разрушено! Увы, наши войска таковы, что мы не можем надеяться на победу.
— В таком случае бросьте все.
— Я остаюсь. К своему сожалению и разочарованию. Я заключил договор с народом Минервы… Если я приму крест, кто пойдет за мной, кроме рыцарей и наемников? Сердца также поражены болезнью… Посмотрите на опустевшую церковь и на причт, живущий там украдкой, несмотря на мою защиту, и вы поймете все, господин Анселен…
Все было так, как он говорил. Мы были окружены Совершенными. Они говорили с нами беззлобно, даже с подчеркнутой мягкостью, и начали с того, что поздравили нас с утратой имущества и с походом за море, восхитились тем, что мы предпочли тяготы странствия мирному существованию у своего очага:
— Чему же поклонитесь вы на Голгофе, разве что пустой видимости? Что означает ваш Гроб Господень, ведь Иисус не ведал телесной смерти, будучи божеством и имевшим лишь телесную сущность? Узнайте нашу веру…
Понадобился отряд стражников, дабы сопроводить нас до городских ворот. Анселен повесил голову, слыша со всех сторон свист и улюлюканье. Когда мы оказались наконец за пределами Минервы, то услышали, как он повторял:
— Бедный сеньор Минерв…
Но испытания еще не кончились. Довольно быстро, через Дюнель и Арль мы добрались до Марселя, однако не застали там ни одного оснащенного как следует корабля. Я узнал, что минуло две недели, как мои сотоварищи отбыли в Иерусалим. Мы было уже впали в отчаяние, когда стало известно о прибытии большого отряда тамплиеров. Они согласились взять нас с собой за разумное вознаграждение. Но все равно мы были вынуждены дожидаться более двух месяцев, пока подойдет и будет загружен корабль Ордена. Наши дни текли в праздности среди шумных людей, язык которых мы понимали с трудом. Деньги таяли. Мы были вынуждены сократить наши расходы, даже продать нескольких лошадей. Жанна пожертвовала часть своих украшений. Что же до ее отца, то он не переставал сокрушаться:
— Во всем виноват я один, — говорил он. — Без меня вы были бы уже у короля Бодуэна. Мои слабости и прихоти все испортили.
Ко всему этому он схватил перемежающуюся лихорадку. Она охватывала его на день — на два, потом отступала, чтобы внезапно вернуться снова. Напрасно городской лекарь прописывал ему свои микстуры. Эта странная лихорадка подтачивала его последние силы. Во время приступов он лишь тихо стонал:
— Так я и не увижу Гроба Господнего… За что, Боже мой, Господи? Почему я, один из всех?
Корабль тамплиеров все не приходил. Мы уже задавались вопросом: не утонул ли он во время бури? Но наконец сигнальщики гавани заметили его. Анселен, в нетерпении ожидая погрузки, захотел встать. Мы не могли и не хотели ему в этом препятствовать: это была последняя надежда на его исцеление, если такая надежда могла существовать вообще. Он заплакал от радости, когда к нам приблизились высокие борта корабля, украшенные цветами и крестом Храма, с палубными надстройками на корме и на носу.
Ему не довелось узнать, что мы выдержали долгое сражение по его поводу. Корабль не принадлежал Ордену, он был им только нанят. Капитан корабля, узнав что среди нас есть больной, отказался принять его на борт, опасаясь распространения заразы. Он осведомился о ходе болезни и заподозрил в ней худший недуг, известный в городе Марселе. Тамплиеры вмешались в переговоры, но безрезультатно. Рено же, будучи более циничным, а может, просто трезвее нас смотревший на жизнь, понял, в чем тут дело. За маленькое возмещение ущерба капитан согласился взять ответственность на себя, но это дало повод к новым мучительным торгам. Наконец, мы отдали швартовы, отчалили, и с легким западным бризом вышли в открытое море.
Корабль был велик и вместителен, однако среди наших лошадей, мулов, припасов, а также товаров, перевозимых этим вероломным моряком, нам пришлось ощутимо потесниться. Он не открыл нам своих планов, которые мало сочетались с нашими, и мы поняли их только тогда когда он взял курс на Геную, якобы для того, чтобы «пополнить запас воды». В действительности же он обменял там бочки провансальских вин на зерно и оружие. Тамплиеры были возмущены, но он представил им договор, составленный по всей форме, с печатью великого магистра, поощряющий торговлю Марселя и Сен-Жан-д'Акра.
Я не скажу ничего хорошего об этом ужасном плавании. Свежий бриз быстро усилился. Тяжелое судно переваливалось с волны на волну. Анселен тихо угасал. Он таял с каждым днем. На корме ему предоставили каюту с маленьким окошечком, застекленным витражом. Жанна обосновалась там же. Она была единственной женщиной на корабле, и некий командор тамплиеров дал ей понять, что, согласно уставу, ее частое присутствие на палубе нежелательно. Но она никогда — кроме как на ночь — не оставалась одна. Каждый из нас по очереди составлял ей компанию, помогал устраивать ложе и приносить кушанья ее отцу. Анселен же потерял последние волосы на висках, у него исчезли брови и борода. Восковая кожа обтянула его скулы и челюсти. Зрачки во впалых глазницах упрямо следили за линией горизонта. Иногда его охватывала ярость:
— Эти моряки — пособники дьявола! Мы никогда не достигнем Иерусалима!
Жанна вытирала ему лоб:
— Отец, не волнуйтесь так.
— Корабль стоит на месте не хуже столба среди поля. Я вам говорю, что эти моряки — лжехристиане, продавшиеся неверным, они выдадут нас Саладину. Но знаешь, Гио, я не дамся им живым! И не буду вертеть ни водяного колеса, ни зерновой мельницы! Я не овернский осел, не пуатвинский мул… Я — Анселен… И я лучше брошусь в море, чем стану служить неверному.
Он делал вид, что хочет встать, и мы должны были его сдерживать, осторожно укладывая обратно. Его бред отступал.
— Если бы знать наверняка, — стонал он, — продались ли они Саладину. Королю Бодуэну так нужны наши руки.
— Отец, — говорила Жанна, — на самом деле корабль ведут не моряки, а ангелы.
— Больно ленивые ангелы, они могли бы и поторопиться!
Иногда она ради его же пользы обманывала его:
— Не теряйте надежды. Один из тамплиеров, который часто путешествует, сказал, что Святая Земля уже недалеко. Он считает, что если ветер будет попутным, мы причалим раньше, чем через неделю.
— Это утешает. Но пока в трюме есть хоть один ящик, ветры ничего не значат. Нас преследует смерть; ей нечего продавать, она не похожа на этого самозваного капитана.
— Бог не покинет вас вблизи Иерусалима! Этот тамплиер сказал также, что лихорадки вроде вашей часты в Святой Земле, и они не опасны. Какое-то время они заставляют сильно страдать, но не затрагивают жизненных основ.
— Откуда он это знает?
— Он сам болел ею и выздоровел.
— О, моя девочка-надежда! Корабль потонет, а ты все будешь надеяться…
Так и случилось, и виной тому была ошибка нашего капитана. Он позволил буре застать нас в опасной близости Кипрского побережья. В носу обнаружилась течь. Я не знаю, каким образом и почему в эту черную грозовую ночь с громом и молниями, под брызгами пены и дождя, эта девочка-надежда появилась среди нас. При вспышках сигнального фонаря, как при ясном дне, мы увидели ее развевающиеся волосы. Она нам улыбалась, улыбалась, улыбалась! Наша тревога улеглась, успокоились и лошади в трюме, когда она туда спустилась. О, чудо чистой души, свет исполненного любви сердца! Все мы, с нашим грузом страстей и горестей за плечами, нашими добрыми и безобразными поступками в прошлом, нашими желаниями и утратами, молитвами и покаянием — чем были мы перед ней, перед истиной, которую она несла в себе, как не соломой или водяной пылью! Тогда, в ту ночь, среди этого хаоса рвущихся снастей, лошадиного ржания, на полузатопленном корабле я припал к ее ногам, облобызал ее руку, край ее платья.
— Ты, Гио? Скорее иди на помощь морякам, надо заткнуть течь! Будь полезным!
Я не помню, как мы спаслись и почему над нами и над спокойным морем воссияло утро… Жанна была возле отца. Она говорила ему что-то своим чудесным голосом, сравнимым, я повторяю это, лишь с журчанием источника, струящегося по камням в тени листвы. Я же, по своей мужской грубости и простоте, внимал ей и задавался вопросом, не во сне ли я ее вижу, существует ли эта женщина в действительности…
Изуродованный бурей, лишенный части своей оснастки, наш корабль смог наконец войти в Кипрскую гавань. Необходимо было поправить его корпус и оснастку. Одной печалью больше для Анселена. Однако, пропитанный ароматами воздух острова, его климат и представившийся нам отдых оказали на него благотворное воздействие. Горячка оставила его. Он даже набрал немного веса, краски вернулись на его лицо. Все мы понимали, что жить ему оставалось недолго, и что это было не более чем временной, преходящей отсрочкой. Однако это обманчивое улучшение вернуло Анселену решимость. На свой манер он совершил свое паломничество и, сам того не ведая, раскрыл саму основу человеческого существа — душу младенца. Он умилялся всему: цветку, морю в просвете красных скал, рыбам, побережью, плодам на деревьях, пению птиц, ходу солнца, буйству осени, напоминавшей здесь скорее вечное лето. Испытываемая им радость была, может быть, сродни тому восторгу, что охватит нас в день Воскресения: когда мы восстанем от тяжелого сна, внезапно обретем яркий свет в глазах, свежий соленый воздух в груди, гул крови в жилах. Даже те из нас, кого жизнь изрядно покалечила и огрубила душу, чувствовали всю необычность счастья Анселена. И ни у кого не возникало желания посмеяться над его детскими восклицаниями.
Но это не самое главное из того, что довелось мне увидеть на Кипре…
Я видел, как Жанна помогала прокаженным менять повязки, подносила питье, беседовала с ними с нежностью, без тени отвращения. То, что произошло в глубине моей души, предостережения, запечатлевшиеся во мне тогда, потрясли меня. Вы скоро узнаете, почему! Я прошу вас все-таки верить, что Жанна была девушкой из плоти и крови. Она хотела любить, рожать детей, имена которым она приготовила заранее, спать в постели с мужчиной, деля с ним ласки с тем же пылом и благородством, которые оживляли каждое ее движение. Как же долго пытался я понять, что именно хотело от нее Провидение! До сих пор во мне шевелится какая-то неудовлетворенность. Кто, в конце концов, победил в этой жизни и кто в ней побежденный? И почему смерть набрасывает свой темный молчаливый покров на то, что было исполнено такой мощной жизненной силы? Я чувствую, что сейчас Жанна жива, и даже живее, чем тогда, там, на кипрском побережье, с теми прокаженными. Голос ее умолк, однако, мне известно место, где покоится ее тело, ставшее прахом…
Дорогие мои братья, не обращайте внимания на эти слова! Это изливается половина моего существа, а не моя вера; это говорит мое сердце в печали и сокрушении, а не моя надежда вновь обрести ее среди наших отошедших в лучший мир друзей…
Здесь Гио прерывался во второй раз. Все расходились — кто по своим кельям, кто в общий покой, задаваясь вопросом, исполнились ли молитвы Анселена, достиг ли, узрел ли он Святой Гроб Господень в награду за свои труды и мучения. Самые юные, прощаясь с Гио, отваживались спросить об этом. Иногда тот отвечал:
— По-твоему, Бог может быть неблагодарным?
13 МОНЖИЗАР
Ночь покрыла землю своим покрывалом, и тот же колокол звучал вдалеке. Это звонили на колокольне монастыря, построенного на окраине леса. Поздний звон сзывал монахов на вечернюю молитву. Ночные звери настороженно вслушивались в эти звуки. Лисы поводили острыми ушками, совы — своими кисточками, кабаны — волосатыми рылами. Это был час, когда Гио направлял свои стопы к заросшей тропе. Месяц бледным светом озарял мощеный двор. Дежурный стражник, согреваясь, притаптывал ногами. С завистью поглядывал он на три витражных окошка, за которыми сияли свечи, горел камин, и Гио вел свой рассказ. Затем он окидывал взглядом пустынную и молчаливую местность, громаду деревьев и поля, подымавшиеся к холмам на горизонте. Длинными светлыми полосами отсвечивали пруды, окаймленные зарослями камышей под сенью раскидистых ближайших деревьев…
— В Яффе, — продолжал Гио свое повествование, — жители были повергнуты в тревогу. Мы были неприятно удивлены при виде воинов, трудившихся над укреплением стен, повозок с продовольствием, торопливо стекавшихся в город среди толпящихся беженцев.
— Все потеряно! — восклицали эти несчастные. — Саладин у ворот Иерусалима. На севере сражается герцог Фламандский! На юге — наш маленький король Бодуэн: остановить ли ему войско Саладина со своей горсткой людей? Неверные жгут, грабят, душат повсюду — и все безнаказанно… Ах, крестоносцы из Франции, вы пришли слишком поздно! Да вас и не много!
Напрасно конница Яффы пыталась сдержать общее безумие, у нее у самой не хватало на то уверенности.
Нас ожидало еще одно разочарование. Иерусалимские тамплиеры, обязанные сопроводить нас до Святого Града, отказались брать с собой Анселена:
— Ведь он же не жилец! Он ни за что не сможет пересечь пустыню. Он задержит нас! Пускай остается в нашей яффской обители. Нам нужно отправляться сей же час. У меня приказ Великого Магистра!
Анселен сжал свои исхудавшие руки и опустил голову. Он не издал ни единой жалобы. Казалось, он смирился. Трех дней на море было достаточно, чтобы лишить его живости, сил и здорового вида, обретенных им на Кипре. Потерянный, он стоял среди нас, ожидая окончательного решения своей судьбы, не обнаруживая ни малейшего протеста, как будто бы речь шла о ком-то другом. Он только мелко дрожал от холода, или же от горького отчаяния! К счастью, один из наших землепашцев заметил своим рысьим взглядом в глубине улицы, среди этой кишащей толпы, носилки, несомые двумя лошадьми. Вместе с Рено он побежал за ними. Носилки остановились прямо напротив корабля, в то время как их хозяин торговался с сыном Анселена:
— Это превыше наших возможностей, говорю вам!
— Господин рыцарь, будьте благоразумны: я уже скинул треть цены, я продаю себе в убыток…
— Коварный ростовщик! Саладин стучится в дверь, а ты думаешь только о деньгах! Там человек, гибнущий оттого, что захотел увидеть Иерусалим. Он стоит больше, чем все носилки в мире, и ты с ними в придачу!
— Пусть он остается в Яффе и дождется исхода сражения. Мы будем обращаться с ним почтительно и вылечим его.
Глава сопровождения, тамплиер Мейнар, вынужден был вмешаться, когда Рено, вне себя от ярости, выхватил меч:
— Отдай твои носилки, торгаш! Они тебе больше не понадобятся. Храм выдаст тебе плату. Исполняй, несчастный!
Наконец мы смогли тронуться, без сожаления покидая корабль, на котором по вине его капитана мы потеряли столько недель и месяцев, добираясь сюда из Марселя. Этот капитан имел наглость спросить у нас, довольны ли мы его услугами, прибавив с хорошо знакомой нам желчной улыбкой:
— Прекрасные сеньоры, вы до сих пор пребываете в живых только благодаря моему опыту морехода! Вам не найти на всем побережье Яффы и даже в Марселе другого такого капитана, что смог бы избежать рифов Кипра! Рекомендуйте меня вашим товарищам. Бьюсь об заклад, что я скоро понадоблюсь им, если дело и дальше пойдет в том же духе.
Снова нам пришлось сдерживать Рено. Забыв всякий стыд, капитан увязался за нами:
— Вспоминайте о моем корабле, любезные сеньоры, и о нашей дружбе на море, и о кормежке! А вы, благородные тамплиеры, не забудьте поприветствовать от моего имени великолепного князя, монсеньора Великого Магистра. Я ему нижайший и усерднейший слуга. Пусть вспоминают обо мне великие мира сего…
Наконец он избавил нас от своего невыносимого присутствия и оставил в покое. Мы оказались почти одни. Я говорю «почти», ибо нам постоянно попадались спасающиеся крестьяне с осликами, сгибающимися под тяжестью скарба и пропитания. Многие из них были темнолицы, в полосатой шерстяной одежде неверных. Они были поражены при виде нас, покидавших Яффу, и шедших в противоположную сторону навстречу опасностям. Дорога змеилась через пустынные холмы и каменистые осыпи, с редкими поселениями, затерянными среди скудных полей и чахлых деревьев. Мы встречали также длинноволосых остробородых пастухов, гнавших перед собой стада коз и баранов. Они напоминали библейских героев, по крайней мере таких, какими мы их себе представляли. Но скоро впереди нас остались только горы и темно-бурая земля — и это окаменелое море, его мертвое молчание стеснили наши сердца.
Когда один из нас, Жанна или Рено, заговаривали с Анселеном, он приоткрывал свои сомкнутые веки. Сквозь золоченую бахрому занавеси носилок он казался умершим. Его пожелтевшие руки были сложены на груди. Он не спрашивал, близок ли Иерусалим, и что это за люди, согнувшиеся под тяжестью груза, попадаются нам навстречу, и почему мы двигаемся столь поспешно, рискуя загнать наших лошадей. Он пребывал в глубокой сосредоточенности. Улыбка бесконечного блаженства оживляла уголки его губ и морщинистую кожу висков. Он не отвечал более на наши вопросы. Лишь набрякшие веки, приподнимаясь и опускаясь, свидетельствовали о том, что он еще не покинул нас…
Я был близко знаком с тамплиером Мейнаром. Он состоял при канцелярии Великого Магистра и в силу этого часто появлялся в Монт-Руаяле, В свою очередь, я также часто бывал в главной обители Ордена с посланиями моего короля Бодуэна. Так день за днем, зарождалась и крепла наша дружба. Это был человек зрелых лет, коренастый, мощный телом, однако склонный к размышлениям:
— Ну и выбрал же ты время, мой Гио!
— Что делать!
— Ты мог бы с тем же успехом оставаться там, раз уж так случилось.
— Скажи мне честно, что происходит?
— Неважно! Все преувеличено. Положение серьезно, но не безнадежно. Помощь Запада поставит нас на ноги.
— Увы! Видел ли ты, скольких людей веду я к королю Бодуэну? И две трети из них — тамплиеры.
— Остальные посланцы преуспели не более твоего! Знаешь, сколько пришло кораблей в результате вашей миссии? Четыре! Час еще не пробил.
— Он и не пробьет. Князья Запада утратили всякий интерес. И не они одни, но и их вассалы вплоть до мелких землевладельцев, которым и терять-то нечего, а можно лишь приобрести. Бог оставил нас!
— Этого быть не может, Гио!
— Скажи мне, правда ли, что Саладин грозит Иерусалиму?
— Мы боимся этого.
— Но в конце концов, что случилось с нашим войском? Перед моим отъездом мы брали верх повсюду.
Мейнар понизил голос:
— Королю все хуже и хуже. И в этом наша главная беда. И еще это его окружение бездарных честолюбцев, наполовину предателей к тому же! Он понимает это, и страдания души отягчают терзания плоти…
Отряд всадников на маленьких резвых лошадках с боевыми копьями в руках спускался по склоку. На расстоянии, разделявшем нас, мы не могли определить, из чьего они лагеря.
— Сержанты, прикрыть фланги! — скомандовал Мейнар. — Оруженосцы — вперед, но будьте осторожны!
Отряд вновь появился на вершине хребта и замер, четко вырисовываясь на фоне неба. Наш пахарь сказал, что различает полумесяцы на флажках. Отряд тем временем повернул прочь и скрылся в облаке пыли, поднятой копытами лошадей.
— Когда ты был во Франции, — продолжал Мейнар, — к нам было вернулась надежда. Филипп Эльзасский, граф Фландрии и близкий родственник Бодуэна, высадился с большим войском крестоносцев. Мы посчитали, что Бог послал его во спасение королевства. Имея в виду собственную немощь, Бодуэн предложил ему регентство, именуемое байли, но под крестовыми одеждами графа Фландрского билось порочное сердце. Он объявил, что прибыл в Святую Землю паломником, и отказался от тяжкого груза наместничества.
— Что же за всем этим скрывается, мой тамплиер?
— Терпение. Ты помнишь, что византийский император, Мануил Комнин, заключил с нами договор, чтобы вместе пойти в Египет, походом против Саладина?
— Да. Чтобы поразить ислам в самое сердце.
— Но Бодуэн не мог оставить свое королевство и в своей немощи возглавить это предприятие. Он хотел доверить руководство Филиппу, но тот все тянул, запутал все в обманчивых обещаниях, уловках и обстоятельствах. Наши посланцы охрипли, убеждая его и стараясь смягчить негодование византийцев. Мануилу Комнину все это надоело. Договор был отложен на будущее, иначе говоря, до тех пор, когда рак на горе свистнет.
— И вы снесли такое предательство?
— Бодуэн не мог допустить мысли о том, что человек его крови способен на такую низость. Он заупрямился, надеясь на Бог знает какую перемену в его характере. А все дело в том, дорогой мой Гио, что фламандцу мало королевского наместничества. Считая нашего короля совсем пропащим и ссылаясь на права, доставшиеся ему от матери и от Фолка, бывшего Иерусалимского короля, он метит не на что иное, как на корону. Но остаются еще сестры Бодуэна, Сибилла и Изабелла. Филипп рассчитывает выдать их замуж по своему усмотрению…
— Этого не может быть!
— Это еще не все. Если бы сыновья Роберта Бетюнского сочетались с нашими принцессами, богатейший город Бетюн перешел бы к нему, Филиппу. Теперь ты все понял:
— О, Мейнар, где же теперь Годфруа Бульонский, добрый служитель Христов, отказавшийся венчаться золотым венцом в местах, где Спаситель венчался тернием? Где дух первых крестоносцев?
— Не причитай, и это еще не все. Боэмонд Антиохийский и герцог Триполитанский, родственник твоего графа Тулузского, усугубили нашу досаду, отозвав Филиппа к границам. Для забавы, из честолюбия, из пустого азарта турниров они принялись осаждать маленькую крепость Хамы, и так случилось, на наше несчастье, что они оттянули туда лучшие силы Бодуэна.
— Чем и воспользовался Саладин?
— Чем он и воспользовался, черный демон! Он двигается к Аскалону, сокрушая все на своем пути… Бодуэн, героически обезоружив Иерусалим, набрал пять сотен рыцарей, включая отряды храмовников и госпитальеров, и устремился на помощь Аскалону… Вот, Гио, говорят, что Саладин, пренебрегши маленьким войском Бодуэна, повернул на Святой Град, оставленный своими рыцарями, военачальниками и даже самим королем, неспособный ныне к обороне. Так было, когда магистр Храма послал нас в Яффу для встречи паломников, что мы и сделали…
Но ни мой рыцарь Мейнар, ни жители Иерусалима и Яффы не ведали тогда о невероятной отваге нашего шестнадцатилетнего короля. Увидев, что Саладин внезапно отошел и с огромной армией двинулся в направлении Иерусалима, он вывел свое войско из Аскалона. Но, вместо того, чтобы напасть на обозы Саладина, к чему тот, без сомнения, был готов и, может быть, даже того желал, он повел людей вдоль побережья на север, затем свернул на юго-восток и описал таким образом широкую дугу вокруг неприятеля. Египетский султан продолжал свое победоносное шествие по долинам Аскалона. Он был настолько уверен в себе и столь презирал франкских рыцарей, что позволил своим отрядам разбрестись по окрестным селениям, дабы грабить и разорять их. И, в то время как ядро его войска пересекало уэд[6] у Монжизара, на краю Требентской долины, он увидел рыцарей Бодуэна, осененных Истинным Крестом, коим потрясал епископ Обер Вифлеемский… Маленький король, сознавая всю слабость силы и духа своих воинов, охваченный Божьим внушением, внезапно спешился, распростерся ниц на песке и, обливаясь слезами, воскликнул:
— Боже Всемогущий, я немощен и увечен, так во имя Твоего Святого Креста, возьми же войско мое в Твои руки!
Услышав это, все как один поклялись счесть предателем любого, кто повернет назад. Они выхватили мечи и натянули луки. Плененные в этой битве арабы рассказывали мне потом, что наши бросились на них «со всей силы, ловкие как волки, лающие как собаки, буйные как пламя».
Какое-то время люди Саладина пытались защищаться, но священная ярость воодушевляла рыцарей Иерусалима. Турки, арабы, курды, эмиры, военачальники, братья Саладина, сам он — внезапно обратились в бегство. Бросая шлемы и оружие, награбленное добро и свои шатры, они во всю прыть бросились в пустыню в направлении спасительного Египта. Бодуэн же безжалостно их преследовал, собирая невиданную добычу и беря пленных. Никто не видел подобной победы со времен Годфруа Бульонского. И, может быть, это была лучшая из побед, одержанных когда-либо франками.
Надо ли говорить о том, как дрожали руки Гио, рассказывавшего нам о Монжизаре, и как менялось при этом его лицо — не от ненависти, нет! — но как бы озаренное вдруг внутренним сиянием. Этот божественный жар передавался и слушателям. Те, кому довелось побывать в Святых Местах, предавались воспоминаниям. А те, кто лишь мечтал о них, молча слушали, не сводя с говорившего завистливых глаз, и каждого по-своему охватывало волнение. Он же напоминал тогда соловья, повелителя леса, поющего вечерами в густой листве на радость всем. А между тем говорил он, по его собственному мнению, самым обычным образом, от чистой души и от всего сердца. Но не было ни одного слова, которое он бы не взвесил и не прочувствовал, меряя всей глубиной своего существа, а вовсе не искусством рассказчика.
— Так, — продолжал он, — медленно продвигаясь в окружении Белых Плащей, рядом с золочеными носилками Анселена, в полном неведении о Монжизаре, в конце этого долгого и утомительного пути мы достигли, наконец, предела наших желаний, Святую Святых: Иерусалим!
14 ИЕРУСАЛИМ
В то утро, по страстной, настоятельной просьбе Анселена, мы поднялись в Гефсиманский сад. Он хотел увидеть город при восходящем солнце. Чтобы удовлетворить это благочестивое желание, а также потому, что лекарь Храма, осмотрев его, сказал: «Дорогие братья, вам не в чем отказывать ему!» — мы осторожно отнесли его носилки на ту гору…
Уже накануне, перед тем, как войти в Святой Град через Яффские ворота, внезапно обретя силу и голос, он потребовал от нас остановиться на Голгофе, несмотря ни на поздний час, ни на настойчивые призывы тамплиера Мейнара поспешить под кров… И там ничто не помешало ему сойти с носилок и приложить чело к тому месту, где воздвигли палачи Иисусовы Его Крест.
— Святая, святая, святая пыль! — приговаривал он. Когда, с бесконечными предосторожностями, Жанна и Рено подняли его, все увидели, что он плачет. То были слезы умиления перед Святыми Страданиями и благодарности за услышанную мольбу. Потом, одного за другим, он осмотрел нас горячечным взглядом и сказал:
— Спутники мои, я благодарен вам…
Когда мы вошли в Яффские ворота, наступила ночь, — так резко, как это бывает только в ноябре. Тамплиеры отправились на поклон к Великому Магистру, устроив нас в своей гостинице в ожидании, что мы найдем более подходящее жилище хозяину Молеона и его близким. Поскольку король Бодуэн был в отъезде, я не торопился в Монт-Руаялъ, будучи уверен, что найду во дворце лишь негодяев и лицемеров! Мои друзья могли сейчас находиться только в долине Аскалона, подле короля, в то время как в залах и коридорах остались лишь начинающие предатели и презренные царедворцы, приуготовлявшие тревожный завтрашний день…
На мгновение Гио умолкал. Закрыв глаза, он вспоминал свое возвращение, снова видел залитые вечерним солнцем зубчатые стены и башни Иерусалима, соборы, мелькавшие в густой зелени подобно апельсинам, темную улицу Храма, с ее лавочками и пестрой толпой, смешавшей все наречия мира: армянский и византийский, еврейский и английский, немецкий и испанский, французский язык Лангедока и Лангедойля. Затем он вспомнил Главную обитель храмовников, разместившуюся в эспланаде Соломонова Храма. Его огромный купол осенял собой весь город, на вершине блестел золотой крест и знамя Васана, черное, как смерть, белое, как Воскресенье, темное, как людские грехи и их жестокость, светлое, как невинность и ангельские крылья. Вокруг размещались покои Великого Магистра и иерархов Ордена, трапезные рыцарей и оруженосцев, их спальни и часовня во славу Богоматери, воплощавшей честь и славу, начало и конец Ордена. В других постройках трудились храмовые ремесленники, именуемые Содружество Святого Долга: ткачи и портные, шорники и дубильщики, столяры и плотники, оружейники и кузнецы — и вновь Гио видел перед собой снопы искр, падающих из-под молотков… Он видел также и большую просторную гостиницу, разделенную условной преградой на две части, ибо соблюдение устава исключало женщин из мира этих монахов-воинов. Белые плащи мелькали тут и там на своих маленьких лошадках, отбитых у сарацин. Колокол сзывал на службу. О победе короля Бодуэна и спасении посланных с ним братьев молились те, кто не мог уже драться — израненные и престарелые рыцари… После ужина Мейнар пришел навестить нас в нашем новом жилище. Он взял с собой Рено и Жанну, чтобы показать им конюшни Ордена под эспланадой…
Гио бормотал:
— Две тысячи пять сотен лошадей, или же тысячу пятьсот верблюдов могли они вместить! Промасленная и начищенная до блеска сбруя, висевшая по стенам, лес копий и ряды мечей, несущих крест… Эх, куда же все это исчезло, как вчерашний день, как пыль под копытами? Все это чудесное могущество!
И всегда находился кто-нибудь, кто возвращал его к прерванному рассказу:
— Дорогой Гио, но в то утро ты не был в Соломоновых конюшнях, ты был с Анселеном в Гефсиманском саду. Анселен хотел увидеть восход солнца над Святым Градом.
— Простите мою рассеянность. Но я должен еще рассказать вам о нашей главной обители. Никто из вас не видел ее. Обители в Аккре и Тире были всего лишь простыми укреплениями в сравнении с тем дворцом, поруганным ныне сарацинами. Да, как могло свершиться такое святотатство!.. Так вот, были мы в Гефсиманском саду. Сеньор Анселен восхищался всем, но не по-детски, как там, на Кипре, но строго и серьезно. Мы посадили его под одним из этих тысячелетних деревьев, видавших, по утверждениям, последнюю ночь Спасителя и укрывавших неодолимый сон Апостолов. Небо, казавшееся цветком персикового дерева в полдень, с каждой минутой голубело и принимало тот цвет, ту прозрачность, что восхищали многих и многих паломников, пришедших из своих влажных лесов и грозовых гор. Вместо привычных северных облаков над головами их возвышалась живая стихия, шелковый занавес, колеблемый малейшим дуновением ветерка, трепещущий и полный солнечных бликов. Эта синева проникала в душу и воспламеняла ее своею радостью. Между тем красновато-белый город, лежащий меж холмов, просыпался: изобильное, немыслимое нагромождение фасадов, соборов, террас, колоколен и звонниц вместе с линией зубчатых стен уходили за горизонт! Анселен просил указать ему самые главные места и известные постройки:
— Это те самые Золотые Ворота, мой Гио?
— Те самые, мой господин.
— А это мощная колокольня Храма Гроба Господня?
— Да, а там, южнее, церковь святой Анны.
— Эти четыре башни принадлежат маленькому королю?
— Да, это его дворец, Монт-Руаяль. Я отведу вас туда завтра, если Бодуэн вернется к тому времени.
— Дай-то Бог! Небо так ясно, что, несмотря на усталость, я различаю крест на знамени Васана.
Его пальцы с источенными костями погладили кору дерева:
— Я думаю о том, что Господь Иисус, может быть, молился под этим деревом. У тех скал апостолы уронили головы на руки. Он остался один в свою последнюю ночь… Но не одинок ли каждый в это время?
— Нет, с тех пор, как Он умер на кресте и до скончания мира сего Он будет бдеть.
— Если Он простил апостолам их сон, я думаю, Он простит и нас. Не ночь, а все наше существование проспали мы, пока Он бодрствовал. Он страдает, а мы спим. Он в вечной агонии, а мы смеемся и шутим, тратя дни нашей жизни!
— Он привел вас к цели, мой господин, Он любит вас.
— Конечно.
— Вы здесь, в саду Его Святых страстей…
— Как стало жарко вдруг! Сейчас конец ноября, а солнце также горячо, как летом в Молеоне. Ты видишь этот источник, Гио? Я хочу напиться из него.
Жанна сказала:
— Это может быть неразумно.
— Разум здесь ни при чем.
Долго смакуя, он скорее ел, чем пил эту воду.
— Конечно, Иисус испытывал жажду в ночь моления о чаше. В Писании говорится, что от человеческого страдания пот выступил на Его лбу. Этот источник был рядом с Ним. Он набрал немного воды в пригоршню…
И тогда мы услышали вдруг ужасный шум. Он исходил из южной части города. На укреплениях заиграли трубы, медь которых сверкала меж зубцами стен. Орифламмы[7] взвились над Монт-Руаялем. Над окнами развернулись занавеси, пестревшие живыми и яркими красками. Ряды рыцарей выстраивались на эспланаде Храма. Мы увидели, как они движутся к городу. Мы увидели также толпы народа, бегущего вниз, к югу; охваченные ликованием, они махали руками, суетились, обнимались друг с другом. Наш зоркий землепашец заметил тогда лес копий с белыми флажками, отмеченными крестом, приближающийся по Аскалонской дороге.
— Это возвращается король, — воскликнул он.
— Ты уверен?
— Да, это он. И я вижу цепочку повозок по горам.
— Так значит, он победил! Слава Богу!
И этот простой человек в сердечной радости обнял Анселена:
— О мой добрый господин, вы увидите его, к его тоже! Вы увидите его собственными глазами!
— Я его увижу. В дорогу, дети мои, поспешим!
Рыцари выезжали из Сионских ворот и под развевающимися знаменами скакали навстречу приближавшемуся войску…
Гио снова погружался в мечты, но ненадолго. Те, кто слушал рассказ не впервые, ожидали этого момента, того чувства, что отразится на его лице. Это было чувство победной гордости, славы, но воспринятое с благодарностью и полным смирением. Глаза его, под дугами колючих бровей, сияли, как лампады перед табернаклем[8]. Груз воспоминаний сдавливал его широкую грудь. Пальцы сжимались на перилах кресла. Так и казалось, что он воскликнет: «Я был там! Я изведал счастье встречи! Я служил этому королю-герою в блеске его победы! Монжизар увековечил величие франкского рыцарства, он превзошел осаду Антиохии первыми крестоносцами и даже взятие Иерусалима войском Годфруа!» Но, из тайных побуждений, он умерял свой сердечный порыв, преодолевая гордость.
— От Гефсимании до Сионских ворот, — спокойно продолжал он, — дорога не длинна. Она идет по долине Иосафата, вдоль укреплений и оград земельных участков, засаженных плодовыми деревьями. Вдоль нее сохранились могилы прежних королей. Славная пыль устилает ее: миллионы нот прошли по ней в течение столетий.
Добрая половина населения города собралась перед воротами. Остальные прибывали, заполняя уже улицы, переулки, площади вокруг фонтанов. Ремесленники спешно покидали свои мастерские и бежали кто в чем был: в своей рабочей одежде с распахнутым воротом, обнаженными руками, босиком. Торговцы бросали лавки. Женщины с подвязанными по-сарацински младенцами оставляли хозяйство. Они носили разноцветные покрывала; у некоторых из них был тонкий профиль, задумчивые глаза и строгая улыбка — такой наши живописцы изображают Деву Марию. Старики ковыляли на своих слабых ногах, опасаясь не найти себе места. Хромые на костылях, тут и там жалобно блеяли о снисхождении к их увечьям. Богатые горожане надели праздничную одежду, золотые цепочки на шею и прицепили сверкающие звезды к шляпам; их жены выступали в шелку и бархате, разукрашенные, как девицы. В долинах и на холмах гарцевали тучи всадников… Перекрывая шум, одновременно зазвонили все колокола Иерусалима: у Гроба Господня, в церкви святой Анны и святого Георгия, в обителях госпитальеров, в Храме… Толпа расступилась, давая проход патриарху в сопровождении поющих епископов, клириков и левитов со свечами в руках. За ними в два тесных ряда валила толпа, но вокруг нас народу не уменьшалось. Войско подходило все ближе. Когда король стал различим и узнаваем, к звону колоколов добавились звуки рожков.
— Осанна! Осанна! — кричал народ.
— Слава нашему маленькому королю!
— Долгих лет жизни!
— Ах, чудо из чудес!
Вытянувшись в седле, увенчанный золотой короной, он скакал не первым, но следовал за Вифлеемским епископом с Истинным Крестом в руках. Епископ же отличался от остальных латников лишь крестом, надетым поверх плетеного панциря. Каким хрупким казался маленький король среди этих суровых мужчин, воинов с мощными торсами и квадратными плечами. Как был он бледен по сравнению с их обветренными и обожженными лицами! В своей кольчуге вороненой стали он вытянулся во весь рост, чистый и тонкий, подобный закаленному клинку, согнуть который невозможно! Усыпанная драгоценностями корона венчала острый шишак его шлема, забрало скрывало часть щек и подбородка. Медленно проехал он мимо нас, неподвижный, как статуя, с поднятой на поводья рукой. И разве не лучшим из рыцарей, живших на земле, был его образ — пример и образец для нас всех?
— Осанна маленькому королю!
— Ты служитель Христов!
— Сильнее Годфруа!
— Победитель Саладина!
— Спаситель Иерусалима!
— Слава тебе, слава! Живи для нас!
— Ангелы послушны тебе!
— Ты наша плоть, наше драгоценное тело!
— Ты превзошел Фолка, твоего пращура!
— И твоего отца, короля Амори!
— Князь неба, равный святому Георгию!
— И ты поразил дракона!..
Он казался равнодушным к славословию и неистовым возгласам этих мужчин и женщин, вырывавшимся у них в возбуждении; это были южане с пылким воображением, скорые на язык. Мы заметили, что он молится, и вот что странно — как не увидеть здесь таинственной связи между иными душами? — когда старый Анселен приподнялся на носилках и подал ему знак рукой, лицо короля осветилось краткой радостной улыбкой. Ногти Жанны впились в мою ладонь. Несмотря на шум, я услышал отчетливо:
— Дорогой Гио, это — настоящий мужчина!
Рено не удавалось скрыть разочарования, он с завистью взирал на победивших рыцарей, щедро получавших свою долю цветов и похвал, к стременам которых набожно прикасались женщины и дети. Слишком поздно приехали мы, и в том была горькая истина! Рено был безутешен.
Сжатыми рядами прошли пешие воины, вооруженные луками и ножами, им протягивали бутыли с вином. Они шли легко, несмотря на усталость, и, чтобы подбодрить себя, думали о бане и пиршествах, ожидавших их.
За ними потянулись нескончаемые повозки: они везли добычу, награбленную людьми Саладина в богатых имениях Аскалона, оружие, которое те же самые люди, обратившиеся в беглецов, бросили, дабы спастись от преследования франков, груды шлемов и щитов, серебряные блюда, кувшины с чернью, связки копий, мешки золотых монет… Затем, в четыре цепочки, охраняемые стражниками, следовали толпы пленных, могущественные эмиры и атабеги[9], царьки, подвластные Саладину, его военачальники, толпы всадников, еще вчера бесстрашные и надменные, а сегодня спешенные и связанные, подобно вьючным животным!
Госпитальеры и храмовники завершали шествие. Они не искали бренной и мимолетной славы, они состояли на тяжелой службе у Господа Бога. Их начальники присутствовали, правда, в голове процессии, но это было только во славу Ордена, а не для собственной утехи.
Когда толпа наконец поредела и растворилась, Анселен заговорил:
— Я хочу услышать молитву Te Deum, — сказал он, — и снова увидеть маленького короля.
Понадобилась вся нежная настойчивость его дочери, чтобы разубедить его:
— Отец, вы слишком устали после этого долгого путешествия, чтобы еще присутствовать на службе! К тому же вы не сможете войти, а если бы и смогли, то все равно были бы слишком далеко от короля, чтобы хорошенько разглядеть его.
Поскольку погода позволяла, мы согласились скромно перекусить в тени, а потом все вместе отправились в Монт-Руаяль.
— Ты думаешь, Гио, что он удостоит нас чести быть принятыми?
— Но я — один из его оруженосцев.
15 ПРОЩАНИЕ С АНСЕЛЕНОМ
Маленький король восседал на троне в глубине зала, по обеим сторонам которого висели ковры с изображениями сцен из легенд о Годфруа Бульонском, первом крестовом походе. В исполнении своих обязанностей король проявлял редкое достоинство. С первого взгляда его можно было узнать в толпе приближенных, безошибочно угадав в нем принца этого замка и хозяина королевства! Я говорил, что он был хрупкого телосложения. Но это не значит, что он выглядел хилым, плечи его были широки, несмотря на тонкую, как у юной девушки, талию. От Анжуйской династии он унаследовал ту красоту, что так выделяла ее среди остальных правящих домов Франции. Голова его гордо и высоко держалась на высокой шее, четкие черты лица, несмотря на его юность, были мужественны; в них не было ни самодовольства, ни изнеженности. Особенно выделялись глаза глубокого синего цвета. В его поведении не было никакой заносчивости, ни капли прихотливого высокомерия, лишь твердая убежденность в том, что он — король Иерусалима и Святого королевства. Туника его была ярко-красного цвета, без каких бы то ни было украшений. Такого же цвета подшлемник закрывал лоб и щеки. Жанна подумала и сказала, что это для того, чтобы лучше держалась корона, казавшаяся слишком для него тяжелой. Никто не осмелился разубеждать ее. Рядом с Бодуэном сидела его мать, Агнесса де Куртенэ, вдовствующая королева и графиня Эфесская, некогда отверженная супруга короля Амори; были там и принцессы Сибилла и Изабелла, архидиакон Иерусалимский рядом с командорами Храма и Госпиталя. За троном стояли славные полководцы и виднейшие воины короля. А впереди проходили все те, кто удостоился аудиенции, принося Бодуэну знаки почтения и поздравления с победой:
— Благородный король, пред тобой — знаменосец кузнечного братства. От его имени я свидетельствую о нашей покорнейшей любви и нерушимом восхищении. Все казалось проигранным. Сельские жители покидали свои дома. Повсюду пылали пожары, зажженные Саладином. Но ты, в своей беспримерной отваге обрушился на демона, играючи одолел его…
— Великолепный государь, сын приснопамятного Амори, от имени торговцев с улицы Храма, представители которых перед вами, я объявляю вам, что вы превзошли славнейших…
— Государь, король наш, цех плотников выбрал меня, дабы я заверил вас и поклялся, что среди нашего плотничьего братства нет ни одного, кто бы ни отдал своей жизни за вас, буде вы того потребуете. Каждый год мы доставляем десяток вооруженных конных и столько же пеших воинов, и все это бесплатно и сверх повинности…
Мы же стояли в глубине зала и благоговейно ожидали своей очереди: по распоряжению Бодуэна, мы должны были предстать перед ним последними, чтобы затем остаться возле него.
— Король, наш господин, братство оружейников приветствует вас. Моим голосом оно возвещает вам, что потомство назовет вас среда первых полководцев, памятуя о Монжизаре и о всех ваших грядущих победах. Вы станете тем, кто вытеснит, наконец, сарацин из Палестины и заставит Саладина крутить мельничный жернов. Для вас наше братство выкует непобедимый меч, который станет прекраснейшим и благороднейшим клинком из всех, бывших до сего дня…
— Король наш, Бодуэн Четвертый, говоря начистоту, иерусалимское судейство всегда беспредельно любило вас, но всех смущала порой ваша юность. А с этого дня наше собрание признало в вас своего повелителя. Мы с радостью преклоняем колена пред вами. Будьте уверены, что мы никогда более не возмутимся росту военных налогов: прибыль оправдывает вложенные средства! Весь город в радостном волнении благодарит победителя Саладина!
Мне предстоит теперь передать горький и странный разговор. Он был услышан лишь непосредственным окружением короля. Мне передал его дежурный оруженосец, имевший право быть около трона. Но прежде прозвучал ответ короля на все эти бесконечные славословия и похвалы:
— Выборные цехов, знаменосцы, и вы, городские судьи, я благодарен вам за эти поздравления, но нахожу их чрезмерными. Хвалу за Монжизар подобает воздать не вашему королю, но Господу Богу. Им одним сотворена победа. Он вдохновил меня! Не слабая воля вашего шестнадцатилетнего короля, но Его длань вела нас в песках пустыни и обратила в бегство неверных, презиравших наше войско. Он внушил нашим воинам сверхъестественную отвагу, они скажут вам, как на их глазах Истиный Крест, древо жизни и надежды, бесконечно возрос и достиг небес. Пред ним, а не предо мной должны вы преклонять колени.
Старшина франкской конницы выступил вперед и заговорил:
— Знай, мой король, что в раннем детстве, я видел Годфруа Бульонского. По словам моего отца, речи его были столь же скромны, как и твои. Но я повторю тебе ответ Иерусалимского патриарха Годфруа: «Раз ты стал служителем Христовым в местах, видевших Рождество и смерть Его, значит, ты избран им, и ты достоин того».
Именно здесь и начался тот разговор, когда вдовствующая королева, — тучная, но разодетая и разубранная драгоценностями пышнее своих дочерей — с предательской улыбкой сказала:
— Сын, государь мой, остановитесь! Этой скромностью вы разочаровываете ваших подданных. Народу нужен принц, чтобы восхищаться и почитать его беспредельно. Примите же эти знаки уважения: вы заслужили их. Это условия игры.
Она повернула к молодому архидиакону облепленные помадой, обвисшие щеки и губы, алевшие ярче граната:
— Разве это не так, дорогой мой Ираклий?
— Именно так, госпожа, — отозвался этот человек, бывший прелатом лишь по одежде. — Бог, государь мой, в некотором роде всегда руководит нашими действиями. Однако…
Бодуэн прервал его:
— И вашими также?
Ираклий сделал вид, что не понимает, и громко заявил:
— Король Бодуэн, отрицать вашу роль заступника нашего — значило бы гневить Бога. В Монжизаре вы были начальником Его войска. Это огромное дело!
Славословия возобновились; их завершило трогательное выступление матрон города:
— Государь, мой король, вот перед тобой младенец. Он рожден этим утром, в тот самый момент, когда ты входил в Сионские врата. Прости мне мое простое обращение, ведь я могла бы быть твоей бабушкой, и был бы счастлива этим!
— Не имею ничего против.
— Молодая роженица припадает к стопам твоего высочества, чтобы ты крестил ребенка и нарек его твоим именем: Бодуэн. Даст Бог, он вырастет таким же, как и ты, спасший наших сыновей от смерти, а дочерей от позора! Матери иерусалимские благословляют тебя, государь…
Она подошла и протянула ему младенца, спеленутого в белоснежные свивальники. После минутного колебания Бодуэн коснулся его, однако не рукой, а скипетром. Знавшие, в чем дело, грустно поникли головами.
Когда подошел наш черед представиться, Анселен отказался от помощи детей. Он вошел в круг, стараясь держаться прямо, но все видели, что он спотыкается. Жанна, Рено и ваш покорный слуга, охваченные волнением, держались поодаль, среди наших пахарей и дровосеков. С удивлением взглянул Бодуэн на этого высокого исхудалого старика, на прекрасную женщину в таком скромном одеянии, на этих простых светлоглазых людей. Кто это, — спрашивал он себя, — чужестранцы ли, а может быть, это нотабль Палестины, изгнанный из своих земель? Его сестры, принцессы, почти в открытую потешались над бедным блио Жанны, над диадемой, коей служили ей волосы, заплетенные в косы. Для всех них это мгновение было решающим, но ни король, и никто другой из присутствующих об этом не догадывался. Случилось то неуловимое нечто, которое делает всю дальнейшую жизнь адом или раем. Шедшая за Анселеном несла с собой одновременно и счастье и горе, как, впрочем, смешиваются они в любом живом существе. Король узнал меня и подозвал к себе:
— Дорогой Гио, вот ты и вернулся!
— Да, монсеньор, я привел с собой этих людей из Молеона, что в Бретани, на службу к вам; вот их господин — Анселен, и его дети.
Рено расправил плечи, стараясь выглядеть внушительнее, чтобы король, заметив его, не смог позабыть в будущем. Бодуэн понял, что имеет дело со своим ровесником, и удостоил его улыбки. С Жанной они обменялись первыми взглядами, выдавшими сходство их душ — одинаково требовательных и ненасытных. В одном из них читалось приятное удивление, в другом — пылкое восхищение. Старый Анселен попытался преклонить колени: так, по крайней мере, мне показалось, на самом же деле виной всему была слабость, охватившая его.
— Сеньор Анселен, я прошу вас подняться.
Наконец он понял, что Анселен изнемогает.
— Принесите ему скамью!
Анселен сел; казалось, ему стало лучше. С поднятой головой, глухим и хриплым, как бы замогильным голосом, он начал:
— Король и государь мой, простите: я умираю. С тех пор, как мы миновали Марсель, меня снедает лихорадка, к тому же мой возраст… Я хотел сражаться за вас, но я не могу… Бог снизошел ко мне… Я увидел Иерусалим, я вижу вас… Ему передаю я свою грешную душу, вам, государь, — моих детей…
Он тяжко вздохнул, потом зашатался и повалился, но медленно и достойно, как падают в лесу мощные дубы. Ни один из нас, никто вокруг не смел пошевелиться. Слышно было бы, как пролетит муха. Наконец Жанна и Рено решились поднять его.
— Осторожно, — сказал Бодуэн. — Отнесите его в комнату, которую вам укажет оруженосец Гио.
Анселен улыбался. Душа его отлетела, лишь только он вытянулся на кровати, без жалобы, даже без содрогания тела. Мы могли подумать, что он просто заснул. Улыбку же, исполненную доброты, означавшую избавление от мук и скрывавшую в уголках губ чуть ироничную складку, лицо сохранило еще долго. Она исчезла потом, при обстоятельствах, о которых я вам расскажу. При сиянии свечей, которые нам принесли, умерший действительно казался спящим и умиротворенным! Вздувшиеся синие вены на висках исчезли; если бы не его лысый череп, Анселен казался бы совсем молодым, во всяком случае — зрелым, мужчиной, но не более того, ибо лицо его, изглоданное лихорадкой, стало тонким, как у юноши. С редкой, как будто едва пробившейся бородкой, он казался просто старшим братом Рено. В неверном блеске свечей его руки, скрещенные на рукояти меча, выглаженные и омоложенные смертью, казались живыми, несмотря на полную неподвижность. Щиток с гербом Молеона лежал на его груди: тот самый лев с выпущенными когтями и раздвоенным хвостом. Но не этот геральдический лев, а деревянное распятие лучше выражало то, чем был Анселен при жизни: человеком доброй воли. Эту реликвию он унаследовал от отца, принесшего ее из Святой Земли. Пути Провидения вернули ее обратно. С приближением утра, когда воздух посвежел, мы закрыли окно. Причиной было то, что внутренний двор, куда оно выходило, огласился мелодиями флейт, гитар, звоном бубнов и тамбуринов, пением и смехом. Они проникали даже сквозь стекло, то ли доносимые ветром, то ли набирая силу. Тогда голос Жанны стал громче. Мы молились. Дровосеки и пахари домена пришли разделить с нами бдение, вспоминая далекие дни Молеона. Перебирая четки, вознося молитвы, они уносились душой через море к своим покосам, темным тропинкам и густым чащам их леса. Закрыв глаза, они вновь видели своего хозяина, едущего через деревню верхом, с соколом на перчатке, с бегущими следом собаками: о, он не был дурным человеком, не уважающим труд своих людей, нет, он был внимателен к каждому, доступен, беспокоился об урожае, о погоде, о здоровье скота. А когда он усаживался за стол в деревенских домах и целовал ребятишек! И у себя дома, во время аренды хозяйств, да и в любое время, когда нуждающийся просил его о помощи. На майских и октябрьских праздниках, на свадьбах, на торжественных богослужениях по праздникам и воскресеньям, наконец, на похоронах — всегда и всюду он умел обрадовать любого или облегчить беду, хотя бы одним своим присутствием. Он ободрял, поддерживал. Его уважали, он вызывал симпатию. Никто в его владениях не помнил за ним ни одного некрасивого поступка, будь то даже по отношению к животным, но он не терпел грубого неуважения к своему достоинству. За это его и любили.
Эти добрые люди, спросив позволения у Рено, преклонили колена перед мертвым Анселеном и оставили нас. Я позаботился об их размещении и питании на служебной половине дворца. К полуночи появился король, он избавился от своей короны, но, хотя не было холодно, его огромный подшлемник оставался на нем. Красные пятна выступали из-под ткани. Кожа под нижней губой и между бровями шелушилась. Он осенил себя крестным знамением и сказал:
— Так вы — его дети. Не лейте слез. Вы видите, он отдыхает.
Голос его пресекся, и он добавил:
— И какая благодать почиет на его ровном челе…
Ни Жанна, ни Рено не поняли его мысли.
— Я пришел сюда, — продолжал Бодуэн, — на минуту, подышать свежим воздухом, отдохнуть от этого пиршества и музыки…
Поправившись, он уточнил:
— Как гласит Писание, не спеши в дом радости, а спеши в дом печали.
Потом он обратился к Рено:
— Вот вы и господин Молеона. Как вас именуют?
— Рено, государь, а это моя сестра, Жанна.
— Что такое этот Молеон?
— Маленькая деревня в лесистой местности, в низовьях Луары, на границе герцогства Бретонского.
— Недалеко от графства Анжу?
— Недалеко. В этом месте Анжу, Бретань и Пуату сходятся в одной точке.
— Мы могли бы быть почти соседями, мои предки из тех мест. Это удивительно, так вот обрести друг друга, вдалеке от земель Франции. Я родился здесь, в этих местах, и не знаю ничего другого.
Он говорил так, потому что ему было шестнадцать лет, и ничто — ни королевское достоинство, ни власть не изменили его. Но эта откровенность его не подвела, напротив, она привлекла к нему Рено и Жанну. В любом случае, в его словах не было расчета, он говорил просто и ясно. После минутного молчания он продолжил:
— Вы прибыли издалека и сейчас остались одни в этом городе. Мое сердце тронуто вашей печалью. Для вас, вернее, для нас — раз уж я тут, этот прекрасный день кончился смертью — но, хотя всякая вещь на земле имеет тот же скорбный конец, уход вашего отца, достигшего вечной обители, нельзя назвать печальным! Если в моих силах облегчить ваше горе, или чем-то помочь вам, скажите мне… Хотите ли вы остаться в Иерусалиме, или, поклонившись святыням, отправиться в обратный путь? Мой кузен из Фландрии скоро отплывает, увозя с собой часть наших надежд. Вам предоставят место на корабле…
— Вы плохо о нас думаете, — сказала Жанна с оттенком негодования. — Рено недостает опыта, но он всей душой стремится служить вам и сожалеет лишь о том, что его не было с вами при Монжизаре. Я же тоже могу быть чем-нибудь полезна… Я умею лечить и знаю секреты врачующих трав, мазей для утоления боли. Я умею также вправлять и сращивать сломанные кости.
— Добрый государь, соизвольте зачислить меня в ваше войско или в вашу стражу, — поддержал сестру Рено. — Со мной мои люди, верность и послушание которых неизмеримы. Они пойдут за мной туда, куда прикажут идти мне! Мы прибыли сюда не просто на поклонение Святым Местам, мы хотим сражаться и вместе с вами одолеть неверных!
— Пусть будет по-вашему, Рено. Отныне вы и ваша сестра принадлежат моему дому со всеми вашими людьми, пока вы сами хотите этого. Гио позаботится о вашем размещении.
Они поблагодарили его от всего сердца. На него же внезапно нахлынули мрачные мысли:
— Мне так не хватает друзей… которые были бы надежны… и рассказывали бы мне о Франции. Вы видели меня в зените славы, но вы не ведаете, как я одинок, какие козни плетутся вокруг меня, как я боюсь, что я не смогу, не сумею защитить мое королевство в будущем!
Тогда Жанна, потрясенная, устремилась к нему и склонилась над его рукой, чтобы запечатлеть на ней поцелуй преданности и полнейшего сочувствия. Но Бодуэн отдернул руку, как будто ее прикосновение обожгло его:
— Нет, сударыня! Это неуместно и невозможно.
— Разве вы не господин наш с этих пор?
— О! Сударыня, есть лишь один Господь для всех нас, всевидящий и всемогущий. Знайте: король Иерусалимский недостоин подобного поклонения. Он — лишь коронованная тень. Зачем же вам унижаться перед ним?
На этом он простился с нами и удалился; он сделал это столь же просто и поспешно, как и при своем появлении. Жанна бросилась на грудь своего брата, дрожа всем телом, и воскликнула, глядя на покоящегося Анселена:
— Смотри, смотри! Наш отец перестал улыбаться: его радость угасла с уходом короля. Что это значит, Рено?
Я отвечал:
— Это лишь скрытая работа тлена. Не нужно видеть в этом какой-то знак.
Она возразила:
— Но что означает поведение короля? Почему он отказался от моего поцелуя? За минуту до того он говорил о дружбе; слова шли от чистого сердца, и вдруг это охлаждение…
— Я не знаю, — пробормотал Рено.
— Откуда этот свет в его глазах, утоливший мое тяжкое горе, терзавшее сердце вопреки молитве, когда он приоткрыл нам то райское блаженство, что вкушает сейчас наш отец?
— Все дело в том, что он почтил нас своим визитом. Кто бы мог подумать, что сам король придет поклониться останкам хозяина Молеона!
— Нет, Рено, я не польщена, я потрясена его появлением, его ни с чем не схожим голосом!
— Это король-победитель.
— Будь он побежденным, его величие не уменьшилось бы!
— Может быть.
— Но почему же отец наш перестал улыбаться, ведь он же в раю?
Я отвечал:
— Душа его полностью покинула тело и не оставила на нем следа. Наш господин Анселен нас видит, слышит и радуется за нас. То, что простерто под свечами, — теперь только его пустая оболочка.
— Пустая оболочка?
— Да, госпожа, не лучше изношенной кожи, которую, перевоплощаясь, оставляют в траве некоторые насекомые.
Рено был поглощен более земными размышлениями:
— Вот мы и принадлежим Иерусалимскому дому; да я и не ждал меньшего!
Ему было трудно сдерживать свое удовольствие. Жанна же сказала:
— Как по-вашему, Рено, почему король боится, что не сможет и не сумеет в будущем защитить свое королевство? Странно слышать от него такие речи. А я между тем уверена, что он еще совершит чудеса…
Так, этой ноябрьской ночью, в простой, строгой комнате, у смертного ложа Анселена плелись нити судьбы — нить черная, нить белая — одному одно, другому другое…
16 ПОКА ЖИВУ…
Итак, Рено стал рыцарем короля и получил небольшую командную должность, и с ней взыграла в нем безудержная гордость, он полагал, что это лишь скромное начало его грядущих подвигов, был уверен, что война поможет ему подняться до больших высот. Две партии вырисовывались в окружении короля, скорее же — вновь возвращались к прежним позициям, смешавшимся после победы при Монжизаре. Одни настаивали на войне, считая, что победа даст им возможность воспользоваться ее плодами, другие клонили к тактике выжидания и переговорам с Саладином. Конечно же, Рено не мог не пасть в объятия воинствующей партии и предпочитал компанию прожженных вояк, которые со сдержанным достоинством приписывали себе заслуги Монжизара, признавая, однако, и то, что в будущем Бодуэн станет полководцем, достойным их доверия.
— К сожалению, — добавляли они, все же понижая при этом голос, — болезнь доставляет ему немало неприятностей. Он никогда не станет таким статным, как его отец Амори.
— Что это за болезнь?
— Да о ней мало чего известно. Она проявляется лишь временами. На коже у него появляются красные пятна, и тогда он обвязывает свое лицо полотенцами; потом пятна исчезают. Считается, что все дело в приливах крови и все пройдет с женитьбой. Злые языки утверждают, что болезнь эта ужасна и он должен скрывать ее ото всех…
— Но что именно?
— Не сердись, мой маленький рыцарь, это ни к чему. Я ничего не могу добавить к этому, поскольку и сам многого не знаю. Здешняя кровь, смешавшаяся с кровью французских семей, не всегда давала сильных мужчин. Я знаю многих наших малышей с тою же вялостью и с теми же пятнами на коже. Лекари здесь бессильны.
Когда Рено находился при короле по долгу службы или же король сам требовал его к себе, часто вместе со мной, он, забыв о приличиях, в упор разглядывал его. Ибо все чаще и чаще по вечерам, завершив дела, Бодуэн призывал нас к себе. Очень скоро мы поняли, что причиной тому — Жанна, которую он хотел видеть, из любезности приглашая заодно ее брата и меня, считавшегося их другом и наставником. Едва мы входили, он радостно оживлялся, глаза его блестели, губы расходились в широкой искренней улыбке, и к нам обращались изысканные речи. Мы усаживались. Он требовал принести подносы с фруктами, апельсинами, лимонами и мускатными орехами, дивно вкусные пирожные, варенья и полные вином рога. Сам он ни к чему не притрагивался и всегда оставался на некотором расстоянии от нас. Рено полагал, что, несмотря на всю свою любезность, он старался показать свое превосходство над нами; я же не осмеливался его в этом разубеждать. Жанна тоже придерживалась иного мнения. Я знаю об этом, хотя она и не открывалась мне. Неоднократно я замечал, как она пристально, с болезненным интересом всматривалась в пятна на щеках короля, когда тот отворачивался от нее. Я замечал и то, как дрожали ее пальцы, хотя она ни на миг не переставала улыбаться, опасаясь выдать свое беспокойство и встревожить Бодуэна. Но она не ведала, что тот не был столь прост. Это внимание, эти ухищрения деликатности скорее, чем последовавшие потом беседы, установили между ними что-то вроде сообщничества, союза, который был принят ими с радостной покорностью. Мне кажется, Жанна уже все понимала, и зародившееся и с каждым днем растущее чувство было связано именно с ЭТИМ. Она понимала, и — может быть, сначала из милосердия, а потом в душевном порыве быть достойной его — соглашалась на эту стыдливую игру короля. Между тем Бодуэн, отказываясь признать неумолимую реальность, в присутствии радующей его молодой женщины вел себя как человек, стыдящийся самого себя. В обществе Жанны самые тайные, проникнутые страданием плоти струны его души испытывали непонятное, но вполне ощутимое и длительное утешающее прикосновение. При виде этой простодушной красоты, при звуках голоса, в которых ухо искушенного музыканта услыхало бы самые дивные мелодии на свете, боль, подобно злобному зверю, мерзкому демону умолкала, съеживалась и в ужасе отступала. К этому-то источнику и припадал король с горячностью и волнением, которые ему порой невозможно было скрыть. За несколько вечеров, а скорее — с самой первой встречи в зале для аудиенций и возле ложа, на котором возлежал Анселен, Жанна сделалась ему близкой, просто необходимой! Между тем он еще старался сохранять церемонный тон:
— Сударыня, расскажите мне еще о Франции. Если бы вы знали, как мне не хватает сведений о ней. Я родился в Святой Земле, и Бог даст мне умереть на ней. Значит, я никогда не попаду туда…
— Как только Саладин будет побежден, государь, и мир воссияет над вашим королевством, вы сможете туда отправиться!
— Саладин ударил в грязь лицом, но он не из тех, кто отказывается от своих замыслов. Он восстанет. Покуда мы оба живы, мы будем воевать, а он еще в расцвете своих лет. Запаситесь терпением, сеньор Рено, схватка еще не окончена… Однако оставим эти печальные разговоры. Сударыня, расскажите немного о том, какие зимы у вас во Франции. Правда ли то, что иней покрывает там землю в течение нескольких месяцев?
— Да, ваше величество, он набрасывает саван на деревья и кусты. Когда выпадает снег, все вокруг бело и чисто, как напрестольный покров.
— Почему «напрестольный»?
— Потому что из-за стоящих тут и там обледенелых кустов он кажется вышитым и украшенным кружевами.
— Мне нравится такая картина.
— Крыши домов — будь они из соломы или из круглой черепицы — той же белизны, а по утрам и вечерам над ними вьется дымок. Черного цвета только кора у дуба да крылья у воронов. Когда спустится ночь, зажигаются свечи. А при лунном свете весь этот иней, вся эта снежная пыль начинают искриться; на улице становится светлей, чем в домах. И всем хорошо при этом.
— Даже несмотря на холод, от которого трескается кожа?
— Тогда все жмутся к камину. В Студеные ночи ярче пылают дрова. Наши камины столь велики, что в них можно положить половину древесного ствола. Колени и лицо пылают от каминного жара, а по спине пробегает озноб, если кто-то откроет дверь и воздух ворвется со двора в комнату. Но люди привыкли и одеваются соответственно: в добротные и теплые шубы.
— Из каких мехов?
— А это зависит от возможностей каждого. Из горностая, куницы, соболя или же из лисы. Мехом внутрь, к рубашке.
— Как бы мне хотелось узнать, что это такое! Я видел снег лишь два раза в жизни, да и тот — на вершинах наших гор; на другой день он тает. Для нас зимы — это короткие, но проливные дожди и ветры, дующие из пустынь, чтобы высушить после них землю. А правда ли, что у вас можно ходить по поверхности прудов? Я слыхал об этом от рыцарей из Анжу. Здешние же рыцари подняли их на смех, посчитав все это солдатскими выдумками.
— Лед сковывает воду прудов и озер с такой силой и на такую глубину, что иногда по нему может проехать без риска и всадник на коне. Когда мы были детьми, деревенский кузнец прибивал металлические полозья к сундуку, и мы катались в нем быстрее ветра.
— А в реках и речках вода также затвердевает?
— Нет, государь, за исключением мест вдоль берегов, потому что вода течет, а лед неподвижен, он не любит движения.
— Мне рассказывали, что через графство моих предков течет река, гораздо более широкая и глубокая, чем Иордан. Приходилось ли вам ее видеть?
— Да, это та же самая река, что протекает возле города Нанта, в котором живет наш Бретонский герцог. Она называется Луара, по ней плавают парусные суда.
— А похоже ли графство Анжу на вашу Бретань?
Жанна слегка улыбнулась, но то была не насмешка, а улыбка учтивого достоинства.
— О, мой государь, это единое целое; все это милая земля Франции с ее зимним снегом, весенним цветением, осенней жатвой, осенней пахотой и сбором винограда. Здесь — все больше пшеница, а там — виноград, дальше — пастбища, великолепные леса с поющими птицами, потому что, мой господин, счастье везде дается добрым людям.
— Рассказывайте дальше, я еще никогда не слышал ни музыки, ни пения приятнее ваших речей. Я обретаю в них свой путь к познанию.
— Там есть риги, где в плохую погоду хранят мешки с пшеницей и сено. Это такая радость — держать у себя на ладони горсть блестящих зерен, в которых скрывается жизнь и откуда она выходит в виде хлебного каравая; что на свете древнее и полезнее этого? Так, мой отец, старый господин Анселен, почитал за честь бывать на праздниках жатвы в своих хозяйствах, уважал он и сельского пекаря. «Потому что, — говорил он, — это великое дело — суметь из хорошо замешанного теста выпечь румяную корку и добрый мякиш. В своей пекарне, в окружении помощников, пекарь — суверенный владыка». Я родилась и выросла, мой государь, среди этой простоты, и я горжусь этим. Мне кажется, что там я узнала смысл жизни. Когда по утрам я шла через деревню и вдыхала этот теплый запах свежевыпеченного хлеба, я видела в том некое свое преимущество. Еще одно — вдыхать запах сена, в котором слились все ароматы, испарения весны, потому что тут смешаны все луговые цветы — ромашки и лютики переплелись зелеными стебельками с шалфеем и тмином. И я любовалась нашими домашними кошками, что устраивали в сене норы и отдыхали в нем, подстерегая мышку своим золотистым прищуренным глазом. На гумне в Молеоне хранилось то, что было создано трудом доброго десятка поколений. Осталась лишь пыль, вдыхать которую тревожно и приятно. Надо вам сказать, господин Бодуэн, что мы были в дружбе с нашими людьми, и что с незапамятных времен никто не ведал нищеты. У нас в Молеоне никогда не бывало много денег, зато в изобилии — мяса и овощей, леса и рыбы, дичи — и все от этой несолнечной, но столь плодородной и богатой земли! Когда рождался жеребенок, теленок или дитя, мой отец — воплощенная простота и милая невинность — терял покой и ждал, чтобы его скорее позвали. Он говорил: «Знайте, мои дорогие, что на свете нет незначительных вещей, потому что этот жеребенок, если Богу будет угодно, станет самым благородным боевым конем; теленок — самым отборным быком во всей округе, а дитя — воином, подобным Роланду Ронсевальскому». Говорил он это совершенно серьезно, многое передумав, узнав и повидав. Люди его любили, и я изведала счастье наблюдать, как они приходят к нему за советом и помощью, будто бы к своему старшему брату, а вовсе не к полновластному господину. Для него же ощущать себя столь нужным и уважаемым было праздником души. В то время, когда девушка становится женщиной, я, как и остальные, просыпалась мрачной — он обнимал меня и говорил: «Вставай веселей!». Брату Рено, занимавшемуся выездкой с нашим конюшенным Юрпелем, он кричал: «Веселей, сынок! Все одолеешь!» Все в Молеоне шло с радостью и весельем. Я не думаю, чтобы в деревне были несчастные, ибо жил такой человек — Анселен, мой отец, с его проницательными глазами и открытой душой, подсказывавшей ему слова, доходящие до сердца каждого. Награда ему — столь низко и мало ценившему себя — покоиться в земле Иерусалима. Так что и по смерти своей он будет воодушевлять и направлять своих людей.
— Продолжай… продолжай, прошу тебя…
Только я один заметил это «ты». Сам он уже не владел собой. Жанна была охвачена воодушевлением, увлечена воспоминаниями, а Рено играл в шахматы с неким Гио, который не слишком внимательно следил за своими пешками.
Раз за разом она становилась все смелее и смелее, забывая начинать свою речь со слова «государь», и сразу переходила к делу. А он, в свою очередь, забывал говорить «сударыня», и звал ее попросту, как и положено в ее возрасте, по имени: Жанна. Рено ничего не смыслил в этих тонкостях и видел лишь особую милость в этой скромной непринужденности, глупейшим образом полагая в том свою собственную заслугу. Я вовсе не собираюсь бросить в него камень; у каждого — свой конек, у него — честолюбие; но повторяю: ему тогда было только семнадцать лет, и всю жизнь он провел в подчинении — весьма относительном, конечно! — которого требовал от него Анселен.
— Скажите мне, Жанна, чему же посвящаете вы эти вечера, когда вам совсем не холодно? — спрашивал король.
— Вас удивляет такое времяпрепровождение?
— Конечно!
— Так вот, когда мы сидели в тепле и свете от горящих поленьев, держа в руках стакан с вином или смакуя медовый пряник, щелкая испеченные в золе каштаны и откусывая кусочками цукаты, частичка нашей души бродила в этой стуже, среди скованных инеем деревьев и по замерзшим прудам, расчерченным полозьями саней. Она отыскивала в дуплах зверушек, высматривала птиц, присевших на ветки, и, в силу противоречивости человеческой природы, она смущалась их несчастием, искренне их жалела и одновременно утешалась теплом под крышей своего дома и кругом хороших друзей.
— Боже мой, теперь мне приоткрылось это счастье — это мне-то, знавшему лишь палящее солнце, жгучие пески, скачки по пустыне и ту единственную свежесть, которую дает оазис… Но чем же вы занимались? Господин Анселен играл с приятелем в шахматы, а молодые люди и дамы в это время танцевали? Или же какой-нибудь трубадур пел вам свои песни?
— Ни мой отец, ни его друзья никогда не были столь знатными господами. Обычно он проводил время в кругу наших людей и соседей; лучшим же его другом был наш сержант Юрпель, который в это время обычно поднимался на башню, чтобы застать врасплох стражника. А тот в такую пору только и ждет, когда его сменят, да греет свои окоченевшие пальцы возле переносной жаровни, которую устанавливают наверху.
— Ну а там, внизу, о чем вы вели разговоры?
— Рассказывали об охоте и пели. Мы не вели светских бесед; каждый говорил о своем, делясь нехитрыми размышлениями, или же пел что-нибудь простенькое. Но мы были счастливы в эти часы. Старые служанки, руки которых не привыкли оставаться без дела, пряли пряжу. И жизнь текла так быстро, что кажется сном, от которого я просыпаюсь только сейчас.
— Иногда жалко просыпаться…
— Мне — никогда. Однажды в нашу дверь постучался какой-то изможденный человек, дрожавший от холода. Я принялась за ним ухаживать, и травяные отвары остудили его горячку, а яичные желтки вернули здоровый цвет лица, однако он продолжал кашлять кровью. Он понял, что дом наш не из тех, где для бедных — лишь пустые речи, и испросил моего отца позволить ему умереть здесь. Он успел немного поучить меня музыке и завещал мне свою лютню, сделанную из прекрасного волокнистого дерева с фигуркой Мелюзины на конце грифа.
— Феи Мелюзины, покровительницы лузиньян?
— Да, она слывет волшебной строительницей их мощных замков, но это лишь легенда, бабушкина сказка, пыль в глаза, обман, что лишь дети примут за чистую монету.
— А что, у вас совсем не любят лузиньян?
— Их считают напыщенными и самодовольными.
Услышав эти слова, Бодуэн лукаво улыбнулся, но воздержался от каких-либо замечаний по поводу этих слов.
— Вот здорово. А что же вы пели под эту лютню? То, чему научил вас этот странник?
— Что вы, у него, бедняги, голос был уже совсем слаб! Я пела наши народные песни, совсем глупенькие и безыскусные, да слушатели мои были невзыскательны.
— Ради всего святого, можно ли мне услышать хоть одну из них?
Но, поняв неуместность своей просьбы, он спохватился и стал извиняться:
— Жанна, я совершенно забыл, что вы в трауре.
Ответ ее ошеломил и озадачил Рено, равно как и меня, но это было только начало. Да и сам ответ мало чего стоил в сравнении с тем блеском глаз, с тем бесценным даром, что в первый раз в жизни достался ему:
— Поскольку я уверена, — проговорила она тихим радостным голосом, — что отец мой вкушает сейчас райское блаженство, почему бы не веселиться и нам? Если вам, государь, доставит удовольствие мое пение…
Она попросила принести свою лютню, и то, что она затем спела, на редкость соответствовало тому вечеру: было ни грустно, ни весело, но просто и прекрасно:
В скорбной юдоли Страданье и горе Мне не страшны. Живу любовью Для лучшей доли И цвета весны. Из всех красавиц Другом ему Одна я буду Пока живу.Ни король, ни Рено, ни даже я, все время бывший начеку, не поняли с первого раза тайного смысла и цели этой песни. Лишь сама жизнь, лишь горько-сладкие дни следующих месяцев объяснили нам все.
17 ПЕЧАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Прошло немного времени. Мы, Рено и ваш покорный слуга, были включены в состав посольства, которое король направил к Саладину. Тот добрался до Каира лишь к середине декабря, с горсткой мамелюков, через пустыню Синая верхом на верблюде. Его считали мертвым даже среди неверных, и сирийские эмиры воспряли духом и вновь обратили взоры к иерусалимскому королю, вероятному союзнику в их борьбе против господства Египта. Монжизар равно поразил и их воображение. Лишь один Бодуэн хорошо понимал цену такой победе. Со свойственными ему ранней мудростью и удивительной прозорливостью он говорил себе, что солнце никогда не светит так ярко, как с приближением сумерек. Мощь Саладина была подорвана — если не произойдет политического убийства или какого-либо дворцового переворота — лишь на короткое время. Бодуэн считал, что он не доживет до спокойной старости. Вот его слова, тайный смысл которых я в то время не понимал:
«Тьма и свет неразделимы. Ангел и демон сосуществуют в каждом существе, пребывая в беспрестанном бдении и противоборстве. Так и наши судьбы. Мы связаны друг с другом. Ни одного моего дня не пройдет без того, чтобы Саладин не доставил мне забот».
Итак, взяв курс на Каир, мы шли на быстрой, хорошо вооруженной галере. Перед отплытием Бодуэн любезно сказал Рено: «Вашей молодости неплохо будет узнать и оценить, на какие козни может пойти неприятель». И это говорил шестнадцатилетний принц, который сам не осознавал своих собственных побуждений, удаляя на несколько недель брата Жанны!
Что же до меня, то я испытывал живейшее любопытство, мне хотелось увидеть вблизи и услышать султана, помимо развлечения, которое доставило само путешествие, лишенное на этот раз каких-либо опасностей. На мачте реяли два знамени: иерусалимского короля и Храма. Нашими гребцами были военнопленные рабы-мавры. Конечно, мне было жалко их. Но сколько же наших соотечественников находилось среди гребцов эскадры Каира, закованных в кандалы, с кнутом над плечами! Саладин принял нас с почетом. Тот, кто бы мог сравнить роскошь султанского дворца с Монт-Руаялем в Иерусалиме, мощь его оборонительных укреплений и дисциплину гарнизона с четырьмя нашими башнями и нашей стражей из добровольцев, без сомнения, одобрил бы осторожность Бодуэна. Очевидно было, что поражение Монжизара не могло чувствительно поколебать власть Саладина. Своей железной рукой он живо восстановил порядок.
Мы продвигались вперед посреди тройной охраны из мамелюков, одетых в цвета египетского владыки: зеленый тюрбан и желтую парчовую тунику, надетую поверх кольчуги. Сам повелитель, сидя на золотом троне, одетый в такое же желтое одеяние, но в отличие от остальных — в колпаке с четырьмя загнутыми удлиненными углами, глядел на нас, входивших в зал. После многократных выразительных приветствий он любезно предложил нам сесть. Его очень необычное лицо запечатлелось в моей памяти в мельчайших деталях. Мало сказать, что это было лицо великого владыки! Величайшая мудрость, отражавшаяся на нем, далеко превосходила ум простых смертных. Как у породистых коней, в глубине его широких выпуклых зрачков пылал мрачный огонь. Временами эти огромные глаза сверкали подобно темно-красным рубинам, и тогда в них невозможно было смотреть. Брови были такими же черными, как и подстриженная клином борода, казавшаяся синей и блестящей на фоне светлой парчи. Но не эта грозная борода, не жесткие красные губы привлекали к себе внимание. Его узкое, бронзового цвета морщинистое лицо с глазами, запавшими от усталости, забот власти и тревоги недавнего поражения, оживлялось лишь взором. Нельзя сказать в точности, что он в себе таил: великодушие, ненависть, презрение, грусть или же всепожирающее честолюбие. Взгляд его буравил человека насквозь — или стремился к тому, — но перехватить его было невозможно. Голос был грубым и резким, как бы охрипшим от воинских команд; в то же время он мог принимать странную выразительность: так оазис освежает пустыню. Не зная мавританского языка, я мог только догадываться, о чем идет речь…
Братья мои, вас удивляет отсутствие во мне ненависти после всего того зла, которое причинил нам этот человек? Но можно было только сожалеть, что родился он не в нашей среде и не в нашей вере. Кресты знамен Годфруа развевались бы над Иерусалимом до сих пор. Мы завоевали бы всю землю на Востоке, вместе с Египтом и рекой его Нилом. Вдобавок в его внешности было несомненное прирожденное величие. Дальнейший ход событий показал, что это было не только внешним свойством, но что его сердцу и характеру не чужды были и рыцарские качества. Им была присуща своеобразная душевная красота, которую мы называем галантностью. Узнав главу нашего посольства, Балиана д'Ибелена, одного из героев Монжизара, назначенного на эту должность специально, Саладин заметил без гнева, почти дружелюбно:
— Ты тот, кто чуть было не убил меня! Я видел, как ты несся на меня во весь опор с копьем, нацеленным прямо мне в грудь. Пришел бы конец Саладину, если бы трое моих мамелюков не остановили твою стремительную атаку и ты не покатился бы в пыль. Я думал, что ты погиб. Мне приятно воздать тебе должное.
Но затем добавил с вызывающей усмешкой:
— Именно полководца нужно поразить в бою во что бы то ни стало. Мамелюки умеют умирать только за него.
Переводил толмач, переметнувшийся армянин. Это отродье, отступники, равно как и лжеобращенные, были нам очень полезны; в то же время они доставляли нам и огромные огорчения. Если наш король имел своих соглядатаев в окружении Саладина, то и султан также располагал своими сеидами в Монт-Руаяле и Иерусалиме. Эти вероломные обычаи, столь противоречащие законам рыцарства, раздражали наших боевых ветеранов, прибывших с Запада; тем не менее это было необходимо.
— Если молодой король, — сказал Саладин, — так уверен в том, что победил меня, отчего же тогда он задумал строить замок, местонахождение которого уже определено у Брода Иакова? Почему его коннетабль Онфруа де Торон мечтает там же построить крепость? Зачем это, если не для защиты ваших южных границ? Мне известно также, что власть имущие Иерусалима собирают деньги на восстановление крепостной стены вокруг столичного города. Когда есть уверенность в своей силе, подобного строительства не ведут, относясь с пренебрежением к соседству побежденных.
— Но, однако же, признайте, великий султан, что после Монжизара перевес оказался на нашей стороне, — возразил Балиан.
— Охотно соглашусь, сеньор д'Ибелен; но в таком случае вместо того, чтобы направлять ко мне представительство и обсуждать условия перемирия, не правильнее было бы прикончить раненого?
И коварно уточнил свою мысль:
— Вооружить флот и направить его сюда, в устье Нила, зная, что Саладин не сможет защититься, поскольку он раздавлен.
Ему было известно, что мы не сможем решиться на подобную операцию, поскольку она обернулась бы для нас огромными потерями без надежды получить подкрепление и восстановить численность войска. Он знал также и о том, что резкий, гнусный и неоправданный отказ графа Фландрии надолго рассорил византийских императоров с иерусалимскими королями. Такое разобщение христиан на Востоке вселяло в Саладина надежды. И тем не менее, потерпев поражение при Монжизаре, поколебавшее его авторитет, он согласился заключить перемирие. Перед тем, как возобновить войну против Бодуэна, ему необходимо было восстановить свою власть над некоторыми из своих наместников и сирийскими эмирами.
Тогда же от одного из эмиров, известного своим вероломством, мы узнали, что Саладин с тревогой вопрошал себя, не оставил ли его Аллах, не стал ли он с неясным умыслом покровительствовать юному франкскому королю? Поскольку — и это была не худшая черта в его характере — политическое здравомыслие и воинственная жестокость естественно сочетались в нем с пылкой верой. Саладин был более чем набожен; его фанатизм не ведал границ. Наш юный король убеждал себя, что исполняет великую и священную миссию местоблюстителя Христа в Иерусалиме. А Саладин рассматривал себя правой рукой и наместником Аллаха. Поэтому борьба разворачивалась между ними беспощадная. Увы! Саладин был мощного телосложения, и ничто не смущало его упований, в то время как Бодуэн…
Бодуэн же, находясь в Иерусалиме, вкушал от первых плодов своего мученичества, и виной тому была его мать. Но узнали мы о том лишь по возвращении, после того, как Жанна в мельчайших подробностях рассказала нам о случившемся. При дворе в Монт-Руаяле она не имела никакой определенной должности. Все места при вдовствующей королеве и принцессах Изабелле и Сибилле были уже заняты. Она была свободна в выборе своего времяпрепровождения и вела образ жизни сестер и жен франкских сеньоров, состоявший главным образом в ожидании: опасностей было столько, что их мужья проводили в дозорах и войнах добрую половину года. Король посылал за Жанной, когда хотел отвлечься от дел. Она рассказывала ему о Франции, пела, несмотря на траур, так понравившиеся ему народные песни. Вскоре они стали видеться каждый вечер. Их юность и чувствительность сочетались самым лучшим образом. В душной атмосфере дворца, среди докучливых и лицемерных разговоров с приходом Жанны на него нисходила какая-то ясная благодать. Его день завершался новой зарей. Когда, сидя перед ним, она склонялась над струнами лютни, он жадно смотрел на эту изящную шею, золотившуюся под нежным ореолом волос, которые затем собирались в косу и олицетворяли для него, казалось, все очарование окружавшего мира. А сердце Жанны уже начинало биться для него, наконец она ощущала себя нужной и даже необходимой. Человек, прибегавший к ее услугам, был достоин ее совершенного восхищения, кроме всего прочего, еще из-за того, что сам он скрывал с такою тщательностью. Не было ни одного слова, ни одного жеста или поступка с его стороны, которые разочаровали бы ее. Тем не менее, обладая здравым рассудком, она пыталась обнаружить в нем какой-нибудь изъян, чтобы вырваться из-под власти этого странного обаяния. Поскольку в его присутствии она была счастлива не менее чем он в ее, это вселяло беспокойство. Она говорила себе, что он — принц, а она — почти никто, дочь мелкого захолустного землевладельца; что то чувство, которое неуклонно влекло ее к нему — не что иное, как безумство, опасный мираж, пустые мечты. Но что может поделать разум, когда говорят чувства? Отдаваясь им, она убеждала себя в том, что во время их свиданий нет ни короля Бодуэна, ни сестры скромного крестоносца его свиты, а встречаются просто мужчина и женщина. Эта мысль устраняла все препятствия и недомолвки в их отношениях. Более того: манера их разговоров друг с другом не изменилась с первого дня их знакомства, в ней не прибавилось вольности. Но то, что происходило в глубине души каждого из них, было больше слов и внешних проявлений. Они были далеки от того, чтобы осознавать это, еще дальше от того, чтобы признаться в том друг другу; но при каких же трагических обстоятельствах это произошло наконец! А между тем с большим нетерпением дожидались они вечера, и после ужина — минуты очередной встречи.
Но однажды вечером, когда они беседовали со столь невинными помыслами, что даже не закрывали дверей и оставляли полог открытым, появилась королева Агнесса. Они услышали позвякивание ее украшений, пошаркивание туфель из золоченой кожи. Она прикоснулась своей дряблой накрашенной щекой к головной повязке сына, однако не поцеловала его, а наоборот, отступила и лишь затем села в кресло. Она поднесла свои толстые пальцы в тяжелых перстнях к своему ожерелью, столь же массивному, грубому и причудливому, как и она сама, и перевела дыхание. Полуприкрытые подведенными синим цветом и блестящими от мазей веками глаза ее жестко буравили Жанну.
— Сын мой, государь, я поспешила сюда, чтобы… Вы видите, как я взволнована, потому что я только что узнала…
Бодуэн потемнел лицом. Жесткая ироничная складка скривила его губы. Взгляд, пробивавшийся из-под его полуопущенных век, стал чем-то напоминать кошачий.
— Может быть, — решилась королева, — лучше было бы отослать на время это прелестное дитя?
— Нет, не лучше, — повысил он голос в ответ. — Жанна не служанка.
— Я знаю это, сын мой. Равно как и то, насколько приятно вам ее общество… вы даже забыли о своих близких, которые между тем так любят вас.
— Между чем?
— Ради Бога, оставьте этот тон! С вами говорит ваша мать.
— Я слушаю вас!
— Я просто хотела бы предложить, чтобы Жанна не слышала того, что я пришла сказать, поскольку это тягостно…
Все было фальшью в этой боровшейся со своими годами матроне: тонкий голос и усмешки, жеманство и противоречащий им пронзительный взгляд.
— Так в чем же дело?
— Мой дорогой сын, соберите ваше мужество; оно вам понадобится, и я предупреждаю вас об этом. Мое материнское сердце разрывается от того, что я должна сказать, и сжимается, чувствуя вашу чрезвычайную тревогу.
Она наслаждалась тем ужасом, который посеяла в душе Бодуэна. Теперь он уже и сам бы желал, чтобы Жанна оказалась далеко от этого зала и не слышала того, о чем пришла сообщить королева. Он собрался отослать ее, но было уже поздно. Его мать, великолепно читавшая все, что происходило в его душе, опередила его:
— Мой государь, врачи высказались безапелляционно. Двое из ваших слуг-мавров оказались заражены. У них появились пятна, которые не оставляют никаких сомнений, никаких надежд. Это те, которые занимались вашим…
— Я прошу вас, уйдите отсюда!
— Смотрите, вы рискуете заразиться, — прибавила она, обращаясь к Жанне. — Счастье, что это были всего лишь мавританские рабы.
— Уйдите отсюда, мадам, иначе я прикажу прогнать вас!
Это был уже скорее лай взбешенной собаки, нежели человеческий крик. От него Жанна содрогнулась с головы до ног.
— Перестаньте вмешиваться в мои дела и пристрастия!
Однако это не подействовало на жуткую женщину; ее не мог смутить даже такой натиск.
— Кому же еще заниматься ими, как не вашей матери? — спросила она слащавым голосом.
— Мать, которая находится в союзе с моими врагами, с тем, кто якобы для моей выгоды убил Милона де Пленси, друга моего отца и моего сенешаля, в ту пору, когда я был еще ребенком! Вы оказались среди тех, кто удалил Раймона Триполитанского; он был единственным, кто мог помочь мне своими советами и своим опытом, а вам помешал бы приносить вред! Но свергнуть меня значило бы нанести ущерб и городу, и Иерусалимскому королевству!
Между тем не проходит и дня без того, чтобы вы не сделали чего-либо против меня, вопреки вашим же собственным интересам, держащимся единственно моею властью. Ваша злоба сравнима только с вашей же глупостью!
— Бодуэн!
— Уходите, мадам. Один ваш вид оскорбляет меня. Ваше лицемерие недостойно той, кем вы себя мните: жены и матери королей. Вы попросили у меня удалить демуазель де Молеон нарочно, для того, чтобы я удержал ее.
— На что вы намекаете?
— Вы хотели, чтобы она слышала то, что вы скажете, и в ужасе отшатнулась бы от меня, узнав из ваших уст правду о моем несчастье! Чтобы она устрашилась заразы и покинула бы меня навсегда! Ложью, убийством или ядом вы неизменно удаляете от меня всех, кто ко мне привязан и готов прийти на помощь. Это чудовищно, и вы не заслуживаете доброго имени матери…
— Вы отрицаете, что эти рабы-мавры заболели проказой из-за того, что прикасались к вашим повязкам? Сегодняшняя ночь будет последней, которую они проведут по-человечески. Завтра их отведут за городские стены, в трущобы квартала для прокаженных!
— Уйдите хотя бы теперь, когда вы уже произнесли это слово — проказа, которое вы обсасываете, как вкусную конфету, прежде чем плюнуть им вместе с вашей мерзкой слюной в лицо Жанне. Вы победили, мадам! Упивайтесь теперь своим позором, но помните, что Господь вам судья!
— Он и вам судья, бедняжка! Но я прощаю вам этот гнев. Тем не менее я вас прошу: коль скоро вы принц и вашу репутацию везде считают образцовой, не подвергайте ваших знакомых опасности заражения.
После этой колкости она удалилась. Бодуэн остался с Жанной один на один.
— Жанна, — сказал он, помедлив, — вам тоже нужно уйти отсюда.
— Почему?
— Потому что теперь вам известно, что я болен проказой…
— Неправда, сеньор!
— Вы слышали? Эти рабы-мавры погибнут из-за меня, Мои бинты заражены. Выдыхаемый мною воздух отравлен. Я настоящий источник тлена… Жанна, опомнитесь, я несу смерть.
— Пощадите меня!
— Мы говорим народу, что у меня обычное кожное заболевание, ссылаясь на нездоровую кровь, для того, чтобы успокоить его, но особенно для разубеждения неверных, чутких к нашим слабостям. Но по закону я должен быть заживо погребен в наших трущобах для прокаженных.
— Смилуйтесь надо мной, государь!
— Этот государь имеет несчастье быть прокаженным, этому прокаженному выпала удача быть королем. Видите, какая дилемма?.. Но было бы нечестно подвергать вас опасности ради моего развлечения. Я согласен с матерью, предостерегшей вас, я осуждаю ее за то, что она лишила меня дорогого мне существа. Вот и все, я закончил… На этом закончены и наши вечера, и наши разговоры… Возвращайтесь к себе в комнаты!
— Вы меня больше не позовете?
— Я не знаю.
— А если я вас об этом попрошу?
— Что-то сломалось, и починить уже невозможно! Теперь я не смогу посмотреть вам в глаза, потому что поведением моим по отношению к вам станет подлость.
— Доблесть, мой государь. Вы боретесь с болезнью, и даже с самой мыслью об этой болезни.
— Нет, мои пальцы заражены; заразно мое дыхание; мое белье, моя одежда пропитаны этой заразой… Но существовали вы, моя надежда, и я держался за нее. При вас мне казалось, что я нормальный человек. Во мне пробуждалось упование. Этого больше уже не будет!
— Это будет всегда!
— Со страхом подхватить проказу? Вы стали бы такой же, как моя мать и сестры, как и все те, кто, приблизившись ко мне в силу обязанности или лести, потом в течение длительного срока внимательно исследуют свою кожу, страшась обнаружить на ней пятно… Уходите немедленно. Я вам приказываю!
— До завтра, дорогой сеньор.
— Прощайте навсегда, говорю я вам, и соблаговолите простить мне мой обман.
Она послушалась, но внутри нее как будто все омертвело, она побледнела и зашаталась так сильно, что он чуть было не встал и не вернул ее назад. Зачем он не сделал этого! Их счастье было таким коротким!
18 ВОЗВЫШЕННЫЙ ПОЦЕЛУЙ
С того дня прошло около месяца; Жанна видела Бодуэна лишь во время публичных церемоний. Сидя уединенно на почетном месте под балдахином, он возглавлял обременительные для него празднества и давал аудиенции послам. В числе приглашенных была и Жанна, хотя и она проявляла к этому мало интереса и охоты. Но так было заведено, что женщины должны были присутствовать на подобного рода сборищах; они оказывались там рядом с мужчинами, будь то даже знатные мавританские сеньоры. Жанна предполагала, что король тайно желает, чтобы она влюбилась в одного из его богатых вассалов. Это было бы слабой, но единственной защитой от не оставлявшей его любви. Он говорил себе — и сказал об этом мне! — что если бы она полюбила кого-то другого, он смог бы и должен был бы оставить свою любовь к ней.
— Ах, Гио, не правда ли, в этом худшее из мучений влюбленного сердца? Ты понимаешь меня?
— Понимаю, мой государь.
— Нет, ты меня никогда не сможешь понять. Ты не страдаешь от проказы, которая уничтожает меня. К чему бы я ни притронулся, все тотчас же становится заразным. Желанная, любимая мною женщина начала бы гнить от моих объятий и в течение каких-то лет или месяцев потеряла бы ту красоту, что взволновала меня… Понимаешь ли ты всю трагичность моего положения? Благодать разделенной любви входит в жизнь, не чаявшую ничего подобного. Горестное Провидение осыпает меня своими дарами. Посылаемое им счастье, в котором я пропал бы и возродился вновь, само заставляет меня отречься от него и смириться с потерей… Вскоре мне суждено стать омерзительным для всех и для самого себя, наблюдать, как отмирают мои руки и ноги, подобно опадающим сухим веткам дерева, смотреть, как искажается и становится чудовищным мое лицо… Однако я думаю, Гио: а не боишься ли ты оставаться здесь, возле меня, уже более часа? Скажи, не передал ли я тебе свою проказу?
— Нет, мой любезный король, у меня нет такого страха.
— Значит, ты крепок и здоров!
— Я охотно взял бы вашу болезнь на себя, если бы вы смогли от нее избавиться таким путем.
— Что ты такое говоришь!
— Я говорю, что ничего страшного не было бы в том, если бы проказа перешла на меня: ведь я же не несу бремя царствования, но забочусь только о своем месте в раю, тогда как государь должен спасать и королевство, и душу свою.
— Но к счастью, дорогой Гио, это мое королевство; хорошо даже то, что ему угрожает Саладин!
— В определенном смысле это так. Саладин против своей воли оказывает нам великолепную услугу: он заставляет вас постоянно находиться в седле и вынуждает забывать о ваших печалях.
— Ты единственный, кто так думает.
— Нет, повелитель, я знаю еще одного человека, который думает так же и который, несомненно, неизмеримо достойнее меня…
Чтобы не услышать имени Жанны и не растрогаться, Бодуэн неожиданно распрощался со мной под каким-то никчемным предлогом…
Бодуэн вовсе перестал появляться на людях, уединившись в собственных покоях. Королева и ее окружение, нарумяненные принцессы, сенешаль Жоселен де Куртенэ, другая дворцовая знать распространяли новость, что Бодуэн болен и что, хотя его болезнь не более опасна, чем обычно, тем не менее она не позволяет ему появляться публично. По загадочным причинам я был освобожден от дежурств, король меня больше не вызывал. Что касается Рено, то его отправили на некоторое время на Брод Иакова. Но среди стражи у меня были знакомые, от которых я узнал, что королева написала Саладину. Она просила его помочь и прислать врача, пользовавшегося большой известностью среди неверных. Это было роковой ошибкой, ведь прилагались постоянные усилия, дабы скрыть болезнь Бодуэна. Но это было и признаком того, что положение больного чрезвычайно опасно. Жанна была в отчаянии и все твердила:
— Гио, ты не говоришь мне всей правды! Вокруг бедного короля затянут гнусный узел! Я знаю, я чувствую это. Его тело умирает, но душа остается непреклонной. Пока он сможет бороться за жизнь, он пребудет повелителем. Эта его воля ужасна королеве-матери, его сестрам, его хищному окружению; она мешает их шашням и амбициям. Они не дождутся, когда у короля помутится разум, чтобы полностью обобрать его. И чтобы скорей достичь своих целей, они воспользовались проказой как предлогом и лишили его всего того, что способно его укрепить и подбодрить: верных ему друзей, всего любимого и желаемого им! С тем, чтобы он остался наедине со своим ужасом!..
Мне надо было разубедить, опровергнуть, успокоить ее. Но она уже вынесла приговор королеве и Сибилле и, презирая, возненавидела весь этот королевский двор, где множество проходимцев и выродков окружало людей доброй воли, заведомо сводя к нулю все их дела и усилия. Я даже не пытался отвлечь ее от этих нараставших чувств, охвативших ее подобно тому, как проказа охватывала Бодуэна. Эти чувства овладели ею настолько, что даже, если бы король оказался несправедливым, вероломным и жестоким человеком, она без оговорок восприняла бы его и таким, найдя оправдание любой жестокости. Она стала походить на тех волчиц, которые зубами и когтями защищают своего раненого волчонка и способны с честью отдать за него жизнь. Все, чего я смог от нее добиться, так это отложить свой безумный и опасный план. Но эта отсрочка — и я хорошо это знал — была не более чем обманом! Чем больше я размышлял над причинами безрассудства этого сердца, тем больше убеждался, что отныне никто и ничто не в состоянии охладить эту страсть, наполнившую и пропитавшую всю ее, страсть, изменившую саму ткань ее существа. Я говорил себе, что лишь в этой страсти сердце ее могло утолить свою жажду; что единственным соразмерным ему счастьем было именно это, и в сравнении с ним любая другая доля показалась бы ей низшей; что, совершив этот необычайный выбор — если только сама судьба не выбрала за нее, — она по-своему осуществила «Паломничество Анселена», начавшееся столь поздно, но проведенное с таким возвышенным неистовством; что пытаться разубедить ее значило бы сыграть на руку королеве и ее окружению, принести вред королевству, лишив Бодуэна того главного, что побуждает мужчину продолжать борьбу; наконец, не дать Жанне увидеть пределы того огромного мира, коим была она сама.
Однажды вечером я разом осознал все это, и пот выступил у меня на лбу… Потому что, как вы уже, наверное, поняли, я любил ее, как мужчина может любить женщину, а не так, как может любить мистический дух в своем желании соединиться с другой душой и разделить с ней вечное счастье!.. Я наконец убедился — ценой огромных усилий и тайных мук, — что Жанна не создана для стонов в постели сладострастника, весельчака, вертевшего бы ею для своего собственного наслаждения. Погружаясь в себя все глубже, я ясно увидел, что с того момента, как я постучал в дверь Молеона, миссия моя заключалась только в том, чтобы взять, вести и оставить ее на пути прокаженного короля. Чувства, в которых я запутался, были сродни предательству; они могли стать им; долг мой состоял в том, чтобы не брать их в расчет, коль скоро я не мог отречься от них вовсе…
Милые братья, друзья мои, не смущайтесь, этими слишком светскими для вас речами. Если искушение обошло вас стороной, знайте, что великая благодать дана была вам; низко преклоняюсь я перед вашей невинностью. Но знайте и то, что нет за вами заслуги в преодолении искушения… Признаюсь, что нелегко досталось мне решение не удерживать Жанну из своих собственных корыстных побуждений. После короля она любила больше всех меня. Скрепя сердце в его крестной муке, Бодуэн обвенчал бы нас и благоустроил, поручив мне какую-нибудь службу и наделив фьефом для насущных нужд. Жанна могла бы стать мне доброй и верной женой, но в одиночестве она не смогла бы не вспоминать о молодом короле. Это его мученическое тело сжимала бы она в объятиях сквозь мое в те минуты, когда я считал бы ее полностью своей. В надежде лелеять ее я погубил бы Жанну безвозвратно. С каждой ночью росло бы ее омертвение, не заметное глазу, но столь же мучительное и жестокое, как и пятна, выступавшие на коже прокаженного. Вдруг какой-то голос начинал убеждать меня, что король долго не проживет, что даже самое мучительное воспоминание наконец померкнет и сотрется. Затем приходила новая мысль, которая противоречила предыдущей; а шедшая вслед за ней немедленно прогоняла свою предшественницу. С этой занозой в сердце мне пришлось совершить объезд иерусалимских холмов. Неожиданно, глядя на эти белые камни, на эти дали под таким божественным, ни с чем не сравнимым солнцем, мне показалось, что весь мой внутренний хаос — всего лишь жалкий пустяк, заурядность, присущая любому Божьему созданью! Что прибыл я в эти края, чтобы сражаться и проливать кровь на службе Господа, а вовсе не для того, чтобы услаждаться прелестью Жанны, совращая ее с истинного пути. Тогда я и принял окончательное решение: посоветовать Жанне осуществить свое намерение…
Но когда, испытывая большую гордость за жалкую победу своего великодушия, я добрался до наших покоев, Жанны там не оказалось.
Она взяла приступом дверь Бодуэна. Стража, дежурный оруженосец, в нарушение полученных приказов, не осмелились остановить ее. У короля не было времени ни для того, чтобы надеть на голову свою повязку, ни для того, чтобы прикрепить воротник к рубашке. Слуга-мавр со страхом и отвращением прикладывал бинты к его язвам. В глазах принца под набрякшими и покрасневшими веками уже не было той величественной нежности, того блеска ума, которые Жанна любила более всего. Сквозь них, как у кошки, пробивались зеленоватые огоньки. Он засмеялся душераздирающим смехом. Затем непривычным ей, скрипучим, хриплым голосом заговорил с ней резким тоном:
— Попались, барышня де Молеон! Ваше любопытство наказано… Ближе, ближе подойдите, дабы ничего не упустить из виду… Ближе!.. Совсем близко!.. Вы храбрая, но побледнели!.. Действительность оказалась хуже, чем в ваших самых горьких снах, верно?
На его смуглых, натянутых щеках, как бы покрытых слизью, выступили белые бляшки. Они видны были также под висками, на челюстях и подбородке, шее и груди. Железы проступили под бесформенно распухшими ушами. Посреди груди трепетали и сочились края огромной раны. Проступавший гной вытирал губкой мавр. Перепачканное белье громоздилось на столе среди золотых кувшинов для воды и рогов из горного хрусталя. Жанна описывала мне это страдание, гной, сукровицу; при этом глаза ее блуждали, а в голосе ощущался неизъяснимый трепет…
Но вместо того, чтобы в ужасе убежать, Жанна склонилась над ним. Жестом отстранила она мавра, затем протянула сперва один палец, второй, затем всю руку, ощупывая бляшки, железы, отвердевшую кожу, потерявшие чувствительность края раны. Он же, приблизив губы к ее волосам, прошептал содрогаясь:
— Прости! О, прости меня!.. Жанна, отойди же…
— Разве я причиняю вам боль?
— Нет! Меня можно пронзить насквозь, всего искромсать — я ничего не почувствую… Каким же омерзительным я стал!
Глаза кошки, ужасные глаза испытующе смотрели в прекрасное лицо с невольной яростью и с нечеловеческим страданием. На ее же лице вдруг появилось задорное, почти шаловливое выражение, и она, неожиданно засмеявшись нежным серебристым смехом, сказала:
— Государь, ваши лекари странные люди. У них знаний меньше, нежели претензий, и это к счастью!
— В чем они неправы?
— У вашей болезни признаки проказы, но это не та болезнь!
— Тогда что же, по-твоему, у меня?
— Кожное заболевание, широко распространенное в наших дождливых краях; болезнь довольно тяжелая, но излечимая… при наличии терпения, ухода и воли к выздоровлению…
— Так, значит, меня обманывали? С десятилетнего возраста меня объявили прокаженным!
— Кто же это сделал?
— Ох, Жанна, святой епископ Тирский, мой наставник. Во время моих игр с детьми баронов он удивился моей нечувствительности; посчитав, что мне как сыну короля неудобно было жаловаться, и, несмотря на мое нежелание, он показал меня врачам. С тех пор, с десяти лет, я знал, что у меня проказа, что она будет пожирать меня, пока я не умру.
— А я считаю, что это не так.
— Но откуда ты знаешь? Меня смотрели лучшие целители, знахари, даже некроманты.
— Разве я не говорила вам, когда вы принимали меня на службу, что я знаю бальзамы и лекарственные травы?
— Да, теперь вспоминаю. Но ведь твои средства предназначены для обычных ран, а не для этого всепожирающего пламени.
— Как вы думаете, осмелилась бы я дотронуться до вас, как я это сделала, будучи всего лишь слабой женщиной, если бы я точно не знала природу вашей болезни?
— Они всегда говорили, и этот последний врач-мавр тоже, что одного моего дыхания достаточно, чтобы наградить человека проказой.
— Вот как?
Тут эта безумная красавица как бы случайно прикоснулась губами к губам короля и замерла так.
— Да кто же ты? Кто ты? Боже, кого Ты мне послал?
— Отныне я буду менять ваши повязки и ухаживать за вами, с вашего позволения, конечно.
— О, Боже, Боже, — повторял он. — За что мне этот дар, я не достоин его!
Это были не пустые слова, рожденные в ней минутным восторгом или нечаянной опрометчивостью. Презирая наветы, Жанна поселилась в ближайшей к королевским покоям комнате и больше не расставалась с ним, за исключением времени, которое он проводил на войне.
19 «ПОДРУГА КОРОЛЯ»
Надежда вернулась в Монт-Руаяль, но не во все сердца, конечно же! Под благотворным влиянием Жанны, окруженный ее заботой, в ее обществе, король вновь обрел свою смелость и силу. Приготовленные ею бальзамы затянули самую страшную рану. Верхушки бляшек отвалились. Трава, собранная ею в Гефсиманском саду на заре, в особые фазы луны, зарубцевала язвы. Они покрылись струпьями, которые стали подсыхать и скоро отпали. Наконец однажды Бодуэн смог показаться перед людьми без единой повязки. И как же он был горд за эту вновь ожившую от снадобий кожу, за снова обретенную тонкость черт лица, за волосы, еще вчера сухие и жесткие, а теперь опять приобретшие юношеский здоровый блеск! Болезнь отступила настолько, что голос его уже не скрипел, хрипота появлялась в нем лишь от усталости.
Не знаю, действительно ли Бодуэн, в приливе радости, вполне оправданной для столь юного человека, был убежден в своем полном выздоровлении, или же посчитал, что речь идет всего лишь о временном отступлении болезни. Странно, но его осторожность была многозначительной! Он продолжал держаться на расстоянии от своих гостей, исключая Жанну, он не прикасался ни к общим блюдам, ни к фруктам, ни к кувшинам для воды, ни к круговым кубкам. Но его радость, как бы он ее ни приглушал, проявлялась постоянно: в его словах, в бодрой походке, в манере поведения, в усердии, с каким он председательствовал на Советах, пирах и иных развлечениях, а также в столь необходимой нам ясности его рассудка. Забываясь, он смеялся и даже напевал. Такое чудесное настроение передавалось и нам. От всего сердца радовались и старые воины, в которых хитрости было не больше, чем у их лошадей. Благодаря своему простодушию, лишенные алчности к деньгам, они полагали, что никогда прежде принц не подходил так своему королевству, как теперь, считая Бодуэна IV душой и сердцем Иерусалима! Эти грубоватые люди, столь отличавшиеся от щеголей и придворных, начали смотреть на Жанну как на волшебницу и почитать ее с некоторой робостью. Никому из них не приходило в голову, что она, днюя и почти что ночуя возле короля, могла сделать что-то предосудительное, хотя красота ее превосходила красоту других женщин дворца. Однако придворные и высшие сановники, а особенно их жены, с напускной наивностью поражались, что «подруга короля» носит только скромные платья, что на ней не видно драгоценностей, что она не пользуется дорогостоящими притираниями, которые в то время обычно дарились знатным дамам. Жанна появлялась без румян и белил, как создала ее природа. Ее волосы не страдали от отсутствия благовонных масел. Губы и щеки были так свежи, что походили на лепестки и обходились без помады. Глаза цвета моря не нуждались в синей или черной краске. Ее гибкому и тонкому телу не надобно было экстравагантных блио, облегавших уродливые телеса королевы. Она не бросала победоносных взглядов на мужчин, как это делала Сибилла, и не глядела на них похотливо, как Изабелла, желавшая ловить и быть пойманной в любовные сети; но она никого и не отталкивала: она все время оставалась сама собой, неуязвляющая и неуязвимая, закованная, как в броню, в свою исключительную страсть к королю, счастливая от того, что может сказать с легкой задумчивостью:
— Гио, что ты об этом думаешь? Мне кажется, он счастлив…
Кислые лица королевы-матери и ее приближенных слегка умеряли ее радость, но только внешне, и не вызывали с ее стороны иронии или злости. Она с горечью отмечала, что именно те, кто должен был от всей души радоваться выздоровлению короля, были опечалены этим обстоятельством. Она не могла понять, несмотря на мои разъяснения, что помешала их планам, что они предпочли бы вздыхать о несчастье Бодуэна и дальше объявлять его болезнь «обычным заболеванием кожи», лишь бы только он не поправился. Теперь они перешли в наступление, однако делали это тонко и коварно. Сначала они стали намекать, что в этом выздоровлении не обошлось без колдовства, и — какая набожность! — всполошились о спасении души Бодуэна. Иерусалимский патриарх и Тирский епископ Гийом получили задание изучить произошедшее, но сделать это тайно. Однако, когда они увидели Жанну и поговорили с ней, то благословили ее труды. Тогда лагерь Агнессы избрал другое оружие. Они подослали к ней теперь уже не церковников, но одного из красавчиков, которыми изобиловала Святая Земля. Ему была поручена миссия соблазнить Жанну или, по крайней мере, скомпрометировать ее. С каким похотливым удовольствием они представили бы королю доказательства ее безнравственности, ее неверности! Но действовали они в соответствии со своими, а не ее, правилами: это им были свойственны непостоянство и сладострастие. Знаки любви и маленькие подарки от этого человечка она отвергла без малейших объяснений. Тогда он пошел напролом. Однажды вечером, когда она, вернувшись от Бодуэна, спокойно раздевалась перед сном, он появился из-за портьеры в более чем облегченном одеянии. Жанна оглядела его губастый рот, выпученные глаза, женоподобное тело. Затем не спеша взяла в руки железный подсвечник и подняла его. Он был столь труслив, так низок, что, закрыв свою голову, с криками о пощаде, подобно бродячему псу, стремглав бросился вон.
Этот фат происходил из столь знатного рода, состоял в таком близком родстве с королевой Агнессой и ее братом Жосленом де Куртенэ, сенешалем королевства, что даже столь щепетильный в вопросах чести Рено воздержался казнить его! Эта снисходительность обеспокоила меня больше, чем двуличие Куртенэ и их союзников. Я не осмелился раскрыть это Жанне, поскольку мне было бы омерзительно оговаривать Рено. Теперь я едва ли любил его. Но я не хотел, чтобы моя пристрастность разобщала брата и сестру.
Но не торопитесь с выводами, друзья мои! Я говорю так вовсе не для того, чтобы преуменьшить заслуги этого человека, способного не только на отчаянную храбрость, но и на живейшее, усердное раскаяние, столь жестоко осудившего свои ошибки и бывшего столь великодушным к нашему Ордену. Я хочу лишь объяснить то, чем он был и чем казался; как, вступив на одну дорогу с нами, он отошел от нее, и как, проплутав, он все-таки достиг нашей общей цели. По крайней мере, я надеюсь, что все обстояло с ним именно так.
В то время, о котором я рассказываю, он был еще свободен в своем выборе. Партия королевы еще не успела тогда привлечь его на свою сторону. Сердце Рено было еще способно на бескорыстные порывы, хотя честолюбивые помыслы уже несколько лет мучили его. Но пропитанный ядом воздух двора, случайно услышанные разговоры, слащавые взаимоотношения, глухие угрозы, составлявшие привычный ход дворцовой жизни, незаметно воздействовали на него и сделали свое дело.
— Что ж, — говорил Рено Жанне, — он теперь счастлив, но ты? Чем все это закончится?
— Меня это мало беспокоит.
— Его считают выздоровевшим или выздоравливающим; но ты, знакомая с секретами Юрпеля и пастуха, ты сама, действительно, в это веришь?
— Я уже сказала тебе: меня это мало беспокоит!
— А меня это беспокоит чрезвычайно. Потому что, ежели он подхватил проказу, как до сих пор утверждают некоторые, он не выздоровеет никогда. Болезнь вернется к нему с новой силой и задушит его не спросясь…
— Но что это меняет?
— Ты утратила разум?
— Сделай милость, поверь, что я все взвесила и решила совершенно сознательно.
— Тогда я вновь тебя спрашиваю: к чему все это приведет?
— Это мое дело.
— Но это ни на что не похоже! Ты, благородная, привлекательная, чистая девушка, моя ясноликая Жанна, совершенно бессмысленно подвергаешь себя опасности заражения, ибо в любом случае король умрет.
— Даже допуская, что он заразен, опасность все равно меньше, чем та, какой подвергаешь ты свою жизнь в сражении.
— Но ты ведь женщина!
— Разве это причина для малодушия?
— Чего ты ждешь? Что он женится на тебе? Иерусалимский король никогда не возьмет в жены дочь мелкого сеньора, господина Анселена, насилу ставшего всего лишь баннере. Короли женятся на королевах.
— Разве я об этом помышляю?
— Ты поступаешь неблагоразумно. Тебя считают подругой короля. А знаешь, что это означает? Что ты его любовница, что из честолюбия или из-за помутнения разума ты бросилась в объятия прокаженного.
— Кто меня осуждает?
— Это всеобщая молва, об этом говорит весь двор. Но я-то, сестричка, я тебя знаю и руку отдам на отсеченье, что ты невинна.
— Это чудовищно!
— Став теперь старшим в семье, я должен принять все меры, чтобы уберечь тебя от сплетен и… от твоей собственной неосторожности и излишнего великодушия…
С кисло-сладкой улыбочкой он стал подтрунивать над нею:
— Разве не чудовищно и то, что король так мало ценит твои услуги? Подумай о рабах, которые заразились! Да, действительно, это странно, что он не находит способа щедро отблагодарить тебя, уважая твою щепетильность и общественное мнение.
— Что ты имеешь в виду?
— Коль скоро ты ничего не хочешь для себя, то он мог бы мне дать гораздо лучшую должность. Не сердись. Это всего лишь мое предположение. Но позволь мне упрекнуть тебя в том, что ты стала понемногу забывать меня с тех пор, как стала ухаживать за ним и вся ушла в свои чувства…
В тот день Жанна плакала.
— Он согласен на то, — рассказывала мне она, — чтобы я заболела проказой и потеряла честь, лишь бы от того выиграл он сам. О, Гио, ты теперь единственный, кому я могу поверить свои горести.
Вскоре Рено получил денежное вознаграждение, новые доспехи и был повышен по службе. У него хватило цинизма сказать мне:
— Наконец-то она стала понятливой!
Однако когда он стал благодарить Бодуэна, последний разуверил его: Жанна за него не хлопотала.
— До меня дошли слухи, — сказал король, — что вы изучаете арабский язык. Это говорит мне о многом.
— О чем же, государь?
— О том, что по завершении срока вашей службы крестоносцем вы не собираетесь возвращаться домой в Молеон, а намереваетесь задержаться и, возможно, пустить тут свои корни, если на то будет воля Божья. Такие планы можно только приветствовать. Сколько наших друзей ныне спят и видят свое возвращение отсюда, как, например, мой кузен из Фландрии и его вассалы. Они считают, что, совершив паломничество и обменявшись более или менее удачными ударами меча с противником, они выполнили свой долг.
— Вы правы, государь, именно таковы мои намерения, если только мне хватит средств осуществить их.
— Для этого очень скоро — как только вы получше узнаете наш край — я передам под ваше начало отряд туркополов. Это отборное войско, подобное коннице Саладина, легкое и подвижное.
— Скакать во главе туркополов столь же почетно, как и выступать с закрытым забралом в сжатых рядах, латников. Но если ваши планы на меня таковы, то все будет в порядке.
— Мы скоро вновь перейдем к сражениям. Саладин все больше беспокоит меня своей деятельностью. Он готовит войну, не знаю только, куда он нанесет удар.
— С вами мы одолеем его, как это уже было при Монжизаре!
— Посмотрим. Я надеюсь, в этих грядущих сражениях вы проявите свою доблесть, в которой лично я не сомневаюсь, но это нужно вам самому, чтобы не бояться зависти других.
— Я вас не разочарую!
— Если вы будете исправно нести вашу службу, ничто не помешает мне женить вас на какой-нибудь богатой молодой вдове или дочери богатого сеньора: их столько гибнет! И я, будучи в вас уверен, с великой радостью пожалую вам земельное владение.
Рено, который уже видел себя графом Яффы или Аскалона, рассыпался в неудержимых благодарностях и заверениях в преданности. Бодуэну пришлось прервать его:
— Особенно опасайтесь теперь льстецов; они мастера в искусстве возмущать сердце и дух, омрачать искреннюю привязанность людей ко мне и порочить их преданность. Они служат не мне, а самим себе. Им в высшей степени неприятно, когда возле меня находятся преданные люди, те, к кому я питаю особое расположение, мои близкие советники…
Затем он добавил с неожиданной резкостью:
— Они опасаются, как бы их злые поступки не вывели меня из терпения и я не оказался достаточно сильным, чтобы их покарать!.. Не обольщайтесь тем, что я не отвечаю на их выходки, это временно. Я им воздам за них, и очень скоро! Они считают, что у них нет никаких обязанностей, а лишь одна сиюминутная и сомнительная выгода.
И снова:
— Еще недавно это меня печалило, приводило в отчаяние — раньше, но не теперь.
На лице его блуждала улыбка Плантагенетов, столь известная среди западных принцев.
— Право, довольно! И даже сами их происки забавляют меня, как шахматная игра. Но они очень плохие партнеры, они слишком торопятся…
Любой другой на месте Рено смутился бы этими последними словами. Однако заключавшееся в них подозрение и скрытое предупреждение не дошли до него. Будучи несколько ограниченным, он не мог себе представить, что есть гораздо более богатые натуры, чем он сам; что в личности короля сочетались умелый распорядитель и государственный муж, ловкий политик и мудрый, целеустремленный военачальник. Вопреки надменности и амбициям, в большом теле Рено жил пока еще подросток; но он не замедлил стать взрослым…
20 ГРОТ ПАНА
Как раз в этот год в окрестностях Дамаска свирепствовала засуха. Предполагалось, что в ближайшие годы она должна была усилится и оказать нам большую помощь. Дамасские пастухи уводили стада в Панейские леса, вернее, в те поросшие ивами и тополями долины, где берет истоки Иордан, и где находится грот Пана. В то время, когда совершался этот перегон скота, Саладин вместе со своим войском находился в Дамаске. Бодуэн направился к Панейским лесам вместе со своим коннетаблем Онфруа де Тороном. Казалось, что стада плохо охраняются и что, в наказание неверных за их грабежи и разбои, их легко можно было угнать.
Король совершил ошибку: он послушался своего коннетабля и разделил войско на несколько колонн, с тем, чтобы удобнее напасть на животных и их пастухов. А между тем Саладин, предупрежденный о нашем приближении, послал в разведку своего племянника, Фаррух-Шаха. В случае если бы наше появление подтвердилось, он должен был подать сигнал тревоги, и тогда подошел бы Саладин со своей армией. Одним словом, и мы и они действовали вслепую. Нами руководил злой рок: перед двумя нашими колоннами, зажатыми в глубокой теснине, неожиданно возник отряд Фарруха. Наш же отряд был всего лишь королевской стражей; основные силы были на равнине, где запасали корма лошадям. Предстояла беспощадная схватка.
— Спасайтесь, государь, нас слишком мало!
В этой ранней апрельской жаре, в пыли завязалась яростная битва, унесшая жизни многих, так и не увидавших в лицо своих убийц. Я даже думаю, что среди шарахающихся в сторону, встающих на дыбы лошадей немало наших ударов пришлось по своим же братьям… Так или иначе, из-за оплошности или по какой другой причине, я получил удар, который разбил мою кольчугу и глубоко ранил меня в спину. Каждый проклинал Онфруа, затянувшего короля в эту авантюру, несмотря на его колебания. Но тогда нам было не до взвешивания доводов коннетабля: нужно было как можно скорее выбраться оттуда, если только это было еще возможно. Яркий блеск шлемов и скрещивающихся клинков спорил с сиянием солнечного света и слепил глаза. Наши кони издавали ржание, подобное лаю собак; они кусали друг друга и свирепо топтали трупы павших воинов. Крики раненых, команды, кличи, возгласы слились с ударами оружия. Я старался не слишком удаляться от короля; его легко было узнать по золотой короне, надетой на шлем. Он не захотел покинуть своих воинов на поле брани, дорого платил за себя и сражался с большим умением. Однако неверные превосходили нас числом.
— Спасайте короля! — проревел Торон. — Он не должен попасть в плен!
Чтобы сдержать напор нападавших, преградить им путь и позволить королю выбраться, несколько рыцарей пожертвовали собой. Град посыпавшихся на них ударов выбил их из седел, но мы успели воссоединиться.
— Король! — кричал один из мавров, — сдавайся! Король короля не убивает! Твоя жизнь будет спасена!
— Нет! Торон, Гио, ко мне!
Торон отчаянно бросился вперед. На какие-то мгновения он отвлек мавров на себя. Абрахам из Назарета, Годфруа де Торол и другие следовали его примеру. Некоторые не выдержали напора. Коннетабль оставался еще в седле и мог отступать вместе с нами; он был весь в крови и выглядел удрученно. Наконец шум битвы встревожил наши отряды, занимавшиеся грабежом в долине. Подмога шла. Конница Фарруха прервала сражение…
Мы же спасли самое главное: государь наш, король, не попал в руки Саладину, что было бы худшей из катастроф! Но сколько наших отважных товарищей сложило при этом свои головы! Король отправил гонцов в Иерусалим, чтобы «успокоить» сторонников королевы и разгласить на улицах новость о том, что не было никакого сражения, а произошла всего лишь стычка передовых отрядов. Если бы в городе распространился слух о том, что король попал в плен, как случилось в лагере, что предприняла бы тогда королева? Она вполне могла бы объявить себя правительницей или вызвать народные волнения под знаменем спасения королевства.
Тою же ночью когда мы наслаждались в лагере своей безопасностью и заслуженным отдыхом, король отправился проведать своего коннетабля. В бою одна из стрел пробила Онфруа де Торону нос, другая попала в колено, еще одна — в ступню; его бока также были исколоты, несколько сабельных ударов сломали ему два ребра, а на животе видны были три открытые раны. Он лежал, распростершись на своей походной кровати в великолепной алой палатке, известной даже среди неверных. Не привыкший к жалобам или стонам, он нашел в себе силы приподняться на локтях и учтиво приветствовать короля. Тот хотел его утешить.
— О, нет, мой сеньор Бодуэн, — произнес тот в ответ. — Нет, я знаю, что со мной все кончено. Будь я моложе, я бы встал на ноги. Но годы, годы… и сознание своей ошибки… Ежели прежде я и служил вам верой и правдой, то теперь из пустой самоуверенности я утратил все прежние заслуги.
— Милый мой друг Онфруа, вы дважды неправы: это была всего лишь стычка боевых дозоров, и мы были в меньшинстве.
— Я почти смеялся над вашей прозорливостью. По необъяснимой глупости, слепо отвергая доводы, коннетабль подверг жизнь своего короля опасности!.. Он, обязанный неустанно следить за ним… Недостойный оставаться коннетаблем, я не могу жить дальше…
— Это безумие! Покидая меня от стыда, вы усугубляете вашу ошибку; ошибка же эта простительна, ибо нам удалось спастись.
— Кто поручится, что подобное затмение не приведет меня к более тяжким проступкам?
— Онфруа, вы потеряли слишком много крови и сейчас не можете здраво рассуждать. Прошу вас, возьмите себя в руки; ваши речи напоминают рыцарей на турнире, попусту разящих друг друга для забавы. А Саладин в Дамаске; он нас в покое не оставит, запомните это. И вы мне нужны. Остальное — пустые рассуждения.
— Господин мой король, вновь говорю я вам, что позор и потеря крови не позволят мне остаться с вами!
— Онфруа, заклинаю вас, исцелитесь!
— Желал бы я того, из послушания вам, но пронизывающий меня холод не оставляет надежды.
— Наши лекари поставят вас на ноги.
— Я лишь желаю быть прощенным вами.
— Никто не вынуждал меня следовать вашим советам. Так что вина лежит на нас обоих. Однако я охотно прощаю вас.
— Вот вы и превзошли старого Онфруа в военном искусстве. Радуюсь этому всем сердцем… Извольте распорядиться, чтобы меня перевезли в мой замок Хунен. Там я буду дожидаться воли Божьей… И прошу вас, государь, помните только о наших светлых днях, а не о нынешних…
Поскольку моя рана была несерьезной, я сопровождал короля в этом его посещении. По возвращении он сказал:
— Эта потеря невосполнима, Гио. Нет никого, кто мог бы заменить нашего старого друга. Он умирает за меня. Но смерть его бессмысленна.
Он захотел, чтобы я остался у него на время. Жара угнетала, хотя навес был поднят. Я почувствовал тошнотворный запах, исходивший от короля. Конечно, и в лагере не пахло розами. Я сказал себе, что после этой скачки и мое собственное тело пахнет не лучше. Тем не менее запах, проникавший в мои ноздри и вызывавший отвращение, был необычным. Принц хранил странное молчание. Он был бледен, и бледность эта выделялась на голубом фоне ткани. Свет фонарей только усугублял синеву его щек. Я отважился сказать:
— Вам нужно отдохнуть. Завтра предстоит тяжелый день.
— Завтрашний день будет пустым и праздным. Памятным событием станет лишь отъезд Онфруа.
Он поднял уставшие глаза к звездам, затем задумчиво стал смотреть на палисады и связки копий.
— Я говорю себе, — вновь заговорил он, — что эта встреча не была случайной… что этот перегон скота — западня, приготовленная Саладином… Я должен отплатить ему тем же. У него нет коннетабля, который бы вырвал его из моих когтей.
В другой палатке Жослен де Куртенэ вел разговор с Рено. Он воспользовался обстоятельствами, чтобы зазвать и пожурить его, но не из лучших побуждений.
— Дорогой господин Рено, вас не было в деле; это вам зачтется.
— Каким образом?
— Это не может понравиться нашему королю!
— Однако, сенешаль, старик Онфруа дал мне точное приказание. Я нес дозор на равнине, когда там собирали коз, быков и лошадей. К моему большому огорчению, я не мог остаться в свите.
— Я тоже, сын мой, хотя моя репутация давно сложилась.
— Вы считаете, что король на меня за это рассердится?
— Это мстительный человек, к тому же одаренный необычайной памятью. Бьюсь об заклад, что он запомнил имена рыцарей, которые защищали его в этой теснине, равно как и поведение каждого.
— Но ведь, в конце концов, я же получил приказ!
— Не сердитесь по пустякам, мой благородный дружок. Это всего лишь мое мнение. Однако же вам ведома болезнь Бодуэна, странная и возобновляющаяся, определяющая его настроение и суждения. Иные из нас, не понравившись королю, за незначительные проступки были высланы далеко от Иерусалима… Рено, друг мой, не будьте слишком искренни, это может обернуться против вас.
— Я верю вам, сенешаль, но лишь наполовину.
— Король любит одних только льстецов.
— Быть этого не может.
— Вы чувствуете себя уверенно, поскольку в этой игре участвует ваша сестра. Не думайте об этом плохо. Кто осмелится обидеть ее: это святая, героиня! Но не доверяйте увлечениям Бодуэна. Кажется, что он молод, однако на самом деле у него нет возраста. В шестнадцать лет он кажется старше, чем Онфруа де Торон. Он сначала пользуется тем, кто ему мил, а затем отшвыривает в сторону, ибо таков склад ума у всех принцев.
— Жослен, я готов внимать вашим наставлениям.
— Постарайся выделиться при каждом удобном случае, не поддавайся на лживые обещания, но и не отвергай их. Ты меня понял?
— Не вполне.
— Его выздоровление — не более чем пыль в глаза.
— Но все же…
— Лекари отнюдь не глупы. Я осторожно и терпеливо расспрашивал их об этом. Проказа — это костер, пожирающий плоть; даже вода, попав на кожу, испаряется, не увлажнив ее. В скрытом виде она не менее опасна, чем в то время, когда она видна, ибо именно тогда подсекаются корни жизни.
— Так по-вашему выходит, что заботы Жанны губительны для него?
— Получается так, дорогой Рено. Тем не менее мы благодарны ей, поскольку врачи полагают, что в результате болезнь может затаиться на многие годы. Впрочем, в нынешней обстановке было бы лучше считать принца исцеленным. Во всяком случае, мы будем победителями в игре.
— К чему же она вас приведет, эта игра?
— Если бы не твой нежный, доверчивый возраст, я бы прервал наш разговор. Но моя симпатия к тебе берет верх над осторожностью.
— Я вас понимаю все меньше и меньше.
— Ты хвастался посулами короля, не подвергая их проверке. Подумал ли ты о том, что пройдет немного лет, и, без сомнения, король умрет или будет просто не в состоянии управлять государством? Ты думаешь, что его преемник вознаградит твою преданность и сдержит обещания?
— Не знаю.
— Не знаешь? Хорошенький ответ! Скажи-ка мне тогда, что останется от этого брака с богатой наследницей или подходящей вдовой?
— Скажите мне лучше, что я должен делать.
— Не пренебрегай друзьями королевы Агнессы, которая более деятельна и дальновидна, чем тебе кажется. Еще меньше пренебрегай Сибиллой, поскольку за ней будущее. Ты не промахнется, если проявишь по отношению к ней немного учтивости — ты молод и красив, а принцесса питает к таким особую слабость.
— И что же, я должен бросить короля ради этих женщин?
— Тебя не просят перейти на сторону Агнессы, но только лишь, по невежеству твоему, не гнушаться ею и доверится тем, кто желает тебе добра и кто поможет тебе обрести удачу, если только ты согласишься.
— Могу ли я узнать, кто наследует Бодуэну?
— Супруг Сибиллы.
— Но я не могу им стать! Что вы тут мне рассказываете?
— Конечно, нет, но разве дело только в этом?
На какое то время Куртенэ замолк и дал ему возможность переварить услышанное. Затем продолжил:
— Гио, оруженосец, пользуется доверием короля, это очевидно. Но говорят, что он бастард. Он не может командовать охраной Бодуэна.
— В самом деле, Гио никогда не говорит о своей родне.
— Возможно, он принадлежит к знатному роду и хочет это скрыть… Возможно также — это может весьма пригодиться в будущем — командование охраной будет передано в руки Рено де Молеона. В этом случае соглашайся немедленно, а в остальном положись на меня, я имею в виду то, что касается мужа Сибиллы, будущего Иерусалимского короля. Если ты проворен, мне легко будет заполучить для тебя какое-нибудь графство, а возможно, и больше… Я ценю тебя, дорогой Рено, и у всех нас нет иной цели, кроме как сохранить королевство…
Этот простак поспешил передать мне предложения сенешаля и свои собственные речи:
— Так что же я должен думать, Гио?
От охвативших меня гнева и отвращения я чуть было не крикнул: «Повинуйся своему жалкому сердцу! И вообще, пропади ты пропадом!» Однако я смог спокойно ему ответить:
— Тяжело служить двум господам. Вполне может оказаться, что сенешалю выгодно сбить вас с пути.
Он балансировал на краю бездны, его охватил страх:
— Гио, куда все это приведет?
Ах, если бы он знал, куда! Но знал ли я это сам? Я ответил неловко:
— Сенешаль — жалкий воитель, более опасный своим языком, нежели мечом.
— Вот как? Но кто вы такой, чтобы судить его? Каково ваше происхождение? И каковы ваши заслуги?
— Куртенэ — алчный авантюрист, для которого Святая Земля — всего лишь лепешка, от которой отщипываются куски. Для нас же, для Бодуэна, она — колыбель Христа. Вот в чем разница.
— Значит, вы меня осуждаете?
— Нет, Рено, конечно же, нет. Для каждого существа, даже для Царя Мира, приходит момент искушения.
— И теперь он настал для меня?
— Возможно. Дьявол любит притворяться. Он может предстать в образе женщины или даже рыжеватой бороды Куртенэ. Но, если пробил ваш час, мой господин, вспомните о жителях Молеона, вспомните о своем отце, который умер лишь после того, как увидел Иерусалим.
21 ПРИЮТ ПРОКАЖЕННЫХ
А между тем, воспользовавшись нашим отсутствием, королева Агнесса неожиданно окружила Жанну вниманием. Она, в чьих жилах текла княжеская кровь, считала, что быстро обведет вокруг пальца эту деревенскую дворяночку. Воспитанная обычаями двора, эта искушенная женщина приступила к делу издалека, чтобы не напугать эту неподдельную в своей бесхитростности натуру, существо неопытное. Она начала с восхвалений своего сына Бодуэна: расписывая его исключительные достоинства, она утверждала, что с самого раннего детства он доставлял ей только гордость и удовлетворение, и сокрушалась по поводу его болезни, омрачавшей подчас его ласковый нрав. Приложив руку к сердцу, она вслух сожалела о своей попытке отвратить от него Жанну, попытку, не имевшую другого основания, кроме как материнская ревность; и радовалась тому, что у нее ничего не вышло, ибо влияние Жанны оказалось благотворным. Наивная и великодушная, Жанна поддалась обольщению, хотя и была предупреждена о коварстве старой колдуньи. Та же, осмелев от успеха, пустила в ход все свои чары. Она крепко оплела девушку своими приторными елейными речами, утопила в комплиментах и похвалах, подкрепляя свои слова маленькими подарками вроде золоченых застежек, шпилек для волос и пряжек на пояс. Больше того, догадавшись о предмете гордости Жанны, она попросила ее спеть:
— Те песни, что так радуют моего сына…
Подготовив таким образом почву, она сбросила маску — но не совсем, однако, ибо самостоятельный характер Жанны все еще смущал ее:
— Будучи матерью короля, настигнутого этим недугом, вы поймете меня, милое мое дитя, что я забочусь о прокаженных нашего города. Они ютятся в маленьких хижинах за городской стеной. Не согласитесь ли вы сопровождать меня туда? Но предупреждаю вас, что это зрелище не из приятных. Хотя, впрочем, я забыла, что эти больные не вызывают у вас отвращения.
— Да, мадам, это так. Господь милостивый особо благословил их. Ниспосланная Им болезнь — залог, обещание райского блаженства. Я чту их за это.
— Я так и думала. Но вы согласитесь все же, что для материнского сердца слишком тяжко благодарить Небо за такую милость к собственному сыну.
— Господь Бог отдал нам Своего единородного Сына.
— Милое мое дитя, я восхищена: для вас все так просто и ясно, как в Часослове с миниатюрами! Действительно, Бог дал нам Своего Сына; мы же должны отдать Ему нашего и возблагодарить за то. Но когда ваша плоть породит другую и вы полюбите ее больше самой себя, что скажете вы тогда?
Приют прокаженных возвышался в долине Иосафата, вдали от тропинок и дорог, среди старинных гробниц иудейских царей. Маленькие дощатые хижины окружали весьма просторный дом, в котором жили надзиратель и его подручные. Высокий забор огораживал эту юдоль страданий, и ряд кипарисов указывал на нее путешественникам. Прокаженные не имели права покидать этих стен, за исключением тех дней, когда они просили милостыню у ворот Иерусалима. Они жили на частные и общественные подаяния.
Королева предложила Жанне место в своих носилках с шелковыми занавесями, которые несли два мавританских раба. Вооруженные слуги и груженные корзинами ослики неспешно двигались следом. В ногах старухи стояла чаша, наполненная монетками.
— Раз в год, — проговорила она, — я имею обыкновение благодетельствовать этим бедным калекам. Я сама отбираю фрукты, мясо и сладости для них, а еще и соленую рыбу: вы подумали, что будет, если они захотят растянуть удовольствие! Что останется им, кроме лакомства!
Она подмигнула и коротко рассмеялась своим грубым смехом:
— А затем немножко недозволенных удовольствий, на которые мы закрываем глаза. Вы представляете, кого произведет на свет прокаженная? Ну да! Конечно, это отвратительные существа… Мне непонятно, как могут они вызывать желание у мужчин. Надо думать, что жалость, испытываемая ими друг к другу, немного напоминает любовь…
Милостыня ее была показной, и при том раздавалась очень и очень осторожно! В дверной колокол позвонил один из солдат ее стражи, надев для этого перчатку. Тотчас вышел надзиратель приюта в сопровождении прокаженных. В мгновение ока около сотни их собралось у черно-белой изгороди. Обезображенные их тела и лица являли собой странное и бесконечно трагичное зрелище на фоне цветущих деревьев и голубого неба. Королева спряталась глубже за занавеску и крикнула, прикрыв рот вуалью:
— Эй, вы, раздавайте!
Жанна сделала вид, что приняла приказание на свой счет, взяла вазу с монетками, сошла с носилок и отважилась подойти поближе к забору. К ней протянулись крючковатые и беспалые руки, хитрые зеленоватые глаза под одутловатыми веками пожирали ее нетронутую свежесть и молодость. Бесформенные мокрые губы обнажили беззубые десны, бормоча давно забытые слова благодарности, ласки и желания. Один из них неожиданно схватил золотистую прядь ее волос и поцеловал ее. Надзиратель взмахнул палкой. Но человек лишь смеялся под ударами.
— Отпусти меня, — сказала она. — Твои братья ждут. Я прошу тебя.
Сколько же потребовалось ей мужества, чтобы вынести ужасное зловоние, испускаемое гниющими телами, созерцать покрытые пылью струпья, прыщавые уши, кишащие насекомыми лохмотья и встречать яростные взгляды. А к Жанне все тянулись почерневшие культи, бесформенные обрубки, торчащие из оборванных рукавов! А по прекрасной цветущей аллее с птицами на ветках спешили все новые и новые калеки, громыхая своими трещотками! Они ковыляли на своих трясущихся ногах, обмотанных жутким тряпьем. И вдруг ограда треснула, и Жанна оказалась среди них. Каждый хотел дотронуться до этих медовых волос и испускал при том нечленораздельные вопли. Один закричал:
— Ты фея! Ты наша фея!
— Откуда ты?
— Из далекого леса в Лотарингии.
— Фея, фея! — шамкали остальные, а некоторые плясали и подпрыгивали, судорожно хохоча.
Когда она возвратилась к носилкам, королева опустила занавеску:
— Нет, останьтесь на земле! Бедное дитя, вас касались эти культяпки! И как же вас не вырвало? Я была вынуждена отвернуться, я не смогла вынести это зрелище… Идите рядом со мной.
Покачиваясь, носилки спустились к дороге и остановились у Авессаломовой гробницы, которую Жанна пожелала осмотреть.
— Что здесь интересного? — спросила королева. — Пустая и вонючая клетушка. Грабители давным-давно растащили сокровища. Погонщики караванов заходят сюда по нужде.
Тронулись дальше. Королева ела цукаты. Вдруг она сказала:
— Не забудьте вымыть волосы и сжечь одежду, я приказываю вам сделать это.
Жанне захотелось крикнуть, что прокаженные приюта ничуть не заразнее короля, но она сдержалась.
— Жанна, — снова заговорила та, — я недовольна вашей опасной и бесполезной отвагой. Радость, что доставили вы тем несчастным, только разбередит их тоску, обострит отчаяние. Тот убогий, что назвал вас феей, из-за вас теперь станет оплакивать свою бедную Лотарингию, а ведь он почти забыл ее…
Отпустив эту шпильку, она не сводила с Жанны глаз, но могла видеть только ее профиль.
— Мой отец Анселен, — отвечала та, — говорил, что жизнь ценна лишь несколькими счастливыми мгновениями. Они дают силу и решимость жить дальше.
— Невинная, ваше благочестие может привлекать, я допускаю это. Однако вам всего лишь шестнадцать лет. Это возраст бурь и страстей. В это время по велению сердца люди бросаются в крайности и совершают непоправимые ошибки… Вы знаете, что в Монт-Руаяле только и разговоров, что о вас? Но придворный успех — это легкий ветерок, за ним следует болезненное падение.
— Мадам, со всем должным уважением к вам я должна сказать, что падение это для меня мало что значит.
— Дитя, дитя, ведь те самые люди, кто вас сейчас нахваливает, первыми забьют тревогу и потребуют вашего освидетельствования матронами и лекарями, как только хотя бы малейшее пятнышко появится на этом слишком милом личике.
— Я подчинюсь. Но кто займет мое место подле вашего сына?
— А если он умрет или же отречется от престола, подумайте? Тогда ни ваши достоинства, ни ваши заслуги не зачтутся вам. Нужно знать, что может случиться. Вы будете отрезаны от мира живущих. Ваши волосы посыплют прахом. Споют над вами. Вы получите одежду и колотушку прокаженного. Потом вас отведут в приют, где остатки вашей былой красоты, прежде чем увянуть окончательно, возбудят похоть у окружающих.
— Если Богу будет угодно, мадам!
— Я предупреждаю заранее.
— Если меня отведут в эти хижины, значит, я заражусь от короля. Мне кажется, что вы забываете это.
— Именно поэтому с вами и говорит его мать. Мне очень жаль вашей молодости. Я не смогу отблагодарить вас лучше, чем поговорив о том заранее.
— Во вред вашему сыну! Лучшей благодарностью, единственной, которую я смогу принять от вас, — было бы оставить меня в покое, забыть обо мне.
— Разве сейчас вы лишены покоя? Разве вы все еще обдумываете свою судьбу, страшась того будущего, что ожидает вас на этом пути?
— Суди Бог тех, кто искушает меня.
— Завтра в шестом часу, в церкви святой Анны, благородная, прекрасная, как и вы, девица, заболевшая проказой и выданная своими слугами, примет отречение от мира. Я требую, чтобы вы присутствовали на службе.
— Требовать может только король, но не вы!
— Представьте себе, что моим голосом вас заклинает ваша мать, заплатившая жизнью за ваше рождение.
— Ради нее я послушаюсь вас… и докажу вам, что все бесполезно.
— Я же тогда позволю вам поступать как вздумается, исполнив все по совести, будь то даже в ущерб моему собственному сыну.
Жанна сдержала обещание. Она даже встала в первых рядах, чтобы получше разглядеть лицо прокаженной, стоявшей в подвенечном наряде в окружении своих родных и слуг. Она услышала бородатого архиепископа с убеленной сединами головой, произносившего убийственные слова, отторгавшие ту от человеческой жизни:
— Я запрещаю тебе входить в храмы, на рынки, на мельницы, в пекарни и в другие места скопления народа. Я запрещаю тебе мыть руки и все предметы, что понадобятся тебе, в источниках и фонтанах, а если ты захочешь пить, то должна черпать воду особым сосудом. Я запрещаю тебе носить иную одежду, кроме той, что положена прокаженным. Я запрещаю тебе касаться приобретаемых тобою вещей, кроме как чистой палочкой. Я запрещаю тебе входить в дома, кроме того, в котором ты будешь жить, а если ты захочешь мяса и вина, то пусть их принесут к твоему порогу. Я приказываю тебе стоять против ветра, если кто-либо обратится к тебе или ты захочешь что-то кому-либо сообщить. Тебе нельзя следовать узкой дорогой, где ты не разойдешься со встречными. Я позволяю тебе вкушать пищу только в обществе таких же, как и ты, прокаженных. Знай, что, когда ты умрешь и душа твоя простится с телом, ты будешь погребена в твоей хижине, если прелат Иерусалима или его викарии не окажут тебе особой милости.
Жанна смотрела, как рука пастыря окропила святой водой, а затем посыпала землей белую фату. Она услышала крики матери, вздохи отца и не смогла сдержать слез. А в это время священник говорил, собрав в своем сердце все милосердие, на которое был способен:
— Помни о том, что ты умерла для мира, но воскреснешь во Господе. Будь терпелива! Эта болезнь искушает твои ошибки, она отпускает грехи и твоим родителям в их испытаниях. Спасая тебя, она спасает и их. Бог дал тебе родиться в богатстве; Он низвел тебя до последнего ничтожества, ибо любит тебя и сберегает для Царствия Своего. Мир всего лишь юдоль печали, но жизнь коротка. Если боль терзает тело — молись! Если душа восстает — молись! Ибо избавление близко…
Жанна представила себя перед алтарем. Это ее саму священник окроплял святой водой, это ее собственную склоненную голову посыпал он пеплом. Но ни ее отца Анселена, ни безвременно скончавшейся матери не было бы рядом с ней на этой службе. Рено же остался бы равнодушен, занятый исключительно своей молодой женой и новым земельным владением… Ей показалось, что так было бы даже лучше, ибо ее унижение не ранило бы никого, и с легкой душой она могла бы целиком принести эту жертву Бодуэну, живому или мертвому. Даже одиночество не пугало ее, а, напротив, лишь приближало к ее королю, тесно сковывало их одной цепью.
Вернувшись, она сказала королеве Агнессе:
— Тысяча благодарностей, мадам! Благодаря вам мне больше не о чем размышлять; я решилась.
И с некоторым вызовом она прибавила:
— Этот обряд не столь уж и страшен.
Снисходительная к людям по натуре, Жанна хотела верить, что старая королева прослезилась: липкая жидкость действительно пробила себе бороздку сквозь слой помад и притираний на ее щеке, но то были крокодиловы слезы.
22 ГИ ДЕ ЛУЗИНЬЯН
Болезнь Бодуэна снова дала о себе знать. Всего в несколько дней его уши и брови загрубели, волосы сбились в клочья, похожие на волчью шерсть, кожа покрылась язвами, голос осип и вновь стал напоминать нечто вроде собачьего лая, столь мучительного на слух, взгляд опять сделался коварным. Приступ был столь пугающим и внезапным, что даже против собственной воли, невзирая на крайнюю опасность, которая угрожала тогда королевству, Бодуэн был вынужден оставить седло. И часу не мог продержаться он на коне, а тем более выносить трение о кожу звеньев плетеной кольчуги. Боль лишала его последних сил во время наших переходов, а они становились все продолжительнее и тяжелей. Он слег.
К несчастью, слабеющие руки прокаженного упустили инициативу в военных делах, и Саладин с его железной хваткой не преминул этим воспользоваться. Это долгая и путаная история, но вам нужно знать ее, чтобы лучше разобраться в последовавших за ней событиях.
Со времени апрельской победы Фаррух-Шаха Саладин стоял у наших границ. Его местопребыванием были Панейские высоты, господствовавшие над равниной и долинами. Оттуда он посылал во Франкскую землю заготовителей продовольствия, которые разоряли посевы, угоняли стада и жгли все, что не могли унести с собой, он надумал предпринять крупную вылазку к Тиру и Бейруту, дабы окончательно разорить галилейские поселения, и для этого послал туда своего племянника, все того же Фарруха. Тогда Бодуэн, очевидное бездействие которого поощряло грабителей, решился наконец вмешаться. В спешке он собрал, сколько мог, всадников и пеших воинов и углубился в Панейские леса, допустив серьезную ошибку: он не стал дожидаться прибытия ополчения. За ним следовали граф Триполитанский и Великий Магистр Храма Эвд де Сент-Аман. Истинный Крест возвышался впереди войска. Через Тивериаду, Сефу и Торон мы достигли Панея. Там, среди опустошенных земель и дымящихся повсюду пожарищ, состоялся военный совет. И вправду, нам очень не хватало Онфруа. Он мирно скончался в своем донжоне в Хунене, в день святого Георгия, покровителя рыцарей. Помимо короля, речь держали лишь Триполи и Сент-Аман. Близость лагеря Саладина тревожила Бодуэна, но двое безумцев уверили его в необходимости и выгоде внезапного нападения. После этого, дескать, подойдет подкрепление, и Саладин будет сокрушен. Королю показалось возможным повторить подвиг у Монжизара. Отчасти на его решение повлияло и желание отомстить, а также и воспоминание о Теревинфской долине. Почему бы точно так же, как тогда, не напасть на заготовителей с их груженными добычей верблюдами и лошадьми, сгибающимися под тяжестью вьюков и сундуков. Неожиданность вызовет панику, отступление превратится в неудержимое и беспорядочное бегство. И тогда последует триумфальный въезд в Иерусалим, подобный тому, что был после Монжизара. Он распалял свое воображение картинами нового триумфа, а взгляд его был прикован к шатрам Саладина, белевшим вдали на холмах. И тогда же наши дозорные сообщили весть о том, что по долине движется огромный мавританский отряд с добычей и пленными. Не только Триполи и Сент-Аман, многие на этот раз не смогли устоять. В неописуемой неразберихе все устремились к лошадям, вскочили в седла; атака получилась такой внезапной, что отряд был разбит, опрокинут и оставил сопротивление быстрее, чем я о том рассказываю. Напрасно эмир Фаррух пытался собрать свою стражу. Он сумел спасти только свою честь, да и тем был обязан исключительно резвости своей лошади. Наши же кони, разогнавшись на покатом склоне, неслись вперед и увлекали нас в погоню за маврами, мчавшимися среди бегущих стад в направлении лагеря Саладина. Король осознал опасность положения и приказал трубить отбой, но Триполи и Сент-Аман в упоении резни не желали ничего слышать и продолжали преследование, приведшее их прямо к Саладину. Султан позволил нашей коннице достаточно углубиться на свою территорию и рассеяться по ней, и вот тогда уже обрушил на нее всю мощь своих сил, смел ее и, несмотря на героические действия многих наших воинов, обратил эту быструю победу в сокрушительное поражение, настоящую катастрофу. Пешее войско не могло поддержать нас, оно оставалось на холмах и, уж конечно, было не способно состязаться в скорости с нашими скакунами.
Мучительно, с большим уроном мы отбили короля и вернулись к нашей бесполезной пехоте. С разных сторон появлялись уцелевшие наши товарищи, вырвавшись из этой бойни, они чувствовали себя счастливчиками, но сколько же мертвых оставили мы в этой чудовищной долине, начиная с Эвда де Сент-Амана и его рыцарей! Сколько пленников предстало перед Саладином — зять графа Триполи, прославленный Бодуэн Рамский, о котором я еще расскажу вам! Ничто не могло восполнить пустоты, оставшейся после них, разве только новый крестовый поход, что тогда было маловероятно. В отличие от Саладина король долго еще не мог собрать свое разбитое войско.
Мне кажется, что Бодуэну снова стало хуже более всего от горечи этого злосчастного дня, да еще из-за собственной беспомощности, не дававшей ему прогнать Саладина от своих границ. Как ни странно, султан воспользовался плодами своей победы самым скромным образом, в то время как мог позволить себе гораздо большее. Быть может, он обольщался на предмет здоровья Бодуэна. Возможно также, что его соглядатаи приписали нам большие людские ресурсы, нежели те, чем мы располагали на самом деле. Он удовлетворился тем, что осадил Брод Иакова, ту самую воздвигнутую после Монжизара крепость, что охраняла Дамасскую дорогу. Несмотря на встретившее его упорное сопротивление, он овладел крепостью быстрее, чем мы предполагали. Чудовищно расправился он с тамплиерами и туркополами, несшими ее оборону. В то время болезнь уже так скрутила Бодуэна, что он не смог возглавить войско. С другой стороны, он не желал доверять командование кому бы то ни было с тех пор, как умер коннетабль, и потерял время, надеясь на скорое облегчение своих страданий. И тут со стороны Тивериады поднялось в небо огромное облако дыма, и мы узнали, что Саладин разрушат Брод до основания.
— Он стер его с лица земли, стер, как письмена с пергаментного листа! — говорили гонцы.
Как только слух о том дошел до Иерусалима, король слег в такой жестокой лихорадке, что кончина его казалась неизбежной. Архиепископ совершил над ним миропомазание. Старая Агнесса проканючила сквозь свои вуали:
— Прекрасный государь, теперь пришло время составить ваше завещание. Эта предосторожность не сократит ваши дни, но донесет до всех вашу волю, и мы покоримся ей.
Он же отослал ее, а также Сибиллу и тощую Изабеллу с глазами василиска, да и всю остальную родню, и оставил подле себя одну Жанну. На заре он все еще был жив, к вящему неудовольствию придворных. Затем недуг ослабил свою хватку. Но в этом сражении с болезнью король лишился двух пальцев, которые отпали от ладони однажды утром, как сухие ветки. Долгие недели предстояло ему провести в мучениях до того дня, когда он смог встать на ноги.
А между тем эти подколодные змеи, эти зловещие тени, что вились вокруг него, не оставляли своей скрытой возни. Занимали их отнюдь не опасности, грозившие королевству, но возобновление проказы Бодуэна и его увечность. Стержнем для их интриг вновь стала Сибилла, наследница престола. Вдовая первым браком с Гильомом Монферратским, оставившим ей родившегося по его смерти сына Бодуине, она до сих пор так и не вступила в новый брак. В этих целях велись длительные переговоры с королем, но они ни к чему не привели; было решено срочно возобновить их. Задачу убедить в том полумертвого взял на себя Жослен де Куртенэ. И он явился нашептать ему:
— Прекрасный государь, король и племянник, разве разумно то, что вы, лежа на одре страданий, не имеете никого, кто стал бы вашим преемником?
— Моим?
— Разве разумно то, что вас вынуждают читать донесения, диктовать приказы, ставить вашу подпись и печать? Что вы занимаетесь государственными делами, будто бы вполне здоровы? На мой взгляд, необходимые для этого усилия лишают вас последних надежд на выздоровление!
— Я — король, и останусь им и впредь!
— Но кто же хочет иного? Только, дорогой мой Бодуэн…
— Я ваш король, а не сын вашей сестры, отверженной супруги и королевы!
Сколь бы скользок ни был Куртенэ по своей природе, он не смог подавить поднимавшуюся в нем ненависть. Однако она вылилась вовсе не в упреки. Его ярость обернулась ядовитой усмешкой:
— Вы мните себя бессмертным? О, сколько же чванны все те, кому курит фимиам народная молва; они безумцы опаснее прочих! Представьте себе, что в эту же ночь болезнь задавит вас; что душа ваша, государь мой, внезапно оставит тело, как это случается обычно с вашим братом прокаженным; что же будет тогда? Что станется с этим королевством, которому вы столько отдали? Тогда станут бессмысленными все жертвы, что принесли вы, защищая его, ибо князья передерутся при дележке… Разве не решили вы некогда найти нового мужа для Сибиллы, чтобы было кому взяться за поводья, буде случится в том нужда?
— Это правда.
— Я допускаю то, что мысль о вашем наследнике вам неприятна… Признайтесь, что переговоры об этом браке велись без усердия и настойчивости с вашей стороны. Вплоть до того, что полностью провалились к вашему удовольствию!
— Гуго Бургундский был согласен. Мы долго ожидали его приезда.
— Вы отлично знаете, что он не приедет.
— Западные принцы пренебрегают моим наследием с тех пор, как его надо защищать пядь за пядью.
— Но, государь, принцы бывают не только на Западе…
— Я не хочу византийца! Я отвергаю его заранее!
— Вы считаете, что у нас в Святой Земле нет ни одного высокородного и достойного сеньора, живущего здесь или остановившегося проездом? Выдать Сибиллу за него отнюдь не означало бы поступить опрометчиво…
Вот что встает перед моими глазами. Рено, легко раненный в Панеях, нес караульную службу на севере со своими туркополами. Поговаривали о том, что вскоре он будет назначен командовать королевской охраной. В виде исключения, будучи простым оруженосцем, я временно замещал его. Так мы с Жанной оказались немыми свидетелями этого разговора, столь много повлекшего за собой…
Пусть и ваши глаза увидят то, что видели когда-то мои: это тело в бинтах и повязках, вытянувшееся между колонок кровати; это посеревшее лицо, усыпанное темными точками; бороду, торчащую жалкими хохолками; кисть левой руки, скрытую под одеялом; горячечный взор, устремленный к небесной синеве и белоснежным горам среди оливковых рощ в проеме окна; тяжелый сладковатый запах, пропитавший ковры и пурпурные занавеси. Откуда-то слышны шаги. Древки копий ударяют об пол.
— Это они! — скрежещет голос короля.
Он вздыхает и отворачивается к стене. Сибилла разубрана в белые шелка и муслины. Но эта набожная смиренница обладает телом дьяволицы, умащенном ароматами и изнеженным удовольствиями. Она ведет за руку избранника своего сердца. Красавчик хорош собой и силен, улыбчив и кудряв, одет в голубое блио, вышитое серебром, — в свои цвета. Поддерживая друг друга в своем наступлении на короля, они обмениваются нежным взглядом, как заговорщики. Он же не может понять волнения их плоти, передающуюся от одного к другому дрожь возбуждения, предвкушение греховных удовольствий, что последуют за тем. Мученик остается на своем кресте.
— Прекрасный государь, мой брат, — начала Сибилла, поморгав ресницами, — я благодарю вас за то, что вы соблаговолили принять нас. Вот уже несколько недель, как я дожидаюсь этой милости. Вот Ги, тот, за кого я пойду замуж с вашего разрешения.
— Я ничего не обещал вам и ничего не решал.
Маленькое раскрашенное личико окаменело. Но заговорил Ги:
— Государь, я прибыл в Святую Землю с единственной целью — служить вам. Случай, сведший меня с принцессой и заставивший ее обратить на меня внимание, произошел помимо моей воли.
— Я не хотел обидеть вас, Лузиньян. Как человек я желаю вам только добра, но вопрос в том, женитесь ли вы на Сибилле?
— Так вы согласны? Наконец-то вы согласились!
— Отнюдь нет.
— Вас угнетает лихорадка или же вам доставляет удовольствие мучить меня, говоря то да, то нет? Вам, идеальному королю!
— Довольно, сестра! Красноречие излишне. Лузиньян, я обращаюсь только к вам. Известно ли вам, какая ноша ожидает вас, если вы возьмете в жены Сибиллу? Подумали ль вы об этом? Измерили все тяготы?
— Мне кажется, да.
— Вам кажется, но вы не уверены! Рано или поздно болезнь окончательно прикует меня к одру, отнимет у меня возможности, а, может быть, и желание править королевством! Рано или поздно она унесет меня! Тогда, от лица вашей жены, вам придется защищать королевство от Саладина. Вы будете непрерывно вести тяжелые бои и переходы. Чувствуете ли вы себя способным взвалить на свои плечи груз этой давящей ответственности? Способны ответить перед Историей за гибель королевства, если не выдержите? Сможете ли вы тогда оправдаться любовью, что питает к вам Сибилла?
— Клянусь Небом, я готов! Иначе, во благо королевства, я давно бы отбыл на Запад, убежав от чувства, в котором вы меня упрекаете.
— Я не упрекаю, я оплакиваю его. Народ осудит вас. Он скажет, что вашим возвышением вы обязаны бабьей прихоти, а не своим заслугам.
— Я заставлю замолчать клеветников.
— Ну а баронов, Ги де Лузиньян? Мне кажется, что вы топите правду в словах, чтобы не смотреть ей в глаза. Может быть, Сибилла, забыв свой титул и интересы государства, не желая слушать ничего, кроме своего возлюбленного сердца, внушила вам мысль о ваших непревзойденных талантах? Они все вымышлены, на мой взгляд!
Сибилла воскликнула резко и злобно:
— Что мне мой титул, мое наследство и государственные интересы, если их некому защищать?
— Но, дорогая Сибилла, я еще не умер. До сих пор мне удавалось защитить то, что вам так дорого, а также сдерживать натиск неверных, нравится вам это или нет.
— Да, изматывая себя и сокращая дни своей жизни!
— И не стыдно вам говорить такие вещи?
— Никогда еще ваше здоровье не было для меня столь драгоценно, как теперь.
— Да кто поверит этому?
— Ну, в конце концов, что предлагаю я в лице Ги де Лузиньяна? Необходимую поддержку! Не узурпатора, а верного наместника, желающего короне только блага, а вам — облегчения.
— Который с этого самого дня, — вступил Лузиньян, — клянется вам в полной и вечной покорности… клянется своей рыцарской честью!
— А! Ну, хорошо, сестра! Выходите за него, и пусть он сдержит свое слово, если сможет, по крайней мере.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, как бы он не нарушил свою клятву под вашим влиянием.
— Любезный брат, как я хотела бы поцеловать вас в щеку, как делала я в нашем счастливом детстве…
— Не валяйте дурочку, у вас это плохо получается. Что у вас еще?
— Мой муж станет зятем короля. Он беден. Как поддержать ему это достоинство, как внушить уважение баронам, как содержать вооруженных людей?
— Вот-вот! Как купит он вам притирания, чтобы вымазывать вашу хитрую мордочку, эту мишуру и лохмотья, в которые вы рядитесь, забыв, что вы дочь и сестра короля, принцесса Иерусалима! Боже мой, кто освободит меня от этого двора, от этих вредных и блудливых тварей?!
— Государь…
— Оставьте меня! Оставьте меня, говорю вам! Вы же слышите? Вы добились моего согласия, так убирайтесь! Вы слишком ничтожны для меня… Подите, займитесь вашими ласками и любовными излияниями! Жало страсти уже подталкивает вас друг к другу. Ничего иного вам и не надо… О, Боже, Боже! Я жажду покоя и одиночества! И зачем мне жить: я сделаю — другие переделают… суета кругом…
23 САЛАДИН
Страшные предчувствия угнетали его. Лихорадка возобновилась с новой силой, но стала перемежающейся. Мать его, старая кукла, воспользовалась этим, чтобы вырвать новые уступки для себя и завершить дело, успешно начатое ее дочерью. Она явилась в час, когда падали сумерки и умирающий вновь обретал покой, ибо страдания отступали.
— Сын мой, ваше благословение брака Сибиллы делает вам честь.
— Не знаю, но хочу сказать одно: оставьте меня.
— Оно делает вам честь, говорю я вам, и свидетельствует о вашем уме, ибо скоро принесет свои плоды.
— Надеюсь, что плоды эти не будут гнилы.
— Ну зачем этот мрачный тон, государь, зачем в вашем ответе звучат презрение и угроза? Ги де Лузиньян хорошего рода, известного прославленными рыцарями, по крайней мере во Французском королевстве. Ум его не слишком изощрен, но мы заменим ему его.
— Чего я и боюсь больше всего!
— То есть вы считаете вашу сестру неспособной управлять делами?
— В обычных условиях она могла бы быть королевой и с улыбочкой заправлять простаком, взятым ею себе в мужья. Но не забывайте, что Саладин ждет часа, что Запад пренебрежет своими обязательствами по отношению к нам, что предательство, беззаботность и беспорядок угрожают нам изнутри. Нужен сильный король, каким был мой отец Амори, а не разрушенный проказой принц вроде меня.
— Вы всех обвиняете, не замечая кругом ничего, кроме зла!
— Я обвиняю князей этого маленького разваливающегося королевства, его беспредельно хищных женщин, которые хотят управлять им через головы больных и глупцов… Господи, Господи Боже мой, где же Ты? Когда кончатся эти испытания?
— Не волнуйтесь так. Вы усилите вашу лихорадку… На все ваши обиды и подозрения я отвечу лишь нежностью, хоть вы и не любите меня больше… Я повторяю, Бодуэн, если бы мы были теми, кем вы нас считаете, мы собрали бы народ Иерусалима и объявили бы ему о вашем недуге. Церковь совершила бы над вами то, что требует ее безжалостный закон, и сейчас вы лежали бы не на королевском ложе, а в хижине заживо погребенного.
— А я повторяю вам, что народ любит меня больше, чем всех вас вместе взятых, невзирая на мое уродство и бинты прокаженного.
— Это доказывает то, что мы ничего не предпринимаем против вашей власти.
— Потому что вы ничего и не можете предпринять!
— Сын мой, я не сержусь на вас за эти слова. Это слова больного. Я заметила, что все ваши затмения и приступы гнева совпадают по времени с обострениями болезни. Эти прыщи разжигают в вас огонь ненависти.
— Замолчите!
— Огонь, пожирающий вашу плоть, опаляет также вашу душу и разум.
— Ложь!
— Уместна ли эта ссора между сыном и матерью в вашем положении, ответьте мне! Вы даже не дали мне сказать, зачем я пришла к вам.
— Хорошо, говорите!
— Все дело в Лузиньяне. Я не одобряю вашей позиции по отношению к нему. Несправедливо и неудобно лишать его возможности преуспеть и добиться уважения к себе.
— Достаточно с него и женитьбы!
— Вы должны испытать его.
— Отдав ему какие-то фьефы?
— Да, сын мой, дабы он жил в почете и имел возможность проявить себя, а мы могли бы понять, на что он способен.
— Я уже слышал эти благие рассуждения! Вы сговорились, чтобы донимать меня по отдельности. Но я не уступаю, матушка. Лузиньян останется всего лишь мужем Сибиллы, а та — женой Лузиньяна, до тех пор, пока я не умру!
— И так-то они должны готовиться царствовать?
Но под длительным напором он сдался. Лузиньян был введен во владение графствами Яффы и Аскалоне. Таким образом, без какого-либо труда и усилий, одной лишь обольстительностью Лузиньян добился того, что стал одним из владетельнейших князей королевства. И была наконец сыграна свадьба, столь нетерпеливо ожидаемая принцессой Сибиллой.
Бодуэн присутствовал лишь при начале церемонии, удалившись и с пира, и с праздника, великолепие которых было вызвано отнюдь не намерением бросить вызов Саладину, но единственно неосторожной беззаботностью. Сам я не присутствовал там, и передаю вам то, что узнал понаслышке, потому что в это время охрана короля была удвоена, и я строго проверял ее. Несколькими неделями раньше уже были задержаны трое подозрительных вооруженных лиц, бродивших по коридорам дворца. Они погибли прежде, нежели успели заговорить, отравленные или задушенные теми, кто их подослал. Рено, завоевавший расположение Лузиньяна, восседал за главным столом рядом с сенешалем де Куртенэ и принцессой Изабеллой. Не встал ли он на сторону молодого супруга, будущего Иерусалимского короля? Жанна же отказалась от прекрасных одежд и украшений, которые преподнес ей король:
— Ну разве плохо повеселиться, сударыня, хотя бы один раз? Я не вижу в этом ничего дурного!
— А как же вы, мой государь?
— Я не хочу омрачать их праздник…
И он прибавил высокомерным тоном:
— А также подвергать себя новым приступам бесполезной ярости.
— Я отправлюсь вместе с вами, с вашего позволения.
— А если я предпочитаю остаться в одиночестве?
— Не нужно этого.
Однако вдруг она появилась со своей лютней, на ней было белое блио. Король читал, сидя в кресле, а вернее, судорожно листал книгу. Снаружи доносились голоса, взрывы смеха, музыка, беготня слуг, рокот толпы, икота и разглагольствования пьяниц, нашедших себе пристанище в саду.
— Закройте окно, я не могу больше этого слышать.
Он посмотрел на нее с удивлением:
— Это как будто бы блио невесты!
— Почти, — ответила она со своим нежным смехом, смягчавшим некогда Анселена и даже Юрпеля, человека весьма брюзгливого нрава.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я выкроила и сшила его сама.
— Так, значит, в конце концов, вы идете на праздник?
— Нет, государь, это просто мечты, и ничего более. Вы все время видите меня одетой одинаково. Разве нельзя и мне немного пококетничать?
— Ах, Жанна, что бы вы ни сделали, мне все будет приятно… Так одеваются невесты в ваших краях?
— Почти так.
— Этот гам оглушает меня!
Жанна задернула штору, зажгла свечи в канделябрах, наполнила хрустальный рог и подала его королю:
— Выпейте, мой государь.
— Что ты насыпала в вино?
— Вы не доверяете мне?
— Нет, я просто хочу знать!
— Успокоительный порошок, он вам необходим.
— Ты всегда знаешь, что мне нужно, а что — запрещено.
Она улыбнулась, потому что больше всего любила, когда он забывался и звал ее на «ты», как будто бы она была ему подругой жизни.
— Садись, моя Жанна.
Он задумался на мгновение. Она всегда сохраняла молчание в эти минуты, зная, что за ними стоят глубокие размышления. Он заговорил:
— Не страшно ли и не чудесно ли, что рядом с вами я ощущаю такое облегчение? Когда я смотрю, как вы ходите рядом, когда слышу ваше пение, тьма внутри меня рассеивается. Мне кажется, я становлюсь другим человеком…
— Хотите, я спою вам?
— Я хочу, чтобы ты пела и говорила одновременно… Расскажи мне, как готовятся к свадьбам у вас, как вообще все это происходит. Бывает ли маскарад, как здесь?
— Ах, конечно, нет, все гораздо проще, если не брать в расчет богачей; у нас же, скромных сельских дворян, все происходит очень просто. Свадьба — это все же нечто чуть побольше обыкновенного семейного праздника.
— Расскажите мне об этом, и поподробнее.
Она поняла, что он стремится забыть этот день, не желает слышать смех и музыку вокруг, хочет сосредоточиться на какой-нибудь простой и правдивой истории.
— На заре, — начала она, — невеста причесывается с помощью своей служанки, подающей ей ленты и шелковые повязки. Девушки у нас носят волосы распущенными по плечам. После замужества они должны заплетать их в косы. Невеста разбирает их своим гребешком из слоновой кости на две пряди и заплетает две толстые косы, перевязывая их лентами и обшивками из конского волоса, а потом перекидывает через плечи или же оборачивает вокруг головы наподобие диадемы.
— Так же, как и ты?
— Чтобы быть похожей на здешних девушек, а кроме того, из-за жары.
— Я шучу, Жанна, не сердись. Продолжай… Скажи, свой наряд она надевает потом?
— Нет, прекрасный государь; нет, она уже одета в свою самую тонкую рубашку из присобранной льняной ткани, белее полевых цветов и лишь слегка подкрашенную шафраном. В наших местах не слишком жарко, даже на Пасху, даже летом, и все из-за дождей, которые приносит ветер, именуемый галерн. Служанка помогает ей облачиться в блио, покрой и украшения которого зависят от состояния и тщеславия каждой. Невеста надевает горностаевую накидку, подбитую куньим мехом. Остается только застегнуть накидку пряжкой, принятым у нас знаком благородного происхождения. У некоторых есть пояса, украшенные сапфирами и изумрудами; мы же обычно украшали их «камнем епископа», аметистом, который можно купить в горах Оверни, где маленькие пастушки часто находят их в траве. Когда невеста обует свои кожаные остроносые туфельки с позолотой, — она готова.
— А он?
— И он, со своей стороны, приводит себя в порядок, надевает рубашку, блио и застегивает свою мантию. Но часто его блио вышито, а мантия усыпана каскадом ограненных камней.
— Наверное, он так же красив, как и она?
— А разве животные, когда и для них наступает пора любви, ведут себя иначе?
— У тебя на все готов ответ! Ну, говори же, говори!
— Обычно церковь находится невдалеке от поместья. Туда отправляются все вместе длинной процессией, во главе которой выступают славословящие жонглеры с флейтами, лютнями и волынками. Он восседает на гордом скакуне, в седле, разубранном клевером и голубыми цветочками. Она — на муле, поводья которого позвякивают бубенчиками. В тот момент, когда они проходят по мосту или входят во врата, жонглер затягивает песню невесты…
— Это какую?
Нежность сердца и воспоминаний Влекут меня воспеть прекрасную любовь; Так пропою я, и Господь в Своем величье Вдохнет в меня напевы и слова, И пусть злоречье не поймет их, Пусть улыбнется госпожа моя. Которой сердцем я служил всегда, Которую, увидев, позабыть не мог.— Ах, Жанна, как трогательна эта простота!
— А другой жонглер отвечает песней жениха:
Песенка, лети скорей Соловьем моих лесов Лишь я только поклонюсь Ясноликой, светлокосой, Той, что я люблю душой, Но назвать не соглашусь.— Сыграй еще, спой снова! Мне кажется, что я сам еду в кортеже, и гордо гарцует моя разукрашенная лошадь. Голубки вылетают из своих клеток…
— Да, государь, им возвращают свободу в честь праздника, но они часто возвращаются назад… Ваш кортеж поднимается по пригорку к церкви, а вдоль дороги стоят земледельцы и дровосеки. Сама дорога усыпана благоухающими цветами, садовыми и полевыми. Священник ждет в дверях храма. Там он примет у них торжественную обоюдную клятву.
— На пороге церкви?
— На пороге. Именно здесь будет прочитан и подписан контракт, здесь они обменяются обручальными кольцами, над которыми священник прочтет прекрасную молитву из литургии: «Да благословит Господь эти кольца, Он, Творец и Держитель рода человеческого, Источник милосердия и вечного спасения…» Тогда супруг поочередно наденет его на три пальца правой руки своей супруги, проговаривая: «Во имя Отца», затем «Сына», наконец «Святого Духа». Он наденет его на левую руку, где ему и место, и скажет: «Я обручаюсь с вами этим кольцом; телом своим я почитаю вас; достоянием своим я облекаю вас». Потом он даст ей монетки — су и денье, по нашему незапамятному обычаю. После чего, набожно и радостно, они выслушают мессу. Во время пения Agnus Dei[10] супруг получит целование священника в знак мира и передаст его своей молодой супруге. И все отправятся восвояси, мило смеясь, распевая и разговаривая…
— Боже мой, ведь существует же на свете счастье! Есть, значит, существа, которые получат его на всю жизнь!
— Что с вами, мой король? Вы бледны!
— Все это так сладко слушать!
— Я причинила вам боль своими рассказами?
— Скорее радость, чем боль.
— Ах, как я глупа и неосторожна! Надеясь развлечь, я только измучила вас.
— Возможно.
— Да, все это хорошо обсуждать вдвоем. Когда же вы останетесь одни, вам станет от того еще хуже.
— Потому что мы не можем надеяться ни на что, кроме горя и смерти, не правда ли?
— Государь!..
— Я не могу рассчитывать даже на воображаемую нежность?
— Вы отлично знаете, что и я разделяю с вами эту воображаемую нежность, что она стала смыслом моей жизни, что, как и вы, я не смогу обойтись без нее.
— Не обманывай меня. Это только уловка, ты делаешь это из христианского милосердия, из жалости ко мне.
— Какая же уловка, если я почти не живу, когда вы вдали от меня. Как невеста, как верная супруга я жду вас с войны, с замирающим сердцем слежу за вами, подкарауливаю гонцов, мысленно пробегаю по всем вашим путям и дорогам, молюсь за вас, забываю ради вас все свои горести, жалею, что я всего лишь женщина, а не латник, способный заслонить телом вашу корону и жизнь…
— Замолчи!
— Как невеста, возлюбленный мой государь, которая дала свое слово раз и навсегда…
— Невеста на небесах?
— И на земле также, в скорбной нашей жизни… Простите меня.
— Простить тебя?
— Я хотела сохранить в тайне то, что разливается в моих венах, лишает меня сна. Но я не смогла.
— А я захлебнулся в той радости, что ты дала мне. Подойди. Слушай… Иногда меня охватывает безумие молодости. Оно стремится, проникает во все уголки моего существа, и, любя тебя, глядя на тебя, такую красивую, нежную, оживленную и улыбчивую, я вновь обретаю надежду. Странные голоса нашептывают мне на ухо речи об исцелении, любви, победе! Закрывая глаза, я вновь вижу себя таким, каким бывал прежде, до наступления проказы. Я веду тебя ко Гробу Господню. Я надеваю на твое чело корону иерусалимских королев, моих прабабушек…
— Такой вес слишком тяжел для меня. Мне достаточно быть некоронованной супругой моего короля…
— Увы, это невозможно!
— И даже тайной супругой, обвенчанной каким-нибудь старым священником, незнакомым с сильными мира сего?..
— В чем я виноват!.. В чем повинен я пред Тобой, Судия Небесный?.. О чем мы говорим? Я не вправе жениться, я не должен иметь детей! Счастье, доступное каждому мужчине, не дозволено мне, прокаженному королю!
— Вы сами отказываетесь от него. Никто не объявил вас прокаженным, вам не посыпали голову пеплом.
— Любимая моя, ты безумна! Если я дотронусь до женщины, если она станет моей, ей передастся моя проказа, и ты знаешь это, потому что ты знаешь все.
— Бог всемогущ.
— Дети, которые родятся от нашей любви, будут маленькими прокаженными с огромными ушами и провалившимися носами, с бесформенными и ущербными конечностями…
— Нет, нет! Все будет так, как Богу угодно!
— Ты хочешь обмануть меня, обманываясь сама, потому что ты любишь, а я люблю тебя так, что всякий пустяк лишает меня разума.
— Даже если мне грозит проказа, я все равно не побоюсь стать вашей женой.
— И делить ложе с телом, которое станет скоро гнилым и зловонным?
— Я хочу быть вашей настоящей, а не названной женой, если это угодно Богу.
Они замолчали. Из сада доносилась музыка, заглушаемая время от времени веселым смехом, говором, пеньем и икотой.
— Нет, — мучительно произнес Бодуэн, — Нет, я не имею на это права! Даже тайный, брак наш будет все равно незаконным. Прокаженный не может жениться. Еще живой, он уже покинул землю.
— Но вы — король и господин!
— Меня только терпят. Ты еще увидишь, что сделают они со мной, когда руки и ноги мои отвалятся от туловища!
— Тогда счастье, что несу я вам всем моим существом, душой и телом, превратится в мучительный груз!
— Возлюбленная, возлюбленная моя, знай, что на мне лежит тяжкий рок. Я должен только страдать и сражаться. Мирские радости не для меня. Ты слышишь? Проказа, пожирающая мое тело, — это Божье наказание. В моем лице Он карает грехи этого двора, грехи моих отцов, мрачных хищников, вроде Фолка Нерры, первого графа Анжуйского, основателя нашего рода. Все искупается со временем. Мне остается лишь молча терпеть. Это моя доля, по крайней мере, на этом свете.
— Только потому, что вы того хотите сами!
— Но рядом — ты, твоя нежность, твой свет, все то, что ты несешь в своей открытой душе.
— Которая любит вас одного!
— И я не могу любить другую. За неимением лучшего, из-за этой проказы и ее последствий, если ты хочешь, мы так и останемся теми, кто мы есть: сужеными на небесах…
— И на земле!
— И на земле, раз ты так хочешь.
— Да, я клянусь вам не покидать вас никогда!
— Даже тогда, когда я стану увечным и отвратительным?
— Даже тогда.
— Когда другие воспользуются властью и прогонят меня из дворца?
— Я уйду с вами.
— И если меня уведут в Долину Прокаженных, и последним моим пристанищем станет убогая хижина, ты тоже пойдешь со мной?
— Пойду.
— А когда я умру и тебя огласят прокаженной, изгонят отовсюду, никто не согласится взять тебя в жены, как ты поступишь тогда?
— Я затворюсь в каком-нибудь уединенном месте, или же в монастыре, если меня туда примут, и проведу там остаток своих дней. Я буду спокойна. Нам недолго быть в разлуке, государь, мой король.
— О, моя любимая! Ты лучше всех на свете! Ты — возлюбленная моя. Я дам тебе тайно освященное кольцо.
— И я буду носить его на глазах у всех, но никто ничего не узнает.
И тогда всем тем, что оставалось в нем мужского и плотского, он привлек ее к себе за талию и обнял. Жанна склонила к нему на грудь свою голову, прикоснулась к ней виском и своими звездно-золотистыми волосами. Она больше не ощущала исходившего от него запаха. Она не слышала и музыки, а только глухие и медленные удары сердца, бившегося с той минуты ради нее одной. Скоро король сказал:
— Ты не устала? Может быть, ты хочешь спать?
Она отвечала:
— Раз я ваша жена и вы того хотите…
В тот же день, в тот же самый ночной час, выслушав донесение соглядатая о свадьбе Сибиллы, Саладин приказал привести к нему Рено Шатильонского, одного из своих узников, и сказал ему:
— Я освобождаю тебя, сеньор Рено.
Он говорил на своем языке, но Рено научился понимать его с тех пор, как мавры захватили его в плен.
— Не благодари меня. Я даю тебе свободу, потому что мне надоело смотреть на тебя, старый разбойник.
С места поднялся один из эмиров, в гневе желая отчитать своего султана:
— Великий султан, ты возвращаешь этого человека, худшего из наших врагов, маленькому прокаженному?
— С легким сердцем!
— Народ уже недоволен тобой; он сомневается в твоей звезде, он считает, что ты давно мог бы захватить Иерусалим, но упорно не делаешь этого. Разумеется, люди не правы, и все мы согласны с твоими доводами. Однако когда и куда бы мы ни направились, повсюду нас встречает этот проклятый прокаженный со своей волчьей стаей! И вот ты сам прибавляешь к ней самого жадного и свирепого волка?
— Уважай прокаженного, это моя воля. Если бы он был здоров и не носил бы креста, я взял бы его себе в сыновья.
— Разве ты не знаешь, что мы вновь отступим, если демоны и колдуны вдохнут в него здоровье?
— Во имя Аллаха, будь терпелив и проницателен. Муки прокаженного скоро прекратятся. Тогда королевство канет в пучину беспорядка, и мы сотрем его с лица земли. Так назначено судьбой.
— Государь, эта грязная собака слышит нас!
— Какая разница! Ведь говорится всего лишь об Иерусалимском королевстве! Ты считаешь, что мне дорога эта легкая добыча? Тебе, кто подозревает меня в маловерии, я поведаю свои намерения. Когда последний христианин с Запада будет обращен в рабство, я, Саладин, пересеку море; я пойду на Запад и понесу туда огонь и смерть. Я отвоюю Испанию. Я продвинусь во Французское королевство, о котором говорят, что тень его деревьев сладостна, а земли плодородны, как нигде. Я верну Пророку не только это скромное владение, Иерусалим, я положу к его ногам весь мир… Поверь мне, совершенно не важно, что прокаженный отчаянно сопротивляется мне, что проживет он еще год или несколько лет, и что вот этот вернется к нему, чтобы поддержать или ускорить его падение! Ничто не остановит натиск Саладина, кроме всемогущего Аллаха!
Рено радовался, что понимает мавританское наречие. Он извлечет большую выгоду из того, что услышал, — так он размышлял про себя. Ярость переполняла его, заставляла сверкать глаза и раздувала ноздри. Саладин же, поглядывая на него искоса и усмехаясь в бороду, разочаровывал своего эмира в его лучших чувствах.
24 ПАТРИАРХЕССА
Действительно, временами проказа заметно ухудшала характер Бодуэна, меняла его природу и в своем наступлении подбиралась порой даже к его воле, бывшей до сих пор твердой и непреклонной. Этими приступами, случающимися все чаще и чаще, не могло не воспользоваться его окружение, в особенности же — ненасытная, способная только ко злу королева, собравшая вокруг себя самых бездарных, самых пустых людишек из всех подданных своего королевства. То, что случилось в этот год, пагубно сказалось на всех нас, ибо болезнь вновь полностью овладела телом короля, погрузила его разум в потемки, прибавила к мучениям плоти еще и навязчивые страхи, частью вымышленные, частью — вполне оправданные. Самой страшной, самой неотступной идеей фикс, преследовавшей его, был страх лишиться короны и власти. Стремление царствовать в полной мере, обостренное присутствием Жанны, существенно поддерживало его среди мрака и ужаса, поглотивших все его существо… О, сколько дней и ночей это длилось! Подобно пловцу, тонущему в открытом море, оглушенному и ослепленному волной, сражаясь за жизнь, он собирал остаток сил, чтобы уцепиться за какой-нибудь обломок. Руками, терявшими один за другим пальцы, он обнимал Жанну! Ураган страсти и нежности уносил их обоих. Болезнь безжалостно терзала короля, однако он все еще жил. Это благодаря чуду любви. Эта любовь не походила ни на какую другую, и причиной тому был сам Бодуэн, желавший этого. Он слишком любил Жанну, и потому вполне трезво думал о том, какое, в сущности, отвращение должны были бы внушать ей их объятия, близость его тела, изрытого язвами и гнойными ранами! Обрекая ее на томительное вожделение, он без всякого расчета вернее обольстить ее, все сильнее разжигал в ней пламя страсти, бывшее единственной его отрадой. Как ни странно, но он обладал ею даже полнее, чем если бы Жанна принадлежала ему телом. Они были столь крепко связаны духовными узами, так тесно соприкасались всеми своими мыслями и чувствами, что в конце концов и она согласилась с его настойчивым отпором всем ее нежным домогательствам. Она стала даже радоваться тому, что их нежность, сдерживаемая барьером его болезни, не переходила в другое чувство, потому что видела, как необходима ему эта нежность. Иногда она с трудом, но подавляла в себе желание целовать это искаженное лицо, знала, что королевское и мужское благородство, присущее ему в равной степени, заставило бы его решительно и мягко отстранить ее. И, чтобы избавить его от этого мучительного жеста, она лишала себя своего единственного удовольствия: прикосновения к коже прокаженного.
Я могу поведать все о двух этих душах и об их любви, потому что по утрам и вечерам, когда солнце золотило стены Иерусалима, в саду, предназначенном для райских наслаждений, я вел долгие разговоры с Жанной, когда она возвращалась от короля, или же ожидая, что он, желавший побыть один, вновь позовет ее. Эта любовь научила меня мечтать; меня, который до того принимал за женственность лишь обезьяньи ужимки придворных дам, презиравших мое ничтожество; меня, который сам из чванства пренебрегал теми простыми и безыскусными радостями, что могли бы мне предложить деревенские девушки. Жанна и король, не прибегая к уловкам любовной игры, понимали друг друга с полуслова, разделяли все чувства друг друга, одинаково судили о том-то и о том-то, имели одинаковый взгляд на многие вещи. Я думал раньше, что такое возможно лишь в минутном приливе страсти, в миг обжигающей близости; считал, что это приходит только со временем. Но их тела не ведали тех ночей, что утоляют дни, что освещают весь остаток жизни; в своей непорочности они были друг другу ближе, чем супруги или любовники. Я говорил себе, я повторял, что именно в этой непорочности их любовь черпает новые силы. Из-за нее тайна любящих заключает в себе нечто беспримерное; небесного в ней столько же, сколько и земного, и даже больше! И я, как бы там ни было, уважал их чувства, я защищал их от злословия — верной рукой и праведным мечом — и двусмысленности о них не произносились в моем присутствии. Я стал оруженосцем этой любви, подобно тому, как был оруженосцем короля, и я гордился этим. Мне казалось, что меня посвятили в некое таинство неизъяснимых обещаний и важных последствий, незримо направляемое ангелами. Внимайте мне без иронии, друзья мои! Не знаю, за что мне была дана эта благодать, осенившая меня, но, созерцая эту любовь, я полнее дышал и воспарял духом. Как сторожевая собака, осознавшая вдруг, что понимает человеческую речь, так и я внезапно, со всей очевидностью стал понимать язык взглядов, движений рук, дыхания. Верно и то, что я был именно сторожевым псом короля, рыскавшим в покоях и переходах, насторожив уши, навострив глаза, довольный тем немногим, что имею. Королю было известно о моем чувстве к Жанне. Но оно не беспокоило его. Он любил меня и знал, что я не посягну ни на что, если это направлено против него, смолчу о моих мужских желаниях. Однажды он сказал мне:
— Терпение, мой дорогой Гио. Все кончится для нас; жизнь всего лишь сон. Все мы соберемся в едином месте, где не будет ни королей, ни оруженосцев, ни короны, ни службы, но лишь всеобщее и полное поклонение. И тогда мы с улыбкой вспомним все наши нынешние муки и страдания. То, что гнетет тебя, гнетет меня — все будет разрешено тогда, о вернейший мой друг!
Слушая этот почти потусторонний голос, проникавший ко мне из-под повязок и бинтов, я испытывал странное удовольствие. Меня словно уже согревала та радость, которую предвещал мне он… Повторяю вам, я был тогда не кем иным, как собакой, привязанной к своему хозяину, и как собака испытывал чувства низменные, но горячие! Каждому свое! Я не был рожден для великих свершений!.. И поэтому я не стыжусь того, что вел себя как собака, напротив, я горд этим. Жанна, легко и ясно читавшая в моей душе, поняла обуревавшее меня смятение чувств и стала внимательна ко мне. Она пеклась обо мне, как сестра, впрочем, гораздо больше, чем о своем брате Рено. Ее беспокоил цвет моего лица, она следила за тем, чтобы я не уставал и высыпался, починяла мое белье, следила за тем, чтобы вид мой был достоин моего короля: в мои обязанности входило сопровождать и представлять послов, принимать посещения сеньоров, будь они франки или мавры, присутствовать на публичных аудиенциях и на негласных переговорах. Иногда она делала мне небольшие подарки. Вечерами, когда меня охватывала омертвляющая душу смутная ностальгия, она рассказывала мне о милой Франции или о рае: для нее это было одно и то же. Мы больше не виделись с Рено. Он лишь изредка мелькал, оскорбляя нас своими насмешками. Он усердно посещал сенешаля де Куртенэ и Ги де Лузиньяна; лишь номинально управляя Монт-Руаялем, он переложил все заботы на мои плечи, слишком занятый устройством своего будущего, своими прекрасными подружками, пиршествами, балами…
Балы не прекращались, чередуясь, то во дворце, то в богатых городских домах, то в окрестных замках. Принцесса Сибилла соперничала с матерью, и сенешаль добивался ее победы над патриархом Ираклием — можно было подумать, что королевство находится на вершине своего процветания, и что Саладина уже вообще нет в природе. Ни обо всем этом, ни о Рено я не хочу больше говорить: во мне подымается волна гнева, а это напрасно. Однако я остановлюсь на Ираклии — он один наилучшим образом даст картину всего общества. Этот странный пастырь знал женщин гораздо лучше, чем Священное Писание. Будучи церковным служкой в Жеводане, он отправился в Иерусалим, имея в запасе лишь свою мужскую привлекательность, приукрашенную одеянием духовного лица. Королева Агнесса скоро его заприметила. Полюбив его, она доставила ему посвящение епископом Цезарем, а когда умер престарелый де Несль, в обход Гильома Тирского утвердила его выбор в патриархи.
У этого Ираклия была подружка по имени Пакеретта из Ривери, жена торговца. Чтобы купить ее мужа, он озолотил и отослал его, когда тот стал его стеснять. Став патриархом, он вызвал эту Пакеретту в Иерусалим и устроил в прекрасном жилище. Презрев приличия, он отправлялся туда каждую ночь. Она также появлялась у него — в носилках, среди толпы слуг, усыпанная жемчугами и драгоценностями. Толпа кричала: «Смотрите, патриархесса!» Было еще и похлеще. Однажды во время королевского совета вошел какой-то жонглер и произнес: «Великий патриарх, я принес вам хорошие вести! Если вы отблагодарите меня, я сообщу их вам!» Патриарх, король и бароны подумали, что речь идет о благоприятных для христиан событиях. Ираклий сказал: «Ну, хорошо! Говори!» А жонглер возьми да и ответь: «Дама Пако де Ривери, ваша супруга, разрешилась прелестной маленькой девочкой!» Патриарх же: «Замолчи, ни слова больше!» Но, несмотря на всю свою порочность, будучи господином всего клира Святой Земли и благодаря своей связи с королевой Агнессой, он сосредоточил в своих руках огромную власть, и это обстоятельство сыграло роль злого рока для государства, о чем свидетельствуют последовавшие события.
Во время обострения своей болезни Бодуэн капитулировал перед Ираклием; так же получилось с Сибиллой и Лузиньяном, так же — с замужеством второй его сестры, Изабеллы, с Онфруа IV Торонским, печальным отпрыском коннетабля, вялым сластолюбцем, единственным оправданием которому служила его преждевременно испорченная кровь. Так, раз за разом, от приступа к приступу, подобно стае стервятников, терзающих павшую лошадь, королева-мать и ее дочери, сенешаль де Куртенэ, патриарх и их приспешники вырывали у него все новые и новые милости и привилегии. Не его ли живую плоть кромсали они, вырывая у него обрывки королевской власти? Но, с вхождением в каждую новую должность, они заручались все большим числом приверженцев, и скоро король очутился в окружении своих врагов. Более того, играя на его черной меланхолии, они искусно обостряли его подозрительность, запугивали вымышленными заговорами и тем самым устраняли его последних друзей. Когда Раймон Триполитанский с блестящим сопровождением прибыл на поклонение Гробу Господню, они убедили короля, что тот предпримет попытку его свержения. Бодуэн приказал немедленно изгнать его из города. Раймон понял, кто подстроил ему эту ловушку, и, оскорбленный, удалился в свое Триполитанское графство. А между тем это был на редкость благоразумный человек, достойная опора для престола — вот и еще повод, чтобы устранить его поскорей!
Но этому загнивающему двору не хватало знаменосца, яркой и цельной личности, горластого и полнокровного животного, которое смогло бы небрежно, с громким хохотом опрокинуть все это здание лицемерия и наигранного почтения, волей-неволей воздаваемого еще Бодуэну. И такой человек, увы, нашелся. Им стал Рено де Шатильон, Заиорданский государь: именно ему выпала такая роль в нашей трагедии. Как долго держал его Саладин про запас, каким подвергал унижениям, какой яростью и желчью пропитал все его поры! И лишь когда тот полностью созрел — иначе говоря, налился жаждой мщения до возможного предела, — он отпустил его. И вот, освободившись из рабства, он прибыл к нам. Я его видел. Некоторые уже понимали, что, воскреснув из небытия и забвения, он принес нам нашу погибель. Человеческой в нем оставалась одна лишь речь. Остальное же — лицо, взгляд, настроение и поза — создавало воплощенный в оболочке человека образ сгорбленного хищника с длинными конечностями, с сухими и круглыми глазами. Ненависть так и сочилась из него. Не прошло и дня, как он уже столковался с лагерем королевы Агнессы, оценил характер Лузиньянов, торжественно объявил себя их человеком и высмеял осторожность короля. Он объявил во всеуслышание, что вырванное у Саладина перемирие — всего лишь ловушка, что султан мечтает лишь о сокрушении королевства, чтобы после этого перенести войну на Запад. На королевском приеме он осмелился заявить:
— Вы не хотите мне поверить, государь, потому что ваша немощь не дает вам действовать и затмевает ваше сознание! Почему вы не хотите довериться вашим истинным друзьям? Время работает против нас!
Ответом короля был приказ о немедленном изгнании. Обескураженный столь резким отпором, бахвал ретировался, бормоча под нос неясные угрозы. К несчастью, он был женат на вдове Трансиорданского государя. От нее он получил всем известный Моавитянский Крак, крепость на пути египетских и дамасских караванов. Невзирая ни на перемирие, ни на мольбы своих вассалов, старый дикарь напал на один из них, направлявшийся в Мекку, разграбил его, получив огромную добычу, и вознамерился продать правоверных в рабство. Это означало оскорбить противника в его лучших чувствах, задеть его религиозные убеждения. Никогда, даже в пору своего наивысшего могущества, ни иерусалимские короли, ни их бароны не посягали на то. Обретя наконец повод для окончательного уничтожения Иерусалима, Саладин в безумной ярости потребовал немедленной выдачи пленников и восполнения урона. Бодуэн призвал Рено Шатильонского к себе, но тот отказался прибыть в Иерусалим. Король направил к нему посланника:
— Трансиорданский государь, вы напали на безоружных, доверившихся благородству наших князей, это недостойно! — заявил посланник.
— Что делать, подвернулся удобный случай! Было бы глупо и смешно пропустить это стадо безбожников, нагруженных к тому же несметными богатствами.
— За нарушение перемирия наш король несет ответственность перед Богом.
— Моя вера крепче, чем у него. Клятва перед неверными ничего не значит.
— Подобные действия приведут к войне. Король говорит, что он не уверен в нашей способности выстоять в ней. Подчиняйтесь, дабы избежать такого несчастья!
— Нет! Саладин держал меня в своих тюрьмах, подвергая такому унижению, что вы и представить себе не можете, он пропитал и удушил меня позором. У меня свои счеты с этим отродьем. Где бы я ни встречал его, с оружием или за молитвой, в отряде или поодиночке, я буду бить их!
— Это обычаи прежних лет. Сейчас король намерен терпеть соседство неверных, лишь бы христианство Запада получило доступ к Святым Местам.
— Не в состоянии тягаться со мною в своем убожестве, он осуждает мою мощь!
— Государь Трансиорданский, несмотря на свое убожество, о котором вы толкуете, наш король одолел Саладина. Вы забываете о том, что замок ваш, Крак Моавитянский, не завоеван вами, что он держит вас здесь в вассальной зависимости и в любую минуту может отозвать отсюда.
— Пусть только попробует!
— Подчинитесь королю ради вашего же блага, о котором он заботится. Верните пленных и их достояние.
— Я бы с удовольствием подчинился этому приказу, не заговори сам Саладин устами короля, равно как и вашими. Но что мне его требования?!
— Вы не умалите тем вашего достоинства, а только послужите общему делу.
— Нет! Я не воодушевлю неверного. Возвратить все — значит признаться в нашей слабости. Тогда дерзость султана не будет знать границ!
— Король приказывает вам это.
— Во имя чего? Не той ли короны, что придерживают на его паршивом лбу в нарушение наших законов? Я восхищен его отвагой; я воздаю ему должное. Но я утверждаю и то, что болезнь сломила в нем воинственный дух. Тот, кто думает только об обороне, вынужден отступать, лишь наступление всегда и всюду ведет к победе. Саладин поступает именно так.
— В последний раз говорю вам: подчинитесь. Ваша покорность остудит гнев султана; главное же в том, что и прикованный к своему одру Бодуэн — наш король и властен еще над могущественнейшими сеньорами нашего королевства, способен вести переговоры.
— Да мне-то что из того?
— Берегитесь. Если вы не исполните того, к чему призываю я вас от имени короля, вы лишитесь всего…
Наши лазутчики в Каире уже известили нас с помощью почтовых голубей, а также и другими способами о том, что султан собирает свою армию для нападения на Крак Моавитянский. Тогда-то старый князь спохватился, вскочил на коня и одним махом примчался в Иерусалим. Грубиян отнюдь не был так силен духом, как представлялся, и поняв, что перебрал лишку, как ни в чем не бывало припал к стопам короля. Королева и друзья ее остолбенели при виде этого хвастуна и бретера, с омытым слезами лицом припадающим к туфле Бодуэна для поцелуя:
— Мой государь, король, я молю о прощении. Я заклинаю вас забыть мои оскорбления и отложить излияния вашего праведного гнева. Пробил час всеобщего воссоединения, отметающего все частные ссоры и споры.
— Все должны сплотиться только потому, что вам угрожает опасность?
— Признаю, признаю, что я кругом неправ, моя мерзость чудовищна, но глубоки и мучительны моя горечь, мой гнев на самого себя!
— На самого себя?
— Я выставлял на смех и открыто потешался над лучшим из королей. Я сомневался в нем и сеял сомнения в умах других людей, столь же шатких и ненадежных, как и я сам. Но вы зрите мое раскаяние: дикарь у ваших ног.
— Не жонглер ли вы, Трансиорданский государь, чтобы устраивать такое представление?
— Сеньор, тот, кто проповедовал непокорность, смиренно молит о вашем покровительстве; я торжественно возобновляю свои вассальные обещания…
— По причине того, что в своем справедливом гневе Саладин собирается разрушить ваш замок и самого вас лишить достояния! Вы признаете теперь, что, совершив ошибку, вам надо было принести свои любезные извинения, но не дерзости?
— Я возглашаю для всех, здесь присутствующих, что Трансиорданский государь предан вам отныне и навеки!
— Только потому, что суверен обязан защитить вассала, а уж, конечно, не по причине внезапного прилива теплых чувств ко мне…
— Государь, гневайтесь вволю, но спасите Крак, заклинаю вас!
— Я сделаю это, но отнюдь не для того, чтобы уберечь такого разбойника, как вы, а во спасение королевства и в восстановление того сюзеренитета, в коем ваша заносчивость пробила брешь. Сеньор Трансиорданский, на этот раз вы почувствовали руку своего господина, не так ли?
— Государь, вы могущественнее и великодушнее, чем слывете: на оскорбление вы ответили благодеянием.
— Берегитесь, я не смогу поступать так всегда.
И вот Бодуэн созвал свою армию и бесстрашно выступил на Моав.
Напоследок не обошлось без происков королевы Агнессы, преследовавшей свои цели. Когда отряды прибывали в Иерусалим и день выступления уже был назначен, она обрушила на короля свои причитания:
— Нежнейший государь, с восхищением преклоняюсь я перед вашей героической страстью к сражениям! Но позвольте матери сказать вам: в вашем состоянии вы, мой сын и король, и двух дней не продержитесь на лошади в такой жаре и влажности! Я знаю, что в последнее время почти каждый вечер вас мучает горячка. Вы не любите меня больше, и, может быть, в том ваше право. Но согласитесь с тем, что мое материнское сердце тоже имеет право страдать о вас.
— Все ваши воззвания и предостережения направлены к известной цели, и я догадываюсь, к какой! Они совершенно бесполезны, и вы зря хлопочете, матушка.
— Сын мой, направляясь в тронную залу, вы споткнулись два раза.
— Если бы я споткнулся и тридцать раз, это не изменило бы моих замыслов. Я выступлю впереди войска, на моем законном месте.
Сибилла посчитала уместным вставить:
— Я знаю из достоверных источников, что вы жаловались на ваше слабеющее зрение. Как же вы сможете руководить сражением, если не различите противника?
— И тогда, раз уж я сгораю в лихорадке, шатаюсь на ходу и едва вижу, почему бы мне не поручить командование твоему супругу, да?
Лузиньян, державшийся неподалеку, тут же возразил, но, по своему обыкновению, скромненько и глуповато:
— Брат мой, государь, вы сомневаетесь в моем военном искусстве? У нас в Пуату рано приучают к войне, не то что здесь, в этих изнеженных странах.
— Бедный мой Ги, неловкость выдает вас с головой. Что подумали бы наши бароны, услышь они ваши слова? Итак, они смотрят на вас как на чужестранца в своих рядах, если не хуже. Нет, вы останетесь в Иерусалиме присматривать за женщинами!
— Вы даже не хотите испытать меня?
— Попозже, Ги. Вы здесь только брызжете слюной, я же теряю драгоценное время. Со своими людьми и с Истинным Крестом я буду везде, где понадобится.
И все вышло по его желанию, все, кроме одного, но столь удивительного, приятного и уместного! Но по порядку. Рискованно, но точно все рассчитав, Бодуэн вновь обнажил Палестину и во главе всего своего войска понесся в Моав, одним своим появлением разрушив намерения Саладина. Султан не решился встать лагерем вокруг крепости Рено де Шатильона, опасаясь, несмотря на свой численный перевес, подвергнуться атаке изнутри и снаружи, одновременно проведенной Бодуэном и осажденными. Он сделал вид, что отступает к Дамаску, но внезапно и резко обрушился на Галилею, где, помимо прочих, атаковал донжон Бельвуар. Тогда Бодуэн покинул Моав и вышел навстречу ему в те места. Атака его была столь стремительной и красивой, что отбросила султана за Иордан и вынудила его вернуться восвояси. Однако Саладин был не из тех, кто легко отступает от своих намерений. Недавнее поражение не принесло ему реальных потерь. Вдоль наших границ он прошел на север. Осведомленный о ссоре нашего короля с графом Триполитанским, с хитростью, сравнимой разве что с военными уловками Бодуэна, он предпринял попытку расчленить надвое его королевство. Сокрушая все на своем пути, наводя ужас на мирных жителей и на возможных наших союзников, он поскакал к Бейруту и устроил там засаду. Попавшись в нее, граф Триполитанский оказался бы отрезанным от остального королевства, и пробил бы час нашей гибели. Однако король, проникнув во все эти тонкости, во весь опор помчался туда же, на север. Саладин не ожидал нашего появления и упустил добычу. Сжигая, грабя и разоряя, он отступил, но ярость его была бессильна: удар не попал в цель! Бейрут был спасен, но спасено было и королевство…
Саладин, власть которого казалась несокрушимой, — хотя и сама была результатом убийств, интриг и узурпации, — оказался беспомощным против нашего скорбного маленького короля и его латников. Он решил хотя бы возместить затраты этой дорогостоящей и безрезультатной вылазки. До сих пор, с помощью и поддержкой Иерусалимских королей, атабеги Алеппо и Мосула все еще сохраняли свою независимость. Он решился покорить их, с тем, чтобы весь исламский Восток оказался под его властью. Но Бодуэн обманным маневром снова опрокинул его планы. Победоносно прошел он через эти земли, продвинувшись вплоть до предместий Дамаска — то, чего Саладин не смог сделать по отношению к Иерусалиму. Ах, почему же не было у нас ни людей, ни запасов, чтобы победоносно завершить это предприятие! И на этот раз прокаженный вырвал добычу из когтей султана! Так, в результате этого мучительного похода — он длился около пяти месяцев! — Иерусалимское королевство снова было спасено, а мощь Саладина, лишившегося северной Сирии, поколеблена.
Свершив сей труд, наш король отправился в Тир, чтобы встретить там Рождество в обществе своего друга и наставника, архиепископа Гильома. Когда он входил в триумфально встречавший его город, среди его свиты, стремя в стремя с вашим покорным слугой скакал некий оруженосец с юношескими чертами лица и хрупкой фигурой. Можно было подумать, что это сын одного из сеньоров, по обычаю занимающий место подле короля. Но истина была в другом. Немногие догадывались о ней.
Она состояла в том, что, когда мы готовились к захвату земель Дамаска, в лагере появился некий посланец. Он объявил, что прибыл из Иерусалима и должен переговорить с королем. Его отвели в шатер Бодуэна. На нем были мужская обувь и одежда, но я сразу узнал знакомый замшевый корсет.
— Немыслимая неосторожность! — воскликнул король. — Одна, по этим дорогам!
Но, забыв о моем присутствии, о лагере, ощетинившемся копьями и пиками, забыв о своей собственной проказе, недолго думая, он раскрыл навстречу ей свои объятия.
— Сеньор, я умирала от тревоги за вас…
— Сними каску… О, Жанна, где твои чудесные волосы? Что ты с ними сделала?
— Я их отрезала. Они быстро отрастут. Иначе я, может быть, не смогла бы добраться до вас. Не надо дразнить дьяволов, их же так много сейчас по дорогам!
— Безумная, безумная от любви! Тебя могли захватить мавры — настоящие или переодетые, выбить тебя из седла, переломать руки и ноги!
— Я верная оруженосица! А если бы я не приехала, кто бы стал ухаживать за вами?
Она вгляделась в лицо короля и сказала:
— Гио, посвети мне… Ах, я вовремя прибыла!
До Дамаска она продвигалась вместе с нами. Я не знал, кто из них двоих вызывает во мне большее восхищение: эта пожертвовавшая своими волосами оруженосица, презревшая опасности, не позволявшая себе ни единой жалобы, составлявшая бальзамы и менявшая повязки в то время, как мы отдыхали, обессилев от усталости перехода, или же этот король, струпья и воспаления которого были скрыты под железным забралом. Этим знойным летом и мы-то с трудом выдерживали ветры пустынь, дышавших в лицо раскаленным огнем и песком. Нашу усталость усугубляла ежесекундная возможность увидеть вдали отряды Саладина, быть атакованными с тыла или с фланга, где охрана была недостаточна, погибнуть от отравленной воды пустынных колодцев. Но при виде нашего мученика-короля, прямо восседавшего на своем белом коне под знаменем с пятью золотыми крестами, с короной на голове, с глазами, устремленными к Истинному Кресту, мы снова обретали утраченную было храбрость, и на устах наших воинов замирали привычные жалобы о том, что добыча несоразмерна затраченным усилиям, что обещанная победа заставляет себя ждать. Во время сражения хрипота прокаженного исчезала: его голос вновь становился звонок и высок. И самые толстокожие из нас понимали, что, следуя за этим человеком, они участвуют в некоем историческом действе, оставляющем по себе память в веках. А еще и то, что они непременно заслужат свою райскую долю, сражаясь в рядах этого уязвленного жуткой хворью архангела. Великодушные безумцы — соль соли земли! — говорили, что по сравнению со столь мужественно переносимыми страданиями смерть — не более чем дым, мимолетное неудовольствие. И все, даже старые хищники, вылезшие из своих феодальных берлог, грустные товарищи крепостных амбразур и катапульт, преклонялись перед силой души, поддерживавшей нашего короля в седле, вздымавшей его тяжкий меч, помогавшей ему схватывать на лету и тут же исполнить задуманное. Все это превосходило наше разумение! Он, пластом лежавший на кровати, шатавшийся на ходу от внезапной истомы, как мог он в момент атаки выхватывать меч, потрясать копьем, а затем мчаться верхом часами напролет. Иногда мы опасались за его жизнь, ибо он, несмотря на палящий зной, вдруг закутывался в свою белую мантию. И лучше, чем другим, мне было известно, что под ней, под железом кольчуги он дрожит как осенний лист. Жанна приготовила для него медный флакон в соломенной оплетке и приторочила его к седлу; из него он пил, чтобы восстановить свои силы. Это питье умеряло его лихорадку. Так мы и добрались до предместий Дамаска, а затем вступили в Тир, звонивший во все свои колокола.
25 БАЙЛИ
Колокола весело отзванивали приход Мессии в этот мир, но они приветствовали и наше победоносное вступление в город. Сеньоры и эдилы, горожане и ремесленники, весь этот мелкий люд, мужчины и женщины, старые и молодые встречали Бодуэна так, будто бы он был самим воскресшим Спасителем. Но, хотя бы в какой-то мере, разве он не был им? Потемневшее от проказы бугристое лицо его уже никому не внушало отвращения, но вызывало потоки благодарных слез, сеяло в этих приземленных сердцах семена торжествующего бессмертия, и это человеческое тесто всходило на дрожжах веры. Проказа короля не была более его тайным стыдом, но залогом райского блаженства и неоспоримым свидетельством того, что Господь хранит корону Иерусалима. Говорю вам, что тот, кто имел счастье видеть, как с поднятыми горе глазами, прямо и неподвижно восседая на своем белоснежном коне, он въезжал в Тирские ворота, кто целовал полы его мантии, прикасался к стременам — тот не забудет этого никогда! И среди этого счастливого перезвона колоколов, возбужденной радостью толпы, в блеске круглых шлемов, значков и знамен, на паперти своей церкви старый архиепископ, учеником и воспитанником которого он некогда был, воздавал благодарение Богу за то, что с Его помощью внушил королю на уроках прямоту и набожность, моральную стойкость и самоотверженность. И вот несчастный, пораженный проказой ребенок возвращается к нему в ореоле славы. Вовеки никто не сотрет память об этом рождественском посещении Тира, завершившем столько героических усилий! И Саладин мог сколько угодно оплакивать свои поражения, глядя на то, чей Бог истинный — его или Франкского короля. Из всех чудес, случившихся на этой земле, одно заключалось в великих деяниях, совершенных этим полуразрушенным телом! Но и то, с каким набожным послушанием и с каким самоотречением покорялся Бодуэн воле Господа! И старый Гильом лил слезы, он, столько боровшийся за своего короля, столько выстрадавший от вырождения сильных мира сего — от выборов Ираклия и от всего прочего: падения нравов, развращения молодежи, бесконечных праздников, бессовестных и бесцельных отречений… Ему казалось — ибо он жил надеждой! — что, несмотря на ошибки и грехи этого народа, его предательства и крайности, — бесстыдство и компромиссы, Господь Бог не отвратит от него Своих взоров, потому что Промысел Его виден в часы опасности.
На Рождественском богослужении я был рядом с Жанной, вновь облачившейся в свою женскую одежду и спрятавшей под вуалью коротко остриженные волосы. Король сидел впереди нас. В минуту, когда восславили Рождество Иисусово, он шептал рыцарскую молитву:
Отче наш на небесах, Спасти желающий нас всех, Имя благое Твое да святится, Дай нам мольбою к Тебе возноситься, В царство Твое укажи Ты нам путь, Чтобы с него не смогли мы свернуть. Воля Твоя да царит на земле, Как и на небе. Дорогу к Тебе Ты укажи нам, да были бы мы С сонмами ангелов счастьем равны. Хлеба пошли нам на каждый наш день, Чтоб не коснулась нас голода тень. Душе — Святое Причащенье, А телу — силы укрепленье. Равно прости Ты нам наши грехи И отпусти все земные долги, Яко оставим мы нашим врагам, Злым кознодеям и должникам. Спаси нас и от искушенья, И от дурного помышленья. Господь, веди нас ко спасенью, От всех невзгод подай нам избавленье. Аминь речем, да примет Бог его, Он, Всеблагой, начало и конец всего.Жанна проговорила эту молитву вместе с ним. И в сочетании двух голосов они достигли высшей точки своего земного существования, и многие тогда поняли, чем были они друг для друга: властный голос Бодуэна, одушевленный пылкой и необоримой верой, и эта музыка листвы и струящейся воды в голосе, присущая ей одной, заключавшая в себе всю человеческую нежность. Потом Жанна произнесла:
— Да снизойдет на меня Божья благодать, водительница и защитница пяти моих чувств, помощница в пяти делах милосердия, да укрепится дух мой в двенадцати символах веры, да не преступлю я через десять заповедей, да не совершу семи смертных грехов до последнего дня моей жизни.
И тут же голос Бодуэна влился в ее голос и поддержал это моление. Когда Архиепископ вознес Святую Гостию[11], детям показалось, что они видят трепетание светоносных крыл под сводами и вокруг алтаря. Мои глаза этого не увидели. Наверное, то были сверкающие отблески бесчисленных свечей, но разве это важно?
Да, разве это важно? Уверен я лишь в том, что демон, как всегда, подкарауливает у дверей! Но ни он, ни Саладин не могут ничего поделать со святым телом короля. Но, сколь ни был он безбожен, Саладин все-таки чем-то напоминал рыцаря. Величие его преклонилось перед прокаженным. Он не мог себе запретить восхищаться нашим королем, хотя это вынужденное восхищение еще больше разжигало в нем жажду действовать. Демон не ведал столь тонких чувств. Он видел перед собой только препятствие, о которое разбивались все его происки.
Мы вернулись в Иерусалим. Весна еще не кончилась, как из страха и глупости эмиры Алеппо и Моссула переметнулись к Саладину. Отныне он стал хозяином всей Сирии, и мы не могли теперь ждать от них хотя бы нейтралитета: изоляция наша стала полной. Мы узнали, что Саладин находится в Дамаске и подготавливает там вторжение в Палестину. Бодуэн созвал свои отряды у источников Сефы и отправился туда сам в сопровождении воинов Иерусалима, а также рыцарей Храма и Госпиталя. Именно там совершенно внезапно его опять скрутила проказа. За несколько дней она лишила его возможности управлять руками и ногами, потерявшими многие пальцы, ослабила его настолько, что он больше походил на труп, чем на живого человека, снова сковала его голос и почти разрушила зрение. По его распоряжению мы доставили его в Назарет. Готовясь к смерти, он хотел, чтобы она произошла в деревне, давшей свое имя Христу. Но было сказано, что он не изведает ни часа покоя. В то время как бароны и их воины готовились дать отпор Саладину, тревожились об отсутствии и новом недомогании короля и задавались вопросом, кто возьмет на себя командование в случае нападения, иные бросились в Назарет со своими грязными замыслами. Это были королева Агнесса, ее дочь Сибилла, зять Лузиньян и патриарх Ираклий. Они не промедлили и дня! Мы прибыли почти одновременно с ними. Но кто же предупредил их? Некоторые обвиняли в том сенешаля де Куртенэ, другие — Рено де Молеона, заметив, как в одиночку он удалялся из лагеря на быстром скакуне. Но так удалялись и возвращались многие, и утверждать наверное было невозможно; неоспоримым было лишь то, что Рено давно уже не расстается со своим другом сенешалем. Что же до меня, то из-за Жанны я не стремился докопаться до истины. Она удивлялась:
— Рено командует отборными войсками; он должен быть среди нас.
— Он командует также туркополами и более полезен в Сефе.
Я скрывал от нее и то, что ее брат проявляет ко мне все более явное презрение и использует только для мелких поручений. Это вполне устраивало меня, я не желал другой доли, кроме той, что выбрал себе сам: следовать тенью за моим государем, всегда, в любых условиях быть у него под рукой…
Все они думали, что час их торжества пробил, и набросились на объедки всей своей лающей сворой! И прежде всего — старая развенчанная королева, смердящая всеми благовониями, вылитыми ею на свое тучное тело из боязни заражения! Злоупотребляя своим положением матери, именно она повела дело, из недостатка чувств, связывавших ее с собственным сыном, всегда прибегая к одной и той же тактике лицемерия, к тем же приевшимся доводам:
— Нежнейший сын мой, в какой печали вижу я вас! Быть может, на этот раз вы прислушаетесь к моим словам? Неужели я была не права, удерживая вас? В заботах о благе королевства вы запустили вашу болезнь. Вы видите теперь, куда завело вас ваше упрямство! Не согласитесь ли вы наконец доставить себе хотя бы несколько месяцев покоя, чтобы поправить свое здоровье?
— Я не могу, Саладин — в Дамаске.
— Саладин в Дамаске, вы на этом одре в Назарете, а войско ждет своего полководца!
— Как только смогу, я отбуду туда.
— Ну конечно, убейте себя и оставьте без управления это несчастное королевство, раз уж вам так того хочется.
— Что вам угодно?
— Сердце мое разрывается от жестокости слов, что я обязана сказать вам!
— Говорите, ведь вы же для этого и приехали.
— Сын мой, смерть может застать вас врасплох…
— А преемник еще не назначен?
Тут снова вмешалась Сибилла, более решительная и целеустремленная, хотя также разыгрывающая огорчение:
— По праву вашей наследницей являюсь я, оспаривать это невозможно! Однако, Бодуэн, было бы гораздо лучше, если бы вы провозгласили это сами. Ваш выбор заставит замолчать честолюбцев.
— И особенно князя Триполи, своим происхождением столь близкого трону, что, мог бы и претендовать на него?
— Согласна, его особенно.
— И кто же станет править в действительности? Ваш супруг!
— Вы необоснованно презираете его. Именем Господа говорю вам, что за ваше пренебрежение он платит только любовью, на все ваши грубости отвечает лишь почтительными словами и мыслями.
— Ги де Лузиньян и Раймон Триполитанский одинаково пламенеют жаждой власти. Но один из них — осторожен, другой же — нет.
— Вы хотите обездолить вашу кровь?
— Я не решил пока, что мне делать с алчными родственниками.
Вошел патриарх, настолько привыкший к своему позору, что уже более как бы и не замечал его, и иногда случайно, по обстоятельствам или по необходимости, даже похвалялся своим скандальным священством.
— Государь, прислушаетесь ли вы к словам патриарха священного королевства?
— Как и к любому другому.
— Мне ведом ваш мучительный выбор: Триполи или Лузиньян? И я скажу вам, что вы уже опоздали… Вы упорствуете напрасно, и даже, осмелюсь добавить, чрезвычайно неосторожно. Одно дело — заботы королевства, и совсем другое — ваша душа. В тяготах власти, в суете размышлений и хлопот, что доставляет вам эта неотвязная война, задумывались ли вы о собственном спасении? Не возжелали ль вы наконец спасительного покоя, дабы вознести свои молитвы ко Господу, не жаждете ли вы сосредоточенности, не мешают ли вам ваши беспрестанные труды?
— Бог зрит и судит меня.
— Возможно. Но как было бы восхитительно, если в итоге стольких усилий и победоносных сражений вы достойно сложили бы с себя это бремя и встретили бы смертный час обычным человеком…
— Это все?
— Простите мне, пастырю и поводырю душ… но, государь, вам нехорошо… вы пали… низко пали… задумайтесь о спасении!
И Ги де Лузиньяну удалось вставить словечко о том, что королю неплохо бы посторониться и пожить себе на те средства, что он сам ему пожалует: с умирающими не церемонятся!
Сколько же нападений такого рода пришлось вынести ему, прежде чем он сдался, как загнанный олень позволяет пленить себя на исходе битвы, но держит свору на расстоянии! Ах, как горько сожалел я тогда о своем ничтожестве и бедности! Я должен был молчать, если хотел оставаться подле Бодуэна. Народ же, в своей простоте и по доброте душевной, ничего этого не ведал. Короля заставляли молиться о своем исцелении. Сам патриарх служил мессы, на которых неизменно появлялась его Пакеретта из Ривери. Но сколь ни был обобран Бодуэн, ему удалось все-таки спасти главное. Ги де Лузиньян стал только байли королевства, его временным наместником, главой войска, но лишь на срок и не окончательно. Не успел он подписать указ, как вся свора унеслась в Иерусалим. Рядом остались только я и Жанна и наши люди, немногочисленные, но верные и преданные.
— Я большое не интересен им, они оставят меня теперь в покое. Я изучал их во время наших споров, хоть и вижу сейчас с трудом. О! На этот раз они не боялись заразы!..
Из скромности я вышел из комнаты. Но некая сила удержала меня на месте, и я присел тут же, у стены, на небольшую скамейку в коридоре. Судите, как хотите, но мне необходимо было все знать, даже против собственной воли.
— Жанна, ты молчишь? Но я все равно остался самим собой!.. Я — Бодуэн, король, король без власти!
— Не мучайте себя так.
— Вот я и остался один! О, я еще не так почувствую ее, эту тяжесть одиночества! До боли, до крика я скоро пойму, что единственная моя спутница — проказа.
— Проказа?
— Да, как поспешно они покинули Назарет! Патриарх, озабоченный мыслями о моей душе, мать — моим разрушением, а Сибилла уж и не знаю чем! Но скоро они объявятся снова. Знаешь ли, чем они занимаются сейчас, вырвав у меня победу? Они рассматривают свою белоснежную кожу, и я представляю их ужас и тоску, если им попадется хоть один прыщ! И все потому, что они битые часы проводили у моего изголовья, чтобы заручиться моим согласием… О, Жанна, как я только подумаю, что этот вертопрах Лузиньян идет впереди моего войска, хранит печать, воспользовавшись моей королевской слабостью… Но почему ты мне не отвечаешь? Я вижу тебя как сквозь туман, но я различаю твое неодобрение.
— Мое неодобрение? Вы правильно рассудили обо всем.
— Ты считаешь, что я был не прав?
— Бог вам судья.
— Когда мы вернемся л Иерусалим, будет еще хуже. Ты увидишь, как разбегутся слуги, льстецы окружат Лузиньяна и расцветет Сибилла.
— Но я останусь с вами, и между нами все сказано. Я прошу вас лишь об одном: живите.
— Теперь-то зачем?
— Что будет со мною без вас?
— Да как можешь ты смотреть на меня теперь, холить это отталкивающее безобразие, терпеть эту заразную вонь, что я издаю? Ангел и тот отвернулся бы в тоске!
— Он припал бы к вашим рукам и стопам.
— К моим беспалым рукам и стопам. Что ты делаешь!?
— Я целую вас.
— Я запретил тебе это… Ты целуешь мои раны? Ради Бога, прекрати!
— Нет!
— Я не позволю тебе!
— Это уже не важно.
— Как?!
— Руки мои, дорогой мой сеньор, уже потеряли чувствительность и появились первые пятна. Мне больше нечего опасаться. Мы равны, и в этом есть высокая справедливость.
Он испустил крик раненого животного, зверя, попавшего в петлю ловушки. Потом прохрипел:
— Проказа! Все, что моя любовь дала тебе.
— То, чего я и хотела.
— МОЮ ПРОКАЗУ?
— Главное, что твоя любовь дает мне, так это гордость быть похожей на тебя. Не отталкивай меня. Я все еще красива. Никто не догадывается, что я поражена, но я это знаю.
— Что же это за любовь, если она так мучительна?
— Это наша любовь, господин моей жизни.
— Почему же мне так больно и радостно?
— Потому что любовь наша не окончится на земле, но, очищенная, продлится на небесах.
— И ты будешь моей единственной радостью?
— Источником в пустыне, и ничего другого мне не надо.
А я оставался сидеть на той же скамье в коридоре, неподвижный, раздавленный, оглушенный. Позже, много позже она вышла из дверей, и я спросил ее:
— Жанна, это правда?
— Нет, — ответила она, улыбнувшись. — Нет еще…
Это было ее вымыслом, уловкой, чтобы смягчить отчаяние короля, чтобы преобразить его уныние и радость.
26 ИСТОЧНИКИ СЕФЫ
Ошибки Ги де Лузиньяна множились с каждым днем. Своим неразумением и капризами он вызвал единодушное осуждение баронов, разжег ненависть к себе доселе равнодушных, разочаровал даже своих былых сторонников. Он сошелся опасной дружбой с магистром Храма, о котором шла молва хуже некуда, и предпочел его своим прежним товарищам — сенешалю де Куртенэ и князю Трансиорданскому. А Рено де Молеону оставалось лишь издали, осторожно наблюдать за этими приливами и отливами, подобно тому, как это делал его господин и советчик Жослен, имевший лазейки в оба лагеря. Лузиньян же, облеченный должностью байли, уже мнил себя королем. Пропитанный насквозь чванством и самодовольством, он был наделен столь скудным разумом, что даже и не задумывался о надвигавшейся опасности. Вместо того чтобы предвидеть и предупредить сарацинское нашествие, он предпочитал устраивать празднества, раздавать милости, посвящать любовные стишки своей жене Сибилле и принимать почести от баронов.
Конечно, Саладин был извещен о таком странном характере и поведении этого принца, более увлеченного дорогими тканями, помадами и вышивками, нежели военным ремеслом. Он не торопился, усыпляя бдительность этого замечательного байли ложной безопасностью, обманывая его осведомителей и внушая им мысль о том, что он занят своими осложнениями с северными эмирами и не скоро еще отправится походом на Галилею. Через них же он передал, что гораздо более опасается благородного сеньора де Лузиньяна, чем этого увечного короля Бодуэна, в связи с чем удваивает свои предосторожности. Безнаказанно и вполне свободно эти темные людишки выкладывали ему эту ложь, а безумец вопрошал их:
— Как же может опасаться меня Саладин, он же не видел меня в деле?
— Господин байли, великий султан наслышан о твоем происхождении, о твоих славных корнях, о благородных воинах твоего рода. Его неистовое сердце холодеет от ужаса. Он вопрошает Аллаха, зачем тот поставил тебя на это место?
Ги упивался этими речами, наслаждался ими, смаковал их, как медовые пряники, и язык его еще долго ощущал их привкус. Напрасно Раймон Триполитанский, отбросив свою неприязнь, в крайней тревоге пытался вывести красавчика из его бездействия:
— Господин Ги, давайте поскорее отведем войска от источников Сефы и найдем для них менее заметное место. Так мы сможем перехватить Саладина и не дожидаться его сложа руки.
— О чем вы там толкуете, господин Раймон? Вы не располагаете сведениями! Саладин не отважится и показаться нам на глаза.
Но, как вы понимаете, Саладин, конечно, отважился! Как только были обнаружены его лазутчики, это немедленно стало известно Ги, но он только разразился хохотом, успокоил свое общество, заверил опасливых стариков, а в ответ на упреки графа Триполитанского только пожал плечами. Магистр Храма Торрож высказал свое мнение, которое тотчас же было подхвачено и разнесено повсюду:
— Трубите общий сбор, мой господин. Одной атакой мы опрокинем безбожников. Сегодня же Саладин будет молить вас о пощаде!
Триполи пришел в ярость:
— Если вы сделаете это, Ги, то у вас не будет не только королевства, сана байли и свободы, у вас не будет и сегодняшнего вечера! Именно вам придется взывать о пощаде к Саладину!
— Что же предлагаете вы?
— Составим небольшой усиленный отряд, железный кулак, способный отразить любой натиск. Устав от ударов, неверные отступят. В этом наше единственное спасение, клянусь Богом.
— Без борьбы? — возмутился этот помешанный.
— Если мы будем наступать, то окажемся сброшенными в море, и вы знаете это.
— Ну-ну, господин Раймонд, всегда вы все усложняете!
— Раскройте глаза! Посмотрите отсюда, сколько их, текущих по долине! Столько же, сколько колосьев в поле!
— Мы считаем, что вдесятеро больше нас.
— Их будет сотня на одного!
— Господин байли, — вмешался Торрож, — не слушайте этого лицемера. Он хочет лишить вас верной победы.
Ги вертел головой от одного к другому, пытаясь сообразить, кто из них более дальновиден, кто желает ему добра, а кто — смерти. Но, поддержанный баронами, Триполи взял верх. Мы заняли указанную им возвышенность, а Лузиньян все продолжал бормотать:
— Вы ответите за этот позор, господин Раймонд. Я обещаю вам это. Ваша болтовня задержала нас, а то мы бы уже давно отделали безбожников…
Триполи не возражал. Прибыв накануне, я стоял неподалеку, среди этого железного воинства. Король доверил мне послание к Лузиньяну, а другое, более важное, к графу Триполитанскому. Господин Раймон относился ко мне с уважением. Он принял меня в своей палатке. Мне было поручено также пронаблюдать за всеми и выяснить намерения каждого. В случае если бы Лузиньян вознамерился совершить непоправимое, Триполи немедленно должен был взять руководство в свои руки: именно этот приказ заключал в себе второе послание.
В двух словах можно сказать о том, какова была та битва. Легкая конница Саладина разбилась о стену наших латников. Стрелы лучников, стрелявших с колена под ногами наших лошадей, причинили им заметный урон. Вскоре вокруг взгромоздилась обезопасившая нас гора трупов. Саладин пробил отбой. Мы победили, ибо остались хозяевами территории. Ги де Лузиньян приписал все заслуги себе, бароны же потешались над ним, а Триполи — презирал. А Жослен де Куртенэ, сообразив, что не сможет более вертеть красавчиком направо и налево, оставил лагерь в Сефе, не попрощавшись с байли, и быстро поскакал в Назарет. Он передал Бодуэну заносчивые речи Ги, достойные почести, возданные ему баронами, рассказал о его неспособности принять решение перед битвой и о его претензиях на королевство, вытекавших из присвоенной им победы над Саладином. Бодуэн пришел в ярость, вызвал Ги, потребовал у него отчета и, в ответ на его дерзость, лишил его звания байли королевства.
Так произошла ссора между двумя родственниками. Вскоре, к отчаянию всех христиан, она переросла в открытое столкновение, ибо друзьям не составило никакого труда убедить Ги в том, что он стал жертвой зависти короля и что тот уязвлен его успехом при Сефе и отступлением Саладина…
Сенешаль ликовал. Наивные не могли понять, что одним ударом он убил двух зайцев. На будущее ему удалось сбить спесь с супруга Сибиллы, продемонстрировав ему, что с ним надо считаться, и, уж конечно, щедро оплачивать его будущую поддержку. А на сегодня он восстановил свои позиции у короля, вернул его доверие, в то время как Триполи оставалось только примириться с этим кульбитом и ожидать неизвестно чего. Но гибнущий блаженный король сквозь боль, сквозь слепоту, различая лишь белые пятна вместо склонявшихся к нему лиц, будучи человеком проницательным, все-таки смог раскусить это коварство! Он понял, что дележ его наследства повлек за собой междоусобицу, в коей погибнет его королевство. С каким бессовестным удовольствием сенешаль и его клика натравят Лузиньяна на Триполи в самый день его смерти! Насмотревшись на смешное и чреватое опасностью правление Ги, но не имея возможности полностью устранить Сибиллу, мудрым решением он возвел на престол маленького Бодуине, сына Гийома Монферратского. Этот ребенок был помазан на царствование и посвящен по обряду Иерусалимских королей под именем Бодуэна V. Итак, на короткое время Иерусалим противопоставил Саладину с его эмирами этого младенца и прокаженного героя.
Возведя на трон Бодуэна V, король поручил регентство графу Триполитанскому. Рено де Шатильон, поддержавший вылазку Куртенэ, горячо одобривший изъятие должности бейли у Лузиньяна, немедленно перешел в лагерь недовольных. Известная осторожность Триполи мешала его личным планам; он явно предпочел бы бессильного Ги. Себе в утешение он занялся постройкой небольшой флотилии, которую и перевез — тайно, в разобранном виде — на верблюдах к Акабскому заливу Красного моря. Этот флот захватывал и разрушал мирно плывущие мусульманские суда, грабил и сжигал гавани. Так, эта старая скотина похвалялась тем, что пресекла ислам в его корне, наложив запрет на всякое хождение в Мекку — и по суше, и по морю. Мне довелось слышать арабскую поэму о Краке Моавитанском, зловещем логове этого зверя. Для правоверных Крак этот слыл «тоской, сжимающей горло, встающей преградой, волком, засевшим в долине». «Пришел, видно, час Страшного суда, и земля скоро погрузится в бездну небытия!» — так сказано в этой поэме. Саладин не обладал поэтическим воображением. Но он просто воспользовался возмущением среди своих и отправил на Красное море большую эскадру, которая не замедлила истребить разбойничьи корабли Рено. А вскоре и сам султан объявился во главе мощного войска, чтобы свести счеты с князем Трансиорданским. Яростный обстрел из баллист и камнеметных машин быстро поколебал стены и башни. Защитники уже теряли последние надежды продержаться еще, как яркий сигнальный огонь, зажженный в Иерусалиме и вспыхивавший от донжона к донжону, возвестил им о приближении короля.
Покрытый струпьями, изрытый язвами, уже полностью ослепший, не способный даже стоять на ногах, великодушный смертник в последний раз пришел на помощь одному из своих вассалов, да какому — предателю королевства и предателю своего короля! Он передал командование войском Триполи и приказал подать носилки. Каждое мгновение в дороге могло оказаться для него последним! Но он был уверен, что живым или мертвым, он возбудит отвагу, удвоит рвение, нашлет священный трепет на сарацинов. Сражения не было. Саладин снял осаду и неспешно, без обмана, отступил. И здесь ему надо воздать воинские почести, ибо я лично уверен, что он поступил так добровольно, по благородству сердца и величию души, оставив за прокаженным королем обманчивую радость его последней победы. Сколько рыцарства проявил он, не став оспаривать этого разбойничьего гнезда у умирающего, но преклонившись пред этими носилками, ставшими тому последним троном! И чем же был бы наш мир, спрашиваю я себя, если бы люди такой закалки объединились бы в своей доброй воле и восторжествовали бы над всеми подлецами, интриганами и эгоистами. Но все это не более чем мечта о недоступной Земле Обетованной…
Конечно же, гарнизон Крака встретил нашего короля как своего избавителя. Старый Шатильон рвал на себе волосы и посыпал голову пеплом, проливая обильные слезы раскаяния, целуя королевскую мантию. Он клялся и божился, что эта ошибка будет последней. Бодуэн был обеспокоен состоянием стен, разрушенных военными приспособлениями Саладина. Он не пожелал возвратиться в Иерусалим до тех пор, пока они не были восстановлены.
Ему оставалось прожить лишь какие-то месяцы, если можно назвать жизнью это осознанное гниение заживо. Он сохранил еще способность владеть языком; сердце его по-прежнему билось и страдало, разум жил и мыслил. Скоро он потерял стопу, затем — целиком всю руку, позже — ухо. Жанна вновь нарядилась в свой мужской костюм, чтобы сопровождать его в Крак Моавитянский. Она больше не покидала его, устроив себе походную кровать в его комнате. Она сбивалась с ног, чтобы облегчить его боли; прекрасно понимая, что любые слова утешения были бы напрасны, так как едва ли он отдавал себе отчет о своем состоянии, она развлекала его пением и рассказами, вторя себе игрой на лютне. Как и прежде, больше всего он ценил деревенские песенки за их простую и красноречивую веселость, живой мотив, за те мирные картины, что вставали в его воображении, за ясные безмятежные чувства, что они пробуждали. Все так же старательно она скрывала свое отчаяние и безутешное горе, прикрываясь неведением для пущей бодрости. Но однажды ночью, когда он наконец задремал, я застал ее плачущей. Она сидела за столом в своей излюбленной позе — позе задумчивости перед Часословом. Сияние свечи золотило кончики ее тонких пальцев. Распущенные волосы рассыпались по плечам, но они еще не были столь длинны, как в те давние дни в Молеоне. Молчаливые слезы катились по щекам. Быстрым шагом я приблизился к ней, стараясь ступать по коврам и шкурам, чтобы не потревожить сон короля. Она не замечала меня или не хотела замечать. Я опустил руки на ее плечи и прошептал:
— Друг мой, отдохните!
Она покачала головой. Меня поразила бледность и вялость ее лица, а особенно — тусклый и запущенный вид волос. Я подумал: «Ей больше некогда причесываться», объяснил грустью и усталостью ее блеклый и дурной вид. Назавтра, приглядевшись к ней повнимательнее, я настоял на том, чтобы она лучше питалась, больше отдыхала и хотя бы на время оставляла эту зловонную комнату. Она сказала:
— Тебе теперь не с кем разговаривать!
Она вспомнила наши вечера в саду Монт-Руаяля, среди гвоздик и розовых кустов. Сравнение было слишком жестоким, и я не подхватил ее намека, сказав себе, что он не волен, и поэтому простителен. Я отважился настаивать:
— Как вы устали!
— Скоро я устану еще сильнее.
— Нужно надеяться. Бог всемогущ.
— Да, Он может сократить его крестные муки, ибо это именно они…
Глаза мои с тоской остановились на ее спутанных и сбившихся в клочья волосах, прорезанных бороздами, как волчья шерсть, потерявших прежнее сияние, блеск спелой ржи. Она засмеялась, но, против обыкновения, ямочки не появились на ее щеках. Смех ее как бы захлебнулся, однако своим прежним ровным голосом она сказала:
— Милый мой Гио, не надо сожалеть о моей утраченной красоте. Она уже бесполезна. Он не может видеть ее.
Увы, Богу не было угодно, чтобы король внял нам и позаботился бы обустроить дела королевства; тогда ему легче было бы предстать пред Ним с ясностью и умиротворением. Его ожесточившееся против смерти сердце не смущалось бы мучительными думами, и на время этой затянувшейся агонии он был бы избавлен от волнений. Но к внешним тревогам — кто мог поручиться в том, что ему известно, что замышляет Саладин! — добавилась и внутренняя неблагонадежность. Казалось, все решено и согласовано по поводу коронации Бодуине, равно как и относительно назначения Раймонда Триполитанского правителем и военачальником. Но на поверку все было не так! Повсюду бродили самые разные слухи и добирались даже до Монт-Руаяля. Подозрительная деятельность первых лиц государства и, в частности, патриарха Ираклия, а также разговоры Ги де Лузиньяна были немедленно переданы прокаженному, может быть, в точности, а, может, и с преувеличениями. Они исторгли из этого полумертвого тела яростные вопли и вызвали новые приступы горячки. Триполи в это время нес дозор на границах, беспрестанно пребывая в седле. Его преданность несколько облегчала страдания короля:
— По крайней мере этот тверд и верен. Храните его, как можете. Пока он будет жить, продержится и королевство.
Некоторым показалось, что он бредит и конец его близок.
27 АВЕССАЛОМОВА МОГИЛА
Слова Ги де Лузиньяна отличались крайней серьезностью. Каждому, кто хотел его слушать, он заявлял:
— Триполи причинит нам страшные несчастья. Как только умрет прокаженный, королевство охватит анархия, ибо мои сторонники не подчинятся этому самозваному регенту. Граф Раймон лишится большей и лучшей части баронов, тех, кто искренне желает блага королевству и не хочет предательски сговариваться с Саладином. Мне кажется, пристрастия графа Раймона общеизвестны! Они обмениваются подарками и наилучшими пожеланиями! У Триполи нет иных намерений, кроме как быть угодным Саладину, мы же должны готовиться к его полному уничтожению, с тем, чтобы покорить весь Восток и водрузить там кресты. Я призываю скорее предать, чем унизиться до чисто оборонительных действий, рассеивающих наш воинственный дух.
Очень сомнительно, что он вспомнил все эти слова в одиночку. Добрые учителя вложили их в его уста, и он, как обученный попугай, повторял, ничего не изменяя и не прибавляя от себя. И еще:
— Прокаженный потерял последнее разумение. Бароны не осмеливаются бунтовать по причине его болезни, которой сам он явно злоупотребляет. Он не наделен ни правом, ни властью отказать в наследовании моей жене, принцессе Сибилле. Коронация Бодуине неправомерна и ничего не значит; все это поймут, когда его дядя перейдет в мир иной, что довольно скоро может свершиться. Бог примет его душу, хоть он грешил и ошибался; ибо, поверьте мне, так долго жившему в тесноте дворцовых покоев и посвященному в секреты семьи, он отнюдь не безупречен, это далеко не святой король, коим представляют его народу. Но я воздержусь от дальнейших речей, все-таки он мой шурин…
Ненависть между ними росла день ото дня, и, чтобы покончить с этим и вырвать Сибиллу из рук такого человека — хоть и не многое их связывало, но она оставалась его сестрой, — Бодуэн решил расторгнуть этот брак. Открыто он объявил его «ни добрым, ни честным» и посвятил в этот план патриарха Ираклия. Ги де Лузиньян был поставлен в известность. Не знаю, любил ли он бескорыстно свою жену, но потерять ее для него значило потерять все! Не спросив необходимого разрешения у Триполи, он бросил армию, спешно прибыл в Иерусалим и тайно перевез Сибиллу в свой замок в Аскалоне, где и затворился. Король приказал ему прибыть во дворец. Лузиньян отговорился болезнью. Раз за разом гонец мчался в Аскалон все с тем же приказанием и, получив тот же ответ, возвращался обратно. Бодуэну была нестерпима непокорность вообще, но такого человека в особенности! Это могло бы стать подстрекательством к неповиновению сильных, признанием в том, что с этих пор он король лишь номинально и не способен принудить к послушанию своих баронов, будь то даже его близкие родственники, как в данном случае, и, наконец, это показало бы Саладину падение авторитета королевской власти и неблагополучие всего королевства. И вот даже такой великодушный сеньор и славный полководец, коим оставался Бодуэн, несмотря на проказу, не снес наглого оскорбления от этой заносчивой и бесстыдной твари, полностью зависящей от воли женщин. Он известил его, что, раз болезнь не позволяет ему добраться до Иерусалима, то он сам отправляется к нему навстречу. Ни с кем не посоветовавшись, кроме, разумеется, Жанны, которая ничего мне о том не сказала, он решился лишить Лузиньяна имущественных прав и таким образом полностью разрушить его надежду примерить иерусалимскую корону. Это был единственный способ упрочить за маленьким Бодуине его незыблемые права. Но для того, чтобы возмездие воплотилось во всей полноте, ему было необходимо лично, невзирая на разложение тела, исполнить это мучительнейшее из всех заданий: речь шла о том, чтобы отсечь от себя всю свою фамилию в Монт-Руаяле и затем отречься от собственной крови! Если бы он доверил эту миссию Триполи, того обвинили бы в ревности. Клевета могла найти здесь себе пищу и разгласить, что и после смерти короля Раймон поведет себя так же и воспользуется состоянием своих вассалов, дабы удовлетворить ненасытную жажду земельных приобретений. Проведенная же Бодуэном кампания могла быть только карательной, бесспорной, вполне заслуженной, и дурным языкам оставалось бы только молчать. Наперекор мольбам лекарей, уверявших его в том, что он не сможет довести предприятие до конца, и слез, что не смогла сдержать на этот раз Жанна, он поднялся на носилки и отбыл. Как ни странно, все обошлось без обычных причитаний королевы-матери. Но эта покорность никого не обманула.
Жанна в мужском костюме последовала за нами. Бледность и молчаливая апатия настолько разнились с ее обычной живостью и всем пышущим здоровьем обликом, что даже старые бароны, при всей их суровости, были встревожены. Во время дороги с ней несколько раз повторялись те приступы слабости, что обычно охватывали короля, и я должен был поддерживать ее, чтобы она не выпала из седла.
— Ох уж эти мне женщины со своими месячными! — брякнул все же один из них, вызвав кое у кого смех.
Взглядом я заставил их замолчать. Когда мы отъехали в сторону, я обратился к ней:
— Друг мой, что с вами?
— Со мной то, что он умирает. Я не могу даже причесать его: волосы отпадают с кусками кожи, питавшей их. Этот признак последней стадии болезни говорит мне о том, что дни его на исходе, но я не могу поверить, что скоро останусь одна.
— У вас останется по крайней мере один верный друг. О! Я не попрошу вас о дурном. Я даже не стану пытаться изгладить воспоминание о короле из вашей памяти. Мне достаточно одной дружбы.
— Дорогой Гио, прости меня, но я могу любить только его.
— Короля не станет, и я оставлю свою должность оруженосца. Если вы захотите, мы вернемся во Францию, в Молеон. Я стану воином из охраны поместья и буду желать только одного: служить вам и быть рядом с вами. А если вы предпочтете остаться в Святых Местах, и я останусь подле вас. Куда бы вы ни направились, я последую за вами из любви к королю.
— Пойдешь ли ты туда, где я скоро окажусь?
— Вы должны жить!
— А кто говорит о смерти?
— Церковь запрещает пресекать свою жизнь.
— О, разуверься, я слишком тороплюсь в рай, где он будет ждать меня, чтобы подвергаться проклятию. Ибо единственное мое упование — воссоединиться с ним… Гио, я устала, это правда. Я жажду покоя.
По обычаю Бодуэн три раза ударил во врата Аскалоне перчаткой, надетой на беспалую руку. Они оставались закрытыми. Горожане высыпали на стены, превозмогая в себе желание открыть ворота, противоречащее их клятве перед графом Ги. Лузиньян не отвечал на призывы, но насмерть перетрусивший из-за своей же непокорности, не осмеливался показаться на глаза. Покориться же ему не позволяла предательница Сибилла. Никто не знал, о чем толковали между собой супруги в этих обстоятельствах, в какой грязи был вывалян несчастный Лузиньян, какими издевательскими и злобными речами они обменялись. Так или иначе, город со своими окаменевшими жителями по стенам, со своими неуверенными, не знавшими, что делать, солдатами оставался закрытым. Король, пощадив его и избавив от позора осады, протрубил отход к Яффе, другому фьефу Лузиньяна. Здесь же город не просто сдался нам, но его войско и жители вышли навстречу торжественной процессией и с почестями передали его ключи. Так Яффа перешла во владение Бодуэну, и он назначил там королевского наместника. Лишенный главного своего владения, отрезанный от мира в Аскалоне, среди враждебного народа и ненадежных вассалов, Лузиньян с этих пор не мог нанести ощутимого вреда. И все-таки король решил покончить с ним. В Сен-Жан-д'Акре он созвал парламент, чтобы возвестить на нем о низложении Ги и подтвердить правление Триполи. Патриарх Ираклий, командор тамплиеров Арно де Торрож, а также и Роже де Мулен, Великий Магистр госпитальеров, высказались в поддержку Ги. Они припали к стопам короля и умоляли его позволить Ги возместить причиненный ущерб. Он отказал. Рассерженные ходатаи оставили парламент. А между тем Бодуэн решил послать их на Запад, чтобы снова просить о немедленной помощи короля Франции Филиппа Августа, английского монарха Генриха Плантагенета, императора Фридриха Барбароссу и папу Луция III. Только этот грандиозный крестовый поход величайших монархов мира мог бы сокрушить Саладина и обеспечить выживание королевства. Он мог бы стать и поводом для примирения этих могущественных венценосных соперников. Покинув зал, согласившиеся на эту срочную миссию Ираклий, Торрож и де Мулен отложили ее тем самым на неопределенное время, чтобы досадить и помешать королю.
Немного погодя, осознав, что ни мольбой, ни молитвой он не добьется снисхождения от прокаженного, граф Яффский решил отомстить ему. И он это сделал по-своему, то есть подло и низко, может быть, по наущению Сибиллы. Зная, сколь дорог королю мир с Саладином, они попытались уязвить его именно с этой стороны. С согласия короля, получавшего известную дорожную пошлину, аравийские бедуины пасли свои стада вблизи замка Дарун. Будучи уверенными в своей безопасности, они не предпринимали никаких мер предосторожности. Арабы всегда верили в честность и прямоту Бодуэна. Лузиньян напал на них со своими рыцарями, которые убили многих пастухов и забрали все, что только могли найти.
Это ужасающее преступление, эта роковая ошибка — в том затруднительном положении, в коем мы пребывали, — удвоила гнев короля и окончательно упрочила статус графа Триполитанского. Бодуэн же лишился последних телесных сил; конец его был омрачен:
— Увы, — говорил он, — это был не просто нелепый хвастун, которому прощают все из-за его глупости! Он — враг пострашнее Саладина, ибо не признает никаких доводов, даже во имя тревоги о собственном будущем.
По вине патриарха и командоров парламент Сен-Жан-д'Акра не завершил своих дел. Король же впал в медленную агонию, с каждым днем разлагаясь все больше и больше, но сохраняя при том полное сознание и любовь к Святой Земле. Он созвал своих баронов на последний совет, прошедший у изголовья его одра. Над его изменившимся уже до неузнаваемости лицом и мертвыми глазами сверкала корона Иерусалима, которую он пожелал надеть, чтобы придать возможно большую торжественность собранию. Терзаясь, он поведал об ошибках и преступлениях Лузиньяна и сказал, что не может оставить после себя ни капли власти, ни даже слабой на нее надежды этому разорителю королевства. Сказал он также, что настало время отвести маленького Бодуине, его племянника, ко Гробу Господню и там короновать его, чтобы впредь никто не зарился на корону и не оспаривал бы его суверенных прав. Все одобрили это; он же продолжал:
— Как тяжко лишать прав своих ближайших родственников, разглашать их бесчестье! Я требую вашей клятвы в полном послушании Раймону Триполитанскому на время малолетства Бодуине.
Единодушно, в один голос, они поклялись в том. Кто посмел бы возражать, чье сердце не сжалось бы от жалости и не забилось бы от восторга при виде этого расстающегося с жизнью венценосца? Один из них — родственник Ибеленов, старый сеньор со страшным шрамом, рассекавшим лицо его пополам, — осмелился попросить:
— Прекрасный государь, досточтимый и уважаемый король наш, позвольте вашему старейшему вассалу сказать то, о чем думаем все мы здесь.
— Говорите смело, прошу вас.
— Если Бодуине перейдет в мир иной преждевременно, не дожив до совершеннолетия, кто будет править нами?
— Вот мудрое предвидение и вопрос, отнюдь не преждевременный и достойный спрашивающего. Однако я содрогаюсь при мысли о том, против чего придется тогда воевать и на что решаться, сеньоры!
— На устранение вашей сестры Сибиллы, из-за Ги! — воскликнуло несколько голосов.
Было решено, что в случае смерти ребенка в течение десяти лет регент Триполитанский сохраняет свои полномочия, вплоть до того, как папа, германский император, короли Англии и Франции сообща не назначат наследника Иерусалима. Тогда Триполи сказал:
— В таком случае я не могу взять на себя охрану Бодуине, ведь если он умрет, меня обвиняет в содействии тому ради продления собственной власти.
Но король уже изнемог от этих переговоров. Спешно сговорились доверить ребенка Жослену де Куртенэ, сенешалю, дабы оградить от подозрений Триполи. И никто, даже некогда столь проницательный прокаженный король с внезапно померкшим рассудком, не предчувствовал тогда, к чему это приведет очень скоро, через каких-нибудь несколько месяцев.
Однако король превозмог слабость и утвердил распоряжения по поводу коронации Бодуине. Он озаботился маленьким ростом принца и сказал:
— Негоже, чтобы бароны заслоняли собой нового короля. Балиан д'Ибелен, с вашим прекрасным ростом, именно вы понесете мальчика на руках, чтобы собравшийся народ хорошенько рассмотрел его.
И в точности так, ла руках Балиана, маленький Бодуэн V был внесен в храм Гроба Господня среди волнующейся толпы, умилявшейся этому королю-младенцу и воздававшей почести Раймону Триполитанскому. Прокаженный потребовал, чтобы его помазали и причастили, потом передал свою корону Господу, а затем возглавил традиционное пиршество баронов. Следуя тому же обычаю, знатнейшие из горожан должны были прислуживать новому королю за столом. Все выполнялось по его воле, и важно было придать законность церемонии. После еды бароны снова приветствовали Бодуэна IV. Сам он отказался от посещения Бодуэна V из-за боязни заразить его. Услышав всхлипывания среди присутствующих, он сказал:
— Не нужно причитаний, братья мои по оружию и товарищи; радуйтесь тому, что избавление близко… Я сделал все, что мог. Триполи и остальные сделают лучше… Великие короли Запада возьмут на себя крест, я это чувствую и обещаю вам! Мужайтесь и любите друг друга… Честь превыше жизни, мои бароны. Я прошу вспоминать об этом в часы унынья и сомнений… Прощайте… Окажите мне милость и дайте мне отдохнуть. Идите в залы и в сад; это ненадолго. Благодарю вас за ваши услуги, за ваше присутствие.
Он оставил подле себя только Триполи, да и того вскоре отпустил. Рука Жанны сжала мое плечо, она прошептала:
— Ты слышишь, как ясен его голос?
— Это чудо!
— Бедный Гио, это чудо конца!
Он говорил:
— Триполи, будьте бдительны! Не обманитесь переменчивостью поведения моей сестры, не попадитесь в ее ловушки. Она лжива и скрытна, она ненавидит меня. Постарайтесь, чтобы королевство не оказалось втянуто в бесполезные войны.
— Мне дорог мир, так же, как и вам.
— Я знаю это, но для воинственного рыцаря искушение слишком велико; именно им смущает нас демон… Сделайте так, чтобы к совершеннолетию Бодуине получил свое наследство полностью. Вы отвечаете за это перед Богом!
— Я отвечаю за это, мой государь.
— Тогда приступайте к вашим обязанностям, граф Раймон. Недостатка в работе у вас не будет. Возьмите печать королевства… Возьмите также этот ключ от шкатулки, где хранятся мои договоры, а также официальная и секретная переписка с западными и аравийскими князьями. Через нее вы поймете мои намерения и способ правления.
— Я не отступлю от него!
— Дай-то Бог.
После ухода Триполи он расстроился и заволновался.
— Патриарх Ираклий отсыпается после вчерашних возлияний, моя мать делает вид, что не замечает моей агонии. Она затаилась где-то и придет рыдать и причитать только над моими останками… чтобы наказать меня. Изабелла здесь, во дворце, но тоже не желает прийти… Какое одиночество, разве я хотел и заслужил его?..
Жанна ответила:
— Мой король, вы не один. Как всегда, мы с вами.
— Кто еще с тобой?
— Оруженосец Гио.
Король повернул голову и протянул ко мне обрубок руки:
— Мой верный друг, Гио, вместо благодарности я попрошу у тебя еще об одной услуге. Но я уверен, что твое великодушие неисчерпаемое.
— Говорите, государь. Я согласен на все заранее.
— Проследи за тем, чтобы Жанна ни в чем не нуждалась. Следи за ней, ибо что с нею станется без меня? Те, кто оставил меня в такой час, унизят, сожрут ее. Я не хочу, чтобы она попала… чтобы ее отвели… Жанна, надо ли говорить это Гио?
— Надо, мой король.
— Ухаживая за мной, она заразилась от меня проказой. Она считает так, по крайней мере. Но я не видел ни единого следа ее болезни. Да, я уже давно ослеп! Я не хочу, чтобы ее отвели в дом прокаженных, ей надо доставить мирное убежище с садом, где бы она гуляла и молилась совсем одна. Ты, Гио, будешь относить туда пищу, навещать ее и говорить с ней. Возьми это золото на расходы. Я знаю их, они не оставят ей ничего.
— Я так и сделаю, государь. Все будет, как вы хотите.
Стон вырвался из его груди. Его тело мученика несколько раз содрогнулось. Жанна осторожно стирала пот с этого лица, напоминавшего теперь погасшие угли, подернутые пеплом. Чувствуя прикосновение ее пальцев, умирающий затих. Что-то напоминающее улыбку скривило его распухшие губы. Он проговорил еще:
— Мне жаль покидать тебя. Это единственная моя боль.
— Не стоит того, мой государь.
— Дашь ли ты мне еще услышать в твоих устах сладкое имя супруга, назовешь ли ты меня снова своим мужем? Пусть это будут последние слова, что услышу я на этом свете!
— Бодуэн, мой нежный супруг, сегодня же ты пребудешь у Отца твоего предвечного. Власть твоя превзойдет наше земное разумение.
— О, Жанна, нежнейшая моя жена, говори, говори еще!
— Когда ты позовешь меня, всем сердцем, что любит тебя, и всем существом, что тебе обещано, я устремлюсь к тебе. И тогда, рука об руку, мы сможем возблагодарить Господа Бога за милость, оказанную нам.
— Какую же, моя возлюбленная?
— За то, что Он дал нам возможность любить друг друга вечно, вне всякой плоти!
— О, нежная, нежнейшая подруга моя навеки…
И пока произносил он эти слова, душа его рассталась с телом. Подобно веселому жаворонку, трепеща крылышками взмывающему поутру навстречу солнцу, она отлетела от нас…
В этом месте Гио всегда не хватало дыхания. Чувства и воспоминания одолевали его. Слезы поблескивали у него на ресницах и стекали по щекам. Он складывал руки. Отзвук немой молитвы замирал на его беззвучно шевелящихся губах. Он погружался в молчание, и никто не осмеливался прерывать его; каждый оставался наедине со своими мыслями и размышлениями, не сводя глаз со странного человека, столь глубоко погруженного в воспоминания, что, казалось здесь, в глубоком кресле молеонской обители, присутствует лишь его земная плоть, ибо душа его была далеко: в песках, под масличными деревьями Иерусалима. За его спиной языки пламени лизали поленья, их отблески плясали по сводам и белым плащам рыцарей. В его же глазах отражался иной огонь, иное тепло согревало его сердце…
То, что осталось рассказать, терзает мою душу. Тем не менее я должен поведать вам это, чего бы мне то ни стоило, не обрывая рассказа со смертью короля. Но где кончается трагедия? Мы проводили прокаженного в его последний путь при многоголосом церковном пении, при факелах. Его похоронили в склепе иерусалимских королей — Годфруа Бульонского, Фолка, Амори и других, — расположенном между Голгофой и Гробом Господним. Здесь, в ожидании воскресения плоти, упокоилось его тело, в тех самых местах, где Муж Скорби принял свои крестные мучения и был положен во гроб. Жанна, омертвелая более самого мертвеца, цеплялась за мою руку. В момент, когда Бодуэна, одетого в его королевскую мантию, опустили в могилу, когда плита накрыла то, что было некогда славнейшим и достойнейшим из наших князей, за исключением Иисуса, Жанна уронила голову на мое плечо, и я испугался, что она умрет здесь же. При этом она не издала ни единой жалобы, не испустила ни одного демонстративного стона, в противоположность королеве Агнессе, испускавшей ястребиные крики, в то время как потоки слез набегали на ее веки. Затем имел место королевский прием, на котором регент, Раймон Триполитанский, и бароны принесли присягу Бодуине. К шестому часу, когда мы остались вдвоем в опустевшей комнате Бодуэна, в сопровождении вооруженных людей сенешаля к нам вошли лекари. Они имели приказ осмотреть нас, вследствие нашего долгого пребывания рядом с королем. Меня посчитали незатронутым никаким недугом. Но Жанну, обнаженное тело которой открыло взору скрытые омертвения и раны, признали прокаженной. Я помчался к графу Триполитанскому и передал распоряжения Бодуэна о ее обустройстве. Он одобрил то, что я просил для нее. Он сделал это из почтения к покойному королю, а не под влиянием моего красноречия. После того, как пропели молитву у Гроба Господня и посыпали ее голову пеплом, она была уведена, но не в приют прокаженных на Иерусалимских холмах, а на любимую ею Авессаломову могилу, где остановилась она когда-то в давние дни. Как и хотел того король Бодуэн, вблизи того памятника был светлый сад, обсаженный кипарисами и масличными деревьями. Она могла там гулять, молиться и думать в тишине.
28 ПРЕДАТЕЛЬСТВО РЕНО
Дальнейшее крестом давит на мои плечи, и ничто не облегчает этой ноши — ни отдаление самих событий во времени, ни то возвращение в детство, в которое, по слухам, впадают люди моего возраста и которое, как мне кажется, действительно посещает меня временами. Ибо, повторяю я вам, в этом действе, что разворачивалось при моем живейшем участии, добро и зло столкнулись друг с другом, с тем, чтобы в конце концов кануть в вечности.
Так вот, я был принят на службу к графу Триполитанскому, но с условием не удаляться более чем на два дня из Иерусалима, ибо на мне лежали заботы о Жанне. Почти каждое утро я покидал город и через Сионские врата, через долину Иосафата я направлялся к Авессаломовой могиле, ставшей прибежищем Жанне. Из-за высокой крыши, напоминавшей шлем с шишаком, ее было видно издалека. Здесь, среди зеленеющих, цветущих холмов возвышался ряд прекрасных кипарисов, и покрытые пыльцой масличные деревья давали свою тень. Совсем рядом был сад Жанны. Чтобы попасть туда, ей нужно было только перейти дорогу, гремя своей колотушкой. Часто она уходила туда до зари — ради того, чтобы никого не встречать на своем пути, а особенно чтобы избежать зрелища испуганных детей, разбегавшихся при виде ее капюшона и знака прокаженной. В саду она выращивала цветы и целебные травы. Там была каменная скамья, на которой она любила сидеть в задумчивости. Именно там я навещал ее. Пока мы говорили, я опускал глаза, чтобы не видеть наступления ее недуга, не замечать ни бугров на висках, ни зеленоватого оттенка и загрубения щек, ни самого этого темного лика, некогда цветущего и сияющего, ни настораживающей судороги одной из ее рук. Я отважился спросить:
— Жанна, может быть, я позову к вам лекаря? Я заплачу ему из денег короля.
— Я знаю, как о себе заботиться. Мне ничего не нужно.
— Не понадобится ли вам моя помощь в этом?
— Нет, дорогой Гио.
Мне показалось, что ее проказа протекала иначе, чем у короля, что накопившаяся усталость и горе обострили ее, и я испугался. В свой черед, я не смог избавиться от мысли, что мы скоро расстанемся; эта тоска мучила меня, как рыдание, застрявшее в горле. Будь моя воля, я провел бы с ней весь остаток дней, полагая каждый из них слишком ценным, чтобы тратить его на что-то еще. Но Жанна — увы! — всегда мягко выпроваживала меня:
— Гио, любезный друг, граф Триполитанский будет недоволен твоим отсутствием.
— Отнюдь нет. Он любит и уважает вас.
— Оставаться рядом со мной — значит вдыхать дурной воздух. Если недуг охватит тебя, кто охранит Жанну? Ты помнишь о своем обещании королю?
Но, как это было и с Бодуэном, когда проказа особенно допекала ее, характер Жанны становился мрачным, и она погружалась в печальные мысли:
— Рено, пребывая на вершине своей славы, был у меня всего лишь раз. Он меня стыдится, я пугаю его. Ты знаешь, когда мы с ним говорили, он напомнил мне свои предостережения и упрекнул в неосторожности. Он держался от меня в трех шагах и прикрывал рот платком. Наши пахари и дровосеки тоже навестили меня лишь однажды: моя короста быстро остудила их привязанность. Но я упрекаю их в том меньше, чем брата…
Так прошло лето, затем осень и зима. Начался новый год. Теплые, позолоченные закатным солнцем вечера сменились ледяными ветрами, дующими из пустынь, несущими песок, от которого горит и сжимается горло. Я все носил мясо, бутыли с вином и водой, мягкий хлеб, хранящий еще аромат пекарни, фрукты, а по погоде — и древесные уголья. Регент Триполи, одобряя мою верность, — впрочем, вполне естественную, — и желая поощрить меня, передал мне сперва Часослов покойного короля, затем — его перстень, который тот не снимал с руки: он был украшен опалом, желтый цвет которого вдруг вспыхивал той пронзительной голубизной, что сияет на небе, когда грозовые тучи отходят к дальним холмам, а травы зеленеют, листва расправляется, птицы принимаются петь. Я надел это кольцо ей на палец, и мне показалось, что сам я стал прокаженным королем. Что же до книги, то она приложилась к ней губами, будто бы то была священная реликвия; да и вправду, она была ею. Она принялась ее листать. Во многих местах на пергаменте виднелись пятна. Она знала и помнила о том, когда и как появилось каждое из них. Когда же она наткнулась на строку, подчеркнутую его рукой, то не смогла удержать слез. Но мне показалось, однако, что это были слезы радости.
— Это его девиз, — проговорила она, успокоившись. — Он говорил, что эти слова указуют ему его долг ему, ведавшему лишь труды и мучения. Он никогда не думал, что сделанного уже достаточно…
Пока она говорила, рядом по ветке прыгала полевая птичка. Она опустилась к подножию кипариса и стала склевывать с земли зернышки и червячков, она совсем нас не боялась, просто жила своей птичьей жизнью, беззаботное дитя заоблачных высот. Нам же, лишенным крыльев человеческим созданиям, оставалось лишь любоваться ею и пребывать в нашей земной безысходности.
Часто, слишком часто Жанна спрашивала меня:
— Как ты думаешь, сдержат ли бароны свою клятву королю? Как ведет себя королева Агнесса? Что делают Лузиньян и его супруга Сибилла? И где мой брат Рено?
Слишком замешана была она, поверенная Бодуэна, в политические события, чтобы вдруг потерять к ним всякий интерес. Она имела достаточно оснований для беспокойства о поведении брата, неразборчивость в связях и средствах которого оскорбляла ее. Она считала себя ответственной за него перед Анселеном, справедливо видя в нем ребенка, все еще не вполне расставшегося со своим детством.
— Как идут его дела, доволен ли он ими?
— Регент оценил его достоинства и расширил полномочия. Рено стал завсегдатаем у сенешаля де Куртене, на дочери которого он собирается жениться, когда та войдет в должный возраст.
Но было сказано, что героические усилия, терпение и жертвы не приведут ни к чему, и все то, что предусмотрел, подготовил, решил и завещал король, разлетится в прах. В конце лета в Сен-Жан-д'Акре умер Бодуине. Ребенок слыл болезненным, и Жослена де Куртенэ нельзя было обвинить по форме в этой смерти. Однако событие застало врасплох только Раймона Триполитанского, поглощенного заботами своего правления. Лишив наследственных прав свою сестру Сибиллу из-за ее Лузиньяна, прокаженный склонялся к тому, чтобы назначить графа преемником младенцу-королю, в ожидании приговора четверки западных владык. Путем интриг и перевертышей Жослен добился дружбы регента. Он предложил взять на себя сопровождение останков Бодуине в Иерусалим, с тем, чтобы Триполи собрал свои войска в Тивериаде и вошел с ними в Святой Град, а устрашив этой демонстрацией силы своего соперника Лузиньяна, взял и укрепил бы свою королевскую власть. Триполи был слишком честен, чтобы почувствовать тут подвох. Он сделал так, как советовал ему сенешаль, и позволил тому отбыть в Иерусалим с маленьким гробиком. Де Куртенэ же одновременно спешно выслал своего верного друга, преданного ему лично, к Сибилле и Лузиньяну. Он предупреждал их, чтобы они поторопились в Иерусалим и, воспользовавшись похоронами Бодуине, захватили бы власть. Все и вся было уже готово принять их и ускорить коронацию: патриарх Ираклий, престарелый Рено Шатильонский и Жерар де Ридфор, новый магистр тамплиеров. Из предосторожности ворота города были закрыты. Правда, возникло и непредвиденное затруднение: командор ордена госпитальеров, хранивший ключи от королевской сокровищницы, где находилась, в частности, и Большая корона иерусалимских королей, решительно отказался быть соучастником того, в чем он видел грубое и беззаконное попрание заветов Бодуэна IV. С ним долго велись переговоры; в конце концов госпитальер бросил ключи на пол и заявил, что отказывается участвовать в этой шутовской коронации. Но сторонникам Сибиллы иного и не было нужно. Ираклий мог теперь короновать ее. Затем она вызвала Ги де Лузиньяна и заявила:
— Сеньор, идите и получите эту корону, ибо я не знаю никого более достойного ее.
Красавчик воздал любезностью за любезность и, подобно тому, как изображаются такие сцены на миниатюрах пергаментов, преклонил пред своей Дамой колена и получил из ее белых ручек корону Годфруа Бульонского! В то время как магистр Храма — да простит ему Бог, если это возможно! — изрек:
— Эта корона стоит наследства Бутрона!
И именно на это ссылаются с тех пор судьи, вынося ему приговор перед Историей. Ибо, прибыв в Святую Землю, Жерар де Ридфор стал служить графу Триполитанскому. Тот, без задней мысли, обещал женить его на наследнице сеньора Бутронского, но вдруг предпочел отдать ее в жены некоему пизанцу, сторговавшему невесту за огромную сумму, как толковали некоторые — на вес золота. Уязвленный, заболевший от ярости Жерар стал тамплиером и вскоре за свое рвение был избран Великим Магистром, на место погибшего в сражении Торрожа. В общем, коронацией Ги он отомстил регенту. Вырвавшиеся у него слова свидетельствуют о его участии в заговоре и о том, что удар был подготовлен заранее. А отсюда вытекает, что в смерти Бодуине повинны все они, и прежде всего попечитель его сенешаль.
Когда новость эта распространилась, когда Триполи понял, что Куртенэ надул его, в Наблусе был созван совет. Именно на нем прозвучали слова барона Рамла, столь же отважного, сколь и прозорливого:
— Он не процарствует и года! Королевство погибло!
Триполи хотел избежать междоусобицы. Несмотря на то, что он имел право сам наследовать иерусалимский трон по материнской линии, он предложил избрать королем Онфруа де Торона, мужа Изабеллы и внука прославленного коннетабля! Так была бы соблюдена воля прокаженного — любой ценой отстранить Лузиньяна, в то время как династия продолжилась через мужа Изабеллы. Бароны одобрили это предложение. Но той же ночью, заранее напутанный предстоящим избранием, Торон бежал из Наблуса в Иерусалим. Почесывая за ухом, как провинившийся школьник, он предстал перед новоиспеченной королевой Сибиллой:
— Мадам, я не виноват! Они хотели принудить меня стать королем!
И Сибилла, слишком тонкая штучка, чтобы упустить такую возможность, захмурилась, но великодушно сменила гнев на милость:
— Хорошо, мой прекрасный сеньор Онфруа, на этот раз я вас прощаю. А сейчас представьтесь королю.
Сломленный этим предательством, Триполи удалился в свои владения, оставив все дела и обязанности, и, чтобы обеспечить свое будущее, завел самостоятельные переговоры с Саладином. Так я потерял своего последнего господина, ибо пойти за ним не смог, даже если бы захотел…
Я не имел права поступить так из-за Жанны. Она угасала. С тех пор, как красота ее стала меркнуть, я полюбил ее еще нежнее. Может быть, поэтому я старался не замечать, что жить ей оставалось недолго. На следующий день после коронации Сибиллы и Лузиньяна я нашел ее лежащей на скамейке подобно мертвой. Голос ее стал слабым и хриплым. Я заметил, что и правая ее рука, свесившаяся на песок, скрючилась в паучью лапку, как и левая. Ухо ее кровоточило, на шее и на плечах высыпали прыщи.
— Рено может быть сейчас только в Иерусалиме, — сказала она, — хотя бы потому, что они переманили его на свою сторону. Он не остался бы в Наблусе с проигравшими. Гио, передай ему, что я хочу поговорить с ним и требую, чтобы он пришел сюда, в сад. Уже давно пора! Я должна узнать! Если он будет раздумывать, скажи, что я прошу его в память о нашем общем детстве… Скажи ему…
Рено не поторопился с приходом. Я был вынужден неоднократно напоминать ему о том и почти каждый раз натыкался на грубый отпор. За это время он преуспел. Благорасположение Сибиллы и Лузиньяна к нему росло. Ему было обещано уж не знаю какое большое владение в Галилее. Просьбы прокаженной сестры только омрачали его новое счастье. Однако он уступил моему упорству и едва сдерживаемым упрекам. Он вновь появился в саду, и казалось, что песок и камни обжигают ему ноги. Со страхом и возмущением взглянула на него Жанна своими слезящимися, заплывшими глазами под воспаленными веками.
— Ты носишь знаки Лузиньянов? Ты отказался от нашего фамильного льва?
— Вовсе нет. Но я принадлежу королевскому дому, и этого требует король.
— Ты носишь его ливрею, как лакей?
— Я действую сообразно своей пользе.
— Ах, Рено, счастлив же наш отец Анселен! Он не увидит тебя!
— Но разве я ошибся в выборе?
— Ты даже не понимаешь меня теперь. Мы говорим на разных языках…
— Да как же ты, бедная моя сестрица, проводящая свои дни в этой могиле, среди деревьев, вдали от людей — как можешь ты понимать, как можешь судить о том, что хорошо, а что плохо?
— Я знаю, что думал о Ги прокаженный король, называвший его разорителем королевства. Ты знал это не хуже меня, однако именно этому ничтожеству ты служил и служишь, слепо бредя навстречу собственной гибели, сговариваясь с худшими врагами нашей земли — с королевой Агнессой и ее дочерьми, с Ираклием и Куртенэ, с Шатильоном и тамплиером Ридфором… Ты не отвечаешь мне?
— Болезнь помрачила твой разум, но я не сержусь на тебя, ведь я тебя любил и мучился, глядя на то, как ты губишь свою жизнь и отказываешься от возможности выйти в люди.
— Да, мы больше не понимаем друг друга. Однако, прежде чем уйти, выслушай меня… Когда умер младенец-король, один из рыцарей сенешаля предупредил Сибиллу и Лузиньяна. Это был ты?
— Да, сестра. Пока сенешаль сопровождал маленький гробик, я отправился к Сибилле и Лузиньяну. Я поторопил их в Иерусалим для воссоединения всего нашего лагеря. Принцесса, наша нынешняя королева, в один голос со мной убеждала своего супруга. А он только твердил: «На молоке ожегшись, и на воду будешь дуть». Именно я обещал ему корону от лица своих друзей: патриарха Ираклия, Ридфора-тамплиера и Жослена де Куртенэ, сенешаля. Видя, что он колеблется, я обещал ему вдобавок отставку и удаление его соперника, Раймонда Триполитанского. И только тогда, из ненависти, он уступил моим доводам, чем я и горжусь, не во гнев тебе будет сказано!
— Ах, замолчи, Рено, ради Бога!
— …И таким образом, новый иерусалимский король, по закону и обычаю коронованный над Гробом Господним, — мой должник.
— И ты это сделал?
— Жослен стареет. Дочь его пойдет за меня; сейчас ей только двенадцать лет, но она обещана мне, и на то есть письмо с печатью. И трех лет не пройдет, как я стану графом и сенешалем.
— Ты сделал это?
Голос Жанны хрипел и прерывался, подобно голосу короля Бодуэна.
— Каждый идет своим путем. Мой путь не из тех, что ведут к благородным, но напрасным жертвам. Когда здесь присутствующий Гио звал нас за собой в Святую Землю, не в мой ли адрес сообщил он о том, что тут можно и должно обзавестись богатым владением на службе Господу, это помимо райской участи? Я затвердил урок.
— И ты предал то, что было у нас самого дорогого, нашего несчастного и великого, нашего славного короля?
— Ты хочешь сказать, твоего прокаженного короля?
— Победителя при Монжизаре, спасителя королевства, единственной заботой которого было отстранение Лузиньяна от власти.
— Может быть, и так, но, выбирая между живым и мертвым, безумие предпочесть последнего и пойти к нему на службу.
— К каким же несчастьям приведет твой поступок!
— Бедная моя сестра, действительно, прокаженный щедро наградил тебя — и тело, и душу. Перестань наконец пророчествовать.
— Ну а ты, с твоим предательским сердцем, убирайся вон, раз и навсегда!
Он повернулся к ней спиной и зашагал прочь, с видом человека, сбросившего с плеч тяжелую ношу. Из-за невысокой стенки мы видели, как он вскочил в седло и помчался к Сионским вратам.
— Он больше не вернется, — сказала она. — Так лучше… Я отрекаюсь от него… Он обесчестил себя. Этот его поступок еще отольется ему кровавыми слезами… Он умрет, проклиная себя и Господа, задавленный своей ошибкой… Я говорю тебе это, Гио… Это гнетет и терзает меня… Он погибнет, и ничего из его бессмысленных мечтаний не сбудется…
Она погрузилась в свое горе и замкнулась в нем. Потом сказала:
— О, мой король, что сделали они с тобой! Где же ты теперь?
Ее охватила конвульсивная дрожь, становившаяся все сильней и сильней. Ноги ее подогнулись. Руки цеплялись за ствол масличного дерева. Она воскликнула:
— О, мой возлюбленный король!
Я помог ей прилечь на скамью. Но она была уже без памяти, дышала слишком часто, веки ее сомкнулись. Скоро сложенные на груди руки упали и свесились, потускневшие ногти заскребли песок тропинки. А грудь ее задыхалась и хрипела все сильнее и сильнее! В отчаянном и безумном порыве я прикоснулся к этой истерзанной плоти:
— Друг мой, где ты? Ответь, ответь!
Я приподнял веки и увидел побелевшие глазницы. Я приложил — в первый раз в жизни — свою голову к ее груди: сердце еще билось. Я бросился к моему вассанскому коню, пасшемуся в тени, и поскакал к Иерусалиму. Мне было необходимо найти врача, посадить его на круп лошади и доставить его в этот сад! Не настолько же продвинулась эта проказа, чтобы Жанна умерла так быстро! Ее просто сразила боль, что причинило ей предательство Рено. Она не умерла, она только лишилась чувств! Моих забот будет достаточно, чтобы она поправилась! Я не покину ее больше, даже если из-за этого недуг поразит и меня! Я обещал это…
Мне посчастливилось встретить одного из старых лекарей покойного короля. Он стал раздумывать, но мой сокрушенный вид и мои слова убедили его. Когда один за другим мы проникли в сад, в нем оказалось только мертвое тело. Жанна покинула этот мир в полном одиночестве, не дождавшись моего возвращения. Странное выражение счастья застыло на ее лице. Я запечатлел на нем свой первый и единственный поцелуй. А затем у подножия кипариса я вырыл могилу, столь глубокую, как только мог, ибо она, прокаженная, не имела права покоиться в освященной земле кладбища. Я положил ее туда. Во все время, что я трудился, на ветке рядом заливался соловей. Вот так, совсем просто, покинула Жанна эту землю.
Словами невозможно передать то, что выражал в эти минуты взгляд Гио. Капельки пота выступали у корней волос, в углублениях морщинок, в густых и косматых бровях. Вздохи вырывались из-под бороды. Иногда он прерывал свой рассказ на этом месте, не имея ни желания, ни возможности чего-либо добавить; единственным его стремлением было уединиться на своем солдатском лежаке с полосатым одеялом в общей спальне обители, освещенной единственной лампадой — лампадой Святого Духа, охранявшей сны рыцарей. Но иногда, глянув на внимательные лица вокруг, он продолжал. Прикрывая ладонями свои усталые глаза, перед которыми теснились мучительные образы; затем, опустив руки на колени, говорил:
— Нужно было, чтобы переполнилась чаша терпения! Ничто не в силах помешать ходу событий! Старый Рено де Шатильон ограбил богатейший караван, шедший из Каира в Дамаск. Саладин потребовал от него возместить ущерб. Шатильон отказался. Это была война, но без почившего прокаженного короля, без отстраненного Триполи. Кто мог защитить нас? Наши ошибки множились. По глупости Ридфора тамплиеры были сокрушены у Крессонского источника, и головы их поднялись на концах пик Саладина. Тивериада пала в одночасье, и графиня Эшива, супруга Раймона Триполитанского, затворилась на самой верхушке донжона. Король Ги де Лузиньян, примирившийся с бывшим правителем, хотел пойти на помощь Тивериаде, но граф Раймон возразил:
— Государь, я дал бы вам совет, но я уверен заранее, что вы не послушаете его.
— Все равно, говорите.
— Хорошо, я советую вам сдать Тивериаду. Тивериада моя. Госпожа ее — моя жена. Она там, вместе с моими детьми и моей сокровищницей. Значит, никто более меня не заинтересован в том, и никто не пострадает более меня. Но я знаю, что если мусульмане захватят ее, то не сумеют сохранить. Они сроют укрепления — я снова возведу их. Если они захватят мою жену и моих детей — я отомщу им. Я предпочитаю видеть жену мою пленницей и город мой в руинах, нежели погибель всей Святой Земли! Ибо, если сейчас вы выступите на Тивериаду — вы пропали. Местность мне известна. По пути нет ни малейшего источника воды. Ваши люди и лошади умрут от жажды прежде, чем их окружат мусульманские полчища!
— Предательство! — воскликнул Жерар де Ридфор. — Предательство! Драгоценный государь, разве не видны здесь волчьи клыки? Триполи продался Саладину; он вел с ним переговоры.
Однако слабохарактерный Лузиньян, несмотря на наветы магистра тамплиеров, склонялся, по всей видимости, к доводам Триполи. На этом и расстались, полагая, что мудрость восторжествовала. Но очень скоро келейно, в одиночку, Ридфор возобновил свою атаку:
— Мой государь, не слушайте графа. Он — предатель, и его советы имеют целью обесчестить вас, удержать в трусливом бездействии.
Для Лузиньяна вернее всего было то, что последним легло на душу! Среди ночи, при общем недовольстве и смущении были свернуты палатки и взято направление на Тивериаду. Как и утверждал Триполи, весь день мы продвигались под палящим солнцем — было начало июля, — не встречая на своем пути воды, чтобы утолить жажду и напоить наших лошадей. Изможденные, к вечеру мы подошли к горе Хаттин и остановились. Войско же Саладина располагалось в прохладе по берегам Тивериадского озера. Всю ночь мы промучились жаждой. Кони наши тревожно ржали. На заре, воспользовавшись удачным направлением ветра, Саладин поджег траву и усугубил наши мучения палящим жаром и дымом. Чтобы добраться до сверкающей глади воды, мы предприняли атаку. Но войско Саладина было подобно океану. Оно нас захлестнуло, опрокинуло натиском неудержимых клинков. Тех, кто не погиб в этот день Хаттина, привели пленными к Саладину. Триполи спасся чудом, а с ним и мы. Мы — это ваш покорный слуга, снова ставший к тому времени оруженосцем, и двое крестьян из Молеона, поддерживающих своего серьезно раненного хозяина. Остальные же, последовавшие за Рено, были мертвы или попали в плен. Меня же спас от этой страшной участи мой быстрый и выносливый васанский конь. Мы скакали, сколько могли, в направлении Триполи, и там, изнуренный этой бешеной скачкой, умер мой конь, а также один из крестьян, о которых я говорил. Послушный закону, он следовал за своим господином Рено, наследовавшим Анселену, и охранял его; но что-то не попадался он мне в покоях Монт-Руаяля. Я сделал для моего коня то же самое, что и для Жанны: своими руками вырыл могилу и нежно и благоговейно, со слезами и вздохами, похоронил его. В это самое время Саладин захватил Сен-Жан-д'Акр, Яффу и Бейрут, затем Аскалон. Он шел на Иерусалим. Что могло спасти его? Почти вся франкская конница погибла при Хаттине. Святой Град пал. Большой золотой крест, знаменовавший наше могущество, был свержен. Граф Раймон умер от отчаяния. От королевства остался только город Триполи, а еще Тир, Антиохия и неприступный Крак рыцарей-госпитальеров…
Очень скоро император Фридрих Барбаросса, короли Англии и Франции выступили к нам на помощь, но мы не ведали того, считая себя обреченными погибнуть от сабель Саладина. Но это, впрочем, уже совсем другая история.
Рено получил удар копьем в плечо, кости его были сломаны, сосуды разорваны. По его просьбе его отнесли в лечебницу тамплиеров. Он позвал меня туда через одного из рыцарей, который, заметив мою уклончивость, сказал:
— Мы сделали все, что было возможно, но рана засорилась; он при смерти. Идите, не медля, милый брат Гио; надо быть милосердным.
В его комнате находились лишь пожилые рыцари и новички, те, кто не погиб при Хаттине, а также капеллан обители. Слабым голосом Рено попросил, чтобы нас оставили на время одних. На что он надеялся?
— Дорогой брат Гио, мой оруженосец, вот и ты, наконец! Значит, ты не настолько презираешь меня, что согласился выслушать?
— Я помню только наши дни в Молеоне.
— В последний раз, когда я видел Жанну, она сказал мне все! Почему же я не послушал ее?.. Что же это было, по-твоему, а? Жанна — это ангел, ведь правда?
— Я не знаю, рыцарь Рено.
— Она была никак не меньше, чем ангел. Но тогда я не мог понять этого, черная кольчуга гордыни облекала меня всего. Ты помнишь? Она предсказала все несчастья, проистекшие из моего поступка. И первое из них это то, что она скончалась от горя, которое я причинил ей. Ибо правда в том, Гио, что я обесчещен, не достоин ни жалости, ни снисхождения.
— Ваша крайняя юность вступиться за вас перед Господом. Вас завлекли и обманули старые криводушные люди своими сладкими речами. Они и ответят за ваш проступок.
— Не жалей меня, прошу тебя. Пусть тяжкая ошибка сокрушает грудь, пронзенную сарацинским копьем…
На его ложе был раскинут белый плащ храмовника с кроваво-красным крестом посередине. Сверху на раненого были устремлены незрячие глаза распятия, столь древнего, так источенного червем, что древесина шелушилась и коробилась местами.
— Да, — проговорил Рено, — он смотрит на меня, и знаешь, временами, когда меня охватывает лихорадка, он кажется мне слепым прокаженным королем, и уже несколько раз в моей болезненной слабости я вскрикиваю от ужаса, тревожа сон братии: они думают, что я умираю. А в прошлый раз рана моя снова стала кровоточить.
— Успокойтесь, милый брат Рено. Я ведь не ошибаюсь, вы теперь рыцарь Храма?
— Да, они позволили мне стать им. Они собрались в этой комнате вместе со своим новым командором. В их присутствии я обвинил себя в предательстве Бодуэна IV. Капитул простил меня, решив, что я действовал по приказу де Куртенэ. Я возражал, ибо вызвался сам и предложил свои услуги Сибилле и Лузиньяну, что решило все и повлекло за собой гибель королевства. Старейшина Ордена встал на мою защиту и сказал, что никогда не знаешь, что воспоследует даже из самых пустячных речей. А затем, видя приближение моего смертного часа, из братской любви пойдя навстречу моему горячему желанию, они вручили мне белый плащ.
— Вы до сих пор испытываете это желание?
— Плащ этот соткан из такой белоснежной шерсти, что напоминает мне снега Молеона, но изнутри земля таинственна и темна, полна обманов и злобных, копошащихся в ней чудовищ. На нем алеет крест, как раненая птица пятнает снег, на который упала. Но птица умрет, кровь перестанет течь, а крест этот будет кровоточить вечно о поруганной непорочности, о напрасной жертве, о наших грехах и предательствах.
— Не вы один, Рено! Кто так или иначе в своем земном существовании не предавал Христа словом или делом?
— Один я предал прокаженного короля! Без меня Куртенэ ничего бы не смог…
— Тамплиеры исцелят вас. У них прекрасные средства, и они любят вас. А потом вы искупите вашу вину. Быть может, это и был ваш жребий, приведший вас сюда — совершить ошибку и раскаяться в ней здесь?
— Нет, Гио! Я не выздоровлю. Я не хочу этого. Я сомневаюсь в себе. Я предал короля, я могу предать и этот великолепный Орден, принизить его своим презренным примером. Так уж пусть я исчезну.
— И все же надо выздороветь и смириться. В вас говорит гордыня, и она же сокрушает вас отчаянием.
— Я думал, что белый плащ принесет мне душевный покой и забвение. Но мне будет стыдно надеть его, прикрыть его чистотой свою мерзость. Ты понимаешь это?
— Вы не будете больше распоряжаться самим собой. Ваш новый господин — не подлец вроде Куртенэ. Он не будет льстить вам, чтобы подцепить вас на крючок.
— Я повторяю тебе, что не рана гнетет меня; это душа моя расстается с телом. Я исповедался капеллану, но я не обрел успокоения! Потом я позвал законников и по завещанию отписал молеонской обители все наше достояние. Тамплиеры этого дома станут хозяевами моего леса, моих доменов, моего дома! Но я не обрел покоя. Мне осталось лишь избавиться от этой жизни, ставшей невыносимой, ибо я ненавижу себя…
Немного погодя он добавил:
— Гио, я боюсь, как бы виконт де Мортань не помешал чем-либо этой передаче, не опротестовал бы ее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Молеон и отнес бы туда твое свидетельство о моей последней воле и проследил бы за ее исполнением.
— Хорошо, сеньор Рено, я возьмусь за это.
— Веришь ли ты, как и я, что этот дар избавит меня от вечного проклятия?
— Я верю в это, ибо он свидетельствует о вашем раскаянии.
— Ты отвезешь обратно всех наших людей, что остались в живых.
— Остался единственный лесоруб. Все остальные погибли в скалах Хаттина.
— Да узрят они Бога! Расскажешь ли ты там, как я предал прокаженного?
— Я скажу все, как было, Рено, а именно, что из живого и мертвого королей вы выбрали первого. Многие поступили бы так же, как и вы, не имея в свое оправдание даже ваших юных лет.
— И ты, ты тоже прощаешь меня?
— Я не вправе делать этого.
— Но ты стараешься утешить меня?
— Я не хочу делать этого.
— Но что же тогда?
— Нет на свете ни существа, ни преступления столь низких, что не смогли бы заслужить прощения. Достаточно одного желания. Мы — вечные блудные сыны Господа Бога.
— Огонь, пожирающий меня, — это уже само адское пламя!
— Это от вашей раны, а не от вашего греха. Раз вы пылаете огнем сейчас, значит, потом он пощадит вас, в знак того, что вы очистились от бесчестия…
Я не видел его с неделю или около того. Командор послал за мной. Я не знал его имени. После Хаттина в спешке было назначено новое командование. Командором же оказался мой тамплиер Мейнар, которого я считал погибшим в битве.
— Нет, — ответил он. — Меня отделали, как отбивную, но раны были не глубоки. И вот я на ногах.
На миг мы вновь обрели легкий тон наших прежних разговоров. Мейнар был самым веселым из тамплиеров. Но вскоре эта мимолетная радость улетучилась. Мейнар сказал:
— Наш младший из братьев Рено де Молеон, отошел сегодня днем и мучился до своего последнего часа, ты знаешь почему… Гио, ты должен неотложно отправиться в Молеон и уладить тамошние дела.
— Он просил меня о том.
— А я заранее приказываю тебе это, зная, что теперь ничто не мешает тебе присоединиться к нам, что ты и сделаешь.
— Как же я отправлюсь? Земля и море кишат неверными.
— Не будем отчаиваться. Помощь идет. В ожидании королей Запада Орден послал свое подкрепление. Ты и лесоруб, вы отправитесь с ближайшей галерой Храма.
29 ГИО ЗАКАНЧИВАЕТ СВОЙ РАССКАЗ
И все произошло точь-в-точь так, как и хотел того Мейнар. Галера шла быстро и оказалась в Марселе даже раньше, чем мы рассчитывали. Путешествие прошло без затруднений, потому что мы меняли лошадей в обителях Храма, а в опасных местах нас сопровождали рыцари. Так я доставил лесоруба в его лесную хижину и вновь увидел жилище Анселена, а также и сержанта Юрпеля, который зарыдал, услышав из моих уст о кончине своих хозяев. Я побывал в домиках деревни, чтобы рассказать о том, как свято мужья и сыновья приняли смерть вместе со своим хозяином Рено. Я пришел в эту обитель, и мы посетили виконта де Мортаня, который утвердил дарственную на имение, ограничившись некоторыми гарантиями, что предоставил ему Храм. Это было летом. Все твердило мне о Жанне. Она мерещилась мне повсюду; ее взгляд — в голубизне небес и в дымке холмов, громоздившихся на горизонте; ее волосы — в кованом золоте спелой ржи, разлившемся по долине и у подножия косогоров; ее голос — в шорохе зеленых листьев на восходе солнца и когда оно клонится к морю до следующего утра; ее пение — в щебетанье птиц, облепивших нижние ветки и кроны дубов, опьяненных светом и благостью дня; ее душу — под сводами часовни и под черепицей башни Молеона, но также и в том источнике, что струится из скалистой расщелины, пенится, быстро и нежно омывает мхи и полные насекомых папоротники, и теряется, наконец, в этом пруду с недвижными водами, мерцающими несказанными красками, лишь только наступает вечер.
Когда черно-белый флажок Храма взмыл над башней Молеона, я снова отправился на юг и один погрузился на корабль. Мне нужно было действовать, чтобы печаль и меланхолия не захлестнули бы меня. Я еще не достиг возраста воспоминаний. В качестве оруженосца Храма я провел в Святой Земле еще десять лет. На моих глазах Иерусалим уже почти был освобожден. Из авангарда нашего войска, куда я был поставлен, можно было даже различить Авессаломову могилу, кипарисы, у подножия которых покоилась Жанна в ожидании Воскресения. Но все было напрасно, и Иерусалим остался в руках неверных. И тогда израненный, постаревший, неспособный к несению службы из-за перелома бедра, будучи на попечении у Тирских тамплиеров, я был освобожден вчистую, с возможностью выбрать для себя обитель на Западе и обучать там новых рыцарей и оруженосцев. Я же знал лишь одну обитель: вот эту самую, вашу, милые мои братья. Случай повелел, чтобы в ту ночь, когда я постучался в вашу дверь, снова шел снег. Вокруг Молеонского леса все было бело и мертво…
После того, как Гио доходил до своего возвращения в обитель и приема, что ему оказали, всегда воцарялось молчание. Слушателям было необходимо какое-то время, чтобы стряхнуть с себя мечты и образы и перейти снова к действительности. Тогда обязательно находился кто-нибудь, кто спрашивал:
— Милый брат Гио, ты не сказал нам, что прокаженный король подчеркнул своей рукой в Часослове, который ты передал Жанне и закопал с нею под кипарисами?
— Он подчеркнул: «Non nobris, Domine, non nobris, sed tuo Nomini da Gloriam!» — «Не нам, не нам, но Имени Твоему».
— Но это же девиз Ордена!
— Ибо он мечтал о Храме и восхищался нами в сердце своем. Не некоторыми, может быть, предводителями вроде Торрожа или Ридфора, упоенными своим мнимым величием, но простыми рыцарями, избавившимися от обузы собственности, отрекшимися от личности, от родства, включая матерей и сестер, дабы быть слугами единого Господа. Говорю вас, он мечтал о нашей клятве никогда не сдаваться, никогда не мстить, идти на бой одному против троих, идти за нашим знаменем хоть через палящий огонь! Он мечтал об этом всей своей несгибаемой душой и страдающим телом, и лучше, чем кому-либо другому, мне известно, что он хотел умереть под белым плащом. Он был нашим королем — королем тамплиеров, он был достоин быть им, не желая иной славы, кроме славы Господа…
— Да, — повторял Гио уже умиротворенным голосом, — я видел и пережил все это. Но я вовсе не несчастен… У меня есть этот огонь, чтобы погреть у него мои старые кости, эти белые стены, на которых всплывают, словно в снах, дорогие мне лица, этот лес, в котором я гуляю и любуюсь его живностью, наконец, у меня есть участие ваших дружеских глаз. Вниманием я не обойден, радостями исполнен. Иногда утреннее небо окрашивается в цвета львиной шкуры, и солнце кровавит его бок; не важно, о чем я тогда думаю: это похоже на то, как ноют старые раны, когда дело идет к дождю. Благодаря вам все хорошо у старого Гио. Думая о Жанне и о ее прокаженном короле, он лишь молит Господа, позволившего себя истязать, увенчать терниями и пригвоздить ко кресту, о том, чтобы если они и согрешили, их общая проказа очистила бы их от греха. И о том, чтобы вместе вкушали бы они дни своего бессмертия… А я же хочу быть снова с ними. И ничего более. Аминь!
Голос Гио умолк. Братья покинули зал, поблагодарив рассказчика и простившись с ним. Он ушел последним, не торопясь отходить ко сну. И теперь было слышно лишь шипенье горячей древесины, изборожденной жучком под корой. А снаружи, вокруг погрузившейся в сон обители, вставал лес, огромный, дремучий и темный, как в первый день творенья, со всеми своими опушками, дикими зверями и ночными птицами. Над кронами деревьев плыла луна, уносимая мощным потоком мироздания.
ХРОНОЛОГИЯ
1176
Во Франции правит король Людовик VII (Луи). В Иерусалиме — король Бодуэн IV. Иерусалимское королевство, возникшее в 1099 г. на территории, завоеванной в ходе Первого Крестового похода под командованием Годфруа де Бульона, это узкая полоска земли, вытянувшаяся вдоль Средиземного моря и ограниченная горами Ливана и пустыней Синая. Стремясь объединить земли под знаменем ислама, Саладин установил военную диктатуру над Египтом и частью Сирии.
1177
Бодуэн IV одерживает победу над Саладином у Монжизара.
1179
Смерть Онфруа де Торона, коннетабля Бодуэна IV.
Саладин одерживает победу на Панейской равнине.
1181
Рено де Шатильон, правитель земель за р. Иордан, освобожденный из застенков Саладина, нарушает предложенное Саладином перемирие.
1182
Саладин подвергает осаде замок Рено де Шатильона, Крак де Моав; спасает осажденных лишь вмешательство Бодуэна IV. Саладин пытается взять Бейрут, чтобы расчленить на две части Иерусалимское королевство. Новое победоносное наступление Бодуэна IV, Саладин пытается овладеть Алеппо и Моссулом и завершить объединение исламских земель. Бодуэн вторгается на эти территории, доходит до окраин Дамаска и вынуждает Саладина отказаться от своих военных планов.
Одержав несколько побед, Бодуэн IV прибывает в Тир на Рождественские праздники.
1183
Обострение болезни Бодуэна IV. Он вверяет управление королевством своему шурину, Ги де Лузиньяну. Саладин захватывает Алеппо и готовит вторжение в Галилею. Раймон Триполитанский у Сефорийских ключей спасает франкскую армию. Бодуэн IV отстраняет Ги де Лузиньяна от регентства. Бодуэн вновь приходит на помощь Рено де Шатильону и спасает Крак Моавский.
1184
В результате конфликта между Бодуэном и Ги де Лузиньяном Бодуэн лишает свою сестру и Ги де Лузиньяна прав на иерусалимскую корону.
1185
Бодуэн IV коронует малолетнего сына своей сестры Сибиллы от первого брака под именем Бодуэн V. Он назначает Рено Триполитанского регентом королевства.
16 марта. Смерть Бодуэна IV.
1186
Преждевременная смерть престолонаследника Бодуэна V. Ги де Лузиньян и его супруга Сибилла добиваются короны обманным путем.
1187
Поражение Лузиньяна при Корн де Аттен. Саладин захватывает Иерусалим.
1189
Начало Третьего Крестового похода.
1193
Смерть Саладина.
Иерусалимское, королевство (за исключением Иерусалима) просуществует еще век: до падения Сен-Жан-д'Акр[12] в 1291 г. В руках тамплиеров вплоть до 1808 г. будет оставаться небольшой островок Руад.
Художники Н. Малиновская, К. Янситов
Примечания
1
Король Франции, правивший страной с 1137 по 1180 г. (Здесь и далее прим. перев.)
(обратно)2
Саладин, или Салах-ад-Дин (1138 — 93 гг.). Основатель династии Айюбидов. Был египетским султаном с 1171 г. Возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев.
(обратно)3
Фьеф или феод — в средние века в Западной Европе наследственное землевладение, пожалованное сеньором вассалу на условии несения военной службы или выполнения других обязанностей, а также уплаты установленных обычаем взносов.
(обратно)4
Коннетабль (фр. — connetable) — во Франции с XII в. военный советник короля, начальник королевских рыцарей, а с XIV в. — главнокомандующий армией.
(обратно)5
Арпан (фр. — arpent) — устаревшая мера площади, варьировавшаяся в разных районах Франции по-разному — от 35 до 50 акров.
(обратно)6
Уэд — сухое русло реки.
(обратно)7
Орифламмы — штандарты короля.
(обратно)8
Табернакль — в католических храмах ниша для даров в алтаре.
(обратно)9
Атабег (атабек) — титул главы феодального княжества в некоторых странах Ближнего Востока в XII–XIV веках.
(обратно)10
AgnusDei (лат.) — «Агнец Божий», первые слова из католической литургии, обращенной к Иисусу Христу.
(обратно)11
Святая Гостия — «Священная Жертва», здесь — молитва, но также и просвира.
(обратно)12
Сан-Жан-д'Акр, ныне город Акко (Акка), расположен на средиземноморском побережье, на севере Израиля.
(обратно)


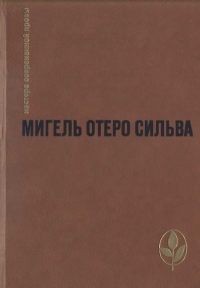

Комментарии к книге «Копья Иерусалима», Жорж Бордонов
Всего 0 комментариев