Вольдемар Балязин Семнадцатый самозванец
Глава первая. Ведьма
Тимошка проснулся от петушиного крика — звонкого и радостного.
Сквозь широкую щель в давно уже прохудившейся крыше сарая он увидел серо-голубой лоскут неба, наискось пересеченный звездной полосой Иерусалимской дороги — Млечного пути.
Тимошка сел, обхватив руками острые колени, помедлил немного, и, сладко потянувшись, резво вскочил. Раздвинув плотную завесу сохнувших на сеновале трав, — пахучих и ломких он пробрался к дверному проёму, и встал, раскинув руки, и запрокинув вверх голову.
Было то время, когда солнце ещё только просыпалось, лежа где-то в дремучих буреломах дальних лесов, но звезды — ещё совсем недавно большие и яркие — стали нехотя таять. Начал гаснуть робкий молодой месяц. И было так: будто кто-то бросил в глубокое озеро пригоршню серебряных монет и золотую подкову и они неспешно и плавно стали погружаться в темную воду, становясь все бледнее и бледнее, пока не утонули вовсе в серо-голубой бездонной пучине.
Тимошка увидел, как синеют и светлеют черные глубины ближнего леса, услышал, как одна за другой начинают вскрикивать сонные ещё птицы. Увидел, как враз — будто загоревшись — вспыхнули верхушки сосен и елей, и над дальними буераками бледно заалело небо. Мокрый туман загустел и отяжелел, опускаясь в низины. Из-за растаявшего молочного марева вынырнула бревенчатая кладбищенская часовенка и частокол покосившихся черных крестов.
Засверкала роса на траве и через неширокую речку Вологду лег между берегами невесомый золотой мост. И даже старые избы на окраине Вологды серые и трухлявые — посветлели, будто росой умылись.
Розовыми стали тесовые шатры сторожевых башен: Воскресенской, Пятницкой, Афанасьевской, Спасской. Пожелтели и закраснели слюдяные и стеклянные окна в домах купцов и начальных людей.
И тихо, медленно поплыл между землей и небом утренний благовест вологодских храмов.
Тимошка свесил ноги, и мягко, по-кошачьи, спрыгнул на землю. Мокрая, холодная трава легко ожгла босые ноги, и мальчик, нелепо подпрыгивая, поскакал к тропинке, бежавшей от сарая к избе. Он был уже почти у самого крыльца, как вдруг увидел на тропинке трех муравьев — двух красных и одного черного. Тимошка присел на корточки и застыл в ожидании.
Черный муравей увидел врагов — и замер. «Сейчас удерет», — подумал Тимошка, следя за черным муравьем, но тот, привстав на задние ножки, изготовился к бою.
«Ишь ты, богатырь какой», — усмехнулся Тимошка и ладонью перегородил дорогу одному из красных, чтобы предстоящий бой был честным поединком. Красный муравей, почувствовав, что остался один, не принял боя и юркнул в траву. Тимошка поднял ладонь — и второй красный муравей тоже убежал с тропинки, уступая дорогу более сильному.
Тимошка улыбнулся и побежал в избу, к матери.
Мать лежала на печи больная: три дня назад, разыскивая убредшую в лес корову, она подвернула ногу — и с тех пор из-за сильной боли не могла и шага ступить.
Увидев Тимошу, мать улыбнулась ласково и радостно — двое их было на белом свете: сын у матери, да мать у сына.
Тимошка, вскочив на лавку, поцеловал мать в высокий чистый лоб и взглянул в глаза, каких не было ни у кого на свете.
— Истопил бы печь, Тимоша, а как разгорится, я и оладьи спеку, сказала мать.
— Ладно, мам, я враз, — ответил Тимоша и вдруг вспомнил, что ножик, которым сподручнее всего было щепать лучину на растопку, остался на сеновале.
Мальчик спрыгнул с лавки и побежал к сараю.
* * *
Мать Тимоши — Соломонида Анкудинова — все ещё улыбалась, закрыв глаза. Она представляла себе сына — худого, веснушчатого, темно-русого, с упрямо оттопыренной нижней губой и разноцветными глазами: левым — карим, а правым — синим.
И тут же явственно услышала, будто кто-то, стоящий рядом, зло сказал: «Разноглазый».
Мать перестала улыбаться, вспомнив, что кличка эта прилипла к сыну с самого рождения. А родился он через месяц после смерти его отца, а её мужа — Демьяна Анкудинова, который умер «от волхования да от ведьминого сглаза», как шептали за спиной у неё иссохшие от злости старухи-богомолки.
А вслед за тем вспомнила она и покойного мужа — высокого, плечистого голубоглазого молчуна — работника и добытчика. Был Демьян Анкудинов стрельцом, но из-за малых прибытков приходилось ему приторговывать холстом, наезжая в неближние от Вологды сёла и города. На появившийся от торговли достаток купил Демьян постоялый двор, куда и привез молодую жену, повстречавшуюся ему на ярмарке в Костроме.
Соломонида вспомнила и тот день, когда впервые увидела мужа, и снова слабо улыбнулась.
Он стоял у длинного топчана, заваленного полотном, и медленно ворочал аршином, будто сделан был аршин не из дерева, а из камня. Соломонида, принаряженная по случаю ярмарки, подошла к купцу, встретилась с ним глазами и почувствовала, как впервые в жизни, невесть почему, кровь ударила в голову тугой горячей волной. Опустив глаза, она показала на первый попавшийся кусок, и купец отдал ей холст за полцены, зардевшись и бестолково шаря руками.
Уходя с ярмарки, Соломонида почувствовала, что незадачливый купец тихо крадется за нею. Она чувствовала это, пока шла по ярмарке, чувствовала, пробираясь среди изб костромского посада, но оглянулась только у самой своей избушки, что стояла у леса, в трех верстах от города.
Купец стоял саженях в ста, провожая её ласковым и печальным взглядом.
А уже на следующий вечер заявилась к ним в избу толстая, языкатая сваха и с нею дружок жениха — тоже вологжанин, оказавшийся в Костроме на ярмарке. А Демьян, пока сваха расхваливала добра молодца, топтался у порога их неказистой избушки, утирая со лба пот рукавом новой нарядной рубахи.
Соломонида слушала сваху, а сама молча молила Богородицу, чтоб все так и сталось, как просит о том вологодский купец.
Была она девушкой бедной — единственной дочерью у старого, давно овдовевшего отца, добывавшего пропитание сбором целебных трав и лечением настоями да наговорами. Лечил отец и окрестных мужиков, и посадских, пользовал и скотину, с раннего детства приучив к этому и дочь свою Соломониду. И хотя лечили они многих, но достатка в их доме не было. И потому Соломонида сильно боялась, что торговый человек, увидев скудость их нехитрого жития, не захочет брать за себя бесприданницу.
Однако все быстро и хорошо сладилось, и молодые, тут же перебравшись в Вологду, зажили мирно да ласково на зависть многим, в чьих домах не было ни любви, ни согласия. Да видать много горя может отпустить Господь человеку, а вот счастье — почти каждому — отмеряет малой и строгой мерой… Года не прошло, как от неведомой болезни в одну ночь сгорел её Демьян, так же внезапно оставив её, как совсем недавно внезапно и повстречал.
И ещё не успели его похоронить, как вдовые старухи, девки-перестарки, христовы невесты-богомолки да странницы пустили по Вологде шепоток, что умер Демьян не просто так, а от ведьминого сглазу и волхования. И не раз приходилось ей слышать у себя за спиной тихое шипение, ползущее из беззубых и синегубых старушечьих ртов: «Ведьма!»
И вспомнила Соломонида последнюю такую встречу — вчерашнюю, предвечернюю. Шла она подоить Пеструшку. Шла, хромая, тяжело опираясь на палку. И заметила: за редким тыном стояли две знакомые ей старухи-богомолки.
Увидев Соломониду, одна из старух всплеснула руками и наклонилась к уху своей товарки. Вторая слабо охнула и мелко часто закрестилась. Затем обе они с криком: «Нечистая! Нечистая! Богородице — дево, спаси и помилуй!» — бросились так прытко, что не всякая молодайка угналась бы за ними.
Отбежав саженей двадцать, они обернулись и, остановившись, стали плевать в её сторону, крича высокими кликушечьими голосами: «Ведьма! Ведьма! Нечистая! Сгинь! Сгинь!»
До слез обидными показались Соломониде слова старух, но ещё обиднее была их неуёмная злоба.
Из-за злобы людской продала она оставшийся ей в наследство постоялый двор и переехала сюда — в лесную избушку — подальше от недобрых слов и взглядов.
Купила она корову Пеструшку, а осенью приблудился ко двору шалый молодой пёс Найден, и стали они жить вчетвером, не считая кота Терентия да кур с петухом. Кормились они тем, что давали огород и лес. С трех лет приспособила она к грибной и ягодной охоте Тимошу, а ещё через год обучила его и рыбной ловле. А как сравнялось сыну семь лет, то зажав в кулаке два серебряных гривенника и посадив в корзину старую хохлатку, повела она Тимошу в кладбищенскую церковь Димитрия Прилуцкого к дьячку — отцу Варавве — человеку непьющему, тихому, известному любомудру и книгочею. И вот уже второй год бегал сын её в убогую избушку отца Вараввы. И, по словам учителя, разумен был столь необыкновенно, что скоро и наставлять Тимошу пристойно было бы другим людям — более грамотным и искушенным, ибо предстояло стать Тимоше не менее, чем архиереем.
При мыслях об учителе на душе у Соломониды стало легко и радостно. Она словно воочию увидела перед собою добрые, по-детски чистые глаза Вараввы, услышала его высокий ласковый голос.
«Добрый пастырь у Тимоши, — подумала Соломонида. — Учит его добру и разуму, велит чтить мать, помогать бедным, жалеть убогих. Да и то благо, что и Тимоша к нему прислушивается сердцем и почитает Варавву как родного отца».
От последних мыслей стало Соломониде совсем хорошо. Она полежала, не двигаясь, ещё немного, повернулась на бок и открыла глаза. Вся ещё во власти не отпускавших её дум, она взглянула на подоконник, где лежала толстая тетрадь, от начала и до конца исписанная её сыном. Книги были дороги, и потому Тимоша полюбившиеся ему места переписывал в эту тетрадь.
Сколько радости, мудрости, тепла и света было собрано её сыном на сшитых суровой ниткой листочках!
Соломонида снова закрыла глаза — и вот уже не летнее утро, и не затопленная светом изба, а зимний вечер и теплый полумрак предстали перед нею. Мурлыкал на печи кот Терентий, чуть потрескивала лучина в железном поставце, пахло смоляным дымом, печеным хлебом и неистребимым духом сушеных трав, хранившихся и на печи, и под печью, развешанных и в избе, и в сенях.
Тимоша, разутый, сидел на лавке у печи и, блаженно поводя пальцами босых ног, правой рукой любовно гладил тетрадь.
«Ну, садись, мама, садись», — с нетерпением звал он её, досадуя, что Соломонида никак не может бросить какое-то свое вечное занятие по дому.
Она садилась супротив сына, поправляла платок, и замирала в сладкой истоме, ожидая великого чуда — чтения.
«Премудрость светла и неувядающа и легко созерцается любящими её, негромко читал Тимоша. — С раннего утра ищущий её не утомится, ибо найдет её сидящею у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради неё скоро освободится от забот; и начало премудрости есть искреннейшее желание учиться.
Я полюбил премудрость более здоровья и красоты и избрал её, ибо свет её неугасим.
Бог даровал мне истинное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихий, начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времени, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силу корней. Познал я все сокровенное и явное, ибо научила меня премудрость — художница всего.
Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба».
«Кто же это сказал столь дивно, сынок?» — спрашивала Соломонида, и Тимоша так же негромко отвечал: «Я читаю книгу премудрости царя Соломона, почитавшегося среди смертных мудрейшим».
Она молча кивала и просила негромко: «Почитай еще». Сама она была бесписьменной, не умела ни читать, ни писать и искусство письма и чтения оттого казалось ей стоящим рядом с колдовством.
И ещё одному Соломонида дивилась, но в этом совсем не понимала сына. Дивно было видеть ей Тимошу, когда замерев надолго, не отрываясь, смотрел он на звезды в небе, на муравейник, на птиц, вьющих гнездо.
А когда однажды спросила Соломонида: «Чего это ты, сынок, сидишь недвижен, уж не занедужил ли?» Тимоша улыбнулся и ответил ей словами притчи: «И сказал Агур сын Иакеев: „Три вещи непостижимы для меня и четвертую я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля в море и пути мужчины к девице“.
И ещё сказал Агур: „Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых: муравьи, народ не сильный, но они заготавливают летом пищу свою; горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале; у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно; паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах“».
Соломонида открыла глаза и, с досадой подумав: «Что это я, однако, размечталась?» — сползла с печи, с трудом вышла в сенцы, и зачерпнув из бадьи ковш воды, стала в деревянной лохани творить тесто.
* * *
Тимоша отыскал на сеновале нож и уже собрался спрыгнуть на землю, как увидел неподалеку быстро скачущего всадника. Каурый конь шел скорым намётом и уже через несколько мгновений Тимоша признал седока. «Костик, — подумал он, — а конь из конюшни владыки. Никак приключилось что в Вологде?»
Спрыгнув с сеновала, Тимоша побежал навстречу другу, а тот, заметив его, ещё издали стал что-то кричать, показывая то на их дом, то на оставшуюся за спиной Вологду.
Не остановившись возле него, Костя промчался к избе и, слетев с коня, исчез за дверью.
Тимоша что было духу побежал обратно — к дому. Вбежав в избу, он увидел застывшую у печи мать с белым, неживым лицом и руками, сложенными на груди крестом.
— В лес надо бежать! — кричал Костя. Там они нас ни в жисть не найдут! Только не медлите, не медлите! Скорее! Скорее!
— Что случилось? — спросил Тимоша, пугаясь.
— Нищие и божедомы сюда идут! Грозятся вас обоих досмерти убить!
— За что же им нас убивать? — со страхом и удивлением воскликнул Тимоша, но Костя только рукой махнул и выскочил во двор.
— О господи! — простонала мать и стала быстро вынимать из сундука вещи, что были получше иных, и вязать их в два узла.
Тимоша, приподняв крайнюю доску пола, достал три тяжелых свёртка. В промасленных холстинах хранились под полом батькины сабля, самопал и пистоль.
Вскоре все было собрано. Мать, уронив руки, прислонилась к дверной притолоке и, оглядев избу полными слез глазами, опустилась на лавку, держа на коленях притихшего кота Терентия.
— Тащи узлы во двор, Тимоша, — сказала мать слабым голосом.
Во дворе Костя уже вывел из сарая Пеструшку и спустил с цепи радостно прыгавшего Найдена. Затем мальчики свели Соломониду с крыльца, помогли ей сесть на коня, перекинули через круп каурого связанные веревкой узлы и, набросив на шею Пеструшки травяной аркан, тронулись в лес.
Тимоша не выдержал и опрометью кинулся на сеновал. Из Вознесенских ворот на мост через Вологду медленно вползала серая толпа юродивых и нищих. Чуть ли не половина их шла с клюшками, посохами и костылями, и потому брести им до дома Соломониды было никак не менее часа.
— Черви кладбищенские, — пробормотал Тимоша и, погрозив юродам кулаком, бросился догонять Костю и мать.
Тимофей быстро догнал уходивших в лес, и шагая рядом с Костей, спросил:
— Так за что же божедомы идут нас побивать?
— Всего не знаю, — ответил Костя. — Знаю только, что наплели в городе невесть что две полоумные странницы да юрод Вася.
* * *
А было так…
Три дня назад христов человек — Вася Железная Клюка, не мывшийся и не стригшийся двадцать лет, вылез из-под крыльца дома братьев Гогуниных, под коим он спал вместе с собаками, и вдруг увидел среди двора чужую, никогда дотоле не виденную кошку. Кошка была черна и столь злобно зыркнула на божьего человека угольными бесовскими глазами, что Вася, трясясь от страха всем телом, задом вполз под крыльцо и только там догадался свершить крестное знамение.
Не успел он и лба перекрестить, как на дворе дико и страшно вскричал петух, за ним — другой, и тогда, сообразив, что после петушиного крика нечистая не живет, и опасность в который уж раз обошла его стороной, Вася с опаской выглянул из-под крыльца. Он увидел совершенно пустынный двор и понял, что бесовка исчезла, как сквозь землю провалилась.
Двор братьев Гогуниных был обнесен таким плотным тыном, что не только кошка — мышь не проскочила бы ни туда, ни обратно.
Трижды перекрестившись и обойдя стороной проклятое место, где только что сидело дьяволово отродье, Вася, опираясь на клюку, побрел к воротам, и тут же поведал обо всем виденном ночному сторожу Авдею. Услышав Васин рассказ, сторож враз посуровел и сказал, что все это Васе приснилось, а он, Авдей, службу нёс честно и во всю ночь ни на миг глаз не смыкал, однако чужой, приблудной кошки на дворе отнюдь не видывал. А когда Вася слабым от долгого поста голосом стал упрекать Авдея во лжи, то нерадивый страж посмеялся над божьим человеком, обидно и пакостно обозвал его дуроплётом и вытолкал со двора вон, погрозившись не пустить обратно.
Вася заплакал и потащился к собору. Когда он подошел к храму, у паперти стояли и сидели во множестве убогие и скорбные люди, долгие годы побиравшиеся Христовым именем.
Обида на грубого и неблагочестивого Авдейку все ещё не прошла, и Вася стал рассказывать божьим людям о том, что с ним случилось. Божьи люди слушали и молчали. Да и чему было дивиться, когда каждому из них бывали и видения божественные, и явления тайные, и звуки чудесные, и знамения предостерегающие.
И только безрукий стрелец Кузьма, выслушав Васю, криво ухмыльнулся в рыжую бороду, и воровато скосил хитрые зеленые глаза.
И тут — все видели — и безрукий Кузьма тоже — прямо из-за угла храма неслышно будто бесплотная вышла она — черная и страшная — и, немо разверзнув красную пасть, вытянула перед собою когтистые лапы.
Вася, затрепетав, кинул в бесовку железную клюку и угодил ей прямо по задней ноге. Нечистая подпрыгнула, вскрикнула страшно, метнулась за угол храма, и когда угодные богу люди, опомнившись, бросились за нею — той и след простыл.
— Святые угодники! Богородице-дево! Господь всемилостивый! — закричали калеки и юроды. Иные пали на землю, закатив очи, иные поползли к двери храма, осеняя себя крестным знаменем и причитая, иные восклицая: «Чур меня, чур!», тряслись мелко, кусая губы, ломая персты.
Пришедшие к заутрене горожане — особенно старухи и молодайки — вскоре узнали такие страхи — сердце заходилось. Нищая братия в един глас повторяла, что такого ужаса никто из них не упомнит, а ведь многие видели наяву и бесов мерзких, козлоподобных, и ведьм, летавших над избами, и чертенят, весело плясавших на лужку за царёвым кабаком, и утопленниц, молча водивших хороводы у старой мельницы. Да и мало ли чего ещё не видели и не слышали возлюбленные Христом люди! Однако же столь ужасного явления давно уже не видели и они.
— Ученая, видать, ведёма, — отзывались слушатели. — А она, известно, хуже прирожденной.
В одном сходились все — так просто Васин удар ведьме не пройдет: лежит, поди, теперь где-нибудь на печи и колдовским зельем ногу парит.
И вдруг на третий день к поздней вечерне прибежали честные старицы Авдотья да Аграфёна и клянясь страшными клятвами поведали: встретили они за рекой, возле леса, хромую ведьму. И та, как зыркнула на них ужасными своими глазищами — обмерли честные старицы, и творя молитву, еле добежали до города. А на следующее утро все в Вологде узнали: у пономаря церкви Николы, что на Каменьях, издохла корова. И сделалось такое лихо как раз в ночь на 30 июля, на Силантия Святого, когда — и младеню известно — ведьмы сосут у коров молоко, и коровы после того тотчас издыхают.
И тогда добрые христиане города Вологды, собравшись, как по сполоху, у собора, двинулись за реку дабы ведьмино злое гнездо испепелить, а бесовку с её разноглазым отродьем побить до смерти.
Много народа двинулось к избе ведьмы, но чем дальше уходили они от собора, становилось их все меньше и меньше. Иные не дошли и до Северных Вознесенских ворот, иные разбрелись по посаду, добрая половина не дошла и до кладбища.
Пономарь, у которого подохла корова, у собора шумевший чуть ли не больше всех, исчез по дороге неведомо куда. А как прошли полем да перелеском ещё с версту — осталось верных людей десятка три.
И когда, стащив с сарая сено, обложили им угодные богу люди дом, то уже тогда многие засомневались: «А ладно ли делаем?» Но когда загорелась изба, а следом за нею и сарай, все поняли: назад пути нет. И разбредаясь по двое да по трое, оглядывались со страхом в сердце, наблюдая, как тихо, будто во сне, горят дом и сарай и в синее небо двумя черными высокими полосами подымается дым…
* * *
Беглецы быстро прошли Земляничную поляну, взобрались на Кривой холм, и с вершины его увидели над краем леса медленно плывущий дым. Соломонида охнула и в голос заплакала. Тимоша и Костя враз, не сговариваясь, бросились к самой высокой сосне и наперегонки полезли к верхушке. Они увидели, как между избой и сараем ползают муравьями маленькие фигурки, как неистово пляшет желтый огонь — стремительный и жадный — и как медленно расползаются по тропам свершившие свое дело угодные богу.
Страшно было глядеть на пожар, но какая-то сила удерживала мальчиков на дереве. И хотя Соломонида настойчиво звала их, они не слезали вниз, пока не сник огонь и не пополз в стороны, прижимаясь к траве, и оставляя на земле черные круги. И только когда все кончилось, мальчики слезли с дерева и молча пошли в чащу: там, на Лешачем болоте — опасном и всеми избегаемом месте — кому любо ходить по лешачьей вотчине? — стоял им одним известный, замшелый, вросший в землю сруб. Сквозь топкие хляби еле заметная тропинка привела их к небольшому острову — кусочку тверди земной среди бесконечных болот.
Увидев крышу вросшего в землю сруба, Соломонида впервые за всю дорогу слабо улыбнулась:
— Недаром говорится: «На что отец, коли сам — молодец». И как это вы, вьюноши, избёнку приглядели?
* * *
Сруб этот Тимоша и Костя нашли три года назад. И был он для них не просто землянкою, а кладезем сокровенного, ибо, как говаривал про все секретное отец Варавва, «велика была тайна сия». Сруб был стар, чёрен, и настолько врос в землю, что даже им пришлось наклониться, чтобы войти внутрь — так сильно осела дверь, а единственное оконце, тоже вровень с землей, закрыто было травой, поднимавшейся до самой крыши.
Войдя внутрь, мальчики увидели врытый в земляной пол дощатый стол, две скамьи, треснувшую печь, и в углу под иконами старого письма — тёмную от времени долблёную колоду. Заглянув в колоду, они увидели ворох тряпья и под ним — человечьи кости.
Как они выскочили за дверь, того ни один из них не помнит, Однако, отдышавшись от страха, вошли снова и, стоя у двери, внимательно все оглядели.
Под иконами деиисусного чина — Спаситель в центре, по бокам Богоматерь и Иоанн Предтеча, на краях — архангелы Михаил и Гавриил — висела на тоненькой серебряной цепочке лампадка. На приступочке печи стояла медная ступа с пестом, треснутые глиняные горшки и ржавый железный ковш. В углу притулились две рассохшиеся деревянные кади. На столе стояла медная чернильница и железный кованый поставец для лучины. Под одной из лавок лежали заступ и железная лопата.
Затаив дыхание, мальчики подкрались к гробу, и сдвинув вконец истлевшие от времени тряпки, увидели у самого края домовины высокий, изукрашенный серебром посох, а на костях груди — золотой наперсный крест с красными и зелеными камнями.
Достав из колоды крест и посох, мальчики положили их на стол, вытащили из-под лавки лопату и заступ и пошли вон — копать для неведомого былого хозяина сруба могилу.
Похоронив в земле и колоду и кости, мальчики спрятали посох и крест под печкой и чисто убрали сруб, сметя паутину, выкинув сор и мышиный помёт. Расстелив на печи и разбросав по полу духмяные травы, они ушли, поклявшись перед иконами никому и никогда не рассказывать о найденном ими срубе.
* * *
Сюда-то и привезли они хворую Соломониду. И остались мать с сыном ожидать возвращения Кости, который отправился в город, чтобы выведать, что и как, а затем вернуться обратно и рассказать обо всем узнанном.
Вечером, засветив в поставце лучину, Тимоша достал из-под печи крест и посох и показал их матери. Он сказал ей, что все это лежало в срубе на печи, а о найденном скелете не проронил ни звука, не желая пугать больную и так уже перенесшую немало волнений.
Тем не менее Соломонида с любопытством и страхом смотрела на крест и посох. Соломонида взяла в руки крест, повернула его перед огнем, и Тимоша увидел то, чего при свете дня не видели ни он, ни Костя: снизу вверх шла надпись, невидимая при дневном свете. По стояку креста четко проступали слова: «Раб божий князь Иван Шуйской-Плетень».
Глава вторая. Владыка Варлаам
Вологодский архиепископ Варлаам, узнал о содеянном юродами и божедомами, как только они вернулись в город. Крут был владыка, и более всего ревновал, когда кто-либо нарушал его — архипастырскую власть. Воеводы и наместники менялись в Вологде каждые три-четыре года, а он, владыка, правил своею епархией уже семнадцать лет. И дело было даже не в том, что носил он сан архиепископа, выше которого в России было лишь несколько митрополитов и патриарх, а потому, что был он и умён, и удачлив, и на патриаршем дворе вхож в любую дверь. И говаривали, что при надобности мог он тотчас же повидаться и с самим государем Михаилом Федоровичем.
И когда узнал Варлаам, что нищая братия учинила такое самовольство и дотла спалила избушку стрелецкой вдовицы Анкудиновой, то тотчас же повелел привести божедомов к себе, на владычный двор. И когда калеки и странницы уселись на земле, у крыльца, Варлаам долго не выходил из палат, и даже когда пошел дождь, оставался в покоях.
Однако виноватых и из-под дождя со двора выпускать не велел.
* * *
Владыка ходил по спаленной палате и вспоминал нечто давнее, лежащее где-то на дне души…
Годов восемь тому, неизвестно от чего заболели у него глаза: опухли веки, слезы мешали читать и писать, больно было глядеть на свет. Никто не смог помочь владыке — даже оказавшийся случайно в Вологде аглицкий лекарь Джон Дервик. И тут келейник его — старец Терентий — отыскал стрелецкую вдову Соломонидку, коя слыла изрядной умелицей, знавшей целительную силу кореньев, трав, листьев и даже камней и извести.
Вдовица внимательно оглядела глаза больного — покрасневшие и загноившиеся — и велела пробыть безотлучно две недели в темной комнате, по три раза в день промывая глаза каким-то коричневым травяным настоем. На третий день Варлааму стало лучше, ещё через десять дней болезнь и совсем прошла. Варлаам хотел было выйти из темной комнаты вон, но решил прежде спросить о том лекарку.
Он вспомнил, как молодая, красивая вдова, войдя во тьму спаленной палаты, остановилась у порога, не то боясь споткнуться о что-нибудь, не то робея и стесняясь владыки. Варлаам взял Соломониду за руку — трепетную и горячую — и подвел к занавешенному холстиной окну. Откинув край занавеси, Соломонида повернула лицо больного к свету и он почувствовал, как жаром обдало его всего, будто от рук вдовицы и от больших черных глаз её пахнуло на него зноем.
И увидев в двух аршинах от себя прекрасное зардевшееся от смущения лицо молодой женщины, Варлаам сердцем понял, что и Соломонида испытывает нечто подобное. И у него, и у неё перехватило дыхание, и Соломонида, хотя и должна была глядеть в глаза Варлааму — затем и шла к нему — отвела взор, опустила вниз голову и проговорила еле слышно: «Повремени, владыко, батюшке, ещё четыре дни. Побудь ещё во тьме тоё время». И Варлаам, уловив в словах лекарки, как ему показалось, некий сокровенный смысл, спросил осипшим от волнения голосом: «А через четыре дня придешь?» И она ответила: «Не знаю».
Через четыре дня она не пришла, и задетый за живое, архиепископ послал лекарке рубль денег и на словах передал благодарность и благословение.
Однако того, что произошло, Варлаам не забыл, но, вспоминая, испытывал досаду — за то, что вдова более не пришла к нему, и благодарность — за то, что излечила его.
Когда же Варлаам узнал, что с Соломонидой и её сыном приключилась беда, то сразу же решил помочь им. Варлаам велел Терентию и монахам согнать своевольных божедомов к крыльцу владычных палат и стал ждать.
* * *
Братия, сидя под дождем, на голой земле, изрядно замерзла и до костей промокла. А ко всему прочему, оголодав, вконец приуныла.
Лишь близко к вечеру, когда убогие начали в голос плакать и причитать, Варлаам вышел на крыльцо.
Стоя под дощатым навесом, он долго молчал, тяжело глядя на плачущих, копошащихся в грязи божедомов, и затем спросил тихо:
— Миряне или же пастыри могут сказать, что есть колдовство?
— Пастыри! Пастыри! — дружно закричали юроды. — Пастыри на то нам, неразумным от господа и дадены, чтобы нас, глупых, вразумлять и судить!
И мгновенно сообразив, что вслед за сим должно последовать, божьи люди поползли в стороны, оставив сидеть насупротив владыки заводчиков и начальных людей сей великой смуты — Васю Железную Клюку и двух злосчастных странниц.
Варлаам, возвысив голос, сказал:
— А ежели вам ни богом, ни царем не дано судить, как же вы посмели пожечь у сирой вдовицы дом? Как же посмели на такое воровство пойти и столь неистовый разбой учинить?
— Видение было, батюшко, милостивец, видение! — запричитали странницы, указуя на Васю.
— А отколе ведомо вам, скудные умом, что было юроду именно от господа видение? — спросил Варлаам грозно. — А не было ли то видение бесовским наваждением, а? И не от господа, а от дьявола?
— Охти, нам, несчастным! Наваждение! Истинно наваждение! — схватившись руками за головы и раскачиваясь, запричитали старухи.
— А теперь, — жестко произнес Варлаам, — слушайте, что я вам скажу. Завтра же поутру все, кто стрелецкой женки Соломонидки избу валил, новую избу и строения ставить начнете. И пока то дело не кончите, ни на одну паперть пущать никого из вас не велю. А будете убожеством и бедностью отговариваться — велю воеводе всех вас в тюрьму метнуть, и в колодки забив, водить по базару, пока Соломонидке на избу денег не насобираете. А чтоб вами безвинно обиженная женка с мальчонкой своим не скиталась меж двор, вы мне Соломонидку беспременно завтра же сыщите. И пока избу ей не сладите, пусть она у меня на подворье с сынишкой своим поживет.
— Где же, милостивец, нам, убогим, ту женку отыскать? — застонали божедомы.
— Знали как воровать, знайте и как ответ держать! — совсем уже грозно произнес владыка и, повернувшись резко, ушел в палаты.
* * *
Серым рваным комом выкатилась нищая братия со двора и стала промеж себя судить да рядить, как бы без особого труда выполнить наказ владыки. Вася Железная Клюка — дурак-дурак, а сообразил: со всех, кто избу палил, поровну деньги собрать, а так как было их десятка три, то ежели по гривне с каждого взять, будет три рубля. А за три рубля плотники вологодские не только избу с сараем — церковь сладят. И хотя после этого долго ещё многие стенали: «Отколе же такие деньжищи взять, гривенник-та?» Каждый хорошо знал, поищи юроды у себя в кушаках да в кисах — не только гривенник, а и червонец найдут. Что же касается второго наказа владыки — немедленно отыскать Тимошку с Соломонидкой, то и здесь нашлись люди, сразу же сообразившие, что найти их может либо учитель Тимошки, либо товарищ его Костка — конюхов сын.
Поручив Васе Клюке собирать деньги и отправив двух главных виновниц Авдотью да Аграфену к Косте и отцу Варавве, нищие расползлись по своим норам, проклиная и Васю, и странниц, и собственное свое скудоумие, и тихо, с бережением — непреклонного вологодского архипастыря.
На следующий день спозаранку Вася Клюка двинулся в обход нищей братии. Когда он, как и во все прочие дни, появился у владычного собора, там сидели только те нищие, которые в поход на анкудиновский двор не ходили и потому ничего Васе должны отнюдь не были. Вася беспомощно огляделся и заплакал.
— Сколь верст до ведьминого двора? — вдруг спросил Васю безрукий стрелец Кузьма. Вася перестал плакать и, разведя руками, сказал:
— Кто ж их ведает, может, три версты, а может — четыре.
— Так ты теперь десять раз по четыре версты оббежишь, пока три рубля соберешь, — сказал Кузьма и захохотал. И вся нищая братия вслед за Кузьмой захохотала весьма обидно.
И начались для Васи великие муки: божедомы попрятались кто куда, забившись в самые темные щели, будто тараканы в мороз. Как только Вася кого-нибудь из них отыскивал, то припертый к стене соучастник вначале клялся страшными клятвами, божился и плакал, что нет у него за душой и медной полушки, вслед за тем начинал на Васю кричать, грозиться и выталкивать из конуры вон, обвиняя его во всем случившемся, и, наконец, давал Клике копейку или две, а не десять, как было уговорено. А некие наглые — давали и полушку.
Обойдя весь город один раз, Вася посчитал собранные в кушаке деньги и заплакал.
А тут, как назло, зарядил дождь, и Вася, бегавший по всей Вологде три дня, семерых участников похода не нашел совсем, а с остальных — двадцати двух — после трехкратных поборов собрал один рубль восемь гривен и две копейки.
Промучившись три ночи, Вася добавил к собранным деньгам собственную полтину и пошел к плотницкому старосте Авдею торговаться насчет постройки избы и сарая.
Вася рассказал Авдею все по правде, без утайки: и какое ему было видение, и как подбил он черной кошке заднюю лапу и как попутал их лукавый, и пошли они — неукротимые — и безвинной вдовицы избенку и сараюшку сожгли. Только одного не сказал Вася: того, сколько у него денег и, всеконечно лукавя, предложил Авдею рубль.
— За рубль ты, убогий человек, сам избу ставь, — ответил Авдей и отвернул морду в сторону, показывая, что разговор окончен. Тогда Вася накинул полтинник, но Авдей молчал, как будто Васиных слов не слышал.
После долгих мольб и клятв в бесконечной скудости Авдей согласился выполнить работу за два рубля с полтиною и Вася, добавив ещё шесть кровных алтын, вконец расстроенным ушел от Авдея. Обиднее же всего было то, что Авдей ему, божьему человеку, не поверил и велел все деньги сначала принести, а уж потом он, Авдей, с мужиками-плотниками почнет ставить избу. Кляня Авдея безверной и скаредом, Вася отдал деньги, будто кусок собственной живой плоти оторвал.
Со старухами же, подучившими наказ отыскать Соломониду и Тимошу, вышло по-другому: отец Варавва, когда пришла к нему на кладбище странница Аграфена и стала выпытывать, куда подавались Тимошка с матерью, не ответил ничего, только засопел сильно и, взяв старуху за ворот ветхого шушуна, из сторожки своей выбил вон.
Аграфена упала в пыль и ужаснулась столь неуемной ярости слуги божьего, но, побежав, явственно слышала, как Варавва кричал, что если ещё хотя одного божедома увидит возле своей церкви — прибьет посохом. И для пущей убедительности вслед старухе посохом помахал.
А её товарка — Авдотья долго отиралась возле владычных конюшен, пока, наконец, не увидела Костю. Подошедши к нему близко, странница поклонилась в пояс и сказала, что сам владыко послал её, смиренную, проведать о том, где теперь скрывается известная ему Соломонида Анкудинова с сыном.
— А пошто владыке занадобились Соломонида с Тимошкой? — недобрым голосом спросил Костя.
— Хочет он, милостивец наш, Соломониду, убогую вдовицу и сынка её у себя приютить, пока его же, милостивца, соизволением не поставят им божедомы новую избу, — тихо и ласково прошелестела старуха.
Костя представил, как хромые, слепые, горбатые и безрукие нищие строят избу и захохотал. А старуха, не поняв, отчего это только что злой и сумрачный вьюнош вдруг так развеселился, сначала испугалась, а вслед за тем слабым голосом стала вместе с Костей подхихикивать, стыдливо прикрывая беззубый рот концом черного головного плата.
Ладно, бабка, ежели узнаю, где безвинные люди от вас, лиходеев, хоронятся, то слова твои передам. Только ты вначале побожись, что владыко именно для того их и зовет, чтобы в дому своем пригреть. И старуха, закрестись мелко и быстро, стада клясться и божиться, что все именно так и есть, как она только что сказала.
Глава третья. Змеиный укус
Костя попробовал пробраться к скиту на следующее утро, но беспрерывный дождь, шедший трое суток, закрыл на остров единственный путь.
Только ещё через два дня, когда вода сошла и земля подсохла, Костя во второй раз вышел из дому и знакомыми тропками пошел к другу своему Тимоше.
Шел он босиком, подходя к болоту, закатал порты выше колен и явился перед Анкудиновыми как некий еллинский чёрт, по имени Сатир, коего видели они с Тимошей в одной из книг у отца Вараввы.
Узнав, что произошло в городе, Соломонида наотрез отказалась ехать в Вологду.
— Никогда мне в той Вологде счастья не было, не будет и сейчас, сказала она и, поджав губы, упрямо замолчала. Однако даже Костя заметил, что предложение Варлаама не столько напугало или удивило Соломониду, сколько смутило. От Кости не укрылось, что мать его друга почему-то покраснела и, пряча от мальчиков глаза, стала уверять их, что лучшего места, чем нынешнее, ей в жисть не надо, что она ничего и никого не боится, а как только сладят им новую избу, то и переедут они обратно, и, дай бог, заживут не хуже прежнего. Еще раз покачав головой, Соломонида сказала:
— Идите-ко, вьюноши. Владыко, я чай, в обиду понапрасну никого не даст. А я тут поживу одна, подожду. А как все сладится, то вы за мною и возвернетесь.
Тимошу и Костю пустили на владычный двор не враз. Сначала привратник долго расспрашивал их — кто такие и по какому делу идут в палаты, потом ушел и, вернувшись, Тимощу впустил, открыв узкую, обитую железом дверь, а Косте велел ждать за воротами.
Тимоша вслед за привратником прошел широкий, чисто подметенный двор, в глубине которого справа от ворот стояли двухэтажные палаты. Прямо напротив ворот шел забор, отделявший от двора многочисленные службы: конюшни, коровники, овчарню, баню, погреба, псарню, холопьи домишки, а справа — тянулся старый сад с огородом.
Было тепло и солнечно, пахло липовым мёдом, негромко блеяли овцы, слышался стук топора и неспешный говор баб, разморенных полуденной жарой.
Тимоша поднялся на высокое крыльцо и через просторные, высокие сени вошел в низкую и тесную горенку домоправителя. Геронтий стоял у высокой конторки резного дерева и писал. Конторка показалась Тимоше необычайно красивой. Множество дверок её были собраны из разных кусков дерева желтых, коричневых, серых. На лицевой стороне конторки — по углам — были искусно вырезаны два древа, отягощенные диковинными плодами. Под одним древом стоял нагой муж — прародитель Адам — и стыдливо склонив голову, глядел в сторону. Под другим древом стояла — нагая же — прародительница рода человеческого Ева и глядела вверх, на ветвь, кою обвил громадами змей, явившийся ей ради соблазна и погибели.
Тимоша быстро окинул горенку глазами. Была она низка и тесна. Маленькое слюдяное окошечко было забрано густой и толстой решеткой. Под окошечком стоял простой стол с чернильницей, песочницей, подсвечником, бумагами и перьями. Вдоль стояли железные сундуки и деревянные простые, как у мужиков, лавки. На полке, под образами, стояли книги, но видно было, что это книги хозяйственные, а не божественные.
Тут Геронтий отложил перо в сторону и строго взглянул на мальчика. Тимоша увидел суровое лицо совсем уже старого человека… Длинные седые волосы и длинная же седая, борода делали его похожим на праотца Ноя, коего видел Тимоша в Ветхом Завете у учителя своего Вараввы. Одет Геронтий был в холщовый подрясник, из-под коего виднелись мужицкие лапти. Как только Геронтий поднял голову, Тимоша враз перевел глаза со змея на образ Спасителя и, перекрестясь, низко поклонился домоправителю.
— Чей будешь? — неприветливо спросил Геронтий.
— Тимофей Анкудинов, Демьянов сын, — ответил Тимоша, подумав, что, наверное, домоправитель и так знает, кто он таков.
— Зачем пожаловал? — так же неприветливо спросил Геронтий и Тимофей снова подумал: «И это знает домоправитель», но так же спокойно и вежливо ответил:
— Сказывал мне товарищ мой, Костка, конюхов сын, что владыко Варлаам велел мне быть на его дворе, а зачем владыко велел мне быть — того я не ведаю.
«Как по писанному речет малец», — подумал Терентий, и спросил уже чуть мягче.
— Грамоте обучен?
— Чтению, письму и цифири обучен отцом Вараввой, — ответил мальчик. «То добро, — подумал Терентий. — Варавва к чтению прилежен, не бражник и ленивым учням не потатчик».
— Пойдешь в пищики? — спросил он Тимощу.
Тимофей враз представил, как будет он согнувшись сидеть за столом в душной, пропахшей воском горнице домоправителя и без конца писать всякие бумаги. И тут же представил себе: ночное, костер, звезды над головой, ветер с реки, плещущихся под берегом щук и, придав голосу своему кротость и вежливость, сказал:
— Не столь изрядно грамотен я, господине, чтоб возле твоей милости в пищиках пребывать. Пусти меня, господине, на конюшенный двор, больно я до коней охоч. И буду там любую работу работать, лишь бы мне при конях быть.
Терентий подумал: «И впрямь будет лучше, если малец сначала поработает при конюшне. Как, не зная, в дом человека пускать? А там верные люди за ним присмотрят, все как есть перескажут, и если окажется прилежен да честен, отчего тогда и в дом не взять?» И, решив, что этот резон выскажет он и Варлааму, если тот станет говорить, что надобно брать мальца в дом, сказал:
— Ну, ин, быть по-твоему. Есть-пить будешь с конюхами и псарями, а жалованья тебе кладу — в месяц полтора алтына. Иди с богом, к Евдокиму, косткиному отцу, и скажи, что я повелел взять тебя к нему в работу.
* * *
Отец Кости — Евдоким — определил Тимофея к табунку жеребят, где уже работал и Костя. Не к сосункам, что были ещё при матках, а к тем, что уже бегали на свободе, пощипывая траву и постепенно забывая вкус материнского молока. Жеребят было полторы дюжины, за каждым следовало не только следить, но и ухаживать, а что было труднее — бог весть. Восемнадцать питомцев требовали постоянного к себе внимания: их надо было кормить, поить, убирать в стойлах, вычищая навоз, подстилая свежую солому или подсыпая песок. Их нужно было скоблить щеткой и время от времени купать в реке. (Из всего этого только купания да выезды с жеребятами в ночное доставляли мальчикам истинное удовольствие). А дневной выпас только со стороны мог показаться легким делом — у каждого из восемнадцати питомцев был собственный характер, и с иными оказывалось столько хлопот, что лучше бы поставить его на конюшню, чем бегать, выгоняя из кустов, где и ноту можно было повредить и на змею наступить. Конечно, можно было бы самых неспокойных жеребят стреножить, опутав ремнем, лыком или веревкой передние ноги, но и Косте, и Тимоше жалко было их, своенравных, тем более, что только одно лето бегали они на воле, а там, отстояв зиму в конюшне, уже впрягали их до конца жизни в работу.
Четыре с половиной копейки в месяц, которые пообещал Геронтий Тимофею, нужно было отрабатывать честно. Однако не работа удручала Тимошу. Он сразу же заметил и немало удивился, что Евдоким, который до самого последнего дня относился к нему лучше, чем к родному сыну, враз переменился. Теперь для него, что служащие при конюшне холопы, что новый подпасок — были почти едины. Костю он и дома, и на конюшне часто под горячую руку бивал, и на Тимофея пару раз замахивался, придираясь по мелочам, и не порядка ради, а чтобы показать сопливцу данную ему от домоправителя власть. И Тимофей, увидев такую в Евдокиме перемену, старался реже попадаться ему на глаза и дело свое делать исправно.
Мальчики, как и все прочие в хозяйстве Варлаама, вставали рано — со светом, а в середине лета светало в четыре часа утра. Шесть конюхов, два псаря, тележник, скорняк и кузнец встав, шли в кухонную избу, где молодая, толстая стряпуха Аграфена ставила на стол большую миску вареной репы, два каравая черного хлеба, по головке чесноку на каждого и хлебного квасу сколь желает душа. Прежде чем сесть за стол, и мужики, и мальчики, и Аграфена, истово молились на тёмный образ святого Власия — заступника бессловесных тварей, — а затем, перекрестясь, Евдоким брал ложку и первым запускал её в миску, выбирая себе репу побольше и послаще. Тимоша и Костя брали из миски последними, так как сидели в конце стола и их очередь была последней. Правда, иногда после завтрака добрая стряпуха тайком совала им в руку леденец или медовую лепешку, но бывало это не всегда, и, взяв с собою по ломтю хлеба да кринку молока, мальчики начинали работу. Один из них выезжал на выпас, второй оставался в конюшне. Управившись к середине дня с делами в стойлах, он присоединялся к товарищу, и если не нужно было оставаться в ночное, то к заходу солнца оба возвращались обратно. Тележник, скорняк, Евдоким с Костей и Тимоша шли ночевать домой, а стряпуха, четыре конюха и псари оставались на подворье, где стояли их холопьи домишки. Псари не только следили за борзыми, они же убирали двор, топили баню, привозили дрова. А так как кроме мыльни да дома владыки печей во всех других избах было довольно, то холопы без дела не были ни часу, а кроме того, были они и заплечных дел мастерами, забивая в оковы виноватых перед владыкою мужиков, монастырских слуг и холопов.
Через две недели после того, как начал Тимофей свою службу на конюшне, артель плотников поставила в монастырской слободке сарай, баню и избу, сложила печи и отец Варавва, не взяв ни малой мзды, освятил и избу, и новый двор, а затем Соломонида по случаю освящения пригласила гостей.
За новым столом, на новых лавках уселись отец Варавва, Евдоким с женой, Соломонида да Тимофей с Костей.
В тот день Соломонида, низко поклонившись, впервые налила сыну и его товарищу хмельного зелья, потому как стал сын добытчиком, определился к делу и перед приглашенными надлежало ему выглядеть хозяином: другого мужика в доме не было, а известно, что без хозяина и дом — сирота.
Вино Тимоше не понравилось — было оно горькое, пахло прокисшим суслом и так ударило в голову, что в глазах поплыл туман, а в ушах — звон. Однако через некоторое время туман пропал, звон утих, а все тело приобрело какую-то лёгкость, будто собрался он взлететь. Сидящие за столом показались столь милыми сердцу, что каждого — даже слезливую Костину мать — захотелось расцеловать, а кроме того, появилось чувство, что вот он — Тимофей Анкудинов, Демьянов сын — и силён, и умён, и собою хорош.
Разговор за столом шёл обо всём: и о ценах на базаре, и о нынешнем добром лете, что и тепло дает в изобилии, и дождями господь не оставляет, и о том, как служится Тимоше у владыки, и о многом прочем, что случилось в Вологде. Только о пожаре, что учинили божедомы, никто не сказал ни слова зачем дурными воспоминаниями праздник портить?
Разошлись гости засветло — не пьяные и не трезвые, поблагодарив напоследок и хозяйку, и молодого хозяина за хлеб-соль.
Тимофей же, вернувшись домой, лёг на лавку и крепко заснул. А утром было ему так тяжко и скверно, как сроду не бывало: болела голова, тошнота подступала к горлу, во рту было столь пакостно, что и слов не подобрать. И не хотелось даже пальцем пошевелить — не то что на конюшню идти. Мать заметила все это, но ничего не сказала; дала испить квасу, да сухую хлебную корку изрядно натерла хреном. Мерзкий вкус во рту хрен с квасом вроде бы и перебил — да не надолго.
Встретившись на конюшенном дворе с другом, Тимофей узнал, что и Костя чувствует себя не лучше. И в первый раз за все время оставили они стойла нечищенными: и у того, и у другого вилы валились из рук, и хотелось только одного — скорее ускакать на речку amp; лежать в тени, под кустом, по очереди купая коней. Так они и сделали — подперли дверь жеребятника колом и уехали на речку. А приехав, загнали коней в воду и завалились под куст. Солнце ещё не припекало и от реки тянуло прохладой, когда вдруг один из жеребят заржал так жалобно и пугливо, будто малое дитя заплакало. От крика этого Тимофей проснулся, а Костя продолжал спать, приоткрыв рот и широко раскинув руки. Тимофей увидел, как все жеребята враз бросились из реки вон, а один — по имени Игрунок — тот, что заржал жалостно — подпрыгивал, будто ему перебили ногу и ступить на неё он не мог. Жеребята сбились на песке у самой воды тесной кучкой и, как показалось Тимоше, со страхом глядели на воду. А хромой жеребенок выскочил на ближний лужок и, низко опустив голову, стал что-то искать в траве.
Тимоша разбудил Костю и рассказал ему о случившемся.
— Сом, должно, — пробормотал плохо соображавший Костя. — Сам знаешь, какие в реке сомы водятся. Иной не то, что жеребенка, бугая — с ног сшибет.
Однако вскоре жеребенок упал в траву и тихо лежал, подогнув левую переднюю ногу. Мальчики присели возле него и стали ласкать Игрукка, а он вздрагивал испуганно и жалостно, и в глазах у него стояли слезы. И тут Костя заметил, что подогнутая нога начала прямо на глазах быстро опухать и через какой-нибудь час стала в два раза толще правой.
— Змея! — воскликнул Костя. Его укусила водяная змея! Гони табун домой, а я поведу Игрунка! И мальчики, с трудом подняв жеребенка на ноги, лаская его и уговаривая, повели на конюшню.
Когда мальчики загнали табун во двор, они увидели — в дверях жеребятника домоправителя Геронтия, самого владыку и, не знавшего куда девать глаза, Евдокима.
— Явились, голуби, — прошипел Евдоким, и так двинул сына своего Костю по уху, что тот тотчас же упал, но мгновенно вскочив, по-заячьи порскнул за конюшню.
— Стойла не чищены, а вы купаться! — заорал Евдоким и вслед за тем влепил затрещину Тимоше.
Тимошу никто ни разу не бил: мать была к нему постоянно добра, сверстникам же своим он никогда спуску не давал и из самых жестоких драк выходил победителем, потому что если вступал он в драку, то ничего не видел и не помнил: знай только, что надо бить, бить и бить — пока противник не упадет иди не побежит.
И на этот раз с Тимошей произошло то же самое — от обиды, не от удара — поплыли у него перед глазами огненные круги и, не помня себя, он наотмашь ударил Евдокима. Ражему конюху удар Тимоши был все равно, что комариный укус медведю. Однако то, что весь этот срам видел сам владыка и домоправитель, вконец разозлило Евдокима. Схватив Тимошку за шиворот, он крикнул псарям:
— А ну-ка, накормите шалопая березовой кашей, да погуще! — И псари тотчас же поволокли Тимофея в съезжую избу драть розгами. Он кричал, плакал от злости и обиды, изворачивался, как уж, но что он мог поделать с двумя дюжими мужиками?
А в то время, как его драли розгами, спустив штаны, бросив на черную от засохшей крови колоду и сев верхом, Варлаам заметил, что один из жеребят хромает и сразу же определил, что Игрунка укусила змея. Опухоль уже поднялась выше колена и подбиралась к груди.
— Вели позвать Соломонидку, — приказал владыка Терентию. — И пусть сразу скажут зачем. Чтоб была тут, не мешкая, со всем, чем надобно целить от змеиного укуса.
Соломонида пришла немедля. Она велела нагреть воды и те же псари, которые только что отодрали Тимошу, быстро растопили печь и поставили на огонь медный котел. Соломонида бросила в воду какую-то траву и, присев возле лежащего на земле жеребенка, ловким и быстрым движением взрезала ножом кожу, пустив кровь. Затем она обмакнула в густой зеленоватый отвар чистую холстину и запеленала в неё опухшую ногу.
И Евдоким, и псари, и Терентий, и сам владыка хмуро, но с интересом следили за всем, что делала ловкая лекарка.
Только сын её не видел этого — он сидел в темной съезжей избе, забившись в угол и плакал. Он клял Евдокима, холопов-псарей, клял владыку и Терентия за то, что ни один из них и пальцем не пошевелил, чтоб спасти его от позора и боли. Выплакавшись, он прильнул к узкому, забранному решеткой окошечку и увидел лежащего Игрунка, присевшую возле него мать, обступивших её людей и подумал: «А ведь когда Евдоким ударил меня, он ещё не видел, что Игрунка укусила змея». И тут же подумал: «А если б знал — вдвое, или втрое всыпали бы мне холопы». И ещё одно пришло ему на ум: «А ну, как сдохнет Игрунок, что тогда будет?» И аж сердце у него сжалось от жалости и страха и в груди похолодело.
До самого вечера сидел он в съезжей, стыдясь показаться на глаза людям и матери. Вечером он пробрался к жеребятнику и крадучись вошел внутрь. Пахло вялыми травами, конским потом, прелой от мочи и навоза соломой. Жеребята сопели, тихо пофыркивали, терлись боками о стенки загонов. Тимоша пробрался к Игрунку и встал возле него на колени. Игрунок лежал на боку, как и прежде подогнув ногу и опасливо косился на мальчика круглым коричневым глазом. Тимоша нежно гладил жеребенка по шее и крупу, и вдруг услышал, как тихо скрипнула дверь и на пол лёг жёлтый кружок света. «Евдоким, должно», — подумал Тимоша и затаил дыхание, не желая видеть обидчика. Круг света между тем приближался. Некто медленно и грузно шагая, шел прямо к Игрунку в стойло. Тимофей глянул и обомлел: в черной рясе, простоволосый шел по конюшне владыка.
Увидев мальчика, он поглядел в глаза ему и тихо произнес:
— Отодвинь-ка солому в сторону — светильник поставлю.
Легко коснувшись пальцами больной ноги жеребенка, владыка ласково потрепал Игрунка по холке и спросил:
— Как это он на змею-то наткнулся? А то тебя и товарища твоего так скоро в разные стороны понесло, что и узнать было не у кого.
— Купали мы коней, а в реке — змея, — буркнул Тимоша.
— Глядеть надо было лучше: затем и к коням приставлены. Змею завсегда в воде видно, — ответил Варлаам. Тимоша промолчал.
— Горд ты очень и горяч, — после недолгого молчания проговорил владыка. А ведь сказано: «Смирение паче гордости». Много ли гордецов вокруг себя видел?
— А то хорошо ли, владыко, что одна холопы кругом? — вопросом на вопрос ответил Тимоша.
— Где ж это ты однех холопов узрел? Или и я — холоп? — спросил Варлаам.
— Так ты таков на весь наш край — один. Ты, да еще, может, князь Сумбулов, государев воевода, а опричь вас двоих — все холопы.
— И попы, и дворяне, и сотники, и люди купецкого звания — все холопы?
— А кто другому кланяется — тот и холоп. Тебе, да князю Сумбулову всяк кланяется, всяк шапку ломит, да руку целует, али то не холопство?
— Да ведь и я патриарху руку целую и государю в пояс кланяюсь, нечто и я — холоп?
— Перед ними, выходит, и ты, — тихо проговорил Тимоша, и от страха сжался: всяк ли год слышал подобное владыка? И от кого?
И вдруг архиепископ поднял с пола светильник и близко поднес его к лицу мальчика. Сощурившись, он долго глядел в глаза ему, а Тимоша, замерев, стоял перед Варлаамом на коленях, как деревянный.
— Сколь годов тебе, Тимофей? — спросил Варлаам, и мальчик удивился, услышав от владыки свое имя.
— Тринадцатый пошел.
— Почто не захотел к Терентию в пищики идти?
— Волю люблю, коней люблю, оттого и не пошел.
— Зачем же грамоту проходил?
— Сначала мамка велела, а потом и сам я заимел к грамоте великую охоту. А нечто грамоту проходят, чтоб волю на неволю менять? — вдруг спросил Тимоша, и Варлаам, вздохнув, сказал:
— А был бы у Терентия в пищиках, глядишь, и не был бы сегодня бит.
Последние слова показались Тимоше ох, какими обидными.
— А я от тебя, владыко, уйду! — вдруг крикнул он. — Не смогу я с псарями, что били меня, за один стол сести, ни за что не смогу!
— Куда ж пойдешь, Тимофей? Где ж это не бьют вашего брата? Али есть такая земля — Офир? — тихо и грустно спросил архиепископ и стал глядеть на огонь свечи, отведя взор в сторону.
— Нет такой страны, Тимофей.
— А я найду. Не может того статься, чтоб такой страны не было. Я вольный человек и мне крутом дорога чиста, — снова с обидой и запальчивостью выкрикнул Тимофей. — На Дон пойду, али на Волгу, к казакам пристану, нечто пропаду?
— То детские слова, Тимофей. Пять раз повяжут тебя, покуда до Дону добежишь. Как докажешь, что ты вольный человек, стрелецкий сын? И вместо казаков угодишь ты в холопы, али в тюремные сидельцы.
Владыка встал и голосом властным и недовольным сказал:
— Возьми фонарь, казак, да посвети мне, покуда я до палат дойду.
Молча перешли они двор и лишь у самого крыльца Варлаам произнес:
— Что ж, Тимофей, испытай судьбу, а если надумаешь ко мне вернуться ворота открыты. — И повернувшись, благословил:
— Иди с богом.
* * *
К лесной избушке Тимоша подошел засветло. Открыл дверь — и сразу же увидел: лежит на лавке парень, а у парня под глазом синяк величиной с медный рубль. «Костя!» — ахнул Тимоша и, подкравшись неслышно, над самым ухом Кости хлопнул в ладони, как из пистоля выстрелил.
Костя вскочил, ошалело замотал головой, замахал руками, не понимая, где он и что с ним.
Тимоша от смеха сел на пол, утирая рукавом слезы. Беда вроде бы кончилась. Жизнь шла дальше.
До самого полудня проговорили Тимоша с Костей о том, как им быть дальше. Тимоша твердо решил — к владыке Варлааму не возвращаться, но и на Дон не бежать, а пойти к стародавнему отцовскому приятелю, стрелецкому сотнику Луке Дементьеву и попросить замолвить слово перед воеводой, князем Сумбуловым, чтобы взял его князь в ратную службу. Друзья договорились, что Тимоша пойдет домой к Косте и скажет Евдокиму, что ежели он, Евдоким, дает верное слово, что сына своего не прибьет, то тогда Костя в дом вернется, если же слова не даст или, пообещав, нарушит, то Костя из дому сбежит и более никогда не вернется.
Лука встретил Тимошу настороженно и долго выспрашивал, чего это он надумал пойти в ратную службу. Тимоша все ему рассказал, но главного Лука так и не понял: ежедень приходилось ему и в съезжую избу беглых холопов водить, где, допросив, били их батожьем или даже плетью; и тюремных сидельцев, забитых в колодки, по базару за милостыней водить; и на правеж татей и лиходеев едва не каждый понедельник ставить. На глазах у Луки столько народа было бито и драно, и мучено, и пытано, что он никак в толк взять Тимошину обиду не мог, но слово за него замолвить обещал.
После этого Тимоша пошел домой и все рассказал матери. Мать поплакала-поплакала и утешилась, сказав: «Что ни делается — все к лучшему».
Затем Тимоша пошел к Евдокиму. От того, что мать согласилась с ним и Лука пообещал замолвить за него перед князем слово — робости перед Костиным отцом в нем как не бывало. Он вошел к Евдокиму в избу, не останавливаясь, прошел в горницу и, угрюмо взглянув на хозяина, который, сидя на лавке тачал сбрую, коротко поздоровался. Повернувшись к Костиной матери, Тимоша поздоровался и с нею, но совсем другим — ласковым — голосом. Мать Кости Лукерья — женщина не по годам старая, в черном платке по самые брови, — со страхом и надеждой взглянула на Тимошу, затем опасливо покосилась на мужа, и замерла, прислонившись к печи.
— С чем пожаловал? — спросил Евдоким и тут же с явной издевкой добавил: — Али за подохшего жеребца деньги принес?
Тимоша оторопел, но тут же пришел в себя и ответил:
— О жеребенке — особь разговор. Я к тебе пришел от Кости. И говорю тебе верно: если ты его бить не перестанешь — уйдет он, а куда, то тебе знать не надобно.
От такой дерзости Евдоким лишился речи.
— Ах, ты, пащенок! Ах, сопливец! Это как ты со старейшим себя разговариваешь! Да я и с него и с тебя но три шкуры спущу, ежели кто из вас у меня появится!
И Евдоким, встав, грозно на Тимощу двинулся, но тот, схватив стоявшую рядом железную кочергу, отступил на шаг и ощерившись злобно — ни дать — ни взять разноглазый волчонок — прерывающимся от страха и окончательной решимости голосом сказал:
— Не подходи, зашибу!
Лукерья охнула и бросилась меж драчунами.
Евдоким вдруг отступил к лавке и громко захохотал:
— Ты погляди, мать, каков Васька Буслаев из сопливца возрос! — И затем, обращаясь к Тимоше, проговорил: — Я тебя, Тимофей, вместе с кочергой три раза узлом завяжу, да не в том дело. Ты мне — никто. А явится сюда мой сын, быть ему биту. А не явится — пусть идет на свой хлеб. То слово мое последнее. А ты, Тимофей, за Игрунка, что из-за твоего недогляда подох, готовь владыке деньги. И то не мое слово, то слово Геронтия, а не дашь денег — быть тебе у владыки в кабале. И над этим поразмысли, храбрый вьюнош. Деньги добывать — не за кочергу хвататься.
* * *
Костя, узнав о разговоре с отцом, твердо решил домой не возвращаться. Подумав, что делать дальше, он пошел к своему дяде — брату матери — Ивану Бычкову, что жил в Обуховской слободе и слыл среди вологодских плотников первым умельцем.
Неделю назад Иван кончил работу — долгую и, как ему поначалу казалось, денежную: по заказу владыки он сладил деревянные часы — куранты, в которых железкой была лишь одна аглицкая пружина, и те часы поставил на колокольне Софийского собора. Затем Иван срубил к часам указное колесо с цифирью и все это уставил в шатер. От механизма часов к одному из колоколов Иван протянул длинную рукоять с молотом на конце и тот молот каждый час бил по колоколу, извещая вологжан о беге быстротечного времени, а более того, призывая к утрене, литургии и вечерне, кои исправно и точно можно было отныне служить в первый, шестой и девятый часы после восхода солнца.
А то как было до того в Вологде? Поглядит звонарь на солнце и, перекрестясь, вдарит в колокола. А если небо в тучах, либо и при солнце звонарь пьян? То дивятся на неурочный звон гражане, а многие и пугаются; вдруг татарове или же литва подступают к Вологде и не есть ли тот звон набат?
Поначалу весьма многие вологжане дивились первому в городе часозвону, особливо же поражены были этим иноземные купцы, обретавшиеся о ту пору в городе. Один из купцов предложил владыке за часы пятьдесят рублей, но Варлаам в ответ только ухмыльнулся в бороду.
Иван же, получив — по слухам — целые десять рублей, вот уже неделю гулял в царевом кабаке, угощая плотников и бочаров, и тележников, и людей иного звания. А когда в государев кабак явился Костя, то Ивана едва признал: сидел его дядя во главе стола от вылитого вина столь страшный, что встреть такого ночью — перекрестишься и трижды плюнешь, как от бесовского наваждения. Однако ум у Ивана ещё не совсем отбило. Он племянника узнал и, поведя головой, указал ему сесть рядом. Питухи, что сидели и лежали вкруг стола, никакого внимания на Костю не обратили. Целовальник поставил на мокрый и грязный стол новый штоф вина и Иван дрожащей рукой налил зеленое зелье в две оловянные кружки: себе и Косте. Костя отпил глоток, сморщился, закашлялся и схватился за ендову с квасом. Дядя захохотал и спросил:
— Что — не сладко?
Костя, утирая выступившие от кашля слезы, ответил:
— А то сладко? — И тут же, ткнувшись дяде в плечо, зашептал горячо и быстро:
— Дяденька, родненький, помоги мне отсель бежать… Дай на дорогу полтину денег, а я тебе семь гривен верну, как только в работу войду.
Иван совсем протрезвел. С трудом выговаривая слова, спросил:
— А куда бежишь и зачем? Везде одно и то ж. Я владыке и гражанам какой часозвон сладил, а? В немецких городах и то нет ему подобна. А мне за год работы и за все умение мое — десять рублёв. И те десять выдавал Геронтий с хитростью: каждый месяц платил полтину и на той полтине два алтына резов брал — дает полтину, а сам считает, что брал я у него как бы в долг пятьдесят шесть копеек. И через год, когда я куранты сладил и в шатер последнюю шпонку загнал, был бы он мне должен четыре рубли и двадцать восемь копеек, дак он что, хитроныра, измыслил? Нет, ты слушай. Шатёр, говорит, что ты над курантами сладил, то тоже как бы короб, к ним относящийся, а на тот шатер лес тебе владыкой дан, и за тот лес беру я с тебя, Ивашка, три рубли, а остальное делю так: рубль тебе, а копейки — мне. Я на них молебен закажу, чтобы Господь затейку твою не порушил и куранты на звоннице шли исправно. И я тот рубль за четыре дни до полушки пропил. А теперь у меня, брат Костка, и алтына нет. Вчерасъ последний извел. Вот это вино Мокей Силантьич мне в долг поднес.
Иван посмотрел в свою пустую кружку, допил одним глотком, что оставалось в кружке у Кости, и уронил голову на стол.
— Подойди ко мне, вьюнош, — вдруг услышал Костя тихий вкрадчивый голос кабатчика Мокея Силантьевича. Костя подошел к стойке и, глядя в маленькие выцветшие глазки целовальника, спросил:
— Пошто звал?
— Помочь тебе хочу.
— Много ли за помощь спросишь?
— Как бог даст.
— Ну, говори.
— Обещал я Кондратию Демьянычу, да приказчику его Акакию Евлампиевичу верного человека в услужение присмотреть. А ты по кабакам не ходишь, отец твой тоже человек доброй, а яблоко, известно, от яблони не далеко падает. А к кому в услужение пойдешь — сам смекай.
Костя хоть и юн был, Кондратия Демьяныча Акишева знал. Да и кто не знал его в Вологде! Пожалуй, не было в городе человека богаче и тароватей Акишева.
Десять лет назад пожертвовал Кондратий Демьяныч семьсот рублей братии сожженного литвой Ильинского монастыря и на те деньги монахи отстроились, возведя келий и службы, и домы многие. А венцом всего была церковь Ильи Пророка, что на Каменьи. И потому как было не знать человека, который собственным иждивением поставил целый монастырь!
Пойдя ко двору Акишева, одного не понимал Костя, почему это жадный и злой на весь свет целовальник вдруг сделался этаким благодетелем?
Приказчик Акишева враз смекнул, как и почему оказался Костя у него на дворе. Собирал Акишев обоз с товаром в Москву и нужны ему были в дорогу сторожа и конюхи. Однако платить им купчина не хотел, а даром кто в Москву пойдет за полтысячи верст? Вот и договорился он с кабатчиком, если услышит от кого, что хотел бы какой человек из Вологды идти — присылал бы к нему на двор, к приказчику Акакию Гугнивому, и за каждого того мужика, либо парня будет Акишев должен целовальнику пятак.
Акакий — маленький, плешивый и желтолицый — спросил:
— За конями ходить можешь ли?
И Костя сразу же сообразил, что прозвище у приказчика не родовое, не от отца перешедшее, а собственное, личное.
— Так я ж конюхов сын.
— Чей же?
— А Евдокима я сын, что у владыки на конюшне старшой.
— Так это ты, умелый молодец, жеребенка намедни загубил?
Костя понурился. Улыбнулся жалко:
— С кем не бывает, Акакий Евлампиевич?
— У нас не бывает, — прогнусил приказчик.
— Не будет, — виновато проговорил Костя. — То мне на всю жизнь наука.
— То-то, мотри, парень. У нас за это в кабалу пойдешь.
— Поберегусь, Акакий Евлампиевич.
— А к коням давно ли приставлен?
— Как себя помню, Акакий Евлампиевич.
— Ну, помнить тебе себя немудрено — велик ли возраст-то твой?
Костя соврал:
— Четырнадцать сравнялось.
— Не стар, конечно, но и не дитё, в услужение годишься. А в Москву с обозом возчиком пойдешь?
— Пойду, Акакий Евлампиевич!
И по тому, как быстро и радостно выкрикнул Костя свое «Пойду!», Гугнивый понял, что очень уж хочется парню из Вологды уйти.
— Ну, так вот, — сказал Гугнивый, — жалованья тебе никакого не будет: покажи сначала, каков ты в деле. А то жалованье тебе дай, а ты ещё одного коня уморишь. Так что за харч возьму тебя в возчики. А ты, если согласен, приходи в воскресенье к вечерне. У Ильи, что на Каменьи, Кондратий Демьяныч молебен заказал за странствующих и путешествующих. С молебна — к нам на двор, а засветло — с богом, в дорогу.
Глава четвертая. Воеводский пищик
Воевода князь Петр Васильевич Сумбулов происходил из служилых татар волжской степной стороны. Говаривали, что воевода приходился сродни знаменитому касимовскому царю Симеону Бекбулатовичу, который был собинным другом Ивана Васильевича Грозного Впрочем, был ли хоть один служилый татарский князь, который не считал себя в родстве с Симеоном Бекбулатовичем?
И хотя за три колена кровь Сумбуловых изрядно поразбавилась православной кровью русских дворянских родов, вологодский воевода был узкоглаз, широкоскул и, сохранив многое — дикое — от своих касимовских предков, добавил к сему немало недоброго от русских поволжских помещиков, с которыми вот уже добрую сотню лет роднились принявшие православие татарские князья Сумбуловы.
Был воевода коренаст, ростом мал, и потому носил высокую шапку и сапоги на каблуках. Однако же сей природный недостаток возмещал не только каблуками и шапкой, но и необыкновенною свирепостью и неукротимостью нрава, повергая в трепет не только мужиков и купцов, но и дворян, хотя бы и были они ростом в сажень.
Выезжал князь Сумбулов со своего двора, что располагался в вологодском кремле, верхом на бешеном высоченном аргамаке, о бок с двумя стремянными холопами разбойного вида и двумя же ужасными собаками по имени «дог», купленными князем втридорога у английского купца.
Аргамак бил в землю копытами, косил огненными глазами и, роняя белую пену, вертелся под воеводой как чёрт. Собаки, черные и блестящие, каждая ростом с годовалого телка — рвались у холопов из рук, натягивая сыромятные поводки, как тетиву лука. Холопы — ражие мужики, с пистолями и кривыми татарскими ножами за поясом — щерились по-волчьи, поигрывая ременными плетками. Кони у холопов были низенькие, косматые, и потому холопы, несмотря на огромный рост, едучи рядом с князем, едва достигали ему до плеча.
Все это хорошо знал любой житель Вологды, и потому Тимоша изрядно робел, представляя ожидавшую его встречу с князем.
Князь Сумбулов сидел под образами на крытой бархатом лавке и, уставив кулаки в колени, глядел, не мигая, прямо перед собой, начальственно и пронзительно.
Лука низко поклонился, коснувшись кончиками пальцев ковра, и Тимоша, поглядев на сотника, сделал то же самое.
— Тебе, малец, перед князем и воеводой и на колени встать — не грех. Лука — сотник — не тебе чета, — раздраженно проговорил князь.
И Тимоша тотчас же почувствовал на плече тяжелую руку сотника.
Рухнув на колени, и кланяясь князю ещё раз, Тимоша вдруг с озорством подумал: «Впрямь Егор Победоносец, а не живой человек». И разогнувшись заметил над головой Сумбулова образ, на коем Егор копием пронзал змея. Сдерживая смех, Тимоша улыбнулся и весело взглянул на князя.
Сумбулов заметил улыбку и решил: «Ласковый малец и, видать, незлобивый».
— Ну, говори свое дело, — потеплевшим, спокойным голосом проговорил воевода и взор его стал не столь грозен.
— Возьми меня к себе в службу, князь Петр Васильевич.
— А какова может быть твоя служба, малец?
— Что, князь, прикажешь, то я и сполню, — с покорностью и готовностью, как учил era Лука, ответил мальчик.
— Это ладно, что ты такой — ко всякому делу готовый. Да только у меня на то холопов довольно. А вот грамотен ли?
— Читать — писать обучен, князь Петр Васильевич.
— И то ладно. Петрушка! — крикнул воевода. Тотчас из соседней горницы вбежал невысокого роста, прыщавый пищик. Переломившись в поклоне, преданно уставился в глаза хозяину.
— Возьми, вот, мальца и спытай, годен ли в пищиках состоять. И ежели годен, то приди с ним через неделю ко мне на очи и всё как есть доложи. А теперь идите все трое вон — есть буду.
* * *
Три оставшихся до отхода обоза дня Костя прожил в избе у Тимоши. В воскресенье днем, улучив момент, когда отец ушел из дому, Костя попрощался с матерью — плачущей и вконец скорбной. Взял у неё гривну денег и серебряный образок Николы — покровителя всех странников и моряков — и еле утешив её, пошел к Тимоше.
Попрощавшись и с Соломонидой, Костя вместе с Тимошей направился в церковь Ильи Пророка. В уважение благодетелю Кондратию Демьянычу вечерню служил сам игумен Ильинского монастыря со всем притчем и братией.
Костя и Тимоша, как и все вокруг, молились жарко и истово, Они просили угодника Николая спасти Костю и всех его новых товарищей от разбойников и воевод, от болезней и Пальбы, от непогоды и лихоимства мытарей.
Мерцали свечи, блестели оклады икон, согласно и благолепно пел монастырский хор и мальчикам казалось, что все теперь будет хорошо, потому что не мог стоящий у престола всевышнего угодник его Николай не заступиться за них.
…Ранним утром, ясным и прохладным, Тимоша стоял у ворот Борисоглебской башни и ждал, когда огромный обоз в сотню телег прокатится мимо. Рядом с ним стояли жены и дети сторожей, приказчиков, возчиков, шедших вместе с Костей в Москву.
Громыхнули и заскрипели телеги, застучали копыта сотен лошадей запряженных, и сменных, и верховых — и затем обоз остановился перед иконой Бориса и Глеба, что висела над воротами сторожевой башни.
В последний раз перекрестились обозники, поклонились женам своим и детям и медленно тронулись в путь, идя рядом с тяжело груженными телегами. Кое-кто пошел вместе с ними. Пошел за ворота и Тимоша, а когда остались позади дома Обуховской слободы, что лежала к югу от Вологды по дороге на Ярославль и Москву, крепко обнял друга своего Костю, и поминутно останавливаясь и оглядываясь, пошел назад. Обоз уходил вдаль. Затихал скрип колес, топот коней, голоса возчиков. И вскоре, когда почти ничего уже не было слышно и нельзя было отличить телегу Кости от других телег, Тимоша повернулся и со щемящим тоскою сердцем, не оглядываясь более, побрел в город.
* * *
Первая отписка, которую Тимоша сочинил с помощью подьячего Пятого Хрипунова предназначалась для приказа Каменных дел, из коего затребовали отчета в израсходовании 609 рублей 43 копеек, выданных в минувшие 1627 и 28 годы для кремлевского строения в Вологде.
После многих трудов, перемеряв и пересчитав горы камней, глины, бревен, досок, извести, земли, кирпичей и железа, пройдя по кремлю добрых два десятка вёрст и исписав не один лист, Тимоша доложил Хрипунову, что может начинать сочинение бумаги. Тимоша пододвинул к себе исписанные во время обмеров листы и стал считать. Выходило, что за два года на строительство кремля было израсходовано 431 рубль 40 копеек. Он пересчитал ещё раз, стараясь не пропустить ни одного бревна, ни одного пуда извести, ни одного воза глины. Очевидная недостача 176 рублей 41 копейки Тимошу потрясла. Он сложил бумаги в долгий ящик, стоявший у окна и побежал к Хрипунову, ушедшему к себе домой обедать.
Подьячий принял его радушно. Был он навеселе, початый штоф вина и обглоданный заяц прямо указывали на причину его благодушия.
— Что, небо упало?
— Да вроде того.
— А все-таки?
— Все я сделал как ты мне велел, Пятый Степанович, да только как ни крути не хватает 176 рублей и 41 копейки.
— Ну, 176 рублей — не беда, нам бы 41 копейку сыскать.
Подьячий засмеялся, неспешно встал, перекрестился на образ, велел убрать со стола неслышно появившейся толстой, неряшливого вида бабе, и, расчесав волосы и бороду перед зеркалом веницейского стекла, степенно вышел из дому. Придя в приказную избу, он также неспешно разложил перед собою обмеры и обсчеты каменного, деревянного и земляного кремлевского строения. Почесывая нос, внимательно, трезво, будто и капли вина за обедом не пил, прочитал все от первой до последней строки и, хитровато взглянув на Тимошу, ласково проговорил:
— Садись-ко рядом, голубь. Сей момент преподам тебе ещё один урок: како самому не тужити и другам своим давать жити.
Тимоша сел рядом и Хрипунов заговорил — тихо и незидательно:
— Перво-наперво пойми, что нам с тобой в этой избе рядом долгие годы сидеть. И может статься ты меня отселе на погост понесешь, а сам на мое место сядешь. Потому скажу тебе все, как мыслю, без утайки. Тем более, что к работе ты прилежен и не по летам умён. Ежели мы — приказные люди — будем на воеводское жалованье жить, то не токмо пьяны — сыты не будем. А ты в дому моем видел и веницейское стекло и немецкие сукна на лавках, и из штофа я не квас хлебал: романейское вино пил, и в буден день зайчатиной заедал. И со стола после меня не жена моя Авдотья Никитична собирала, а холопка моя Феклушка. И ты, если всю нашу приказную науку превзойдешь, тоже забыт не будешь и на старости лет не придется тебе другим добрым людям завидовать. А чтоб так, голубь мой, все случилось, надобно тебе не только писать уметь, но особливо думать, что ты пишешь, и за каждой строкой собственную выгоду ясно видеть, потому как, если ты о себе не позаботишься, никто о тебе во всем свете, окроме мамки твоей, заботиться не станет.
Подьячий помолчал немного, подумал, как далее разговор вести, и продолжал:
— А теперь гляди, что тут у тебя с отпиской получилося. Выкладки твои верны, но годны они будут лишь на страшном суде, когда единственно должон ты будешь Господу Богу нашему по правде ответ держать. А дворянину Биркину, да дьяку Евсевьеву на их запросную грамотку надобно нам не правду писать, а лишь отписку учинить, тем более, что отписка им нужна более правды многократ.
Хрипунов плутовато Тимоше подмигнул и стал что-то на бумаге подсчитывать, затем пересчитал ещё раз, что-то подправил, что-то зачеркнул и сказал:
— Бери, голубь, лист, и пиши далее, что тебе скажу.
Тимоша пододвинул чистый лист и, вздохнув, омакнул перо. Медленно, думая над каждым словом, а более того над каждой цифрой, Хрипунов диктовал: «И мы по той вашей грамоте доводим, что кремль вологодский зело велик и каменного строения в нем изрядно. А стен каменных 329 сажен, да камня известного 19860 пудов, да извести 453 пуда, да бревен и тёса, и железа и всего протчего — сколь потребно, а всего на 389 рублей 16 копеек. А за перевоз камня и извести, и брёвен, и тёса, и железа, и всего протчего мужикам-перевозчикам плачено 73 рубля 94 копейки. А за рытье рвов глубиною в три сажени, шириною в пять саженей с половиною и длиною в сто двадцать саженей мужикам же землекопам плачено 103 рубля 3 копейки. А 43 рубля 30 копеек в нашей воеводской избе хранятся в целости».
Хрипунов хмыкнул, перечитал написанное, и сказал лукаво:
— Не тот писарь, что хорошо пишет, а тот, что хорошо подчищает.
* * *
И покатились один за другим дни Тимофея Анкудинова, стрелецкого сына, пищика воеводской избы. Остались позади босоногие сверстники, ясные зори и тихие ночи, рыбацкие костерки на берегах, неторные тропы темных лесов, ласковые тубы жеребят в ночном, терпкие запали трав, блеклая краса северных цветов. На смену этому пришло другое — хитрые, жадные государевы служилые люди — воевода, подьячие, писцы, старосты и сотские — начальные власти, началие. Все они вопреки поговорке «началие принять Богу и людям ответ давать» — никому и ни в чем ответа не давали, кроме ещё более высоких начальников, да и тех обманывали без зазрения совести, на что, впрочем, вышние власти смотрели сквозь пальцы: лишь бы подношения шли исправно.
И видел Тимоша, что всякий начальничешка более слабого человека завсегда норовил обидеть, однако же смягчался, ежели получал мзду.
А плавным занятием всего вологодского началия, кроме отписок в Москву, были судебные тяжбы да разные многие поборы. Брали все: уток и гусей, масло и говядину, чаши и кувшины, осетров и сигов, сёдла и сбрую, сукна и холсты; брали сани и телеги, жеребят и поросят, но охотнее всего деньги. И вопреки ещё одной поговорке: «Начальник — за всех печальник», печалились только о себе самих и о собственных своих чадах и домочадцах.
А что касается воеводского суда, то Тимоша каждый день убеждался, что нет человека, который не боялся бы суда. «В суд ногой — в карман рукой», «Где суд — там и неправда», «В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки — куда уйти?» — говаривали самые бесстрашные из приходящих и приводимых в воеводскую избу, и Тимоша знал — истинную правду говорили они.
С приказными он не сошелся. От сверстников, что один за другим шли по стезе отцов, становясь плотниками, гончарами, конюхами, кузнецами, приказчиками — отстал. И остались у него — мать да книги.
Как пришел он впервой из воеводской избы да рассказал Соломониде и поселившемуся у них Косте о том, что видел, так с тех пор и пошло — придет Тимоша домой и всё, как попу на исповеди, выкладывает матери. А мать, хотя писать совсем не умела, многое — в чем Тимоша разобраться не мог понимала сразу. И вышло так, что через некоторое время Соломонида начала давать ему советы, и главное в них было: как бедным людям помочь ив то же время в немилость к началию не впасть. И оказалось, что житейский разум, нелегкая судьба и доброе сердце могли найти выход там, где Тимоше казалось все безнадежно загубленным.
…Вечером, когда в поставце угасала лучина, Тимоша, лёжа на лавке, тихо рассказывал матери о прожитом дне, а мать слушала молча и только в самых трудных местах шептала; «Спаси господи и помилуй». Тимоша жалел мать и не все ей рассказывал. Если приходилось писать ему расспросные речи ни правеже или же на пытке, то он никогда не рассказывал, как человека пытали. Говорил только: «вот он и повинился и сказал вот так-то». Или же подробно пересказывал матери все вопросы судей и ответы пытаемых, а Соломонида, выслушав, говорила Тимоше:
— Ты сам, сынок, посуди — могло ли такое статься, ежели вперед того дело было совсем инаким? — И Тимоша находил в подмеченном матерью несоответствии то, что не углядели, либо не захотели углядеть воевода и судьи.
Свободное же время он чаще всего проводил за книгами.
Так шли недели и месяцы. Отшелестела палым листом и крыльями улетавших птиц осень. Пришла зима — белая, студеная, долгая. В феврале начались метели. Ночи были беззвездными. На Великий пост закрыли и государев кабак — царево кружало. Питухи бездельно засели по избам. Тишина, лень и скука толще снега укутали Вологду.
В воеводской избе одни только тараканы бегали живо, как ни в чем не бывало. Подьячий же и письменные люди и жалобщики от долгого поста двигались медленно, говорили тихо, дела не делали вовсе.
В первую неделю поста вернулись из Москвы прикащики, что водили летом обоз купца Кондрата Акишева. Один из них привез Тимоше письмо от Кости. Костя писал, что устроился в государев Конюшенный приказ, хвалился развеселым и безбедным житьем в шумном, пьяном и тароватом граде Москве, и в конце звал Тимошу ехать к себе, уверяя, что не будут они вдвоем знать в Москве никакого лиха.
Прочитал Тимоша письмо, и показалась ему Вологда скучнее прежнего.
И день ото дня стали приходить Тимоше на ум всякие невеселые мечтания: «Пошто я не боярский сын, — думал Тимоша. — Пошто ежедень сижу с рассвета до темна в приказной избе, как тюремный сиделец, а другие люди гуляют денно и нощно, и спят на пуху, и едят сладко?» И от всего этого ещё сильнее потянуло Тимошу к единственной отряде — книгам. Долгими вечерами, засветив лучину, читал он Ветхий завет и Новый завет, жития многих святых отцов, пророков, апостолов и мучеников. Разные это были люди: иные рабского и холопского звания, иные царского рода. Жили они в разных странах: в Византии, в Еллинской земле, и в Святой земле, и в Антиохии, и в Риме, а иные и совсем рядом — в Прилуках, в Белозерье, в Ферапонтовом монастыре. Овые вместе с Христом начинали свой путь, овые свершали деяния столь недавно, что их и старики вологодские помнили и знали. Однако было у них у всех нечто общее, сплотившее их всех воедино, в священную дружину, в легион праведных. Была у них вера и за эту веру шли они на кресты, на растерзание к диким зверям, на костры, на пытки. И от этой веры самое страшное мучение было им наградой, ибо верили они, что муками своими спасают не только себя, но и всех человеков, погрязших в грехах и пороках. А муки их, думали они, как свечи, горящие во тьме, освещают путь к вечному спасению.
Чтение очень увлекло Тимошу, и когда у вологодских книжистых людей уже ничего более не оставалось, Тимоша, собравшись с духом, отправился в дом к владыке. Было это в воскресенье, после заутрени, на тринадцатый день Великого поста.
Владыка имел богатую книжницу и только настоятели трех близких к городу монастырей — Спасо-Прилуцкого, Кирилло-Белозерского, и особенно Ферапонтова — могли похвалиться большими чем у владыки библиотеками. Однако, так как все они Варлааму подчинялись, то зная его любовь к книгам, навещая Вологду, часто привозили с собой то, чего не было в книжнице архиепископа.
Варлаам сразу допустил к себе Тимошу и, выслушав его, велел идти за собою в книгоположницу. Тимоша прошел длинный ряд комнат, богато убранных коврами, разными ларями, иконами, вышитыми полотенцами, изразцовыми печами. В трех последних покоях второго этажа и размещалась книжница. Книги лежали в ларях, на подоконниках, на лавках и на придвинутых к стенам столах. В каждом покое у окна стояло по одному креслу с высокой спинкой и подлокотниками и по одной малой деревянной скамеечке для ног. Владыка опустился в кресло, велел:
— Пододвинь скамью.
Тимоша быстро подвинул. Владыка сказал:
— Ну, Тимофей, выбирай, что любо, только знай — из книгоположницы выноса нет. Здесь бери, здесь же и чти. А как прочтешь, я с тобою поговорю: таков ли книгочий, за коего себя почитаешь? И как к вечерне начнут звонить, то ты книгу на место клади и к службе поспешай, а в храме — в тиши и раздумье — господь тебя надоумит о том, что вычитал, верно судить.
Варлаам вышел из комнаты и Тимоша, оставшись один, медленно стал обходить все три покоя, внимательно разглядывая собранные богатства.
Книги были разными — печатными и рукописными, ветхими и совсем новыми, в кожаных, медных, серебряных, дощатых, пергаментных переплетах и просто без переплетов — завернутые в белые холстины. Были книги лицевые украшенные многими рисунками, — были книги, в которых каждая буковка выписывалась с великим тщанием, были — переписанные красками многих цветов, с узорочьем и орнаментами, были сделанные спешно — простой скорописью, выцветшими рыжими чернилами, как пишут писцы в воеводских избах, были книги-великаны — в полсажени, были малютки — всего с ладонь.
Тимоша встретил здесь многих старых знакомых, однако немало было в книгоположиице и таких книг, каких прежде он не видывал. Это были сочинения о недавних событиях: «Казанское сказание», «Временник Ивана Тимофеева», «Сказание Троице-Сергиева монастыря келаря Авраамия: Палицына», «Сказание о бедах и скорбях и напастях, иже бысть в велицей России», а в последнем покое он наткнулся на книгу с прелюбопытным названием: «Царево государево послание во все его Российское царство на крестопреступников его, на князя Андрея Курбского с товарищи о их измене». Тимоша раскрыл книгу и сразу же наткнулся на знакомую фамилию. Некто, сочинивший «послание», писал: «Стоит только об одном лишь вспомнить: как ещё ребенком играли мы в спальне нашего отца, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель нашего отца, и положив ногу на стул, не преклоняется к нам. И такую гордыню кто может снести?»
Тимоша перевернул несколько страниц и вновь увидел фамилию Шуйских: «И выковал себе в нашей казне золотые и серебряные сосуды, и высек на них имена своих родителей, будто были они достоянием его родителей. А ведь всем людям известно: при матери нашей у князя Ивана Шуйского была единственная ветхая шуба из зеленого мухояра на побитом молью куньем меху. И если бы то была их старина, то чем было сосуды ковать, лучше было бы шубу переменить».
И Тимоша вдруг вспомнил: осевшую в землю избушку, светец на столе и причудливую вязь на золотом кресте: «Раб божий, князь Иван Щуйской-Плетень». «Царево государево послание, — подумал Тимоша. — Да никак это сам царь Иван Грозный написал? Вот ведь как вышло, что и здесь снова Шуйские помянуты и нелюбовь царя Ивана к этому роду и здесь видна. Значит не зря бежал на реку Сухону, в глушь вологодских лесов Плетень-Шуйский, не зря хоронился от людского глаза. Может быть, знал, что царево послание пошло во все города государства Российского?»
Тимоша взял в руки ещё одну книгу «Временник Ивана Тимофеева» и начав читать, не мог оторваться. Удивительной показалась книга Тимоше. В ней не рассказывалось о чудесах, о подвигах схимников, проводивших всю жизнь в ямах, одетых в рубища, голодных и немытых. В ней не рассказывалось о видениях и пророчествах, о кознях дьявола, об ангелах и архангелах. Дьяк Иван писал в книге о том, что он слышал от людей, которых знал, о том; что видал сам, о том, что вычитал в книгах.
Тимоша узнал из книги Тимофеева историю своей страны за четыре последних, самых бурных её десятилетия. Он, не отрываясь, единым духом, прочел о правлении всех русских царей от Ивана Грозного до Василия Шуйского. Он узнал, что царь Иван, как топором рассек русскую землю на две половины, назвав одну — земщиной, а другую — опричниной. Он узнал, что, минуя единокровного сына, Иван поставил на царство татарина Симеона Бекбулатовича, а затем в припадке бешенства сына своего убил жезлом. Он узнал, что первенец Ивана — царевич Дмитрий — утонул младенцем, а последний его сын, получивший такое же имя, погиб от рук убийц.
Он прочел, как после смерти сына царя Ивана, — безвольного и слабоумного Федора — на престоле оказались случайные люди — Борис Годунов, а затем беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, выдавший себя за младшего сына Грозного — Димитрия.
Он узнал, как Димитрий — Отрепьев — подняв казаков, дворян и холопов, занял Москву, венчался на царство и как затем был убит людьми, не потерпевшими бесчинств, пришедших с ним иноземцев.
«За какие грехи, — читал Тимоша, — наказана наша земля? Нет места, где бы горы и холмы не поливались христианскою кровью, и долины и леса наполнились ею, и вода, окрасившись кровью, сгустилась, и звери и птицы насытились человеческими телами.
Наказаны мы за дерзость клятвопреступлений, за гордыню, за отказ от упорного труда, за любовь к наградам, за чрезмерное обжорство и пьянство, за злопамятность к близким своим. К этому присовокуплю ненасытную любовь к деньгам, хвастовство одеждою и приобретение множества ненужных вещей. А ведь известно, — писал дьяк Иван, — всякая гордость увеличивается при изобилии вещей — читающий да разумеет!
И последнее, нестерпимое зло, навлекшее на Русь гнев божий произношение матерных скверных слов, ибо ими мы оскверняем сами себя и матерей своих. И матерь Божия, заступница наша, отвращает от нас лицо свое и пребывает к нашим молитвам глуха.
Сердце наше окаменело и мы не ждем над собою суда. И родина наша, как вдова, сидящая при дороге и одетая в траурные одежды, и страдающая от многих, окруживших её, врагов».
А в самом конце книги он увидел заголовок: «Царство царя и великого князя Василия Ивановича Шуйского». «Снова Шуйский», — удивился Тимоша и уже в предчувствии чего-то необыкновенного, веря в какое-то предзнаменование или откровение, стал читать:
«Зависть к царствованию возникла и у Василия Шуйского, и как стрелою подстреленный властолюбием, он неосмотрительно и спешно сел на престол. Он создал себе дом и не углубил его в землю, но основал его на песке. Он поднялся внезапно, по собственному побуждению и без согласия всей земли сам поставил себя царем и этим он возбудил к себе ненависть всех городов своего государства. И началось по всей земле нашей непослушание и самовластие рабов и осада городов и сам Василий со всем своим родом был в Москве бунташными холопами заперт и затворен, как птица в клетке. Неожиданно пришли из своей земли под мать городов русских — Москву — богопротивные люди, все латины, и осадили её, как некогда при Ное вода потопа внезапно пришла и затопила землю. По всем городам умножились злые начальники и самовластие, и среди людей пылал неукротимый пламень гнева. И в конце Шуйские сами отломились от маслины и вскоре, по писанию, „низложены были с престола“, а царь Василий со всем родом своим во власянице и в худых рубищах был отправлен в страну чужеверных, в далекий плен и там сошел под землю, получив сноп жатвы своей, сноп зависти и других своих зол. И не осталось никого из рода его».
Тимоша кончил чтение, не переставая дивиться тому, что в двух наугад раскрытых книгах он прочел об одном и том же — роде князей Шуйских.
Темной, скрипучей лестницей сошел он во двор и, взглянув на часозвон, увидел, что скоро начнется обедня. Тимоша вспомнил данное владыке обещание и пошел в Софию. Храм был светел, холоден и пуст. После великого литовского разорения, случившегося семнадцать лет назад, в сентябре 1612 года, когда город за сутки был разграблен и выжжен, дотла, в храме оставались лишь четыре иконы: Софии, Спаса, Смоленской богоматери и положение Лазаря во гроб. Глядя то на одну, то на другую икону, Тимоша встал возле одного из четырех столпов, поддерживавших свод, и задумался над тем, что только что прочел.
Он думал о том, что несчастье равно постигает как раба, так и царя, и, наверное, есть счастливые рабы и несчастные порфироносцы. И бывает, что рожденный холопом становится царем, как случилось это с Григорием Отрепьевым, и бывает, что царь умирает в чужеземной тюрьме, как случилось это с Василием Шуйским. Наверное и вправду бог играет людьми и возносит того, кого возлюбит, и низвергает того, на кого разгневается.
Только как разгадать волю его?
Меж тем храм стал заполняться молящимися. Замерцали свечи возле алтаря, у образов, в руках людей, стоящих тесно и плотно. И увидев плывущие над полом огоньки, Тимоша вспомнил вычитанные где-то слова: «А как увидешь в храме сонм горящих свечей, — знай — светят тебе души мучеников, и невинно убиенных, и скорбящих, что ещё живут возле тебя, и недужных, и голодных. И подумай: сколь много их, и дай каждому, что можешь».
И тут запел хор, и владыка со священниками и диаконами вышел из Царских врат в светлой, усыпанной каменьями митре, в парчевом, тканом серебром и золотом облачении, встал перед иконостасом, сурово сдвинув брови и крепко уставив в пол высокий архипастырский посох. Два иподиакона встали слева и справа от него, взмахивая кадилами. Попы чуть ли не из всех церквей Вологды, широким сверкающим кругом стояли возле архиепископа. Священники то уходили в алтарь, то снова появлялись перед молящимися.
После этого начался обряд анафемствования — великого церковного отлучения — самого страшного наказания, измышленного святыми отцами не для живых, но для мертвых. Даже если анафеме предавался живой ещё человек, то для православной церкви он был уже мертв, ибо церковь отказывалась молиться за души преданных анафеме попавших в ад воров и еретиков, навсегда извергая их из сонма православных.
Протодьякон отлучил от церкви и проклял всех древних еретиков, и нападающих на церковь, и магометан, и пьяниц, и обижающих вдов и сирот, и бунтовщиков, и изменников. И в самом конце, когда уже были отлучены все бунтовщики, протодьякон проклял и отлучил от церкви главного из них Гришку Отрепьева.
— Да истребится на земле память о нем! — взревел протодьякон и, усилив мощь голоса до предела, прорычал: — Ида буде проклят и отлучен многократ, и после смерти не прощен, и да не примет земля тела его, и да горит в геенне огненной день и ночь, и будет мучен вечно! Анафема!
Анафема! — не ангельскими голосами, а как будто пропела труба страшного суда — глухо и грозно откликнулся хор — и когда замерли его последние раскаты, протодьякон повернул фитилем вниз горящую свечу и она погасла, источая смрад.
— И сугубо анафема! — провозгласил протодьякон ещё раз — и заплакали, запричитали старухи и жонки.
— И трижды — анафема! — вновь прорычал протодьякон и в ужасе пали на колени мужи и старцы.
А Тимоша стоял и всплывали в памяти его слова, прочитанные в книге: «А иные, некие, говорят, что был он, расстрига, Отрепьев Гришка до холопов и простых хрестьян ласков, и хотел волю им дати, да, говорят, встали супротив него бояра, да князья, да помещики — и тово расстригу жизни лишили».
И когда на рёв протодьякона вновь откликнулся владычный хор — Тимоша смятенно огляделся вокруг и пошел из храма — каменного, тяжелого, тесного под небо, под звезды, в белые снега, на лунный свет.
* * *
За месяц Тимоша прочитал все, что относилось до великой замяти, окончившейся за шесть лет до его рождения. Он узнал о Лжедимитрии и жене его Марине Мнишек, о другом Лжедимитрии, о несчастном сыне Марины двухлетнем «ворёнке», повешенном московскими палачами. Он узнал о крестьянских вождях Иване Исаевиче Болотникове и Хлопке, о спасших Москву нижегородском мяснике Кузьме Минине и князе Димитрии Пожарском. О всеконечном разорении русской земли поляками, литовцами, татарами, шведами. О боярских заговорах и предательстве, когда по воле боярства на русском престоле должен был оказаться польский королевич Владислав Ваза. Однако более всего Тимошу интересовал Василий Шуйский и судьба его рода. Во многих попадавшихся ему книгах встречал Тимоша фамилию Шуйского, и разрозненные события выстраивались у него в голове в единую неразрывную цепочку.
«Ростом он мал, глазами зелен, волосом плешив, нос имел протягновенен и к низу концом загнут, нижняя губа была у царя Василия отвисла», прочитал он в книге князя Катырева-Ростовского и, придя домой, внимательно погляделся в зеркало. Из зеркала пристально смотрел на него темно-русый юноша. Один глаз у него был зелен, и нижняя губа сильно выдавалась вперед.
* * *
Много книг прочитал Тимоша о великой смуте. И не нашел среди книг хотя бы двух согласных между собой.
Книги, как и люди, то лукаво подсмеивались друг над другом, то в открытую друг друга бранили.
«Впрямь как старые ратники, — думал Тимоша, что собираются по вечерам в кабаке и одни другого уличают во лжи да в хвастовстве». И книги, ранее казавшиеся Тимоше непогрешимым и чистым родником правды, теперь стали напоминать гораздых на выдумки странников, у которых на одно слово правды приходилось три слова выдумки.
И однажды завел Тимоша разговор о Смутном времени с самим владыкой. Крепко удивился Варлаам, когда оказалось, что юнец не просто рассказывал и расспрашивал о вычитанном в книгах, но подметил такие несуразности, каких не увидел и сам архиепископ — современник и участник многих событий.
— А у тебя, Тимошка, не голова — царева палата, — задумчиво проговорил владыка, с непонятной мальчику грустью взглянув на него. — Жаль только, что не доброго ты кореню, а то быть бы тебе стольником, или окольничим, а так — пропадешь ни за што. На Руси испокон повелось, ежели ты богат да глуп — быть тебе возле царя, а ежели ты беден да умен — не сносить тебе головы.
Глава пятая. Леонтий Плещеев
Весной 1635 года Петр Васильевич Сумбулов поехал на медвежью охоту. Холопы подняли из берлоги полуторасаженного старого песта — стервенника. Князь выстрелил, не сходя с седла. Промахнулся. И решил завалить урманника рогатиной. И ладно бы, если сошел с коня, ан нет: бросил вперед своего аргамака и попытался достать зверя опять же с седла. И может уложил бы лесного хозяина — уже и доги на нем повисли, и холопы с двух сторон бежали на подмогу, — да конь испугался зверя, взметнулся свечкой, и вылетел князь из седла, а падая, ударился виском о старую корягу и, охнуть не успев, был таков.
Через месяц в кремлевских палатах поселился новый воевода — дворянин московский Леонтий Степанович Плещеев. Ростом он оказался ещё более невелик, чем князь Петр, лицом был совсем нехорош — глазки маленькие, носик востренький, борода клочками, рот — щеляст. Говорил он тихо, ходил неслышно, смотрел куда-то вбок, не выпускал из рук желтых янтарных чёток.
Ни собак, ни лошадей не держал и верхами никто его никогда не видывал.
Новый воевода приехал с немалым обозом в сопровождении двух дюжин холопов — молчаливых, расторопных, исполнявших малейшую прихоть своего господина по мановению перста.
На следующее же после приезда утро все воеводские холопы оказались при деле: один сменил старого домоправителя, отобрав у него ключи от сундуков и подвалов; второй засел в приказной избе, чутко вслушиваясь в робкий шепот пищиков и подьячих и неутомимо перелистывая казенные бумаги. Остальные оказались в самых важных и прибыльных местах Вологды: у городских ворот, где взыскивался мыт — плата за торговлю на вологодском базаре, в торговых рядах, на постоялых дворах, в кабаках и даже в съезжей избе. Повсюду враз появились глаза и уши нового воеводы Леонтия Степановича Плещеева.
И жизнь в Вологде также враз переменилась. Новый воевода, как бы бесплотный, невидимый и неслышимый, не показывавшийся за ворота кремля, подобно злому духу стал витать над каждой улицей города, над каждой его избой.
Уже через неделю многие поняли, что крикливый, скорый на расправу князь Сумбулов — сущий ангел по сравнению с Леонтием Степановичем Плещеевым. Купцы, посадские, тяглые мужики, а вслед за тем и окрестные помещики почувствовали цепкую, липкую руку нового воеводы, беззастенчиво лезшую в их карманы, проникавшую под крышки их сундуков, раскрывавшую заветные кисы и торбы с полушками, пятаками и гривенниками.
В приказной избе воцарилось великое уныние. Просители шли в избу как и прежде, однако мзду получали теперь не пищики и подьячий, а засевший под образа плещеевский холоп, велевший именовать себя Кузьмой Ивановичем.
Приказным же людям доставалось теперь то, что воеводский холоп давал им в конце недели. И — видит бог — сколь ничтожны стали их достатки!
Столь же оскудели и другие письменные и начальные люди Вологды, которые при князе Сумбулове имели доходы много крат большие. И оттого меж лучшими людьми вначале произошло некое смятение, а затем объявились супротив нового воеводы заводчики, начавшие тихую, поначалу неприметную, гиль.
В приказной избе первым заводчиком оказался подьячий Пятый Хрипунов. При старом воеводе более всего перепадало ему мзды и потому теперь он оказался обиженным сильнее других, Два других пищика, что не брезговали подношениями, примкнули к подьячему и лишь Тимоша остался от гилевщиков в стороне. Воеводский холоп — Кузьма Иванович — оказался ох, как не прост и будто в воду глядел — с самого начала все верно понял.
Однажды, в конце дня, когда все приказные люди уже понадевали шапки, Кузьма Иванович буркнул:
— Останься, Тимофей, ты мне надобен.
Тимоша снял шапку и повернулся к Кузьме Ивановичу. Тот подождал, пока все вышли и сказал:
— Приходи, как стемнеет в избу к Леонтию Степановичу. В ворота стукнешь четырежды. А спросят: «Кто таков?» — ответствуй: «Добрым людям товарищ, недобрым — супостат».
* * *
Варлаам сразу же узнал о проделках нового воеводы: верные архиепископу люди и при Леонтии Степановиче оставались на старых местах, и владыка думал, что, как и прежде, он знает все.
Однако знал он лишь то, что и почти все жители Вологды: новый воевода хитер, жаден, увертлив; холопы его, как пиявки на больном — сосут кровь, пока не отвалятся; соглядатаи его, как тараканы — в любой избе.
Не знал Варлаам главного: что поделывает Леонтий Степанович за высоким забором, за крепкими воротами…
* * *
Тимоша, принаряженный, умытый, подошел к запертым воротам воеводского двора. Стукнул, как было валено и на голос — чужой, незнакомый — ответил по условленному.
— Иди вслед, добрым людям товарищ, — тихо проговорил привратник громадный рыжий мужик с кистенем за поясом и вразвалку пошел к палатам. Дверь с красного крыльца была закрыта и отворилась после таких же условных, тайных слов. Привратник вернулся к воротам, а Тимошу повел в палаты другой мужик, ни дать ни взять родной брат великана, такой же большой, такой же рыжий, только за поясом вместо кистеня торчал пистоль.
По устланной ковром лестнице оба они поднялись на второй этаж. На площадке — господь, спаси и помилуй — стояли два голых медных мужика с медными венцами из ягод и листьев на кудлатых головах. Единую руку уперев в бок, другою держали светильники. Жир в светильниках трещал и смердел, голубоватый дым плыл под невысоким потолком, из-за двери горницы слышен был говор многих людей, смех и — должно примерещилось Тимоше — звонкие и высокие женские голоса.
— Входи, добрым людям товарищ, — проговорил второй страж, и указав перстом на дверь, пошел по лестнице вниз.
Тимоша постоял немного и, собравшись с духом, толкнул дверь. Он окунулся в шум и дым — будто в кузню нырнул — оттого и не смог понять сразу кто-где и что вообще творится вокруг: слышал только многие как бы дальние голоса и видел огни свечей, средь которых мелькали люди — неясные, словно тени.
Внезапно совсем рядом оказался некто: не то мужик, не то баба: в шапке с бубенцами, из-под шапки — волосы ниже плеч, в высоких немецких сапогах с кистями, в немецкой же рейтарской куртке желтой кожи, рукава кверху от локтей разрезаны, а лицо так заляпано белилами да румянами будто у кабацкой гулёны. Обхватив за плечо крепко — сразу пропали всякие сомнения: мужик — второй рукой сунул прямо в лицо такую ендову — коню впору. Тимоша отшатнулся, но ряженый держал его крепко. Оскалив зубы, крикнул: «Пей, добрым людям товарищ! Пей без сумненья!» И тут — ещё раз Тимоша охнул неслышно — по голосу признал ряженого — Кузьма Иванович!
Из тумана выскочил ещё один ряженый, а с ним — две жёнки — пьяные, крикливые, простоволосые.
Тимоша озирался, соображая. Вдруг сразу стало совсем тихо и возле Тимоши оказался невысокий, мелкий лицом мужичонка, в лапотках, в чистом тонкого холста портище. Руки у него были маленькие, белые и держал он в руках длинные чётки — будто капли застывшего мёда повисли в воздухе.
— Дай ендову, — тихо сказал мужичок; и ряженый тут же поднес ковш прямо к его губам — тонким и бесцветным. Мужичок чуть пригубил вина — будто поутру на свадьбе с травы росы выпил — прикоснулся к губам рукавом рубахи. Проговорил распевно:
— Доброе вино, сладкое. Пей, добрым людям товарищ.
И Тимоша — неизвестно почему — враз покорился его тихому голосу, от которого иного, кажется, бросило бы в сон, ан нет — все кругом слушали так, словно райская птица пела: со вниманием и всевозможным умилением.
Тимоша, скосив глаза на мужичка, выпил один глоток, другой — все вокруг в лад захлопали в ладоши, загомонили складно: «Доброе винцо, погляди донцо, и мы все люди донные добре упоенные!»
Тимоше вдруг стало покойно и радостно: вино и впрямь было добрым — не пивал слаще, и привечали его, как равного, донные люди — мужики да бабы пройди свет, изведавшие все до дна. Ему захотелось не ударить в грязь лицом — предстать перед ними этаким бывальцем из тех, что не дома сидят, а и на людях говорят. И Тимофей, осушив ендову до дна, и ещё ничего не почувствовав, поясно поклонился мужичку в лапотках и произнес вежливо:
— Благодарим за угощение!
— Молодец! — воскликнул мужичок. Знает, кому кланяться, кому челом бить!
Поглядев на притихших питухов, сказал:
— А кто иной вежеству не учен, и тому — где пень, тут челом; где люди — тут мимо; где собаки дерутся — говорит: «Бог помощь!»
— Так ведь мы, господин, читать-писать не горазды, а твоей милостью пряники едим писаные, — сладко пропела простоволосая большеглазая молодуха. И с немалым лукавством добавила: — А вели, милостивец, вежливому человеку грамоту свою изъявить.
Мужичок шутливо ткнул молодуху в бок и сморщился лицом — засмеялся.
— А ну-ко, голубь, чти, што на донце у ендовы написано. Тимоша повернул пустую ендову, громко прочел: «Век жить, век пить!»
— Так-то, голубь, — проговорил мужичок и в другой раз сморщился личиком.
— А ну, чти еще! — и ткнул перстом в стенку ендовы. «Пить — умереть, не пить — умереть; уж лучше пить да умереть!» И рядом: «И пить, и лить, и в литавры бить!» — Тимоша прочая все громко, внятно, истово, как на клиросе стоял.
— А верно ли то сказано? — спросил хозяин, как будто бы вскользь, промежду прочего, но Тимоша и тут уловил: сей вопрос важнее прежних.
— Доброе дело — правду говорить смело. И ты за то меня, Леонтий Степанович, не суди.
— Ох, прыток, вьюнош, — снова засмеялся мужичок. — Нешто мое имя-отчество у меня на лбу написано?
— Не колдун я, — угадчик. Сколь живу — столь и на людей гляжу. И не просто так гляжу, а со смыслом. И всякого человека стараюсь распознать, каков есть? Вот так же и на тебя глядел — и понял: не простой ты человек доброй: хоть бы сермягу тебе носить, а доброродства твоего от глаза не скрыть.
Леонтий Степанович от удовольствия аж зажмурился. И не заметил, что Тимоша на первый его вопрос не ответил, обошел его хитростью.
— Ладно, ладно говоришь, вежливый человек. Чую я — быть тебе добрым людям товарищем, подлинно. А теперь — к столу.
И хозяин, обняв Тимошу за пояс, пошел впереди прочих к свечам, к ендовым и чарам, к блюдам и всяческим брашнам, а за ними, ударяя в такт ладошками, приговаривая и поплясывая, двинулись пестрые, пьяные гулевые люди.
Встав во главе стола, в красном углу, под образами, завешанными плотным холстом — чтоб не видели святые угодники буйства и пьянства, срама и богохульства — Леонтий Степанович по-скоморошьи воздел руки и в тишине, мгновенно наступившей по мановению его всемогущих дланей, произнес тихо:
— Послушаем, братья и сестры во диаволе, премудрость язычника Соломона, царя и чародея.
Плещеев замолчал и кивком головы позвал к себе маленького человечка почти карлика — одетого в рясу, но без наперсного креста.
Карлик ловко прошмыгнул к Леонтию Степановичу и по-собачьи преданно глянул в лицо ему.
Плещеев, важно прикрыв глаза, сел на лавку и тихо произнес:
— Начинай.
Карлик встал на лавку и неожиданно густым и красивым голосом начал читать: «Кратка и прискорбна наша жизнь и нет человеку спасения от смерти. Случайно мы рождены, и после будем как небывшие: дыхание наше — дым, и слово — искра в движении нашего сердца. Когда искра угаснет, тело обратится в прах и дух рассеится, как воздух, и имя наше забудется, и никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет как след облака, и рассеится, как туман, разогнанный лучами солнца. Ибо жизнь наша — прохождение тени и нет нам возврата от смерти.
Будем же наслаждаться и преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни, увенчаемся цветами роз, пока они не увяли. Везде оставим следы веселья, ибо это — наша жизнь и наш жребий. Будем притеснять бедняка, не пощадим вдовы и не постыдимся седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным».
Попик замолк и, дурашливо скривившись, ёрнически взвизгнул, А услужливая память подсказала Тимоше то, чего не договорил пьяненький вития и чем на самом деле кончалась эта притча: «Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их».
* * *
Проснулся Тимофей поздно. Открыл глаза — потолок не из жердей слажен — дощатый. Глянул в горницу и от страха похолодев, стал вспоминать, что же было после того, как повел его Леонтий Степанович за стол? Но ничего вспомнить не мог. Вино, проклятое, время как ножом разрезало — одна половина явственная, будто в зеркало при солнце глядишь, другая — как в печной трубе беззвездной ночью. И чем более глядишь, тем гуще мрак.
Поглядел Тимоша ещё раз в горницу, а на полу шесть девок ли, баб ли с восемью мужиками лежат. И от подобного срама закрыл Тимофей глаза крепко и стал о том только думать, как бы не слышно домой сбежать, однако сделать того не успел: раскрылась дверь и вошел в Горницу Леонтий Степанович босой, в одних исподних портах, зябко держась левою рукой за правое плечо, а правой — за левое. Оглядел всех, и заметил, что Тимоша открыл глаза, приложил перст к губам — молчи-де. А сам, юрко нырнув в соседнюю спаленку, вынес оттуда горящую свечу и, зажав от смеха рукою рот, поставил свечу ближнему спящему мужику к самой бороде. Раздался слабый треск, запахло паленой шерстью, мужик замычал, ещё не просыпаясь, дурашливо замахал руками, и — вдруг — вскочил, заревел — чисто медведь, на коего пал пчелиный рой.
Леонтий Степанович, тихо повизгивая, привалился к дверному стояку.
Тимоша хохотал до боли в животе. Жёнки, сев, кто где лежал, от смеха плакали. Обгоревший мужик метнулся из горницы вон — мыть лицо водой и скрываться подальше от всеконечного срама: кто не знает, что борода в честь, а усы и у кошки есть? А тут — истинно — принес свою бороду на посмешище городу.
Понемногу все отсмеялись. Леонтий Степанович незаметно исчез. Вышел в горницу в боярской одежде: в польском зеленом кунтуше, на перстах кольца, на ногах сафьяновые сапожки.
К выходу его два отрока неслышно переменили на столе все. Поставили квас, хлеб, редьку с маслом, пирог с капустой, морошку — ягоду, сбитень свежий.
Бабы, не сев к столу, из горницы тихо вышли. Мужики смирно сели на лавки, ели молча, робко взглядывая на хозяина.
Хозяин сидел скучный, ел-пил мало. Вскоре махнул рукой — подите прочь. Все неслышно пошли к двери. Когда уже были у порога, Леонтий Степанович сказал скучно:
— Ввечеру, Тимошка, к темноте, у меня будь.
* * *
И снова стоял Тимоша у знакомых уже ворот и думал, что предстоит ещё одна знатная гульба и попойка. Однако, когда вошел в дом, понял — не туда повел его холоп с пистолью. Миновав узкий коридор и отворив низкую железную дверь в стене, страж потоптался робко, покрестился, и сказал неожиданным, плачущим голосом:
— Спаси, богородице, и помилуй! Иди далее по лестнице сам-один. А как придешь на самый верх, ко двери малой, чти молитву и вступай в горницу бесстрашно. А я дале не пойду — лесенка мне узка.
Тимоша вступил во мрак и, касаясь руками и плечами стен, пошел по узкой, выложенной винтом, лестнице вверх. На последнем витке стало чуть светлее. Тимоша, поглядев вверх, увидел железный фонарь, висящий над дверью вышиною не более двадцати вершков, сделанной для дитяти или малого человечка — карлы.
Тимоша стукнул в дверцу, услышал голос слабый, далекий и, не разобрав, что сказано, согнувшись в три погибели, прополз через игрушечную дверцу в горницу.
Комнатка, в которой он оказался, была мала и сумеречна. Под ногами Тимоша почувствовал мягкий ковер, разогнувшись, увидел сквозь серый мрак стоящий поперек длинный стол, покрытый черным бархатом, а на столе единую малую свечу, воткнутую в шандал для семи свечей. За столом сидел Леонтий Степанович, желтый, маленький, в черной не то рясе, не то схиме, смотрел перед собою, не мигая. За спиной его висел коврик малый, изукрашенный серебряными звездами и изображениями разных тварей и предметов. Тимоша скользнул глазом по серебряным изображениям и увидел рака, козла, телка, а прочее не понял. Переведя же взгляд на стол, вздрогнул: рядом с шандалом белел на бархате человеческий череп — голый, страшный, а на другой стене в большой железной клетке сидела желтоглазая, кривоносая сова. Увидев все это, Тимоша побледнел лицом и сильно ослаб ногами. Леонтий Степанович, скосив глаза вбок, играл четками. Молчал.
— Садись, — тихо и ласково проговорил воевода и маленькой белой ладошкой указал место на лавке возле себя.
Тимоша, косясь на череп, обошел стол и робко присел на лавку.
— Ты, Тимофей, разговора своего не помнишь, а я помню. И по разговору твоему любо мне испытать тебя. И то, что ты вчера в горнице говаривал, то не я один — все холопы мои слышали. И если б довели на тебя, то стоять бы тебе, Тимофей, в московском застенке, на правеже, да не та у меня изба, чтоб кто-нибудь сор из неё хоть малой малостью выносил. И в том, Тимофей, твое спасение.
Леонтий Степанович помолчал немного, достал из-под лавки щипцы, снял со свечи нагар.
— Все, что ты вчера говаривал, вспоминать не стану. Однако главное скажу. Памятью да грамотой господь тебя не обошел, да не знаю — умён ли? А каково тебе впредь станется, то мы сегодня углядим: ждет ли тебя порфира царская, как ты вчера бахвалился, или же плаха, о чем пока ты не догадываешься.
Тимоша молчал, напуганный и пораженный: неужели то тайное, о чем лишь ночами самому себе грезилось, выпив дьявольского зелья, столь многим незнакомым людям враз рассказал?
Леонтий Степанович поглядел косо, поиграл чётками, сказал загадочно:
— В наше антихристово время все может быть. Может, и впрямь ты Шуйский царевич. Да ведь и у царевича судьба в божьих руках. А угадать судьбу твою вполне возможно, для того у знающих особая наука есть. И имя той науке — острологикус.
Леонтий Степанович взял с лавки книгу, переложил на стол. Не раскрывая, проговорил заученно:
— Остроломейское учение, или же острологикус, есть из наук величайшая. Наука сия по расположению светил определяет каждого смертного, будь то царь или же юрод. Как же можно, на ночное небо взирая, судьбу смертного предсказать?
Плещеев поднял палец в знак того, что Тимоша должен особенно внимательно слушать дальнейшие объяснения.
— Острологус прежде всего должен отыскать гороскоп. Что есть гороскоп? Гороскоп есть точка великого круга небесной сферы, по коей движется солнце и коя проходя по двенадцати созвездиям Зодиака, восходит в момент рождения человека. Точка сия есть важнейшая для всей судьбы рожденного, ибо все звезды, и Луна, и Солнце вокруг гороскопа располагаются и тем расположением острологусу о судьбе рожденного говорят ясно.
Небо от сей наиважнейшей точки делится на двенадцать кругов склонения или же домов. Наиглавнейший из них есть дом чинов, или середина неба, затем следуют дома дружбы, вражды, жизни, счастья, братьев, родственников, детей, здоровья, брака, веры и смерти.
Сии дома составляют небесную фигуру, в коей по расположению светил острологус предрекает судьбу. Однако, кроме домов и светил, надобно знать и знаки Зодиака, коих также двенадцать.
Плещеев повернулся на лавке и ткнул пальцем в коврик. Снова помолчал немного.
— Далее я обучу тебя, как читать скрытое от непосвященных и ты будешь ловцом человеков, ибо ничто от тебя не будет сокрыто и тайное станет явным. Скажу тебе, что каждая планета покровительствует кому-либо. Солнце светило царей, бояр и начальных людей, Луна — царица ночи и её покровительство находят кабатчики, ростовщики, скоморохи и тати. Марс светит палачам, лекарям, коновалам, воинам — всем, кто проливает кровь. Меркурий — есть планета филозофов, острологусов и прочих ученых людей. Юпитер светит поселянам, Сатурн — старцам, монахам, больным и слабым.
Потом, когда ты узришь все домы и светила на небе и будешь читать небесные знаки, как литеры в книгах, я расскажу тебе и многое другое, столь дивное, что все сказки перед сим померкнут.
Однако с самого начала ты должен знать, что наука сия попами и властью объявлена ведовской и за острологикус людей кидают в застенок, какого бы звания они ни были. Правда, я и в Москве знаю людей добрых и даже бояр, кои острологикус ведают, но ежели кто из них по чьему-нибудь навету попадает к катам, то иные, хотя и вызволить своего товарища пытаются, однако открыто сего никогда не делают, ибо за собственную шкуру всяк человек более всего опасается.
Плещеев вздохнул печально, видно вспомнил нечто невеселое.
— А теперь надобно мне знать, когда ты, Тимофей, родился?
— Рожден я в месяце июне 7125 года, — ответил Тимоша.
Плещеев ударил рукой по столу, воскликнул громко:
— То добрый знак, Тимофей! Не зная сего, призвал я тебя в тот самый месяц, когда ты родился!
Подбежав к коврику со знаками Зодиака, Плещеев дернул его в сторону: коврик плавно отъехал, открыв оконце малое, забранное слюдой. Нетерпеливо толкнув решетчатую железную раму, воевода высунулся едва не до пояса, приложив ладонь ко лбу козырьком, внимательно стал вглядываться в небо.
Тимоша стоял за спиной, не дыша. Воевода метнулся от окна, схватил с полки чернильницу, перо, лист бумаги. С другой полки схватил огниво, кресало, полдюжины свечей. Кинул все на стол. Трясущимися от нетерпения руками стал втыкать свечи и бить железом по кремню. Зажег все семь свечей в шандале, снова метнулся к окну, от окна — к столу, и так, вертясь на лавке меж столом и окном, стал рисовать на бумаге точки и линии.
Завершив сие, откинулся назад, глядя на Тимофея с изумлением. Проговорил, раскрыв глаза, как мог широко:
— Вышло тебе, Тимофей Демъянович, нечто великое. Быть тебе, без сумленья, возле государева престола в самой близости.
* * *
С той поры воевода звал Тимофея к себе есть и пить чуть ли не ежедень. Слушал его внимательно, оставшись наедине, не единожды говаривал:
— А у тебя, Демьяныч, не голова — царева палата. По всему видать доброго ты человека сын.
Тимоша загадочно ухмылялся.
Близость к воеводе была тотчас же замечена многими людьми. Тем более, что Кузьму Ивановича воевода услал в Москву по какому-то делу, а взамен его поставил Тимофея.
Теперь Тимофей собирал мзду со своих бывших товарищей и все собранные деньги воеводе отдавал исправно.
После третьего раза Леонтий Степанович проговорил раздумчиво:
— Не могу я понять тебя, Тимофей Демьянович. Честен ли ты очень, или же гораздо хитер? Кузька, тать, мне вполовину менее твоего давал, а ведь он мой холоп, а ты — вольный человек.
— Ты сам себе ответил, Леонтий Степанович. Всякий раб — лжив и слаб. А чего ж от раба и ждать? Кто о нем подумает, ежели он сам о себе не вспомнит? Кто о нем позаботится? А ведь и раб — человек и ему, как и прочим, пить-есть надо. И другое пойми, Леонтий Степанович. Ты ему власть дал — у приказных людей деньги брать. А приказные те деньги берут у мужиков, что в избу с челобитьями друг на друга приходят. А у тебя те деньги ближние государевы люди — бояра да окольничьи — берут. И — конец концов — государь да патриарх остатнее к себе в казну прибирают. И каждый низший к каждому высшему, как холоп к господину, чего-то не доносит, себе норовит оставить. Так что перед богом мы все холопы. А тебе я все отдаю без утайки потому, что хочу я по всей правде вольным человеком быть и любому в глаза глядеть бесстрашно.
— Не получится это у тебя. Не бывало так и статься так не может. Только тот свободен перед людьми, кто сатане душу продал, а ты, я чай, сего ещё не свершил?
— Спаси тебя Христос, Леонтий Степанович! — испугавшись, воскликнул Тимоша.
— Пошутил я, — ухмыльнувшись невесело, проговорил воевода и поглядел на Тимощу — будто по лицу ему паутиной провел.
* * *
Ночные кутежи, перемежавшиеся тайными занятиями острологикусом, сиречь остроломейским учением, пока что оставались неизвестными никому из непосвященных, Однако не таков был город Вологда, чтобы тайное когда-нибудь не стало явным.
Однажды, во время очередного шумства и пьянства вошел в горницу некий черноризец: волосом черен, лицом худ, глазами страшен.
Леонтий Степанович метнулся к вошедшему, будто ждал его вечно. Черноризец облобызал хозяина троекратно, повел глазами налево и направо, как косой махнул, и пошел прямо к столу впереди хозяина.
Сел он по правую руку от воеводы, но Леонтий Степанович, не садясь, попросил его занять место в красном углу, а сам порывался сесть рядом.
Инок ли, поп ли, только рукой махнул от докуки и плеснул себе в стеклянный штоф немного вина из стоявшей поблизости немецкой посудины. Пригубил и, сморщившись, оставшееся вино из штофа выплеснул под стол.
Леонтий Степанович сам быстро схватил серебряный, кованый кизилбашскими мастерами кувшинчик, бережно налил старого рейнского, кое никому не наливал кроме себя самого.
Гость выпил молча, похрустел малосольным огурчиком. Сказал тихо, но все расслышали:
— Вали гостям ночевать идти. Хочу с тобой говорить, Леонтий Степанович.
Воевода и слова произнести не успел — все гости от немалого изумления онемев выкатились за дверь.
* * *
После того, как провел Тимофей первую ночь у воеводы, Соломонида сердцем почуяла недоброе. И всякий раз, как приходил он при звездах, вздыхала громко, или тихо плакала. Тимофей от этого плача места найти не мог — бежал из избы вон. Соломонида все хотела с сыном о его делах поговорить, но Тимофей сторожился, молчал, от разговора уходил.
На Троицу пошли они на кладбище помянуть отца и мужа. На кладбище голом, безлесном — было людно и шумно. Много посадских пришло сюда помянуть ближних, а каковы поминки без вина? А где вино — там и ссора.
Недобрыми взглядами провожали люди Анкудиновых. «Ведьма и тать сыночек да мать!» — выкрикнул кто-то, как только вошли они на кладбище. Вздрогнул Тимофей, будто по лицу его ударили — посмотрел туда, откуда донеслись обидные слова, мужики и бабы сидели тихо, смотрели простодушно, улыбались ласково.
Чувствуя взоры их меж лопатками, опустился Тимофей на могилу отца, бережно досадил мать рядом с собою.
Соломонида, понурившись, сказала:
— А ведь они ещё раз нас пожгут, топорами посекут — дай им только волю.
— Эх, мамка, знали бы они все, что я знаю, — в тон ей шопотом ответил Тимоша. И Соломонида, почувствовав, что настал момент, коего ждет она уже не один день, ответила:
— А если я, Тимоша, узнаю все, что знаешь ты, нечто присоветую я тебе что худое? Или же не оберегу тебя моим сердечным разумением?
И Тимофей, торопясь и спотыкаясь, стал рассказывать матери обо всем: о Леонтии Степановиче, о его холопах, о ночных бдениях и о тайной науке острологикус. Мать слушала молча, жаркий шопот сына и сидела бледная, закусив конец черного, вдовьего плата.
— То недобро, сын, — сказала она. Избу нашу сожглии ни за что. Нешто пощадят хотя бы и воеводу, если дознаются обо всем? А можно ли что-либо утаить в Вологде?
Мысль о том, что сыну её грозит беда, что его в любую минуту могут забить за волхование и колдовство — не давала Соломониде покоя. И, промучившись неделю великими страхами, измыслила она нечто мудрое — решила исповедаться самому Варлааму.
Архиепископ принял её в исповедальне — маленькой сумрачной комнатенке, пропахшей воском и ладаном. Встав на колени, Соломонида поцеловала большую мягкую руку владыки и заплакала.
Варлаам, утешая, положил ей руку на голову и легонько погладил. От этого Соломонида заплакала ещё сильнее и сбиваясь, стала рассказывать обо всем, что узнала от сына. Варлаам молча слушая, замер.
— То ты сделала гораздо, Соломонида, что пастырю твоему доверила тайну свою. А паче того будет, если пришлешь ко мне Тимофея. Я чаю, давненько не бывал он на исповеди.
Идя домой, Соломонида перебирала в памяти все, рассказанное ею Варлааму. На душе у неё было тягостно и старые страхи перед самосудом толпы сменились новыми страхами перед судом владыки.
* * *
Три дня Варлаам неотступно размышлял об услышанном. Каждую минуту ожидал он Анкудинова, но Тимоша не появлялся. «Боится? — думал Варлаам или же Соломонида ничего ему не сказала?» И решил — боится. А раз так, значит все сказанное — правда, да и зачем матери оговаривать сына? «Ай да воевода, ай да сукин сын, — думал Варлаам, — ишь ведь чего умыслил? Острологикус! Да я тебе такой остролорикус учиню — забудешь как тятьку с мамкой звали».
То, что он без чьей-либо помощи справится с Лёшкой Плещеевым, представлялось Варлааму несомненным. Негодуя на еретика Лёшку, Варлаам не мог взять в толк одного: какого рожна было ещё нужно поганцу-воеводишке? Чего ему не хватало? Какая сила заставляла его чародействовать, пялиться по пустому в небо, волховать и чернокнижничать?
Ведь знал, аспид, что и за меньшие вины держали в пыточной избе на дыбе людей и не таких родов! Знал, а все же испытывал судьбу!
И впервые Варлаам убоялся и за самого себя: «А ты, пастырь, где был сам? Под носом собственным, в соседнем дворе, ведовства не учуял! Узнают о том недоброхоты твои — и прощай сытое да праздное житие — повезут Лёшку в Москву, в застенок, а тебя — на север, в леса, в сугробы, в монастырь, на вечное покаяние, простым монахом!»
Понимал Варлаам, что если кто-нибудь ещё узнает о чародействе Плещеева — не удержать событий, потому что уже не люди вмешаются в дело промысел небесный, рок и судьба. И будет так, как всегда бывало — одному застенок, другому — монастырь, так как многое мог простить государь чародейства не прощал никому, ибо более всего боялся сглаза, наговора и всякого иного колдовского лиха, а такие дела никто в державе не решал опричь царя да патриарха.
На четвертые сутки, не доверяя никому, Варлаам надел вытертую рясу, подпоясался простым ремешком и, взяв в руки суковатую палку, вышел со двора, намереваясь перехватить Тимошку по дороге домой.
Владыка хоть в этом преуспел без помех — и через четверть часа увидел вероотступника Тимошку, вынырнувшего из воеводской избы. «Как девку за околицей поджидаю», — вдруг обозлившись подумал Варлаам и, обругав себя последними словами, пошел наперерез богохульнику.
Тимофей, распознав владыку, быстро сдернул шапку, низко поклонился и, поравнявшись, почтительно припал к руке.
— Чего в книжницу-то перестал ходить? Али какое новое заделье отыскал? — спросил Варлаам тихо. Злость у него совсем пропала, как увидел он беззащитный, покрытый тёмным пушком, затылок Тимошки.
— Когда повелишь, тотчас и прибегу, — ответил Тимофей, и по его тону Варлаам понял, что юнец ни о чем не догадывается: ничего не сказала ему мать.
* * *
Тень владыки — большая, черная — металась по стене книжницы, как посаженный на цепь охотничий беркут.
— Чего ищите?! — кричал Варлаам. — Геенны? Умнее иных хотите быти? В непознаваемое проникнуть желаете? Не бывать тому! Во веки веков не бывать!.
Варлаам остановился, передохнул. Спросил почти спокойно:
— Ежели узнаешь что запретное, неужели не страшно за сие лишиться вечного блаженства, за малое знание обрести муки вечные?
— Страшно, владыко, ой как страшно, жутко даже, а ведь и интересно.
— Да пойми ты, валаамова ослица, сколь стоит твой интерес! Неужли за праздное еретическое любомудрие можно заплатить всеконечным погубленном души? Помни, господь не наказал Лота, племянника Авраамова, за блуд, за пьянство, за празднолюбив, но он же обратил жену его в соляной столб за то, что хотела увидеть недозволенное, узнать сокрытое. Тако и все вы, любопытствующие всуе, идете в геенну огненную, ко окончательной погибели!
Варлаам подошел вплотную к Тимоше, положил руки на плечи ему, сказал упрямо:
— А окроме того, воевода тебе не чета. Он хоть и нагрешил вдесятеро откупится, а тебе — на дыбе висеть. А я того — не хочу! И будет как я сказал: завтра же уедешь в Москву, к дочери тетки моей Евлампии. Завтра же утром, слышишь? Поживешь, пообсмотришься, ан дурь-то из головы и повыветрится. И завтра же перед ранней заутреней возьмешь у меня письмо к мужу Евлампии, дьяку Патрикееву Глебу Исаковичу.
* * *
Собирала Соломонида сына в дорогу и на душе у неё было покойно и радостно. Руки сами делали нехитрую работу, а голова была занята не сборами — мечтала Соломонида о том, как поедет она на Москву, да станет жить возле сына — внуков нянчить. А ещё радовалась, что это из-за неё все так ладно вышло, она все это придумала и устроила.
Пока Тимоша ходил по городу — прощался со знакомыми ему людьми Соломонида затопила печь и затворила тесто. Сын вернулся поздно. Тихо прошел к столу, сел на лавку под образа, прямо против раскрытой печной дверцы. Красные блики ложились на его голову, плескались по липу, по рукам, по плечам.
«Ох, ты, господи, — похолодела Соломонида — будто в крови весь». Она быстро захлопнула печную дверцу и зажгла поставец. Лучина вспыхнула ровным желтым пламенем, весело затрещала. Соломонида опасливо покосилась на сына. Он сидел тихий, печальный, думал что-то свое. Ровный золотистый свет лежал на стенах. Исчезло наваждение крови, но страх остался.
Всю ночь смотрела Соломонида с печи на спящего у окна сына, и плача повторяла одно и то же: «Богородице, матушко, заступница и защитница, спаси и помилуй мое дитятко. Спаси и помилуй».
Глава шестая. Государевы приказные люди
Глеб Исакович Патрикеев, дьяк Сыскного приказа, принадлежал к семейству, в коем все исстари служили в разных избах, приказах и повытьях.
Женат он был на дочери дьяка Нелюба Нальянова — Евлампии, а та Евлампия приходилась вологодскому архиепископу двоюродной сестрой.
Приехав в Москву, Тимоша первым делом нашел друга своего Костю и от него узнал, что служит Костя теперь не в Конюшенном приказе, как прежде, а в Приказе Новой Четверти. Письменных людей в Москве не хватало и потому, узнав, что он грамотен, взяли Костю пищиком. Новая Четверть, или же Кабацкий приказ, собирал деньги со всех питейных заведений России и потому служба в нем — возле вина да рядом с деньгами — была не хуже какой-либо другой. Костя и присоветовал Тимоше попробовать устроиться к ним, в Новую Четь, а для начала пообещал переговорить с сильным человеком — дьяком Иваном Исаковичем Патрикеевым.
Услышав это имя, Тимоша полез в торбу и вынул письмо, посланное архиепископом Варлаамом другому Патрикееву — Глебу. Костя сильно удивился, потому что Глеб доводился Ивану Патрикееву родным братом.
— Велика земля, а тесна, — сказал Костя. — Сколь народу в Москве, а вишь ты, как получилось.
И верно, получилось удачно. На следующий день Тимоша пошел к Глебу Патрикееву, отдал ему письмо вологодского владыки, отобедал с хозяином и хозяйкой и за разумный разговор, за учтивость и вежество был приглашен приходить в дом снова.
А после второго визита Глеб сам предложил Тимоше замолвить слово перед братом своим Иваном Исаковичем, чтобы взял он Тимофея к себе в подьячие.
Иван Исакович согласился сразу же. Дело было в том, что Тимоша приглянулся не только Глебу Патрикееву, но и жене его Евлампии. И порешила Евлампия сосватать нового их знакомца за дочь свою Наталью, коей шел уже шестнадцатый год и самый раз было выдавать её замуж. Евлампия и уговорила мужа своего Глеба не только отдать приглянувшегося ей юношу под начало своего родственника, но и сделать так, чтобы будущий её зять — если задуманное дело сладится — поселился бы у Ивана Патрикеева в избе. Дома да на службе — весь день на глазах, так и узнали бы они, какого мужа приглядели своей дочери.
Иван Исакович Тимошу в службу взял и предложил поселиться у него благо, места было довольно: была изба каменная, в два этажа, с подклетью.
Тимоша согласился и вскоре из закоморного жильца превратился для Ивана Исаковича в собинного друга, коему поверял дьяк все свои потаенные мысли.
А мыслил дьяк Иван не так, как многие другие. Почитал он преславное и могучее Российское царство во всем христианском мире наихудшим и не было таких зол и таких грехов, коих не видел бы дьяк Иван вокруг себя.
Сидел Патрикеев в Кабацком приказе и, может быть, потому считал вино причиной чуть ли не всех несчастий на Руси. Он верил в то, что вино творит всякую вину, что вино — ремеслу не товарищ. Он знал, что пьянство разоряет домы, сводит пьяниц с ума, калечит жён и детей, отнимает у голодных последний кусок и снимает с полуголого последнюю рубаху. Однако знал Иван и другое — не было в государстве более доходного дела, чем торговля вином — и потому, проклиная пьянице церковных амвонов, попы и сами пили сверх всякой меры, и так же, как вновь возведенные божьи храмы, освящали новые кабаки. А возвратившись к службе, вновь поучали, читая из Библии: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого красные глаза? У пьяниц, долго сидящих за вином. Не смотри на вино, искрящееся в чаше, ибо впоследствии оно укусит тебя, как змей, и ужалит, как аспид. И скажешь: „Били меня — мне не было больно, толкали меня — я не чувствовал. Когда проснусь — опять буду искать того же“».
А государь не только пьяниц в кабаки пускал, напротив того — метал в тюрьму тех, кто бражникам в кружало дорогу заслонял.
Однако первым злом, ещё большим, чем пьянство, почитал дьяк Иван жестокое рабство, коим гнетёт всех людей от холопов до князей помазанник божий Михаил Федорович. Нищие на папертях просят милостыню ради Христа и государя и первые бояре в письмах к царю подписываются, называя себя «холопишко твой» и «раб». И если приказывал царь побить какого-нибудь боярина батогами или плетью, то избитый палачами государев слуга после того униженно благодарил царя-батюшку за науку.
А далее, говорил дьяк Иван, каждый боярин чувствует себя царьком в своем дворе и так же гнетёт своих дворян и слуг, как его самого бьет и бесчестит царь. И так с самого верха и до самого низа одни рабы угнетают других рабов.
Рабство, считал дьяк Иван, порождало и все прочие беды и напасти. Раб перед господином был угодлив и лжив, ленив и труслив. Он не знал, что такое честь и потому без зазрения, совести мог предать друга, обмануть доверившегося ему человека, порушить данное слово.
Нивы наши скудны, говорил Патрикеев, коровы и теляти тощи, избы бедны, земля не родит — и через год не хватает хлеба в державе — из-за одного и того же — рабства.
Видя великую скудость и неустроение российского бытия, сыновья смеются над отцами и перестают почитать их, как только входят в разум. Чему вы можете нас учить — спрашивают они, когда сами живете хуже всех в свете?
А отцы сокрушаются сыновней непочтительностью и винят во всем немцев да литовцев, что заполонили Москву прельстительными шелками да сукнами, винами да латынскими книгами. А более того — вредными россказнями о том, что в немецких странах будто бы живется так легко и вольготно, что каждый мужик более сам себе господин, чем на святой Руси — князь или боярин.
Тимоша слушал дьяка и почти во всем с ним соглашался. А если что и казалось молодому подьячему несправедливым, то только поначалу. Поразмыслив, Тимоша убеждался в правоте дьяка Ивана.
Мало кому поверял свои тайные мысли Иван Патрикеев. Днем, чуть ли не с первых петухов, сидел он в приказе, а по вечерам либо сумерничал с Тимошей, либо, засветив огонек, читал книги. Был дьяк в латынском и в немецком языках искусен и потому читал не «Четьи-Минеи» и не «Месяцеслов», а те самые книги, что провозили в Москву тайно латыне да люторе.
Так прошел год. Съев с Тимошей не один фунт соли, Иван Исакович с легким сердцем посоветовал брату отдать за его нового друга единственную дочь Наталью. Сыграли свадьбу. Сообща Патрикеевы и Тимоша купили на Варварке избу. Молодые обзавелись кое-каким скарбом и зажили своим домом небогато, но и не бедно.
Через два года забегали по избе ребятишки-двойняшки — сын да дочь.
Вроде бы жить Тимофею да радоваться, ан — нет: не оставляли его стародавние мечты, а более того — одолевала его гордыня, думал: «Да будь я царем разве так правил бы я государством? Разве было бы у меня столько несчастных, обманутых, обиженных, голодных, бедных, покинутых и забытых? Разве стояли бы у начал государства злокозненные, лукавые, жадные, трусливые?»
И от мыслей этих становилось ему все немило. Не хотел видеть ни жену свою, ни детей.
Хотел одного — дойти, доискаться, как, почему, зачем так все устроено, что неправда душит правду, неволя душит свободу, зло давит добро.
Долгими зимними вечерами собирались они втроем: Тимофей, Костя да дьяк Иван. Думали, рядили, спорили до хрипоты — расходились, не придя ни к чему.
Снова собирались, снова спорили — и опять расходились, не добившись истины. И все же постепенно нашли они нечто, казавшееся им всем бесспорным. Они согласились с тем, что царь, бояре и патриарх — слуги дьявола, ибо живут они не по божеским заповедям, а вопреки им, и каждодневно нарушают заветы Спасителя, убивая, грабя, обманывая несчастных людей, оказавшихся под их нечестивой властью. Они согласились с тем, что только в татарских ханствах да в турецкой и кизилбашской земле у персиян такое же, как на Руси, своевольство султана, ханов и шаха. А в других странах — будь то император, король или герцог — всякий свободный человек находит подмогу и защиту у себе подобных — посадский в ремесленном цехе, барон — среди других баронов — и тем своеволие монархов решительно пресекается.
Однако же более всего задевали их за живое несправедливости, кои допускали власть предержащие по отношению к ним самим.
— Возьмите, например, князя Бориса Александровича Репина-Оболенского. Пять лет верховодит он в семи приказах враз. Да ведь в одном нашем Кабацком — сколь дела! А у него и Сыскной, и Иконный, и три палаты Оружейная, Золотая, Серебряная — и что всего хлопотней — Приказ приказных дел, в коем от одних челобитий — можно ума лишиться, — говорил Иван Исакович.
— Князь Борис хоть неглуп, — продолжал Тимоша, — а вот прислали нам взамен его боярина Шереметева, дак он, я чаю, не всё из того понимает, что ему подьячие говорят.
— А ведь уже, почитай, пятнадцать лет из приказа в приказ пересаживают Федора Ивановича доброродства да боярства его ради, продолжал начатую мысль Патрикеев. За эти годы боярин Федор уже в десятом приказе сидит. Был он и в Печатном, и в Аптекарском, и в Большой Казне, и в Разбойном, хотя, мнится мне, фиты от ижицы не отличит Федор Иванович, а уж ежели попадет к нему в руки «Благопрохладный цветник» или же «Проблемата», то сочтет сии врачевательные писания за псалтырь или требник.
— И как такое возможно, — взрывался Костя, — един человек во десяти лицах! Одно дело загубит, тут же ему другое предоставляют — порти и это!
— А все оттого, что в России испокон ладу не было, — говорил Патрикеев и Тимоша с Костей кивали согласно.
А бывало, устав от споров, сидели они тихо и кто-нибудь из молодых подьячих мечтательно говорил:
— А что, братцы, вот если бы кому из нас фарт вышел — в Венецию или в Лондон попасть, а?
— А в Обдорск или в Берёзов — не хочешь? — невесело усмехаясь, говорил Патрикеев. И друзья умолкали, понимая, что хотя до Берёзова дальше, чем до Венеции — попасть туда не в пример проще.
И так уж у них получалось, что чаще, чем многим иным попадали им в Москве иноземцы. А становилось их все более и более. Ехали в Москву офицеры, рудознатцы, аптекари, литейщики, лекари, купцы — крутились по приказам, искали людей, кои могли бы им помочь в их делах.
Дьяка Ивана, знающего по-латыни и по-немецки, часто зазывали на беседы с иноземцами, и он от этого не отказывался — любил порасспрашивать гостей о чужих землях. А потом обо всем услышанном пересказывал Тимоше да Косте. И так как повторялось это не раз и не два, а многажды — жили молодые подьячие не известно где — то ли в пресветлом Российском царстве, надоевшем им хуже горькой редьки, то ли в богопротивных немецких землях, на которые до смерти хотелось хоть бы одним глазком взглянуть, а там — будь что будет: в Обдорск ли, в Берёзов ли — всё едино.
Глава седьмая. Лукавый чародей
Через месяц после того, как ушел Тимоша в Москву, случилось в Вологде нечто небывалое. Светлой ещё ночью подходил к городу обоз с хлебом. Мужики — ярославцы спешили к воскресному базару и в дороге ночевать не стали — подъезжали к городу заполночъ.
Когда проезжал обоз мимо кладбища, ярославцы заметили меж могил два пляшущих над землей огня.
В обозе шло без малого полсотни телег и потому ездовые не обезумели от ужаса и не начали чем попало хлестать лошадей, а приостановились и стали наблюдать за огнями с любопытством большим, чем страх.
Огни то сходились, то расходились, а через некоторое время двинулись к дороге. И тут-то все увидели силуэты двух человек, двигавшихся к дороге с фонарями в руках.
Не доходя до дороги саженей сто, люди эти заметили обоз и бросились в разные стороны, кинув фонари.
Бегущий всегда вызывает желание кинуться вдогонку. Два десятка обозников бросились к кладбищу, как свора борзых, спущенная на зайцев.
Ночь была светлой, кладбище — голым: ни куста, ни деревца. Однако один из кладбищенских полуночников как сквозь землю провалился, зато второго настигли. Был он ростом мал, собою неказист, одет по-мужицки, только и рубаха и порты — тонкого холста, а руки — что у ребенка — мягкие да белые.
Возчики прижали его к стенке кладбищенской церкви и стали вязать снятыми с собственных рубах поясами. Мужик щерился волком и орал несуразное: называл себя воеводой и обещал всех их пометать в тюрьму. Возчики стукнули его пару раз — легонько, для острастки — и, посадив на первую телегу, повезли в город. Пойманный ярился, материл ярославцев последними словами и, потеряв всякое терпение, плюнул везшему его обознику в бороду. На первой телеге ехал сам хозяин — ражий сорокалетний купчина Ферапонт Лыков. Не утеревшись, Ферапонт так вдарил грубияна по зубам кнутовищем, что тот тут же выплюнул два зуба и понес такое — бывалые ярославцы только рты поразевали. Когда же охальник помянул нечистыми словами Богородицу с младенцем Христом, Ферапонт сгрёб богохульника в охапку, затолкал ему в рот подвернувшуюся под руку тряпку, и повязав ноги веревкой — чтоб не сучил и не лягался — накрыл с головой рядном.
Так и въехал обоз среди ночи через Борисоглебские ворота в Вологду, и городские стражи не углядели под рогожей пойманного ярославцами мужика.
Когда же встал обоз на постоялом дворе, возчики задумались: что с кладбищенским шатуном делать? Сдать ли его властям, или же отпустить на все четыре стороны? Связываться с властями не хотелось, однако и отпускать было боязно: вдруг — лихой человек?
Посудив и порядив, пошёл Ферапонт к хозяину двора Акиму Дыркину, стародавнему своему знакомцу, не первый год принимавшему у себя ярославцев, и все ему рассказал. Аким тотчас же вышел во двор, поглядел на повязанною по рукам и по ногам мужика и, перекрестившись быстро мелким крестом, рухнул на колени.
— Батюшка воевода, Леонтий Степанович, милостивец наш, — взвыл Аким, — прости Христа ради неразумных!
Кладбищенский шатун только головой завертел и засопел тяжко. Ферапонт трясущимися руками вырвал тряпку изо рта воеводы, сорвал веревку и пояса. Плещеев сел, потер затекшие руки.
— Ладно, мужики, с кем не бывает. Один бог без греха. Я на вас сердца не держу. Ступайте с богом.
И Аким, и Ферапонт, и возчики, ничегошеньки не понимая, вконец обалдели.
Плещеев пошел к воротам. Аким, вырвав у кого-то из рук фонарь, побежал следом. Возчики видели, как хозяин постоялого двора мельтешил то слева, то справа, а воевода шел не останавливаясь, и лишь в воротах досадливо махнул рукой — ладно, мол.
Ярославцы долго ещё не могли заснуть: всё ломали голову: что было воеводе по кладбищу средь ночи блукать и почему, заметив обоз, кинулся воевода бежать?
Ни до чего не договорившись, заснули крепко. Лишь двое не сомкнули глаз — Аким Дыркин — ему с воеводой дальше жить было надо, не то что ярославцам, кои ныне здесь, а завтра — дома, да Ферапонт Лыков — шуточное ли дело — государеву воеводе зубы выбивать?
* * *
Варлааму о случившемся донесли, когда он ещё не встал с постели. Архиепископ понял: Плещеева нужно брать под стражу, и брать тотчас же. Утром, когда соберутся люди на базар, о ночных похождениях воеводы узнает вся Вологда. И тогда может произойти все, что угодно: не только воеводу кладбищенского шатуна — всех приказных людей побьют, а дома их и лавки пожгут и пограбят. А после того, если гилевщики и оставят в покое самого Варлаама и церкви с монастырями, то вышнее церковное началие архиепископу того дела не простит, и сам патриарх Иоасаф строго за то с него взыщет, ибо более всего боялись на Москве смуты и колдовства, а здесь одно с другим могло оказаться столь тесно повязанным — не отделить.
Все это пришло в голову Варлааму мгновенно. Одеваясь, он продумал все, что надлежало ему сделать, до того как люди в городе узнают о ночном происшествии.
Пока архиепископ облачался в свои лучшие одежды, конюхи запрягали в карету владыки тройку самых резвых лошадей.
Варлаам въехал на воеводский двор, будто не к соседу явился, из-за стены, отделявшей его подворье от владений Плещеева, а приехал из чужой дальней епархии.
Привратник от удивления даже в дом к воеводе не побежал — тотчас же растворил ворота.
Тройка со звоном и шумом влетела в воеводский двор и замерла у крыльца. Ударом ноги Варлаам распахнул дверь, взбежал по лестнице и снова ногой — толкнул дверь в горницу.
Леонтий Степанович бегал вдоль стола. На лавке неподвижно сидел незнакомый Варлааму чернец — темноволосый, худой, страшноглазый. Увидев владыку, чернец встал — только ряса мотнулась — и ушел в дальние покои.
Плещеев суетливо обернулся. С удивлением поглядел на Варлаама и тотчас же заулыбался — жалко, не разжимая губ, пряча от чужого глаза выбитые зубы.
Взглянув на Плещеева, Варлаам вспомнил слова, вычитанные им в какой-то книге: «Кого боятся многие, тот сам многих боится». Ни жалости, ни сострадания не почувствовал архиепископ, увидев перед собою перепуганного воеводу.
«Нашкодил, курвин сын, да ещё и склабится», — со злостью подумал Варлаам, и с трудом сдерживаясь, проговорил:
— А ведь нечему улыбаться, раб божий Леонтий. Беда идет к твоему дому. И истинно говорю тебе — не останется от него камня на камне.
Плещеев метнулся к окну.
— Где?! Кто?! — закричал он. — Не вижу!
— Они придут, Леонтий. Не успеет прокричать петух, они будут здесь и имя им — легион. И никто не спасет тебя: ни люди, ибо они ненавидят тебя, ни бог, ибо ты ожесточил его против себя.
— Отобьюсь! — крикнул Плещеев зло и отчаянно. У меня одних холопов две дюжины. Стрельцов кликну! Кто меня в доме моем возьмет?!
— Не дури, Леонтий. Разве от народа отобьешься? Али ты забыл, как убили царя Федора Борисовича? Как зарезали Гришку Отрепьева? Твоим ли холопам чета были их защитники?
— Дак что ж мне перед мужичьем на колени становиться? Лапти им целовать?
— Ты со страху-то последнего ума лишился, воевода. Помолчи лучше, да послушай.
Плещеев замер, вслушиваясь. За кремлевской стеной скрипели проезжающие к торгу телеги, слышались голоса множества людей. Варлаам подошел к окну и увидел, что привратник, открыв в калитке небольшое оконце, неспокойно с кем-то переговаривается. Он то отходил от калитки, то снова к ней возвращался и, наконец, затворив оконце, пошел к воеводской избе. Из-под руки владыки, не доставая ему головою и до плеча, глядел на все это и Леонтий Степанович.
Услышав на лестнице шаги привратника, Плещеев стал подобен натянутой струне — скрыто трепетал, готовый сорваться в любой момент. Дюжий холоп смущенно потоптался в дверях.
— Мужики к твоей милости, Леонтий Степанович.
— Сколько? — взвизгнул Плещеев.
— Не считал, боярин. Да и сгрудились они возле ворот — передних видно, а сколь за ними ещё — того мне было не счесть.
Плещеев метнулся к двери, ведущей во внутренние покои, передумал, выскочил на лестницу.
— Скорее, владыко, скорее! Кони-то я, чай, у тебя добрые?
— Лучше нету, Леонтий Степанович.
Добежав до кареты, Плещеев юркнул в угол и прерывающимся от страха голосом крикнул:
— Гони!
Кони рванули. Варлаам ещё и сесть не успел — от толчка упал на сидение рядом с воеводой. Варлаам увидел в оконце кареты распахнутые настежь ворота и возле них два десятка мужиков без шапок, тихих, просительных.
«Ярославские обозники, — сообразил Варлаам. — Прощения пришли просить и должно немалую мзду принесли с собою». Покосившись на умостившегося в углу воеводу, Варлаам не без злорадства подумал: «Истинно сказано: не ведаем отчего бежим, и к чему придем».
Ушел Плещеев от холопов своих и своего дома, от друга собинного, коего бросил одного в минуту ужаса. Ушел от сладких яств и вин, от веселых друзей, от тепла и сытости.
Пришел Плещеев в тенета дьявола: привез его хитроумный поп в пригородный Спас-Прилуцкий монастырь, за стены с бойницами, за железные ворота, в подземную тюрьму, откуда и мышь не сбежит. А там час за часом стали появляться ближние его — собутыльники и сотрапезники, а среди них и те, кто остроломейского учения держался, а также и те, кто был в дом его вхож. Только не было среди них самого ближнего — страшноглазого черноризца.
* * *
Увидев бегущих к погосту мужиков, брат Феодосии метнулся в сторону к старой могиле, треснувшей и изрядно осевшей. Феодосии втиснулся в узкую земляную трещину и учуял под ногами спасительную пустоту. В этот миг живых он боялся больше, чем мертвых и потому с радостью нащупал подошвами сапог слежавшуюся твердую землю и, присев на корточки, еле уместился в темном и тесном пространстве.
Феодосии втянул голову, касаясь подбородком острых коленей и даже в этакой-то передряге — живой в могиле — подумал с усмешкой: «Лежу, как дитя во чреве матери. А мать-то моя — сыра земля». Он услышал, как зашныряли вокруг его убежища перепуганные не меньше чем он возчики, подбадривая друг друга громкими криками, услышал, как визжит и матерится собинный друг Леонтий Степанович, как постепенно затихают удаляющиеся к дороге возбужденные голоса мужиков и лишь когда до его слуха донесся равномерный скрип колёс, высунул голову наружу.
Дождавшись, когда стих шум обоза, Феодосии выбрался наружу и быстро пошел к городу.
В доме воеводы он оказался раньше незадачливого хозяина, и когда Плещеев вернулся обескураженный и побитый, черноризец встретил его ощерясь — улыбался, не раздвигая губ, а только показывал четыре верхних зуба.
Леонтий Степанович рухнул на лавку, спросил, дыша тяжело и часто:
— Ну, а теперича чево будем делать, любезный брат мой Феодосии?
— Спать будем.
— Не до сна, однако.
— Тогда вино пить.
Леонтий Степанович холопов звать не стал — сам пошел в погреб, принес две сулеи, затем принес полдюжины кубков.
— А это кому? — спросил, снова ощерившись, черноризец. Отцу нашему сатане и иже с ним?
Леонтий Степанович понял, что с перепугу совсем уж потерял голову, но только досадливо махнул рукой и улыбнулся жалко-криво, одной стороной.
Вылили по первой чаре и по второй, но хмель не брал — все стояли перед глазами голое кладбище, озверевшие мужики — их оскаленные пасти, всклокоченные бороды, тяжелые кулаки.
— Уйду я, — вдруг сказал Феодосии. — Худо мне здесь, не с кем словом перемолвиться.
— А я тебе не ровня? — с обидой проговорил Леонтий Степанович. Мужик я, сермяга, лапоть лыковый?
— Ты, Леонтий, далее ведовства да остроломеи ничего знать не желаешь, а я хочу всю правду узнать. А для этого пойду я в Литву, к братьям соцыниянам, кои не считают Христа богом, но человеком, и всех людей детьми его. Не молодшими и не старейшими, но равными друг другу. А разум человеческий ставят превыше всего, даже превыше Священного писания.
— Остановись, Феодосий, — покрутив от удивления головой, жалобно попросил Плещеев.
— Смерть меня остановит, — тихо и вяло, как давно уже решенное, о чем думалось каждый день, проговорил черноризец.
— Смерть не страшна. Страшны вечные муки на том свете, уготованные еретикам, — неуверенно произнес Леонтий Степанович.
— Да видел ли кто тот свет? — так же тихо проговорил Феодосии.
Плещеев вскочил, побежал вдоль стола. Обернулся из красного угла, круглыми глазами поглядев на собинного друга.
— Истинно говорю — дьявол вселился в тебя, Феодосий. Не ты это говоришь — он.
Черноризец промолчал. Только поглядел на Леонтия Степановича так, будто сильно его жалел, будто болен был Плещеев или слаб, или обманул в чем Феодосия. И так, молча, сел на лавку.
Светало. Просыпалась за окнами Вологда. Первые негромкие голоса слышались за окнами, стучали в колдобинах первые телеги.
Вдруг непонятный звон и гром заполнили двор. Плещеев метнулся к окну. Феодосии, не сходя с лавки, лениво повернул голову.
Плещеев отскочил от окна, побежал вдоль стола к двери, уводившей в спальный покой.
Не успел.
В горницу ввалился Варлаам. Леонтий Степанович шагнул архиепископу навстречу, улыбаясь блудливо и жалко.
Феодосии встал. Медленно вышел из-за стола. Не взглянув на архиепископа, ушел в спальню.
И не дожидаясь того, как пойдут дела дальше, проскочил в соседний со спальней воеводы покой, где жил сам. Схватив загодя приготовленный мешок, в коем лежало все потребное страннику, уходящему в дальнюю дорогу, Феодосии прошмыгнул в сад, и через малую калиточку вышел вон.
* * *
Умён был владыка Варлаам и расчет его оказался верен. Слух о поимке оборотня, что как две капли воды схож был с воеводой Леонтием Степановичем, в тот же день распространился по Вологде, а через три недели из Патриаршего приказа пришел строгий запрос о волховстве и остроломее и о том, что за сокрытие виновных — кто бы они ни были — последует скорая кара безо всякие пощады. И тут-то владыка наборзе послал в Москву гонца с письмом. А в том письме доводил владыка до святейшего отца Кир Иосафа, патриарха Всея Руси, что его собственным старанием и бдением крамола изведена, а богоотступники и еретики взяты им, рабом божиим Варлаамом, в нятство и ныне сидят в тюрьме Спас-Прилуцкой обители.
А ещё через три недели, оковав Плещеева со товарищи тяжелыми железами, и приставив к еретикам крепкий караул, повезли их в Москву.
Плакал и хватал палачей за ноги, и целовал катам руки Леонтий Степанович, как только увидел щипцы железные, кнут и дыбу. И ещё до пытки во всем сознался, и выдал всех, кто с ним был. Однако про Тимощу не то запамятовал, не то — умолчал.
Дали ему три удара кнутом, от коих он чуть не умер и отправили в Сибирь, дабы жил там трудом собственных рук. И ушел Леонтий Плещеев за Камень, к реке Тобол, навеки распрощавшись с вольготной дворянской жизнью.
* * *
Однако же хоть и далека Сибирь, но и там люди живут. И пришла к Леонтию Степановичу весть, что некогда обретавшийся в Вологде пищик Тимошка Анкудинов женился в Москве на племяннице вологодского архиепископа.
«Ох, иродово семя!» — вознегодовал Леонтий Степанович. И чем больше размышлял он над услышанным, тем большая ненависть овладевала им, и, казалось, нет для него разницы между супостатом Варлаамом, заточившим его в Сибирь, и душепродавцом Тимошкой, что кровно породнился с худшим его врагом и теперь будет продолжателем поганого поповского рода.
А вести о Тимошке нет-нет да и доходили до Леонтия Степановича. Узнал он, что служит Анкудинов в Приказе Новой Четверти, что вошел он в большое доверие ко второму в приказе человеку — дьяку Ивану Исаковичу Патрикееву, что случается ему есть и пить с князем Борисом Александровичем Репниным да с боярином Федором Ивановичем Шереметевым. И от этих вестей Плещеев ярился ещё больше, ибо и Репнин, и Шереметев многое сделали для того, чтобы попал он к заплечных дел мастерам. И долгими бессонными ночами измыслил Плещеев великую хитрость. Он решил крикнуть «Слово и дело», а там — будь что будет. И хотя страшно было ему объявлять это — иного выхода не было.
Знал Плещеев, что всякий, кто объявит «Слово и дело», обязательно будет доставлен в Москву и там в Разбойном приказе непременно станет держать ответ по всей правде, без утайки, перед государевыми судьями и дьяками. Знал он, что снова могут вздернуть его на дыбу, но могут поступить и по-иному: будут прощены прежние вины и будет он государем обласкан и взыскан, а может быть, и приближен к собственной царской персоне.
И, дождавшись весны, — чтоб теплее было до Москвы добираться, крикнул бывый чародей, а ныне колодник Лёнька Плещеев сын: «Слово и дело!» и тут же был окован в железа, брошен в розвальни, ибо в гиблых сибирских местах снег ещё не сошел, и повезли его в Разбойный приказ для всеконечного строгого розыска.
Глава восьмая. Дела датские
В ту самую пору, когда лукавый колодник Лёнька Плещеев изнывал от великой горести и измышлял, как бы ему возвернуться к прежнему безбедному и сытому житию, Иван Патрикеев был призван в Посольский приказ и определен к великому государственному делу. Возвратившись из приказа домой, Иван хитровато улыбнулся и, придавая голосу некую таинственность, спросил:
— А ну, Тима, угадай, каких гостей будем мы завтра встречать?
И не дожидаясь ответа, сказал:
— Едет в Москву датский принц Вальдемар, сын короля Христиануса. Едет он вроде бы простым послом по торговым и иным государственным надобностям, однако ж на самом деле вытребовал его царь для того, чтобы женить на своей дочери — Ирине Михайловне. И того королевича Вальдемара мне завтра утром надлежит за Москвою, на Поклонной горе встретить и в избе его быть при нем неотлучно для всяких государственных дел.
После того Иван месяца три почти не был дома. Вместе с королевичем Вальдемаром поселился он в доме дьяка Посольского приказа Ивана Тарасовича Грамотина, в Китай-городе, неподалеку от Кремля.
Вернулся Патрикеев домой только осенью, проводив королевича и всю его свиту и после того заскучал ещё больше. По его словам, пал ему на душу королевич лучше родного сына, и если бы был Вальдемар его государем, то отдал бы за такого государя дьяк Иван тело свое на раздробление.
И весел-то был королевич, и ласков, и прост, и разумен, и лицом и статью так хорош, что лучше дьяк Иван и не видывал: ростом высок, в поясе тонок, глаза серые, волосом рус, в плечах широк.
Но более всего дивился Иван Исакович тому, каков был королевич со слугами. Есть садился за один стол и беседовал с ними, как будто были они ему ровней. Слушал каждого внимательно, и если говорил насупротив того, то не шумел и не велел молчать, и после беседы за супротивные слова сердца на слугу не держал.
И слуги королевича, хотя и снимали перед ним шляпы, и даже первый посольский кавалер Григорий Краббе часто перед королевичем перьями своей шляпы пол подметал — так низко кланялся — все же холопами себя не называли, но были королевичу как бы отцу почтительные дети.
Судьба ли улыбнулась Ивану Патрикееву или вспомнил о нем сероглазый датский королевич, только ранней весной 1642 года призвал его в Посольский приказ думный дьяк Федор Федорович Лихачев и велел собираться в дорогу — в дальние заморские края, в стольный град датского королевства Копенгаген.
* * *
Патрикеев уехал в Данию 17 мая. Отправился он в дорогу вместе с окольничим Степаном Матвеевичем Проестевым — великим послом, коему надлежало объявить королю Христиану, что царской дщери Ирине Михайловне приспело время сочетаться законным браком, а великому государю Михаилу Федоровичу доподлинно известно, что есть у его королевского величества добродетельный и высокорожденный сын — королевич Вальдемар Христианусович, граф Шлезвиг-Голштинский. И если его королевское величество захочет быть с великим государем в братской дружбе навеки, то позволил бы он сыну своему государскую дщерь взять к сочетанию законного брака.
Проестев был муж многоопытный, долгие годы исполнявший разные государевы поручения.
Еще в 1613 году подписал он вместе с лучшими людьми Московского царства грамоту об избрании Михаила Федоровича на царство. Затем был он и воеводой, и ведал Земским приказом, и разрешал порубежные споры с литовскими людьми, и не раз отъезжал в чужие земли, правя посольскую службу.
Земский приказ передал он в надежные руки — посадил туда стародавнего своего друга Наумова Василия Петровича, а кто с Земским приказом ладил, мог и жить спокойно, и спать крепко — мало какая беда проходила мимо Земского.
Весной 1634 года вместе с князем Львовым подписал Степан Матвеевич с польскими и литовскими людьми вечный мир. И хотя по этому миру за врагами России остались все ранее захваченные русские земли, в том числе и Смоленск — ожерелье царства Московского — государь остался делом доволен: дли него важнее всего было то, что король Владислав отказался от притязаний на русский престол. А ведь был король Владислав ещё в 1610 году провозглашен русским царем и за четверть века привык к этому титулу не менее, чем к другим, кои носил по праву рождения.
И потому по возвращении в Москву был Степан Матвеевич царской милостью взыскан деревеньками, землицей, холопишками, а также взыскан шубой собольей на атласном подбое да немалыми деньгами.
И уж совсем вошел в силу Степан Матвеевич, когда на следующий год привез он в Москву прах Василия Ивановича Шуйского, скончавшегося в Гостынском замке под Варшавой ещё в 1612 году. За это многотрудное, ловко исполненное предприятие был он пожалован окольничим и иными милостями.
Потом были разные другие посольские дела и все они искусно разрешались новоиспеченным окольничим. А теперь и сватовство царевны вручено было многоопытному Степану Матвеевичу. А чтоб новое царское дело свершилось так, как угодно было государю, давано было послам пять сороков заболей на две тысячи рублей, да денег, да иной рухляди сколь потребно.
* * *
Незадолго до отъезда — перед самым концам великого поста — Иван Исакович позвал Проестева в гости. Несмотря на то, что ни птицы, ни говядины, ни дичи лесной подавать к столу было нельзя, обед был из двенадцати перемен. Одних пирогов было полдюжины; с сигом, с осетром, с грибами, с вязигой, с капустой, с морошкой в сахаре. Наливкам и настойкам не было числа. И что из того, что нельзя было вкушать молочное? Его и не в постные дни мало кто кроме баб да ребятишек вкушал.
За обедом, расслабив кушак, и более чем от вина, хмелея от почета и ласки, ударился окольничий Степан Матвеевич в рассказы о прошлом. Едва ли не самым приятным было для Степана Матвеевича воспоминание о том, как вывез он из Польши прах царя Шуйского, брата его Димитрия, да жены Димитрия Христины.
— Хотя и не впервой довелось мне тогда быть в польской земле, говорил Проестев, — однако не переставал я многим дивным обычаям изумляться. Особо знаменитым действом показался мне феатрон, что казал нам на своей потехе король Владислав. А потеха была, как приходил к Иерусалиму-граду ассирийского царя воевода Олоферн и как от того Олоферна мудрая и прелестная жена именем Юдифь тот град спасла.
Однако не это более всего интересовало Тимошу. Он не пропустил ни одного слова, когда Проестев стал рассказывать о царе Шуйском, его брате и невестке.
— А как поехали мы в Варшаву, то был нам даден наказ мертвые тела всех трех Шуйских выпросить у короля непременно. И если запросят денег, то дать хотя бы и десять тысяч рублей, а попросят более того — то и сверх того прибавить, смотря по мере.
И было то дело трудное, ибо канцлер коронный Якоб Жадик и пан Александр Гонсевский нам, государевым послам, говаривали: «Отдать тело царя Шуйского никак не годится. Мы славу себе учинили вековую тем, что московский царь и сородичи его лежат у нас, в Польше».
Однако, когда я посулил канцлеру десять сороков соболей — дело сладилось. Королевские зодчие, кои следили за каменной каплицей, где погребены были Шуйские, достали все три гроба из-под подпола и отдали нам честно. Король прислал атлас золотный, да золотные же кружева кованые, да серебряные гвозди, да бархат зеленый.
И когда проехали мы село Ездова, то у варшавского посада встречали нас послы, стольники и иные многие люди с великой честью.
А уж как въезжали мы в Москву, того я и на смертном одре не забуду.
Проестев прослезился, атласным рукавом смахнул слезу.
— За то тебя, Степан Матвеевич, великий государь и окольничеством пожаловал, — ввернул словцо хозяин дома.
— Пожаловал, — мечтательно улыбаясь, подтвердил Проестев. — Дай бог, ему, государю, многих лет да доброго здравия.
— Дай бог, дай бог, — повторили все сидевшие в застолье.
Проестев встал, повернувшись к образам широко перекрестился. Встали и все другие, также истово осеняя себя крестным знамением.
В конце обеда, когда окольничий вконец опьянел, и в который уж раз пытался поцеловать хлебосольного хозяина, Тимоша спросил:
— А правда ли, господине Степан Матвеевич, будто у царя Василия Ивановича в польской земле народился сын, и того царского сына паны — рада от народа прячут для некоего умышления?
Проестев, пьяно улыбаясь, приложил палец к губам:
— Т-с-с, вьюнош. Тайна сия валика есть. Слышал и я такое, да никому не говорил.
Проестев замолчал, уронив голову на руки.
— А не говорил, потому что боюсь. И ты бойся, а то быть тебе на дыбе.
* * *
Однажды, в конце сентября, вернулся Тимоша домой и узнал, что присылал за ним дьяк Иван человека — просил к нему в дом сегодня же пожаловать.
С великой радостью побежал Тимоша к другу, но радость его тотчас же пропала, как только увидел он Ивана Исаковича. Был Иван Исакович сверх всякой меры печален и, сидя сам-один в большой горнице, пил серебряною чарой привезенное с собою заморское вино. Грустно улыбнулся он другу Тимоше и, обняв за плечи, усадил с собою рядом. Редко пил вино дьяк Иван и совсем помалу, но на этот раз выпил много. А захмелев, рассказал Тимоше все, без утайки.
Приплыли они в Копенгаген 18 июля. Королевича Вальдемара об эту пору в городе не оказалось и, прождав девять дней, стал Проестев править посольство и допряма доводить королю Христиану, чего ради прислали их в датскую землю.
Однако король принял послов неласково. Когда Проестев сказал, что великий государь велел королю Христиану поклониться и спросить про его королевское здоровье, то Христиан в ответ не произнес ни слова, про здоровье Михаила Федоровича не спросил, и сидел недвижно, как бы забыв старый обычай спрашивать о здоровье великого государя стоя.
Лишь спустя долгое время, Христиан, как бы нехотя, встал и государево здоровье спросил скороговоркой и еле слышно. И тут же переговоры, едва начавшись, кончились. Король Христиан решительно отказался писать в договорных грамотах свой титул и имя после царя, а насчет женитьбы Вальдемара на Ирине Михайловне сказал, что это невозможно, ибо королевич ни за что не переменит веру, как того хочет царь.
Сбитые с толку послы отъехали к себе на подворье и стали ждать возвращения в Копенгаген Вальдемара.
Королевич приехал через три дня и тотчас же пожаловал к послам. Как и прежде, в Москве, сел Вальдемар с ними запросто за стол, не чинился и не чванился и сердечно посочувствовал, что посольство их началось столь неудачно. А уезжая со двора, попросил он Ивана Исаковича проводить его до дома, и Патрикеев не посмел королевичу в том отказать.
Иван Исакович вздохнул и вспомнил: сели они в карету, насупротив друг друга и вдруг Иван Исакович взял руки Вальдемара в свои и, низко наклонившись, правую руку поцеловал. Королевич взглянул удивленно, но руки не отнял — ждал, что будет дальше.
Иван Исакович заговорил горячо и быстро:
— Господин мой, Валъдемар Христианусович, поверь мне, доброхоту твоему — не езди ты в наше богом проклятое царство. Не будет тебе в нем добра.
— Почему, добрый мой друг Яган? — спросил королевич.
— Нет счастья таким людям, как ты, в государстве нашем, — ответил дьяк Иван. — Не потерпишь ты своеволия, не станешь потакать кривде, не сможешь молчать, если увидишь несправедливость. Недолго прожил я рядом с тобой, Вальдемар Христианусович, но узнал тебя хорошо, и верь мне — не для тебя, вольнорожденного рыцаря, рабье царство.
Вальдемар хмуро поглядел на дьяка Ивана.
— Я не слышал, друг мой Яган, того, что ты сказал. Ибо худой слуга своему господину не может стать хорошим слугой другому. Я знаю, Яган, что в твоей стране творится много зла, но разве есть такие царства, где бы люди жили в полном согласии со словом божьим, и где бы рабы не роптали на господ?
Патрикеев молчал. Вальдемар приоткрыл у кареты оконце, велел остановиться. Патрикеев боком вылез из кареты. Пошел к своему двору, опустив глаза — многие дивились на необыкновенный его кафтан, на широкий пояс, на расшитые золотой вязью сапоги.
Когда Иван Исакович пришел на подворье, Проестев спросил его, о чем говорил с ним королевич. Спросил с обидой, ибо чувствовал себя задетым почему это поехал королевич к себе домой не с ним — великим послом, а со вторым человеком — дьяком Иваном? Патрикеев это понял и сказал, что просил он по дороге королевича с ними, послами, согласиться и склонить к тому короля, своего отца. Но королевич слушать его не стал и, остановив лошадей, за докуку выставил его, дьяка Ивана, вон.
Проестев на это ничего Ивану Исаковичу не ответил, а только спросил, что же теперь делать? Слать ли гонца в Москву за новыми наказами, попытаться ли подкупить всесильного канцлера с тем, чтобы он склонил короля в пользу задуманного брака, или же немедленно уезжать из Дании?
Проестев колебался, а Иван Исакович сразу же сказал — ждать здесь нечего, нужно уезжать. Но ничего этого дьяк Иван Тимоше не рассказал, что-то постыдное чувствовал он во всем случившемся.
Проестев подумал-подумал и согласился. Убедил его дьяк Иван, что чем дольше просидят они в Дании жалкими просителями, тем большее умаление чести государя произведут.
А вот о том, что окольничий Проестев — великий государев посол послушал его — дьяк Иван Тимоше сказал.
8 августа сели они на корабль и отправились восвояси: через Данциг и Ригу, на Псков, а затем — в Москву. А вернувшись, стали ждать, что-то скажут в Посольском приказе?
* * *
Поправив очки, думный дьяк Федор Федорович Лихачев вычитывал Патрикееву и Проестеву:
«А то наше великое государево дело, делал ты Стёпка Проестев и ты Ивашка Патрикеев не по нашему государеву наказу. Вам, холопишкам нашим, указано было ради того нашего дела радеть и промышлять всякими мерами, уговаривать и дарить кого надобно, а вы, Стёпка да Ивашка, услышавши первый отказ от королевских думных людей, с нами не обославшись, из Датской земли уехали. А вам, холопишкам нашим, для нашего государева дела казны и соболей было давано довольно. А вы, Стёпка да Ивашка, ту казну и соболей раздавали для своей чести, а не для нашего дела.
С ближними королевскими людьми о деле нашем говорили самыми короткими словами, что вам никак не пристало, многих самых надобных дел не говорили и ближним королевским людям во многих статьях были безответны. И за то, что вы, Стёпка и Ивашка, дела нашего в Датской земле не делали и казну нашу государскую и рухлядь мягкую раздавали бездельно, мы, царь, государь и великий князь, — Лихачев строго посмотрел сквозь очки, быстро пробормотал: — „ну, тут дальше титул“, — и продолжал, — наложили на вас нашу опалу, и нашим государевым людям велели взыскать на вас, Стёпке и Ивашке, протори и убытки, что вашим нерадением в Датской земле нам, Великому государю учинены».
Лихачев бумагу отложил на сторону, и совсем иным тоном — свои люди перед ним сидели — произнес:
— Совет мой, тебе, Степан Матвеевич, и тебе, Иван Исакович, две тысячи рублей, кои ищет на вас великий государь, сегодня же в его государеву казну самим внести. А кою кому часть взносить, то вы сами промеж себя порешите.
Проестев спросил робко:
— А на ком ином протори взыскивали, то каков рез первой посол платил и каков — второй?
— Разно бывало, Степан Матвеевич. Платили те протори по их достаткам и по тому, сколько кто напрасно чего стратил.
— А нам как быть? — спросил Патрикеев. — Ты скажи нам, Федор Федорович. Человек ты разумный, честность твоя всем ведома, как скажешь так и будет.
— А ты согласен, Степан Матвеевич? — спросил осторожный. Лихачев.
— Согласен, — неуверенно ответил Проестев — чувствовал, что большую часть платить придется ему.
— Делим мы по государеву жалованью, — ответил Лихачев. — Ты, Степан Матвеевич, получал жалованья в два раза более, чем Иван Исакович. Стало быть, и платить тебе две трети долга, а ему треть.
Проестев вздохнул, сказал раздумчиво:
— В иные годы был я великим государем взыскан и обласкан много. Теперь же до грехам моим наложил на меня государь опаду. И я государю вину свою приношу, и что ты, Федор Федорович, сказал, то сегодня же сполню.
Проестев встал и, не дожидаясь Патрикеева, вышел.
А Иван Исакович остался сидеть недвижно — не было у него шестисот шестидесяти рублей и где их взять — он не знал.
* * *
С превеликим трудом собрал дьяк Иван со знакомых и родни триста тридцать рублей — половину того, что было нужно. Сто рублей взял для него в долг друг его Тимофей Анкудинов у известного всей Москве ростовщика Кузьмы Хватова.
На третий день явились к Патрикееву на двор подьячий, двое ярыг, сотский, да мужики с телегами. И вывезли чуть ли не все, что было у Ивана Исаковича. Причем ценил домашний скарб подъязки нечестно — что стоило рубль, за то едва-едва давал полтину, все хорошее забирал, оставляя старье да рвань.
Жена Ивана Исаковича плакала, пробовала усовестить бесстыжего, ню напрасно. Дьяк Иван на жену прикрикнул — велел идти вон. А сам плюнул, надел шапку и — чего никогда не бывало — пошел в кабак, забрав с собой и Тимощу. За подьячим же оставил присматривать холопа своего Дёмку, что дом вел и за хозяйство радел.
В кабаке — на чистой половине — сели Тимофей да Иван Исакович одни, без послухов. Выпили по первой.
— Вот мне и плата за службу мою, — сказал Иван Исакович, и заплакал.
Тимоша, обняв опального дьяка за плечо, проговорил утешительно:
— Та беда — не беда, отец мой и благодетель, Иван Исакович.
— Да уж чего может быть хуже — хоть по миру с сумой иди.
— Главное, Иван Исакович, — голова цела, а ей цены нет. Будет голова на плечах — снова все наживешь, лучше прежнего жить станешь.
Патрикеев краем рукава смахнул слезы.
— Выпьем, Тимофей Демьянович, за удачу.
Тимоша поднял кружку, однако пригубить вина не успел — в комнату вошел целовальник.
— Прощения просим, честные господа, некий человек спешное дело до вас имеет, однако ж каково то дело — не говорит.
Патрикеев взмахнул рукой:
— Веди.
Вошел сморщенный, ростом в два аршина старичишка-ярыжка из Земского приказа, хорошо знакомый и Тимоше, и Патрикееву. Поклонился низко, подошел к самому столу, зашептал сторожко:
— Ведомо мне, Иван Исакович, от верных людей — привезли нынче утром из Сибири в Разбойный приказ бывого вологодского воеводу, а ныне колодника — Лёньку Плещеева. И тот колодник доводит на тебя, — Тимофей. Говорил, де ты ему, Плещееву, что ты, Тимофей, царю Василию Ивановичу Шуйскому — внук и Московского государства престол держат ныне мимо тебя неправдою. А те де твои слова может подтвердить Новой же Четверти подьячий Костка Евдокимов Конюхов сын, при коем ты, де, не раз сие говаривал.
— Неправда это! Оговор и великие враки! — вскрикнул Тимоша.
— А я, голубь, и не говорю, что — правда. Я тебе, голубь, то довожу, что услышать довелось, — тихо и ласково проговорил ярыга.
— А буде станет Костка на правеже запираться, то привезут из Вологды иных видоков и послухов.
— Спаси те бог, дедушке, — проговорил Тимоша и протянул ярыге рубль.
— Дешево голову свою ценишь, голубь, — так же тихо и ласково проговорил ярыга и сел на лавку.
Тимоша бросил на стол ещё три рубля. Старикашка брезгливо смел их со стола, будто объедки голой рукой снимал. Не прощаясь и не кланяясь, нахлобучил рваную шапчонку и шастнул за порог.
Иван Исакович, сощурив глаза, молчал. Затем проговорил раздумчиво:
— Перво Костю упреди. А после того, не позже завтрашнего утра вместе с Костей беги, Тимофей, за рубеж. — Иного пути у тебя нет. А чтоб Кузьма Хватов с тебя сто рублей не взыскал — сожги избу. С погорельца — долга ростовщику нет. Да и жена за мужа не ответчица.
«Ах, ловок Иван Исакович, — подумал Тимоша, — все предусмотрел, да как быстро». И, обняв друга за плечи, сказал Тимоша жарко:
— Век тебе этого не забуду, Иван Исакович.
Глава девятая. Розыск
Решёточный приказчик Овсей Ручьев издали заметил лощадь, запряженную в телегу. На телеге же увидел Овсей домашний скарб, да бабу с двумя малолетками. Выехала лошадь из проулка, что упирался в улицу Варварку. Рядом с телегой шагали два дюжих мужика. Светало. Блекли звезды. Повозка тяжело прогрохотала по бревенчатому настилу Варварки и свернула вниз к Москве-реке, скрывшись за беспорядочно стоявшими избами.
«Ни свет, ни заря», — подумал Овсей. И пошел дальше, негромко постукивая по доске, и вполголоса покрикивая: «Слушай!»
Тихо было вокруг и безлюдно. Не вскрикивали петухи, спали собаки. И только ночные сторожа с разных сторон выкрикивали свое «Слушай!»
И вдруг Овсей услышал слабый треск и вслед за тем увидел высокий желтый всполох огня, взметнувшийся над одной из изб. Это было столь неожиданно, что Овсей вначале подумал: «Привиделось что ли?» Но тотчас же над крышей вновь взлетели языки пламени. На этот раз уже два — желтый и красный. Тихо постояли в недвижном воздухе, а потом сплелись друг с другом и метнулись над крышей, будто молодайка в новом сарафане впляс пошла.
Тут-то Овсей и ударил в доску изо всей мочи, и, не помня себя заорал:
— Караул! Горим!
Что было потом, помнил он плохо. Бежали какие-то люди, неодетые, сонные. Простоволосые бабы в исподних холщовых рубахах передавали по цепочке ведра от двух ближних колодезей. Мужики с баграми метались вокруг горящей избы, как черти в аду возле грешника, норовя покрепче зацепиться крюком да посильнее дёрнуть. Другие мужики окатывали водой соседние избы, валили заборы, чтобы огонь по доскам не перебежал в соседние дворы.
Когда изба рухнула и огонь лениво заплескался на куче обгорелых бревен и досок, появился объезжий голова Митяй Коростин.
— Кто видел, как изба занялась? — спрашивал Митяй грозно, но видоков не оказывалось: отговаривались тем, что де спали и выбежали на пожар после многих других.
Пришлось говорить Овсею, упирая на то, что если бы не спохватился он, Овсей, сразу — выгорела бы вся улица.
Спрошенные Митяем соседи погорельца ответствовали одно и то же: жил де в избе, что ныне сгорела, Тимошка Демьянов сын Анкудинов, приказа Новой Четверти подьячий, с жёнкой своей Наташкой, да с двумя малолетками Ванькой да Глашкой, а отчего изба загорелась того де они, соседи, не ведают.
Объезжий голова соседских мужиков по избам не отпустил. Велел горелые брёвна по одному раскатать, водой пепелище залить и после того всем сказал приходить в Земский приказ к думному дворянину Никите Наумовичу Беглецову. А Овсею наказал быть в том приказе ранее других, ибо с него, Овсея, начнут государевы служилые люди розыск: как на Варварке в ночь с 21 на 22 июня 7151 года учинился пожар и кто в том пожаре виновен.
После этого и Овсей, и Митяй, и мужики разошлись по домам. На душе у всех скребли кошки: черт-те что могут придумать государевы служилые люди. Ладно еще, что не сгорел никто — по бревнышку раскатали избу, сгоревших, слава Богу, не оказалось.
* * *
Думный дворянин Никита Наумович Беглецов проснулся от шума. Шум был невелик: за дверью опочивальни негромко спорили двое. Беглецов сразу же узнал голос одного из спорящих — холопа своего Петрушки, голос второго был также ему знаком, однако вспомнить — кто это — Никита Наумович не смог.
— Спит ещё Никита Наумович, — говорил холоп.
— Нешто я не понимаю, известно: вся Москва ещё спит. Да я потому и приехал, что дело у меня безотложное, скорое дело.
— Погоди немного, он и проснётся.
— Да никак не могу я ждать, пойми, пожалуй, Пётра.
— И ты, пожалуй, пойми — не могу я тебя к Никите Наумовичу допустить.
Беглецов вздохнул, сполз с пуховика, надел на шею четки янтарные литовские, натянул халат бухарский, ватный, кизилбашские туфли юфтяные и вышел из опочивальни.
С Петрушкой спорил Коростин Митяй — объезжий голова с Варварки. Беглецов поджал губы, сморщился недовольно. Митяй, увидев хозяина, шагнул навстречу, забыв поздороваться, проговорил быстро:
— Беда, Никита Наумович. На Варварке изба сгорела. Новой Четверти подьячего Анкудинова Тимофея Демьянова.
— Одна изба? — быстро спросил Беглецов, ещё не понимая, что заставило Коростина заявиться к нему домой чуть ли не среди ночи.
— Изба-то одна, да хозяин-то её не простой человек. Я и подумал — не грех бы мне тебя, Никита Наумович, упредить.
— А я чаю уже не улица ли сгорела?
— Слава Богу, одна изба и люди все живы, Никита Наумович. Я на пожар поспел, пепелище велел водой залить, оглядел все со тщанием — никто не погиб, и соседние домы все целы. И послухам велел быть в Приказе с утра вдруг занадобятся.
— Ладно, Митяй, ступай. Будешь надобен — пошлю за тобой. Да узнай про то, где теперь Анкудинов Тимофей и, узнав, о пожаре его расспроси.
Досыпать Беглецов не стал. Постоял у окна, подумал, сказал про себя: «Ай да Митяй, умная голова, спасибо, что упредил». И возвратившись в спальню, стал быстро одеваться — сердцем чуял — надо было не мешкая известить о случившемся начальника Земского приказа, думного же дворянина Наумова Василия Петровича.
* * *
Василий Петрович Наумов сидел в Земском девятый год. Из них семь лет вместе с Никитой Беглецовым. Служба в Земском приказе была не в пример другим службам тягостнее и беспокойнее. Ведал сей приказ всей Москвой и чтобы где в столице ни случилось — татъба ли, разбой ли, пожар ли, или иное какое лихо — за все про все перед боярами и государем был в ответе Земский приказ. Кроме того, с московских тяглых людишек должны были государевы служилые люди исправно взимать налоги и по всем тяжбам вершить справедливый суд, а буде надо — и расправу.
Однако бог лес не уравнял, а паче того — человеков. И потому каждое дело надо было вершить с умом и с оглядкой. Мешкать было нельзя, а уж спешить — тем более. Паче же всего следовало оберегаться поступков и решений, кои по судейскому недомыслию могли задеть людей сильных и родовитых. И потому редко когда государевы думные дворяне или дьяки какое-либо дело решали враз и единолично — мужики и посадские худые людишки в сей счет не шли — их делишки решал любой подьячий, и долго не волокитил.
В то утро, 22 июня 1643 года от Рождества Христова, Василий Петрович стоял в моленной, поверяя себя Господу. Тихо и благолепно было на душе у Василия Петровича, когда вышел он из моленной в горницу и увидел сидящего у окна Никиту Наумовича.
«Да, в Земском служить — не в Панихидном», — подумал Василий Петрович, сразу же догадавшись, что какие-то неприятные дела привели в неурочный час его помощника.
Беглецов встал, пожал протянутую ему руку. Наумов вопросительно на Беглецова глядел, ждал.
— Дело к тебе, Василий Петрович.
— Говори.
— Тимофея Демьянова Анкудинова изба сгорела. Митяй Коростин на пожаре был, всё сделал гораздо. При пожаре никого в избе не было, то и дивно. Изба пуста, и вдруг под утро, как бы сама по себе горит.
— Почему думаешь — сама по себе?
— Решёточный прикащик Своей Ручьёв видел, как первый сполох из избы над крышей взлетел. Коли бы её кто снаружи поджигал — не так бы она занялась.
— А зачем Тимофею собственную избу жечь?
— То нам и надобно выведать, Василий Петрович.
Наумов задумался. Постучал пальцами по краю стола.
— То ты добре сделал, Никита Наумович, что дело это до меня довел. Тут хорошо подумать надобно. Помню я, как приехал Анкудинов на Москву жил он немалое время у Ивана Исаковича Патрикеева. А Патрикеев — сам знаешь благодетелю нашему Степану Матвеевичу Проестову первый друг. Так что дело это надо делать без всякой зацепки.
А про Тимошку сегодня же узнай все доподлинно: где он сам и где жёнка его с детишками обретаются и по какой причине изба у них загорелась?
* * *
По дороге в приказ Беглецов прикинул, с чего начнет розыск. Приехав, он первым делом призвал к себе Никодима Пупышева — старого ярыгу, великого мастера по сыску обретавшихся в нетях людишек.
Никодим пожевал беззубым ртом, поглядел в потолок, молча нахлобучил шапку и неспешно вышел.
Вернулся Никодим к полудню с заплаканной молодой бабой. Оставил её на дворе, строго наказав непременно его дожидаться, а сам нырнул в приказную избу.
— Привел, Никита Наумович.
— Тимошку?
— Жёнку его Наталью.
— А Тимошка где?
— Того она не ведает.
— А ну, веди жёнку ко мне.
Наталья Анкудинова, молодая, круглолицая баба, с лицом опухшим от слез, войдя, испуганно покосилась на Беглецова, и не ожидая вопросов, с порога заголосила:
— И ничегошеньки-то я не знаю, ничего не ведаю! И чего он ко мне пристал? Хоть бы ты, господине, велел ему отстать от меня!
Беглецов молча глядел на Наталью, которая причитала и не умолкая всхлипывала.
— Ты чья будешь, красавица? — спросил Беглецов тихо и ласково.
Наталья мгновенно замолкла, недоуменно глядя на Беглецова.
— Анкудинова я, Наталья, — проговорила она робко.
— Садись, Наталья. В ногах правды нет.
Наталья присела на краешек скамьи. Страж понемногу отпускал её, и она чувствовала, что от сидящего перед нею начальника не надо ей ждать никакого зла.
— Позвал я тебя, красавица, горю твоему помочь. — Беглецов ласково на Наталью поглядел, поиграл чётками. — Знаешь, поди, что лихие люди избу твою нынче в ночь спалили?
Бекдецов внимательно посмотрел на молодуху. Та глаза отвела, снова дурашливо запричитала:
— Знать ничего не знаю, ведать — не ведаю!
— Да ты погодь. Нешто не знаешь, что избу твою пожгли?
— Не знаю, боярин, не ведаю.
— И ярыга мой того тебе не говорил?
— Ничего я не знаю — не ведаю!
— Ну, а муж твой, Тимофей Анкудинов, где ныне обретается?
— И того я тоже не знаю.
— Значит, ничего не знаешь? Ну, а как ты с детишками у Ивана Пескова оказалась — тоже не ведаешь?
Наталья замолкла, отвела в сторону глаза, задумалась.
Беглецов понял — зацепился точно. Сидел, ждал, лениво перебирая, чётки.
— Ну, так как же ты к Ивану Пескову с детишками попала?
Наталья молчала.
— Али мне Ивана Пескова об том спросить?
Наталья заплакала. Беглецов ждал.
— Ничего-то я не знаю, — неуверенно затянула она.
— Ну, вот что, баба, — стукнув рукой по столу, сухо и зло проговорил Беглецов, — плакать дома будешь, а здесь слезам не верят. Или ты мне тотчас скажешь, кто тебя к Пескову привел, или не я буду с тобой разговаривать, а кнутобойцы в пытошной избе.
Наталья от страха побелела. Откуда было ей знать, что Беглецов просто-напросто пугает ее? Не помня себя, Наталья заговорила:
— Не гневись боярин, на меня, глупую. Со страху забыла я все. Привез меня к Ивану муж мой Тимофей.
— А когда привез?
— Нынче под утро и привез.
— А зачем ему было ночью тебя с ребятишками из своей избы в чужую избу возить?
Наталья хотела было снова сказать заведенное — не знаю, но взглянув на Беглецова, тотчас же передумала.
— Сказал он мне, что буду я с детишками у Ивана жить. А он с Москвы вместе с другом своим Костянтином Конюховым вон пойдет. И они нас на телегу усадили и к Ивану свезли. А боле я, боярин, вот те крест святой, — Наталья встала, истово перекрестилась на образа, — боле ничего не знаю.
— Что, много мужик твой задолжал? — спросил вроде бы невзначай Беглецов.
— И этого я, боярин, не знаю, — ответила Наталья и заплакала. Беглецов поглядел на неё печально.
— Иди с богом. Будешь надобна — призову.
* * *
Отпустив Наталью, Беглецов прошел в соседний покой к начальнику приказа Наумову.
— Нехорошо получается, Василий Петрович.
— С Анкудиновым что ль?
— С ним.
— Ну, говори.
— Тимошка с Костей Конюховым жёнку Тимошкину и детишек ночью свезли к Ивашке Пескову. После того изба Тимошки загорелась. А сами они — Тимошка и Костка — из Москвы побегли вон.
Предвосхищая вопросы Наумова, Беглецов сразу же пояснил:
— И Тимошка, и Костка в Москве задолжали немалые деньги. А чтобы те долги не платить, чаю я, Тимошка избенку свою подпалил. Чего-де с погорельцев возьмешь, тем паче, что баба бездомная за беглого мужика безответна.
Наумов глядел куда-то вбок; вроде и не слушал.
Беглецов замолчал. Спросил:
— Али я не то говорю, Василий Петрович?
— Может и то, а может и не то.
— Скажи, Василий Петрович, не томи.
— Твоя правда, Никита Наумович, ещё не вся правда, а может половина или же четверть. А правда в том, что Лёшку Плещеева, бывого вологодского воеводу, второй раз в Москву привезли.
* * *
Узнав о том, с каким делом привезли в Москву сибирского колодника Леонтия Плещеева, Беглецов мгновенно понял, что теперь дело Анкудинова принимает совсем иной оборот и потому решил бумаги по начатому розыску составлять сам. Пригрозив пыткой, он допросил ещё раз Наталью Анкудинову, выспросил все, что мог у Ивана Пескова, записал речи соседей Тимофея и пищиков с подьячими, что сидели с Конюховым и Анкудиновым в Кабацком приказе. И после великого и многотрудного розыска вышло так: Новой Четверти подьячие Тимошка Анкудинов да Костка Конюхов воровским обычаем затягались со многими людьми и ночью, украв из казны сто рублей для того, чтобы замести следы, подожгли избу и тем же воровским, изменным обычаем бежали из Москвы неведомо куда.
Полностью отводя от себя возможные упреки в нерадении и попустительстве, Беглецов отправил отписку в Сыскные приказы, чтобы на заставы посланы были листы, а в тех листах были бы описаны приметы воров, и буде божиим соизволением попадут те воры в руки властей, то, оковав железом, послать воров в Москву в Разбойный приказ за крепким караулом.
Глава десятая. Черниговский каштелян
Тимоша открыл глаза. Ясные незакатные звезды текли в высоком черном небе. И почти дотрагиваясь до звезд, немо и недвижно стояли околдованные тишиной медные сосны.
Только ближний ручей тихо журчал, обмывая коряги и камни, да всхрапывали рядом уставшие кони. Не слышно дыша, спал, разбросав длинные жилистые руки, Костя. Спали птицы и звери, и только звезды да он — Тимоша не спали в этот час: глядели друг на друга и шептали друг другу тайное, сокровенное.
Робко, будто опасаясь — не ошиблась ли? — пискнула первая пичуга. За ней — увереннее — вторая. Тимоша сел на ворохе сена, пригладил руками волосы, потер ладонями лицо и пошел к ручью мягкой, крадущейся походкой. Вернулся он свежим, умытым, бодрым. Сила и радость переполняли его.
Лес уже наполнился свистом, криками, стрекотом и стуком бодрствующей, трепещущей, бьющейся жизни.
Вставало солнце. Тимоша прикоснулся к плечу Кости. Костя тотчас открыл глаза и так же, как и Тимоша, быстро сел, приглаживая волосы и потирая лицо.
— Седлай коней, Константин. К ранней заутрене надобно быть нам в Киеве, — проговорил Тимоша строго, как говаривали со своими стремянными начальные люди.
— Счас, князь-батюшко, счас Иван, свет Васильевич, — произнес Костя дурашливо и метнулся к коням, изображая страх и великое усердие. Тимоша не засмеялся. Подошел к Косте, сказал тихо:
— Не шутейное дело задумали мы с тобой, Константин. Кончились наши забавы. Одно слово не так скажи, одним глазом не туда посмотри — и висеть нам на дыбе в Разбойном приказе. А получится у нас, как задумали, то так с тобою заживем — царю завидно станет.
— И пора бы уж, — посерьезнев ответил Костя. — Иные недоумки, головою от рождения скорбные, в двадцать лет уже окольничьи, а в тридцать — бояре. А и всех-то заслуг, что не в избе, а в хоромах на свет появились.
— А мы, Костя, хоть и из избы мир божий увидали, — зато не обделил нас создатель умом да сноровкой. И пять раз будем мы дурнями, если данное нам перед иными людьми превосхожденье на пользу себе не употребим.
— В золоте будем ходить, князь Иван Васильевич, и на золоте есть будем, как и подобает великим мужам, кои от одного короля к другому служить отъезжают!
— Ну, дай то бог! — весело воскликнул Тимоша и вскочил в седло. А Костя бережно собрал осыпавшееся сено, закинул его на верхушку стога, и тихо тронув коня, выехал из леса.
* * *
Адам Григорьевич Кисель, черниговский каштелян, комиссар короны и сенатор Республики, в этот день долго не ложился спать. Через двое суток в Варшаву отправляется воеводский гонец и Адам Григорьевич с двумя писарями готовил к его отъезду необходимые бумаги и письма.
Адам Григорьевич, сидя в углу комнаты, диктовал, затем перечитывал написанное, перемечал киноварью и отдавал обратно — писать набело.
От долгой работы у каштеляна заболела спина, резало глаза — все никак не мог собраться поменять очки, да и годы давали себя знать — все-таки шел седьмой десяток. Когда часы пробили десять, Адам Григорьевич встал, потёр поясницу, повел плечами.
— Завтра придёте в десять.
Писаря молча поклонились.
Адам Григорьевич походил по комнате, посидел у стола, сложа руки. Подумал. Медленно и аккуратно очинил перо, затем второе и третье. Вытащил из ящика стола лощёную бумагу с затейливым фламандским вензелем в верхнем правом углу. Придвинул шандал, аккуратно снял со свечей нагар. Склонив голову набок и взяв перо в левую руку, вывел тщательно:
«Милостивый пан! Неделю назад в Киеве, в Печорском монастыре, объявился некий беглец из Московии, называющий себя Иванам Васильевичем Шуйским — сыном покойного царя Василия. Моими стараниями ныне живет князь Шуйский на моем киевском подворье. Я постарался, чтобы слух о его появлении не распространялся, по крайней мере, до тех пор, пока вы не примете решения, как следует с ним поступить и что предпринять.
Гонец, который доставит это письмо, должен получить от вас и ответ на него».
Кисель улыбнулся и сразу же написал второе точно такое же письмо. Залив конверты с письмами сургучом, Кисель вдавил в ещё теплый и мягкий сургуч серебряный перстень-печатку с латинскими буквами «F» и «S», и ещё раз улыбнувшись, сам себе сказал: «Ай да молодец Адам Григорьевич! Ай да розумный чоловик! Теперь посылай письма куда хочешь — никто не догадается, кто и кому писал все это».
* * *
Адам Григорьевич летом вставал до первых петухов. И на этот раз проснулся ни свет, ни заря. Светало. Адам Григорьевич полежал с открытыми глазами, разгладил усы — делал он это всякий раз, как крепко над чем-нибудь задумывался — и хлопнул в ладоши, вызывая казачка.
Хлопчик лет десяти тут же вбежал в спальню и замер у порога, ожидая приказаний.
— Оденусь я сам, а ты пойди в гостевые покои, где живут ныне паны из Московии и попроси ко мне Ивана Васильевича, не мешкая.
Мальчик выбежал, а Адам Григорьевич неторопливо, по-стариковски, стал одеваться.
Только он затянул златотканый кушак, как тот же хлопчик возник на пороге и низко поклонившись, сказал:
— Иван Васильевич Московский до вашей милости. Адам Григорьевич погладил усы, велел:
— Проси.
Анкудинов вошел быстро. Здороваясь, чуть наклонил голову, взглянул сумрачно. Кисель шагнул навстречу, протянул руку, проговорил душевно:
— Поздорову ли, князь Иван Васильевич?
— Спаси бог на добром слове, Адам Григорьевич.
Поглядели друг на друга внимательно. Тимоша, как и прежде, недовольно, Адам Григорьевич, как и прежде, — ласково. Тимоша будто ненароком коснулся пальцами золотого креста, что висел у него поверх кафтана.
Остановившись перед дверью в соседний покой, Адам Григорьевич спросил участливо:
— Ай, чем недоволен, Иван Васильевич?
Анкудинов, поглядев строго, сказал громко:
— Не холоп я, Адам Григорьевич, и не слуга твой. А корм мне и дворянину моему идет не по достоинству, а будто мы простые мужики или казаки.
— И только-то? — засмеялся Адам Григорьевич. — Ну, эта кручина — не беда, князь. Чего раньше-то не сказал?
— Гонор шляхетский и у меня есть, пан Адам. Христарадничать князья Шуйские и в нужде не обыкли.
— Да что ты, князь! Корм тебе я со своего стола посылаю. Да дело-то в том, что сам я в яствах и брашнах умерен, говяды и в мясоед не вкушаю, в вине воздержан, пища моя — хлеб, молоко, да то, что с огорода и с бахчи на стол идет.
Кисель обнял Тимошу за плечо:
— Стар я стал, забываю, что в молодые годы и я — попить-поесть любил. А ведь вы — люди молодые; вас молочком да дыней — не насытишь. Ну, да ладно — нашли о чем говорить. Мы промашку мою в сей момент исправим.
Адам Григорьевич хлопнул в ладоши. Подбежавшему казачку сказал весело:
— А ну, хлопчик, скажи, чтоб несли в застольную вина ренского добрую сулею, да быстро бы зажарили индюка, и всего прочего принесли бы тотчас довольно.
Кисель показал рукой на дверь в соседнюю комнату. Сам дверь распахнул, пропустив князя впереди себя. Сел на лавку сбоку, Тимошу посадил под образа. Погладив усы, начал тихо:
— Позвал я тебя, князь, по спешному делу. Через час пойдет в Варшаву гонец с письмами к панам сенаторам. Одно письмо — о тебе. Не лучше ли это письмо послать с верным человеком особо?
Правый глаз у князя Ивана Васильевича стал чуть косоват; задумался князь.
— У меня, Адам Григорьевич, два верных человека. Известный тебе дворянин Константин Евдокимович, да чаю я, ещё и ты.
Не остыл ещё Тимоша от недавнего разговора — держал на Киселя сердце.
«Экой наглец», — подумал Кисель. Однако ответил сдержанно:
— Я, князь, только моему королю да церкви православной верный человек. А тебе — лишь доброхот, покуда готов ты служить нашему делу и вере наших отцов.
Тимоша понял, что перегнул палку, поставив Костю и Киселя на одну доску, а себя против них возвысив.
Здесь, Тимоше на удачу, появился казачок с серебряным подносом, с серебряными; же сулеёй и стопками.
— Стало быть, и думать нечего, — ответил Анкудинов с улыбкой. — Коли нужен верный человек, хоть и один он пока что у меня, бери его, Адам Григорьевич, и любой твой наказ он исполнит как мой собственный.
— Добре, князь, — ответил Адам Григорьевич, наливая в стопки душистое ренское. — Вели своему человеку быть в канцелярии, зад только мы с тобой угощаться кончим.
* * *
Костя выехал в Варшаву вместе с гонцом пана Адама — пожилым, молчаливым казаком по имени Силуян — лишь только взошло солнце. Шли они одвуконъ, ведя в поводу сменных лошадей.
Киев проехали быстро. В девять часов утра — по летнему времени в самую обеденную пору — гонцы остановились у ручья, на опушке соснового бора. Неподалеку от них на большом панском поле жали хлеб мужики и бабы. Солнце взошло уже довольно высоко. Становилось жарко.
Костя и Силуян расседлали коней, разулись, положили под голову сёдла и с наслаждением вытянули ноги. Расстелив чистый холщёвый плат, Силуян разломил хлеб, отрезал два куска сала, достал из тороков кисет с солью и походную деревянную сулею с водой, похожую на сырный круг. Молча сжевали гонцы мягкий падучий хлеб, розовое твёрдое сало и прилегли снова набираться сил перед дальней дорогой.
Костя закрыл глаза и вновь возникло перед ним все, что увидел он, выехав из Киева.
Увидел дорогу — широкую, пыльную, серую. Желтые хлеба, зеленые травы. Полуголых, черных от загара косарей, белые платочки жнущих баб. Верхоконных панских надсмотрщиков, что медленно, как бы задремав в сёдлах, переезжали с покоса на ниву и с нивы на покос. Шла вторая половина июля — самое страдное время на Украине, когда кончается первый покос и начинается жатва.
«До солнца пройти три покоса, ходить будет не босо», — вспомнил вдруг Костя нивесть откуда всплывшую пословицу и подумал: «Здешние мужики до солнца по пять покосов проходят, да все почти босы, лапти и то не на каждом, а постолы на одном из десяти».
И снова всплыли перед взором Кости дорожные картины… Карета с гербами, с гайдуками на запятках, окруженная дюжиной всадников. Бредущие по обочине слепцы-нищие, серые и пыльные, как дорога. Вереница возов, груженных глиняными горшками — «писанками», что везли на продажу в Киев коричневолицые синеглазые гончары… Брели по дороге странники — с высокими посохами в руках, с котомкою за спиной. Брели монахи — босые, в выжженных солнцем рясах, подпоясанные веревками, с бренчащими медными грошами кружками на поясе-. Твердо вышагивали солдаты, неся на плече алебарды, с навешанными сапогами, шлемами, кирасами.
Ехали в повозках хитроглазые торговцы, утомленные долгой дорогой ямщики. Скакали надутые спесью паны, окруженные толпой загонной шляхты пьяной, горластой, — в латаных сапогах, проносившихся до дыр кафтанах, и если бы не усы в три вершка, да не сабля — не отличить пана от хлопа.
Проезжали сумрачные, влитые в седла гонцы, с сумками через плечо, в кожаных штанах, в шапочках с коротким пером. Гнали по дороге круторогих волов, блеющих, суетящихся овец, изможденных острожников, иссушенных зноем и голодом пленных татар и казаков. А вокруг шумели хлеба и травы, пели птицы и жужжали шмели. Пчёлы несли мёд и земля дарила людям наливающиеся соком яблоки и черные ягоды черешен и вишен. И тучные волоокие коровы копили жирное молоко, и кричали в перелесках птицы. И всего было довольно вокруг, ибо земля была черна и масляниста, трава высока и хлеба густы. Да только мужики и бабы, что работали вдоль дороги, показались Косте ещё беднее, чем те, что встречались ему у Москвы или возле Вологды…
— Поехали, — буркнул Силуян.
Костя быстро собрался, переменил коня и поехал дальше, держась позади своего неразговорчивого попутчика.
До темноты гонцы ещё дважды меняли лошадей — после полдника и после удина.
Поздним вечером Силуян остановился возле большой старой корчмы. Спрыгнув на землю, он, передав повод Косте и произнеся только одно слово «жди», — вразвалку пошел к корчме.
Было уже темно, светились лишь окна черной от времени избы, да где-то в стороне — за огородами — желтым сполохом подрагивай над землей костер.
Силуян открыл дверь, еле втиснувшись в узкий проем, и Костя услышал пьяную разноголосицу, собравшихся в корчме постоятельцев.
Не успел Силуян переступить порог, как дверь распахнулась снова. Шум в корчме стал сильнее.
В освещенном дверном проеме появился темный силуэт широкоплечего, приземистого Силуяна. Гонец, отступая, пятился на крыльцо.
— Константин! — крикнул Силуян, и Костя, мгновенно сообразив, подогнал лошадей ко входу в корчму.
Он увидел, как Силуян, выхватив пистолет, остановился у края крыльца и, не сводя глаз с двух пьяных шляхтичей, выскочивших за ним с обнаженными саблями, проворно спрыгнул на землю. Схватив одной рукой жеребца за холку, Силуян быстро поймал ногой стремя и с необыкновенной легкостью взлетел в седло.
Шляхтичи, увидев Костю, остановились и, громко ругаясь, отступили в корчму.
— От, бисовы дети! — проворчал Силуян и резко повернул коня.
Костя, ведя в поводу пару сменных лошадей, поскакал следом.
Силуян обогнул избу и полем направился к недалекому костру, который они заметили, подъезжая к корчме.
Проскакав саженей сто, Силуян замедлил бег коня и, повернувшись к ахавшему обок него Косте, сказал:
— Что там за люди у огня — не знаю. Только думаю, — не хуже тех псов, что выбили меня из корчмы, облаяв еретиком и схизматиком.
— Как такое могло статься? — с удивлением спросил Костя. — Ведь ты воеводский гонец. Кто может государева, или воеводского гонца на постоялый двор или в ям не пустить?
— Так это в Московии такие порядки. А у нас здесь… — И Силуян, не договорив, махнул рукой.
— Ничего, дядя Силуян, — ответил Костя, — под небом спать — оно приятнее — ни клопов, ни вони.
Силуян ничего не сказал и тронул коня с места.
Подъехав ближе, Костя увидел у костра десятка два мужчин и женщин. Они неподвижно сидели и лежали у огня и опасливо вглядывались в темноту, заслышав близкий топот четырех коней, и не ожидая от того для себя ничего доброго.
Силуян и Костя остановились, не доезжая до костра саженей десять. И снова Силуян перебросил повод Косте, а сам вперевалку и не спеша пошел на огонь.
Один из сидевших у костра поднялся и Костя услышал: «Сидайте с нами, добрые люди. Грейтесь и угощайтесь чем бог послал».
— Спаси Бог, — ответил Сидуян и позвал негромко:
— Константин, иди к огоньку — погреемся да повечеряем.
Костя вошел в круг света. У костра сидели и лежали все больше увечные да старые, кто и в страдную пору был не работник. Чуть в сторонке стояло несколько телег с привязанными к ним конями — худыми, облезлыми, старыми ни дать ни взять — хозяевам подстать. В двух телегах на соломе лежали двое — хворых ли, увечных ли, — покрытых по грудь рваными рогожами. Такими же рогожами были покрыты и привязанные к телегам кони.
Присев к костру, Костя и Силуян выложили хлеб и сало, но никто не прикоснулся к их чистосердечным дарам, отговариваясь тем, что все они только что повечеряли. В ответ им предложили репу и квас, ржаные лепешки, лук и вяленую рыбу — все, что было у этих бедных людей, православных крестьян и крестьянок, шедших на богомолье в Киевско-Печерскую лавру. Они шли сами и везли с собою двух больных односельчан — мужа и жену, — которым кроме как на чудо и на милость божью не на что было надеяться.
Костя, разминая затекшие ноги, несколько раз подходил к больным. В сумерках они выглядели неживыми и казалось, что и чудо им уже не поможет.
Возвращаясь к костру, Костя видел перед собой людей, казавшихся не намного лучше тех, что недвижно лежали под рогожами: лица собравшихся у огня были измождены и печальны, руки с набрякшими от работа венами бессильно лежали на коленях, их свитки и шаровары, юбки и кофты были грязными и ветхими. Стражники сидели молча — все давно уже было переговорено.
Посидев недолго, богомольцы разбрелись в стороны, забравшись на ночлег под телеги. Последними в таборе заснули гонцы пана Киселя и думы их были невеселыми.
* * *
В тот самый час, когда в ста верстах к западу от Киева заснули, наконец, Костя и Силуян, с подворья пана Киселя выехал ещё один гонец.
Адам Григорьевич сам вышел провожать его. Вручив гонцу второе письмо, составленное слово в слово с первым, Кисель сказал:
— К ночи будешь на месте. А не поспеешь к ночи — не беда. Так что коня не гони. Еду тебя через четыре дни. А не окажется на месте того, к кому едешь — жди хоть неделю — без ответа не возвращайся.
Гонец поклонился и быстро вспрыгнул в седло. Когда он уже был в воротах, Адам Григорьевич крикнул:
— И письмо только ему самому отдай, в собственные руки. Гонец кивнул головой и повернул коня к берегу Днепра, на восход солнца — к полтавской дороге.
* * *
Костя и Силуян въехали в Варшаву 30 июля 1644 года. День уже угасал. Солнце упало за Вислу, вызолотив и высветив на прощанье кресты, флюгера и шпили множества островерхих башен.
По узким грязным улочкам Силуян уверенно проехал к центру города и остановился напротив большого нового дома, развернувшегося дивной красоты фасадом на небольшую площадь.
— Тебе в цей палац треба занести письмо, — сказал Силуян. — А мне треба в другой палац. — И негромко добавил:
— Без меня не уезжай. Завтра об эту пору буду ждать тебя у палаца князя Оссолинского, на цем мисте.
Как только Силуян скрылся за первым поворотам, Костя спрыгнул на землю и стал соображать: что ему делать с тремя конями, куда хотя бы на время привязать их?
С высокого крыльца панского палаца, лукаво ухмыляясь, глядели на неловкого московита двое саженного роста гайдуков в расшитых серебром кафтанах, с саблями, в шапках с перьями.
И вдруг на площадь вылетела сверкающая и гремящая кавалькада всадников в лентах, в перьях, в шелке и бархате. Следом за кавалерами вынеслись на площадь две кареты и на рысях подкатили к дворцу. Шурша шёлком, звеня шпорами и оружием, кавалеры проскакали перед самым костиным носом, едва не сбив его с ног, и обдав целым облаком запахов: конским потом и порохом, вином и сырой кожей, и что особенно дивно — благоухающим и терпким ароматом цветов, какой лишь однажды учуял Костя, когда шли из Успенского собора царица и царевны с ближними боярынями, а он стоял в толпе зевак, ненароком оказавшись у самой ковровой дорожки, по которой плыли лебедушками жены и дочери первых велеможеств Российского царства.
Попятившись назад, Костя и совсем уж было растерялся, но проскакавшие мимо кавалеры, с птичьим гомоном, со смехом и шутками, враз спорхнули с сёдел и тут же стали охорашиваться, поправляя шляпы и парики, плащи и оружие.
Со всех сторон кинулись к кавалерам мальчишки и парни, предлагая подержать коней, пока ясновельможные шляхтичи будут гулять во дворце. Небрежно бросая поводья, кавалеры неспешной важно потекли к парадной двери, у которой остановились только что появившиеся на площади кареты.
Гайдуки быстро распахнули дверцы карет, отбросили подножки. Из карет, не спеша, вылезли два старика. Строго взглянули на поднимающихся по ступеням шляхтичей. Те остановились, забрякали шпорами, стали махать перед собою шляпами, касаясь пола длинными яркими перьями.
Гайдуки лихо распахнули дверь. Старики неспешно и важно вошли во дворец. За ними с непокрытыми головами, оправив по плечам парики, чинно потянулись затихшие кавалеры.
Тут и к Косте подбежал хлопчик — шустрый, синеглазый. Улыбаясь, схватил коней за уздцы. Костя дал ему грош и с замиранием сердца пошел к распахнутой настежь двери — такой высокой да красивой, какие на Москве бывали только в церквах.
Глава одиннадцатая. Канцлер Речи Посполитой
Вечером 30 июля в одной из комнат дворца Оссолинских встретились трое немолодых мужчин. Это был хозяин дома — Иржи Оссолинский, и двое его братьев — старший — Кшиштоф и младший — Максимилиан.
— Что же это делается, панове братья? — нервно проговорил Кшиштоф. И по тому, как он сказал это, было ясно, что два других Оссолинских хорошо поняли, что заботит их старшего брата.
Максимилиан удрученно молчал. Иржи смущенно опустил глаза. Затем после недолгой паузы неуверенно произнес:
— Я ничего не могу поделать с Вишиевецким. Да и сам король тоже ничего не может с ним поделать.
— Хороша Республика! — воскликнул Максимилиан. — Канцлер и король не могут найти управу на зазнавшегося подданного!
— Попробуй, найди, — ответил Иржи, — когда у Иеремии триста тысяч собственных подданных, собственная армия и даже своя монета. А замки и города Вишневецкого укреплены получше королевских фортеций.
Люди Вишневецкого захватили наш обоз и разграбили два наших села, конечно же, не потому, что пану Иеремии стало нечем платить своим слугам.
Эти грабежи есть акт политический. И направлен он против меня канцлера Речи Посполитой, ибо я — сторонник сильной королевской власти, а пан Иеремия — её первый враг.
Он хочет быть абсолютно независимым от Варшавы и потому сеет раздоры, поощряет разбой и потворствует распрям во всех землях государства, кроме собственных своих владений, чтобы стать самым сильным среди ослабленных междоусобицами магнатов.
— Ты все хорошо объяснил, Иржи, — с нескрываемой иронией произнес Кшиштоф. Скажи теперь только одно: что делать нам, братьям Оссолинским, после того, как налей фамилии нанесены ущерб и оскорбление?
— Терпеть и ждать своего часа, — бесстрастно произнес канцлер. — В политике чаще всего побеждает тот, кто умеет ждать. «Что же тебе ещё остается?» — подумали и Кшиштоф и Максимилиан с раздражением.
Неловкую тишину прервал робкий стук в дверь.
— Войдите! — крикнул канцлер.
На пороге появился ливрейный гайдук и рядом с ним незнакомый канцлеру гонец — высокий, жилистый, зеленоглазый.
— От его милости пана Адама Киселя до вашей светлости, пан князь, произнес гайдук громко и тихонечко подтолкнул гонца в спину.
Иржи шагнул к двери, взял из рук гонца пакет и с хрустом поломал печати.
Быстро пробежав письмо, он еде заметно улыбнулся и, возвратившись в глубину комнаты, открыл стол. Письмо исчезло во тьме одного из многих ящиков, а на свет — оттуда же — появилась золотая монета. Канцлер по-мальчишески подбросил монету, ловко поймал её и с улыбкой протянул гонцу. Гонец улыбнулся и, тряхнув в поклоне светлыми кудрями, быстро вышел за дверь.
— Чему ты улыбаешься, Иржи? — спросил Кшиштоф, как только братья остались одни.
— Может быть, теперь нам недолго придется ждать погибели зрадцы Иеремии, — задумчиво проговорил Иржи и снова улыбнулся.
* * *
Адам Григорьевич, получив ответные письма, доставленные Костей и вторым гонцом, решил везти князя Шуйского в Варшаву. Поразмыслив, он велел закладывать одну карету, чтобы во время неблизкой дороги кое о чем порасспросить Ивана Васильевича, а кое-что поведать, чтобы знал князь, с кем посчастливилось ему иметь дело и каков есть черниговский каштелян Адам Григорьевич Кисель.
Сев в карету и удобно разместившись насупротив Тимоши, пан Адам исподволь да потихонечку начал выведывать то, чего ещё о нем не знал. Однако князь Иван говорил все то же, что и раньше, повторяя неспешно, тихо и печально:
— В смутное время, Адам Григорьевич, неведомо какими путями попал я вместе с верным моим слугой Константином в Вологду. Мал я был совсем, должно быть, титешник, и потому от времени того совсем ничего не помню. Возрос я в доме вологодского владыки, архиепископа Варлаама. И он-то, владыко, открыл мне одноднесь великую тайну, назвав меня царёвым рождением. А вслед за сим показал мне тайно же грамоту, коей царь Московский жаловал меня наместничеством и воеводством и по той грамоте на европейский манир был я как бы вологодским королевичем. Грамота та хранилась у владыки в ларе железном, а ларь стоял в ризнице Софийского собора. И в том ларе хранился и этот вот крест.
Тимоша снял крест, протянул его Адаму Григорьевичу. Пан Адам, скучая, как бы нехотя, повертел крест в руках, поглядел из вежества, протянул обратно.
— Ты надпись на нем прочти, Адам Григорьевич, — настойчиво проговорил Тимоша, не принимая протянутого к нему креста.
Кисель вынул из кармана очки и, кривясь лицом от ненужной ему докуки, долго не мог углядеть никакой надписи. Тимоша пересел к пану Адаму на лавку и так повернул крест, что надпись как бы выплыла из глубины, кисель прочитал и, не сказав ни слова, вернул Тимоше крест обратно.
— А дале что было?
— А далее решил я правду искать. И с верным моим слугою бежал в Москву. Да только разве в Москве правду сыщешь?
Тимоша вздохнул огорченно, и отвернувшись, стал глядеть в окно. Адам Григорьевич, ничего в ответ не промолвив, засмотрелся в другое. Долго ехали молча.
Наконец, Кисель отвернулся от окна, ласково на Тимошу поглядел. Наклонившись, коснулся рукою колена.
— Теперь я тебе, князь Иван Васильевич, о себе расскажу. Кисель вздохнул, глазами стал печален. Вот ты думаешь — едет с тобой в карете большой вельможа, по-российски — боярин. Многими милостями взыскан и титулами украшен: каштелян и сенатор, комиссар его королевского величества, владелец немалого числа маетностей и державца сёл и починков, угодий и бортей.
Кисель ещё раз вздохнул, руку от тимошиного колена отнял и, выпрямившись, взмахнул ею, будто с кем прощался.
— Что мне с тех титулов и маетностей? Пошто они мне? Я и молодым был — за богатством не гонялся, а теперь и подавно не побегу. Или я сёла мои и земли смогу в могилу с собою забрать?
Тимоша молчал, не понимая, к чему клонит Адам Григорьевич.
Кисель продолжал:
— Жизнь мою не скопидомству я посвятил, не погоней за чинами и милостями, хотя, видит бог, — Кисель истово перекрестился, — был я взыскан и королем Владиславом, и покойным его батюшкой Сигизмундом, царствие ему небесное.
— Что же для тебя, Адам Григорьевич, было наиважнейшим? — спросил Тимоша только для того, чтобы собеседник его не подумал, что беседа ему не интересна.
— Служить православной вере, — проникновенно произнес Кисель, и испытующе доглядел на Тимошу.
— А попы на что? — простодушно спросил Анкудинов.
Кисель замялся: не мог понять — строит ли из себя князь Иванушку-дурачка или на самом деле не понимает. Решил объяснить по-серьезному.
— Вера, князь, не одних попов дело. За веру сражаться треба, особь, если её со всех сторон теснят. А у нас, в Речи Посполитой, нет тех обид, каких бы не испытали мы, приверженные от отцов наших греческому закону. И я потому тебе — защита и опора, что и ты, князь, в одной со мною вере рожден.
— Это дело ясное, Адам Григорьевич, — проговорил Тимоша, все ещё не понимая, куда клонит старый сенатор.
— Ну, а если — ясное, то слухай со вниманием. Речь Посполитую составляют пять народов — поляки, или ляхи, как называют их в Московии, литовцы, малороссы, белорусы и русские. Есть ещё и другие — малые, — но не о них сейчас речь. Поляки — сплошь привержены римскому закону католической церкви. Литовцы — тоже во многом числе, а малороссы, белорусы и русские — православные. А так как король и магнаты — католики, то начальные люди государства теснят православных, хотя в битвах за Речь Посполиту равно льется кровь и тех и других. Но только два народа — поляки и литовцы — имеют свои сеймы, своих канцлеров и могут принимать собственные ординации. А православные, живущие на земле польской короны, и их единоверные братья в Великом Литовском княжестве лишь исполняют эти законы, платят налоги да ходят на войну.
И всю мою жизнь, Иван Васильевич, воюю я за то, чтоб не утесняли нас, православных, чтоб не высилась папежская рука над апостольской и вселенской церковью нашей. Да вот беда — немного у меня помощников.
Адам Григорьевич вздохнул ещё раз, сокрушенно покачал седою головой.
— Как же, Адам Григорьевич, могу я в сем великом деле подмогу тебе учинить?
Кисель опустил глаза. Сказал глухо:
— О том и речь пойдет, князюшка. Был ты в Вологде архипастырем обласкан и взыскан и то тебе показалось мало и ты, желая правду отыскать, из гиперборейских пустынь прибежал на Москву.
Тимоша согласно кивнул.
— И из Москвы ты снова утёк, обидел тебя царь Михаил и бояре его: не дали тебе в Вологде наместничества, попрали твое доброродство.
Кисель поднял голову, строго взглянув на собеседника. Тимоша снова кивнул согласно.
— А в Речи Посполитой чего ты чаешь найти? Веселого да сытого житья? На такое житье и здесь притязателей довольно.
И Тимоша вспомнил — лес под Киевом и сказанные ему Костей слова: «В золоте будем ходить и на золоте есть, как и подобает великим мужам, кои от одного короля к другому служить отъезжают!» И вспомнив это, от дурного предчувствия заробел: не просто, видать, зарабатывают веселое да сытое житье. Желая переменить разговор, Тимоша сказал:
— И всё-то ты, Адам Григорьевич, меня пытаешь: что да как? А ну, я тебя спрошу — зачем ты меня в Варшаву везешь? С золотых тарелей кормить? Ренским вином поить? Или же к какому делу приспосабливать? А ежели едем мы с тобой для какого дела, так скажи мне о нём испряма, без утайки.
Кисель надел очки, в упор посмотрел на Тимошу. Покрутил ус.
— А и скажу. Непряма. Без утайки. Ты нам таков как есть — не надобен. Воевод да подскарбиев, каштелянов да гетманов у нас и без тебя довольно. Нам нужен — русскому царю первого градуса супротивник и супостат. Чтобы подыскивал под ним государство, чтоб трон его шатал беспрерывно.
У Тимоши снова нехорошо стало на сердце: вспомнил Вологду, книжищу Варлаама, и то, как из книжницы в дом придя, на себя в зерцало глядел — на Шуйского — царя похож ли?
— Если ты Шуйский — князь, то отеческий стол должен взять и никому отнюдь его не уступать. Ну, а ежели — кто иной, тогда и говорить нам с тобой не о чем.
Тимоша скривил рот набок, развел руками, сказал с обидой:
— Неверки такой не ждал от тебя, Адам Григорьевич. Может что сказал не так — прости. А отечество мое всем ведомо.
И снова как бы ненароком прикоснулся к кресту.
— Ну, а если так, князь, то будешь ты в Варшаве не просителем, а московского престола искателем.
* * *
Кисель и его свита остановились на собственном подворье Адама Григорьевича в Краковском предместье Варшавы. Тимошу и Костю поместили в двух разных покоях. У Кости покой был поменьше и попроще, у Тимоши — высок, светел, на потолке — пухлые крылатые младенцы с луками и стрелами, сиречь амуры или же купидоны. Кровать с шатром, а в головах — зеркало до самого балдахина.
И корм с самого начала стали давать совсем иной, нежели в Киеве. Костя усмехался довольный, Тимоша при Косте не тужил. Однако, оставаясь один, глядя в затканный серебряными звездами испод балдахина, думал: «Какую же плату возьмет за все это христолюбивый пан Адам?» И понимал: немалую.
Меж тем, не проходило дня, чтоб Адам Григорьевич не наведывался к Тимоше, а ещё чаще звал за свой стол, где на камчатной скатерти стояли не хлеб с молоком и не лук с чесноком.
За ренским, кое любил пан Кисель более прочих вин, говаривал он Тимоше многое. Рассказывал о долгой жизни своей, о том великом добре, что сделал он для сотен тысяч своих единоверцев, исправляя на Украине должность королевского комиссара.
Рассказывал, как усмирил он разумным и добрым словом не одну казацкую замять, как почти без крови прекратил мужицкий бунт, а главного заводчика Павлушку изловил и передал законным властям. И вот уже шесть лет — говорил Адам Григорьевич — нет на Украине ни мятежей, ни скопов. Золотой покой пришел, наконец, на Украину.
И скромно потупив глаза, давал понять, что это не чья-нибудь, а именно его, Киселя, заслуга.
Однажды завал пан Адам беседу, которая поначалу показалась Тимоше не имеющей к нему никакого касательства. Стал пан Кисель говорить о Руси и о Польше. Со слезами в голосе поминал старое лихолетье, когда шли на Москву польские и литовские люди, и запорожские курени, и наёмная немецкая пехота — и от того возникла великая междуславянская распря. Но ведь время то давно миновало, говорил Адам Григорьевич, что же нам прежним жить? Теперь другое важно — не почитать Речь Посполитую врагом Руси. Надобно забыть свары и брани прежних лет и объединить обе державы против общих врагов — турок, татар, немцев и шведов. Ибо распри между нашими странами на радость нашим недругам и на погибель нам самим.
— Не возьму в толк, Адам Григорьевич, — того, что от тебя слышу. Мне-то пошто всё это знать?
— Тому не дивлюсь, — раздумчиво отвечал хлебосольный хозяин, — ибо мужи старее и опытнее тебя тоже таковых моих сентенций ни слышать, ни понимать не желают. А жаль. Ведь наши два государства подобны двум кедрам ливанским, от одного корня произрастающим. Десница господня создала нас от единой крови славянской и от единого славянского языка. Свидетельствуют о том и греческие, и латинские историки, о том же и Нестор летописец повествует. Да и наши языки не то же ли самое подтверждают? И разве не про нас сказано в Писании: «Коль добро и коль красно еже жити, братие, вкупе!»
Ты пойми, князь, — Адам Григорьевич, наклонившись, искательно смотрел в глаза Тимоше, — все беды наши от разделения славянского происходят. Были славяне едины — и трепетали перед ними Рим и Константинополь. Распалось славянское братство — и южные славяне оказались под игом турецким, а в Корсуне-городе, там, где святой равноапостольный князь Владимир византийскую веру приял, ныне крепко сидит поганая Крымская орда.
Настало время, Иван Васильевич, вновь о славянском единстве порадеть. И если ты в том помощником моим окажешься, то и я тебе в твоем деле сгожусь.
Тимоша молчал, поглаживая крест. В глаза Киселю не смотрел, глядел вниз, думал: «Вот уже то дело, кое Кисель задумал, не его, а мое стало. Уже он мне в его же собственном деле помогать собирается». Однако подумал одно, а сказал другое:
— За то тебе мое спасибо, что ты мне, Адам Григорьевич, сгодиться собираешься. А бог даст достигну прародительского престола, быть тебе у меня в великой милости. Только не чаю я, Адам Григорьевич, как тому моему делу статься?
— То дело великое, Иван Васильевич. В том деле помогут тебе первые люди Речи Посполитой — канцлер, а может и сам король.
— Добро, Адам Григорьевич. Если доведется быть у короля, те твои слова о двух кедрах ливанских скажу его величеству как свои собственные.
Кисель засмеялся. Подумал: «Умён, Иван Васильевич, или как там тебя на самом деле?» Вслух же сказал:
— Вот ты и ответил на тот вопрос, который мне задавал. Понимаешь теперь, как твоему делу статься?
— Понимаю, Адам Григорьевич. Вы мне прародительский стол, я вам — все те русские земли, коими владеете, навеки оставлю да ещё и московские полки против татар и шведов на ваши южные украины пошлю. Так что ли, Адам Григорьевич?
— Так, князь Иван, — ответил Кисель, будто одним ударом гвоздь в бревно по шляпку загнал.
А потом, помолчав немного, добавил:
— Так-то оно так, государь мой, Иван Васильевич, да только не совсем так.
* * *
Вот уже более получаса канцлер Оссолинский не выходил из кабинета короля Владислава.
— Поймите, государь, — прижимая руку к сердцу, проникновенным бархатным голосом говорил канцлер, — я убежден, что это именно тот человек, который нам нужен.
— Для чего? — раздраженно спросил король. Он с самого начала не верил в успех предложенного Оссолинским предприятия и сердился все больше и больше.
— Для достижения тех целей, которые были столь близки, но, к сожалению, остались неосуществленными.
Владислав вздохнул и отвел глаза в сторону. Не глядя на канцлера, нервно постукивая пальцами по краю стола, Владислав произнес:
— Двадцать четыре года я был царем московитов.
«Точнее, вы носили этот титул, ваше величество» — подумал Оссолинский.
— Ты же знаешь, Иржи, что я получил русский трон пятнадцатилетним мальчиком, — продолжал Владислав. — И почти до сорока лет сохранял его за собою. В тридцать четвертом году меня заставили отречься от него. Так неужели ты думаешь, что я буду стараться для кого-то добыть то, что по праву принадлежало мне четверть века?
— Ваше величество потеряли трон не в 1634 году, а в 1613-ом. Этот трон отобрал у вас Михаил Романов и вот уже тридцать лет силой удерживает его за собою. Он же десять лет назад заставил ваше величество отказаться и от титула, который вы носили четверть века. Более того, он добился того, что русская знать и поместное дворянство не считают более королей из дома Ваза законными русскими государями.
— Ты хочешь сказать, что русские нобили и принципалы могут признать законным претендентом на трон этого бродягу, выдающего себя за князя Шуйского? Ведь ты же знаешь, что у покойного царя Василия не было детей.
— Где ваша мудрость, государь?! — воскликнул канцлер с нескрываемым возбуждением. — Не сочтите за дерзость и не думайте, что я пытаюсь поучать вас, но разве не вы первый должны твердо поверить в законные права князя Шуйского на московский трон? И не только поверить, но и уверить в этом других!
— А почему, Иржи? Разве не было в России самозванцев? Или только я и ты знаем это, а другие забыли? И добро, если бы бдпо их два или три, а то ведь страшно вымолвить — два десятка сиволапых мужиков выдавали себя за царских детей и внуков. И кто после всего этого поверит, что князь Шуйский не какой-то подымёнщик и вор?
— Да что мне за дело, кто он на самом деле? — снова разгорячившись воскликнул канцлер. Разве год назад, когда послы московитов — князь Львов и боярин Пушкин — просили выдать головою самозванцев, прятавшихся на Семборщине и в Бресте-Литовском, разве мы отдали им тех людей? Нет, ваше величество, не выдали. Ибо, если бы мы поступили подобным образом, то никогда более ни один враг русского царя не стал бы искать у нас прибежища, а связывал бы свои помыслы со шведами или турками к большой досаде и немалому вреду для Речи Посполитой.
— Ну, хорошо, Иржи, — примирительно сказал Владислав, — если этот Шуйский всё-таки добьется трона, то выиграет ли от этого Республика?
— На русском троне, государь, окажется человек, обязанный вам и Речи Посполитой всем, что у него есть — престолом, титулом и самой жизнью.
Он утихомирит Запорожскую Сечь — это средостение смутьянов и поджигателей, и тем самым укрепит вашу власть, государь, ибо многие волки коронных войск перейдут с Украины в Польшу и магнатам будет не так-то легко противиться вашей воле.
Оссолинский представил, как, повинуясь королевскому ордонансу, под власть Владислава один за другим переходят города и замки магнатов. Как бежит из своей столицы ненавистный Вишневецкий, как комиссары короны твердой рукой повсюду насаждают закон и порядок, и, представив это, решил не отступать до конца.
— А ты уверен, что князь Иван, окажись он на троне, будет таким же покладистым, как и теперь, когда он бессилен и нищ?
— Одному богу может быть это известно, государь. Но ведь наша помощь все же должна обязать князя Шуйского.
— Чего стоит услуга после того, как она оказана? — устало, с нескрываемой насмешкой произнес Владислав. — Оба Димитрия вначале тоже обещали нам полную покорность, но стоило им оказаться во главе армии, как всё тут же изменялось.
— Я постарался предусмотреть и это, государь. Шуйский начнет с того, что разошлет по России универсалы, в которых именем бога поклянется в неизменной верности славянству против татарских орд и извечных врагов Руси — шведов. Это сплотит вокруг него юг страны, страдающий от набегов крымцев, и север, беспрерывно отражающий войска вашей кузины, шведской королевы Христины Ваза.
Король молчал. Он казался больным и утомленным. Оссолинский вдруг вспомнил, что Владиславу вот-вот исполнится пятьдесят, что нынешней весной у короля умерла жена, что казна государства пуста и из-за всего этого разговор, который он только что вёл, показался ему неудачным.
«Он всего боится, — подумал канцлер. — Ему более всего хочется покоя, а я втягиваю его в дело, где можно многое выиграть, однако, можно и многое потерять. Такие дала не для этого одряхлевшего толстяка».
Владислав встал.
— Я приму князя Шуйского, Иржи. О времени аудиенции тебя известит мой секретарь.
Глава двенадцатая. Августейшие братья
Королевский секретарь Джан Франческе Спигарелли бесплотной тенью проскользнул в кабинет Владислава, как только оттуда вышел канцлер Оссолинский. Остановившись у двери, Спигарелли почтительно ждал, пока король заметит его. Но Владислав как будто окаменел. Он стоял за столом, уставившись взором в одну точку и машинально постукивал пальцами по краю большого, совершенно пустого стола…
Джан Франческе, хорошо изучивший характер своего патрона, был совершенно уверен, что причиной такого состояния короля был только что закончившийся визит Оссолинского, Спигарелли ждал, не двигаясь, почти не дыша.
Наконец, Владислав вышел из оцепенения. Казалось, что он был где-то за тридевять земель отсюда и вдруг совершенно для него неожиданно оказался у себя в кабинете.
Когда взгляды Владислава и Спигарелли встретились, король, опускаясь в кресло, произнес:
— Завтра после ужина я приму князя Оссолинского, черниговского каштеляна пана Киселя и ещё двух приезжих кавалеров.
Спигарелли ничего более и не требовалось: он понял, что Оссолинский, оставивший короля в состоянии крайней задумчивости, явится завтра вечером, чтобы продолжить сегодняшний разговор.
Он понял, что важную роль при этом будет играть пан Кисель и те двое, которых он приведет с собою.
* * *
Следующим утром на варшавском подворье пала Киселя появилась хорошо здесь всем знакомая странница Меланья. Чуть ли не каждую зиму обитала она на подворье среди прочих захребетников и приживалок.
Меланья проползла в людскую к закадычной своей подруге — стряпухе Варваре, и та добрые два часа, бросив все дела, слушала дивные рассказы бывалой старухи. А чтоб не ударить в грязь лицом, стряпуха и сама рассказывала обо всем случившемся на подворье за весну и лето.
Меланья жевала пирог, ахала, выспрашивала и поддакивала, и в конце концов, низко поклонившись — за хлеб-соль, за привет и ласку — тихо выползла из людской.
…В полдень Спигарелли знал, что в доме Адама Киселя поселились двое московитов, одного из которых звали князем Иваном Шуйским.
* * *
Спигарелли — тонкий дипломат, лукавый царедворец, образованный гуманист, ещё в ранней юности посвятил себя служению Иисусу Христу, вступив в Орден истинных сынов веры — иезуитов. По совету многоопытных отцов-наставников он, как и многие другие члены ордена, не стал налево и направо трезвонить о своей принадлежности к священной дружине защитников святой церкви.
Однако, куда бы ни посылал его Орден — верные люди извещали Спигарелли о братьях-иезуитах, находящихся рядом и готовых в любую минуту прийти к нему на выручку. В свою очередь иезуиты знали, что королевский секретарь Джан Франческе Спигарелли так же, как и они, является членом великого Ордена Иисуса.
Знал об этом и самый высокопоставленный иезуит Польши — брат короля кардинал Ян Казимир.
И как только Спигарелли догадался, что между Оссолинским, Киселем, Шуйским и королем Владиславом протянулась тоненькая, едва заметная ниточка, он немедленно сообщил об этом Яну Казимиру.
* * *
Адам Григорьевич был извещен о визите к королю за шесть часов до аудиенции. Еще час черниговский каштелян в сугубой задумчивости крутил усы, а потом велел кликнуть к себе князя Ивана Васильевича и начал с ним беседу, которую Кисель называл иноземным словом «конфиденц», что означало — из тайных тайная.
Не говоря Тимоше, что вечером они встретятся с королем, Кисель решил рассказать ему самое важное, что он тщательнейше скрывал до последнего момента.
— Настал час, государь мой Иван Васильевич, открыть тебе величайший конфиденц. Знаем об этом — я, ты и ещё один могущественнейший потентат, сиречь вельможа, чье имя я пока упоминать не стану.
Замыслили мы животы наши и достояние положить на алтарь любезного нам славянства. Для сего соберем мы немалые войска и деньги и пойдем на Москву сокрушить неправедный, не то кобылий, не то кошачий род.[1] И изгнав из Кремля Михаила Романова, посадим на московском престоле Ивана VI — Шуйского.
Кисель замолчал, ожидая, что скажет на все это князь Иван Васильевич. Но Тимоша сидел, не произнося ни слова. Затем спросил:
— В чем же усмотрел ты здесь великий конфиденц? Ведь об этом мы с тобою и прежде не раз беседовали. Кисель ответил, улыбаясь.
— Верно говоришь, государь мой Иван Васильевич. Только прежде мы до сего места доходили и останавливались, а далее сего — не шли. А ныне далее пойдем.
— Куды ж далее Москвы идти? — с насмешкой спросил Тимоша. — В Пермь, что ли?
— А ты слушай. Как сядешь ты на московский трон, то и совершим мы дело, кое ни великий еллин Александр Македонский, ни знаменитейший из цесарей Каролус Пятый свершить не смогли б. Мы соединим Речь Посполиту и Московское государство в одну державу, и мощнее этой державы не будет в свете.
Адам Григорьевич сцепил пальцы рук, задышал тяжко, на его старческих — пепельного цвета щеках — проступили красные и синие пятна.
— А кто ж в сей великой державе королем будет? — изумленно спросил Тимоша.
— Поначалу — Владислав. А потом, когда в третьей части страны, населенной православными, станет свой сейм и свой канцлер, то паны-электоры или по-русски — паны-избиратели выберут того, кто большинству из них будет по душе.
Тимоша понял, на кого намекает старый лукавый шляхтич, но промолчал и на этот раз.
— И встанет та держава необоримой Орантой — каменной стеной — против турок и шведов, против татар и немцев! — воскликнул пан Кисель.
— И православная украинская шляхта вкупе с единоверным русским дворянством, — добавил Тимоша тихо, — прижмет хвост и литовским и польским панам.
Кисель засмеялся, но видно было — стало ему не по себе, что угадал князь Иван Васильевич последний — самый главный конфиденц, о котором Адам Григорьевич признавался только одному человеку — самому себе.
* * *
Королевский кабинет был сумрачен и пуст. Тимоша заметил, что даже пан Кисель немного растерялся: по-видимому, он рассчитывал увидеть здесь хоть одного ожидавшего их человека. Так и стояли все они — Кисель, Тимоша и Костя в неловкой и томительной тишине, пока вдруг прямо из стены не вышел навстречу им худой невысокий мужчина лет пятидесяти с опущенными вниз, но тем не менее все подмечавшими глазами.
— Канцлер князь Оссолинский, — шепнул Кисель Тимоше.
Тимоша стоял напрягшись, положив руку на эфес сабли.
Канцлер подошел ближе, церемонно склонил голову, жестом пригласил садиться на стулья, на диван. Тимоша и Костя переглянулись — ножки у дивана и стульев были столь тонки — сядь, тут же хрустнут, как иссохшая хворостинка.
Канцлер сел первым, за ним, откинув саблю в сторону и уперев широко расставленные ноги в блестевший, как зеркало, пол, сел Тимоша.
Кисель привычно, без опаски, опустился на резной тонконогий стул. Костя сесть не решился, остался стоять, держась рукой за диванную спинку.
— Князь Иван Васильевич Шуйский? — вопросительно произнес Оссолинский, и посмотрел Тимоше прямо в глаза.
«Ого, — подумал Тимоша, увидев канцлера, — умён, хитёр, многоопытен. Не может этого сокрыть, хотя бы старался. Оттого и смотрит более всего себе под ноги».
— Князь Шуйский, пан канцлер, — не отводя взгляда, но сильно волнуясь подтвердил Тимоша.
— Какими судьбами занеслись вы в Варшаву? — слегка коверкая русский язык, произнес канцлер.
— Гонения недругов моих, боярина Морозова и иных, заставили меня и дворянина Конюховского покинуть Московское государство.
— Что делать будете у нас, в Речи Посполитой? — спросил канцлер, и вдруг, поспешно встав, повернул голову в ту сторону, откуда только что появился сам.
Все тотчас же встали и невольно поглядели туда же. У стены стоял невысокий, толстый мужчина в простом камзоле, в черном парике, со шпагой на боку.
— Садитесь, панове, — проговорил толстяк негромко и плавно повел пухлой рукой.
Все продолжали стоять. Тогда толстяк подошел поближе и сел в одно из свободных кресел.
— Продолжайте, панове, — так же тихо проговорил он.
Оссолинский, повернувшись ко вновь вошедшему, повторил последний вопрос. Толстяк подпёр щеку рукой, внимательно глядя на Тимошу.
«Кто бы это мог быть? — подумал Тимоша. — Канцлер вскочил так резво, как будто перед ним появился сам король. Но разве может король ходить в столь бедном платье? К тому же ни Оссолинский, ни Кисель не поклонились ему поясным поклоном, не встали перед ним на колени. Нет, это кто-то другой, должно быть окольничий или ближний боярин, посланный королем для догляда». И Тимоша, глядя на князя Оссолинского, произнес важно:
— Ищем мы, князь, наш прародительский престол, захваченный у нас неправдою Мишкой Романовым с товарищи.
— А какие у князя Шуйского права на московский престол? — так же тихо проговорил толстяк. И после этого он почему-то показался Тимоше опасным и неприятным.
— О моих правах на стол Московский пан канцлер добре ведает, раздраженно ответил Тимоша, желая показать, что ни с кем, кроме Оссолинского, он говорить не хочет.
— А и нам бы, пан князь, тоже добре было знать о сем немаловажном деле, — вдруг за спиной у собравшихся проговорил ещё кто-то, и собравшиеся в кабинете увидели у двери, ведшей из приемной, высокого моложавого щеголя в лиловом парике, с торчащими вверх тонкими ниточками усов.
Вошедший, хотя и был роскошно одет, строен и франтоват, чем-то неуловимо напоминал сидящего в кабинете толстяка.
И снова канцлер дёрнулся, вскочил, как на пружине и отвесил вошедшему низкий поклон.
«Король», — подумал Тимоша, и встав, низко поклонился щеголю. Однако тут же усомнился в том, правильно ли поступил, ибо неряшливо одетый толстяк не только не поклонился вошедшему, но даже, напротив, раздраженно произнес какую-то длинную фразу на языке, который не понимал Тимоша, и который — он видел это — не понимал почему-то поднявшийся на ноги Адам Кисель. Кисель дёрнул Анкудинова за руку и прошипел:
— Это Ян Казимир — брат короля.
Щеголь ответил толстяку не менее раздраженно и Тимоша увидал, как лицо канцлера Оссолинского покрылось пятнами и он, вытянув вперед руки, стал быстро и жалобно лепетать на этом же тарабарском языке, поворачиваясь то к одному, то к другому из споривших.
Не понимая, что происходит, но чувствуя, что и он должен встать, Тимоша поднялся и увидел, что все в комнате стоят и лишь толстяк в черном парике продолжает сидеть.
Что-то сердито пробурчав под нос, толстяк вдруг поднялся и сказал по-русски:
— Спасибо за визит, князь Шуйский. Прощайте. Прощай и ты, пан…
— …Конюховский, — подсказал Кисель.
— Пан Конюховский, — с нескрываемым пренебрежением проговорил Владислав и еле пошевелил толстой короткой рукой, затянутой в черную перчатку.
Тимоша и Костя, неловко пятясь и низко кланяясь, стали отступать к двери. Пан Кисель вопросительно поглядел на короля.
— А ты, Кисель, останься, — произнес Владислав и в его голосе всем собравшимся послышалась нескрываемая угроза.
Щеголь в лиловом парике, окинув оставшихся в кабинете насмешливым взглядом, произнес чуть картавя:
— Теперь, когда здесь нет чужих — и он прищурившись, недобрыми лукавыми глазами взглянул на пана Киселя — я покажу вам, панове, нечто прелюбопытное.
Щеголь опустил два тонких холеных пальца за обшлаг кафтана и из-под кружев и рюшей вынул сложенный много раз листок бумаги. Он протянул его пану Киселю и с подчеркнутым добродушием проговорил:
— Читай, пан Адам, ты лучше всех сумеешь объяснить нам, о чем здесь написано, если мы чего-нибудь не поймем. Да и почерк, вероятно, тебе знаком.
Кисель развернул листок и буквы запрыгали у него перед глазами. Затем всё затянул туман и наступила тишина и тьма.
— Читай, пан Кисель, — повторил Ян Казимир, но старый сенатор, запрокинув голову, с закатившимися плазами, медленно спалзал со стула, царапая шпорами сверкающий паркет.
Оссолинский метнулся к окну и дернул бархатный шнур, висевший рядом с портьерой.
На звонок явился секретарь и мгновенно сообразив, что от него требуется, спросил только:
— Лекаря, ваше величество?
— Да, и поживее!
Спигарелли исчез.
Оссолинский схватил с дивана подушечку, подложил её под голову лежавшему без чувств старику, похлопал его по пепельным щекам — Кисель не шевелился.
Затем канцлер подобрал валявшийся на полу белый листок и мельком взглянул на него: «Милостивый пан! Неделю назад в Киеве, в Печорском монастыре, объявился некий беглец из Московии, называющий себя Иваном Васильевичем Шуйским, сыном покойного русского царя Василия…»
— Что за наваждение! — подумал Оссолинский и осторожно коснулся левой стороны груди. Ткань кафтана была тонка и он явственно прощупал все пять сургучных печатей, на конверте с письмом, лежавшим во внутреннем кармане камзола.
— Я узнаю о лекаре, — поспешно проговорил канцлер, — и выскользнул за дверь. Приемная была пуста. Оссолинский подошел к окну, встав таким образом, чтобы любой вышедший не смог бы увидеть письма.
Он вынул конверт из-под камзола и убедился, что письмо на месте.
«В руки Яна Казимира попала копия, — подумал канцлер. Нужно будет предупредить Киселя, что среди его доверенных есть шпион».
Однако канцлер ошибся.
* * *
Гонец, поскакавший на восход солнца, переправившийся через Днепр и выехавший затем на полтавскую дорогу, был послан паном Киселем в Дубны стольный город государства в государстве, где сидел не царем даже идолом — Иеремия Михаил Вишневецкий.
Рожденный в украинской шляхетской семье, ещё ребенком он был отдан в обучение к отцам-иезуитам во Львов, а оттуда уехал в страны, бывшие несокрушимым оплотом католицизма — Италию и Испанию.
Вернувшись на родину девятнадцатилетним юношей, он принял католичество и с неистовым пылом неофита стал насаждать на подвластных ему землях ненавистную православным крестьянам и горожанам папежскую веру.
Иеремия Вишневецкий построил в Прилуках доминиканский монастырь, католические костёлы в Лубнах, Лохвице и Ромнах.
Он не поклонялся ни Венере, ни Бахусу, легко переносил лишения, вел простой образ жизни. Иеремия был горд и высокомерен с магнатами, прост с незнатными шляхтичами, щедр на подарки слугам и надворному войску.
Но фанатизм новообращенного и непомерное честолюбие было для него главным и самым важным.
Братья Оссолинские не преувеличивали, что у Иеремии Вижневецкого триста тысяч подданных, несметная казна и многочисленное собственное войско.
И всю эту силу Иеремия Вишневецкий взращивал и пестовал для одного для сохранения и умножения собственных богатств и для уничтожения любого, кто на эти богатства посягнет. Причем богатства эти не были для него целью — они были средством для увеличения собственного могущества.
Всю жизнь он ненавидел и презирал своих собственных подданных. Тех бессловесных, покорных, трудолюбивых страдников, которые день за днем работали на пана Иеремию, создавая для него богатства, которые повергали в удивление и вызывали зависть самого короля Владислава.
Он презирал их за то, что они безропотно по грошу и по полушке сдают его сборщикам потом заработанные деньги, и ненавидел за то, что в любую минуту, схватив цепы и косы, топоры и вилы, они могли броситься на его дворцы и замки и разорвать его в клочья, искромсав серпами и пропоров рогатинами.
Они всю жизнь ждали одного — пустить по ветру скопленные им богатства, по камню разнести его дома и службы, в куски изрубить верных ему холопов. Однако его презрение было сильнее ненависти и потому он не боялся их.
Не боясь потерять и собственную жизнь, Иеремия не останавливался перед казнями сотен крестьян и казаков, если они начинали возмущаться установленными в его государстве порядками. Поэтому, когда он получил письмо от Адама Киселя, первое, что он почувствовал — опасность. Он ещё не понимал, откуда она идет, но то, что князь Шуйский несет в себе опасность, Иеремия чуял нутром. Однако, и чувствуя опасность, он все же ничего не боялся. Он был молод, смел и самонадеян. Сначала он решил, что нужно поддержать нового претендента на русский трон, дать ему войска, снабдить деньгами, а потом получить долг обратно — с такими процентами, какие не снились и венецианским ростовщикам, у которых князь Вишневецкий одалживался, живя в Италии.
Оставаясь в одиночестве, Иеремия любил смотреть на большую разноцветную карту Европы, что висела у него в кабинете между двумя высокими готическими окнами. С юношеским тщеславием Иеремия сам начертил на карте черные линии, проходившие через те города и страны, где он бывал. Эти линии — дороги его странствий — напоминали ему о многом. Они тянулись от Мадрида до Смоленска, через Рим и Венецию, Париж и Вену. А восточное синей полоски Днепра между Киевом и Полтавой, захватывая чуть ли не все левобережье Украины, шла его «панщина». Дальше — на востоке — чернел зубчатый кружок Смоленска, который польские войска удерживали за собою вот уже более тридцати лет. За Смоленском начинались бескрайние просторы дикой Московии. Велика и богата была её земля, да не было на ней — казалось пану Иеремии — добрых хозяев. И часто представлял он себе — ах, если бы достались ему эти леса и поля! Уж он бы сумел заставить работать заросших бородами сиволапых смердов. Не только в Варшаве, — в Париже и Риме ахнули бы герцоги и кардиналы, завидуя добытым им в Московии богатствам!
И он в ответ на полученное письмо, отправил палу Киселю эпистолу, в которой советовал везти князя Шуйского в Варшаву, представить его королю и решительно потребовать поддержки в завоевании московского трона.
Пан Кисель, заручившись поддержкой Вишневецкого и Оссолинского — двух смертельных врагов, каждый из которых считал черниговского каштеляна только своим союзником, — смело ринулся в рискованное предприятие.
Но чем дальше шло время, тем все беспокойнее становилось на душе у Иеремии Вишневецкого. Он перестал спать, ночами мерещились ему кошмары. Теперь уже мнился ему не Московский Кремль, куда въезжает он под звон колоколов, стремя в стремя с князем Шуйским, не коленопреклоненные бояре, подметающие длинными седыми бородами дорогу у копыт его коня, а нечто страшное, кровавое.
Мнилось ему, что из-за Вязьмы и Дорогбужа идут ощетинившиеся пиками и бердышами стотысячные орды московитов. Горят его замки, и холопы его прячутся по лесам и оврагам.
Бежит он, стремя в стремя с князем Шуйским, к Киеву, а оттуда встречь им мчатся с гиком и звериным криком чубатые запорожцы, и окружают их, и стаскивают с коней, и посадив в железную клетку, везут на муки и поругание.
В одну из ночей, не выдержав великой маяты и страха, в котором и себе самому стыдился признаться, князь Вишневецкий разбудил гонца, сунул ему в руку письмо Киселя и велел мчаться в Варшаву, дабы пресечь в самом начале затеянное безумие.
Вишиевецкий рассказал гонцу, как найти в Варшаве отца Анджея брата-иезуита, у которого некогда учился он во львовском иезуитском коллегиуме, и велел шепнуть монаху условные слова, а затем попросить его незаметно подбросить письмо Яну Казимиру.
Иеремия не хотел раскрывать истинную роль Киселя, ибо надеялся, что черниговский каштелян ещё пригодится ему, а потому не приписал, кто составил это письмо. Но Вишневецкий не знал, что старая лиса — пан Адам днем раньше отправил точно такое же послание его заклятому врагу Оссолинскому, и решил, что Ян Казимир, прочитав попавшее к нему анонимное письмо, хотя и не будет знать, от кого оно исходит, все же отыщет в Варшаве князя Шуйского и не даст совершиться задуманному. Не даст — чего бы это ему не стоило, ибо Иеремия знал, что тридцатипятилетний Ян Казимир хочет стать королем Швеции и ждет-не дождется, когда умрет его старший брат Владислав, появившийся на свет четырнадцатью годами раньше.
Ян Казимир, став сначала королем Польши, добился бы затем короны Швеции, заключив дружественный антишведский пакт с русским царем, и силой взял бы престол Стокгольма. А если на русском троне окажется новый царь, то не кончит ли он стародавнюю вражду со шведами, обратив свои алчные взоры за Днепр и Вислу?
Отец Анджей подкинул письмо пана Киселя о князе Шуйском в то утро, когда нищенка Меланья проведала, что за жильцы обитают на подворье черниговского каштеляна. И когда Спигарелли пришел к Яну Казимиру, чтобы сообщить ему о таинственном князе Шуйском, брат короля показал секретарю загадочное письмо без подписи и обратного адреса, за несколько часов перед тем обнаруженное им у порога своей собственной спальни.
Спигарелли, не зная, что точно такое же письмо получил от Киселя и Оссолинский, посоветовал Яну Казимиру отдать его старому сенатору во время свидания с королем, ибо на этой аудиенции будет и князь Шуйский, о котором идет речь в подкинутом Яну Казимиру письме.
— А вдруг, — сказал Спигарелли, — их это смутит или напугает, или заставит сказать что-нибудь такое, чего мы не знаем?
Ян Казимир пожал плечами. Он не верил в сказанное секретарем, но опыт прошедших лет много раз убеждал его, что Джан Франческо Спигарелли бывает прав чаще, чем кто-либо другой.
И потому, придя в кабинет короля в точно указанное секретарем время, Ян Казимир поступил так, как советовал ему проницательный флорентиец.
Однако то, что произошло после этого, превзошло все ожидания двух иезуитов, но это же спасло пана Киселя и от немедленных расспросов. Когда вызванные секретарем лекари осмотрели пана Адама, они сообщили собравшимся, что это просто обморок, который непременно пройдет, и посоветовали отправить больного домой. Оказавшись дома, старый сенатор вспомнил все случившееся и понял, что ни король, ни его брат не поняли истинной причины обморока, происшедшего с ним. Только канцлер, получивший от него точно такое же письмо, может догадаться о его двуличии и коварстве. И если канцлер или король вдруг захотят узнать истину, они немедленно прикажут схватить князя Шуйского.
«Я-то отверчусь, — подумал пан Кисель, — а вот московскому царю надо уносить ноги».
* * *
Этой же ночью из южных ворот Варшавы выехали два всадника и, нахлестывая коней, помчались на юг. Над их головами кривой татарской саблей повис молодой полумесяц.
Глава тринадцатая. Иван Вергунёнок
От Десны до Волги и от Оки до Дона — на семьсот верст с запада на восток и на столько же с севера на юг — раскинулось. Дикое поле непаханая, ковыльная земля с тихими светлыми речками, с вековыми черными борами, с пыльными серыми шляхами, с непугаными стаями птиц и зверей, с вольными ветрами, пахнувшими жухлыми травами и соленым зыбучим морем. На севере, где текли многоводные реки и густо стояли сочные травы, по самой кромке Дикого поля жёлто-красной, будто из меди выкованной стеной поднимались, цепляясь за облака, сосны и ели непролазных лесных чащоб.
Веселые пестрые подлески, краснеющие рябиной и калиной, белеющие черемухой и вишней, чернеющие бузиной и смородиной окаймляли леса и дубравы, стелясь у подножья деревьев-великанов.
А сразу же за соснами, елями и дубами лесной северной границы Дикого поля тысячеверстным валом шла Белгородская засечная черта — чудовищное нагромождение деревьев, сваленных топорами и искусно переплетенных друг с другом, для того чтобы ни пеший, ни конный не смог пробраться на южные украины Российского государства. Белгородская засечная черта тянулась от притоков Оки до притоков Днепра. Там, где линия леса прерывалась, крестьяне, посадские, служилые люди копали рвы, насылали валы, ставили рогатки и частоколы. А в тех местах, где за черту убегали на север пыльные шляхи, стояли поперек пути острожки, городки и крепостцы — Ахтырка, Белгород, Воронеж, Тамбов — с башнями, с палисадами, с крепкими стенами. За стенами и палисадами сидели стрельцы и казаки, пушкари и затинщики закрывавшие татарам путь на Елец и Ливны, Тулу и Москву.
На юг от Черты уходили в Дикое поле шляхи — узкие полоски сухой земли, вытоптанные тысячами подков и сапог, лаптей и босых ног, копыт и долее. Тянулись шляхи из Крыма, от грозного перекопского царя, от Кафы и Бахчисарая до Шацка и Тулы. Через Ахтырку на Ворскле проходил Бакаев шлях, через Белгород шел Муравский шлях, через Оскол — Кальмиусский, через Тамбов — Ногайский.
Переплетались, петляли, извивались татарские шляхи, проносилась по ним степная конница, гнали по ним табуны коней, отары овец, гурты волов, стада коров, тысячные толпы полонянников.
Стон и плач невольников и невольниц висели над шляхами. Черепа бессловесных тварей и человечьи, омытые дождями, кости, белели по их закраинам. И не только суслики да коростели свистели в траве — нагайки и стрелы степняков да их разбойничий посвист не умолкал в Диком поле с ранней весны до глубокой осени.
А вокруг шляхов, желая добычи, вертелись конные ватажки понизовой вольницы с Волги и Дона, чубатых запорожцев, охочих государевых людей из городков на Черте.
Иные ватажки выходили в степь с пушками, с добрым огневым нарядом, конно, людно и оружно. Шло их во сто, а то и по двести человек со всей воинской хитростью и великим береженном. Иные же выходили сам-третий, с саблей да самопалом. И выходило по-разному: к удалым бог приставал возвращались с немалым дуваном, а многолюдные телепни приходили назад ни с чем.
Вот так в середине мая 1644 года вдоль по берегу речки Миус, неподалеку от Кальмиусского шляха, крутились четверо запорожцев, надеясь на то, что и к ним пристанет бог. Атаманом этой немноголюдной ватажки был Иван Вергунёнок, прибежавший на Сечь из Полтавы.
Был Иван смугл, быстроглаз, и хотя ростом невелик, но силой и удалью мог потягаться с двумя детинами саженного роста. Трое других запорожцев молодечеством да смелостью были подстать атаману. Не впервой выезжали они в Дикое поле, как раз туда, где сходились владения Сечи с землями перекопского царя Гирея. В прошлые годы удавалось им отбивать и русских полонянников и телеги с награбленным крымцами добром и даже однажды взять на аркан молодого легкомысленного мурзу понадеявшегося на двух нукеров и милость Аллаха.
Нукеры оба пали в сшибке, оставив коней и оружие, а за мурзу Иван взял добрый выкуп — иному бы скареду на полжизни хватило, да не к тем татарин попал — продуванила ватажка все до полушки за какой-нибудь месяц.
А на этот раз не заладилось дело у Ивана с товарищами — шли по сакме такие отряды — полку не совладать.
И крутились казаки между берегом Сурожского моря и речкой Миус, промышляя птицу да рыбу, забывая, каким он бывает — хлеб насущный.
Долгие и уже теплые дни сменялись короткими и темными, все ещё прохладными ночами, а удача никак не шла в руки казаков. И вдруг в середине дня заметили запорожцы облако пыли и услышали рёв множества коров и волов: по всему было видно, что погонщики согнали измученное жаждой стадо с дороги и повели к водопою на берег Миуса.
Вергунёнок с товарищами свели коней в балку, что шла прямо к реке, а сами залегли наверху, приготовив самопалы. Воли и коровы, толкаясь и оттирая друг друга боками, скатились в реку и едва забредя с жадностью стали пить мутную желтоватую воду. Трое верхоконных погонщиков-татар спрыгнули с коней на землю, свили сёдла и подпруги, оставив узду, положили на берег сабли, колчаны, луки, стянули сапоги, штаны и азямы — и повели лошадей к реке.
Был полдень, ярко светило солнце, в одном перегоне от водопоя начинались владения крымского хана, а многодневная, полная опасностей дорога почти вся уже была позади — и потому погонщики чувствовали себя в безопасности.
Введя коней по щиколотку в воду, они бережно ополоснули их, дали остыть и лишь после этого, позволили напиться. Кони, фыркая, опустили головы вводу, погонщики, смеясь, и что-то весело крича друг другу, начали плескаться и брызгаться, как вдруг грянули враз четыре пищали — и двое тут же замертво пали и возле тех мест, где они только что стояли, желтая вода Миуса стала медленно розоветь. Кони всхрапнули, запрядали ушами, вскинули вверх головы. Третий татарин нырнул под воду и, выскочив у прибрежных кустов, в чем мать родила кинулся наутек, петляя как заяц.
Казаки от великой удачи и от того, как потешно улепетывай от них голый степняк, и стрелять ему вслед не стали.
А когда выгнали стадо из реки, да пособирали брошенный татарами скарб, то решили и вдогон за беглецом не ходить — что с голого табунщика возьмешь, тем более, что и стоптанные сапоги, и рваный азям он оставил на берегу.
Взяв в повод захваченных коней, и окружив стадо, запорожцы погнали его на заход солнца — в Сечь.
А когда стемнело — навалилась на них невесть откуда татарская сила. Трех товарищей Ивана на глазах у него в жаркой схватке порубили степняки саблями, а самого его сорвали с седла волосяным арканом, как он когда-то снял с аргамака мурзу и, как он тогда мурзу, привязали веревкой к седельной луке и погали вместе со скотом, нахлестывая кнутом, если не шибко бежал.
Так и трусил Вергунёнок позади стада, глотая пыль и проклиная белый свет, а более всего кляня себя, дурака, что не догнал тогда голого табунщика и не положил его в степи, потому что добежал татарин до своих и навел их на след. Да и трудно ли было отыскать отметины, оставленные десятками волов и коров да семью лошадьми, когда любой степняк и зайца выследит?
На десятый день пригнали татары иссохшего и почерневшего казака в Бахчисарай и в первую же пятницу продали маленькому, носатому, говорливому человечку, который, не развязав ему рук, и не сняв аркана, повел за собой из города вон.
Вергунёнок шёл и не знал, что ему и думать. Так как хозяин его шел пешком, стало быть идти им было недалеко, однако вскоре и Бахчисарай остался позади, а они брели куда-то по каменистой дороге и когда Иван спросил своего хозяина, куда это они идут, тот закричал на него страшно, но ни одного слова казак не понял.
Меж тем узкая каменистая дорога шла дальше и дальше. Справа от дороги, как только вышли из города потянулась отвесная серая скала вышиной саженей в пятьдесят, а слева — бежали вниз виноградники. Они спускались по крутым склонам в длинную узкую лощину. На дне лощины паслись козы и лошади, а на противоположном её склоне — прямо насупротив виноградников — лепились одна над другой каменные татарские сакли.
Навстречу Вергунёнку то и дело попадались татары — важные, лениво шагающие мужики, голопузые, босоногие ребятишки, закутанные с ног до головы в черное бабы. Никто не обращал на связанного казака никакого внимания не в диковину было видеть здесь такое.
И вдруг Вергунёнок увидел нечто столь дивное — глазам не поверил. В отвесной скале, все ещё тянувшейся справа от дороги, заметил он окна и двери, переходы и лестницы, как будто не скала была это, а храм. Подняв к небу голову, казак и вовсе обомлел — у самого верха скалы, над окнами последнего этажа, стояли — скорбные и строгие — угодники божьи. Видать искуснейший богомаз писал тех угодников, ибо стояли они как живые, а синие и красные ризы их, казалось, вот-вот затрепещут от ветра.
«Как же так, господи? — подумал Вергунёнок. — В двух верстах столица поганого царя Махмуда, и на тебе — христианский храм!» Однако спросить было не у кого, потому как и возле храма толклись одни татары — и казак побрел дальше, поминутно оглядывась на угодников, которые, казалось, провожали его строгими, неулыбчивыми очами.
И хоть не попали Вертунёнку единоверцы, а на душе стало легче — стало быть, и здесь живут люди, что на груди крест носят.
Вскоре дорога пошла вниз, в лощину, а потом Вергунёнок и его хозяин стали карабкаться вверх по склону, направляясь к отвесным скалам, показавшимся казаку повыше той, в коей был высечен храм. Скалы нависали над лощиной тёмно-серой громадой. Ни куста, ни лозинки не росло на их выжженных солнцем камнях. Белые облака, почти цепляясь за кромку, медленно ползли над ними, да ласточки выпархивали из невидимых с земли расщелин, где вили они свои гнёзда.
И вдруг на самом гребне скалы Вергунёнок увидел маленькие человеческие головы: кто-то, не известно как забравшийся на такую высоту, смотрел вниз. Хозяин оглянулся и, заметив нескрываемое удивление на лице своего раба, криво улыбнулся. Дёрнув Ивана за аркан, он ткнул вверх свободной левой рукой и произнес:
— Чуфут-кале.
* * *
Удивительным был этот Чуфут-кале, или Еврейский город, как называли его в России, в Польше, на Украине. Построен он был в незапамятные времена народом, который пришел в Крым чуть ли не сразу после вселенского потопа, когда праотец Ной рассадил своих сыновей в разных частях света. А после того, кто только не жил рядом с плоским как лепешка скалистым плато Чуфут-кале! У его подножия селились скифы и тавры, сарматы и готы, аланы и хазары, греки и генуэзцы, печенеги и славяне. Сменяя друг друга и смешиваясь друг с другом, они строили города, выращивали хлеб и виноград, воевали и торговали — пока не хлынули через Перекоп несметные татарские полчища — и мало что осталось от цветущих долин и садов, многолюдных городов, оживленных гаваней…
Угнали в Орду искусных ремесленников, продали за море на невольничьем рынке в Кафе их детей и жён, перебили хлебопашцев, сожгли города — и раскинулось от Перекопа до Херсонесского мыса и от Тарханкута до руин Пантикапеи степное пастбище, по которому носились низкорослые, косматые татарские кони.
А Чуфут-кале уцелел — одна только узенькая дорожка вела на плато, и нельзя было пройти наверх, если защитники города не хотели этого. Какая бы огромная армия ни осадила Чуфут-кале, она не сумела бы использовать свое преимущество, ибо на штурм города могло быть брошено не более сотни воинов, да и те были бы перебиты камнями и стрелами на первых саженях тропы.
Однако особо долгой осады Чуфут-кале выдержать не мог — на бесплодной скале рос только мох, даже коз и кур нечем было бы кормить через две-три недели после начала войны. А кроме того, в городе не было ни одного колодца — жители, используя хитроумную систему канавок, стоков и водосборов, пользовались дождевой водой.
Осадив Чуфут-кале, монгольские полководцы Джебе и Субэдай не хотели понапрасну терять людей и время. А жители города, понимая, что долгой осады им все равно не выдержать, предложили татарам выкуп и получили согласие.
Так уцелел Еврейский город, в жизнь которого завоеватели почти не вмешивались, удовлетворяясь ежегодной данью для своих ханов.
Ивана пропустили через трое железных ворот, перегораживавших тропу, ведшую в город. Поднявшись на самый верх, он оказался на узенькой улочке, плотно застроенной каменными домами. Домов было много, но ещё больше было пещер — просторных и тесных, высоких и низких. Некоторые служили жилищами, в других — хранилось сено, мешки с зерном, бочки с вином, кувшины с маслом, стояли арбы, толклись овцы и козы, мулы и коровы. Отовсюду слышал Иван шум работы; стук молотов, визг пил, скрежет железа, но, странное дело, никого не видел.
Хозяин завел Ивана в пещеру, заполненную неотесанными каменными плитами, и, пройдя в дальний угол, приподнял с пола толстую деревянную крышку, обитую железными полосами. Вниз, под землю, вела крутая узкая лесенка. Хозяин легонько подтолкнул Ивана и тот послушно начал спускаться в прохладу и сумрак подземелья.
Первое, что Иван заметил, была узкая полоска света: прямо под потолком подземелья шла щель шириною с ладонь и длиной в полсажени. Сквозь щель виднелось светло-голубое небо, белые облачка и перечеркивающие прорезь стремительные, черные ласточки. Затем Иван увидел человека. Он сидел на полу и равнодушно глядел на спускающихся по лестнице людей. Был он бледен и сед, полуистлевшая рубаха еле держалась у него на плечах. Хозяин снял с Ивана аркан, развязал руки. Ткнув пальцем в седого узника, сказал:
— Альгирдас. — И, повернувшись, шустро выскочил в лик, будто испугался остаться с рабами наедине.
Вертунёнок посмотрел на нового своего товарища, ткнул себя пальцем в грудь и сказал:
— Иван.
Альгирдас, в прошлом искусный строитель-будовник, как он себя назвал, — уже восемь лет сидел в подземелье Чуфут-кале, работая на хозяина Вениамина бен Рабина. Он обтёсывал каменные плиты, иногда наносил на их поверхность какой-нибудь орнамент, приветственные слова или же изречения из Священной книги евреев — Торы. Эти плиты бен Рабин продавал для облицовки фасадов, для украшения полов и стен бассейнов, внутренних двориков и комнат Бахчисарая и Чуфут-кале.
Иногда Альгирдас тесал надмогильные обелиски, иногда — каменные корытца для водопровода и многое другое, ибо камень был единственным материалом, из которого делались здесь самые различные вещи.
Альгирдас, хорошо говоривший по-польски, без труда понимал украинца Вергунёнка. Он рассказал казаку и о том, как оказался в неволе. Прожив тридцать лет в Вильно, Альгирдас — искусный каменотёс — подрядился однажды с артелью муравлей и плотников — поновить церковь в Умани.
По пути всех их схватили татары и угнали в Кафу — на невольничий рынок. Альгирдаса купил бен Рабин — и вот уже девятый год пленный литовец тесал для него камни.
Когда Альгирдас впервые спустился в подземелье, оно занимало пространство не более квадратной сажени. Альгирдас касался головой потолка, и, не вставая на цыпочки, мог смотреть на птиц, на звезды и на луну сквозь отверстие величиной с кулак. Хозяин разрешил ему расширить и углубить пещеру, в которой он сидел. Однако сказал, что заниматься этим Альгирдас может по воскресеньям, когда другие рабы-христиане не работали.
За два года Альгирдас расширил пещеру в несколько раз. Теперь она занимала площадь в четыре квадратных сажени и вышиною была в сажень с четвертью. Хозяин разрешил пробить окно — узкую длинную щель — и после всего этого подземелье стало казаться Альгирдасу королевским покоем.
Первые два года Альгирдаса совсем не выпускали наверх. Затем разрешили по воскресеньям несколько часов в день сидеть во дворике. Там он познакомился с другими обитателями дома бен Рабина — такими же, как он, невольниками, сидевшими в таких же, как и у него подземельях.
Расспрашивая этих людей — поляков, литовцев, русских, казаков-малороссов, Альгирдас понял, что чуть ли не все ремесленники Чуфут-кале — рабы.
Почти все коренные жители города торговали и лишь немногие занимались ювелирным делом, перепиской книг, златоткачеством, приготовлением лекарств, врачеванием, достигнув во всех этих ремёслах великого мастерства.
Невольники, побывавшие прежде в других городах и странах, говорили, что жизнь в Чуфут-Кале получше, чем, например, в Турции или же в Сирии. Объяснялось это тем, что жители Чуфут-кале бережливее, чем прочие рабовладельцы, относились к своим рабам, как, впрочем, и к другой живой и неживой собственности. Раб для них был вещью, иногда довольно дорогой. Причем вещью, приносившей: доход. Зачем же было расчетливым, разумно мыслившим владельцам раньше времени лишаться источника своего дохода? Зачем было морить пленника голодом, если и дитя понимало, что голодный раб не станет работать, хоть бей его плетьми, хоть трави собаками? И потому рабовладельцы Чуфут-Кале сносно кормили рабов, лечили их, если те болели, давали один день в неделю отдыхать. Однако любви к принадлежавшим им людям у них было не больше, чем к лошадям или мулам, которых они тоже кормили, лечили от хворей и не давали надрываться на работе до смерти.
Первые несколько дней Иван лежал на соломе, не шевелясь. Не ел, не пил, смотрел в узкую щель — на синюю полоску неба, на белые кудри облаков. Ночами беззвучно плакал. Думал: «Кончилась моя жизнь, пропаду в проклятом городке». Лёжа без сна, вспоминал Иван прошлое свое житье в веселом городе Лубны. Отец его служил при дворе всесильного Иеремии Вишневецкого стремяным казаком. У себя в доме был отец буен, драчлив и вечно пьян. Бил он сына и жену смертным боем, а как зарезали отца в пьяной драке, стала бить Ивана мать, вымещая на нем прежние обиды и горечь за неудавшуюся судьбу свою. И когда исполнилось Ивану тринадцать лет, бежал он из дома куда глаза глядят и, добравшись до Полтавы, нанялся батрачить к казаку Ивану Романову. И здесь хозяин бил его и кормил худо, и когда по каким-то делам отлучился его господин из дома, Иван снова бежал и вскоре прибился к казачьему куреню на Дону.
А с шестнадцати лет стал он ходить в набеги, сначала со всем куренем, потом с сотней, а там и вышел в поле сам-четвёрт. И хоть опасно было малым числом в степь ходить, зато доставалась тебе от добычи четвертая часть, а ежели шёл с сотней, то только — сотая.
Однако не корысть уводила Ивана в степь не в сотне, а в малой ватажке. Буен был Иван, горд, непокорен — и сколь ни бились с ним сотники, куренные, кошевые, полковники — не признавал он над собой их власти. И бит был за это Иван и по-иному взыскан, однако, не только власти не покорялся, но ещё более ненавидел тех, кто карал его за непослушание. Потому-то, как только почуял Иван в себе силу — тут же ушел в степь сам-четвёрт с тремя такими же сорви-головами.
Вот и вертелся Иван у реки Миус, поджидая свою удчау.
И дождался…
Лежа в каменной норе, казалось Ивану прежнее его житье раем. И отец, и мать, и хозяин его Ивашка Романов представлялись теперь почти что херувимами…
На третью ночь будто выгорело все у Вергунёнка внутри. Перестал он плакать, перестал душу себе воспоминаниями травить, начал думать.
И к утру — придумал.
* * *
— Ох, Альгирдас, помираю я, — тихо и жалобно проговорил Вергунёнок, услышав, что лежавший у противоположной стены Альгирдас проснулся.
— Чего это ты? — с испугом откликнулся Альгирдас, и склонился над Вергунёнком.
— Зови хозяина, пусть знахаря пришлет, или же попа, пришла моя смертушка.
— Звать не могу, как позовешь? Услышит хозяин, что я после благовеста к ранней заутрене молотом не стучу, так и сам зайдет узнать, почему не работаю. Не стучу — значит случилось что.
— А, вот оно как, — только и проговорил Вергунёнок и замолчал, отвернувшись к стене.
«Проклятущая жизнь, — думал он с тоскою и злобой. — Как только рано утром зазвенит в пещерной церкви, что напротив, через лощину, колокол, так и начинают пилить, ковать, сверлить, тесать рабы в своих подземельях. Как к поздней вечерне отзвонит — могут ложиться спать. Хозяину и глядеть не надо — ходит да слушает: споро ли работают, не ленятся ли?
И хлеб с водой не всякий день рабам опускают, а сразу дают на два, а то и на три дня».
И тут услышал жиденький, тихий благовест — бил звонарь в малый колокол к заутрене. Застучали в соседних камерах рабы — принялись за дело.
Альгирдас сидел праздно, спрашивал:
— И чего же ты, Ваня, а?
Иван молчал. Альгирдас пытался утешить:
— В других краях невольники разве так живут? А посадили бы тебя гребцом на каторгу или на галеру? Или отправили бы в каменоломню? Или дорогу строить? И был бы ты катом-надсмотрщиком плетью бит на дню по пять раз. А тут ты четвертый день лежишь, а хозяин тебе и слова не сказал: понимает, что как проволокли тебя неделю на аркане, да в склеп каменный бросили, нет в тебе никаких сил. Иной раз так-то люди и по неделе лежат, и по две, а потом все равно за дело берутся. Да и как не взяться? Если бы не работа, разве хоть кто-нибудь здесь выжил?
Иван повернул к Альгирдасу голову.
— Слушай, Альгирдас. Скажу тебе нечто. Если удастся, как я задумал, будем мы оба на воле, в золоте будем ходить…
* * *
Как Альгирдас сказал, так и получилось: хозяин тут же заглянул в подвал, однако спускаться не стал, а приоткрыв дверь, о чем-то спросил у Альгирдаса на непонятном Ивану языке. Альгирдас ответил и хозяин ушел: испугался, должно быть, заразы — мало ли чем мог заболеть его новый раб.
Через некоторое время в подвал спустилась старуха, маленькая, проворная, розовощекая, голубоглазая. Присев возле Вергунёнка, спросила ласково:
— Что, касатик, занедужил? — Положила руку на грудь, в вырез рубахи, потом потрогала лоб, внимательно поглядела в глаза.
— В нашей волости — лихие болести, — вздохнув, сказала старуха и перекрестилась. — От болезни твоей — одно лекарство — воля. Да где то лекарство взять?
Иван резво вскинулся, сел на соломе, обхватив колени руками. Жарко зашептал:
— Мать! Слышь, мать! Век буду за тебя бога молить, только помоги мне! Ведь одного мы с тобой бога дети, и на мне и на тебе един православный крест! Сполни просьбишку мою малую, мать! Сполни, прощу тебя, родимая!
Иван схватил старуху за руки, припал к ним щекой.
— Что ты, дитятко, что ты?! — испуганно зашептала старуа, отбирая руки. Не архирей ведь я, чего ты мне руки целуешь?
— Принеси мне пороху, мать. — Старуха отшатнулась, перекрестилась.
— Мажа тебе враз и пистоль принесть?
— Да ты не бойся, пороху мне надо самую малость — полгорстки. А ты кого хошь спроси — от одного пороху никому никакого зла, ни убивства быть не может.
— А пошто тебе порох?
— Для дела надо, мать, а для какого — хоть режь не скажу.
— Нет, касатик, боюся я, а ну, как ты что недоброе умыслил?
Вергурёнок вскочил, рванул верхний край шаровар. Из образовавшейся на поясе прорехи вытащил золотой немецкий талер — все, что сумел утаить от пленивших его татар.
Старуха сложила губы колечком, задумалась.
— Ин, ладно, принесу тебе пороху.
— И снадобья, мать, принеси, коим ожог исцеляют. Старуха ничего не сказала, ни о чем более не спросила. Молча протянула руку.
Вергунёнок набычился, зажал монету в кулак, а кулак отвел за спину.
— Принесешь пороху да снадобья — тут и отдам тебе золотой ефимок. Ты не серчай на меня за неверку мою: последняя надежда у меня на этот ефимок. Кроме его и нет у меня ничего.
Старуха долгим взором поглядела на казака.
— Жди. В пятницу вечером принесу.
* * *
— Ты, первое дело, лежи смирно и, борони тебя бог, не дернись. Даже если кожей пошевелишь — всей твоей затейке — конец. Терпи, казак, атаманом будешь, — говорил Альгирдас Вергунёнку в субботу вечером.
Вергунёнок, сняв рубаху, лежал на полу лицом вниз. Рядом с ним на корточках сидел Альгирдас и медленно сыпал ему на спину порох. Маленькой щепочкой Альгирдас разравнял порох и тот ровным тонким слоем лёг между худыми, острыми лопатками Вергунёнка. Затем Альгирдас разделил порох на две части. Одну половинку он уложил в виде полумесяца, а вторую — чуть отодовинув в сторону, в виде звезды.
— Ну, казак, держись, — проговорил Альгирдас и, ударив кресалом о кремень, зажёг трут с обоих концов. Раздув трут как следует, каменотёс поднес тлеющие концы к пороху. Звезда и полумесяц вспыхнули в одно мгновение.
Вергунёнок скрипел зубами, и так сжал кулаки — кожа побелела на запястьях. Мгновения, пока порох пылал у него на спине, наполняя подземелье запахом горелого мяса, не только Вергунёнку — Альгирдасу и то показались вечностью.
Наконец, огонь погас. Иван застонал, расцепил пальцы. Альгирдас смазал глубокие ожоги принесенной старухой мазью и крепко перехватил спину и грудь Вергунёнка мягким чистым холстом.
* * *
После происшедшего Вергунёнок повеселел, лихо звенел молотом, ожидая своего часа. Однажды Альгирдас — в который уж раз — осмотрел спину Вергунёнка и сказал, что теперь можно действовать дальше: раны затянулись молодой кожицей и никто бы не мог сказать — двадцать лет или всего несколько месяцев этим необычным знакам.
В середине октября, в один из субботних дней, когда бен Рабин вернулся домой из синагоги, Альгирдас и Иван задолго до конца работы отбросили в сторону молоты и стали ждать появления хозяина.
Бен Рабин вскоре приоткрыл люк и спросил, почему они не работают.
— Не знаю, господин, с чего и начать, — взволнованно проговорил Альгирдас.
— Ну, говори, говори, — нетерпеливо и раздраженно произнес бен Рабин.
— Дело, господин, необычайное. Спустись вниз да прикрой люк — нельзя, чтоб кто-нибудь это услышал.
Бен Рабин важно спустился вниз и, отставив ногу в сторону, встал у лестницы. Альгирдас быстро и взволнованно зашептал, поглядывая то на приоткрытый люк, то на Вергунёнка. Бен Рабин сначала слушал невнимательно, потом рассеянность сменилась иронической сосредоточенностью и, наконец, в глазах у хозяина и Иван, и Альгирдас заметили искорки неподдельного интереса.
Когда Альгирдас окончил рассказ, бен Рабин подошел к Ивану и поднял край рубахи кверху. Подведя Вергунёнка к окну, хозяин долго рассматривал звезду и полумесяц, а потом, пожевав губами, повернулся и в глубокой задумчивости полез вверх по лестнице.
* * *
Вениамин бен Рабин был неглупым человеком и потому его не заботило, правда ли, что купленный им казак — они московского царевича Дмитрия Ивановича, как сказал ему о том принадлежащий ему каменотёс-литвин. Вен Рабина занимало другое — получит ли он какую-нибудь прибыль оттого, что станет уверять всех в царском происхождении своего нового раба.
И, прикинув и так и этак, решил, что если во всю эту историю поверят обитатели Чуфут-Кале, то за царевича он несомненно получит больше, чем за десять самых искусных каменотёсов.
И решив так, позвал к себе Абрахама бен Якуба, местного брадобрея и хирурга, известного всему городу крайней болтливостью и всезнайством.
Взяв с брадобрея самые страшные клятвы в сохранении тайны, бен Рабин пересказал ему то, о чем услышал от Альгирдаса. Брадобрей недоверчиво косился на Бен Рабина, не понимая, зачем именно ему рассказывает этот человек столь сомнительную историю. Но когда бен Рабин сказал, что он считает всеми уважаемого бен Якуба одним из умнейших людей в городе, брадобрей успокоился, ибо и сам считал себя таковым.
Проговорив дотемна, бен Рабин свел своего гостя в подземелье и там при свете свечи показал ему царские знаки на спине Вергунёнка.
Бен Якуб с округлившимися глазами выбрался из подземелья и заспешил домой, от волнения забыв даже поблагодарить любезного Вениамина бен Рабина.
* * *
К вечеру следующего дня в Чуфут-Кале ни о чем более не говорили, как о московском царевиче, живущем в доме бен Рабина. А ещё через день в городе появился ханский гонец и велел доставить новоявленного царевича в Бахчисарай.
* * *
Владетель Бахчисарая, перекопский царь, хан крымской орды, багатур и подножие султанского трона, взысканный милостями аллаха благородный Ислам-Гирей родился в Царском дворце, однако видел в жизни и трюмы невольничьих кораблей, и казематы тюрем, и забытые, богом заброшенные на край света, пыльные, полумертвые городишки.
Семь лет провел царевич Ислам в польском плену. Мог бы просидеть и поменьше, да наверное не больно-то хотел видеть Ислама на свободе его старший брат Мухаммед, сидевший в Бахчисарае на троне Гиреев.
Польский король Владислав, смекнув, что на воле Ислам будет более опасным для крымского хана, чем в захолустном замке в Мазовии, отпустил Ислама на волю.
Царевич уехал в Истанбул, упал к ногам султана, но недолго пришлось жить ему в столице блистательной Порты, на берегу Дарданелл, у подножия трона.
Интригами старшего брата, опасавшегося немилости султана более всего на свете, Ислам был выслан на остров Родос — пустой, малолюдный, сонный.
Надев простой халат, бродил царевич Ислам по пыльным улочкам единственного города, носившего такое же, как и остров, название. На руинах языческих храмов, построенных тысячи лет назад ромеями и греками, росли чахлые деревца, обглоданные худыми грязными козами.
В заброшенных полутёмных церквах, где некогда молились византийцы и проклятые аллахом разбойники-крестоносцы, кричали ишаки и верблюды. По осыпающимся камням старых крепостных стен еле бродили сонные, разморенные жарой стражники.
На тихом базаре ленивые толстые торговцы спали в тени рваных палаток и скособочившихся деревянных лавчонок…
Царевич уходил на берег моря и, забравшись под скалу — в тишину и прохладу — глядел на далекую балую полосну турецкого берега. Только оттуда — из Турции, от великого султана, повелителя правоверных, грязного шакала, капризной бабы, источника милости, средоточия несчастий — мог он, безвинный страдалец, ждать грозы и ласки. И он, то смиренно молил аллаха вызволить его из этой грязной родосской дыры, обещая построить мечеть и до конца дней верно служить благодетелю-султану, забыв все обиды, то изрыгал хулу на владетеля империи османов, призывая на его голову мор и несчастья.
И аллах услышал молитвы гонимого: султан блистательной Порты, источник справедливости, средоточие правды, дарователь милостей — вернул Ислама в Бахчисарай — на трон его предков Гиреев, а неверную собаку Мухаммеда велел привезти на остров Родос — в пыль, в навоз, в сонное царство мертвых ромеев, греков и крестоносцев.
Хан Ислам-Гирей, ещё не добравшись до Бахчисарая, покаялся пророку Мухаммеду, аллаху и — самое главное — самому себе, что отныне не будет у султана османов более верного слуги, чем он, Ислам. И поэтому, очутившись в Бахчисарае, хан Ислам более всего следил за тем, что так или иначе угрожало интересам султана и тем самым — его собственным.
Узнав о том, что совсем рядом — в Чуфут-Кале — объявился русский царевич, Ислам-Гирей велел привезти его к себе, ибо на собственном опыте убедился, что любой претендент на любой из престолов — человек опасный и ценный. И лучше держать его возле себя, чем доверять его охрану кому бы то ни было. Так в Чуфут-Кале появился ханский гонец.
Глава четырнадцатая. Дела турецкие
12 июля 1645 года, в день святого угодника Михаила Малеина, Михаил Федорович, Великий государь всея Великия и Малый и Белый России, великий князь Московский и Владимирский, царь Казанский, царь Астраханский и прочая, и прочая, и прочая, опираясь на плечи двух отроков, и с трудом переставляя отекшие ноги, вошел в Благовещенский собор к ранней заутрене. Отроки провели государя к царскому месту, с великим бережением усадили под островерхий шатёр, на обитую бархатом скамью, однако и сидеть благодетель не смог — заваливался на бок из-за великой слабости.
По случаю царских именин заутреню служил сам святейший патриарх Иосиф. Исполняя чин, читая молитвы, кладя земные поклоны, уходя в алтарь и снова возвращаясь к молящимся, Иосиф не сводил глаз с царя, и когда отроки задолго до конца службы повели Михаила Федоровича обратно, подумал: «Последние именины ныне у государя».
Едва Михаил Федорович сошел с царского места, как случился с ним припадок. Он сполз на каменные плиты собора и смертельно побледневшие отроки застыли немо, не зная, что же им теперь делать. Их оттерли ближние государевы люди — бояре, окольничьи, стольники. Положив больного на руки, понесли в палаты, как сосуд со святой водой, боясь расплескать хоть каплю.
* * *
Царь лежал, утонув в подушках. Нос его заострился, глаза помутнели. Три лекаря из немецких земель — Венделин Сибелиста, Иоган Белоу, Артман Граман — тихо шушукались, Виновато отводя глаза в сторону, Сибелиста, подняв к очкам скляницу, глядел на свет урину — жидкость, кою выделял мочевой пузырь занедужившего государя. Урина была бледна — от многого сидения, от холодных напитков и от меланхолии, сиречъ кручины. Белоу и Граман, понимающе глядя на скляницу, сокрушенно кивали головами.
Михаил Федорович велел позвать царицу Евдокию Лукьяновну, царевича Алексея и царевен — Ирину, Анну и Татьяну. Царица и царевны, сбившись у Михаила в ногах, тихо плакали. Шестнадцатилетний царевич, нескладный, узкоплечий, красноносый — плакал, уткнувшись в плечо дядьки — Бориса Ивановича Морозова.
Государь тяжко дышал и оттого тело его, тучное и обессилевшее, слабо колыхалось под легким платом, коим прикрыли умирающего из-за великой жары и духоты. Михаил Федорович хотел сказать собравшимся нечто важное, но мысли разбегались в разные стороны и оставалось только одно — жалость к себе, что ровно года не дожил до пятидесяти, а вот батюшка — Федор Никитич скончался семидесяти годов, да и матушка — Ксения Ивановна преставилась всего не то семь, не то восемь лет назад. А вот ему, рабу божьему Михаилу, не дал господь долгого века — по грехам его….
А кроме жалости мучила царя тревога: на кого оставляет царство? На этого младеня, что плакал безудержно, содрогаясь рыхлым, не по летам тучным телом?
И глядя на единственного сына, коему оставлял он все города и веси, леса и поля, реки и озёра, бояр и дворян, купчишек и мужиков великого и славного Российского царства, что раскинулось на полсвета от чухонских болот до Пендинского моря и земли Камчатки, и от Студёного окияна до Кизилбашских гор, подумал царь: «Очаруют, изведут, а паче того явится новый Гришка Отрепьев и отымет у Алёши всё, что оставляю». Ибо с малых лет — как помнил себя — боялся Михаил Федорович дурного глаза, волшебного слова, наговоров да чародейства. Еще маленьким слышал он, как мягко ворочался под полом дедушко-домовой, слышал, как шушукались в темных углах дворцовых комнат серые бабы-кикиморы. Уже юношей — на соколиной охоте — сам видел лешего — зелёного, обросшего рыжей бородой. Мелькнул леший на краю чащобы, захохотал филином и сгинул с глаз. Кинулись за лесным чудом ловчие, загонщики, сокольничъи, да и остановились на опушке, у буреломов — кони всхрапывали, гончие псы визжали и прижимались к ногам лошадей, но в лес за лешакам не шли. На божьих тварей глядя, покричали да посвистели охотники, проехали у края леса да и повернули восвояси. А уж сколько ведьм стащили по его приказу в пыточную избу — того и не счесть…
Однако более колдовства боялся Михаил Федорович подыменщиков — воров, кои подыскивали под ним московский трон, на котором сидел он сам-первой. Не был сей трон для него наследственным, прародительским и потому всякий боярин ли, князь ли, который хоть как-то к прежним царским родам прикасался, был для Михаила Федоровича ох, как опасен.
А ещё более было воровских шпыней-мужиков, казачишек, гультяев без роду и племени, что нагло влыгались в чужое имя и объявляли себя Рюриковичами.
Немногие годы прошли, как изловили и казнили псковского вора Сидорку, объявившего себя новым — третьим уже — царевичем Дмитрием Ивановичем. Поймали двух воров в Астрахани, выдававших себя за внуков царя Ивана Васильевича, якобы происходивших от старшего сына Грозного — Ивана. И многие людишки в то крепко уверовали, хотя всему народу было известно, что царевича Ивана Грозный убил железным посохом и никаких детей у убиенного не осталось.
А от царя Федора Ивановича — хилого и немощного недоумка — осталась скитаться по степным юртам добрая дюжина смутьянов, вводивших в сумление царским своим происхождением доверчивых казаков и инородцев.
И уж совсем недавно в Самборе, у Карпатских гор, объявился ещё один подыменщик — сын царя Василия Шуйского — Семен. Как после всего этого оставить младеня Алёшу на престоле? Одна надежа — собинный друг — Борис Иванович Морозов, муж в государственных делах велемудрый и рукою твердый.
Михаил Федорович, уже как сквозь пелену, поглядел на Бориса Ивановича. Морозов стоял прямо, глядел сурово. «Слава тебе, господи, подумал умирающий, — хоть один человек возле меня оказался, на кого могу и жену с детьми и державу оставить».
Собрав последние силы, сложил государь персты, благословляя сына Алёшу на царство. Деревянными, стылыми губами прошептал:
— Борис Иванович, тебе сына приказываю, служи ему, как мне служил.
Борис Иванович пал на колени, ткнулся носом в бессильно упавшую руку государя.
Патриарх Иосиф, неслышно ступая, подошел к постели исповедать и причастить умирающего.
* * *
Новый царь тотчас же разослал во все государства гонцов и послов, чтобы известить о кончине отца и о собственном благополучном восшествии на престол.
И вомчались послы и гонцы: в Швецию — к королеве Христине, в Польшу к королю Владиславу, в Англию — к королю Карлу, во Францию — к Людовику, в Молдавскую землю — к господарю Василию, в Турцию — к султану Ибрагиму.
К турскому царю Ибрагиму велено было ехать стольнику Степану Телепнёву да дьяку Алферию Кузовлеву.
* * *
Телепнёв и Кузовлев третью неделю сидели на худом подворье в крымском городе Кафе, не зная толком; кто они — послы или пленники? Татары никого к ним не пускали и со двора ни им самим, ни их слугам ходить не велели. Корм послам давали скудный, вина и вовсе не давали. От таких дел, от бескормицы и умаления чести большой государев посол Степан Васильевич Телепнёв почернел лицом и лишился голоса. Страшила неизвестность, посоветоваться было не с кем. Дьяк Алферий, до того три года просидевший в Поместном приказе, в бусурманской земле отродясь не бывал и посольских обычаев совсем не знал.
Да и вообще с самого начала все было худо в этом треклятом посольстве. В Бахчисарае — не только хана, визиря не видели. Продержали послов для укора, без всякой надобности возле ханской ставки два месяца. Бесчестили и пугали, обделяли всем, чем можно, даже воды и той вдоволь не давали. Телепнёв понимал, что пока крымский хан не снесется с султаном дороги послам не будет. Так оно и вышло. Через два месяца вывели татары послов во двор, посадили на коней и, окружив, будто полонянников, погнали на юг — в Кафу. В Кафе снова поместили на худом дворе и велели ждать фелюгу, какая пошла бы через Русское море в Царьград.
Послы томились, не зная, что будет дальше. Хотели одного — скорее добраться до места. Ехали они к султану не только с вестью о кончине Михаила Федоровича, но и с жалобой на Магомет-Гирея — крымского хана, султанского подручника, коий в минувшие 6152-й и в 153-й от сотворения мира годы, а по магометанскому счету в 1024-й и 1025-й, набегал из своего крымского улуса на украины Московского государства и, поруша шерть, сиречь договоры, воевал грады и веси многими людьми безо всякие пощады.
Надо бы было ехать к султану иным путем, да иного пути не было позаседали всюду султанские недруги и в Царьград никого не пускали. А татары знали, с чем едут московские послы, и то им было не в честь, что едут московиты хотя и не него на самого, а на его старшего брата, но все же мимо хана султанскому величеству челом бить и оттого ярились ещё более, однако совсем послов не пустить не могли — ходили у султанов под началом без малого два века.
За долгую дорогу, да за докучливое двухмесячное сидение в Бахчисарае, обо всем послы друг с другом переговорили — и жили в Кафе, как в дурном сне — маялись пуще прежнего.
Однажды — близко к полуночи — стукнули в дверь тайным, условным стуком: сперва один раз, потом быстро два и чуть пождав, снова — один.
За день послы высыпались до помутнения разума, и потому ночами ворочались без сна, ожидая невесть чего. И потому и здесь оба враз встрепенулись, и Кузовлев спросил;
— Чул?
Большой государев посол засипел безгласно — слышал-де.
Кузовлев на цыпочках подошел к двери — замер. За дверью сопел неведомый ночной гость. Мелко перекрестясь, дьяк Алферий спросил тихо:
— Во имя отца и сына и святого духа, с добром ли? Из-за двери ответствовали шепотом:
— С советом и делом.
Кузовлев без страха распахнул дверь — свои. В сенях стоял высокий худой старец в черной рясе до полу с капюшоном на глазах.
Кузовлев показал рукой — проходи. Гость шагнул через порог навстречу Телепнёву, стоявшему посреди горницы с зажженной свечой. Войдя в круг света, старец спустил капюшон на плечи.
— Отче Иоаким! — радостно просипел Телепнёв. Старец протянул послам руку, и те истово поцеловали её. Сев за стол, старец сказал Кузовлеву:
— Аз есмь смиренный инок Иоаким, не по достоинству носящий чин архимайдрита святогорского Спасского монастыря в Цареграде. Телепнёв молча закивал головой: так-де, истинно — архимандрит. Иоаким взмахнул широкими черными рукавами, послы подвинулись ближе, склонили головы к плечам пастыря.
— То дело тайное, послы, дело великое.
Послы затаили дыхание.
— Шесть недель назад прислал крымский хан в Царьград вора. Влыгается вор в царское имя — называет себя сыном Дмитрия Ивановича.
— Ах, пёс! — воскликнул Кузовлев. Телепнёв ударил кулаком по столу просипел нечто непотребное. Иоаким проговорил смиренно:
— На всяку беду, честные господа, страху не напасешься: ведомо мне, кто сей вор.
У государевых послов засверкали глаза: ай да старец, ай да мудрец! Придвинулись ещё ближе, ушами касаясь усов архимандрита.
— Имя ему Иван, прозвищем Вергунёнок, родом он не то из Лубен, не то из Полтавы…
* * *
Иоаким ушел до рассвета, подробно рассказав историю Вергунёнка. А утром загрузили послов на фелюгу, и те, набираясь смертного страха, пошли к Царьграду, падая с волны в пучину и взлетая из пучины на новую волну. И так, то умирая, то воскресая, тонули и возносились Кузовлев и Телепнёв три дня и три ночи, пока бежала к турецкому берегу краснопарусная мухаммеданская ладья.
Сошли они на берег совсем без сил, потому что не вкушали ни воды, ни хлеба все трое суток, хотя бусурмане и предлагали им какие-то травы, и рыбу, и ещё что-то, но не только есть — видеть поганской пищи послы не могли — вконец измотало их проклятое морское качание.
И оказавшись на земле, пошли Телепнёв, да Кузовлев, как пьяные — все ещё качало их окаянное море, как малых детей в зыбке. И видеть совсем никого не желали — об одном молили: оставить их в покое да дать отлежаться. Однако не было им покоя и в Константинополе — только легли они навзничь на ковры и подушки, что принесли для их потребы в посольскую избу султановы служилые люди, как оказались возле них двое незнакомых людей. Видели послы тех людей как сквозь туман — один был грузен и ростом высок, второй тоже высок, но тощ. На грузном была черная ряса и скуфья, на тощем — полосатый халат и чалма. Дородный склонился к послам низко и проговорил:
— Во имя отца и сына и святого духа, с добром ли?
Телепнёв ничего не ответил, только на горло рукой показал — не могу-де говорить. А Кузовлев, из-за усталости и хвори забыв условные слова — «С советом и делом», — бухнул вдруг:
— Аминь.
Гости на момент смешались, однако черноризец быстро догадался, в чем дело, и снова повторил:
— Во имя отца и сына и святого духа, с добром ли?
Тогда Телепнёв выдавил из себя из последних сил:
— С советом и делом.
Черноризец стал на колени, склонившись к Телепнёву, ска-зал:
— Аз есмь недостойный пастырь архимандрит Амфилохий. А сей человек он плавно повел полной рукой в сторону стоящего рядом татарина — толмач, почтенный Зелфукар-ага.
Татарин поклонился. Телепнёв сел на подушки. В ушах у него стоял звон, в глазах — туман, посольская изба все ещё плыла по морю, качаясь то вправо, то — влево. Глядя на Телепнёва, сед, привалясь к стене, и Кузовлев. Амфилохий наклонился к самому уху Телепнёва. Кузовлев подполз, и также сколь мог приблизился к архимандриту.
— Вор и супостат у турского царя, честные господа, — тихо проговорил Амфилохий, подъяв указующий перст и страшно округлив глаза.
— Знаем, — вяло отмахнулся Кузовлев, — довели нам о сем воре верные люди ещё в Кафе.
— Не могло такого быть, — вдруг проговорил Зелфукар-ага, — вор толька неделя в Истанбул. И не из Кафа вор ехал — из Молдавская земля.
— Как звать вора? — просипел Телепнёв, нутром чуя нечто скверное.
Амфилохий произнес со значением:
— Иван Васильевич Шуйский.
Государевы послы, отпав на подушки, лежали недвижно. Посольская изба перестала качаться. Свет за её окнами померк, уличный шум затих. Изба медленно погружалась в морскую пучину.
* * *
Зелфукар-ага, сложив руки на животе, внимательно слушал разноглазого уруса, стоявшего перед великим визирем Азем-Салихом-пашой.
Великий визирь — везир — и азам — невысокий, желтолицый, сморщенный сидел на высоких подушках, перебирая янтарные чётки. Глаза его были, закрыты. Однако везир и азам не спал. Он слушал монотонную речь толмача Зелфукара-аги и думал: кто такой на самом деле этот разноглазый русский бек, прибежавший в Истанбул в поисках милостей султана?
А между тем Зелфукар-ага переводил:
— И после того, как литовский король не дал мне ни войск, ни денег, я ушел с верным человеком из его земли. И, претерпев великие лишения, оказался, наконец, в славном городе Истанбуле, желая найти поддержку и покровительство могущественнейшего монарха вселенной, его султанского величества Ибрагима.
Чуть приоткрыв глаза, Азем-Салих паша спросил:
— Когда урус-бек Иван ушел от литовского короля?
Спросил для того, чтобы урус подумал, что ему — великому визирю ничего о нем не известно. Хотя задолго до того, как московский царевич был допущен для встречи с ним, Азем-Салих паша знал многое из того, что произошло с беглецом, но лучше, полагал визирь, если беседующий с тобой считает тебя неосведомленным и, рассказывая, не опасается острия знания, спрятанного под одеждой неведения.
Зелфукар-ага, выслушав Анкудинова, ответил:
— Позапрошлым летом, господин…
— Спроси уруса, где он бегал два года?
— Он говорит, что после того, как люди молдавского господаря отобрали у него все имущество и едва его не убили, он ушел в Румелийское бейлербейство, которое урусы называют Булгарией, и жил там в христианском медресе у своих единоверцев-болгар, читая книги пророка Исы из Назарета, и обучаясь у лекарей и звездочетов. Оттуда он ушел в Истанбул, оставив в Румелии своего человека.
— Обучен ли урус ратному деду?
— Урус говорит, что умеет биться на саблях, стрелять из самопала и пистолета.
Везир и азам снова закрыл глаза. Тимоша молчал. Молчал и Зелфукар-ага.
— Спроси его, чего он хочет от его величества султана, повелителя правоверных, опоры ислама, владыки великой империи османов да продлит аллах до бесконечности его годы?
— Бей говорит, что если повелитель правоверных даст ему сорок тысяч сипахов, хумбараджей и силяхтаров[2] он поведет их на Москву и привезет царя Урусов в Истанбул в железной клетке.
Азем-Салих паша замер. От верных людей он знал, что московский царевич не захотел вести польские полки на Москву, когда ближний человек короля Владислава — Кисель-ага — предлагал ему это. Почему же теперь царевич Иван сам просит у султана войско?
* * *
…Синие орлы висели в белом небе над выжженной зноем степью. Даже суслики попрятались в норы, и только змеи недвижно лежали в пожухлых коричневых травах.
Тимоша и Костя ехали на полдень. Солнце уже медленно скатывалось книзу, но до заката было ещё долго и земля ещё не остывала, а принимая солнечный жар, смешивала с ним свое тепло на самой грани почвы и воздуха. И от этого над камнями и травами степи зыбкой туманной завесой стелилось сиреневое марево — будто стояли ночью бесчисленные казацкие курени и ушли, оставив в степи дотлевать сухие травы, кизяки и солому. Тимоша и Костя ехали молча, устав от зноя, тишины и жажды. Вдруг кони их враз всхрапнули и, запрядав ушами, заметно прибавили шаг. Остроглазый Костя проговорил быстро:
— Вроде мазар впереди.[3]
Тимоша, ничего не видя, подтвердил:
— Вроде мазар.
И помолчав, добавил:
— А где мазар — там и колодец.
Глинобитный мазар вынырнул как-то сразу. И тут же путники заметили невысокую каменную кладку колодца.
Солнце — красное, большое — висело над степью, и по всему выходило ночевать нужно было в мазаре.
Напоили лошадей, напились сами. Разулись, положили сёдла под голову и, оставив кафтаны в ногах — ночью сгодятся — ночь не день, тепла и в помине нет — легли спать.
Среди ночи — охнуть не успели — повязали их некие лихие люди и, забрав всё до нитки, выгнали из мазара. Ночь стояла светлая, видно все было, как днем. Связанных одной веревкой, привязали их к луке седла последнего всадника и неспешно двинулись на поддень — туда, куда Тимоша и Костя поехали бы и сами, если б довелось им утром проснуться свободными.
После того, как первое потрясение прошло, и Тимоша и Костя поняли, что пленившие их люди — не разбойная ватажка и не татарский разъезд. Всадники — все до одного — сидели на сытых красивых конях, кафтаны на всадниках были одного цвета и фасона, одинаковыми были и сапоги и шапки. И даже лицом напоминали они друг друга — были, как на подбор, — смуглые, усатые, кареглазые.
Ждать разгадки пришлось недолго. В двух верстах от места их последнего ночлега, на берегу речки, увидели они шатры, палатки, повозки, услышали песни, звуки бубнов, учуяли залах дыма и жареного мяса.
Их провели по шумному, веселому табору сквозь ряды телег и палаток к большому белому шатру. У входа в шатер торчал бунчук, стояло знамя, обвисшее чуть не до земли, и опираясь на пики, толпились здоровенные усатые гайдуки, одетые — а точно такие же кафтаны, сапоги и шапки, какие были и на тех людях, которые час назад повязали Тимошу и Костю.
«Свита какого-то потентата, — смекнул Тимоша. — Как рынды, или же стрельцы из государева стремяного полка — все в одинаковой одёже. Только чьи же они? На татар не похожи, на турок тоже».
Слабый ветерок колыхнул знамя. Из складок глянул на Тимофея грозный зрак Иисуса. «Волохи! — обрадовался Тимоша. — Все ж таки православные христиане, не турки, не татарва».
Из шатра вышел некто грузный, пьяный. Зло и тупо поглядел на гайдуков, на пленников. Гайдуки опасливо на него взглянули, встали прямо. Толстяк подошел к Тимоше и, что-то крикнув, ткнул пальцем себе под ноги. Тимоша молчал, не шевелясь. Гайдуки подскочили, один ударил под колени, второй, обхватив за шею, дернул книзу. Тимоша упал на колени. Толстяк крикнул ещё что-то. Гайдуки бросили на колени Костю и, не дав распрямиться, обоих потащили на веревке в шатер.
Все вокруг были по нехорошему тяжело пьяны и потому ни Тимоша, ни Костя не могли угадать, что с ними будет через мгновение. Под ноги Тимоше кинулись шуты и карлы — безумные, страшные, визжащие, лающие, мяукающие. Важный толстяк сунул грязный сапог под нос Тимоше, и кто-то из окружавших крикнул по-русски: «Целуй!» Тимоша, вздернул подбородок и почувствовал на затылке холодное острие клинка…
* * *
Из табора их вывезли на арбе, в которой прежде перевозили навоз. Вывезли голых, связанных одной веревкой. Сбросили у дороги, избитых, измазанных кровью и грязью. Они лежали ничком, содрогаясь и скрипя зубами от воспоминаний минувшей ночи, в которую на их долю выпало столько унижений и издевательств, сколько не выдало за всю их прежнюю жизнь, даже если бы все гадкое и постыдное, случившееся с ними до этой ночи, увеличили во сто крат.
Дотемна они прятались в кустах у реки, а с темнотой, отмыв кровь и грязь и оплетя чресла ветвями и листьями, двинулись на полдень. К утру они набрели на юрту бедного буджакского татарина и с грехом пополам объяснили, что их ограбили лихие люди. Татарин сказал печально и тихо:
— Башибузук — нет. Большой бей, хан, коназ сымает бедыный человек всё. — Он дал Тимоше и Косте рваные портищи и старый мешок, из которого они соорудили ещё одни штаны. Он дал им одну рубаху на двоих и пол-круга сыра.
Прощаясь, татарин сказал:
— Ходит, ходит батыр. Собирает силу на хана, на коназа, на бея. Силу надо. Тьму батыров надо — больших беев побивать…
* * *
Тимоша повторил хрипло:
— Скажи ему, Зелфукар-ага, — побусурманюсь, если даст мне сорок тысяч конных. Нужна мне тьма батыров, чтобы силой поломать царскую силу.
Великий визирь встал, медленно подошел к Тимоше. Уставясь в глаза ему немигающими желтыми, как у тигра, зрачками, сказал тихо:
— Переведи ему, Ззлфукар-ага: сначала он отречется от учения пророка Исы и станет правоверным суннитом, а потом мы подумаем — давать ли урусу бунчук и доверить ли Алем — зеленое знамя правоверных.
Тимоша выслушал толмача, покраснел от гнева, задышал тяжко, раздувая ноздри. Выдавливая слова, произнес хрипло:
— Даст сорок тысяч конных — побусурманюсь.
Визирь сощурил глаза, поджал губы.
— Скажи беку — будет ему отныне таим[4] с моего стола. А ты, Зелфукар-ага, подбери князю грамотного ходжу, который мог бы объяснить ему, сколь прекрасно и истинно учение пророка Магомета, внушенное ему самим аллахом.
* * *
Ивана Вергунёнка привели к великому визирю вслед за Анкудиновым. Так же сложив руки на животе, неподвижно стоял у плеча везир и азама Зелфукар-ага. Так же тихо и монотонно журчал его голос. Так же перебирал чётки, не то слепой, не то дремлющий желтолицый старик. Только совсем не так отвечал Азему-Салиху паше Иван Вергунёнок.
Когда визирь спросил его, чего он хочет от падишаха вселенной, Иван, заносчиво вздернув голову, сказал Зелфукару-аге:
— Скажи ему, что со мною он не смеет разговаривать сидя, если я, русский царевич, стою перед ним.
Визирь перестал перебирать чётки и, приоткрыв глаза, сказал, что царевич может сесть насупротив него.
Иван сел, скрестив ноги, и попросил Зелфукара-aгy точно перевести то, что он скажет.
— Я хочу видеть брата моего, турецкого царя Ибрагима. И говорить стану только с ним.
Великий визирь, услышав это, на мгновение поверил, что перед ним действительно внук царя урусов Ивана Ужасного, повоевавшего Казанский и Астраханский улусы, Сибирский юрт и многие иные татарские орды. Но десятилетия службы при дворе, природный ум и привычка не верить ничему, кроме того, что проверено сто раз и не может содержать в себе никакого подвоха, победила и на этот раз.
Кого только не видел Азем-Салих паша во дворцах Великого сеньора, как называли султана в страдах, поклонявшихся пророку Исе!
Искатели приключений, бродяги, чародеи, самозванцы, лазутчики так и роились у порога султанских дворцов, и если кто-нибудь из них проникал через его высокие резные двери внутрь, везир и-азам должен был точно определить, сколько стоит предлагавший свои услуги человек и во что может обойтись правительству государства, именовавшего себя Блистательной Портой, это одолжение.
Смуглый до черноты, дерзкий, кареглазый казак все же чем-то смутил визиря, и он решил сначала сбить с наглеца спесь, а потом поглядеть, что из всего этого выйдет. Открыв глаза, Азем-Салих сказал:
— Его султанское величество, повелитель правоверных, не может принять неверного гяура. Если ты примешь закон Магомета, то, может быть, тогда тебе будет позволено видеть лик владыки половины вселенной.
— Ты не понимаешь того, что говоришь, — громко, отчеканивая каждое слово, проговорил Вергунёнок. — Как это я, русский царевич, пойду доставать мой престол, надев на себя халат и чалму!?
Визирь подумал; «Кто бы ты ни был, урус, ты дерзок и глуп. Сначала ты говоришь мне, что я — великий визирь — не понимаю того, что говорю, а затем спрашиваешь меня, как тебе достать отобранный у тебя московский юрт». Но сказал другое:
— Ты, кажется, мало думал, прежде чем сказать мне то, что я сейчас слышал. Мы предоставим тебе время для размышлений.
Визирь хлопнул в ладоши и на пороге, как джины из бутылки, появились два янычара-балтаджи в белых бурнусах. Зная, что Вергунёнок понимает татарский язык, визирь неспешно и чётко сказал по-татарски:
— Отведите этого человека в Семибашенный замок.
Под черной кожей скул у Вергунёнка заходили желваки. Бешеными, белыми от злобы глазами он полоснул везир и-азама и, повернувшись к двери, громко произнес какую-то длинную фразу.
Зелфукар-ага закрыл глаза и укоризненно покачал головой. Великий визирь хотя и не знал языка урусов, но спрашивать толмача, о чем это с таким жаром говорил на прощание московский царевич — не стал.
* * *
Этой же ночью Зелфукар-ага пробрался на подворье русских послов. Кузовлев, уже отлежавшийся от качки, встретил толмача приветливо и радостно, а большой государев посол Степан Васильевич Телепнёв, хотя и был гостю рад, однако встретить его по достоинству не смог: от всех бусурманских напастей занедужил изрядно и лежал, тяжко дыша от некоего стеснения груди и великого жара.
Вообще-то толмач не сразу отправился к послам, сначала он встретился на Египетском базаре с Амфилохием и, слово в слово передав архимандриту беседу с обеими подыменщиками, сиречь самозванцами, что бессовестно влыгались в царские дамы, выслушал от черноризца совет — идти сегодня же к послам, ибо — кто же ведает, что там замыслил везир и-азам, вдруг да завтра поутру и призовет Степана Васильевича да Алферия к себе во дворец.
И Зелфукар-ага, получив от Амфилохия письмецо малое и хотя и невеликий, но тяжелый кожаный кошель, направился к послам. Уйдя с базара, толмач тут же прочитал письмо и, запомнив всё, о чем там было написано, изорвал его в мелкие клочья. Высыпав на ладонь кучку мелких серебряных монет — мангур, пиастров, акче и аспр, — Зелфукар-ага даже плюнул с досады — тяжел был архимандритов кошель, да только за три дюжины полученных от Амфилохия монет никакой меняла не дал бы и одного золотого фондука.
Подойдя к русскому подворью, Зелфукар-ага отдал все им полученное двум грязным и бесчестным стражам — ямакам, стоявшим у ворот посольства и, поклявшись возместить убытки за счет Телепнёва и Кузовлева, решительно перешагнул порог.
Расчет Зелфукара-аги оказался правильным: после того, как послы разузнали всё, о чем говорил великий визирь с ворами, они с лихвой возместили пронырливому толмачу его убытки. И для того, чтобы не навлечь на доброхота Зелфукара и тени подозрения, Кузовлев дал ему не русские деньги, а две золотых сицилийских онцы, выманенные ещё в Кафе на захваченные из Москвы ефимки.
Получив мзду, Зелфукар-ага сказал:
— Если дашь ещё золота, скажу, кто есть в самом деле вор Шуйский.
Телепнёв слабым голосом, не подымая головы с подушки, ответствовал:
— Зелфукар-ага, то золото, что мы тебе дали, не наше золото, а государево, и нам за то золото перед государем ответ держать. А как я государю скажу, что за малые дела много денег отдал?
Толмач повел плечом, приподнял брови:
— То дело не малое, господин. То дело — великое.
И добавил жалобно:
— Чтоб имя вора узнать, я много одному человеку платил. Что теперь делать? Обратно у доброго человека золото брать?
— Сколь заплатил? — тихо спросил Телепнёв, понимая, что придется раскошелиться ещё раз.
— Пять фондуков платил, — ответил толмач, не отводя глаз.
— Говори, — вздохнул Степан Васильевич и велел дьяку Алферию достать из сундука деньги.
— Звать вора Тимошка по прозванию Акундинов. Прибежал вор из Вологды на Москву и там был в приказе Новая Четь подьячим.
— Новая Четь! — воскликнул громко молчавший до того Кузовлев. — Да я ж того Тимошку знаю! Был он при Иване Исаковиче Патрикееве в подьячих. И из Москвы года два как убег. Мы с ним даже на одной свадьбе вместе были. Я, Степан Васильевич, вора Тимошку, если поставят меня с ним с глазу на глаз тут же уличу!
— Ну и дела! — слабо ахнул Телепнёв. — Ладно, коли так. А если нет?
Зелфукар-ага приложил руку к сердцу:
— Так, господин, истинно так.
Степан Васильевич вздохнул и еле пошевелив пальцами, показал Кузовлеву — пододвинъ-де толмачу кису с деньгами.
Кузовлев толкнул по столу кожаный мешочек и Зелфукар-ага ловко поймал его. Кузовлев спросил:
— А скажи, ага, как нам сподручнее того вора Тимошку достать?
— Везир и-азам сам такого дела не сделает. Можно вора достать большой казной.
— Все казной да казной, — проворчал Телепнёв. — Деньги отдадим, а вора нам не выдадут и потеряем казну даром — люди-то ваши, ты, Зелфукар-ага, не обижайся — не однословы: пообещать — пообещают, а дела не сделают.
Зелфукар-ага сказал:
— Зачем стану обижаться? Правду говоришь, господин. А ты меня послушай: бросьте вы это дело — пойдет вор по земле, волочась, — и сам пропадет. А то зашлет его везир и-азам в дальний город или же на галеру в греблю отдаст. А если станешь, господин, о воре промышлять, то пуще его вздорожишь, и станет везир и-азам думать: «И вправду вор царского кореня».
Телепнёв вздохнул, подумал: «Вот привязалась напасть — сам чёрт не разберет. И так-то посольство — хуже не придумаешь: на крымского царя, хотя и бывшего, а все же царя, султану надо челом бить, о злодеяниях его доводить многими словами, накрепко. А как ещё султан к тому отнесется? Крымский царь единоверец его — из султановой руки на мир смотрит. Да и в набег ходил не по наущению ли из Цареграда?»
А Зелфукару-аге сказал так:
— Спасибо тебе, Зелфукар. То воровское дело для нас, послов — не главное. Есть у нас и иные — государственные дела. Только, если речь о воре зайдет, то скажи боярину твоему, Азяму, что вор тот — худой человек, подьячишка, нечестных родителей сын.
* * *
Осень начиналась в Константинополе. Тихо шелестели дожди, сбивая наземь мокрые листья, возвращались в Золотой Рог боевые корабли Порты галеры, фелюги, фрегаты: до весны у Синопа, Трабзона, Батума можно было не ждать казацких стругов и чаек.
Кузовлев со дня на день ждал: вот позовут к султану. И лестно было дьяку Алферию идти к султану мимо большого государева посла, который из-за приставшей к нему неведомой болезни совсем лишился сил — и страшно: а ну, не то скажет, или не так сделает, как велит посольский обычай? Однако, хотя и боялся дьяк, — было ему интересно и радостно.
И однажды среди дня появилась на посольском дворе добрая дюжина людей — на конях, с пиками и саблями.
Дьяк Алферий, выглянув в окно, тут же понял — не во дворец ему ехать: азямы на всадниках были ношеные, кони нечищенные, сапоги старые. Не охранники султана — балтаджи — въехали во двор — простые воины — капы-кулу. Тревожно обшарив глазами толпу всадников, дьяк увидел Зелфукара-агу — и у него слегка отлегло от сердца.
Толмач вошел в дом с толстым низеньким десятником и красивым юношей, одетым в богатый халат. Взглянув на Кузовлева — будто видел его впервые, толмач сказал, как пролаял:
— За многие вины вашего царя сидеть вам, послы, в избе, никуда не выходя, пока царь урусов не напишет, зачем готовит к весне шайки лихих людей воевать крымский юрт и полночный берег Порты. А появятся казаки на море — сожгут в пепел и тебя, дьяк Алферий, и товарища твоего Степана.
Кузовлев понял, что Зелфукар-ага разговаривает с ним так из-за того, что рядом с ним стоит нарядный юноша — не то соглядатай, не то везир и-азама думный дворянин.
— Так говорить с его царского величества послом тебе, толмач, непригоже. И ты боярину твоему, Азему, скажи, что ни в каких государствах над послами бесчестья не бывает, и в Цареграде над послами того не бывало. А я за казаков не ответчик, потому как черкасы[5] искони государского повеленья не слушают, и живут воровским обычаем искони ж.
Телепнёв, лежа с закрытыми глазами, думал; «Ах, хорошо, Алферий, ах, верно отвечаешь татарину».
Зелфукар-ага потоптался немного и строго проговорил:
— Из избы — не выходите. Со двора — не выходите. Никого в избу и на двор не пускайте. Буду только я приходить, когда повелит мне везир и-азам, пресветлый Азем-Салих паша.
И с тем вышел. За ним, неслышно ступая, вышел красивый юноша, и громко топая, — толстый десятник.
— Ну, дождались, — прошептал Телепнёв.
Кузовлев устало опустился на лавку возле стола и подпёр щеку рукой. Ясно было — снова началось казацкое воровство, гиль и грабительство. А отвечать за то надлежало ему — государеву послу, дьяку Алферию Кузовлеву, ибо с полуживого Степана Васильевича какой спрос?
«А как только выйдут казацкие чайки из Днепровского гирла, — думал дьяк, — бросит султан сорок тысяч конников на Астрахань, и поведет их подьячишка Тимошка — князь Иван Васильевич Шуйский. И если не отрубят голову дьяку Кузовлеву в Цареграде, или хуже того — не посадят на кол, то, вернувшись в Москву, расспросят его, Алферия, ближние государевы люди: пошто вора Тимошку перед визирем не изобличил, пошто не вывел на чистую воду худородного мужичишку и дозволил вору, прикрывшись царским именем, воевать южные украины — Астрахань с пригородами?
И вот за это-то дьяк Алферий ответит по всей строгости.
А за казацкое воровство кто с него спросит? За казаков ему ответ не держать».
И, рассудив таким образом, решил дьяк Алферий прежде всего избавиться от вора Тимошки. И с тем улегся спать. «Слава создателю, — подумал дьяк засыпая, — что другого вора бусурмане сами метнули в тюрьму, а то что бы было делать с двумя супостатами сразу?»
* * *
Тимоша, живя во дворце Азем-Салиха паши, с утра и до полудня слушал поучения хаджи Рахмета, носившего красную феску с черной кисточкой означавшей ученого человека. Хаджи Размет занимался с Тимошей турецким и арабским языками, готовясь к тому, чтобы понятливый и способный к языкам урус вскоре мог понимать новое для него вероучение — ислам.
А с полудня и до глубокой ночи Тимоша бродил по великому городу Истамболу, само название которого означало — «полный мусульман». Он исходил его весь — от замка Румели Иссар до древнего Хризополиса, называемого турками Ускюдаром, и от площади Сераскера до Силиврийской заставы. Он шатался по бесчисленным улочкам в кварталах Ливадии и Галаты, возле Урочища рыб, где в квартале Фанар жили богатые греческие купцы. Он бродил у белых зубчатых стен султанских дворцов Топ-Капу и Чераган, и дальше по берегу Босфора у садов Долма-бахче.
Он исходил вдоль и поперек все базары Истамбола, дивясь их разноязычию, многолюдству и богатству. Он забредал в мечети, церкви, кофейни, цирюльни, бани, таверны. Толкался среди носильщиков, водоносов, кузнецов, горшечников, мясников. Знакомился с важными деребеями — турецкими вотчинниками, с лукавыми ростовщиками, ловкими торговцами, простодушными уланами — крестьянскими сыновьями. Дивился на гадателей, заклинателей змей, фокусников, акробатов, балаганных скоморохов.
Но не прошло и месяца, как все это великое шумство и многолюдство, пестрота и живость, голубое небо и голубое море, горы сладких плодов и ласковое тепло ранней осени — стали раздражать Тимошу и вызывать у него такое чувство, какое появляется при виде сахара у человека, объевшегося сладким. И вместо прелестей щедрой осени и ярких красок базаров стали лезть в глаза Тимоше нищие и юродивые — по-здешнему дервиши, — коих было в Константинополе поболее, чем в Москве, стали попадать под ноги стаи бездомных облезлых псов, снующих по улицам и площадям целыми полчищами, а в кварталах босфорского прибрежья — тучи крыс. И вместо свежего морского бриза стали бить Тимоше в нос запахи гнили и тления — от падали, валявшейся в канавах, от затхлой воды в арыках, от тухлой рыбы на берегу, от гор гнилых фруктов на рынках.
И не весело стало от всего этого на душе у Тимоши, а тревожно и смутно. И все чаще стали вспоминаться ему белые снега и звенящие от мороза леса — чистые, смоляные, светлые. И все чаще, выходя на Босфор, глядел Тимоша на его западный берег, туда, где кончалась Европа, хотя турки считали, что именно там не кончалась она, а начиналась. На европейском берегу Босфора, собравшись тесной стайкой, застыли у самого моря белые терема византийских императоров. Зеленые кипарисы и невысокие стены с башенкамми окружали жилище ушедших в небытие басилевсов, некогда владевших половиной известного им мира. Рядом с невысокими теремами императоров громоздилось уродливое серое здание храма Святой Софии, обстроенное клетушками, выступами, минаретами.
Когда Тимоша впервые оказался внутри храма — огромного, запущенного и грязного, он не почувствовал ни величественности, ни простора, ни света, хотя София в Константинополе была раз в десять побольше Софии в Вологде. Бесчисленные колонны уходили в разные концы огромного зала, бесконечные коридоры убегали в глубь здания, ныряя под галереи и переходы и теряясь в чудовищной толще циклопических стен храма. Грязный, потрескавшийся пол, покрытые птичьим помётом подоконники, осыпавшаяся штукатурка — всё кричало о разрушении, забвении, мерзости запустения. Стены, никогда расписанные фигурами святых и изукрашенные речениями отцов церкви, теперь были густо закрашены цветами и орнаментами, покрыты затейливой арабской вязью сур из Корана.
Сквозь переплетение золотых, зеленых, красных и черных линий проглядывали, как из зарослей, желтые и коричневые лики христианских святых, голубой хитон Спасителя, скорбный и нежный шик Богородицы.
Молящихся было немного. Тимоша прислонился к одной из колонн, и вспомнил Вологду, свечи, горящие в холодной тьме Софийского собора, владыку Варлаама, и у него сладко заныло сердце и на глаза навернулись слезы. «Ох, до чего хочется домой, в Россию, в снега, в серебряные леса», — подумал Тимоша. И тут же некто, уже давно поселившийся в сердце, шепнул: «Увидишь серебряный лес из железной клетки!» «Господи, — взмолился Тимоша, — пособи вернуться домой, вразуми, как быть, что делать?» И некто второй спросил ехидно: «Какого бога просишь, Христа или Мухамеда? Их тут два, а храм все едино загажен божьими птицами и человеческим нерадением. Даже воедино собравшись, не могут главные во вселенной боги на малой частице своего царства порядок навести».
И от этого стало Тимоше легче, но в душе почувствовал он такую пустоту, какую ощущаешь, когда летишь с забора или скрипи наземь и ещё не ударился, но уже ждешь этого и от дурного предчувствия обмирает сердце.
И когда лёг поздним вечером Тимоша на ковер, вдруг вспомнил полуразрушенный и грязный храм Святой Софии, который турки звали мечетью Айя София, понял вдруг, что нет в небесах ни Аллаха, ни Саваофа, ни Магомета, ни Христа. А иначе допустили бы они, всесильные, этакую мерзость и запустение?
Ощущение пустоты не оставляло Тимошу и утром, когда он рассеянно слушал очередные поучения хаджи Размета. Еле дождавшись полуденного намаза и отстояв как во сне магометанскую обедню, Тимоша рассеянно попрощался со своим наставником и, выйдя из мечети, направился на берег Босфора. Только теперь ему совсем уже не хотелось оказаться под сенью капища, загаженного птицами и заплеванного приверженцами двух богов.
Ему захотелось пойти к простым смертным людям, не думающим о грехах и поклоняющимся не идолам, а земным радостям. Он отправился на берег Босфора, но не на европейский, а на азиатский берег, где, загораживая дома и сады Ускюдара, сотнями мачт, канатов и рей, стояли корабли, пришедшие в Истамбол со всего света. Венецианские галеасы, испанские каравеллы, генуэзские галеры, фрегаты англичан и французов, гальяны и канки алжирцев и египтян везли в столицу османов шелка и сукна, оружие и рабов, пряности и вина всё, чем были богаты страны, откуда шли в Истамбол крутобокие, пропахшие смолой и солью парусники и катарги. Здесь, в порту, среди матросов и грузчиков Тимоша почему-то почувствовал себя вольно и веселю. Ближе к вечеру, когда шум работ в гавани утихал, трудовой люд разбредался кто куда. Грузчики, большей частью жившие в городе, шли по домам, в грязные кварталы, теснившиеся у самого порта, а иноземные моряки расходились по кофейням и тавернам, где можно было найти любое из удовольствий — кофе, кальян, вино, или сладкогласую, нежную пэри, купленную хозяином на невольничьем рынке.
Однажды Тимоша набрел на кабачок, из дверей которого несся шум, слышный за сто саженей. Тимоша нырнул в синий табачный дым, в терпкие запахи вина, жареной баранины и кофе. Разноязыкий громкий говор, песни и топот ног мгновенно оглушили его, но уже через несколько минут кофейни ли, кабак ли — пришлись ему по душе. В большом зале, одна часть которого на христианский лад была уставлена длинными, грубо обструганными столами и лавками, а другая — низкими полатями — софрами, — застеленными вытертыми коврами и засаленными подушками — миндэрами — сидели и полулежали десятки матросов, гребцов, шкиперов, рулевых — турок, греков, голландцев — всех, чьи корабли стояли по соседству — в торговой гавани Истамбула. Одни пили джин, другие — кофе, третьи — вино. Кожаные куртки, суконные плащи, штаны и рубахи из плотного полотна, высокие сапоги — делали этих людей очень похожими друг на друга. И только фески и тюбетейки одних и помятые шляпы с отвисшими полями, выцветшими лентами, общипанными перьями на головах других позволяли догадаться, кто из моряков мусульманин, а кто — христианин.
Под стать собравшемуся в кабачке обществу была и подаваемая на столы снедь. Для неверных — «райя» — мясо, рыба и птица, к которым прикоснулся бы не всякий мусульманин, пироги, подземные италийские грибы — тартуфолли, свернутое в длинные тонкие трубочки тесто — макарони, обжигающий горло джин. Для сыновей пророка — сладкий сок винограда — пекмэз, кипрские, ионические и анатолийские вина, вяленая баранина — пастырма, терпкая густая похлёбка — чорба, круглый мягкий хлеб — сомун и тающая во рту пастила лукум.
Остановившись у двери, Тимоша оглядел зал и заметил за одним из столов свободное место. Заняв его, он жестом подозвал худого, черноглазого хлопчика — чухадара, прислуживавшего гостям, и тот мгновенно остановился перед новым посетителем.
Перемешивая русские, болгарские и турецкие слова, Тимоша вопросил вина, лепёшек и мяса. Сидевший напротив него черноволосый, бородатый здоровяк спросил Тимошу по-болгарски:
— Откуда ты, друг?
Тимоша за два года жизни в Рильском монастыре выучился болгарскому языку почти как русскому и потому с радостью отозвался на приветливые слова. О себе сказал немного: жил когда-то в России, потом — в Болгарии. Теперь вот — в Цареграде.
Бородач засмеялся:
— Вижу, что ныне живешь ты в Византии, по вашему — Цареграде, а по-гречески в Константинополе.
А о себе бородач сказал, что он капитан небольшой фелюги, принадлежащей монашескому братству, расположенному на полуострове Агион-Орос.
— Где это? — спросил Тимоша.
— Совсем близко. При попутном ветре два дня пути. Как выйдешь из Дарданелл, то держись на закат, оставляя справа по борту остров Самотраки. А прошёл Самотраки — полпути позади.
— И что ж это за монахи? — снова полюбопытствовал Тимоша.
— Православные, греческого закона, — ответил бородач.
— И много их?
— Двадцать монастырей на Агион-Оросе — наш — болгарский хиландарским называется — есть греческие, армянские, есть и русский Пантелеймонов монастырь.
— Ох, ты нечистая! — смеясь воскликнул Тимоша. — Так ведь это ты мне про Афон рассказываешь!
— Верно, — улыбнулся бородач, — про Афон. На этой горе и стоят монастыри, да только наша-то гавань вдали от лавры и других обителей, потому я тебе о Святой горе ничего и не сказал.
— Про Афон какой русский не знает! — воскликнул Тимоша. — А вот когда услышишь иное название, не сразу и в голову придет, что Агион-Орос и Афон одно и то же.
Разговорившись, Тимоша и Христо, — так звали приветливого болгарина выпили не одну корчагу вина, прежде чем покинуть корчму.
Хорошо было на душе у Тимоши — легко: встретил он доброго человека, простосердого, без злобы и хитрости. И разговор был хорош, и вино — по вкусу. Оттого, видно, и не заметил, как заснул — прямо за столом. Проснулся — нет Христе. Да и народу тоже почти никого нет.
Тимоша расплатился и вышел из корчмы на вольный воздух.
Тучи клубились над Истамбулом. Сырой и холодный северо-западный ветер — караель — дул с Золотого Рога, жалобно и тоскливо посвистывая в паутине корабельных вант. Скрипели, покачиваясь, старые расшивы. Хлопали мокрые паруса, шуршал по стенам сараев долщь.
Тимоша не услышал, как подкрались сзади. Почувствовал только тупой тяжелый удар по правому плечу. Увидел: падающее назад небо, качающиеся мачты, стоявшего рядом парусника, двух лиходеев, застывших в ожидании и тревоге.
Едва коснувшись земли, Тимоша вскочил и что было силы ударил ближнего к нему злодея в лицо кулаком. Слышно было, как лязгнули у бусурмана зубы, и он мгновенно рухнул наземь, выронив из руки медный пест, каким бабы толкут в ступе зёрна.
«Ах вот чем ударил меня, разбойник» — мелькнуло в голове у Тимоши, и он потянулся за пестом, но, не успев разогнуться, почувствовал страшный удар ногой в лицо и упал ничком на мокрую землю, ничего не видя и не слыша.
* * *
— Ты, господин, шибко радоваться будешь, — говорил следующим вечером Зелфукар-ага дьяку Кузовлеву. — Сегодня ночью мои люди вора Тимошку в корабельной гавани подсидели, а подсидев — повязали.
— И где ж вор ныне? — не удержавшись, вскричал Кузовлев.
— В Семибашенном замке вор. Чуть-чуть не насмерть зашиб вор честного человека: четыре зуба выбил вор и окроме того лежит побитый им человек, будто мёртвый, руками-ногами не шевелит, и говорить не может.
— Казнят подыменщика? — с надеждой спросил Кузовлев.
— Всё в руках аллаха, — уклончиво ответил Зелфукар-ага, но подумав, добавил:
— Найдёте для судьи казны довольно — казнят, а не найдете — будет сидеть в нятстве, пока не выкупят сообщники.
— Как, Степан Васильевич, найдем казну для такого дела? — спросил Кузовлев, обращаясь к недвижно лежащему Телепнёву. Однако стольник лежал молча, будто не слышал.
Кузовлев наклонился, потряс больного за плечо. Телепнёв молчал, оставаясь недвижным. Дьяк пал на колени, приложил ухо к груди, руну — к устам. Встал, побелев лицом, держась дрожащей рукой за стену. Повернувшись в красный угол, где и икон не было, мелко перекрестился:
— Преставился раб божий Степан, царствие ему небесное.
Глава пятнадцатая. Семибашенный замок
Палачи и тюремщики Истанбула хорошо знали свое ремесло и деньги получали не даром. Вергунёнка привезли в тюрьму ночью. Не тронув пальцем, и даже оставив на шее золотой нательный крестик, его провели по темным узким дворам, между стенами и бастионами не то фортеции, не то острога и остановились у высокой башни.
Когда Иван и тюремщики вошли в башню, Вергунёнок заметил лестницу, ведущую как в преисподнюю, во мрак подвала ещё одну — наверх — в такую же непроглядную тьму. Однако узника не повели ни вниз, ни вверх. Скрипнула ещё одна дверь и Иван оказался в тишине, тьме и отравленном миазмами воздухе. Совсем близко от себя он увидел светлую отдушину величиной с кулак и, протянув руки, шагнул вперед. Сделав четыре небольших шага, он уперся рукой в скользкую холодную стену.
Потоптавшись недолго, он определил, что его комора не более квадратной сажени, с отдушиной вместо окна, со зловонной деревянной кадью в углу у двери.
Камера была невысока — чуть приподняв руку, Иван коснулся потолка тоже холодного и мокрого. Приложившись глазами к отдушине, Иван не увидел даже, а скорее почувствовал крохотный кусочек неба, затянутого в эту ночь плотными тучами.
Иван лег на голый каменный пол и долго не мог уснуть. Многое вспомнилось ему в эти часы. Вспомнился и подвал в Чуфут-Кале, представившийся теперь царским покоем.
Под утро набежавший с моря ветер разогнал тучи и в отдушину заглянули звезды — веселые и чистые. Иван засмотрелся на божьи светила и незаметно для себя заснул.
Проснулся он поздно — около полудня, поглядел в отдушину, ню в ней, как и прежде, виднелись звезды, улетавшие и гаснувшие. «Как со дна колодца гляжу? — подумал Иван и вздохнул — толщина стены, в которой была пробита дыра на вольный свет, была никак не менее трех четвертей сажени».
Днем принесли ему кружку теплой, пахнущей тиной воды и черствую лепешку. Иван лег на пол и до тех пор смотрел на небо, пока не сморила его проклятая тоска и он заснул, как в бездну провалился.
Очнулся Иван из-за жуткого, рвущего сердце крика. Спросонья Вертунёнок не понял — кто кричит и откуда доносится этот нечеловеческий вой и стон. Он метнулся к одной стене, к другой и вдруг догадался — кричат в подвале, под полом его коморы.
Иван заткнул уши пальцами, но вопль страдания, казалось, проникал в мозг, проходя сквозь каменные своды башни, сквозь все его тело. Неведомый Вергунёнку страдалец то затихал, то кричал вновь, все более слабея, пока не умолк совсем. И тогда Иван Вергунёнок — сорви-голова, для кого его собственная жизнь давно поросла трын-травой, опустился на колени и стал молить Пречистую деву, заступницу всех сирых и болезных, за человека, тело которого рвали на части турские заплечных дел мастера. Он молился и плакал, и со страхом ждал, что из-под пола снова раздастся леденящий кровь стон, но все было тихо и Иван поверил чуду — матерь Христова, сама схоронившая замученного и истерзанного сына — услышала его молитву и отвела руки истязателей от страдающей плоти несчастного узника. И, подтверждая это, растворилась дверь и два тюремщика бросили к ногам Ивана бесчувственное тело. Дверь захлопнулась. Иван подполз к окровавленному, измученному человеку, от которого пахло мочой, паленым волосом и горелым мясом. Крупное тело показалось Ивану неживым.
Глянув на обрывки шаровар и чудом уцелевший на голове седой оселедец, падавший на высокий лоб, Вергунёнок подумал: «Запорожец. Ей же ей запорожец!» И в это мгновение грудь лежащего слабо колыхнулась и вслед за тем он едва приоткрыл глаза. Страх и мука были в глазах запорожца — ничего, кроме смертной усталости, горя и ужаса. Долго-долго смотрели два узника друг на друга. Сквозь прорезь красной шелковой рубахи запорожец увидел на груди у Ивана нательный крест и молча заплакал. Он лежал не шевелясь, глядел на маленький крестик, а слезы катились и катились по его скулам и по шее, оставляя светлые бороздки на грязном, покрытом кровью и копотью лице.
— Убей меня, православный, — прошептал запорожец, и Иван подумал, что человек этот от великих мук лишился ума.
— Убей меня, — повторил он и попытался приподняться, но не хватило сил, и запорожец снова уронил голову на пол.
Иван сел подле истерзанного палачами человека, положил его голову к себе на колени и проговорил участливо и тихо, будто ребенку или девице:
— Лежи, страдалец, лежи. Никто теперь не тронет тебя. Минулось всё, что было. Теперь лучше будет.
— Не будет лучше, хуже будет, — еле шевеля бескровными губами, прошептал запорожец. — Они мне с левой руки щипцами ногти посрывали да после того палец за пальцем в кипящее масло поопускали.
Иван взглянул на левую руку запорожца — черную, раздутую — и почувствовал, как сначала подпрыгнуло куда-то к горлу, а затем сразу же вниз упало сердце.
— А завтра, — прошептал запорожец, — они мне то же с правой рукой сделают. И если завтра не скажу им правду, то раскаленными щипцами всего на мелкие части порвут.
Холодный пот прошиб Ивана. «Что же с людьми делают, ироды, бусурманское племя, дьяволово отродье», — думал Вергунёнок, и не знал, что сказать, что делать.
— О чем же они тебя пытают? — спросил Иван.
— О том я только одному богу скажу, — проговорил казак, и замолчал, закрыв глаза.
Всю ночь Верзунёнок не сомкнул очей. Утром, когда заскрипели двери и послышался шорох шагов и шум голосов, запорожец ещё раз сурово и властно произнес:
— Убей меня, православный. Христом тебя молю. Дай мне помереть лёгкой смертью. Не допусти, чтоб тело мое живое в куски изодрали.
— Да как же я могу!? — с болью, какую он никогда дотоле не изведывал, простонал Вергунёнок. Как же я, товарища моего, такого же, как и сам казака, ни за что ни про что жизни решу?! Нечто я кат?
— Пожалеешь еще, да поздно будет, — с бесконечною тоской проговорил запорожец и снова замолк.
Запорожца выволокли из коморы после полудня и Иван сразу же, как только услышал из-под пола его крики и стоны — ох, как пожалел, что не выполнил просьбу казака!
И снова молился Иван Пречистой деве, и плакал, и бил кулаками в дверь, и кричал, и скрипел зубами.
И снова приволокли запорожца в комору — только теперь он уже не открыл глаз, не сказал ничего, только шептал нечто несвязное и среди ночи совсем затих. Отлетела казацкая душа поведать богу то, о чем не сказал он своим мучителям.
И остался Иван один. Да не надолго. Чуть ли не каждый день втаскивали к нему из подвала истерзанных людей и они либо рассказывали все, о чем палачи дознавались — и искалеченные шли на казнь, либо молча умирали.
А однажды измученный палачами казак подполз среди ночи к Ивану и сказал:
— Нету здесь попа и исповедать меня некому. Так хоть ты, православный, послушай перед смертью. Июда я, христопродавец. Не стерпел я муки, выдал товарищей. Рассказал проклятым, как подвесили меня над огнем, что ладят казаки струги, пойдут воевать по весне Трабзон и Синоп. И со второй пытки сказал, что ладятся те струги по всему Дону и в Воронеже на реке Вороне, и в Ельце. А с третьей пытки сказал, что пойдет стругов сотни три или четыре. И тогда мучить меня перестали, сказали, что будут держать в яме до весны, и если я соврал, а казаки из гирла не выйдут, то сожгут меня в пепел, а если правду сказал, то пошлют гребцом на галеры.
Казак заплакал. Сквозь слезы говорил сбивчиво:
— Сколь же теперь християн из-за меня погибнет? Вышлют турки к гирлу флот и потопят товарищей моих. Как же я буду после этого жить?
Иван не знал, что ответить. Сказал резко:
— Что теперь сделаешь, ежли уже всё довел? Спи.
А когда утром проснулся, увидел, что удавился казак.
В коморе, где не за что было зацепиться и ногтем для того, чтоб самому найти способ повеситься. Нужно было измыслить нечто совершенно диковинное. И самоубийца придумал, как лишить себя жизни. Он порвал на ремни рубаху и портки, свил из полос длинную, прочную веревку и сделал на концах её две петли. Затем он снял со стоявшей в углу зловонной кади лежавшую сверху доску и продел её в одну из петель. Просунув доску в отдушину, казак повернул её так, что она легла поперек, превратившись в перекладину виселицы. После этого он сунул голову в петлю и, поджав ноги, повесился.
А утром явился в комору к Ивану высокий худой татарин и спросил по-русски:
— Будешь бусурманиться, царевич Иван?
И Иван, похолодев от смертного страха ожидавших его мук, ответил:
— Не буду.
— Тогда ещё подумай, — сказал татарин, и вышел.
А после того, как татарин ушел, открылась дверь и в комору не внесли, а завели мужика лет тридцати, темно-русого, разноглазого, с поотвислой нижней тубой. Одет был мужик нарядно, ужаса и боли в глазах у него Иван не увидел.
Шагнув в комору, новый арестант поглядел бесстрашно и спросил громко, как будто не узником был, а вольным человеком:
— Кто таков?
Иван, на правах хозяина, отмучившегося в башне полмесяца, осадил наглеца:
— В избу войдя, здоровается тот, кто порог переступает. Ай, не христьянин?
Разноглазый смущенно улыбнулся и, шагнув в комору, проговорил примирительно:
— Ну, будь здоров хозяин. Изба твоя хоть и не велика, да крепка. Поживу у тебя, пока не выгонишь.
Иван, не видевший улыбки с тех пор, как оказался в Семибашенном замке, удивился, и в ожидании чего-то обрадовался. Не сильно, конечно. Просто на дне души колыхнулось у Вертунёнка что-то хорошее.
— Проходи, коль пришел, хоть и зван не был, — улыбнулся Иван в ответ. — Как звать-величать прикажешь?
— Князь Иван Васильевич Шуйский.
* * *
Принеся великие и страшные клятвы никому и никогда не открывать истинного своего происхождения, Анкудинов и Верзунёнок признались друг друзу, что один из них казак, а другой — стрелецкий сын. Однако решили перед турками стоять на прежнем и царское свое происхождение подтверждать до конца. Тимоша даже помог своему новому товарищу — он рассказывал ему обо всем, что удалось узнать и запомнить в книжнице Варлаама.
А Вергунёнок, хотя и не был столь грамотен, как Тимоша, — всего лишь умел читать и писать, — поразил Анкудинова прирожденным умением заставить других уверовать в то, что он — лишенный престола царевич. Случилось, что через несколько суток после появления Тимоши в пыточной башне пришли двое тюремщиков и приказали выносить на двор зловонную кадь. Первым порывом, овладевшим Тимошей, было — вскочить, схватить кадь за одну из пройм и вынести её вон — и тогда и вольный воздух вдохнешь и вырвешься из каменного мешка во двор. Но Иван, закинув голову, властно выкинул вперед руку и сказал по-татарски что-то такое, отчего тюремщики испуганно переглянулись и ушли.
— Что ты сказал ему? — спросил Тимоша.
— Не дело царским сыновьям таскать дерьмо. Вы можете убить нас, но не заставите и прикоснуться к кади.
И через совсем малое время тюремщики пригнали двух колодников, одетых в страшную рвань — полуголых, грязных, заросших длинными, спутанными волосами и бородами — и те, покорно подхватив кадь, выволокли её прочь.
С тех пор, как Тимоша появился у Вергунёнка, в комору перестали таскать битых и пытанных, а затем и вообще перевели их обоих в другую башню, одев на Тимошу халат и чалму, а Вергунёнка оставив в прежней одежде.
Новая комора оказалась больше и светлее старой. На полу лежали вытертые ковры с засаленными подушками, да и кормить их стали лучше.
Через некоторое время пришел к ним почтенный Рахмет-маалим и как ни в чем не бывало стал снова заниматься с Тимошей языками турецким и арабским и читать «Коран».
Вергунёнок, присоседившись, турецкому языку учился с удовольствием, но на «Коран» даже не смотрел, почитал за грех.
А когда оставались два подыменщика, сиречь самозванца, одни, то только о том думали и говорили, как им из неволи уйти. И решились они на превеликую дерзость, точно зная, что если замысел их удастся, то, может быть, окажутся они за воротами замка, а если не удастся — не сносить им голов. И, решившись, стали они ждать весны, а пока без конца обсуждали задуманное и ещё — спорили о том, что станут делать, вырвавшись на свободу. И оказалось, что хотя оба они — царские дети и оба одного и того же хотят взбунтовать Московское царство от края до края, — каждый из них совсем по-разному мыслит о сем великом деле.
* * *
— Да пойми ты, голова-шабала,[6] — говорил Тимоша Вергунёнку, — царя свалить могут только дворяне, кои вконец разорены поборами ради ратной службы, малые начальные люди, обобранные начисто дьяками да воеводами, стрелецкие десятники да сотники, что из-за безденежья и бескормицы готовы хоть сейчас к бунту свои полки подбить; попы, обретающиеся в скудных приходах, купцы середней руки да городские мастера, невесть за что несущие в государеву казну налоги.
— Ох, кого пожалел, князь Иван Васильевич, — с издёвкой отвечал Вергунёнок. Дворян да писцов, да попов, да купчишек! Эки страдальцы — с голоду опухают, голы-босы меж двор скитаются!
— А ты, Иван, зубы не скаль, то не шутейно тебе говорю — дельно, взаправду. Посуди сам: сидит на земле помещик — не князь, не боярин, малый служилый человек. И дана ему деревенька иди починок, а в той деревеньке десяток мужиков, ну пускай два десятка. И должны те мужики помещика прокормить-пропоить, одеть-обуть, жену его да детишек обеспечить, а ну, как у помещика детей не один-два, а пять, либо шесть?
— А у мужиков что же ни жён, ни детей нет?! — взрывался Вергунёнок.
— Ты погодь, погодь, — отвечал Анкудинов, — пока не о том речь, дойдем и до этого. Ты меня до конца послушай.
— Ну-ну, — говорил Вергунёнок и приподымал брови, скучая.
— Так вот, — продолжал Тимоша. — Помещик, скажем, сам-седьмой, а мужиков у него двадесять. И хорошо, коли сам помещик с плугом ходит да и урожаем бог милует, а ну, как поместник сей тунеядец и бражник? Да неурожай, да ему же и на войну идти? А на смотр надобно ему ехать конно и оружно и не в тягилее, а в кольчуге, в шеломе и на коне добром. А где ему всё сие взять, когда трех урожаев не хватит, чтоб добре ему одному на войну снарядиться?
И приезжает тот поместник на государев смотр, а там любой пищик, на него глядя, зубы скалит, и срамят его бояре да думные дьяки и лают, а то и бьют на виду у иных многих. Сам я не однорядь зрел: сидит такой воин на кляче, в латаном тягилее, с дедовским мечом на бедре, а боярин, что смотр учиняет, кулаками перед носом его машет, бородою трясет, смотрит зверообразно и орет: «Заворовался, тать! Захребетником в деревеньке сидишь! Государевой службы не блюдешь! Бражничаешь да ерничаешь, сучий сын!» А передохнув, пужать начинает: «Собью тебя, вора, со двора, иного — доброго человека — на землицу твою посажу, а тебя в яму метну, покуда протори государю не выправишь!»
И сползает поместник с коня, бухается боярину в ноги: «Не погуби, государь, не вели казнить, вели миловать! Вот те крест святой, приеду вдругорядь в кольчуге и с самопалом и на коне добром».
Уезжает со смотра поместник, а каково на сердце у него? Каково на душе? Живым бы того боярина сжевал и собакам на прокорм выплюнул.
— Ох, бедный поместник, ох, несчастный, — скоморошничал Вертунёнок. А вернется в деревеньку — семь шкур с мужиков спустит, а к следующему смотру явится и конно и оружно.
Тимоша все слышал, но сказанное Вергунёнком как бы мимо ушей пропускал.
— Ты дале слушай, Иван, — досадливо морщась, продолжал Анкудинов.
— А возьми пищиков да подьячих, да ярыжек, да иных малых приказных людей, что по всему царству сидят.
— Как пауки сидят, — перебивал его Вергунёнок. Тимоша отмахивался:
— Много ли подьячих видал? Пошто говоришь непотребное, всех! — подравнивая под одного-двух кровопивцев? Грабят и приказных людей большие государевы люди — бояре да думные дьяки, да скольничьи. И даже более того скажу: есть и среди ближних царю людей некоторые недовольные: иные себя обделенными считают, другим не в честь места дадены, третьи — немецкие государства почитают порядочными против нашей бестолочи да сумятицы, и из-за того и Думу и самого царя полагают не способными государственные дела править.
И в войсках — то же самое: сладко пьют да едят лишь большие воеводы да полковники, а ратные люди — стрельцы, пушкари, воротники, затинщики, а вместе с ними и десятники их, а то и сотники по два-три года корма от царя не получают и живут всякими промыслами — кто огородничает, кто пасеку держит, кто торговлишку ведет. А злость на царя и бояр тоже впрок копит.
А попы, что в нищих селах приходы держат? Да их, порой, от простых мужиков не отличишь — они и землю пашут, и сено косят, и стога мечут. А глядя на иерархов тучных да в нарядные ризы облаченных, нечто не понимают они, кто во всем этом виноват?
Вергунёнок кряхтел, скреб потылицу, усмехаясь загадочно, крутил головой.
— А возьми купцов или ремесловых людей — разве они с чистым сердцем отделяют от плодов рук своих немалую долю неведомым им тунеядцам, что в праздности всю жизнь проводят возле царя?
— Ну, ты купцов с ремесленниками не ровняй, — возражал Вергунёнок. Ремесленный человек с утра до ночи кует ли, пилит ли, ладит ли что, а купец от трудов его живет. Покупает у рукодельца за полтину, а продает за семь гривен.
— Это если его по дороге не ограбят, али не убьют до смерти, стоял на своем Тимоша. — Да мыт с него возьмут, да лошадей ему кормить, да за поклажу амбарное платить, а если по воде товар везет, то возьмут и с плота, и причальное, и побережное, а со скота и роговое, и пошерстное. И хоть невелик каждый такой побор, а собери вместе — и не растечешься.
Вергунёнок слушал и чуял в словах Тимоши правду, ибо знал все это новый его товарищ, не от чужих людей слышал, не в книгах читал — видал собственными глазами и прочувствовал собственным сердцем.
Бедных дворян, приезжавших весною и осенью на государевы смотры или, как посмеиваясь называл их Иван Исакович Патрикеев, — «марсовы позорища», видал Тимоша неоднократ. В пищиках и подьячих сам просидел чуть ли не полтора десятка лет, знал об этом сословии все до тонкости. И когда о сём вспоминал, видел и многих товарищей своих, и дьяков, и некоторых ближних государевых людей, с кем доводилось напрямо о жизни говаривать.
И торговых людей приходилось ему видывать, и бедных попов, и умельцев.
Говорил Тимоша и жизнь его вставала перед глазами: видел он дьячка Варавву, что учил его грамоте, и владыку Варлаама, пищиков из воеводской избы и князя Сумбулова, дядю своего Ивана Бычкова, сладившего владыке дивный часозвон, и плотницкого старосту Авдея. Видел и иных многих, кого встречал он на жизненных путях и перепутьях. А более всего утвердил его в мысли, что сбросить царя могут только вольные люди — дворяне, купцы, посадские и паче всех — недовольные царем вельможи — Адам Григорьевич Кисель. Он рассказал Тимоше, что без вельмож и дворян Речи Посполитой король не смеет и пальцем пошевелить. А когда увидел Тимоша короля Владислава, одетого в темное платье, без сияния камней и самоцветов, без золота и серебра, без посоха и короны, без скипетра и державы — уверовал, что и на Руси только вольные сословия могут не просто утеснить царя, а и с трона сбросить. А заместо прежнего — самодержавного, принудящего, неволящего — изберут вольные люди нового царя — Ивана Васильевича Шуйского, который бы решал всё соборно и никого ни к чему неправдою и удрученьем не принуждал.
А Вергунёнок все это понимал по-иному. Хоть причина у него была одна и та же, что и у Тимоши — его собственная жизнь, однако совсем по-иному прожита. Сколько себя Вергунёнок помнил — колотили его, ломали, уничижали и смиряли как могли. И сколько себя Вергунёнок помнил — бил он своих обидчиков как только мог, и крепился, и не сгибался, и стоял на своем до конца. А били его и отец, и мать, и хозяева, у которых он сызмальства батрачил, и сотники, и кошевые, и куренные, и полонившие его крымцы, что гнали точно скотину, накинув на шею аркан и подхлёстывая нагайкой. И потому в каждом человеке, которому дана была власть — по праву ли рождения, по воинскому ли старшинству, по божьему ли соизволению — видел Иван врагов рода человеческого. И почитал таковыми и зловредных родителей, и жестоких начальников, и неправедных священников. И оттого, споря с Тимошей, говорил:
— Обо всех ты сказал, Тимофей. О самых главных забыл: о страдниках, что хлебом весь мир кормят, и о казаках, что весь тот мир саблей и телом своим боронят. Они-то, Тимофей, и скинут бояр да царя, а все иные этому делу не подмога. Я почему себя царевичем объявил? Знал, что иначе сдохну в Чуфут-Кале, живым в каменную могилу попав. Знал, что только царевичем выпустит меня на волю владелец мой. А когда хан Бахчисарайский в то поверил, стал я все более голос крови царской в себе чувствовать. И чуя это, стал я по-иному на людей глядеть. Да только как? Страшился увидеть всех рабами, холопами, кабальной сволочью. Хотел видеть возле себя вольницу, свободных людей, смелых да гордых. В мечтах моих видел себя казацким да мужицким царем, а для мужиков да казаков все те людишки, о которых ты балл — не более чем вши да клопы на теле народном, окроме разве ремесленных. Тимоша, взрываясь, кричал:
— Когда бывало, чтоб царский престол сокрушали пахотные мужики вместе с такими же сермяжниками, кои сохи пометав, самоуправно назвали себя казаками да подались в степь воровать и грабить?
— А когда царей купчишки да подьячие с трона скидывали?! — кричал Вергунёнок.
— Сколь раз бывало! И Фёдора Годунова, и Дмитрия — родного твоего батюшку, — со алым лукавством кричал Тимоша, — они же и убили.
— А заводчиком в том деле твой родной дедушке был, — не оставаясь в накладе, в тон Тимофею отвечал Вергунёнок.
И споры эти иной раз кончались смехом, а иной раз — дракой. Тюремщики, заслышав шум, открывали двери и подзадоривая драчунов, восклицали:
— Машаллах! Лахавлэ! — а затем сообщали начальнику тюремной стражи Чорбаджи Азиз-бею, что двое царевичей-урусов опять побили друг друга. Чорбаджи щурился, как сожравший барана барс, крутил пушистые усы, улыбался:
— Машаллах! Два гяура выбивают друг из друга пыль! Пусть сидят вместе дальше, скапливая яд, подобно скорпионам весной.
А «скорпионы» ждали весны, чтобы свершить задуманное…
* * *
Тимоша постучал в дверь робко, чтобы не разбудить спящего в конце коридора стражника. На стук отозвался другой, который, бодрствуя, шастал по коридору мимо железных дверей, заложенных коваными щеколдами.
— Что нужно? — спросил неусыпный тихо, тоже не желая будить спящего товарища.
— Позови хакима, ага, — вопросил Тимоша, — сильно заболел мой сосед.
— Какой ночью хаким? Спят все. Утром придет Чорбаджи Азиз-бей и скажет, что делать с урусом.
— Тогда хоть воды принеси, ага. Голову ему смочу — горит у него голова.
Страж потоптался нерешительно и ушел. Вскоре дверь тихонько приотворилась и беспечный капы-кулу вошел в камеру. За дверью, на серой стене коридора дымно полыхали редкие светильники. И хотя горели они тусклым желтым пламенем, все же, погруженная во тьму, камера показалась стражнику глубоким, плотно закрытым сверху колодцем. Стражник сощурил глаза и протянул вперед наполненную водой глиняную кружку…
Когда он очнулся, все ещё было темно. Капы-кулу почувствовал, что он лежит совершенно голый, во рту у него какая-то тряпка г пырты, а руки и ноги крепко обмотаны веревками. Причем руки завернуты за спину и привязаны к приподнятым лодыжкам. Капы-кулу с трудом различил дверь и стал медленнее улитки подвигаться к ней. Оказавшись на полу рядом с дверью, он вдруг понял, что даже постучать ему нечем — так ловко взнуздали и стреножили его проклятые гяуры. Тогда, подкатившись вплотную к дверям, он заплакал от унижения и обиды, и стал стучать по железу большой бритой головой, на которой неверные собаки не оставили даже тюрбана.
* * *
Их поймали под утро, на дороге в Бюйюкдере, откуда они намеревались отплыть на Афон. Делибаши из береговой охраны, не найдя у пойманных ничего, кроме небольшого золотого крестика, прежестоко их избили и, оковав в железа, повели к менсугату-баши — начальнику морской пограничной стражи. Менсугат-баши отправил беглецов в Семибашенный замок, так как его успели известить, что ночью оттуда бежали двое урусов, облачившись в одежду правоверных и едва не убив тюремного стража.
Когда золотое солнце взошло над садами и дворцами Стамбула, народ, собравшийся на площади перед дворцом султана, видел, как ловко младший помощник палача Сейфуджи-ага одним ударом отрубил голову черноглазому гяуру, а второго гяура — с разноцветными глазами и отвисшей от страха нижней губой — шесть раз по двенадцать ударил палкой по пяткам, и оковав в тяжелые цепи, сбросил на телегу, стоявшую под помостом.
Побитый палками гяур лежал недвижно, закрыв глаза, и не видел ни солнца, ни синего неба, ни зеленых платанов и кипарисов, что стояли по обеим сторонам дороги, ведшей от помоста возмездия к Семибашенному замку.
* * *
Больше года просидел Тимофей Анкудинов в земляной яме, в тяжелых цепях, с толстой деревянной колодкой на шее. Стал он худ, грязен до синевы, оброс волосами — и более походил на лешего, чем на человека. А с ним рядом томились и умирали люди, давно уже потерявшие всякое подобие человеческого образа. Они дрались друг с другом, как голодные псы, за кусок лишней лепешки, за гнилое яблоко, за глоток воды.
А Тимоша с самого начала понял, что уподобиться им — значит умереть. И он ел и пил только то малое, что давали стражи, не двигаясь, когда начиналась свалка вокруг объедков, брошенных каким-нибудь сердобольным прохожим. А по ночам, когда затихали вокруг него несчастные узники, он лежал с закрытыми глазами ивспоминал. Он лакомился хлебом мудрых притчами, проповедями, пророчествами.
«Сердце мое трепещет во мне и смертный ужас напал на меня. И я сказал: „Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился. Далеко удалился бы я и оставался в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и от бури“.
Я погряз в глубоком болоте и больше не на что встать, вошел в глубину вод и быстрое течение увлекает меня. Я изнемог от вопля; засохла гортань моя. Ненавидящих меня без вины — больше, нежели волос на голове моей; враги, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать…
Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей.
Я пролился, как вода, и кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось как воск и растаяло в груди моей. Сила моя иссохла, как глиняный черепок, язык мой прилип к гортани, ибо псы окружили меня, скопище алых обступило меня, пронзили руки мои и ноги».
Мудрость печали и песни скорби приходили на память Тимоше в грязной яме, закрытой сверху железной решёткой. Но была и другая мудрость мудрость надежды и веры, о которой он не вспоминал, но которая оказалась сильнее отчаяния и скорби.
8 августа 1648 года корпуса янычар, выйдя из казарм с перевернутыми в знак неповиновения котлами, низложили султана Ибрагима, а ещё через десять дней князь гнева — главный пала? Империи османов удавил бывшего падишаха вселенной ремнем из змеиной кожи. Султаном был провозглашен восьмилетний сын Ибрагима, возведенный на трон под именем Мухаммеда Четвертого, а правителем государства стал руководитель заговора капудан-паша. Кападжилар.
Новый султан велел выпустить на волю всех заживо погребенных в ямах, подвалах, застенках и коморах Семибашенного замка.
Среди толпы призраков за ворота крепости вышел и невысокий, жилистый мужчина, темно-русый, желтолицый. Отойдя от ворот замка, он постоял немного, запрокинув голову и подставив лицо солнцу, а затем медленно повернулся и осторожно, будто шагал босыми ногами по битому стеклу, чуть пошатываясь, пошел к Босфору.
Глава шестнадцатая. Феодосий
Христо подобрал Тимошу в гавани еле живого. Всю дорогу до мыса Агион-Орос Тимоша почти недвижно лежал в тесной каюте капитана и тяжкие думы беспрерывною чредою накатывались одна на другую. Он вспомнил, как сожгли юроды их избушку, как мытарились они с матерью на Лешачем болоте, как бежал он из Москвы, преследуемый смертным страхом погони и казни, как измывались над ним в Буджакской степи пьяные до беспамятства волохи. Он вспомнил Семибашенный замок, истерзанных палачами узников, гибель друга своего Ивана, собственные свои муки на базарном помосте Истамбула и, вспомнив все, — задумался. «Почему, — думал Тимоша, — не помогают мне ни ум, ни сноровка? Почему, напугавшись невесть чего, выгнал нас из Варшавы пан Кисель? Почему не захотел держать на своем дворе Азем-Салих паша? Почему казнили Ивана Вергунёнка, хотя Иван мог принести туркам немалую пользу, если б не пытались басурмане столь скоро подмять его под себя?» Думал и не находил ответа.
— Собирайся, брат, — прервал невеселые его думы Христо. Афон — вот он, рукой подать. Тимоша слабо улыбнулся:
— Мои сборы — онучи да оборы. Немного ныне у меня добра, Христо.
— Ничего, брат. У нас говорят: «Кого бог полюбит — нищетою взыщет». Так-то и к разбойникам попасть не страшно: что с голого возьмешь?
— На Афоне — Святой горе, какие ж разбойники?
— Э, брат, этого я тебе не скажу, сам скоро узнаешь, — засмеялся Христе.
Тимоша задумался.
— А знаешь, брат, мне ведь ни в один из монастырей и показываться нельзя. Словят меня недоброжелатели мои и прощай воля! Нет, не воля жизнь прощай.
— А куда же тебе деваться, бедовая твоя голова?
— Возьми меня к себе на корабль, Христе. Я тебе всякую работу стану делать.
Христе задумался. Поглядел на Тимощу — худого, серолицего. Сказал ласково:
— Ты, брат, ныне ни к какой работе непригоден. Поживи месяц-другой на берегу, на вольном воздухе, под солнышком, у моря, а там почему бы и не взять тебя в работу?
— Будь по твоему, — сказал Тимоша.
А что ему ещё оставалось?
* * *
Христе повел Тимошу по узенькой каменистой тропочке в горы. Они долго шли молча. От ароматов теплой земли, высоких нетронутых трав, деревьев и кустов, покрытых диковинными душистыми плодами, у Тимоши кружилась голова и останавливалось дыхание.
Далеко внизу осталась фелюга Христе с косым крылом паруса, совсем маленькие лодки рыбаков и белая россыпь чаек — таких маленьких, будто кто-то сыпанул щедрой ладонью серебряную рыбью чешую и она поплыла, посверкивая на солнце.
Христе присел на ствол большого старого дерева, лежавшего поперек тропинки.
— Старец, к которому тебя сведу, — сказал Христо, — живет один, в пещере. Пришел он на Афон из Литвы, попросился жить в ваш, русский, Пантелеймонов монастырь, но не прожил и полугода: изгнала его братия за гордость и мудрствования.
— И что же стало со старцем потом? — спросил Тимоша.
— Сначала стал он жить у рыбаков, а потом ушел в горы, занял пещеру, в какой жил до него схимник-болгарин, да незадолго до нынешнего лета помер.
— А как ты познакомился со старцем? — снова спросил Тимоша.
— А я к болгарину-схимнику часто хаживал. То рыбы ему приносил, то овечьего молока, то брынзы. Когда узнал, что схимник помер — пошел вместе с другими многими хоронить его. А ещё через сорок дней помянуть решил и отправился к пещере. А в пещере его, гляжу — новый схимник живет. Покойный отшельник — отец Георгий — белый был, а перед смертью волосы его даже желтеть от старости начали. Тих был, голубоглаз, нетороплив и ко всем на свете добр. А как на нового старца поглядел — страшно стало. «Никак, думаю, — гайдук, или атаман какой пришел на Афон грехи замаливать». Ростом высок, волосом чёрен, глазами — страшен. И хоть испускает очи долу, а как взглянет — холодно становится.
— А звать его как? — спросил Тимоша.
— Отец Феодосий.
* * *
Когда Тимоша и Христе пришли к пещере, они увидели распахнутую дощатую дверь, в прорубленном окне не было ни пузыря, ни слюды.
В пещере не оказалось ни икон, ни распятия. Стояли стол да скамья, у стены — горшки да вёдра. На столе глиняный шандал, в нем оплывшая восковая свеча. Рядом — медная чернильница и кучка гусиных перьев.
У входа в пещеру лежало бревно. Тимоша и Христе уселись покойно, сняли онучи, вытянули уставшие ноги.
Вскоре из леса вышел некто — худой, прямой, в старой черной рясе до пят.
— Он, — сказал Христе.
Тимоша, не сводя глаз, следил, как быстро и молодо шал к ним черноризец. В одной руке он нес корзину, в другой — березовый туес. Подойдя близко, поставил корзину и туес наземь, сложив руки на груди крестам, низко поклонился.
Тимоша и Христе поднялись с бревна, в ответ поклонились ещё ниже.
— Благослови, отче, — пробормотал Христе и, склонив голову, шагнул вперед.
Старец сказал резко:
— Недостоин аз благословлять. — И взглянул на Тимощу, будто к стене пещеры гвоздями прибил.
«Не может того быть!» — подумал Тимоша, и как во сне или в каком наваждении поглядел в глаза схимнику. «Он — черноризец, вологодского воеводы собинный друг!» Старец глаз не отвел и в лице ничуть не переменился. «Не узнал! — почему-то обрадовавшись, подумал Тимоша. — Слава богу, не узнал».
* * *
Феодосий согласился оставить Тимошу у себя. Так и зажили они вдвоем, в пещере, над синим Эгейским морем, в которое ещё до рождества Христова бросился несчастный греческий царь Эгей, узнав о смерти любезного своего сына Тесея.
Феодосии был молчалив, и больше спрашивал, чем говорил о чем-либо. Тимоша, не сознавшись сразу, что угадал с первого взгляда, кто перед ним, чем дальше, тем больше пугался признаться в этом, и потому, чтобы не запутаться, отвечал коротко и односложно. Он сказал, что попал к туркам в плен и сумел бежать, а родом сам из Москвы, однако родителей своих не знает. Сказал, что проживет он здесь месяц-другой и пойдет в Болгарскую землю, где в Рильской обители ждет его верный друг по имени Константин. Феодосии рассказом удовлетворился и ни о чем более Тимошу не расспрашивал. Однако через несколько дней Феодосии понял, что в пещере его свила себе гнездо птица не простого полета. И впервые мысль об этом мелькнула у старца, когда сидели они вдвоем на бревне, глядели на большие яркие звезды и Тимоша, водя перстом над головою, раскрывал Феодосию тайны великой науки звездочтения.
А ещё через три дня принес Феодосий полный туесок взваренного на малине мёда, и греховно хохотнув, достал из-под полы, завернутую в чистую холстину баранью ногу.
Поближе к ночи святые отшельники в неглубокой ложбинке, неподалеку от пещеры запалили костер и, настругав свежанины, стали жарить её на угольях, запивая крепкой и духовитой медовухой.
От слабости, от долгого к вину воздержания Тимоша опьянел, выпив несколько глотков дьявольского варева. Глядя на Феодосия, он вдруг решил напугать его — шутейно, не всерьез, — показав себя магом и чародеем.
— А что, брат Феодосий, хошь по глазам твоим правду о тебе скажу, как в книге прочитаю?
— А грамотен ли по глазам читать? — приподняв густую бровь, шутливо спросил Феодосии.
— А то ты сейчас узришь, — ответил Тимоша, и, пробормотав нечто невнятное, тарабарское, выкрикнул, глядя прямо в глаза Феодосию:
— Вижу град деревянный и домы деревянные же. Вижу гридницу, полную дыма и чада. Вижу пьяниц и сквернословов и непотребных жёнок простоволосых и играющих очами. Вижу некоего мужа — ликом скверного, ростом низкого, с бородою скопца. Держит муж кружку серебряную, а на кружке — надпись: «Век жить, век пить!»
Тимоша сощурил глаза, будто вчитывался, и полушёпотом произнес:
— И ещё вижу надпись на ендове той: «Пить — умереть, не пить умереть; уж лучше пить, да умереть!»
Феодосий молчал. Сощурив страшные глаза, смотрел на Тимошу неотрывно. Голосом, полным таинственности, протянув над огнем руки, Тимоша произнес прикрыв глаза:
— Вижу мужа неказиста, в мужицком рядне, в лаптях и сермяге. Мечется муж промежду крестов, на кладбище ночью. Вижу и тебя, брат Феодосии. Вижу, однако и уже не виден ты мне — проваливаешься сквозь землю!
Феодосий побелел лицом, как подломленный упал на бок, безумными глазами зашарил по лицу Тимоши.
— Кто ты, сатано?!
— Царевич я. Иван Васильевич Шуйский.
Не узнал Тимофея Анкудинова старец Феодосий, сколько ни всматривался в лицо его, сколько ни вслушивался в его голос. Да и откуда было узнать ему в изможденном и оборванном, обросшем бородой тридцатилетнем беглеце из турецкой тюрьмы, нарядно одетого безусого мальчика, встретившегося Феодосию пятнадцать лет назад за столом у вологодского воеводы?
И долго-долго глядел в лицо спящему царевичу схимник Феодосии, впервые в жизни воочию увидев чудо проникновения в тайну времени.
— Как прикажешь звать тебя ныне? — спросил Феодосий, когда Тимоша открыл глаза — Тимофеем, или же Иваном Васильевичем?
Тимоша помолчал немного, припоминая случившееся минувшей ночью. Вспомнил не все, но многое. Сказал строго, согнав с лица и тень улыбки:
— Царевич я. Василия Ивановича Шуйского сын. Московского престола законный хозяин.
И сев на лавку, стал рассказывать Феодосию то, что уже слышали от него ранее польский канцлер и турецкий визирь.
Феодосий слушал молча, опустив глаза. Когда Тимоша рассказал об освобождении из Семибашенного замка и о том, какие сомнения одолевали его в каюте фелюги, плывшей от Константинополя к Афону, Феодосии, хрустнув пальцами, сказал:
— Это, царевич, хорошо, что привела тебя судьба ко мне, смятенному умом и сердцем. Ты прочитал в книге судьбы моей то, что от простого смертного закрывает пелена времени. Я же расскажу тебе, почему ни ум твой, ни сноровка не помогли тебе получить прародительский престол. Слушай.
* * *
Первое, что помнил Феодосий из жизни своей, была темная ямина с малым пятном света где-то вверху, кислый залах прогнивших лохмотьев и безносые, безглазые, беззубые лица нищей братии.
Потом в памяти Феодосия появились дороги и паперти, заброшенные овины и часовни, черные обезлюдевшие избы и лесные скиты, по которым гнала злодейка-судьба маленького, вечно голодного поводыря артели нищих-слепцов, большей похожей на ватажку разбойников.
Потом он вспомнил острог, и первый правёж батогами — вполсилы, из жалости к мальчишечьим его годам. И хоть знал он пословицу: «Батожьё дерево божье, терпеть можно», — решил: более ни батогов, ни бродяжьей нищенской жизни — не потерпит. И в первую же ночь, не долежав на рогоже и до утра, ушел Феодосии от товарищей своих искать счастья-истины.
Пришел Феодосии на берег Студеного полночного моря и на утлой ладье, с таким же, как он, странником поплыл к затерянной обители, построенной вероучителями Зосимой и Савватием на Соловецком острову. Известь сколько мотало ладью по морю. И уже прочитали Феодосии и его спутник отходную молитву и приготовились к смерти, как ветер стих, и совсем рядом увидали они землю.
Творя молитву за чудесное спасение, подгребли странники к берегу и упали без сил на чахлую траву, под ветви низкорослых берёз.
Это оказался остров Малая Муксалма. А неподалеку от него, на другом острове — Соловецком — у светлого Святого озера стояла и обитель.
Феодосия и спутника его Харитона взяли в монастырские трудники и определили в дубильню — делать для братии кожи — на сапоги, на тулупы, на полушубки.
В обшитых тесом ямах в растворе дубовой коры мокли по месяцу и более коровьи, овечьи, козьи, собачьи, медвежьи и волчьи шкуры. Дух в дубильне стоял такой, что и с острожным сравнить было нельзя. В чаду и дыму, в шуме мельницы, крошащей на мелкие щепы дубовую кору, стал Феодосии с тоской вспоминать полынные ветры степи и смолистый дух сосновых лесов.
Пробовал Феодосий подойти к старцам, что работали в книгописной мастерской, пробовал между воскресными службами заговорить с иеромонахами о счастье и об истине, но те либо молча отходили от пропахшего кислыми кожами трудника, либо смеялись обидно. И тогда ушел Феодосии из Соловецкой обители прочь, и пошел по Руси от монастыря к монастырю и от города к городу. И скитаясь так, без малого десять лет, увидел он и услышал столько, сколько иной не узнал бы и за сто.
В Соловецком монастыре Феодосий научился читать и не упускал ни единой возможности полистать любую из попадавшихся ему книг.
Вскоре он понял, что в книгах столь же мало согласия, сколь и в жизни. Он понял также, что почти все книги — сами по себе, а жизнь — сама по себе. И он стал искать ту Главную Книгу, которая объяснила бы, что вокруг происходит, и почему все так подучилось.
Кто завертел волчком краски и ароматы цветов, людское счастье, крики раненных зверей, утренний благовест, свет солнца, плач ребенка, тепло земли и мертвенное бесплодие камня?
Кто завернул в лохмотья одних, надел порфиры на плечи других? И кто отправил на костер и плаху рожденных в царском тереме и возвел на трон родившихся в поле? Он спрашивал и искал, читал отцов церкви и ересиархов, вдумывался в смысл гадательных книг, прикоснулся к алхимии и астрологии. И преуспев в последней, стал знаменит на всю Москву.
Гнилью и тленом дышало древлее византийское благочестие, пытаясь скрепить расползающуюся рогожную Русь страхом. «Псалтырь» и «Домострой» казались допотопными писаниями даже еле бредшим по азбуке заволжским поместникам, опухшим от долгих снов, от скуки, от водки и от великого безделья.
Тем более жадно искали истину в Москве, в Новгороде, во Пскове. Молодые дворяне, исколесившие пол-Европы в государевых посольствах; торговцы, побывавшие в немецких землях, грамотеи-попы, стыдившиеся знакомства со своими товарищами, не умевшими читать и писать, жадно ловили каждое новое слово, откуда бы оно ни шло — от впавших ли в ересь новгородских старцев, восхвалявших Моисеево пятикнижие, или же от литовских социниян, отвергавших Святую Троицу и божественность Христа.
Вот тогда-то и появился среди московских любомудров черноризец Феодосии — вельми ученый муж, до тонка познавший великую науку острологикус.
Плещеевы, Ртищевы, Беклемишевы (поговаривали и о Морозовых, и о Нарышкиных, и о многих иных сильных людях) слушали старца Феодосия, зря в латинскую далеглядную трубу, прозванную тем не менее греческим именем «телескопе».
Однако и из Москвы пришлось Феодосию уйти, ибо о тайных сборищах острологиков прознали патриаршие псы, а после того оставалось ждать либо монастырской тюрьмы, либо кремлевского застенка.
К тому времени собинный друг Феодосия, Леонтий Плещеев, познавший от него азы нового учения, государевым соизволением получил в кормление Вологду, и черноризец отправился к новоиспеченному воеводу.
Что произошло в Вологде, мы знаем. Страшась длинных рук Варлаама, Феодосий бежал в Польшу и поселился в твердыне польских ариан — Ракуве.
* * *
— В Ракуве, Иван Васильевич, ариане, или же, как мы себя называли, «польские братья», — жили, почитай, двести лет. Построил для нас то местечко и поселил там крепко приверженный арианскому учению дворянин Ян Семенский. К нему-то, в Ракув и сбежались со всей Европы те, кто исповедывал истинную веру, открытую Лелием и Фаустом Социнами.
— Стало быть, есть истинная вера, брат Феодосии? — спросил Тимоша. И по тому, как он это сказал, было не ясно — всерьез он говорит или шутит.
— Есть истинная вера, Иван Васильевич. Есть.
— Чем же она лучше прочих? — снова так же непонятно спросил Тимоша.
— А вот чем.
Феодосии сунул руку в один из стоявших рядом глиняных горшков и достал оттуда свернутую трубкой тетрадь.
— Сам прочтешь, или мне читать?
— Что ты, Феодосий. Если не пойму чего, то враз о том и спытаю.
Феодосии положил тетрадь на стол, крепко прижал ладонью, Однако перед тем как раскрыть, сказал:
— Прежде чем начну читатъ, хочу сказать тебе, Иван Васильевич, нечто. В тетрадь эту выписал я самое важное из того, о чем писали ученики Лелия и Фауста. Были среди них и поляки, и итальянцы, и литвины, и русские, и немцы, но суть их всех была одна — они считали всех людей земли братьями, звали всех жить в мире, и поклоняться тем богам, которых люди выбирали сами себе в зрелом возрасте и в здравом уме.
— Как так? — спросил Тимоша.
— А так, что если ты родился в православной семье, то не следует тебя, несмышленого и бессловесного тащить в церковь и крестить по обряду твоих родителей, а нужно подождать, пока ты вырастешь и по здравом рассуждении сам выберешь себе веру.
— Как Христос? — догадался Тимоша.
— Не только как Христос. И пророк Моисей, и пророк Мухаммед, и Будда — индийский вероучитель — все обретали истину через божественное откровение возрастом не в две недели и не в три, а будучи мужами мудрыми, посвятившими поискам истины многие годы.
— Сие разумно, брат Феодосии. Однако, если только в этом смысл вашего учения, то далеко ему до всеконечной правды.
— Не спеши, Иван Васильевич.
Феодосии хмуро глянул на Тимошу и медленно протянул через стол тетрадь.
— Читай сам. А я пойду на вольный воздух, на божий свет. Феодосии вышел, и Тимоша, услышав, ник посыпались камешки из-под его ног, понял, что отправился черноризец к морю ставить сети. «Не скоро теперь вернется» подумал Тимоша и пододвинул к себе тетрадь.
* * *
«Все люди земли — дети бога и нет для него ни пасынков, ни падчериц, все ему — сыновья и дочери. А ныне, когда существует столько христианских церквей — какая из них может объявлять себя единственно истинной? Католики считают только себя верными слугами Христа и подлинными учениками. Православные полагают, что лишь они сохраняют христианство в чистоте и обвиняют католиков в схизме. Лютеране и кальвинисты, гугеноты и цвинглиане предают анафеме и католиков, и православных, объявляя всех не согласных с ними еретиками, а папу — антихристом.
Какая же из церквей может притязать на авторитет, которым пользовались апостолы?» (Сие речено Самуелием Пшипковским, секретарем короля Владислава).
Далее шла вторая запись.
«Кто отказывает другому в мире и говорит, что он уничтожит его, дает своему противнику такое же право, ибо где нет места для законов мира, там действуют законы войны. Однако в войне нет спасения ни для одной из враждующих сторон». (Сие писано Янусом Крелием).
«Христос был простым смертным, подобно тому, как были простыми смертными пророки Моисей и Будда — и после Христа — Мухаммед. А троица, коя есть поповское хитросплетение отца, сына и святого духа, — есть глупость, злокозненное устроение, измышленное ленивыми и алчными иереями.
Таковым же устроением является и созданная ими церковь, кою следует считать скорее домом дьявола, чем домом бога, ибо нет в поповской церкви ни любви, ни мира, ни добра.
Все люди суть у бога: и татары, и немцы, и прочие и нельзя распалять сердца их злобою друг против друга из-за того, что они по-разному поклоняются своему Творцу». (Сие писано Феодосией Москвитином, по прозвищу Косым).
Тимоша прикрыл тетрадь и вышел из кельи. «Вот они какие — польские братья, — подумал он. — Значит, когда бы я был рожден в доме кого-нибудь из них, то только теперь мне нужно было избрать для себя веру: принять крещение, или же, если оно не пришлось мне по душе — не принимать.
И разве считали бы они за грех, если б избрал я закон Магомета, в который турки обратили меня угрозой смерти?
И наверное, — подумал дальше Тимоша, — не нужно человеку принимать один какой-то закон — Моисея ли, Будды ли, Христа ли, — а знать все их, и тогда не будет на земле еретиков и схизматиков, гяуров и идолопоклонников, но все станут искать истину, ибо свет плоти — Солнце, свет духа — Истина».
* * *
Феодосий вернулся к вечеру. Они пожарили добытую им рыбу и сели на бревне у входа в келью. Молчали, думали.
Первозданная тишина стекала на землю со звезд. Где-то далеко-далеко чуть слышно шуршало море.
— Скажи, Феодосии, — тихо спросил Тимоша, — ту правду, что отыскали польские братья, как утвердят они в мире? И Феодосии ответил:
— Не знаю. Добром мир не принимает истину, а заставлять верить во что-нибудь силой — тоже нельзя.
— Но можно сначала искоренить неправду, а потом насадить справедливость и истину! — воскликнул Тимоша.
— Я знаю только одного человека, который сейчас пытается это делать.
— Кто он?
— Казацкий гетман Хмельницкий.
Глава семнадцатая. Снова вместе
Константин Евдокимович Конюховский, трудник знаменитой на всю Болгарию Рильской обители — в эту ночь спал словно каменный; вконец измотала его за прошедший день работа на монастырской конюшне. Хоромы, где спали монастырские трудники — пахари, плотники, огородники, кожевники, портомои, конюхи, садовники и прочий работный народ — были просторны, однако ж и народу в них лежало немало: едва не две сотни мужиков, развесив портища и всякую рвань, какой обматывают ноги, спали, храпя и стеная, в мешкотном шуме и великой духоте.
Проснулся Костя оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. Возле него стоял привратник, чья келья была выбита в толще монастырской стены у ворот в обитель.
Костя потряс головой, отгоняя сон, спустил с полатей ноги и спросил хрипло:
— Что стряслось, отче Борис, что будишь ни свет ни заря?
— Пришел середь ночи в обитель человек. Христом богом молил впустить. Замерзаю, говорит, умираю студеной смертью.
— Ну, а меня-то ты, отче, пошто разбудил?
— Говорит тот человек, что он брат твой названный.
У Кости ёкнуло сердце: неужели Тимофей? Выскочил на мороз скоро, старец за ним едва поспел. Добежал до ворот, откинул дверцу малую, кою звали монахи «неусыпным оком», и увидел в предрассветном сумраке незнакомого человека: бородатого, в ветхом азяме, в треухе рваном. Стоял человек скособочившись, опираясь двумя руками на суковатый посох.
— Кто таков? — спросил Костя.
— Костенька, брат мой названный, — тихо просипел бородатый и, приблизившись к отверстому «недрёманому оку», оказался лицом к лицу с Конюховым. Разного цвета глаза глянули на Костю и он, сорвав трясущимися руками щеколду, прижал к груди хворого и вконец застывшего странника.
* * *
Тимоша пролежал в монастырской странноприимной больнице более месяца. В больничном покое кроме него лежали и иные скорбные телом и головою люди. Поэтому он ни о чем не рассказывал приходившему к нему Косте, ожидая часа, когда выйдут они за стены обители и всластъ обо всем наговорятся.
И однажды, когда зима начала пятиться за укрытые снегом и льдом Рилъские горы, когда над узкими окошечками больничных покоев повисли веселые светлые сосульки и на камни монастырского двора стала, звеня, падать капель, Костя пришел к Тимоше с большим, туго набитым мешком, и они, взявшись за руки, вышли на синий свет, под золотое солнце.
Пройдя мимо церквей и келий, мимо архипастырских палат и общежительского дома, мимо многих служб и трапезной, мимо домов, где жили странники, послушники, трудники, — они вошли в баню и долго-долго плескались, мылись и просто так, ничего не делая, блаженствовали праздно, лёжа на каменных лавках и нежась в тепле, чистоте, свежести.
А потом Костя развязал мешок и с озорной улыбкой вынул рубаху, порты, сапоги — все новое, только что сшитое. И когда Тимоша надел все это, оказалось, что в мешке есть и ещё кое-что. Подмигнув другу, Костя озорно встряхнул мешок и в нем звякнули, стукнувшись друг о друга, штоф и шкалики.
Обогнув длинную стену обители, друзья свернули сначала на торную дорогу, потом на узкую тропинку и пошли к ближнему лесу, ещё мокрому и черному, но уже и высветленному робким пока ещё солнышком.
Разложив небольшой костерчик, друзья умостились на еловых лапах, как в давние лета возле Вологды, когда застигала их в лесу ночь, а земля была холодна и сыра.
В лесу пахло талым снегом, прелым прошлогодним листом, дымом костра и той невыразимой свежестью, какую приносят в самом начале весны летящие с полудня теплые ветры.
— Ах, друг мой Костя, — говорил Тимоша тихо, ласково глядя в глаза товарищу. — Здесь, вдали от ушей недобрых послухов и очей лукавых соглядатаев, поведаю тебе то, о чем в обители не смел и двух слов сказать.
И Тимоша, рассказал ему, как жил он в Царьграде, как неправдою заточили его в замок, как бежал он оттуда и был пойман, и бит нещадно палками, и как потерял он друга своего Вергунёнка, казака из Лубен царевича Ивана Дмитриевича.
Рассказал, как, выйдя за ворота острога, ушел в гавань Босфора и там добрый человек, болгарин Христо привез его на гору Афон. Рассказал о старце Феодосии, об учении польских братьев и о том, как однажды утром ушел он в ближнюю от пещеры гавань.
* * *
Капитан галеры — смуглый, усатый, кривоногий — в красной феске с черной кисточкой, в кожаных штанах с широким красным поясом и в черной шелковой рубахе с длинными пышными рукавами, зыркнул на Тимошу воровским атаманским глазом — круглым и злым.
— Я иду в Венецию и даром не повезу даже апостола Петра, а не только бродягу-паломника, — проворчал капитан.
— Тогда возьми меня гребцом, — сказал Тимоша.
Капитан пошарил глазами по плечам, по рукам, по торсу Тимоши и согласился.
* * *
— Ох, какой немалой оказалась плата за переход от Афона до Венеции, друг мой Костя. Республика воевала с Портой и любой турецкий корабль попади он нам навстречу — или бы утопил нас, или бы взял на абордаж. А там — новый плен и вечная каторга. Но — бог миловал, дошли благополучно, не считая того, что руки веслом стёр в кровь и все тело болело, как после пытки.
— А чего понесло тебя в Венецию? — спросил Костя. Тимоша опустил глаза.
— Христос сказал, — ответил он, помедлив, — «Познайте истину, и истина сделает вас свободными».
— А почему же в Венеции решил отыскать ты истину? — снова спросил Костя.
— Я не в Венецию шёл, — ответил Тимоша. — Я через неё в Рим пробирался. Там хотел узнать: «Что есть истина?»
— А почему в Рим?
— А потому, что все веры и все языки были для польских братьев равны и угодны, и лишь католическую веру почитали они анафемской, а палу римского объявляли антихристом. И я подумал: «Здесь что-то не то. Надобно мне самому разобраться: что это такое римская вера? Почему её одни столь зло ненавидят, а другие столь же яро обороняют? Ведь ежели бы ничего хорошего в ней не было, разве стали бы паре великие и мудрые народы поклоняться вот уже полторы тысячи лет?»
— И узнал?! — нетерпеливо воскликнул Костя.
— Узнал, — ответил Тимоша. — Только не всё.
* * *
Он провел в Риме полгода. Он ревностно искал ответа. Но ответа не было.
В пудовых фолиантах и тоненьких книжечках католических богословов шли бесконечные прения о предметах, не стоящих и выеденного яйца.
Тимоша понял, что католических священников более всего волнуют те же вопросы, какие приводят в неистовство и православных фанатиков. Только отвечают на эти вопросы и те и другие по-разному. Если православные утверждают, что святой дух исходит только от бога-отца, то католики считают, что он может исходить и от бога-сына. Если православные полагают, что всех верующих нужно причащать кислым хлебом и вином, крестить младенцев, погружая их в купель, одновременно совершая и мирропомазание, то католики считают, что хлеб для причастия должен быть пресным, а вином следует причащать лишь священников; при крещении детей нужно обливать водой, а мазать мирро не ранее, чем через восемь лет после крещения. Вокруг этих благоглупостей было наверчено ещё столько всякой чепухи, что Тимоша долго не мог поверить: неужели из-за признания или непризнания подобного вздора можно было сжигать живых людей на кострах, разрушать города и опустошать целые страны?
И когда после долгих и упорных поисков он не обнаружил ничего, что превратило бы католицизм в свет истины, он оставил Рим и пошел в Болгарию.
Он прошел через земли швейцарцев и владения дома Габсбургов, пришел в Семиградскую землю, где жили мадьяры и волохи, турки и саксонцы, однако правили всеми этими народами венгерские князья из фамилии Ракоци.
Покинув Семидградье, или Трансильванию, как ещё называли это княжество, Тимоша повернул на юг, в землю волохов, где и приключилась с ним последняя беда — ни темной ночью — среди бела дня, ни в лесу — на проезжей дороге — обобрали его лихие люди — гайдуки, отняв коня, одежду, деньги и оставив только малую суму с грамотками и опасными листами, что брал он от тех государей, через чьи земли шал в Рильскую обитель на встречу с другом своим Костей.
Рассказывал все это Тимоша и неотрывно в глаза Косте глядел.
И видел, что очи друга то светятся радостью, то туманятся горем, то ширятся от страха. И ещё раз понял Тимоша, что нет у него друга лучше Кости и, наверное, и впредь никогда не будет. И посуровев очами, сказал Тимоша другу:
— Шёл я и через магометанские земли и через земли люторские, видел и православные владения и католические, латинские страны, и понял я, Костя, что не в том суть, каким хлебом причащаются — пресным ли, квасным ли, и на минарет с полумесяц молятся, или же на храм с крестом. А в том истина, что повсюду есть правда и есть неправда и всюду сильные и богатые уничижают и мытарят слабых и бедных.
И есть только две веры и две вселенские церкви; одна для сытых и наглых притеснителей, другая для голодных трудников, где бы они ни жили.
И Костя, насупив брови, сказал:
— Так, Тимоша, оно и есть. Истинно так.
* * *
Потом Костя рассказывал о своем житье-бытье в монастыре, но ни радости, ни страха, ни горя в глазах его не было: два года с лишним — изо дня в день, пропуская лишь двунадесять великих праздников, да светлые христовы воскресенья, гнул он спину и набивал мозоли, труждаясь на монастырскую братию. И если б не Тимоша, что поклялся прийти обратно в Рилу, если останется жив, — ушел бы Костя куда глаза глядят.
И, слава Христу, дождался.
А потом выпили друзья по чарке и Костя спросил:
— А дале-то что делать станем?
— Дале? — переспросил Анкудинов и, сощурившись, стал молча глядеть на стелющийся по веткам огонь костра. Костя перехватил взгляд друга и ему показалось, что Тимоша видит такие дали, какие ему, Косте, не виделись и во снах.
— Путь у нас с тобой один, Константин Евдокимович, — к гетману Богдану Хмельницкому, в Киев, откуда начали мы наши странствия по чужим землям.
— А пошто нам гетман? — спросил Костя, не понимавший, почему именно в Киев должен лежать их путь.
— А потому, — ответил Тимофей, — что поднял гетман и вольных казаков, и подначальных людей, и крепких земле смердов на смертный бой за правду и вольность. А мы, выучившись возле гетмана, как волю для народа надобно добывать, пойдем с тем учением на Москву, и взбунтуем русское царство от края до края.
Тимоша вспомнил Ивана Вергунёнка и, рубя рукою воздух, сказал громко, будто не один Костя перед ним сидел, а стояли несметные толпы поднявшихся на бой бунтарей:
— И пойдем на царя и бояр всем скопом — казаков и холопов подымем, бедных попов и утесненных поборами купчишек, и ремесленных людей, и стрельцов, обделенных царским жалованием, и скуднокормных поместников.
Вобрал полную грудь воздуха — лесного, чистого, холодного — и выкрикнул:
— Победа! Слава! Воля!
И отзываясь на эхо этих слов, ударили в обители колокола, и Костя, пораженный столь диковинным знамением, сорвал с головы шапку и перекрестился — широко, вольно, истово.
А Тимоша шапки не снял — вздернул голову и, повернувшись, со скрипом, на крепком насте, увидел, что не деревья стоят вокруг него, а великаны, поднявшие к небу рубины и колья. И глядя, как качают головами подвластные ему чернорукие гиганты, слушая, как плывет над лесом победный звон колоколов, Тимоша распластал крестом руки и замер в неизведанном дотоле восторге.
* * *
Мал человек, и подобен пылинке на челе Земли. Рождается человек, и ничего ещё не понимая, видит над собою лицо матери, мягкие и теплые руки её, ощущает сладость материнского молока, и ещё не радуясь свету, пока что не пугается мрака. Затем он начинает различать голоса и лица других людей отца, бабушки, сестер, братьев. Улыбается теплу и солнцу, плачет от первых обид, ещё не осознанных, но уже задевающих его маленькое сердце.
Окно, печь, узоры на потолке, свет свечи, мяуканье кошки, шум ветра, лай собаки выводят его из блаженного полусна и бездумья.
И однажды те же руки, что подносили его к груди и укачивали, когда он не спал и плакал, вынимают его из люльки и ставят бережно на пол, а человек шагает вперед, начиная отмеривать предуказанную дорогу жизни, не ведая того, будет ли эта дорога коротка иль длинна.
А потом выбегает он на заросший травою двор, пугаясь петушиного крика и гусиного шипа. Но наперекор стразу все дальше и дальше от крыльца родимого дома уходит человек — к дальней околице, к речке, в рощу, к исчезающему за краем света большаку.
И вместе с тем, как раздается под небом мира его первый крик, начинают сплетаться с его человеческой судьбой судьбы живущих и минувшие жизни уже умерших людей. Родные, соседи, односельчане, обитатели ближайшего города входят в его судьбу, не спрашивая на то его соизволения, так же как и он входит в их судьбы, либо слегка касаясь, либо круто меняя, или даже переламывая их.
И если суждено человеку, родившись в своей деревне, тут же и умереть, несколько раз за всю жизнь оставив у себя за спиной её околицу, проплутав долгие годы по ближним тропинкам, то судьбы немногих людей свяжет он с самим собою, и на жизни немногих других наложит свой след. И немногих умерших будет знать он — деда, бабку, старых земляков, переселившихся из соседних изб в соседние же могилы на ближнем погосте.
И после того, как отправят его в последний путь, то память о нем добрая ли, худая ли, хотя и может жить долго, только помнить дела его будут немногие — те, с чьими предками пересеклась судьба усопшего.
А если выйдет человек в необъятный мир, и крышей будет ему небо, а границами — океаны, то сонмы судеб живых и мёртвых пересекутся, переплетутся и повяжутся с его судьбой, ибо дорога его — не малая тропинка, а путь человечества.
И в жизни такого человека непременно наступит время, когда он, начнет понимать, что его сегодняшний день связан с давно прошедшими событиями и временами, и что дела и подвиги, трусость и доблесть, благословения и проклятия мёртвых так же сильно воздействуют на его судьбу и жизнь, как дела и подвиги, трусость и доблесть, благословения и проклятия живых.
И когда 10 июня 1649 года Анкудинов и Конюхов выехали из ворот Рильской обители, держа путь на Украину, они понимали, что отныне жизни их переплетутся с борьбой и надеждами десятков тысяч людей, вставших под прапор и бунчук мятежного гетмана Хмельницкого.
Глава восемнадцатая. Хмельницкий и Кисель
В давние времена конные разъезды, бежавшие на юг от Киева, на третий день пути оставляли позади себя последние бахчи, сады и пашни и въезжали в степь. И плыли их пики да красноверхие шапки над зеленью, желтизной и синевой трав и цветов, а коней их да их самих видели только коршуны, плававшие вольными широкими кругами между солнцем и степью.
А обочь всадников на каиках и чайках вниз по Днепру, к порогам, и ещё дальше — к морю уходила голь перекатная — за зверем, за рыбой, за воинской добычей.
За днепровскими порогами — на заросших вековечными лесами островах Хортице, Токмаковке, Базевлуке, Микитином Рогу — удальцы разбивали станы, называя их на татарский манер — кошами, выбирали на сходке кошевого атамана, а тот делил казаков на курени и ставил над каждым куренного атамана. Куренем называли и отряд, и шалаш, в котором отряд спал. Шалаш строили из хвороста и накрывали сверху сшитыми лошадиными шкурами. В каждом курене жило примерно полторы сотни казаков. Квашеное ржаное тесто саломаха, и рыбная похлебка — щерба — были их пищей, седло — подушкой, армяк — одеялом.
Все коши и курени, располагавшиеся на островах за днепровскими порогами, назывались Запорожской Сечыо.
В Сечи царили суровые, принятые самими казаками, установления и за их нарушение виновных жестоко карали. Грабеж православных поселян, поединок с товарищем, привод на Сечь женщины — за все полагалось одно — смерть.
Сначала все запорожцы были равны между собою и даже кошевого атамана сразу же после избрания измазывали грязью, чтобы он помнил, что и он такой же казак, как и все, и не дал бесу гордыни обуять свое сердце. Но шло время и менялись порядки в Запорожской Сечи — появлялись и там богатые да удачливые казаки — хуторяне, потихоньку прибиравшие к рукам и достатки и власть.
Иной стала Сечь — былое братство и вольность сменились новыми порядками, и тлетворный дух неравенства начал ощущаться почти так же, как и в соседних с нею странах — Крымской орде, Польском королевстве, Московском царстве. Почти, да всё-таки не так! Не было ни одного восстания, в каком не принимали бы участия запорожцы.
Не было ни одного холопа ли, мещанина ли, какой прибежав на Сечь и став казаком, был бы выдан помещику или преследовавшим его властям.
Непреодолимой преградой, богатырской заставой Руси, Литвы, Украины и Польши стояла Сечь на пути татар и турок. Кованым щитом была она для холопов, ищущих воли, и карающей саблей для забывших страх и совесть мироедов — панов, помещиков, корчмарей, судей. Бывало, не просто шляхтичи, а и князья прибегали на Сечь искать защиты и правды от обидчиков, на которых они не могли найти управу ни в Киеве, ни в Варшаве. И Сечь принимала их, и защищала, и мстила.
11 декабря 1647 года на Микитин Рог, где тогда стояли почти все курени Сечи, приплыл с сотней казаков пожилой, вислоусый, широкоплечий мужчина. Он искал защиты и хотел добиться правды. Его звали Богдан Хмельницкий.
* * *
Прибывший в Сечь казак был давно уже известен всей Украине. Его имя знали и короли Польши, и султаны Турции и ханы Крыма, и господари Молдавии. Поляки утверждали, что Хмельницкий происходит из люблинских шляхтичей герба «Абданк», молдаване связывали его имя со знаменитым родом молдавских господарей Богданов, правивших в их стране за два столетия до описываемых событий. Украинские же казаки знали, что Зиновий-Богдан родился в семье чигиринского сотника Михаила Хмельницкого, отдан был в обучение в иезуитский монастырь в Ярославе-Галицком, но, выучившись и латыни, и польскому языку, и не ополячился и не стал католиком, сохранив верность языку и религии предков.
Закончив обучение, Зиновий-Богдан совсем юным парубком вместе со своим отцом ушел воевать с турками. В битве под Цецорой 6 октября 1617 года турки разбили польско-казацкое войско. В этот день погиб отец Богдана Михаил, юный Хмельницкий был взят в плен и пробыл в турецкой неволе два года. Вернувшись из плена, он занял должность покойного отца, став сотником Чигиринского полка. Новый сотник отличался храбростью, независимостью воззрений, образованностью, умом и неколебимо защищал остатки прав и вольностей своих соотечественников и единоверцев.
А между тем на Украине один бунт сменялся другим, один набег — другим набегом, и польские паны ни казнями, ни посулами не могли унять непокорную казацкую вольницу, которая, все более и более осознавая и чувствуя свою силу, поднимала сабли и на польских помещиков, и на извечных своих врагов татар и турок.
Польские войска усмиряли бунтующих холопов, но ничего не могли поделать со своеволием казаков, грабивших Кафу и Трабзон, врывавшихся в Босфор и наводивших ужас на жён и наложниц султана, которые из окон сераля видели огни на мачтах запорожских чаек.
Падишах вселенной призывал к подножию своего трона польских послов и, клянясь аллахом, обещал истребить всех поляков и украинцев, заселив города и села правоверными, если король Владислав не уймет запорожских делибашей. Королевские комиссары умоляли казаков и грозили им всеми смертными карами, но каждую осень из гирла Днепра вырывались в Черное море казацкие чайки — и снова горели Синоп, Трабзон и Батум.
Для того чтобы преградить запорожцам дорогу к морю, коронный гетман Станислав Конецпольский приказал построить у первого днепровского порога крепость, мимо которой не смогли бы пройти ни водой, ни сушей.
Весной 1635 года по проекту известнейшего в Европе фортификатора француза Гийома Левассер де Боплана — зело искусного хитреца и розмысла крепость была построена и в небывало короткий срок уснащена всеми возможными средствами для отражения осад и штурмов. Довольный содеянным, Конецпольский призвал казаков осмотреть её.
— Каков кажется вам Кодак? — с усмешкой спросил их коронный гетман, зная, что приглашенные не хуже его понимают, для какой надобности вознесены были у рубежей Сечи стены и башни Кодака.
— Что делается человеческими руками, — ими же и разрушается, ответил Конецпольскому по-латыни чигиринский сотник Богдан Хмельницкий.
Это пророчество сбылось в августе того же года, когда большая флотилия чаек, вышедшая в море перед тем, как Боплан начал строить Кодак, возвращалась обратно на Сечь.
Увидев Кодак, запорожцы удивились и вознегодовали. По приказу своего атамана Ивана Сулимы они ринулись на штурм и взяли крепость, перебив весь гарнизон вместе с его командиром — французским полковником Марионом. И, взяв Кодак, разнесли его по камню. Правда, через четыре года поляки вновь отстроили Кодак, но молва о том, как сотник из Чигирина ответил коронному гетману, облетела всю Украину. И потому, когда казаки в 1636 году решили направить к королю Владиславу послов, которые поведали бы ему о великих тяготах, переносимых народом Украины, этими послами стали черкасский сотник Барабаш и Хмельницкий. Тогда-то впервые перехлестнулись пути Хмельницкого и Адама Григорьевича Киселя.
Владислав отправил Киселя на Украину, заклиная его всеми силами отговорить казаков от бунта. Гетман Василь Томиленко, подчинившись воле большинства казаков, собрал на реке Русаве генеральную раду, на которую съехались тысячи озлобленных, обездоленных людей, оставивших свои полки, свои дворы и угодья.
Шел август месяц — страдная пора, когда земледельцы провожают и встречают солнце в поле.
— Мы не получаем жалованья за ратную службу четвертый год. Нам закрыли дорогу на море. Хлеб осыпается на полях наших и некому убирать его, — говорили казаки.
— Мы пойдем на города и перебьем королевских чиновников, чинящих нам притеснения и обиды! — кричали самые горячие.
Кисель целовал крест, воздевал руки к небу и, срывая голос, со слезами на глазах клялся страшными клятвами добиться от короля исполнения всего, чего требовала от правительства рада.
Наконец сошлись на полумере. «Будем ждать ещё один месяц — до Рождества Богородицы, — постановила рада, — и если требования наши останутся втуне — всей арматой уйдем в Сечь и выйдем из-под власти короны».
Кисель использовал данную ему отсрочку, проявив необыкновенные лукавство, ловкость и двоедушие.
«С казаками, — писал он коронному гетману, — могут удастся три способа: они испытывают уважение к православным попам, хотя сами более походят на татар, чем на христиан, они трепещут перед королем, и любят взять то, до чего могут дотянуться их руки. Поэтому я употребил для исполнения данного мне поручения все три способа сразу».
По его просьбе киевский митрополит послал к казакам двух игуменов и те стали увещевать их и, заклиная именем бога, призывали к покорности. Сам Кисель, встречаясь с Томиленко и приближенными к нему старшинами, обещал им и их детям шляхетские права и привилегии, милость короля, почет и богатство.
И, наконец, пятидесятишестилетний хитрец прибег к ещё одному давно испытанному и излюбленному им методу — фальшивому письму. Он послал Томиленко копию письма, якобы полученного им, Киселем, от короля. Кисель сделал вид, что переслал копию письма тайно, из одного лишь расположения к казацкой старшине.
В фальшивом письме король укорял казаков в том, что они не верят его слову и вновь подтверждал пану Киселю прежние обещания — о соблюдении казацких прав и присылке денег. Затем король писал, что он не потерпит бунта и созовет посполитое рушение, если казаки не образумятся. К письму Кисель приложил и свою собственную приписку. Он советовал казакам послать на сейм в Варшаву депутацию и просить исполнить обещанное в королевском письме, тщательно скрывая то, что им об этом письме известно.
Однако уловки Киселя не отвратили неминуемого. Осенью 1637 года взбунтовался чигиринский полк и направил воззвания к казакам других полков.
Толпы недовольных собрались вместе и выкрикнули своим атаманом Карпа Павлюка — бывшего есаула Ивана Сулимы, крещеного турка, удальца и сорви-голову, каких было мало даже на Запорожье.
Павлюк разослал по всей Украине универсалы, объявляя, что каждой живущий в этой стране должен считать себя казаком и не подчиняться панам-помещикам.
Гетман Томиленко не знал, что делать — бороться ли с бунтовщиком или же помогать ему.
Зато Кисель — знал. Он собрал своих сторонников, сместил Томиленко и верные ему люди избрали гетманом переяславского полковника Савву Кононовича, преданного королю не менее, чем сам Кисель.
Узнав о случившемся, Павлюк вывел из Сечи все свои курени и, остановившись у города Крылова, послал летучий конный отряд к Переяславлю.
Ворвавшись ночью в Переяславль, запорожцы схватили нового гетмана и его приближенных, привезли их в Крылов и по приговору запорожцев — казнили.
Павлюк был избран гетманом и призвал Украину к оружию. Однако в первой же битве он был разбит и подстрекаемые Киселем старшины выдали его командующему польской армией Николаю Потоцкому. Тысячи повстанцев были казнены. Павлюка увезли в Варшаву и там обезглавили.
Весной 1638 года новые отряды восставших вышли из Сечи. Ими командовал Стефан Остряница. Выиграв первое сражение, окрыленный успехом, Остряница ринулся в бой, но был разбит, как и Павлюк. Та же участь постигла следующего предводителя — Дмитро Гуню.
Во всех этих восстаниях участвовал и Богдан Хмельницкий, снискавший славу храброго и искусного воина.
Мало-помалу память о междоусобных бранях казаков с поляками отходила, жизнь требовала того, чтобы способнейшие из казаков занимали должности, приличествующие их способностям и знаниям.
Хмельницкий стал войсковым писарем, заняв должность, которую бывавшие на Украине иноземцы приравнивали к канцлеру.
Меж тем королем Владиславом овладела идея начать войну против турок в союзе чуть ли не со всей христианской Европой. Папа и дож Венеции, семиградский князь и волошский господарь, царь Московии и король Франции должны были, по мысли Владислава, помочь Речи Посполитой сокрушить Империю османов. В предстоящей великой войне флоту и коннице Украины Владислав предоставлял главную роль.
Первым шагом короля была отправка в Париж полномочного представителя казацкого войска для подписания соглашения о вооруженной помощи Франции. Этим представителем был назначен Богдан Хмельницкий.
Украинский посол успешно провел переговоры с графом Брежи и кардиналом Мазарини, после чего две с половиной тысячи охочих казаков отправились во Францию. Под знаменами герцога Кондэ они взяли Дюнкерк, захваченный испанцами, и прославили казацкое имя на всю Европу.
Когда Хмельницкий, возвращаясь из Франции, остановился в Варшаве, Владислав принял его и открыл ему тайну, о которой знали только сам король, канцлер Оссолинский и коронный гетман Конецпольский. Он посвятил Хмельницкого в планы подготавливаемой им коалиции для войны с турками и дал слово, что за участие в войне на его стороне вернет казакам отнятые у них права. Тем самым король превращал казаков не только в союзников в войне с турками, но и делал их своей опорой в борьбе с самовластными магнатами и шляхтой.
Осенью 1646 года Владислав на деньги, данные ему королевой, собрал возле Львова шестнадцатитысячную армию и из Кракова, где только что состоялась коронация его молодой жены — французской принцессы Марии-Людовики — выехал к войскам.
Прибыв в военный лагерь, Владислав отдал приказ выступать, но назначенный главнокомандующим Николай Потоцкий отказался это сделать, ссылаясь на то, что паны-сенаторы запретили ему начинать войну без их соизволения.
Король, униженный собственным бессилием и новым неповиновением шляхты, оставил армию и уехал в Варшаву.
Сейм, продолжавшийся четыре дня, категорически запретил Владиславу воевать с турками и татарами и, по выражению венецианского посла в Польше Тьеполо, совершенно отобрал у короля остатки власти. Сразу же после окончания сейма Оссолинский под предлогом осмотра приграничных крепостей уехал на Украину и там встретился с Хмельницким, который тоже принимал участие в заседаниях сейма и только что возвратился из Варшавы. Оссолинский просил его повести казаков в поход на турок, но Хмельницкий отказался.
О встрече канцлера с войсковым писарем узнали паны-католики, ненавидевшие и Оссолинского, и Хмельницкого, и решили покончить со своенравным казаком.
Орудием задуманного преступления они сделали соседа Хмельницкого, католика пана Чаплинского. Этот выбор не был случайным. Чаплинский ненавидел Хмельницкого слепо и люто. Он был влюблен в жену войскового писаря, завидовал богатству и счастью соседа, тому, что у Богдана — две дочери и три сына, а он — Чаплинский — один на всем белом свете, но более всего ревновал пан своего недруга к славе, которая давно уже вылетела за пределы Речи Посполитой.
Богдан, живший в нескольких верстах от Чигирина, узнал, что его сосед набирает в городе отряд и решил, что Чаплинский собирается в набег на татар.
Однако через несколько дней верные люди сообщили Хмельницкому, что Чаплинский идет наездом на его хутор Суботов. У Богдана под рукой было только несколько казаков и крестьян. Он оставил семью и поскакал в Чигирин искать защиты у властей.
Чаплинский ворвался в Суботов, сжёг мельницу и хлеб на гумне и, ворвавшись в дом, приказал своим холопам засечь младшего сына Хмельницкого, назвавшего людей Чаплинского шайкой татар. Разграбив дом, он захватил жену Богдана и увез её к себе, заставив венчаться с ним по католическому обряду.
Ничего не добившись в местном суде, Хмельницкий весной 1647 года поехал в Варшаву искать правды у господ сенаторов. Следом за ним отправился и Чаплинский.
Сенат не признал Хмельницкого хозяином хутора, ибо у Богдана не было выправленного по всей форме свидетельства о владении Суботовым.
Сенат не признал Чаплинского виновным в смерти сына Хмельницкого, ибо перед панами-сенаторами предстали свидетели, которые заявили, что мальчик, хотя и умер после порки, но причиною тому были не плети, а болезнь и хилость хлопчика.
Сенат признал брак, заключенный между бывшей женой Хмельницкого и паном Чаплинским абсолютно законным, ибо она венчалась со своим похитителем по католическому обряду.
Хмельницкий уехал из Варшавы, твердо зная, что он будет делать дальше. Уже по дороге в Чигирин он совсем по-иному смотрел на леса и балки, реки и болота, замки и города. Он разглядывал все, что встречалось у него по дороге, не как путешественник, ню как воин, которому предстояло переходить реки, ставить таборы в полях и штурмовать города и замки.
И с людьми, какие встречались ему на дороге, он говорил не как путник, но как предводитель войска, которому в каждом селе и на каждом хуторе нужны будут союзники.
Медленно ехал он через области, насаленные православным крестьянским и казацким людом. Останавливаясь в деревнях и на постоялых дворах, он слушал горькие повести о бедствиях народа и сам рассказывал о постигших его несчастьях, несправедливостях и бесчестье. Его слушали, расспрашивали, задумывались.
Уезжая дальше, Хмельницкий говорил прощаясь:
— Скоро подниму я саблю за поруганную веру и обращенный в рабов народ. Помогите мне, братья!
— Поможем, батько! — отвечали Хмельницкому его единомышленники, и потому, когда пошел он во главе повстанческой армии, обратно — на запад не было ни одного города и ни одного села, в котором не оказалось бы людей, верных слову, данному казацкому предводителю.
Возвратившись домой, Хмельницкий собрал верных ему казаков и объявил им о намерении начать новую войну против шляхты. Однако один из участников встречи донес на Хмельницкого и польный гетман Николай Потоцкий приказал казнить злоумышленника Богдана.
Узнав об этом ранее, чем гонцы Потоцкого поспели к Чигирину, Хмельницкий, взяв с собою старшего сына Тимофея, бежал на Сечь.
* * *
Днепр в ту зиму замерз к Рождеству. В начале декабря, когда струги Хмельницкого подошли к Микитиному Рогу, хотя и дымилась днепровская вода от надвигающихся холодов и по закраинам уже схватило реку тонким ледком стрежень её был чист и легко было гребцам гнать вниз по течению тяжелые лодки.
Хмельницкий первым ступил на землю Сечи, за ним вышли из стругов остальные.
Из прибрежных куреней неспешно выходили старые казаки. Узнав войскового писаря, снимали шапки. Богдан тоже стоял с непокрытой головой, заметив старых товарищей, кланялся, смотрел сурово и невесело. Богдан стоял, а к нему все подходили и подходили казаки. Когда никого уже не осталось в ближних куренях, Хмельницкий низко поклонился запорожцам.
— Смотрите, братья, на меня, старого казака, писаря войска запорожского. Я ждал покоя, а меня гонят из собственного дома. У меня посрамили жену и убили сына, и самого меня осудили на смерть. За кровь мою, пролитую для пользы отечества, за раны мои — нет мне иной награды, кроме смерти от руки палача. К вам принес я душу и тело, к вам привел друзей моих и сына. Укройте нас и подумайте о собственной защите, ибо каждому из вас угрожает то же, что и мне.
— Принимаем тебя, Хмельницкий, хлебом-солью и добрым сердцем, ответил кошевой.
— Принимаем! — откликнулись казаки.
* * *
Весной 1648 года Хмельницкий с сыном уехал в Крым и, оставив Тимофея заложником, заключил с ханом Ислам-Гиреем союз против Речи Посполитой. Он вернулся на Сечь 18 апреля 1648 года с четырьмя тысячами татар и на следующий день был провозглашен гетманом.
И запылала Украина от Ворсклы и до Днестра. Всевеликое войско запорожское, поддержанное холопами и казаками всех сел и городов, двинулось в победоносный поход. Битвы следовали одна за другой, и каждая приносила казакам победу. 8 мая отгремело первое большое сражение под Желтыми Водами. В этом бою пали многие знатнейшие паны и сын Потоцкого — Стефан. И когда отец погибшего узнал о разгроме армии и гибели сына, то, по словам летописца, «всё польское войско стало так бледно, как бледна бывает трава, прибитая морозом, когда после холодной ночи воссияет солнце».
16 мая в битве под Корсунем была разгромлена вся армия и старый Потоцкий сдался в плен.
А ещё через несколько дней Хмельницкий узнал, что 20 мая умер король Владислав. В Речи Посполитой настало безкоролевье.
Города Украины один за другим признавали власть Хмельницкого. Только Иеремия Вишневецкий с трехтысячным отрядом метался среди поднявших бунт холопов, предавая тысячи мятежников самым страшным казням.
Вслед за Украиной восстали православные села и города Белой Руси и Литвы.
Тогда протектор Речи Посполитой, кардинал Матвей Лубенский, регент короны, первое лицо в государстве до избрания нового короли — созвал чрезвычайный сейм. Сейм постановил выставить против Хмельницкого тридцати шеститысячную армию и одновременно для переговоров с казаками отправить четырех комиссаров во главе с Адамом Киселем.
От казаков требовали возвращения захваченного оружия, освобождения пленных, отказа от союза с татарами, но ничего не предлагали взамен. Требования шляхты были с негодованием отвергнуты казацкой радой.
Кисель обратился к киевскому митрополиту Сильвестру Коссову, убеждая пастыря воздействовать на Хмельницкого. Но и митрополит не помог — гетман был тверд и соглашался только на справедливый и достойный мир.
Польская армия двинулась вперед и остановилась восточное Львова, на берегу маленькой речки Пилявки.
Как и прежде, поляки потерпели поражение из-за чванливости, разброда, ссор между военачальниками. В их обозах золота и серебра было больше, чем свинца, а бочек с вином больше, чем лядунок с порохом.
После двух дней битвы, испугавшись ложного слуха о подходе на помощь Хмельницкому сорока тысяч татар, шляхтичи оставили лагерь и побежали ко Львову. Беглецы достигли города на третий день, хотя, по едкому замечанию летописца, в мирное время польский пан со свитой ехал бы туда полгода. Почти не останавливаясь, остатки разбитой армии, еле-еле приведя в порядок свои ряды, ушли к Висле, забрав все церковные сокровища и имущество богатых мещан и купцов.
В конце октября 1648 года, после нескольких дней осады, войска Хмельницкого вошли во Львов. Взятие Львова было последним крупным успехом восставших вначале столь удачной для них войны.
* * *
Повстанческая армия, движимая вперед на запад неудержимой силой инерции, остановилась 5 ноября у замка Замостъе. Хмельницкий понимал, что если он пойдет дальше, то война, которую он ведет, может быть воспринята во многих европейских государствах не как восстание против поработителей его родины — Украины, а как завоевательный поход в чужую страну.
Гетман остановил свое войско и послал в Варшаву мирную делегацию с наказом сообщить членам сейма, что если королем будет избран Ян-Казимир, а не Карл — второй брат покойного Владислава, — то казаки подчинятся воле угодного им монарха.
Сразу же, как только умер король Владислав, один из претендентов на трон Речи Посполитой — семиградский князь Дьердь Ракоци предложил Хмельницкому союз и дружбу. Однако Дьердь ненадолго пережил Владислава — не прошло и полгода, как он умер, а его сын Юрий, наследовавший престол Семиградья, не помышляя об избрании на польский трон, хотел добыть его иными путями. Он предложил Хмельницкому военный союз против поляков, обещая овладеть Краковом, когда казаки выйдут к Варшаве.
Посол Юрия Ракоци, приехавший в Киев в феврале 1649 года, говорил гетману:
— Если мой государь получит польскую корону, то не забудет казаков и сумеет выказать ив) свою благодарность. В его царстве русская вера будет равной с верой католической, а гетман будет удельным государем Украины и независимым владетелем Киева.
Вопрос об избрании нового короля решал очередной сейм, собравшийся в Варшаве.
Хотя вначале и этот сейм проходил бурно и несогласно, головане казацкие наезды, показавшиеся в окрестностях Варшавы, сделали панов-электоров более сговорчивыми: во наущению канцлера Оссолинского карл добровольно отказался от притязаний на корону, и Ян-Казимир 20 ноября 1648 года был избран королем Речи Посполитой.
Новый король немедленно послал Хмельницкому письмо с просьбой отвести армию на землю Украины и там ждать начала мирных переговоров. Богдан выполнил желание Яна-Казимира и повернул войска на восток.
В начале января 1649 года Хмельницкий въехал в Киев под звон колоколов, грохот пушек и радостные клики народа. У стен Софийского собора его встретил митрополит Сильвестр и остановившийся в Киеве по пути в Москву иерусалимский патриарх Паисий — высокий седовласый старец с глазами библейского пророка. Именем всех православных христиан Востока он благословил гетмана и, сравнив его с защитником истинной веры византийским императором Константином Великим, призвал к беспощадной войне с католиками. Паисий и Сильвестр, встав слева и справа от гетмана, вошли в собор, сверкающий огнем сотен свечей и золотом окладов, и преклонили колена перед алтарем.
* * *
Королевские комиссары, приехавшие в Киев во главе с Адамом Киселем, уехали ни с чем — Хмельницкий не согласился на условия, предлагаемые ему сеймом, а комиссары не могши принять условий полновластного победителя.
Война продолжалась. Ян Казимир собрал почти со всей территории Польши посполитое рушение — шляхетское ополчение и пошел на выручку осажденному гарнизону города Збараж. Туда же двинулся Хмельницкий со всеми своими силами. Как и прежде, во дороге приставали к нему отряды казаков, крестьян и холопов. Однако на этот раз присоединился к нему и отряд, возглавляемый шляхтичем Юрием Немиричем — паном-католиком, давно уже не верившим ни в бога, ни в чёрта. Немирич насмехался над папой, издевался над верой в непорочное зачатие, над Троицей и Святым духом, и потому был проклят ксендзами, объявлен еретиком и арианином и изгнан из страны.
Собрав отряд из таких же отверженных, он пошел навстречу Хмельницкому и с радостью был им принят, ибо гетман, вступивший в союз с татарами, не очень-то дотошно выспрашивал своих соратников, какому богу они поклоняются.
Ян Казимир в это время остановился в пяти милях от осажденного Збаража, надеясь помочь своим войскам, попавшим в беду. Однако он не только не спас Збараж, но попал в окружение сам со всем своим войском и был бы непременно пленён, если бы татары не изменили Хмельницкому.
Поляки сумели договориться с Ислам-Гиреем, возглавлявшим орду в битве под Збаражем, и, заплатив огромный выкуп, пообещали впредь ежегодно посылать хану дань в тридцать тысяч червонцев.
Хмельницкий вынужден был удовольствоваться договором, прекращавшим войну и удовлетворявшим главные требования казаков.
По всей дороге — от Зборова, где был подписан договор, до Киева Хмельницкого встречали тысячи людей. Они поднимали на руках детей, чтоб те на всю жизнь запомнили великого воина, выносили на вышитых рушниках хлеб-соль, хоругви и самые почитаемые иконы. Второй въезд Хмельницкого в Киев был не менее торжественен, чем первый.
Однако гетман недолго пробыл в стольном городе Древней Руси и уехал в свою резиденцию — Чигирин.
Окруженный роскошью самодержавного государя и дворцовой гвардией верным чигиринским полком, — он оставался простым в общении и пока ещё доступным простому народу. Но уже казацкие полковники и есаулы получали во владение имения бежавших панов-католиков, и на монетах, которые чеканили в Чигирине, на одной стороне изображался меч, а на другой — имя гетмана.
Всю зиму занимался Хмельницкий устройством нового государства разделял территорию страны между полками, вводил новые законы, подтверждал привилегии и права городов, местечек, монастырей, охраняя старые традиции цехов, братств и целых сословий. Однако крестьяне, как и прежде, должны были браться за плуги и платить, как и прежде, налоги и поборы. И хотя не были они столь велики, и, не секли их панские дозорцы и старосты, но и малыми те налоги назвать было нельзя, а на смену помещикам-католикам пришли новые хозяева — старшина, служившая в войске, судьи, писаря и ещё не слишком многочисленная, но уже наглая и своенравная гетманская челядь.
А так как по Зборовскому договору Украина оставалась в составе Речи Посполитой, то на её земле поселялись и королевские чиновники — правда, в отличие от прежних времён — только православного вероисповедания.
7 ноября 1649 года в соответствии со Зборовским договором в Киев приехал новый воевода, назначенный королем. Это был Адам Григорьевич Кисель.
Гетман встретил Киселя как старого друга, ибо теперь он нуждался в его помощи не меньше, чем в содействии собственник полковников и есаулов.
Киселю были отведены покои прежнего киевского воеводы, дана богатая казна и подчинен отряд казаков, которому следовало блюсти спокойствие и порядок в городе.
Чуть ли не до Рождества гетман угощал королевских комиссаров и сам гостил в отведенных им палацах. За чарой вина он выслуживал опытных в управлении панов-комиссаров, своих старых соратников, получивших за боевые заслуги хутора и имения, в которых никто не хотел работать, и донимал, что не может быть государства, где бы все были равны и только носили сабли, не прикасаясь к сохе и топору.
И когда пришли на Украину королевские универсалы о подчинении крестьян владельцам земли — как новым, так и прежним, возвращавшимся в свои дворы, — гетман подтвердил эти универсалы и потребовал их выполнения, грозя за бунт смертью.
Наступала весна, сходил с полей снег, но мало где ладили сохи и бороны, зато ещё сильнее прежнего побежали на Низ и на Дон холопы, которые лишь вчера считали себя казаками…
* * *
Киевский воевода Адам Григорьевич Кисель сидел в горнице, по стародавней привычке крутил усы, думал: «Как выполнить гетманский указ — не пускать на Низ гультяев? Земля велика, ночи темны, заставы малочисленны». Ничего не придумав, вздохнул тяжко и, несмотря на непоздний час, собрался спать. Уходя в опочивальню, подумал: «Утро вечера мудренее». Однако выйти из горницы не успел — робко стукнули в дверь. Адам Григорьевич по стуку догадался — джура-казачок. Подумал с неудовольствием: «Чего там еще? Ни минуты покоя нет». Сказал громко, сердито:
— Войди!
Джура робко взошел на порожек, чистыми дитячьими очами взглянул на воеводу. У Киселя почему-то отлегло от сердца, спросил — уже тихо, без гнева:
— Ну, что там, хлопчик?
— Пан воевода, до вас пан просится.
— Что за пан?
— Який-то князь.
— Зови, — сказал Кисель, оправляя кафтан и думая: «Кто бы это мог быть?»
Вошел джура и, как его учили, отступил влево, пропуская гостя вперед. В дверях стоял нарядно одетый пан, в зеленом кунтуше, с саблей на боку. Сняв алую горлатную шапку, шагнул в горницу, поклонился хозяину.
— Ай, не признал, Адам Григорьевич?
Кисель, сощурив глаза, шагнул навстречу. Перед ним стоял князь Шуйский Иван Васильевич.
Глава девятнадцатая. Братья Пушкины
Иерусалимский патриарх Паисий, благословивший в январе 1649 года гетмана Хмельницкого пред вратами Святой Софии Киевской, в феврале уже был в Москве. Он явился к благоверному царю Алексею Михайловичу и патриарху Московскому Иосифу за милостынею, кою первосвященники всех православных церквей — Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской — испокон получали от единоверного Русского царства.
Да и отколь было взять православным патриархам, когда со всех сторон утеснены они были неверными агарянами и папистами?
Вот и давали им посильную милостыню царь и патриарх Московии, 10 июня того же года Иерусалимский патриарх со многими дарами выехал из Москвы. Вместе с ним в Иерусалим ехал старец Арсений, ученый муж, направленный в Палестину для описания святых мест.
Через две недели достигли они Путивля, за коим начались владения гетмана Хмельницкого — православного государя, только что иступившего свою саблю о выи гордых схизматиков-ляхов.
Два месяца ехали Паисий и Арсений по единоверной Украине, ужасаясь следам страшной брани, бушевавшей на её земле всего год назад, а затем, переправившись через реку Прут, въехали в православную же Волошскую землю и 7 сентября остановились в городе Ясы в патриаршем Вернадском монастыре с заросшими тиной прудами, старым садом, вросшими в землю кельями братии.
Блаженнейший господин Паисий был стар, дорога длинна, обитель тиха и гостеприимна и потому путники решили пожить в Ясак подольше, отдыхая перед оставшимся — все ещё неблизким — путём.
Однако ж дни шли, пролетело шесть недель и патриарх, вздыхая, велел собираться в дорогу. И пока патриаршие челлдинцы неспешно готовили повозки и кладь, старец Арсений пошел на городской майдан прикупить кое-чего в дорогу. Пёстр и шумен был в тот день ясские майдан и много разных хитроглазых восточных людей — смуглых, черноволосых, носатых из Джульфы, из Шираза, из Тебриза толклось среди рухляди и яств.
А один торговец был волосом рус и голубоглаз. Арсений подошел к нему. Торговец, увидя златой наперсный крест и черный клобук, радостно облобызал руку старца и, склонив главу, принял пастырское благословение. Арсений спросил:
— Отколе, сын мой?
— Из Рыльска мы, святой отец.
— А звать как?
— Григорием кличут.
— А ты, святой отец, издалёка ли? — робко спросил старца Григорий.
— Из Москвы.
— Из Москвы, — повторил торговец с удивлением и почтительностью. И вдруг спросил:
— А скажи, святой отец, есть ли на Москве кто из Шуйских князей?
Арсений опешил:
— Пошто тебе это, сын мой?
— А вчера встретил я на торгу человека, Константином зовут. И Константин сказывал, что служит у князя Шуйского и тот князь ныне в скиту под венгерскими горами, недужен, и как обможется, то пойдет в Киев.
Не помня, как добежал старец до обители и обо всем рассказал блаженнейшему. Патриарх, медлительный и молчаливый, — засуетился, стал кричать:
— Не медли, Арсений! Тот же час отъезжай ко государю! Надобно государя о сем деле известить — не иначе то некий вор влыгается в имя Шуйских князей, замыслив нечто недоброе.
Паисий тут же написал две грамоты — одну царю, другую — патриарху, и старец, наняв человека волошского и польского языка и умостившись в рыдване, наборзе поехал обратно в Москву, доводить об узнанном государю.
Два с половиной месяца ехал старец от Москвы до Яс, а обратно — ровно один месяц. И приехав, не в мыльню побежал и не в опочивальню, а прямо в Иноземный приказ.
И вбежав в приказные палаты, точно не инок он был, а некий прыткий недоросль, тотчас же все проведанное пересказал думному дьяку Михаилу Волошенинову. Дьяк же, недослушав Арсения, сбежал к саням — ещё в Дутивле застала метель и рыдван поменяли на сани — и, втащив старца в возок, велел ехать в Кремль.
* * *
Старец умчался из Москвы обратно с наказом: проведывать всё про польского короля с казаками, и про вора Тимошку, и про татар — и обо всём том ко государю отписывать.
9 апреля Арсений настиг патриарха, остановившегося на зиму в стольном месте Мунтянской земли Торговище. Там он узнал, что вор Тимошка и человек его Костка из скиту от венгерских гор ушли и уже в Великий пост видели их в Киеве. А ещё через некоторое время в Торговище приехал киевский протопоп и поведал Арсению, что человек — по имени Шуйский — князь — живет ныне в Чигирине, в великой чести у гетмана и чуть ли не ежеденъ ест с гетманом за одним столом.
* * *
В пятом месяце 7157 года от сотворения мира, или же в первом месяце 1650 — от Рождества Христова, выехал из Москвы добро снаряженный обоз. Впереди скакали вершники, за ними — цугом в шесть коней — три раза по паре — лихо летела карета: с золотою резьбой, с веницейскими стёклами, с гайдуками на запятках. За каретою ровным строем шла полусотни донцов в чекменях зеленого сукна, с прапором в чехле, на сытых, застоявшихся за зиму, аргамаках. За донцами резво двигался малый походный обоз, в две дюжины саней. Большой обоз загодя вышел вперед и стоял вразбивку там, где ему было указано, ожидая великих государевых послов-братьев Григория да Степана Пушкиных с дьяком Гаврилой Леонтьевым.
Великие и полномочные послы-боярин и оружейничпй, и наместник Нижнего Новагорода Григорий Гаврилович и окольничий и наместник Алатырский Степан Гаврилович Пушкины — ближние государевы люди-ехали в Варшаву по великим делам.
Било им строго наказало самим государем говорить панам — раде и королю, что великий государь изволит на них, поляков, гневаться за то, что его государев титул в присылаемых на Москву грамотах пишется неполно. А ведь было договорено, что его, пресветлого российского царя титул будет писаться с большим страхом и без малейшего пропуска.
А ещё послы должны были потребовать от панов-рады — казнить смертью тех друкарей, кои печатали безчестные книги, наполняя оные всякими кривдами и постыдными для государя нелепицами.
Братья Пушкины и дьяк Леонтьев в немецких и турских и иных землях и ранее бывали не раз и потому и ныне ехали без всякой робости.
Да и кого им было бояться, когда простой казачишка Хмельницкий литовского короля Ивана Казимира на глазах у всех иноземных государей за один год неоднократ побил и едва на аркане в полон не свел?
«Истинно, — думал боярин Григорий Гаврилович, — истинно в старых книгах прописано, что Казимир — на древлем русском языке означает разрушитель мира. Вот и сбывается королю Ивану, что есть он самый что ни на есть царству своему — казимир».
Однако ж и другое знали послы, что в легкое да приятное посольство государь никогда их ни в одну страну не отпускал. Знал, милостивец, что за умаление его царской чести, глазом не моргнув, пойдут братья Пушкины на плаху. Знал, благодетель, что нету него ни в Посольском приказе, ни в иных — столь бесстрашных, гордых и ни в чем неуступчивых послов, как Пушкины. И потому не ждали великие послы быстрого и бездельного посольства, хотя иным боярам и дьякам могло и показаться — нехитрое дело поручил ныне Пушкиным государь: не о захваченных землях или полонянниках выговаривать, не взятые ляхами на щит города в обрат требовать. А мысли об отринутых ляхами землях так и лезли в голову, хотя и не о них должны были переговаривать великие послы.
И как той думе не быть, если, отъехав двести верст от Москвы, вступил посольский обоз на землю короля Яна Казимира.
За Вязьмой шли порубежные места, и уже в старом Дорогобужском детинце разместился как дома польский гарнизон, — а Смоленск и пограничным не был стоял в глубине Речи Посполитой, столь же далеко от рубежа, как и Москва.
Ехали братья Пушкины с дьяком Леонтьевым и переполнялись их сердца едкой обидой — сколь много полей, лесов, сёл, починков, городов и замков забрал под себя польский король. А далее пошла единоверная Белая Русь и литовские земли и все были под скипетром Яна Казимира.
Через три недели подъехали послы к Варшаве. Перед мостом через реку Вислу гарцевали на горячих конях изукрашенные шелками да бархатами паны. На отороченных соболями да горностаями шапках мотались под ветром перья диковинных птиц. И над головами коней тоже трепал ветер перья.
Недоезжая нескольких саженей, послы остановили карету и стали ждать. Никто из панов с коней не сходил и встречъ им не шёл.
Запахнувшись в шубы на бобровом меху, крытые сверху добрым фландрским сукном, сидели послы, ухмыляясь в бороды, в теплой карете, равнодушно поглядывая в веницейские окна, за коими мела позёмка и с реки прямо панам в морды дул ледяной январский ветер.
Дьяк Гаврила время от времени вытаскивал из-под шубы куранты с луковицу величиной, глядел, сколь часов прошло, как стоят послы у въезда в город.
Наконец, сдались паны. Слезли с сёдел и, взяв под уздцы впряженную в сани тройку белых коней, крытых вышитыми попонами, пошли навстречу послам. Боярин Григорий Гаврилович ещё плотнее запахнулся в шубу, надвинул на косматые брови горлатную — трубой — шапку, отвернулся от окна. Дьяк Гаврила косил глазом в окно — глядел, кто к посольской карете подойдет. Подъехал верхом на коне богато изукрашенный пан. Дьяк узнал его — видел в прежних посольствах. Сказал Григорию Гавриловичу:
— Зри, боярин, подъехал посол королевский — пан Тышкевич. Пушкин, еле поворотив к окну голову, сказал:
— Что ж, пущай прежде с коня сойдет. Невместно мне первому из кареты итти, когда передо мной — невесть кто верхами сидит.
Прошло ещё немало времени. Ветер не унимался, паны прятали носы в воротники, грели руки подмышками.
Наконец, Тышкевич слез с коня, одеревеневшей рукой ткнул вперед: велел гайдукам распахнуть дверцы московской кареты. Гайдуки на негнущихся от мороза ногах побежали к возку. Распахнув дверцы, стали обочь.
Боярин Пушкин, повернувшись на обитой бархатом лавке, рявкнул по-медвежьи:
— Так-то встречают великих государевых послов! Смерды дверцы каретные рвут, как тати лесные — без поклона и вежества! А ну — Флегонт, Пётра! — позвал Пушкин своих гайдуков, — затворите дверь, пущай прежде научатся ляхи, как потребно перед великими государевыми послами стоять!
Околевшие на морозе, Флегонт и Пётра попадали с запяток в снег, бесчувственными пальцами, с трудом переломившись в поясном поклоне боярину, прикрыли дверцу.
Дьяк Гаврила вновь вынул куранты:
— Четвертый час стоим, боярин Григорий Гаврилович.
— Четыре дня стоять буду, а чести своей не умалю, — сопя от обиды, просвистел Пушкин.
Тышкевич призвал своих гайдуков, что-то сказал им. Холопы побежали к карете, плавно открыв дверцу, трижды поклонились поясным поклоном.
Сердито сопя, великий посол обиженным медведем стал вылезать из возка. Накренился возок набок, задевая подножкой снег — дороден и высок был боярин, — распрямившись, верхом шапки вровень был с конным паном.
Тышкевич шагнул вперед, с трудом раздвигая губы в улыбке. Пушкин стоял не двигаясь, смотрел сурово. Тышкевич вздохнул и подал боярину руку. Пушкин в ответ руки не протянул. Чуть повернув голову к карете, спросил:
— Господа послы, а подлинно ли передо мною королевский посол, не подменный ли человек?
Пан Тышкевич, от мороза пунцовый, услышав такое поношение, стал белее снега.
— За такие слова я бы тебе рожу набил, если б не был ты царским послом, — закричал он пронзительно.
— И у нас дураков бьют, которые не умеют чтить великих послов, беззлобно усмехаясь, ответил Пушкин. Чего ему было злиться? И проморозил панов, и на своем настоял.
Потоптавшись, решил ещё покуражиться немного:
— Чего это он со мною не говорит? — спросил Пушкин, ткнув перстом во второго польского посла, пана Тыкоцинского, что стоял рядом.
— Не понимаю по-русски, — ответил Тыкоцинский.
— А зачем же король прислал ко мне такого дурака?
— Не я дурак, а меня послали к дуракам. Мой гайдук знает по-русски, вот он и будет вести с вами переговоры.
Великий посол, обложив панов нечистыми словами, залез обратно в карету и лишь, когда стало темнеть, согласился перейти в другую присланную за ним королем.
Узнав о случившемся, король решил, что послы прибыли с объявлением войны, и, ещё не назначая приема, отправил в Москву гонца с заверениями в мире и дружбе. А чтобы не ожесточать сердца послов сильнее прежнего назначил на их содержание по пятьсот злотых в день.
Коронный подскарбий только закряхтел, когда вышло, что за два месяца придется выложить из королевской казны тридцать тысяч злотых — треть ежегодного окупа, обещанного крымскому царю после битвы под Зборовым.
Через месяц примчался гонец и привез письмо царя Яну Казимиру; о войне в нем не было и намека, но за умаление титула и бесчестные враки, прописанные в книгах, царь просил казнить виноватых смертью.
* * *
Об умалении титула боярин Григорий Гаврилович говорил многие слова с великою укоризною, стыдя панов-раду и утверждая, что никогда ни в одном государстве ни одному человеку не было позволено сокращать титул государя и тем отбирать у него честь, достоинство и земли, которыми он владеет от своих прародителей.
— Более того, — говорил боярин Пушкин, — не упомянутые в титуле города и земли являются как бы выморочными, никому не принадлежащими и любой соседний государь может завладеть ими. Злее прежнего было новое оскорбление: появились в Московском государстве принесенные королевскими офенями многие мерзопакостные книги. В них было пропечатано многое бесчестье и укоризны отцу великого государя Михаилу Федоровичу, деду его патриарху Филарету и самому пресветлому государю Алексею Михайловичу, а также многим боярам и всяких чинов людям. А печатали те поносные книги, которые и от бога грех, и от людей стыд, и мимо всякой правды сочинены шильники и бездельники в Кракове и в Данциге, и во многих иных местах.
О Смоленске, который был взят плутовством и обманом и хитростью, написано: «королевского величества победою освобожден, московского царя выю король под ноги свои подклонил».
А возле лика покойного короля Владислава против левой руки написано; «Московию покорной учинил».
А про Михаила Федоровича сказано, что «возведен на престол людьми непостоянными». И его же называют «мучителем», а патриарх Филарет Никитич написан «трубач».
Также и всему Московскому царству содержится укоризна: написано «бедная Москва», а нас называют худыми людьми и побирахами и пишут многие другие хулящие слова, что и не только писать — говорить стыдно.
И, наконец, о книге про войну с казаками сказано, что венгрин и москвитин из соседей и приятелей от Речи Посполитой в сторону скакнули.
— Как же, паны-рада, вы на столь злое дело дерзнули? — спрашивал Григорий Гаврилович грозно. — Как такие поносные и неистовые слова про великого государя нашего и все Московское царство не только помыслить смели, но и в книгах пропечатать посмели? Как дерзнули великого государя бесчестить — москвитином называть, и ссоры людей вмещать? Как, паны-рада, посмели вы такие злые досады и грубости износить?
Паны-рада отвечали:
— Мы никаких книг печатать не приказывали и до них королю и нам никакого дела нет. А вы, великие послы, приехали в Польщу и накупили книг и что в них глупые люди и пьяницы-ксендзы напечатали, то вы ставите нам в вину и в укор. А все потому, что вы ни по-польски, ни по-латыни не учитесь, а верите всяким пронырам, которые невежеством вашим пользуются.
Набрав полную грудь воздуха и напустив бесконечную надменность, великий и полномочный посол, боярин Григорий Гаврилович важно ответствовал:
— Учиться у вас мы не хотим и никогда не станем. По милости божией знаем наш русский язык и догматы божественного писания, и государские чины и посольские обычаи твердо разумеем. А вы — сами себя выхваляете и называете учеными людьми, а вот уже пятнадцать лет не можете научиться, как титул наших государей писать, и нам кажется, что вы хоть и ученые — нас неученых — стали глупее.
Паны-рада с криками негодования покинули зал.
В этот же день одни ворота на посольском дворе забили, возле вторых выставили жолнеров, никого к послам пускать не велели и выходить в город также запретили.
Послы сели в осаду, но слов своих ничуть не переменяли, а ещё и потребовали, чтоб паны-рада ещё раз их выслушали. Паны-рада и великий литовский канцлер князь Альбрехт Радзивилл согласились и кротко и благолепно просили послов оставить это дело, клянясь, что впредь никогда такого не будет.
— Ни за что! — ответил Григорий Пушкин. Если не казните виновных, отдавайте за великую досаду и обиду, причиненную его царскому величеству Смоленск со всеми тягнущими к нему городами и шестьдесят тысяч золотых червонцев!
Альбрехт Радзивилл, махнув рукою, сказал с сердцем:
— Вы говорите, чтоб за бредни, напечатанные в книгах, король отдал Смоленск и иные города, а после вы захотите и Варшаву взять. Больше мы с вами об этих книгах говорить не будем.
Братья Пушкины и дьяк Леонтьев ушли на посольское подворье и ни на какие уловки панов-рады, желавших продолжать переговоры, не поддавались.
Дни шли за днями, великие и полномочные послы стояли на своем — в бесполезных пересудах и ожидании перемен прошло пять месяцев.
Радзивилл согласился сжечь несколько книг на Рынке, но казнить друкарей и писцов никак не соглашался.
И неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы в середине июня не прискакал в Варшаву гонец с письмом от царя. А в том письме велел государь накрепко приступить к новому делу: потребовать выдачи «вора Тимошки Анкудинова и велеть привести его в Варшаву и отдати вам. А ежели паны-рада станут вам говорить встречь, то отвечать вам, послам, что по грамоте высокославные памяти короля Владислава, и по записям панов-рады, ежели, который либо человек дерзнёт, будучи в Польше и в Литве, имянованьем царевича московского писатися, и того человека казнити смертью безо всякий оправдания».
Прочитав письмо, Григорий Гаврилович понял: придется поступиться первыми двумя пунктами, но исполнения этого наказа следует добиться — хотя б и умереть.
* * *
Паны-рада и по новому пункту вступили с послами в бесконечные пререкания. Поляки ссылались на то, что договор о выдаче самозванцев между польским послом Гаврилой Стемпковским и русским послом князем Никитой Оболенским был подписан уже после того, как Тимошка Анкудинов бежал за рубеж, и потому силы на него не имел. Кроме того, поляки считали, что в договоре речь идет только о подданных Речи Посполитой, а не о беглецах из России.
Более того, паны-рада говорили, что никакого вора у Хмельницкого вообще не бывало и ныне нет, ибо иначе киевский воевода пан Кисель обязательно сообщил бы им об этом. И потому выговаривали великим послам, что сыскивать про то нечего и отдать некого.
Когда же Григорий Гаврилович просил послать в Киев и в Чигирин гонца, то паны-рада отговаривались тем, что скорее трех месяцев съездить туда-обратно немочно, а они-де, великие послы, живут в Варшаве шестой месяц, а по старым договорам послам больше двух месяцев не жить.
— Эх, паны-рада, паны-рада, — укоризненно говорил им боярин Пушкин, не хотите вы того вора отдать для некоева злого умышленъя к подысканью Московского государства.
Поляки стояли на своем, отрицая хотя бы малейшую алую корысть. И потому братья Пушкины выговаривали панам-раде про вора Тимошку пространные речи и домогались своего всякими мерами накрепко.
Наконец, когда посольству пошел седьмой месяц, паны-рада согласились послать к гетману королевского дворянина с универсалом о выдаче вора великим послам.
21 июля 1650 года Пушкины и Леонтьев отправились в Москву. Вместе с королевским дворянином поехали к гетману из Варшавы и русские полномочные на то люди — дворянин Пётр Данилович Протасьев да подьячий Григорий Богданов. Везли они письма к гетману войска запорожского Богдану Хмельницкому, киевскому воеводу Адаму Киселю и митрополиту Сильвестру. Протасьев, Богданов и королевский дворянин, пока было по пути, ехали с великими послами одним обозом, а потом Пушкины и Леонтьев поехали на восток, а посланные за вором Тимошкой — на юг.
Ехали дворяне в разных возках, и хоть вела их в Чигирин и Киев одно дело — смотрели друг на друга искоса. На постоялом дворе помещали русских с хлопами и нищими, а королевскому дворянину отводили лучшие покои.
На втором ночлеге и Богданова и Протасьева обокрали дочиста, а когда стали они спрашивать, к кому им теперь бежать, где покраденное искать, то хозяин двора, смеясь нагло, заводил очи к стрехе и на потеху хлопам разводил руки в стороны.
Кинулись обокраденные к королевскому дворянину — помоги-де, и осеклись: как просить, когда и имени его не знаешь? Протасьев, подбежав, спросил всё же;
— Как имя тебе, пан королевский дворянин?
— Юрий Немирич, — ответил пан, скривив рот и по-волчьи оскалив зубы. — И с тем из постоялой избы вышел вон, сел в свою карету и уехал.
Протасьев и Богданов выбежали вслед и вконец ужаснулись — коновязь была пуста и коляски их на прежнем месте тоже не было.
* * *
Прометавшись до вечера среди незнакомых, обывателей, государевы служилые люди решили лечь спать, чая — утро вечера мудренее, авось-да и придет что поутру в ум.
Было ещё светло, но пошел дождь — не по-летнему тягучий и мелкий — и Протасьев с Богдановым вернулись в постоялую избу. Однако на прежнее место их не пустили.
— Сперва деньги за постой да за ночлег заплатите, а уж потом будете спать, — сказал корчмарь и дворянин с подьячим поняли — говорит корчмарь не шутейно. А денег не было — оставались у приставов нательные кресты, огниво с трутом, да сумка с бумагами, перьями и чернильницей. И пошли Протасьев с Богдановым во двор. Стояла во дворе банька черная, наполовину крытая гнилой соломой. Забрались пристава под уцелевший — видать, что при бескормице скат и, затеплив лучину, стали писать о всем случившемся государю.
Протасьев вздыхал, держа лучину, а Богданов — письменный человек изловчился положить лист на лавку и, стоя на коленях, писал: «А нас, милостивец, холопишек твоих Петьку да Гришку, королевы Казимировы люди держат нечестно. Корму не дают вовсе, на постой не пущают и обокрали всё дочиста. А ныне держат нас в бане худой, без крыши под дождем. А что будет завтра — не ведаем.
Будем скитаться без пристанища меж двор. А королевский дворянин Юрий Ермолич тому воровству и татьбе потакал, но не явно, и нас, служебников твоих, посередь пути бросив, ускакал неведомо куды».
— А с кем государю скаску свою посылать будем? — вдруг спросил Протасьев, и Богданов, почему-то почуяв надежду, ответил бодро:
— Авось не пропадем. Не на кол нас ляхи посадили, всё на всё худобу да рухлядишку побрали. А за государем служба не пропадет — вернемся в Москву — всё снова ладно пойдет.
Глава двадцатая. Гиль и воровство
О ту пору, пока с великой мешкотой и всяческим задержанием добирались Богданов с Протасьевым до Чигирина, полномочные приехали в Москву и тотчас же были призваны к государю.
И Душкин, и Леонтьев разоделись во все лучшее — Григорий Гаврилович, несмотря на августовский зной, прихватил с собою шубу, в которой правил посольство перед Яном Казимиром. В карете держал её на коленях, но входя на красное крыльцо, все же набросил на плечи. Из-за этого оказалось, что государь выглядел при великих послах как бы парубком или малым служебным человеком, ибо был государь в простом платье — ни золота, ни дорогих каменьев на одежде его послы не увидали. Только несколько ниточек жемчуга лежало на царском кафтане да серебряная вязь оплетала мягкие домашние сапоги.
Царь — молодой, круглолицый, не по годам полный, с коричневыми, чуть выкаченными глазами, — послов принял с лаской. Увидев, пошел им навстречу. Григорию Гавриловичу подал руку, пожал крепко и лишь потом дал длань благодетельную облобызать. Брату его — Степану и дьяку сразу же сунул под усы — для поцелуя.
Григорий Гаврилович от такой чести — сам царь ему — Гришке Пушкину руку пожал, — прослезился, бухнулся на колени, хотел отбить земной поклон, коснувшись лбом пестрого кизилбашского ковра. Однако государь не допустил, поднял с колен, обнял за плечо, посадил рядом с собою. Двух других послов усадил насупротив, на лавку, что стояла с иной стороны стола. Некоторое время царь молчал. Молчали и послы. Государь сидел, поставив округлый локоть на край стола, подперев пухлую щеку мягкой белой ладонью. Тоска была в очах государя и от той тоски щемило у послов сердца. Дьяк Леонтьев, опустил глаза долу, думал: «Полгода у ляхов просидели, а наказа государева не сполнили — друкари, что непотребные книги множили, остались живы, писцы, умалявшие царский титул — не наказаны, вор Тимошка гуляет на воле».
Степан Пушкин неотрывно глядел на государя, следуя за губами, очами, бровями Алексея Михайловича, чтоб сразу же понять первый знак царского гнева или милости. Григорий Гаврилович, ободренный дружеским рукопожатием, лиха не ждал: царя видел не впервой, угадывал в глазах у него некое дальнее видение — тяжкое и неотступное.
Блюдя чин, послы ждали, пока государь начнет разговор. Алексей Михайлович вздохнул глубоко, сказал кротко:
— Карает господь и царство мое и меня грешного паче всех других.
Послы согласно и дружно вздохнули, преданно глядя на государя. Степан Пушкин — простая душа — желая кручину государскую умалить, бухнул не гораздо подумав:
— Батюшка царь, пресветлое величество! Государство твое богом спасаемо. Крепко поставлено, депо изукрашено. Вон в лондонском городе мужики короля своего Карлуса досмерти убили. Малороссийские холопы своего же короля едва татарам в полон не продали.
Государь, скривив рот набок, сказал тихо:
— Легче ли оттого, Степан? И сам же ответил:
— Тяжелее оттого. По вси места чернь из-под власти выходит. Не только в безбожном Английском королевстве, в схизматической Польше и Литве — в православном Российском царстве рабы подняли топоры на добрых людей. Вот вы, послы, полгода правили посольство в Варшаве, а худого подьячишку у короля и панов-рады достать не смогли.
Боярин Григорий Гаврилович встал с лавки, приложил руки к груди:
— Пресветлый государь…
Алексей Михайлович махнул рукой — сядь.
Григорий Гаврилович замолк, сел.
— Я не в укор вам, послы, говорю, что того вора достать не смогли. Я тому не перестаю дивиться, что природные государи — христианские ли, бусурманские ли — держат возле себя подыменщиков многих и защищают их со всем замышленном накрепко. И крымский хан, и турецкий султан, и польский король держат тех подыменщиков со злым умыслом для какого подысканья под нами нашего государства.
Боярин Пушкин пробасил, не вставая:
— Так то ж самое и мы твоей державной велеможности отписывали.
— Помню, знаю, и за то службу твою чту, Григорий Гаврилович. Только не всё ещё я сказал, что хотел.
Боярин Пушкин заерзал на лавке — понял: упрекнул его государь в невежестве, укорил в том, что встрял боярин в разговор, не дождавшись, пока царь всё до конца скажет.
Стрельцы заволновались, а приказные люди стали брать такую хабару и справлять дела за такие приношения, что с лихвой покрыли недостачу жалованья.
А на соляной налог — всяк кто соль покупал — а мало ли таких было? — худородные людишки ответили великим бунтом.
Сначала посадские собирались у церковных папертей — шумели, писали челобитные, отряжали в Кремль ходоков — довести государю о скудости, о всеконечном разорении, о мздоимстве и воровстве Леньки Плещеева. Царевы слуги челобитные брали, но к лицу государя ходоков не допускали. Говорили ждите.
Меж тем люди Плещеева выведывали заводчиков смуты, хватали и тащили в Земский приказ. Оттуда — многий на устрашение — выбрасывали их — побитых, покалеченных, рваных, пытанных и ломаных. Иных же вытаскивали замертво и кидали в ров у Кремля, где стаями бродили голодные псы.
2 июня 1648 года царь с молодой царицей Марьев Ильиничной, с боярами и стрельцами возвращался из Сретенского монастыря в Кремль. Вдруг на пути у него появилась толпа мужиков и баб и перегородила дорогу царскому поезду.
Конные стрельцы окружили карету живой стеной, но пронырливые мужики лезли лошадям под брюхо и совали в окна челобитные. Государь, испуганно улыбаясь, челобитные брал и складывал возле себя. Толпа была велика, многим хотелось поглядеть на царя, многие интересовались, подпустил ли ходоков к своей персоне Алексей Михайлович. Задние стали напирать. Стрельцы сдвинулись теснее, карета качнулась. Царь по-бабьи, высоким голосом закричал:
— Гони!
Ездовые рванули вожжи. Несколько человек упало. Сытые крупные кони легко понесли карету. Расталкивая толпу древками бердышей, вслед за каретой добежали пешие стрельцы. Конные, вертясь возле кареты, стали хлестать надиравших нагайками. Толпа взревела. В стрельцов полетели камни. Конный государев выезд вихрем влетел в Никольские ворота, но стрельцы не успели ворота закрыть и толпа ворвалась в Кремль.
* * *
Государь поглядел на послов и понял: и он, и они все помнят, что было далее. Помнят, как смерды на глазах у всех растерзали Леонтия Степановича Плещеева, выданного толпе царем, чтобы спасти себя и ближних своих. Помнят, как убивали лучших людей — бояр, дьяков, купцов. Как жгли и грабили дома князей Одоевских и. Львовых. Как трое суток горела Москва и в пепел превратились все посады, Чертолье, Арбат, Петровка, Тверская, Никитская, Дмитровка.
И вздохнув тяжко, со слезами на глазах, тихо проговорил царь:
— Смертный грех на мне, и не измолить мне его. Отдал я кровопийцам на муки Леонтия Степановича Плещеева, собинного моего друга и великого доброхота. А ведь это он про Тимошку Анкудинова первым довел, и за то батюшка мой простил ему прежние его прегрешения, а я возвысил Леонтия Степановича ещё более и дал ему Земский приказ. И он, всех нас спасая, смердов в бараний рог крутил и подводил их под ярмо как скот, а когда дошло до ножей да топоров, мы же его смердам и отдали.
Гаврила Леонтьев, служивший вместе с Плещеевым в Земском приказе, и лучше прочих знавший его, подумал: «Не отдал бы ты Леонтия, его все равно бы прикончили. Да и тебя вместе с ним — не поглядели бы, что помазанник».
Боярин Пушкин — любитель священных книг — пробасил смущенно:
— Чего кручиниться, государь. Сказано: «Положи живот за други твоя».
«Твой бы живот положить», — подумал Гаврила Леонтьев, недолюбливавший спесивого боярина.
— А теперь, — сказал вдруг царь со слезами в голосе, за Леонтия Степановича карает меня господь. Ведь Леонтий мне сам сознался, добровольно, что вора того, Тимошку, остроломейскому учению обучал и что вышел Тимошке знак — быть возле трона, иди же на троне. И пророчество то сбывается — из огня, и из воды живым выходит вор. Молдавского господаря Василия люди схватили — ушел. Из Константинополя, из-под топора — ушел. Ныне лучшим моим послам в руки не дан. Что сие значит? И Леонтий Степанович мученическую смерть от хамов принял не потому ли же, что за Тимошкой бесовская сила стоит?
А ныне что? — вопросил государь. — Не успели вы, послы, в Варшаву отъехать, учинились мятежи в Новом городе Великом и во Пскове.
Ведено было дать из наших житниц хлеба сестре нашей свейской королеве Христине. А тот хлеб должен был закупить человек её Логвин Нумменс и псковские гилевщики казну у Логвина отняли, бесчестили его и пытали и посадили его в съезжую избу и тем учинили ссору меж наших государств. Воеводу Собакина тоже посадили за пристава, на сходе черных людей выкрикнули атаманом Гаврилу Демидова и отослали в Москву людишек всякого звания свое воровство перед нами оправдать. Чернь и бунтари Новагорода Великого, на своих соседей глядя, то же самое вскорости учинили и у себя.
Пришлось слать князя Хованского со многими людьми под Новый Город и под Псков. Новый Город в апреле сдался, а псковские воры затворились в городе и ни на какие уговоры не шли.
Хованский со всех сторон обложил Псков, но мятежники, — писал мне князь Иван Никитич, — приготовив пушек и пороха и свинца довольно нагло скалили зубы и кричали со стен всякое непотребство.
Однако же возле первого заводчика псковской гили — Гаврилки Демидова — были и верные нам люди и они-то доводили князю Ивану о тайных делах, что вершил Гаврилка в земской избе. И среди прочего известили князя Ивана.
Государь встал, отошел к стене, сам открыл кованый сундук, достал кипу бумаг и, положив на стол, со вздохом сказал:
— Вот, господа-послы, только о псковском изменном деле сколь писем перечитать пришлось.
Покопавшись в бумагах, два письма государь отодвинул в сторону, и первое из них передал через стол дьяку Леонтьеву. Леонтьев начал: «Великому государю…»
Царь прервал его:
— Титул пропусти, не у поляков посольство правишь, главное чти — о воре Тимошке.
Леонтьев, пропуская строчки, читал волнуясь:
«12 июня крестьянин Трофимко Володимиров с товарищами балл, что встретили они возле города Велъя трех литвинов с вялою рыбой. И литвины те Трофимке сказали: „Вашего де государя в Московском государстве нет, а ныне де он в Польше у литовского короля, а выехал де он, государь, в Польшу сам-шест, тому недель с тринадцать; и сами де они царя видели, и король де ево жалует и смотрят де на ново, что на красное солнце. И стояли бы де оные псковичи против Хованского крепко, и от государя де будут пожалованы, а государь де будет с казаками донскими и запорожскими подо Псков на выручку вскоре“».
Царь перекинул через стол второе письмо. Леонтъев, пропуская титул и строки, читал:
«А 18 июня другой крестьянин в той же избе сказывал, что царь приехал в Литву, а 23 июня баяли некие мужики, что царь, оказывается, уже в Аршаве. И тот Гаврилко на вора, что выдает себя за природного московского царевича, возлагает надежды многие и бунтарей в безумии их укрепляет, что де с тем вором могут они над войском вашего царского величества одоление поиметь».
Леонтьев замолк, вопросительно глядя на царя. Боярин Пушкин спросил, с видимым трудом смиряя мощь протодиаконского голоса:
— Великий государь! Не сочти невежеством, что я, холопишко твой, тебя стану спрашивать, а ты мне отвечать.
Царь докучливо махнул рукой: что де за чины, говори спряма. Григорий Гаврилович, приподняв одну косматую бровь чуть выше другой, спросил:
— А как ныне во Пскове?
Царь развел руками, проговорил печально:
— Месяц как уехали во Псков выборные от всех чинов люди призывать гилевщиков к покорности. Однако же все ещё до Пскова не доехали. Сидят в Новом городе Великом — боятся, не учинили бы над ними воры какого дурна.
— А что за люди, государь, посыпаны?
— Именитые люди, Григорий Гаврилович. Епископ коломенский Рафаил, архимандрит Андроникова монастыря Селивестр, вологодский воевода Иван Олферъев, кадомский воевода Иван Еропкин и иные добрые люди.
Послы одобрительно закивали головами: верно де, люди действительно добрые, к замирению бунтарей пригодные: краснобаи, непростодушные, неробкие нравом. — А Ивана Олферьева, воеводу вологодского, послал я, чтоб довел Иван псковским гилевщикам о воре Тимошке истинно: есть де Тимошка худородный вологодский писариш-ко, а не доброй человек и тем паче не из Шуйских князей.
И то дело, уповаю я, Олферьев сделает гораздо: опросил Иван вологжан многих, и о воришке Тимке знает всю подноготную доподлинно.
Боярин Пушкин спросил еще:
— А где ныне воришка?
Царь снова развел руками, сказал печально:
— Бегает неведомо где. И в Рыльск, и в Путивль, и в Белгород, и в другие порубежные с Литвой города описано — сыскивать Тимошку накрепко.
— Торговым бы людям, государь, что к черкасам ездят, то же самое след бы велеть, — робко вставил дьяк Леонтьев.
— И им сказано, — устало ответил царь. — Да прячет вора гетман, кривит душой, не хочет его нам головою выдать.
— А отчего не хочет? — простодушно спросил Степан Душкин.
— Яблочко от яблоньки, — ответил царь. — Сам-то кто таков? Тоже бунтовщик, на природного государя, хоть он и схизматик, руку поднял. Сколь панов побил, какую смуту завел?
А как то казацкое воровство в наших землях аукнулось? Там хамы за рогатины похваталисъ, и у нас разбой да убивства да непокорство из края в край пошли.
Вы мыслите, что калужские или воронежские смерды ничего про те козацкие дела не знали? Всё знали, и немало удачам Хмеля радовались.
И ныне, сказывают, не раз по ярмаркам да по иным торжищам ходили некие безумные шатуны и нагло начальным людям кричали: «Вьется де хмель быстро. Скоро и сюда дотянется. И ударит де хмель многим в головы».
Вот и думайте, господа послы; «А ну, как появится Тимошка во Пскове, а с ним малороссийские казаки — те же бунташные холопы?» Да не дай бог, поможет подьячишке свойская королева Христина? И жди тогда на Москву нового Гришку Отрепьева.
Послы виновато молчали — ведено было им искать вора Тимошку всякими правдами и неправдами, а они, более полугода у ляхов просидев, приехали ни с чем. И хоть не корил их государь — молод был, кроток, и сердцем добр, нехорошо было на душе у послов.
— Доставать надо вора, — зло и громко проговорил великий посол боярин Григорий Гаврилович. А не отдадут — убить.
— А ты как мыслишь, Степан? — спросил Алексей Михайлович у младшего Пушкина.
— Так же мыслю государь, — твердо ответил младший Пушкин. Леонтьев, не дожидаясь, когда его спросят — могли и не спросить — сказал быстро:
— И я так же мыслю, твое царское величество.
Ну, так тому и быть, — ответил Алексей Михайлович. — Пошлем к гетману и к королевскому киевскому воеводе и к митрополиту ещё одного человека доброго, к посольскому делу свычного. А вам, послы, за верную службу царское спасибо.
Государь встал. Встали и послы. Низко кланяясь, стали пятиться к дверям.
Алексей Михайлович, сощурив глаза, глядел на узорчатый оконный переплет. Решил — поедет на Украину послом Унковский Васька. И без вора Тимошки — живого ли, мертвого ли — назад не вернется. И решив так, велел Унковского немедля привести к себе в покои. Не успел государь приказать как растворилась дверь — и в палату вбежал дьяк Волошенинов.
— С радостью тебя, великий государь! — выкрикнул дьяк с порога. Нашли вора — живет Тимошка в Лубнах, в Мгарском монастыре.
Глава двадцать первая. Гетман и князь
Посол Унковский ехал на Украину во второй раз. Он тоже считался одним из лучших дьяков Посольского приказа, однако ничем не напоминал Григория Гавриловича Пушкина. Был Унковский мягок, ласков, вкрадчив. Не терпел грубого слова, и когда впервые встретился с Хмельницким, не раз, краснея, опускал глаза от соленых шуток козацкого предводителя.
Окружавшие же гетмана полковники — только головами крутили и хохотали так, что звенели на столе кубки, да колыхались под образами вышитые рушники.
Коротая в дороге время, читал Унковский данный ему государем наказ: «А будет гетман или атаманы, или пристав, или хто в дороге учнет ево, Василья, спрашивать о летах и о возрасте великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии, и Василью говорити: „Великий государь наш царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Руссии самодержец, его царское величество, ныне в совершенном возрасте и в летах. А дородством и разумом и красотою лица и милосердным нравом и всеми благими годностьми всемогущий бог украсил его, хвалам достойного, паче всех людей. И никто же, видя его царское пресветлое лице опечален отходит. Также и наукам премудрым философским многим и храброму ученью навычен, и к воинскому ратному рыцерскому строю хотение держит большое; и по тому его государскому бодроопасному разуму и храбрству и милосердному нраву — достоен он содержали и иные многие власти и государства“».
Пропустив неважное, читал Унковский далее: «И будучи у гетмана говорити тебе, Василью, о воре, о русском человеке, который был у него, гетмана, а ныне живет в Лубнах, во Мгарском монастыре. А назад едучи от гетмана валено заехати в Лубны и с ним видетца и доставать тебе, Василъю, того вора со всем замышленном».
«Да, — подумал Унковский, — поди, достань, когда Пушкины и те с пустыми руками возвернулись. Видать не лыком шит подьячиш-ка, когда столь народу вкруг себя вертит да никому в лапы не дается».
* * *
Адам Григорьевич Кисель — сколько себя помнил — твердо соблюдал жизненное правило: из всякого лиха, — если хорошо подумать, можно извлечь выгоду. Потому и появление князя Шуйского решил Кисель обратить себе на пользу. Однако спешить не стал, и поместив Тимошу и Костю на своем дворе, велел им отдыхать да отсыпаться, а сам начал думать, что следует предпринять дальше.
В конце концов Кисель решил представить князя Шуйского Хмельницкому. Если русские узнают, думал Кисель, что гетман держит при своем дворе вора и подыменщика, подыскивающего московский престол, то царь станет считать Хмельницкого своим врагом, вынашивающим коварные замыслы. Если об этом же узнает Ян Казимир, то он подумает, что взоры воинственного казацкого предводителя обращены не на Варшаву, а на Москву. Если же гетман выдаст князя Шуйского царю, то, и здесь великой беды не будет: Адам Григорьевич ещё раз докажет свою честность и верность, показав, что ничего от Хмельницкого не скрыл, объявившегося в городе опасного человека отдал в руки гетмана на всю его волю.
Однако Кисель был уверен, что Хмельницкий Шуйского не выдаст гетману и самому такой человек был нужен, ибо обширные замыслы Хмельницкого требовали для начатого им дела людей смелых, грамотных, повидавших свет, и к тому же умеющих ценить сильную дружескую руку, на которую в трудную минуту они без страха могли бы опереться.
* * *
Кисель повез Тимошу к Хмельницкому в Чигирин, не предупредив гетмана, что собирается навестить его с незваным гостем. Кисель знал, что в эти дни в Чигирине находятся два посла — из Крыма, от хана Калги, брата Ислам-Гирея и от семиградского князя Ракоци. Кисель знал, что в честь послов союзных государств пир в доме Хмельницкого будет длиться неделю, что будет у него за столом не один десяток людей и о появлении князя Ивана Васильевича Шуйского враз узнает и вся старшина, и иноземные послы, и тайные доброхоты московского царя.
Кисель знал, что везет он гетману не князя Шуйского, а беглого московского подьячего Тимошку Анкудинова, выдачи которого требовали от него великие московские послы, сидевшие в Варшаве более полугода.
Наконец, Кисель знал, что за Тимошкой едут польские и русские пристава с королевским универсалом о незамедлительной выдаче, но о том ни слова Тимоше не сказал, и при встречах иначе, как князем Иваном Васильевичем его не называл.
Уезжая из Киева, Кисель наказал панам-ратманам из магистрата и панам дозорцам, чтоб соблюдали городские дела, русских приставов Протасьева да Богданова из города не выпускать, писем от них никуда не посылать, а станут спрашивать про него, воеводу, и про русского человека, что именует себя Шуйским князем — отвечать неведением.
Косте воевода наказал без особой на то нужды со двора не уходить, а в городе быть с великим береженном.
И с тем выехал в Чигирин.
Однако на сердце у Адама Григорьевича было неспокойно — знал он бешеный нрав гетмана и поручиться за то, что примет его Хмельницкий вместе с подыменщиком Тимошкой ласково — не мог.
* * *
Третий день гулял в своем чигиринском палаце гетман Богдан. В большом зале были поставлены столы, за которыми сидело чуть ли не сто человек. И каждого из гостей гетман потчевал с золотой посуды, что было не по карману ни польскому королю, ни семиградскому князю.
Перед дверью Адам Григорьевич перекрестился и, прошептав: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», — шагнул через порог.
Хмельницкий хотя и вел себя со многими иноземцами как самодержавный государь, в домашнем обиходе был по-прежнему прост: не заводил многочисленной дворни, не вводил стеснительных церемоний.
Казаки — джуры только тогда докладывали Хмельницкому о приходивших к нему просителях, или гостях, когда гетман бывал занят и приказывал никого к себе не пускать. А если такого приказа не было, то начальник дежурной полусотни сам решал, кого следует пустить в дом, а кого — нет.
Адама Григорьевича Киселя в палаце Хмельницкого знали все — не раз бывал он в застольях, не раз — в беседах, потому и пустили его, не замедлив ни на минуту. А вместе с Киселем пустили в дом и нарядно одетого пана с надменно выпяченной губой и гордым взором.
Переступив порог зала, Кисель и Тимоша тотчас же окунулись в гул голосов — громких и дерзких, в клубы едкого табачного дыма от десятков коротких запорожских трубок — люлек.
Звон кубков, зычный смех, соленые шутки старых рубак-товарищей гетмана — мгновенно успокоили Адама Григорьевича, ибо он знал, что в дружеском застолье гетман редко бывает вспыльчив и гневен.
Хмельницкий сидел за отдельным столом, стоящим на невысоком помосте, закрытом ярким кизилбашским ковром. Рядом с ним сидели послы Трансильвании и Крыма, генеральный писарь Иван Выговской, старший сын гетмана — Тимофей, генеральный бунчужный и шесть полковников. Среди изукрашенных золотом и серебром иноземных послов и соратников гетмана сидел нахохлившийся черной вороной игумен Мгарского монастыря — Самуил.
Кисель, одной рукой придерживая волочащуюся по полу саблю, пошел плечом вперед к столу гетмана. За ним, набычившись, шал Тимоша, цепко вглядываясь в лица гостей Хмельницкого. Однако почти никто не обращал на них внимания.
И лишь когда подошли они к столу гетмана, многие заметили пана Киселя, и то потому только, что часто взглядывали в сторону хозяина дома.
Кисель, выказывая истинное свое благочестие, прежде поцеловал руку игумену Самуилу и лишь после того поклонился гетману.
Гетман был хотя и хмелён, но по всему было видно — не пьян. Хитро сощурившись, окинул он Киселя с головы до ног насмешливым взглядом и сказал с показной мужицкой простотой:
— Никак соскучал, пан воевода? Приехал лицо мое видеть, о здоровье моем спросить?
— И за этим приехал, пал гетман, и за кое-чем иным, — ответил Кисель, глядя прямо в глаза Хмельницкому.
Хмельницкий, будто не слыша сказанного, продолжал:
— И не один, вижу я, пожаловал — доброго человека с собою привел.
Кисель расплылся в улыбке, приложив руку к сердцу, проговорил с восторгом, громко, чтоб слышали многие вокруг сидящие:
— Истинно молвил Богдан Михайлович — доброго человека привел в твой дом — князя Ивана Васильевича Шуйского — великого тебе доброхота.
При этих словах Хмельницкий вконец протрезвел. Кисель понял: всё знает гетман о князе Шуйском — раньше него довели Богдану Михайловичу о подлинном имени князя — были у Хмельницкого сторонники и среди панов-католиков из королевской свиты, да и сам Оссолинский — подумал Кисель — мог сообщить гетману нерусских послах, и о худом человеке, подьячишке Тимошке, что воровским обычаем влыгался в царское имя, и выдачи которого требовали царские послы. Понял и ждал: что сделает гетман? Что скажет?
Гетман, не подавая Тимоше руки, чуть склонил голову, указал на край стола:
— Садись, Адам Григорьевич, и гостя своего рядом с собою посади.
«Ох, хитёр, сатана, — подумал Кисель. Даже то, как сказал — не моего гостя, а „своего“, и сесть только мне предложил, а Тимошку велел рядом со мною посадить. Да и не сам ему об этом сказал, а через меня же. Истинно сатана».
Кисель сел: рядом с игуменом, Тимоша — рядом с Киселем. Анкудинов понял — игумен и Кисель давно знают друг друга: беседа их текла плавно, неспешно. Говорили старики не о божественном — больше вспоминали друзей, знакомых — мирян и духовных из Киева и из Лубен.
Игумен Самуил, взглянув на Тимощу из-под кустистых, черных — не по годам — бровей, сказал добросердечно:
— За нашим с тобой, Адам Григорьевич, разговором князь Иван в сей же час заснет. Нет у князя ни в Киеве, ни в Лубнах никого, кто был бы и ему и нам известен.
Тимоша скосил глаза, подумал: «Сказать, или нет?» — Решил: — «Скажу».
— Был у меня, отче, приятель из Лубен, знакомый мне человек. Звали его Иваном, а прозвище ему было — Вергунёнок…
Самуил опустил глаза. Кисель с любопытством поглядел на Тимошу, подумал: «Зачем одному подыменщику о втором рассказывать?»
Тимоша, глянув на стариков, понял: знают про Вергунёнка оба — и воевода и игумен. Едут, что он им про Ивана скажет.
— Был мне Иван — великий друг, — проговорил Тимоша, внимательно следя за выражением лиц игумена и воеводы. — Метнули нас в тюрьму, в Семибашенный константинопольский замок. И там Иван признался мне, что он — родом из Лубен и прозвище ему Вергунёнок. А визирю и иным начальным людям говаривал Вергунёнок, что он — царевич Иван Дмитриевич, царя Дмитрия — сын.
— И как же ты — прирожденный князь и русского царя внук — подыменщика и вора мог считать другом? — спросил строго игумен Самуил, не знавший, что и князь Иван Васильевич с Вергунёнком одного поля ягода: такой же самозванец.
Кисель молчал, ожидая, как ответит Аннудинов, что скажет?
К начавшемуся меж ними разговору внимательно стал прислушиваться генеральный писарь Иван Выговской — государственный канцлер и хранитель печати, как называли его послы с Запада, так же, как и Кисель, хорошо знавший, кто таков князь Шуйский на самом деле.
Тимоша ответил громко, для всех, кто мог вопрос Самуила услышать и столь же сомневаться, как и велемудрый старец.
— Бог дал помазанникам своим державы и государства не для того, чтобы они сладко пили и ели, окружив себя покорной и ласкательной челядью, хотя бы и княжеского происхождения. И не для того, чтобы кабалить вольных людей на потребу богатым да брюхатым. Бог дал царям и королям державы и государства, чтобы они честно и грозно блюли его заповеди: защищали убогих и сирых, карали жестоких и алчных, справедливо раздавая кары и милости.
А русский царь и бояре, и дьяки, и помещики народ свой столь же любят, как любил кормивших его мужиков князь Ерёма Вишневецкий и иные паны-католики!
Тимоша попал в точку: имя Вишневецкого до сих пор было самым ненавистным на всем левобережье.
На громкий голос Тимоти, на слова его — гневные, страстные оглянулись сидевшие рядом есаулы, атаманы и полковники. Увидев это, Тимоша продолжал;
— Только паны — зрадцы, душегубы и насильники — нашли на себя управу: гетман Богдан Михайлович посгибал им шеи и вызволил народ свой из-под панского ярма, а московский царь гнетет народ вместе с русскими панами и не нашлось на него пока что своего гетмана! А ежели бы появился на Руси Иван Вергунёнок, хотя и самозванцем, да защитил бы русский народ от бесчинств царских холуев, осушил бы слезы вдов, пригрел сирот, дал хлеб алчущим — не святое ли дело свершил бы тот Вергунёнок? И я бы сам под его начало пошел, ибо не породой берет человек, а силой и разумом!
Гетман слышал слова Анкудинова, но делал вид, что не слышит: тихо говорил о чем-то с семиградским послом, отвернув голову в сторону от Киселя и Тимоши.
* * *
С ведома гетмана и генерального писаря Тимоша и Костя вскоре из Киева уехали и поселились в Лубнах, в Мгарском монастыре. Братия монастыря не знала, что за люди поселились в обители и из-за этого о новых постояльцах говорили разное. Однако все видели: игумен Самуил кормил их со своего стола и чуть ли не каждый день к таинственным богомольцам приезжали в монастырь гонцы. Чаще других видели монахи гонцов от гетмана, генерального писаря и киевского воеводы. А временами приходили к богомольцам неизвестные люди разного звания. А однажды в поддень пришли в монастырь люди, мало похожие на богомольцев. Одежда на них была справная, сапоги крепкие, взоры дерзкие. Было их трое — все невысокие, голубоглазые, белокурые. Говорили не по-здешнему — бывалые иноки сразу же определили — псковичи. Минуя игумена, прошли в келью к таинникам и не выходили до вечера.
Видели, как один из постояльцев неоднократ из кельи выбегал и по его приказу кухонные мужики тащили гостям и еды, и питья весьма довольно. А вечером вышли все пятеро из кельи и, обнявшись, ушли из монастыря вон, пошатываясь и пересмеиваясь.
На следующее утро иноки доведались: оставили псковичи в лесу, от монастыря в полуверсте, отрока с полудюжиной коней. И того отрока расспросил монастырский келарь отец Алимпий. А отрок по молодости возраста своего, и убоясь греховной лжи, все рассказал Алимпию доподлинно.
«Живет де в Лубнах, в обители московский царевич Иван Васильевич. И ждут де того царевича псковские люди, поставившие щит супротив нынешнего обманного царя Алексашки.
И буде царевич Иван Васильевич согласится, поедут добрые псковские люди с ним, господином, во Псков. И там поцелуют гражане псковские и иных городов люди законному государю крест и пойдут добывать для Ивана Васильевича его прародительский московский престол».
Алимпий обо всем рассказал Самуилу и прежде чем псковичи успели с князем Иваном Васильевичем договориться, в Игарском монастыре объявилась дюжина казаков — ражих, мордатых, со всех сторон обвешанных саблями да пистолями.
* * *
Казачий начальник в алом кунтуше, в шапке рытого бархата, с шелковой кистью, спадающей на плечо — пригнувшись, вошел в келью со звоном и шумом. Остановился на пороге, подперев могучим плечом дверную притолоку. Не снимая шапки, пробасил зычно:
— По здорову ли, Панове?
Захмелевшие псковичи и Тимоша с Костей благодушно воззрились на великана.
— А ты кто таков будешь, молодец? — спросил Анкудинов.
— Есаул Тарас Кононенко, пан князь, — ответил великан с ленивым спокойствием.
— Проходи, Тарас.
— Недосуг мне, пан князь. Да и за порогом казаки мои ждут меня.
— Тогда говори, зачем пожаловал?
— Не гневись, пан князь, на то, о чем скажу тебе. То не мои слова, а самого гетмана.
Кононенко распрямился, положив руку на эфес сабли, сказал громко:
— Ведено мне гостей твоих, князь Иван Васильевич, сей же час взять и до порубежных мест допровадить. Ни бесчестья, ни дурна, ни лиха от казаков моих им не будет. Але и гостевать им на земле войска запорожского не велено.
Анкудинов, сжав кулаки, молча слушал. Пытался понять: что задумал Хмельницкий? Откуда свалилась на него эта напасть?
Раздув от бешенства ноздри, спросил хрипло:
— Что же, пан гетман мне и письма никакого не послал?
— Не послал, пан князь. Велел все на словах передать. Тимоша молчал. Сощурив глаза, думал.
— Вот что, Кононенко. Супротив воли гетмана я не пойду. Однако ж и гостей моих попрошу тебя не трогать. Подожди пять дней, а я за то время с Богданом Михайловичем обошлюсь, и почему он гостей моих с Украины велит вон высылать — доведаюсь.
Кононенко несогласно покрутил головою.
— Ждать мне, пан князь, не велено. А сказано — не мешкая вывозить псковских людей к русскому рубежу.
Молчавшие до того псковичи загомонили:
— Мы — вольные люди, есаул, и неволить нас ни вам, черкасам, ни царскому воеводе Ивашке Хованскому не дозволим! — воскликнул один.
— Какая же меж вами и царскими холуями разница, ежели вы супротив нас, вольных людей, заодно с боярами идете? — выкрикнул второй.
— Я того не ведаю. То дело государственное, — смутившись, проговорил Кононенко.
— Бистро на вас пан гетман ярмо надел! — презрительно сощурив глаза, промолвил третий пскович.
— Ты гетмана не замай! — заорал вдруг есаул. — Гетман туда глядит, куда ни одному из вас за всю жизнь не доглядеть! Выходите за порог немедля! И не вздумайте какого баловства чинить, или же хитрости!
Есаул крутанулся на каблуках и вылетел в дверь со звоном и топотом.
Тимофей сказал примирительно — будто он сам во всем приключившемся был виноват:
— Господа послы! Надобно воле гетмана покориться. Придется вам уехать восвояси. А я завтра же утром отправлюсь к гетману и все доподлинно узнаю. А узнав, пошлю к вам весть, можно ли мне быть во Пскове.
Псковичи встали. Враз склонили кудлатые белокурые головы. Молча, один за другим, вышли из кельи вон.
Тимоша за порог не пошел — не хотел смотреть, как гостей его, окружив конной стражей, поведут казаки за монастырские ворота. Сказал только Косте:
— Поди вместе с ними до того места, где кони их стоят и попрощайся с ними сердечно.
* * *
Иван Евстафьевич Выговской встретил Тимошу как родного сына: не знал, в какой угол посадить, не знал, чем потчевать, какие ласковые слова сказать.
Притворив дверь плотно, сел рядом, сказал тихо, душевно:
— Дурит хозяин. Хочет меж двух стульев сидеть. С королем воевать без московской помощи не решается… Думает, царь ему поможет. А объявись ты во Пскове, царь ни денег, ни пороха, ни пищалей гетману не даст.
— Вот оно что! — выдохнул Тимоша.
— А ты как думал! — воскликнул Выговской. Я же, напротив, всяко гетмана уговаривал: «Пусти де Иван Васильича во Псков. Царь, его испугавшись, с Яном Казимиром помирится и нам с королем воевать не придется.» А гетман взъярился, кричит: «Тебе лишь бы с королем не воевать! И того ради ты готов меня со всем светом перессорить! Не бывать тому!» И тут же велел Кононенко уехать в Лубны и псковичей тех до московского рубежа допровадить. А тебя, — тут Выговской наклонился совсем близко к уху Тимоши, велел стеречь пуще глаза. Так что теперь будешь ты от лихих людей безопасен, но и воли прежней у тебя не будет.
— И долго ли буду я под стражей у гетмана?
Выговской печально повел очами, пожал плечами. Сказал задушевно:
— Имей на меня надежу, князь Иван Васильевич. Буду стараться, сколь могу, чтобы было все по твоей воле. Да господь свидетель, — не все пока что могу.
* * *
Между тем Петр Данилович Протасьев и Григорий Карпович Богданов с великой мешкотой, бесчестьем и задержанием через три недели добрались до Киева. Здесь они узнали, что ни гетмана, ни воеводы в городе нет, куда уехал польский пристав Юрий Немирич — никто не знал, коронные чиновники говорить с ними о чем-либо отказывались, на все отвечали неведением, и ни гонцов, ни денег, ни подвод не давали.
В конце концов киевский митрополит Сильвестр на свой страх и риск, делая вид, что не знает о приказе Киселя не помогать гонцам, дал Протасьеву две подводы и пятьдесят рублей. Пристава поехали в Чигирин, но когда, наконец, оказались они в резиденции гетмана, их и там ожидало горькое разочарование — Хмельницкий во главе большого войска отправился к границам Валахии.
Пристава кинулись вслед и, претерпевая великие опасности от многочисленных конных шаек, рыскавших между Днепром и Бугом, наехали, наконец, гетмана в городе Ямполе на Днестре.
Хмельницкий принял приставов сухо. Он сказал им, что давно уже ничего об Анкудинове и не слышал, и где он теперь — не знает.
— Дело ныне военное, — сказал гетман, — и мне с вами, панове, размовляться некогда. Да и вам при войске быть невместно. Поезжайте как вы обратно.
Протасьев бухнулся гетману в ноги, заголосил по-бабьи:
— Пан гетман! Не губи ты наши души, не отдавай нас на растерзание! Как предстану перед государем без вора? Что скажу его пресветлому величеству? Не смогу я молвить, что ты, пан гетман, просьбы его не уважил, православному русскому царю худородного подьячишку не выдал и любовь государскую на воришку сменял.
Хмельницкий задумался.
— Ладно, Петр Данилович. Велю написать универсал, чтоб человека того, что называет себя князем Шуйским, вам выдали ради любви моей и приятельства к Алексею Михайловичу, вашему государю. Однако и ехать вам сейчас, пожалуй, не след. А ну, как попадете вы в полон к татарам, тогда уже не Шуйского, а и вас самих придтся Алексею Михайловичу вызволять.
Протасьев робко спросил:
— Что же делать повелишь, пан гетман?
— Оставайтесь пока при войске, а как я назад в Чигирин пойду, то и вы вместе со мною безо всякой опаски возвернетесь.
— Мешкотно это и тебе и нам, пан гетман, — тихо возразил Протасьев.
Хмельницкий посуровел:
— Недосуг мне с вами, паны-пристава, язык чесать, не в застолье мы с вами — на войне. Как сказал — так и будет.
Протасьев и Богданов, поклонившись, огорченные пошли вон.
Протасьев у двери спросил:
— А у кого нам тот универсал выправлять?
— О том я сам скажу писарю в моей походной канцелярии, — буркнул гетман недовольно.
Оказавшись за дверью, пристава только руками развели — вроде и добились своего, да только универсал ещё не написан, и когда запорожское войско назад пойдет — ведают лишь господь бог да пан гетман.
* * *
Протасьев и Богданов возвратились в Киев только осенью.
Верные люди, что завсегда держали руку московского царя, довели им, что двое путивльских купцов — Марк Антонов и Борис Салтанов — давно уже обнаружили воров. На ярмарке, в Миргороде узнали купцы о ворах, тайно проживающих во Мгарском монастыре, и, узнав, тотчас же отписали об этом путивльскому воеводе князю Прозоровскому.
А тот наборзе послал в Москву гонца и через две недели получил от государя указ отправить в Лубны дьяка Тимофея Мосалитинова.
Хотя Василий Яковлевич Унковский ехал изрядно поспешая, гонец все же обогнал его, и первым в Дубны приехал не он, а даже Мосалитинов.
* * *
Путивльский воевода Семен Васильевич Прозоровский имел весьма дурной нрав и всем служилым людям ходить под его началом было — ох, как трудно.
Дьяк Мосалитинов, хотя и был у Прозоровского правой рукой, характер князя едва переносил, и мечтал поелику возможно скоро от службы в Путивле избавиться. Поэтому, когда пришло от царя повеление привезти в Москву из Мгарского монастыря вора Тимошку Анкудинова, Мосалитинов решил: вот она его судьба, его путеводная звезда. Выполнит он царский наказ — и быть ему в Москве, в каком-либо приказе иди избе, а может статься и возле самого государя.
И потому, приехав в Лубны, он упросил игумена Самуила разрешить ему повидаться с человеком, именующим себя князем Шуйским и живущим в его игумена Самуила — монастыре.
* * *
Анкудинов, узнав о приезде путивльского дьяка, решил, что лучше всего будет сразу же встретиться с ним и затем как можно дольше водить Мосалитинова за нос, не говоря ему ничего определенного. А вместе с тем в разговорах с ним исподволь выведывать, какие же козни готовит ему царь?
Допустив дьяка к себе в келью, Тимоша стал спрашивать:
— По государеву ли указу ты приехал? Не с замыслом ли каким? Нет ли у тебя подводных людей? Не будет ли мне от тебя какого убийства?
Мосалитинов, крестясь на образа, целуя святое евангелие и божась страшными клятвами, говорил:
— Государь Тимофей Демьянович, спасением души моей и жизнями детишек моих клянусь, что никакого дурна тебе от меня не учинится.
Тимоша, сидя на лавке и поигрывая концами кушака, спрашивал дьяка и вдругорядь и в третий раз. И дьяк все время говорил одно и то же, всякий раз находя новые клятвы и дивясь собственному красноречию.
Анкудинов сказал, наконец:
— Завтра приходи ко мне обедать, дьяк Тимофей. Дело твое не простое, сразу его не решишь.
Мосалитинов униженно кланялся, благодарил за честь, сам же думал; «Ну, доедем мы с тобой до Путивля, там ты у меня по-другому запоешь».
Прошел обед, а за ним — второй — в избе у дьяка. Тимоша явился на обед к Мосалитинову сам седьмой — шесть человек с саблями; и пистолями были при нем, и сам Тарас Кононенко среди них. Однако и на этот раз ехать в Путивль Анкудинов отказался: потребовал привезти ему из Москвы охранную царскую грамоту на имя князя Ивана Васильевича Шуйского.
Мосалитинов чуть не заплакал, услышав новую воровскую хитрость. Однако делать было нечего — и дьяк, пообещав такую грамоту привезти, отъехал на следующий день в Путивль.
* * *
Меж тем, 13 сентября 1650 года, у самого литовского рубежа, посла Унковского догнал ещё один гонец и повелел, не заезжая в Чигирин, направляться в Дубны.
Унковский свернул на Ромны и через Лохвицу добрался до монастыря. Но вора в монастыре не оказалось: уехал не известно куда, и досол, расспросив братию и игумена о худородном подьячишке Тимошке и товарище его — конюховом сыне Костке, уехал в Чигирин.
1 октября посла встретил генеральный писарь Запорожского войска Иван Выговской, правивший всеми делами в отсутствие гетмана, который все ещё был с войском у волошских границ. Выговской разместил посольство и, сославшись на то, что переговоры может вести только гетман, попросил Унковского дождаться возвращения Хмельницкого.
Унковский тайно опросил доверенвнх людей, державших сторону российского государя, и те люди сказали ему, что есть в Киеве некий мещанин по фамилии Левко. И тот мещанин, сказали Унковскому царские доброхоты, жил с вором на одном дворе и добре все о нем знает.
За обещанные Унковским изрядные деньги Левко приехал в Чигирин и поведал послу, что истинно — жил он с князем Шуйским на одном дворе, не раз видел его с Адамом Григорьевичем Киселем и слышал, что князь — близкий Выговскому человек.
Унковский посулил Левко немалую дачу, чтобы он, Левко, Тимошку каким-либо питьем опоил или чем-либо окормил до смерти. И мещанин Левко, потребовав часть денег вперед, пообещал Василию Яковлевичу вора Тимошку уморить.
* * *
После того, как Хмельницкий ушел в поход, Тимошаи Костя жили то у Самуила в Лубнах, то у Киселя в Киеве.
Узнав, что в Чигирин приехал царский посол, Анкудинов и Конюхов поехали туда же, нимало не опасаясь, ибо правил всеми делами в Чигирине их друг Иван Выговской. И на этот раз Тимофей хотел доподлинно выведать, что надобно здесь московскому послу.
Генеральный писарь принял Тимошу, как и прежде, душевно и приветливо:
— Ты, князь Иван, на меня будь надежен и Василия Унковского нисколько не страшись. Здесь я хозяин. Если кому и надобно чего страшиться — то не тебе.
В конце разговора Выговской сказал, где стоит посольство, и Тимоша, оставив коня во дворе Выговского, пошел к посольскому дому. Возле дома встретил он двух слуг Унковского и, назвавшись торговым московским человеком, легко затеял с ними беседу о Москве, о дороге в Чигирин, о местных делах. Нашлись у собеседников и общие знакомые: знал Тимоша свояка Унковского, думного дьяка Михаила Данилова, знал и нескольких торговых людей средней руки.
По совету Выговского Анкудинов направил к московскому послу одного из своих слуг, назначив Унковскому на завтра в полдень свидание в церкви.
Тимоша и Костя весь остаток дня советовались, как им вести себя с послом и что говорить. И хотя и решили стоять на прежнем, покоя в душе ни у того, ни у другого не было.
Тимоша заснул под утро. Снилась ему Вологда, мать, владыка Варлаам, табуны в ночном.
Проснувшись близко к полудню, Тимоша вспомнил ответы рукописного сонника или же «Снов толкователя», что видеть лошадь — ко лжи, а многих лошадей — ко многим вракам. Видеть же попа — к несчастью. И закручинился. Но здесь в дверь постучали и на пороге появился Борис Тимофеевич Грязново, близкий к гетману человек, муж великого разумения. Был Борис из старого дворянского рода и бежал к гетману Богдану, рассорившись со всеми своими родственниками и свойственниками, коих считал много глупее и ниже себя. Бит Борис горд, ни перед кем шапки не ломал, знатность рода не ставил и в грош, и превыше всего ценил ум человека — будь то холоп или князь.
И потому к Ивану Васильевичу Шуйскому испытывал Борис большую приязнь.
Узнав от Выговского о предстоящем свидании Унковского с Шуйским, Борис поспешил к своему приятелю с тем, чтобы укрепить его добрым советом.
Тимоша, увидев Грязново, обрадовался.
— Добрая примета на весь день, когда добрый человек с утра в дом жалует, — сказал он приветливо. Грязново склонил голову, сказал, добродушно ворча;
— Чего это ты, князь, подобно старухе-богомолке о приметах баишь, али худой сон видел?
— Видел, — простодушно признался Тимоша, широко улыбаясь.
— Не о снах да приметах надобно тебе думать. О яви нонешней подумай, — так же ворчливо продолжал Грязново. — Тебе ныне с дьяволом встретиться надлежит и ты духом будь крепок, а умом ясен. И ни на какие его слова отнюдь не прельщайся. Не для того царь послов да гонцов то в Варшаву, то в Чигирин, то в Киев шлет, чтоб тебе милость свою явить — не сын ты ему — супостат. И ты это знай, и ни единому слову Васьки Унковского не верь.
— Да нешто я дитё, — обидчиво возразил Тимоша.
— Знаю, князь Иван, что и умен ты и осторожен, но чем чёрт не шутит, когда бог спит? — засмеялся Борис.
* * *
Когда Анкудинов пришел в церковь, Унковский был уже там. «Видать, тебе увидеться со мной не терпится больше, чем мне с тобой», — подумал Тимоша, вглядываясь в бледное, благообразное лицо царского посла.
Унковский тоже неотрывно глядел в лицо Анкудинову — сурово и спокойно. Оба они сразу же узнали друг друга: хотя и не часто, но встречались в московских приказах по разным бумажным делам.
Тимоша, войдя в церковь, снял шапку, и получилось, что он вместе с угодниками божьими заодно приветствует и Василия Яковлевича. Унковский в ответ еле наклонил голову. Не называя Анкудинова ни по фамилии, ни по имени, Унковский сказал:
— Надобно тебе ехать в Москву.
— Кому это надобно? — спросил Тимоша дерзко.
— Великому государю Алексею Михайловичу, — ответил Унковский с сдерживаемым раздражением.
— Пошто я ему занадобился? Ай жить без меня не может?
— Ты, Тимофей, не дури. Если государь велит — сполняй. Много ты дурного ему учинил, но он все то тебе прощает. А не поедешь, — голос Унковского стал строгим и пугающим, — достанем тебя силой и привезем, где бы ты ни обретался.
— Да зачем я ему — государю? Ежели он меня простил, для чего же меня в Москву требовать? Для награды? — в голосе Анкудинова звенела все та же насмешливая струна, с самого начала раздражавшая Унковского.
— Не холопье дело — рассуждать! — взорвался посол. — ТЫ прежде исполни, что тебе велено, а потом уж увидишь — зачем да почему.
— А я сызмальства в дураках не ходил, и холопом себя никогда не считал! По мне, тот — холоп, кто себя таковым сам понимает, будь он хотя бы боярин, князь, или государев посол!
— Вот как ты заговорил, христопродавец! — покраснев, будто от удушья, закричал Унковский. — За сколько Серебреников продал народ свой, Иуда?!
— Это ты будешь о народе радеть, благодетель? — по-прежнему тихо, но уже без насмешки, а с еле сдерживаемой яростью спросил Анкудинов. — Ты будешь мне говорить о народе? Да вы его десять тысяч раз ограбили, обездолили и продали — ты, твой царь и вся ваша воровская ватажка!
Вы потому и боитесь меня, что я давно вас всех раскусил: понял, какие вы народу отцы и защитники. — Оттого-то и нет вам покоя, оттого-то и ловите вы меня, да только не поймаете. А я до вас когда-нибудь доберусь. Помяни мое слово, холопья душа — господин посол. И тогда не ждите у меня пощады, не будет её вам — народ не даст.
Тимоша повернулся и выскочил из церкви.
Сердце его гулко билось, он тяжело дышал от обиды и ярости, и в мозгу у него все время крутилась одра и та же фраза: «Никогда и ни за что не стану я больше переговаривать с царскими холуями. Никогда и ни за что».
* * *
После свидания в церкви рассерженный и вконец раздосадованный Унковский ещё раз призвал к себе Левко, называя его, впрочем, на московский лад Лёвкой, и из собственных рук дал готовому к убийству мещанину ладную пищаль — сверх посула, хотя и пищаль стоила немалых денег. И с той пищалью Левко ежедень крутился около Тимошиного двора и прятался у дороги, но жил вор очень бережно и казаков возле него было прикормлено много, и Левко, отчаявшись убить Тимошку из пищали, решил подыменщика отравить. Да только не знал, как к тому деду подступиться. И страшась потерять обещанную ему великую мзду, пошел напрямки.
Жил в Чигирине коновал и цирюльник Федор Пятихатка. Левко немного знал Федора, знал, что цирюльник пускает кровь, варит целительные зелья, знает заговоры от дурного глаза и поговаривают — может изготавливать яды для опоя и окорма. Одного не знал Левко, что Федор Пятихатка стародавний приятель Выговского и обо всем, что узнает, либо услышит, немедля сообщает генеральному писарю.
Левко пришел к Федору и попросил у него какого-либо отравного зелья, уверяя цирюльника, что его свояк, живущий на хуторе под Киевом, решил таким образом избавиться от волка, уже задравшего у него четыре овцы.
— А не две ли у того волка ноги? — спросил Пятихатка, — а то дам тебе зелья, а ты его супротив человека спользуешь.
Левко побожился, что никаких лихих замыслов он не имеет, носит крест, и только того и хочет, чтоб помочь свояку.
— Я дам тебе сильного яду, — сказал Федор, — от него не только волк медведь подохнет, но стоить это будет недешево.
Левко, услышав цену, ахнул:
— Дай ведь на такие деньги свояк две дюжины овец купит. Нешо нету у тебя зелья подешевле?
— Есть-то оно есть, да от него и петух может оклематься, а уж если хочешь кого наверняка уморить, то тогда и деньги плати, какие требую — не простое это зелье — заморское, из города Венеции, где проживают по таким делам на весь мир знаменитые мастера.
Делать было нечего и Левко, стеная в душе, отдал Пятихатке золотой червонец: пятую часть обещанной Унковским награды, а взамен подучил щепотку белого порошка, который, по словам цирюльника, не имел ни цвета, ни запаха, без остатка растворяясь в любом питье и в любой пище.
Дал Пятихатка Левко безвредный порошок и в тот же день сообщил обо всем Вытовскому. А генеральный писарь велел следить за киевским мещанином и вскоре узнал, что ходит Левко к московским послам на двор и часто бывает возле двора князя Ивана Васильевича.
И тогда Выговской позвал к себе Тимошу и они быстро договорились о том, что им следует предпринять дальше.
* * *
Левко от радости совсем ошалел, и не помня себя, среди бела дня побежал на подворье к Унковскому.
— Василий Яковлевич, государь! — закричал он с порога, увидев посла, — услышал господь наши молитвы, прямо в руки отдает нам супостата!
Сегодня вечером звал меня к себе за стол ближний Тимошкин друг Костка, бает есть у него ко мне дело, а о том деле лучше нам поговорить в застолье. Я спросил: «Что за дело?» Костка прямо не ответил: «Есть, говорит, одно дело, но не здесь, а в Киеве, только о том даже и не он со мной говорить будет, а некий иной, великий человек, а имя де его пока он мне говорить не станет».
Унковский задумался.
— А не подводный ли Костка человек? — спросил у Левко осторожный посол.
— Что ты, государь, что ты! Костка не в пример хозяину своему весьма простодушен, хитрости за ним никогда никакой не водилось.
— Как-то уж больно хорошо дело слаживается, просто не верится — до чего хорошо.
— Да ведь вот уж неделю брожу с пищалью безо всякого толку, возразил Левко, восторженный идущей в руки удачей.
— Ну, ин ладно, — попробуй, — согласился Унковский, и Левко убежал наряжаться к вечерней трапезе, твердо надеясь, что уж как-нибудь выберет момент и подсыплет яд в кубок ли, в тарелку ли супостату.
Левко решил прибежать пораньше и когда никого ещё за столом не будет, совершить задуманное. Однако, когда он пришел и Костя и Тимофей сидели за накрытым столом, и увидев его на пороге, тотчас же прервали начатый разговор.
Костя встал, радушно распростер объятия:
— Вот, Иван Васильевич, тот доброй человек, о коем мы с тобой только что речь вели, — произнес Костя, обращаясь к Анкудинову.
Тимоша встал, крепко пожал Левко руку, сказал:
— Сей человек мне знаком. Виделись мы не то у Адама Григорьевича Киселя, не то ещё у кого из панов.
Левко подтвердил — именно у Киселя, но добавлять, что не за столом, а всего лишь на подворье — не стал.
Сели за стол, выпили по одной чаре вина, по другой.
— Ты уж нас извиняй, что сидим запросто, без слуг. Дело у нас такое, что никто лишний знать о нем не должен, — сказал Костя.
— Не боярин я поди, — согласился Левко.
— Ну, и ладно, — сказал Тимоша и предложил выпить за здоровье гостя ещё по одной.
Левко заметно захмелел, но помнил твердо — зачем он здесь и что надлежит ему сделать. А гостеприимный хозяин и его веселый друг шутили да отшучивались, говорили да отговаривались, но о деле пока что ни слова не произносили.
Наконец Костя сказал Левко:
— Ты нас за простоту нашу прости. Однако ж когда ты пришел, мы о деле нашем не до конца договорили. И ты на нас обиды не имей, ежели мы в соседнюю горницу выйдем и там за недолгое время обо всем порешим.
— Что вы, господа хорошие, да нешто я боярин, — замахал руками Левко, радуясь великой удаче — остаться одному и все дело в момент завершить.
Тимофей, тяжело опираясь о стол, — «здорово, видать, захмелел», подумал Левко, — с трудом встал и, положив Косте руку на плечо, вышел из комнаты.
Левко трясущимися от нетерпения и страха руками достал маленькую — с ноготок — серебряную коробочку, открыл крышечку и высыпал белый порошок в кубок вору.
Плюхнувшись на лавку, Левко с тревогой стал ждать возвращения к столу Тимофея и Кости, нетерпеливо поглядывая на дверь, на стены, увешанные ятаганами да пищалями.
Наконец оба супостата появились и сели всяк на свое место. Тимоша налил вина: сначала Левко, потом Косте, после всех — себе.
— Ну, Левко, — сказал Тимоша, — задумали мы дело тайное, дело великое.
Левко весь превратился в слух, однако более всего не рассказа ждал ждал, когда выпьет супостат зелье.
Тимоша продолжал:
— Однако ж, по русскому обычаю, чтоб дело то успешно завершилось и не было у нас друг на друга ничего тайного, надобно нам перемениться кубками. Тимоша Костин кубок взял себе, — у Левко сердце едва не выскочило из горла, только успел подумать: «Ах, дурак, надо было обоим ворам зелья подсыпать!» — Косте подал кубок Левко — Левко покрылся холодной испариной, — а свой передвинул на край стола главному затейщику.
«Что же это, господи, — подумал Левко, — выходит я сам себя насмерть отравить должен?» И явственно услышал слова Пятихатки: «Я дам тебе сильного яду. От него не только волк, — медведь подохнет».
Ударом кулака Левко сбросил кубок на пол и выскочил за дверь быстрей, чем если б за ним гнались волки.
Когда он был уже у самых ворот, за спиной у него грянул выстрел, и он, не помня ничего, побежал вперед, круша плетни и путаясь в сухих будяках пустых осенних огородов.
* * *
Когда после этого Унковский ещё раз попытался уговорить Анкудинова встретиться с ним, он получил от Тимофея такое письмо:
«Всякий человек, как говорится в Евангелии, есть ложь. Однако же убийца, по Евангелию же, есть сатана, ибо не стоит во истине и истины нет в нем. Так и ты — человек, а не божий, так как поручал к убийству, прельщая очи убийцы мздой воровскою. Зачем же ты при свете ищешь тьму? И зачем теперь пишешь лукавые письма и в письмах этих ищешь сучок, а не чувствуешь бревна в глазах своих? Лечишь здорового, а сам слеп, учить правым путем ходить, а сам идешь кривой дорогой, как слепец без поводыря… А теперь обидчик, обидь еще, лжец и убийца убивай еще; клеветник, клевещи еще; будет час и не минет месть тебя».
Обо всем случившемся Выговской немедля донес гетману, накануне вернувшемуся в Чигирин из похода на волохов.
Гетман готовился к празднику: он женил своего старшего сына Тимофея на дочери волошского господаря и со дня на день ждал послов, которые ехали с просьбой об этом.
13 октября сватовство началось и Тимоша вместе с Выговским и ещё двумя десятками самых близких гетману людей был приглашен Хмельницким к столу. Московского посла гетман к столу не позвал и видеться с ним не захотел, отговорившись тем, что занят де подготовкой к свадьбе сына. Однако Ивану Выговскому сказал истину — пусть знает, что своевольства гетман ни от кого не потерпит, пусть это будет хотя бы и сам царь, а не просто царский посол.
Сватовство успешно завершилось и волошские послы уехали обратно, когда в Чигирин приехал из Мунтянской земли старец Арсений. Он ехал в Москву и вез с собою, среди прочих бумаг, грамоту к гетману. Была та грамота писана на александрийской бумаге, с вислою печатью красного воска, с собственноручною подписью святейшего. И в той грамоте потонку говорилось и о тимошином воровском странстве.
Арсений хотел вручить патриаршую грамоту в собственные руки гетмана, но Иван Выговской сказал, что мимо него ни один посол к Хмельницкому не ходит и прежде он, генеральный писарь, должен сию грамоту прочесть.
Арсений стоял на своем, но затем ему сказали, что гетман уехал на хутор Суботов и скоро обратно не будет.
Тогда, покорно вздохнув, он отдал грамоту Выговскому и стал ждать.
Гетман приехал неожиданно скоро.
9 ноября он пришел к старцу. Арсений заметил, что Хмельницкий раздражен и зол.
Не слушая старца, небрежно отодвинув патриаршую грамоту в сторону, гетман сказал:
— Царь не хочет воевать за Украину. Он говорит, что не может порушить клятву, данную полякам. Но ведь папа разрешает католикам нарушать договоры и клятвы, заключенные ими с магометанцами и православными, а царь, если бы хотел, мог бы получить разрешение от четырех вселенских патриархов не соблюдать клятв, данных католикам. Однако царь этого не делает, а патриархи, — Хмельницкий с брезгливой миной на лице повел рукой в сторону грамоты, — делают не то, что бы им следовало.
«Ох и горд ты, пан гетман, — подумал старец Арсений, — а давно ли слезы умиления видел я в твоих глазах, когда встречал тебя у Святой Софии кир Паисий».
И с тем гетман пошел из покоев старца. У порога Хмельницкий приостановился и добавил:
— А что патриарх писал с тобою о Шуйском, чтоб отослать его к царю, то у нас такого не повелось, хотя б он и самого короля забил. Из Сечи выдачи нет.
Однако ещё через два дня Иван Выговской позвал старца к себе и сказал ему:
— Отче, вот грамота моя к пресветлому государю Алексею Михайловичу. Подписана сия грамота паном гетманом и в ней государю ведомо учиняется, что пан гетман ради любви к государю и ради союза и мира меж нашими странами повелел того человека, что называет себя Шуйским, из своей земли выслать и нигде тому человеку в казачьих городах не жить.
Старец поклонился, вздохнул смиренно, но за талую малую малость даже спасибо не сказав, вышел вон.
А в обед призвал Арсений к своему столу подписка, синеглазого хлопчика, что писал путевые, отпускные, опасные да проезжие грамоты, и спросил:
— А куды это поехал ныне приятель мой, Шуйский князь? Столь поспешал, что и проститься со мною забыл. И хлопчик в простоте душевной ответил:
— Писал я ему, святый отче, и человеку его проезжие листы через волошскую землю до венгер, к трансильванскому князю Юрию Ракоци.
Глава двадцатая. Александр Костка
Анкудинов и Конюхов ехали к семиградскому князю Юрию Ракоци с тайным повелением гетмана — склонить венгров к военному союзу против Польши. Выполнив это поручение, они должны были с такой же целью проехать в Швецию и заключить антилольский союз с королевой Христиной Ваза — кузиной Яна Казимира.
Юрий Ракоци — молодой человек, полный воинственных устремлений и боевого пылаг-восторженно отнесся к предложению гетмана. Он принял послов с таким радушием и гостеприимством, какого ни Тимоша, ни Костя ещё нигде не встречали.
Князь Ракоци проникся особым доверием к посланцам Хмельницкого и обсуждал с Тимофеем не только дипломатические вопросы, но и предполагаемый ход будущих военных действий.
Ракоци считал, что в предстоящей войне следует нанести удар одновременно с двух сторон: Хмельницкому — па Варшаву, а его войскам — на Краков. Внутри Польши, говорил Ракоци, у него, так же как и у Хмельницкого, найдется немало доброхотов и они-то и помогут решить исход войны в пользу союзников, взорвав Речь Посполиту изнутри.
— Я познакомлю вас, князь Яган, с человеком, который сделает это, сказал однажды Ракоци Тимоше. — Вам будет тем более интересно знакомство с ним, что его судьба напоминает вашу.
Тимоша не придал словам Ракоци особого значения, но однажды князь представил ему невысокого рыжеватого мужчину лет двадцати-двадцати двух.
— Александр Лев Костка, — сказал князь Ракоци и, указав раскрытой ладонью на рыжеватого, добавил: — сын покойного короля Речи Посполитой Владислава.
Костка чуть церемонно и вместе с тем как-то печально наклонил голову.
Тимоша внимательно поглядел на него. Александр был бледен, с синими кругами под коричневыми, чуть навыкате глазами. Одет он был в черный костюм: куртку с пышными рукавами и плотно облегавшие рейтузы, подчеркивающие кривизну ног.
— Князь Яган Синенсис, — произнес Ракоци и тем же жестом, каким представлял Костку, представил Тимошу.
Тимоша наклонил голову и, шагнув навстречу Костке, протянул руку. Рукопожатие Костки показалось Тимоше слабым и вялым, рука — холодной.
Ракоци молча откланялся и оставил Тимошу и Александра одних.
Вначале и Анкудинов, и Костка испытали смущение и замешательство, не зная даже, с чего следует начать разговор. Затем Костка спросил:
— Давно вы при дворе князя Юрия?
Тимоша ответил, что два месяца назад он приехал в Семиградье, но вскоре поедет дальше — в Швецию.
— Князь был прав, познакомив нас, — сказал Костка. — Два года назад я был в Стокгольме и, возможно, мой опыт общения с королевой Христиной будет для вас полезен.
Тимоша удивился, как быстро нашли они нужную тему и с благодарностью взглянул в глаза собеседника. Они поразили Тимошу глубокой, неизбывной тоской, которую можно было привить за скуку, но можно было прочесть и затаенное долголетнее страдание.
— Вы были в Стокгольме по деду или же вас привели туда странствия? — спросил Тимоша.
— Меня посылал к Христине Ваза мой отец — Владислав Ваза. Я был официальным послом Речи Посполитой при её дворе. Отец был одержим идеей союза всех европейских держав против турок и отводил шведам важное место в создаваемой им коалиции. Когда я находился в Стокгольме, отец умер, и я, не желая жить в Польше, избрал для себя двор благородного и честного Ракоци.
Тимоша вспомнил, что, кажется, у Владислава был ещё один сын — совсем младенец, но о двадцатилетнем сыне — наследнике престола он ничего не слышал. Немного помолчав, Тимоша спросил Александра:
— Значит, ваш дядя, Ян Казимир, занял престол Речи Посполитой помимо вас?
— Я незаконный сын Владислава Вазы, — просто и привычно ответил Александр. Моя мать простая мелкопоместная шляхтенка Текля Бзовская. При крещении я был наречен Шимоном Бзовским, но затем отец отдал меня в богатую и знатную семью магнатов Костка. Я унаследовал их имя и стал пажем польской королевы. Я не признан наследником моего отца, хотя отец нынешнего короля Яна Казимира — Сигизмунд — мой родной дед. Но Ян Казимир делает вид, что не знает о моем существовании и это-то более всего задевает меня.
Костка взглянул прямо в глаза Тимоше.
— Князь Ракоци говорил мне, — сказал он, — что ваш дед тоже был королем московским, и что нынешний русский король незаконно, помимо вас, держит за собою престол вашего деда.
— Да, это так, — ответил Тимоша, — и я намерен восстановить справедливость.
— Как?! Как можно добиться справедливости?! — воскликнул Александр, нервно вскидывая тонкие, не по росту длинные руки.
— Есть только одна сила, которая может отбирать короны и троны и давать их достойным. Эта сила — народ. Раньше я так не думал, но мое пребывание у гетмана Хмельницкого окончательно убедило меня в этом. Народ Украины сломал шляхетские сабли, растоптал прапоры, расшитые белыми орлами, изгнал помещиков и судей. И любой народ у себя дома может сделать то же самое.
Тимоша вздохнул мечтательно.
— Если я когда-нибудь получу московский трон, я буду мужицким царем и тогда никакая сила не сломит Россию.
— Наверное вы правы, — отозвался Костка. Мне будет над чем подумать. А пока, если вам это интересно, я мог бы кое-что рассказать вам о королеве Христине, ко двору которой вы собираетесь.
Александр встал и медленно пошел к выходу. Тимоша последовал за ним. В дальнем крыле замка они остановились перед невысокой дверцей. Александр поколебался немного и, отчего-то покраснев, предложил Тимоше войти в отведенные ему покои.
Комнатка была тесна и очень просто убрана. Кроме стола, сундука, кровати и двух стульев, Тимоша увидел лишь темное серебряное распятие, старую лютню и единственную книгу в кожаном переплете.
— Позвольте? — спросил Тимоша и перевернул обложку. «Анджей Моджевский. Об исправлении государства» — прочел он на выцветшем бледно-желтом листе.
Александр снова покраснел и сказал смущенно:
— Пытаюсь, читая, отыскать истину.
— Познайте истину, — сказал Тимоша, — и истина сделает вас свободными.
Костка слабо улыбнулся и достал из сундука небольшую тетрадь.
— Может быть, вы найдете здесь нечто для себя полезное, — тихо проговорил он, протягивая тетрадь. — Я написал кое-что о королеве Христине и её дворе, когда жил в Стокгольме.
* * *
«Мы живем в подлое время, — читал Тимоша, удобно устроившись в кресле в отведенной ему комнате. — Взоры всех устремлены не на лучших, а на знатнейших. Люди смотрят не прямо перед собою, а снизу вверх. И очень немногие-избранные — сверху вниз, презрительно и рассеянно, — скользя взором по копошащейся у их ног безликой массе простолюдинов и мелких дворян — постоянных искателей пособий и милостей.
Так и я — несчастный от рождения, — в жилах которого каждая вторая капля крови принадлежала благороднейшей семье Ваза, приехал в Стокгольм скорее искателем милости, нежели дарующим её другим. Поэтому все мое внимание с самого начала привлекла та, от которой зависело мое положение, отношение ко мне двора, все мое будущее.
Следуя мудрейшим, полагающим, что сущность человека можно понять только тогда, когда будут поняты характеры его отца и матери, я стал расспрашивать о покойных короле и королеве Швеции. И то, что мне рассказали, удивительным образом подтвердило верность старых притч о яблоке, падающем недалеко от яблони и о том, что в каждом ребенке живут его отец и его мать.
Очень разными были мать и отец королевы Христины, но тем не менее оба они жили в душе своей дочери более согласно, чем тогда, когда были супругами и ещё ходили под этим солнцем. Ее отец — шведский король Густав-Адольф — великий завоеватель и гениальный полководец — был человеком несокрушимой силы воли и беспредельной отваги. Всю свою жизнь он отдал борьбе за торжество протестантизма и в этой борьбе погиб. Отец Христины был глубоко верующим человеком, соблюдавшим строгие нравственные правила и ведший суровую жизнь аскета и солдата.
Мать Христины — Мария-Элеонора — дочь Бранденбургского курфюрста Иоганна-Сигизмунда — красавица, беспредельно милая и грациозная, нежная, привязчивая, слабая, была воплощением женственности. И как большинство красивых и слабых женщин, обладала недалеким умом и отсутствием всяких твердых убеждений. Она увлекалась интригами и часто прибегала к хитростям и обману.
У этих-то столь разных по характеру людей и родилась Христина, их единственная дочь. И разве могла она при всем этом не сочетать в себе столь великое множество противоречивых свойств и качеств, что современники её и наверное потомки ещё долго будут удивляться этой совершенно необыкновенной Женщине?»
Тимоша легко читал написанные по-латыни заметки Костки, в душе гордясь тем, что этот язык не представляет для него никаких трудностей. И хотя ничего необыкновенного в том не было, Тимоше все происходящее казалось маленьким чудом.
«Христина обладает великим умом, — писал далее Косиха. — Она блестяще образована, но многие её поступки отличаются крайним безрассудством. Имея прекрасные знания, Христина часто поступает противно им; обладая высоконравственными теориями, она проявляет в действиях совершенную безнравственность. Близкие к покойному королю придворные говорили мне, что Густав-Адольф всей душой любил свою единственную дочь и с пеленок готовил её для занятия королевского трона. Солдат и дипломат, он ждал сына, но судьба дала ему дочь и он решил исправить эту ошибку всеми доступными средствами.
С упорством и постоянством, отличавшими Густава-Адольфа всю жизнь, он неуклонно воспитывал в своей дочери мужские качества. С трех лет Христину учили фехтованию, конной езде, плаванию, стрельбе. Отец привил дочери любовь к длительным путешествиям в седле, к ночевкам под открытым небом. И нужно заметить, что дочь оправдывала его надежды, она была неутомима и азартна на охоте. Христина была совсем ребенком, когда король умер и далее её воспитанием занялись взбалмошная, непостоянная в привязанностях мать и столь же слабая характером тётка. Здесь-то и следует искать начало той сумятице, которая возникла в душе юной Христины.
А в 1632 году, семи лет от роду Христина была возведена на престол, но, конечно же, не она и не её не способная ни к какому делу мать правили страной. Во главе государства встал канцлер Аксель Оксеншерна, граф Сёдермёре, сохранявший должность регента на протяжении двенадцати лет.
Старый соратник Густава-Адольфа, канцлер королевства на протяжении последних восемнадцати лет твердо держал бразды правлении в своих руках. Он внимательно следил за тем, как воспитывают его юную повелительницу и, мне кажется, в глубине души был даже рад, что до поры до времени у него развязаны руки в делах государственного управления, дипломатии и финансов.
Но, я думаю, он видел, что юная королева необычна во многом и что она может стать великой правительницей. Поэтому, когда Христине исполнилось десять лет, канцлер, как мне говорили, ежедневно стал навещать её и постарался оказать на королеву-ребенка все влияние, каким обладал пятидесятитрехлетний мужчина, к этому времени уже четверть века занимавший высшие посты в государстве. Навещая Христину во дворце её тетки, Оксеншерна видел, что после смерти Густава-Адольфа воинские забавы, путешествия и охоты все чаще стали заменяться пирушками с шутами, диковинными уродцами, дурачками и придворными льстецами, ни в чем не уступавшими дурачкам и шутам. Однако в десять лет юной королеве надоели и шуты и солдаты. Она засела за книги и, как мне говорили, немалую роль в этом сыграл старый канцлер.
Теперь по двенадцать часов в сутки Христина проводила за книгами. К двенадцати годам она свободно владела латинским языком, к шестнадцати читала и писала на немецком, датском, голландском, испанском, итальянском и древнегреческом.
В этом же возрасте её увлекла европейская политика, и ещё совсем девочкой Христина принимала европейских послов, поражая их широтой познаний и тонким проникновением в запутанные и сложные вопросы политики.
Тогда же, говорил мне её секретарь, она прочла жизнеописание английской королевы Елизаветы Тюдор и твердо решила во многом ей следовать. Как показало дальнейшее, решение её не было мимолетным капризом взбалмошной пятнадцатилетней девочки. Следуя своему британскому идеалу. Христина заявила, что никогда не выйдет замуж. И вот уже много лет не отступает от этого. Семнадцати лет Христина пришла в Королевский совет и те, кто слышал её первую речь в этом совете, говорили мне, что эта речь была блистательным образцом ораторского и политического мастерства.
Мне говорили, что королеву более всего увлекали политика, математика, музыка, искусства, астрология, нумизматика и поэзия. Пять профессоров, обучавших её всему этому, как мне кажется, без всякой лести, полностью сохраняя достоинство неподкупных ученых мужей, говорили, по утверждению многих придворных, и писали своим коллегам в другие страны, что более способной ученицы ни один из них никогда не имел.
Ее двор стал прибежищем ученых, изгнанных из разных стран непросвещенными или нетерпимыми к чуждым им мнениям правителями. Еще отец Христины приютил в Стокгольме знаменитого Гуго Гроциуса из Делфта, поборника свободы мореплавания и защитника слабых. Гроциус нашел в Швеции приют и покой, какого он не мог получить ни в Голландии, ни во Франции, где его преследовал всесильный герцог Армад Жан дю Плесси, более известный под именем кардинала Ришелье.
Оксеншерна не побоялся отправить Гроциуса в Париж шведским посланником, а мужественный ученый не испугался принять это назначение.
Юная королева оставила Гроциуса на его посту, пожаловав ему в 1645 году щедрую награду на зависть Ришелье и всему дому Оранских наследственных правителей Голландии, которых она сильно не любила.
Ценя в окружавших её более всего ум, Христина не делала различия между знатными и простолюдинами. Не удивительно, что она поручила подписать Вестфальский мир сыну графа Сёдермёре — Эриху Оксешперне и сыну не то ремесленника, не то крестьянина Алдеру Салвиусу — самому доверенному из её советников.
Жалуя Салвиуса шведским сенатором, королева заявила: „Когда нужны хорошие и мудрые советы, то не спрашивают о дворянстве в шестнадцати коленах, но спрашивают о том, что следует предпринять. Салвий, без сомнения, был бы в деле совета искуснейшим человеком, если бы он был дворянином. Если дети знатного происхождения имеют достойные качества, то они обретут свое счастье, но я не дам этой чести только им одним“.
Вместе с тем, как я убедился на собственном опыте, лесть, восхищение и преклонение сделали Христину самоуверенной, надменной, властной и капризной. Она отвергла предложения доброй дюжины знатнейших женихов из разных стран Европы, в том числе испанского короля Филиппа Четвертого, и объявила, что свою свободу она ценит дороже всех сокровищ мира.
Успехи шведской армии в конце последней войны, длившейся тридцать лет, неустанные дипломатические усилия королевы и её министров подняли шведское государство на вершину могущества и славы. И здесь-то заговорила в Христине кровь её матери: она стала изменчива, её увлекли интриги и сплетни. Но, кажется, мне не доведется долго наблюдать все это: завтра я еду в Трансильванию».
«Воистину — мир тесен. И воистину нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто мог бы подумать, что и в Трансильвании — за тысячу верст от Стокгольма — найдутся люди, которых заденет за живое образ жизни и дела моей августейшей родственницы?
И тем не менее при дворе Юрия Трансильванского мне сообщили, что дела в Стокгольме пошли по иному руслу.
У Христины появились фавориты — сначала врач, француз Бурдэло, затем испанский посол, итальянец Пиментелли, о которых я слышал, ещё находясь в Стокгольме, затем, по словам моего собеседника, возле королевы появилась целая вереница иностранцев, требовавших титулов, земель и денег, денег, денег. Может быть, не всё, о чем мне рассказывали, было правдой, но чем объяснить, что Христина отказалась от услуг старых, верных полководцев, дипломатов и администраторов? Их место заняли проходимцы, шарлатаны и авантюристы из разных стран Европы. Политику заменил театр, на смену наукам — пришли бесконечные пиры и карнавалы. И если в детстве Христина не знала усталости, занимаясь науками, а в юности дни и ночи проводила в разъездах, совещаниях, спорах и работе, подобно этому теперь она не знает удержу в разгуле и разнузданном веселье.
Однако сейчас, сказал мне мой собеседник, и это, кажется, тоже ей надоело. Она бросила все и, уединившись, углубилась в церковные книги и сочинения ересиархов, колдунов и магов, обнаружив новую страсть — отыскание истины».
* * *
Через несколько дней после этого Александр Лев Костка распрощался с Анкудиновым и уехал в Польшу.
Тимоше показалось, что его новый приятель ещё больше пожелтел и осунулся. В его глазах Анкудинов видел тоску и боль, и какую-то горькую покорность судьбе.
И Тимоша подумал, что людей с такими глазами фортуна не любит. Она благосклонна к злым и веселым, уверенным в каждом шаге своем и каждом слове.
Такие шалые глаза и тяжелую поступь, и зычный смех, и бесконечную удаль видел он у атаманов Хмельницкого и конфидентов сильных мира сего, знавших, что за их спиной стоят власть, могущество и золото, и потому удача и слава, пролетая над миром, обязательно касаются их своим крылом.
А по весне, как только сошел снег, князь Иван Васильевич Шуйский и дворянин его Константин Емельянович Конюховский поехали из Семиградья. Их путь лежал на север, но прямой дороги им не было. Через Украину и Белую Русь ехали они к Ревелю, чтобы затем сесть на корабль и прибежать в столицу свойской короны Стекольный город — Стокгольм.
Глава двадцать третья. Стекольный город
Никогда у Тимоши не было столь легко на сердце, как в этот раз, когда покидал он гостеприимного и дружелюбного князя Ракоци.
Хотя, казалось бы, чему было радоваться, отправляясь в неведомые края, к незнакомым людям, по не простому делу? Тем более, что оставлял он не убогую келью и не постоялый двор, а княжескую резиденцию, где были к нему и добры, и предупредительны.
А потому было радостно Тимофею Анкудинову, что ехал он с подлинными опасными грамотами князя Ракоци и был его подлинным полномочным послом. И имя его в тех грамотах — Иван Шуйский — было писано на латинский лад Яганом Сенельъсином.
А ещё было радостно на душе у него, что верил он: наконец-то ударит его час, наконец-то взойдет его звезда и он, опоясавшись мечом, выйдет к московскому рубежу на помощь восставшему Пскову.
Быстро доехали он и Костя до Нарвы. И здесь от добрых людей узнали невеселые вести. Новгород пал прошлой весной, а псковичи, хотя ещё и шумели, но уже были не те, что прежде, и иные люди были во главе их. А армия князя Хованского, пьяная от скорой победы над новгородцами, неразрывным железным кольцом недвижно легла у стен Пскова, со злорадством следя за тем, как день ото дня слабеет и тает мятежная псковская сила.
А узнали они о том от ивангородских купцов Петра Белоусова да Ивана Лукина. Оба были злы на то, что шли из Москвы в Псков и Новгород великие тяготы — ремесленным и торговым людям многие поборы и разорения. Тимоша и Белоусову, и Лукину говорил, что если придется ему занять московский престол, то даст он простор и крестьянам, и ремесленникам, и торговцам.
Белоусов и Лукин согласно кивали головами, говорили: «Дай бог, Иван Васильевич. Дай бог. Приходи. А мы завсегда будем тебе опорой и защитой».
Хорошо было и то, что оба они вели торговлю со Стокгольмом и для предстоящего посольства были весьма удобны.
Кроме того, познакомили они и Тимошу, и Костю с надежными людьми — их компаньонами из Нарвы — Бендисом, Шотеном, Лоуренсом Номерсом, Георгом Вилькиным, — кои также нередко бывали в Стокгольме и там могли быть весьма полезны Тимоше.
И потому после долгих словопрений решил князь Иван Васильевич ехать из Нарвы в Колывань, или Ревель, как называли его шведы и немцы, а здесь оставить Костю, чтобы точно знать, что делается в порубежных с Россией местах и немедля оказаться в русских землях, если возникнет в том необходимость.
— Идти на удалую, на авось да небось я, Костя, не могу, — говорил Тимоша. — Не жизнь моя дорога мне — единственно, чего хочу — удачи. И не для себя — для тех людей, что ждут меня и в меня верят.
— Надобно было тебе, Иван Васильевич, — сказал Костя, — год тому назад к московскому рубежу прибиваться и на выручку псковичам и новгородцам идти. Встретили бы они тебя хлебом-солью, крестами и хоругвями. А ныне, я чаю, упустил ты свое время.
— А ты мнишь я того не ведаю? — запальчиво и раздраженно спросил Тимоша. — Я всю прошлую весну глаз не сомкнул — все думал: как мне во Псков сбежать? Да только те казаки, что со мной ездили, не столько от ворогов меня боронили, сколько глядели, чтоб я куда от них не утёк.
А ныне, хотя Псков ещё и держится, чаю я, сам господь бог, если он есть, и то псковичам не подмога. И идти мне туда не за чем.
Вот если случится какая новая замять на Руси, то должен буду я во Псков поспешать немедля, потому что вспыхнет там гиль пуще прежней, и тогда только успевай в новый костер дровишки посуше подбрасывать.
На том они и расстались.
В Ревеле у верного человека Бендиса Шотена Тимоша оставил Косте подробную инструкцию, как и через кого искать его в Стокгольме, и поспешил в торговую гавань, откуда уходили в Швецию купеческие корабли.
* * *
Через месяц после этого, в середине мая 1651 года, на ганзейском бриге «Святой Николай» Тимоша пришел в Стокгольм.
Тихоходный пузатый бриг медленно вошел в залив Стрёммен и отдал якорь у берега острова Стаден. Шёл дождь — мелкий, холодный, серый. Дома и башни Стокгольма казались далекими, окутанными плотным грязным туманом.
Тимоша съехал на берег, оставив на борту «Святого Николая» все, кроме денег и верительных грамот. Оглядевшись, он увидел неподалеку от набережной пышную новую церковь и направился к ней, надеясь найти священника, знающего латынь. Ему повезло. В церкви, носившей непривычное уху название Тюскачюрка — Тимоша обнаружил служку и тот с пятого на десятое, ловко жонглируя пятью десятками латинских слов, с грехом пополам объяснил, как пройти к королевскому дворцу.
У ворот замка долговязые латники долго не могли понять, чего хочет от них нарядно одетый иностранец. Наконец один из них догадался позвать караульного офицера. Однако и офицер, наморщив брови, с очевидной неприязнью слушал латынь, судя по всему не понимая ни слова.
Жестом приказав Тимоше оставаться на месте, офицер ушел во двор замка и вскоре появился с невысоким щеголеватым господином лет тридцати.
Господин настороженно улыбаясь, взял в руки грамоту, удостоверяющую, что владелец её высокородный князь Яган Синельсин является полномочным послом его княжеской светлости Юрия Ракоци Трансильванского к её королевскому величеству Христине Ваза.
Изящно поклонившись, щеголь произнес с ласковым удивлением:
— Отчего же ваша милость не прислала во дворец кого-нибудь из своих дворян за каретой для подобающей вашему рангу встречи?
Тимоша понял, что здорово ошибся, явившись к воротам замка сам-один, подобно страннику или же просителю.
— Люди мои все до одного остались в Нарве. И мне просто некого было послать во дворец.
Щеголь молча переломил бровь, и ничего не сказав, плавным мановением руки пригласил посла пройти в ворота.
* * *
Встретивший Тимошу щеголь был секретарем Иоганна Пантелеева Розенлиндта, государственного секретаря Швеции по иностранным делам вот уже много лет и встречи иноземных послов были для него привычным и даже изрядно опостылевшим делом. Однако ни разу ещё ему не приходилось встречать посла таким образом — без свиты, без кареты, промокшего под дождем, прибредшего пешком к воротам замка.
И секретарь, ведя посла в кабинет Розенлиндта, осторожно поглядывал на него, пытаясь понять, что за человек идет рядом, надменно вскинув голову и гордо выпятив вперед нижнюю губу.
Иоганн Панталеон Розенлиндт усадил посла за низкий овальный столик и угостил горячим крепким кофе. Розенлиндт почти сразу же успокоился: князь говорил с достоинством, латынь его была чиста, грамоты в полном порядке.
Решив выждать и при первом разговоре не касаться существа дала, Розенлиндт приказал отвести трансильванскому послу один из покоев в замке, перевезти с корабля оставленные там вещи, а тем временем узнать, что за птица прилетела в Стокгольм и что этой птице здесь нужно?
* * *
Следующим утром Тимоша понял, почему церковный служка так плохо говорил с ним на латыни и почему караульный офицер вообще не мог сказать ему на этом языке ни одного слова.
Швеция была протестантской страной и всякого, кто говорил на латыни, подозревали в связи с папой — врагом протестантов.
Собрав в памяти три дюжины немецких слов, Тимоша бродил по Стокгольму, ожидая, когда Розенлиндт представит его канцлеру шведского королевства Акселю Оксеншерне, графу Сёдермёре.
И однажды, гуляя по берегу купеческой гавани, Тимоша увидел трех человек, громко разговаривавших по-русски. Люди эти носили с телеги на корабль кованые котлы, пластины для доспехов, медные доски — «плоты», тонкие листы зеленой меди — латуни — и небольшие увесистые мешочки, набитые медными же «шпилевыми» деньгами.
Тимоша знал, что и «плоты», и мелкие «шпилевые» деньги в России идут на переплавку и перепродажа их кузнецам дело весила для купцов доходное.
Тимоша приостановился, потом отошел и издали наблюдал, как трое, разгрузив телегу, отпустили возчика и медленно побрели по набережной. Чуть поотстав, пошел за ними и Тимоша. Вскоре русские подошли к запертым воротам. Стукнули условным стуком. В отворившемся оконце показалась кудлатая, бородатая голова.
— Свои, свои, — загалдели русские.
— Вижу, не слепой, — огрызнулся кудлатый. Трое пронырнули в приоткрытые ворота. Тимоша вздохнул и побрел восвояси.
* * *
Дождь, не утихавший неделю, тоска, безлюдье, немота окружавших его шведов неумолимо влекли его к высокой стене русского подворья.
Однажды, когда Тимоша стоял неподалеку от него, он увидел, как из ворот вышли те трое, что встретились ему ещё в гавани. Тимоша быстро пошел им навстречу и резко остановился в двух шагах от них.
— Здорово, православные! — проговорил он бодро и звонко.
Русские приостановились, недоуменно глядя на свойского немца темно-русого, худощавого, с надменно выпяченной губой, в круглой шляпе, в коротких до колен штанах, в чулках и башмаках с пряжками.
— Будь здоров, добрый человек! — ответил ему невысокий широкоплечий бородач с длинными до плеч волосами.
— Пастырь духовный будешь? — спросил Тимоша длинноволосого.
— Сподобил господь, — смиренно ответил тот. — Поставлен на русское подворье новгородским владыкой.
— А звать тебя как? — спросил Тимоша.
Поп смешался. Было видно, что он никак не может понять, кто этот иноземец, столь чисто говоривший по-русски.
— Меня-то? — переспросил поп. — Меня-то зовут Емельяном. А вот как прикажешь называть твою милость?
Тимоша отставил ногу вперед, левую руку упер в бок.
— Меня, отче Емельян, звать князем Иваном Васильевичем.
Двое спутников Емельяна и сам поп быстро сорвали шапки, закланялись, с любопытством глядя на русского князя в немецком платье.
Тимоша, избегая расспросов, спросил сам:
— А вы кто такие будете?
Мужик постарше быстро ответил:
— Я, княже, новгородский торговый человек Мишка Стоянов.
— А это, — показал он на стоявшего рядом с ним высокого молодого парня, — товарищ мой Антон ладожанин, по прозвищу Гиблой.
Тимоша всем троим по очереди подал руку. Все трое с великим вежеством и береженном руку ему пожали, будто не руку он им протянул, а малую фарфоровую чашечку из страны Катай.
Поп Емельян спросил осторожно:
— А твоя княжеская милость в Стекольне давно ли?
— В Стекхольме я вторую неделю, — ответил Тимоша коротко, и на немецкий манер чуть коснулся пальцами поля шляпы, прощаясь.
Однако и попа Емельяна, и его спутников одолело великое любопытство. Как это — русский князь вторую неделю в Стекольне и ни разу не был на подворье? Ни в баню не приходил, ни в часовню, а вместо этого гуляет по городу в немецком платье и вроде никакого дела не правит.
— Зашел бы, твоя княжеская милость, к нам на подворье в баньке попариться, да свечечку в часовенке возжечь, — проговорил Емельян ласково.
— Спасибо, отче, на добром слове. И то — зайду.
— Приходи сегодня к вечеру. Поснедаем чем бог послал.
Тимоша, прощаясь, подал новым знакомцам руку. На этот раз они все, как сговорившись, крепко её пожали и кланялись уже не столь низко.
* * *
В начале июня 1651 года в Стокгольм прибыл русский посол стольник Герасим Сергеевич Головнин. Корабль, на котором он прибыл, встал там же, где две недели назад бросил якорь «Святой Николай», привезший из Ревеля трансильванского посла. Встречать его прибыл Яган Розенлиндт, ближний королевин человек, по-московски не то дьяк, не то думный дворянин, в сопровождении кавалеров в кирасах и латах. Головнин Ягана видел год назад в Москве, когда приезжал он о бесчестье Логвина Нумменса, опасаясь, чтобы из-за того воровского псковского дела не было бы какого лиха между Русским государством и Свейской короною.
Яган то дело уладил быстро и многим в Москве пришелся по нраву: был умён, прост, по-русски говорил так, будто родился в Рязани или же в Туле.
Увидев Ягана, Головнин душою потеплел, быстро сошел с корабля на берег. Яган так же проворно сошел с коня, пошел к стольнику с протянутыми встречь руками.
Не успел Головнин сойти с ковра, что наброшен был на корабельные сходни, а Яган уже стоял на берегу, сняв шляпу и приветливо улыбаясь.
Справившись о здоровье государыни и государя и о собственном здравии друг друга, Розенлиндт и Головнин пошли к карете и сели рядом на лавку, будто бы были они не разных государей подданные, а стародавние приятели.
«Вот ведь, люторской веры человек, а много приятнее иного православного», — покойно и ласково думал Головнин. И чуял — будет его посольство удачным и скорым.
Передав Розенлиндту грамоты, Головнин откланялся и поехал на русское подворье, кое прозывалось также францбековым гостиным двором, по имени первого русского резидента в Стокгольме Дмитрия Фаренсбаха, поставившего и молитвенный амбар, и постоялый двор, и лабазы, и баню, и иные строения.
Когда карета подъехала к подворью, ворота его были распахнуты настежь, а перед ними стоял поп Емельян в ризе, тканой серебром, с серебряным же крестом в руке. За ним празднично одетые стояли торговые люди из Тихвина, Новгорода, Ладоги, Ярославля.
Головнин приказал в ворота не въезжать. Степенно вылез из кареты и, подойдя под благословение, важно пошел на подворье, махнув королевским форейторам: «Езжайте де прочь, вы мне более не надобны».
* * *
После краткого молебна и долгого мытья в бане поп Емельян был зван к послу — есть с ним за одним столом.
Головнин сидел под образами в чистой рубахе тонкого полотна, распаренный, красный. Сидел он распояской, ноги сунул в валяные сапоги с отрезанными голенищами — получалось не больно лево, зато ноге тепло, легко и мягко.
— Ну, отче Емельян, говори, како живется вам всем в Стекольном городе?
Емельян подробно обо всем послу рассказывал: о торговле, о ценах, о здешних — не наших — обычаях. В конце сказал:
— А еще, господине, был у нас на подворье некий русский человек. А называл себя князем Иваном Васильевичем. Однако ж, крепко со мною выпив, на молитве велел почему-то поминать себя Тимофеем.
— Каков тот человек из себя? — быстро спросил Головнин.
— Волосом чернорус, лицо продолговатое, нижняя губа поотвисла немного.
— А что тот человек говорил? — в смутном предчувствии необыкновенной удачи, весь напрягшись, проговорил стольник. Поп замялся.
— Разное говорил, — наконец выдавил он, решив сказать правду. «Для чего, — говорил, — новгородцы и псковичи великому государю добили челом? Вот велит их государь перевешать так же, как царь Иван Васильевич велел новгородцев казнить и перевешать».
— А ты что же?! — грозно спросил Емельяна Головнин.
— Я, господине, человек небольшой. Я князю Иван Васильичу почал было встречь говорить, но князь на меня гневаться стал и кричать на меня почал: «Глупые, — говорит, — вы люди! Вас, — говорит, — в пепел жгут, кнутами рвут, а вы, — говорит, — как скот под ярмом — мычите покорно и дальше воз тянете».
— Истинно, отче, сказывал тебе вор, что глуп ты. Какой же князь станет такое о государе и верноподданных его говорить?
Князь тот — самозванный. Истинное имя его — то самое, каким велел он тебе, Емеля, себя на молитве поминать.
— Тимофей? — ошарашенно выдохнул поп.
— Догадлив, батя, — ехидно проговорил Головнин. Только не Тимофей, а Тимка. Воришко, худородный подьячишко, беглый тать и подыменщик.
— Он же себя Шуйским называл. Седмиградского князя послом называл, пролепетал вконец обескураженный поп Емельян.
— Он такой же седмиградский посол, как ты апостол Пётр, — отрезал Головнин. И, согнав с лица всяческое благодушие, сказал грозно:
— Воришку того надобно нам изловить и в Москву отправить. И ты, Емельян, доведи о том всем русским людям, какие к тебе на молитву приходят.
Через три дня, разузнав о Тимошке многие подробности, раздосадованный Головнин велел прислать за собой карету и сам-один, без толмача и дьяков поехал к любезному Ивану Пантелеевичу.
«Вон как стелет, любезный, — думал он о Розенлиндте. — Вора и государева супостата приютил в королевином дворце, а российского посла отвез на постоялой двор к купчишкам. Да и я не лыком шит — доведаюсь, что это за седмиградский посол объявился в Стекольне».
Иоганн Панталеон Розенлиндт, румяный, надушенный, улыбчивый встретил Головнина как родного. Радовался, будто не видел его — друга сердечного много лет. Головнин в ответ хмурился, сопел обиженно. Безо всякой хитрости сказал прямо:
— Иван Пантелеймонович! Известно мне учинилось, что в Стекольном городе живет вор, худой человек, беглый московский подьячишка Тимошка. Известно мне, что приехал тот вор от фиршта Ракочи из венгер и, вдругорядь переменив имя, называется теперь Яган Сенельсин. И ты бы, господине, велел того вора нам выдати для любви и приятельства королевы Кристины и моего пресветлого государя Алексея Михайловича.
Розенлиндт, улыбаясь, сказал вкрадчиво:
— Любовь и приятельство моей государыни королевы к царю московскому Алексею Михайловичу хорошо тебе известны, стольник Герасим Сергеевич. Только следует тебе знать, что у боярина Ягана Сенельсина есть при себе опасный лист семиградского князя Ракоци и мы выдать семиградского посла ни в какое государство, окроме венгерской земли, откуда он к нам пришел, не можем.
Прямодушный Головнин вспыхнул:
— То, Иван Пантелеймонович, ты говоришь неспряма, а с хитростью. Где видано, чтобы убивца и татя от дружелюбного вам государя ты и твои люди укрывали?
Розенлиндт нахмурился.
— В посольской памяти, что читал я перед тем, как привести тебя к целованию руки у государыни моей королевы Христины, не помню я, чтоб о каком-либо худом человеке что-либо говорилось. И тебе, посол, мимо данной тебе в Москве памяти говорить не пристало. Но из любви к твоему государю спрошу я о семиградском после у канцлера графа Оксеншерны и что он мне ответит, о том я до тебя, посол, доведу. А до тех пор ты это дело оставь и более с ним никому не докучай.
Когда Головнин ушел, Розенлиндт долго оставался один, обдумывая, что ему следует предпринять с семиградским послом. Он понимал, что отношение к послу неразрывно связано с отношением к государству, которое посол представляет, и, следовательно, ему надлежало сделать выбор между царем Алексеем и князем Юрием. Взохнув, Розенлиндт понял, что ни он, ни Оксеншерна этот вопрос решить не смогут. Его решит сама королева.
* * *
— Ваше королевское величество, — говорил Христине Розенлиндт, прибывший в Стокгольм Яган Сенельсин, кажется, не тот человек, за которого он выдал себя князю Ракоци и гетману Украины Хмельницкому.
— А почему тебя, Иоганн, заинтересовала родословная трансильванского посла?
— Ко мне явился русский посол Головнин и потребовал выдачи Ягана Сенельсина, утверждая, что он беглый преступник, кого-то убивший и ограбивший царскую казну.
— А что говорит Яган Сенельсин?
— Он утверждает, что его дедом был покойный русский царь Василий из рода князей Шуйских.
— Я бы спросила об этом знающих людей, прежде чем верить кому-либо из послов — русскому или трансильванскому.
— Я так и сделал, ваше величество. Прежде чем попросить у вас эту аудиенцию, я подробно расспросил о покойном русском царе Василии Шуйском графа Делагарди.
— Он, кажется, командовал войсками моего деда, когда в Мос-ковии появились самозванцы и царь Василий был пленен поляками? — спросила Христина.
— Совершенно верно, ваше величество.
— Можно ли полностью полагаться на память старого графа Якоба? Ведь с того времени прошло сорок лет. И, кроме того, наши войска не дошли тогда до Москвы. Граф Якоб, если мне не изменяет память, остановился в Новгороде. Мог ли он наверное знать, что происходило в Москве?
— Граф утверждает, — уже не так уверенно, как в начале разговора, произнес Розенлиндт, что у царя Василия не было детей.
— Может быть, присланный к нам Яган Сенельсин внук царя Василия от внебрачного сына? — настаивала на своем Христина. Вы знаете, Иоганн, что такого рода истории иногда случаются и в королевских домах.
«Она имеет в виду этого несчастного Александра Костку, незаконного сына покойного Владислава Вазы», — подумал Розенлиндт. И решил, что сейчас самое подходящее время сообщить королеве то, что скрывали от неё уже несколько дней и он сам, и канцлер Оксеншерна.
— Ваше Величество, возможно, имели в виду сына Владислава Вазы, приезжавшего в Стокгольм три года назад послом от его отца? — спросил Розенлиндт осторожно.
— Да, Иоганн, вы — проницательны, — ответила Христина. — Я думала о нем, когда высказала предположение, что присланный князем Ракоци русский столь же несчастен, как и приезжавший к нам Александр.
Розенлиндт молчал, опустив глаза. Вид его свидетельствовал о глубокой скорби и нежелании говорить с королевой далее о чем бы то ни было.
Нервная, чуткая Христина тотчас же уловила это и ободряющим голосом произнесла ласково:
— Вы о чем-то хотите сказать, Иоганн, но не Делаете доставлять неудовольствие вашей королеве?
Розенлиндт, вздохнув, сказал тихо:
— Государыня, Александр Лев Костка, сын покойного Владислава Вазы, несколько недель назад варварски убит по приказу краковского епископа.
— Как?! — воскликнула Христина. — За что?! Почему?!
— В полученном мною сообщении говорится, что он поднял мятеж против дворян, назвавшись королевским полковником Наперским. Он разослал в приграничных с Трансильванией областях Польши подложные королевские универсалы и подлинные универсалы гетмана Хмельницкого, призывая холопов к оружию. Вначале удача сопутствовала Александру — он захватил замок Чорштын на берегу Дунайца — на самой границе с Венгрией — и десять дней ждал помощи от князя Ракоци. Но Ракоци промедлил, а краковский епископ, воспользовавшись этим, собрал войска и взял замок.
— Что они сделали с ним? — тяжело дыша, сдерживая охвативший её гнев, спросила Христина.
— Варвары посадили Александра Льва на кол, — тихо проговорил Розенлиндт.
— И ты хочешь, Иоганн, чтобы я, узнав о смерти человека, в чьих жилах текла кровь династии Ваза, в тот же день отдала в руки палачей ещё одного несчастного, ещё одного гонимого, несправедливо лишенного прав своего сословия?
— Я менее всего хочу этого, ваше величество, — пылко проговорил Розенлиндт. Я встречался с Яганом Сенельсином и он понравился мне гораздо более царского посла Головкина.
— Я хочу видеть Ягана Сенельсина, — вдруг резко и властно произнесла Христина и Розенлиндт заметил на глазах её слезы.
— Когда вам будет угодно принять посла князя Ракоци? — с готовностью откликнулся Розенлиндт.
— Завтра, — ответила Христина. — Но прежде попроси посла Сенельсина написать для меня его краткую родословную.
* * *
Возвратившись к себе в кабинет, Розенлиндт понял, что все происшедшее на его глазах было превосходно разыгранным спектаклем. Христина показала государственному секретарю, что её чувства человека и женщины в решительные моменты никогда не расходятся с долгом королевы. Она ясно дала понять, что союз Швеции с Юрием Ракоци и гетманом Хмельницким — наиболее решительными врагами Польши — нужен сейчас больше, нежели сближение с Россией. Розенлиндт понял, что посол Ракоци и Хмельницкого должен получить от него и канцлера Оксеншерны максимум внимания, а его безопасность должна быть абсолютной.
Вызвав секретаря, Розенлиндт сказал:
— В самых любезных выражениях попросите его светлость князя Ягана Сенельсина, полномочного посла Трансильвании, составить для её величества краткую родословную. Попросите также его светлость приготовиться к аудиенции с её величеством.
Поймав вопросительный взгляд секретаря, Розенлиндт добавил:
— Аудиенция назначена на завтра.
* * *
В этот же вечер Розенлиндт вручил Христине родословную Иоанниса Синенсиса, написанную им самим на хорошем латинском языке. Родословная гласила: «Иван Шуйский — Иоаннис Синенсис, в святом крещении названный Тимофеем; отец — князь Василий Васильевич Шуйский, во святом крещении названный Домицианом, наместник или губернатор Великопермский; отец отца моего, — мой родной дед, — был знаменитый Великий князь Владимирский, который после Дмитрия, по прекращении линии Российских государей, был избран на престол по праву естественному, был низвергнут с престола собственными своими подданными, то есть крамольными бунтовщиками московскими и отвезен в тюрьму к королю Польскому, где и окончил жизнь свою».
— Князь Яган сам писал это? — спросила Христина.
— Да, ваше величество, — ответил Розенлиндт.
— Кроме латинского знает ли князь ещё какие-нибудь языки?
— Я говорил с ним по-русски, — ответил Розенлиндт, — но в разговоре со мной он употреблял и изречения отцов церкви на древнегреческом языке.
Произнося последнюю фразу, Розенлиндт знал, что она придется по душе королеве. Христина хорошо знала и любила язык Гомера, но, к сожалению, при её дворе очень немногие могли поддержать с нею беседу на древнегреческом.
— Вот как! — воскликнула Христина. — Как же это беглый московский простолюдин обучился языкам Эврипида и Вергилия! Здесь что-то не то, Розенлиндт. Придется тебе всерьез заняться послом князя Ракоци.
— Когда вашему величеству будет угодно принять князя Синенсиса? — спросил Розенлиндт.
— Я сказала, что приму его завтра, — ответила Христина. — Пусть приходит в два часа пополудни. И ты, Иоганн, будь вместе с ним и с графом Оксеншерной.
Розенлиндт молча поклонился.
* * *
Оставив во дворе загородного королевского дворца запряженную четвериком посольскую карету, Тимоша с тревожно бьющимся сердцем поднялся на широкое крыльцо.
У нижних ступенек мраморной лестницы его ждал Розенлиндт, а на втором этаже, там, где начинались парадные комнаты королевы, Тимоша заметил седого, чуть сутулого старика с золотой цепью на шее — канцлера графа Акселя Оксеншерну.
Едва Тимоша вступил на первую ступеньку лестницы, как вперед быстро побежал легкий, как бы бестелесный, юноша во всем алом — скороход и герольд. Поравнявшись с Оксеншерной, герольд низко поклонился и затем распрямившись громко выкрикнул по-латински: «Посол его светлости трансильванского князя Георгия князь Иоанн Синенсис!»
Тимоша рядом с Розенлиндтом неспешно и важно поднимался навстречу старому канцлеру. Поравнявшись с ним, Тимоша снял шляпу, низко поклонился и дважды повел шляпой перед собою, как делали это послы из европейских стран, встречаясь с Хмельницким.
Старик важно склонил седую голову и, встав слева от Тимоши Розенлидт шел справа, медленно двинулся вперед через анфиладу больших, роскошно отделанных и изысканно обставленных комнат. Они остановились перед высокой резной дверью, около которой в сверкающих кирасах и касках замерли два алебардщика, стоявший в ожидании их герольд и ещё один пестро разодетый лупоглазый мужчина огромного роста и необъятных размеров в груди и в поясе. Великан распахнул дверь и, ударив в пол высоким серебряным жезлом, трубным голосом воскликнул: «Ее королевское величество Христина Ваза!»
Канцлер и секретарь по иностранным делам, едва перешагнув порог, остановились, а Тимоша прошел вперед и будто сквозь туман увидел молодую, красивую женщину со спокойным любопытством глядевшую на него. У женщины была нежная белая кожа, голубые глаза и капризно оттопыренная нижняя губа.
Тимоша трижды помёл перьями перед молодой красавицей и, сделав вперед ещё один шаг, опустился на левое колено.
Протянув королеве верительную грамоту князя Ракоци, он посмотрел ей в глаза и увидел, что Христина, ласково улыбаясь, поднимается с кресла и, шагнув вперед, берет протянутый ей свиток.
— Встаньте, князь, — проговорила Христина по-латински и протянула Тимоше руку для поцелуя. Коснувшись губами пальцев королевы, Тимоша, продолжая стоять на одном колене, на латинском же языке ответил, что он счастлив видеть королеву, слава которой не знает границ. Мне довелось испытать многое, — добавил он, — но выполнять столь приятное поручение, как сегодня, приходится впервые в жизни.
Христина улыбнулась ещё более ласково. Королеве часто приходилось слышать льстивые слова, но такой неподдельный восторг, какой послышался ей в словах трансильванского посла, она давно уже не встречала.
— Встаньте, князь, — певуче повторила Христина и, подав Тимоше руку, как бы помогла ему встать. Затем обратившись к Оксеншерне и Розенлиндту, сказала:
— Проходите, господа, и устраивайтесь поудобнее.
Жестом гостеприимной хозяйки она указала на круглый стол с поставленными вокруг мягкими стульями. Тимоша отодвинул один из стульев и Христина, благодарно ему улыбнувшись, первой села за стол. Вслед затем сели Оксеншерна, Розенлиндт и — последним — Тимоша.
Деликатность трансильванского посла была замечена всеми. Обворожительно улыбаясь, Христина сказала:
— Не скрою, князь, что в Стокгольме есть люди, распространяющие о вас крайне нелепые слухи. Они утверждают, что вы родились в семье простолюдинов и носите княжеский титул не по достоинству. Признаюсь, что до встречи с вами я не была уверена в их неправоте. Теперь же едва ли найдется человек, которому удалось бы убедить меня в вашем неблагородном происхождении.
— Благодарю вас, ваше величество, — тихо ответил Тимоша, скромно потупив взор. — Я действительно долго жил среди простых людей и надеюсь, что преуспел бы больше, если бы в юности рядом со мною были мои родители князь и княгиня Шуйские. Однако я рано остался сиротой, мое происхождение долго оставалось для меня тайной, и лишь в десятилетнем возрасте я узнал от воспитывавшего меня архиепископа, что мой дед был русским царем, а отец наместником Перми Великой. Когда мне стало известно истинное мое происхождение, отец нынешнего русского царя уже четырнадцать лет занимал престол моего деда, умершего в польской тюрьме. Я не смел называть себя моим настоящим именем и носить принадлежащий мне по праву рождения княжеский титул, ибо трусливый и подозрительный царь обязательно казнил бы меня или заточил в подземелье, сознавая, что мои права на московский престол не менее основательны, чем его.
Я таился, страшась смерти, а затем бежал за пределы Московии, спасая жизнь и свободу. И уже здесь, вдали от недругов, желавших моей гибели, я решил добиться справедливости и возвратить престол, незаконно отнятый у моей семьи.
— Князь обращался за помощью к разным государям, — вступил в разговор Розенлиндт. — Он искал поддержки в Польше — у короля Владислава, затем в Турции, но эти попытки оказались тщетными.
— Гетман Украины и князь Трансильвании более всего прониклись сочувствием к планам князя Шуйского, ваше величество, — сказал канцлер Оксеншерна. — Они прислали князя с просьбой о заключении между тремя нашими странами военного союза, направленного против Речи Посполитой.
Кроме того, канцлер Украины Иван Выговской просит разрешить князю Шуйскому поселиться в Шведской Прибалтике — в Ревеле или Нарве — и при случае выступить к Новгороду или Пскову, если в одном из этих городов снова произойдет восстание горожан, как это случилось прошлым летом.
— Вы хотите, князь, воспользоваться недовольством горожан, для того чтобы с их помощью овладеть затем московским престолом? — спросила королева, строго, без тени улыбки глядя в лицо ему.
Тимоша заметил происшедшую в ней перемену и в тон ей — сухо и коротко — ответил:
— Да, ваше величество.
— Династические распри — сложное дело, — сказала Христина. — В них, как и во всех прочих распрях и баталиях, побеждает не тот, кто прав, а тот, кто силён. Если вы, князь, соберете вокруг себя государей, которые все вместе окажутся сильнее московского царя Алексея — вы выиграете. Если нет проиграете. Вы или обретете корону, или потеряете голову.
— Жребий брошен, ваше величество, — ответил Тимоша. Королева встала.
— Ну что ж, будем надеяться, что сегодня мы беседовали с гиперборейским Цезарем.
Христина вышла из-за стола и, позволив Тимоше взять себя под руку, пошла к двери. У порога она остановилась, протянула руку для поцелуя и поплыла к столу, за которым, ожидая её, стояли Оксеншерна и Розенлиндт.
Отвесив прощальный поклон, Тимоша попятился и вышел за дверь.
— Так выходят татарские послы из дворца султана, — усмехнулась Христина и, обращаясь к двум стоящим перед нею дипломатам, сказала;
— Ну, каков московит, господа? Что будем делать с этим новоявленным Дмитрием?
— Я думаю, — сказал Розенлиндт, тяжко роняя слова, — князь Шуйский должен получить нашу поддержку. Короне Швеции выгодно иметь на своей стороне грозный противовес царю московитов.
— Я согласен с Розенлиндтом, — проговорил Оксеншерна, — тем более, что пока князь Шуйский не просит ничего, кроме разрешения поселиться в Ревеле или Нарве.
— Хорошо, — согласилась Христина. — Отправьте его в Ревель под наблюдение вашего племянника Эрика Оксеншерны. Пока Эрик — губернатор Эстляндии, нашему русскому другу нечего будет бояться царских соглядатев.
* * *
Узнав о состоявшейся во дворце аудиенции, Головнин снова потребовал выдачи Анкудинова у Розенлиндта и Оксеншерны, но получил заверения, что ни секретарю, ни канцлеру не известно, о ком идет речь, так как посланец Семиградского князя Ракоци, передав привезенные письма, сразу же уехал скорее всего обратно в Трансильванию и вообще трудно сказать, о том ли человеке идет речь, которого имеет в виду русский посол.
Когда Герасим Головнин вторично потребовал выдачи Анкудинова, тот был ещё в Стокгольме. Сразу же после аудиенции у Христины Анкудинов написал Косте «повелительной лист» и, отыскав в Стокгольме русский корабль, передал «лист» купцу Василию Подлубскому, следовавшему в Нарву.
«Любезной друг мой, Константин Евдокимович! — писал Тимоша. — Как только получишь от меня сей лист, то немедля поезжай в Ревель и там отыщи рухлядь, которая из Стокгольма привезена. Оставь сию рухлядь в надежном месте, а потом отыщи в Ревеле же Бендиса фон Шотена и сделай что мною написано в листе, оставленном у вышеозначенного Шотена.
В Ревеле же живет Лоуренс Номере и тот Номере отправит тебя в Стокгольм. Сделай сие немедля и поспешай ко мне, ибо я жду тебя для важного дела. Князь Иван Шуйский».
Тимоша надеялся, что он спокойно дождется Костю, но жизнь рассудила иначе — Розенлиндт после вторичной встречи с Головниным велел Анкудинову немедленно покинуть Стокгольм и с первым же кораблем отплыть в Ревель.
…Тимоша ушел от любезного Ивана Пантелеевича с тяжелым сердцем и великим недоумением.
Хоть и улыбался королевский секретарь не менее прежнего и голосом ласкал — будто в церковном хоре пел, была у него в глазах холодная пустота. И нельзя её было скрыть, хоть опусти очи долу, хоть ладонью прикрой.
— Надобно тебе, князь Иван Васильевич, к московскому рубежу поближе быть, — тихо и просительно говорил Розенлиндт. В Стокхольме жить тебе опасно — царские соглядатаи по проторенной дорожке вновь придут к твоему двору, и если не выкрадут, то убьют тебя. А мне, истинному твоему другу, весьма того не хочется.
Тимоша хотел было Розенлиндта спросить: «А в Ревеле легче будет мне от царских убийц оберегаться?» — да подумав, спрашивать не стал: ясно, что ненадобен он Розенлидту в Стокгольме, а потребен в Ревеле. А почему — о том самому нужно будет догадываться.
Молча поклонился Тимоша и снял с пояса усыпанные бирюзой ножны с кривым турецким ножом. Протянув их любезному другу, сказал со значением:
— Иван Пантелеевич! Возьми в память обо мне янычарский кинжал. Зачем он мне, если вся сила короны Свойской не может меня от недругов моих оборонить?
Розенлиндт рассмеялся, легко махнул рукою — шутишь, мол, Иван Васильевич, шутишь. Однако кинжал взял и, прихватив Тимошу за локоть, ласково и вежливо довел до двери, сказав на прощанье:
— Ты, князь, о силе короны Свейской всякие сумненья оставь. Однако ж и сам не плошай; царь российский тоже, как это говорится у вас? — не мочалкой сшит.
Тимоша, не удержавшись, засмеялся, засмеялся и Розенлиндт, не подозревая, над чем хохочет князь Иван, ибо считал свои познания в русском языке безупречными.
Перед отъездом Анкудинов послал на русский гостиный двор первого попавшегося уличного мальчишку и тот передал Петру Торреусу, шведскому негоцианту из Нарвы, записку с приглашением немедленно встретиться в портовом кабачке «Серебряный лебедь».
* * *
Пётр Торреус — медлительный, важный, с округлыми, плавными движениями, неторопливым тихим говором — был подстать завсегдатаям «Серебряного лебедя». Здесь собирались богатые купцы, капиталы больших кораблей, менялы, наживавшиеся на ссудах под большие проценты, и прочий люд, связанный с заморской торговлей.
По-дружески поздоровавшись, Анкудинов и Торреус уселись за чистый стол в дальнем углу зала — низенького, теплого, с поблескивавшими в огромном буфете бутылками, с бело-синими голландскими изразцами на стенах.
Синие корабли неспешно плыли по синему морю. Синие мельницы, застыв, остановили синие крестообразные крылья. Тихо и покойно было в «Серебряном лебеде».
Тимоша, вздохнув, взглянул в окно. Свинцовые тучи, цепляясь за шпили башен, тяжелым покровом висели над Стокгольмом. Глухо шумело серое море, покачивая мокрые черные шхуны. Тимоша поёжился и зябко повел плечами. Торреус недвижно сидел напротив, положив толстые короткие руки на край стола. Бледное, одутловатое лицо его было спокойно и чуть сонливо.
И Тимоша вдруг почувствовал пронзительную, острую зависть к этому человеку, которому можно было жить где угодно, ничего не опасаясь, никого не боясь, ни от кого не прячась.
— Уезжаю я, Пётр, — сказал Тимоша с печальной обреченностью. А не сегодня-завтра придет в Стокгольм мой человек Костя. И ты бы помог ему здесь, Пётр. Сказал бы, чтоб плыл Костя назад в Нарву.
— Скажу, князь. Просьба твоя невелика. Да придет ли Костя ко мне? — спросил Торреус.
— Я чаю, не минет он францбекова двора. А ты, чтоб дело сие ненадежней сладилось, уведоми о том Лукина и Белоусова.
— Сделаю, как велишь, князь Иван, — ответил Торреус и, крепко пожав Анкудинову руку, медленно направился к выходу.
Тимоша сел на корабль, моля бога, чтоб недавно ушедшая шхуна Поддубского задержалась в пути и посланный им «повелительный лист» не погнал бы в Стокгольм верного друга Костю.
Глава двадцать четвертая. Начало конца
Костя получил «повелительный лист» Тимофея 9 августа 1651 года. Он все сделал, как ему было валено, и с помощью верных людей — Нумерса и Шоттена — отплыл на шхуне ревельского морехода Георга Вилькина, часто навещавшего Швецию.
Однако дальше дела у Кости пошли хуже: непогода, разыгравшаяся в открытом море, четыре недели трепала утлое суденышко, пока, наконец, полуразбитая шхуна с порванными снастями и проломленным бортом притащилась в Стокгольм.
Костя сразу же начал поиски Тимоши. Вилькин показал ему дорогу к русскому торговому двору, где останавливались всеведущие купцы, среди которых Костя надеялся найти словоохотливых соотечественников, особо добрых к своим землякам, оказавшимся, как и они — на чужбине.
И верно: на торговом дворе сразу же попали Косте ивангород-ские купцы Иван Лукин, Петр Белоусов и шведский торговый человек Петр Торреус — друзья и доброхоты Анкудинова, с которыми судьба свела Тимощу ещё в Нарве. Но на этом удачи Кости в Стокгольме кончились и Иван, и оба Петра в един глас сообщили ему, что князь Иван Васильевич уехал в Нарву и велел Константину Евдокимовичу Конюховскому плыть туда же.
Костя чуть не заплакал от досады: столько мучений принял он на море, спеша к своему другу и побратиму — и вот, на тебе — приходится ни с чем отправляться восвояси.
Долго не уходил с гостиного двора Костя. Расспрашивал — кто да когда поедет в Ревель, сколько берут за перевоз свойские люди, что следует в Стокгольме купить, чтоб с выгодой в Нарве продать. И о многом другом переговаривал с русскими людьми Костя, оттягивая момент расставания с соотечественниками.
И когда совсем уж было собрался он пойти со двора, появился возле него человечек — сутулый, маленький, остроносый. Всё у человечка — глазки, роток, ручки — было столь мало, как у несмышленого ещё дитяти. Карлик, постояв несколько минут рядом с Костей, на глазах наливался радостью. И, наконец, ударив себя по лбу, воскликнул, сильно окая на волжский манер:
— Константин Евдокимович! Свет ты мой! Да ведь ты не иначе, как князя Ивана Васильевича ближний человек и собинный друг. А я ему, Ивану свет Васильевичу, первый во всей Стекольне приятель и доброхот!
— А тебя, добрый человек, как звать? — спросил Костя карлика, пытаясь заглушить чувство неприязни и брезгливости, возникшее у него при первом взгляде на доброхота.
— Федором Силиным звать меня, — живо откликнулся карлик и с неожиданной силой затряс Косте руку.
— А сам-то откуда будешь? — спросил Костя.
— Ярославские мы, — с готовностью ответил словоохотливый Силин. Издавна торговлишкой промышляем. Последние годы через Ивангород и Нарву в Стекольцу ходим.
Я об Иване Васильевиче ещё в Нарве слышал. Говорили мне о великом его разуме и доброродстве многие люди, а особливо начальный в Нарве человек воевода Яган ван Горн.
Все сходилось в речах Силина, а особенно — добрые слова коменданта Нарвы ван Горна, у которого Костя побывал в доме вместе с Тимошей и сам был свидетелем того, как ласково и сердечно принял их Горн.
Когда Костя пошел со двора в гавань, Силин увязался за ним, и расстался только после того, как Конюхов согласился вечером прийти к нему в гости на дружескую трапезу.
— Кого ещё позовешь? — спросил Костя и Силин назвал ему Лунина и Белоусова. «Эко славно все получается, — подумал Костя. — Посижу с верными людьми — и с приятностью, и с пользою для дела».
* * *
Силин встретил Конюхова у ворот гостинного двора и с великою поспешностью стал звать его, улыбаясь и кланяясь. Пропустив Костю в низкую дверь постоялой избы, Силин в темных, тесно заставленных сенях оббежал его и распахнул ещё одну дверь — в горницу. Горница была велика, но не просторна. По русскому обычаю чуть ли не половину её занимала печь, посередине стоял большой стол с широкими скамьями с обеих сторон.
Тусклый свет скупо проникал сквозь желтую слюду в окнах и от этого в горнице было нерадостно и неуютно.
Переступив порог, Костя различил в полумраке нескольких человек, сидевших вдоль стола.
Свечи ещё не зажигали, лишь светилась в углу под образами лампадка, но от неё только тени становились темнее и гуще, а света не прибавлялось.
Присмотревшись, Костя не увидел ни Белоусова, ни Лунина. За столом сидели незнакомые ему люди. Под образами, на самом почетном месте, сидел, будто проглотив аршин, рыжеватый, нарядно и богато одетый мужчина. Черными на выкате глазами он неотрывно глядел на Костю. Рядом с ним сидел поп — в черной ризе, с наперсным серебряным крестом. Вид у попа был не то виноватый, не то рассеянный. Еще четверо сидели на лавке спинами к вошедшему. Силин остановился у лечи и растаял в тени.
— Ну, проходи, проходи, Константин Евдокимович, — криво усмехаясь, проговорил черноглазый.
Костя шагнул вперед, а четверо, сидевшие на лавке, встали и заслонили собою дверь.
— Садись, Константин Евдокимович, в ногах правды нет, — так же насмешливо продолжал чернобородый.
Костя оглянулся, перехватил недобрые взгляды четверых и понял: «Попался». Костя ухмыльнулся и проговорил лукаво:
— В детстве, когда учили меня грамоте, учитель мой говорил мне не однажды: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и пиршество их — западнею».
— Чего это ты? — спросил озадаченный иносказанием Головнин.
— Не я это, а царь Давид, — усмехнулся Костя. Не выдавая колнения, Костя сел поближе к чернобородому и в тон ему ответил:
— Верно сказано; каков пир, таковы и гости. А я гляжу — ни еды, ни питья на стол не собрано, а гости — все за столом.
— А мы, Константин Евдокимович, вперед с тобой поговорим, а уж потом и пировать станем, — согнав улыбку с лица, произнес чернобородый.
— Можно и поговорить, только для начала недурно бы знать — с кем?
— Государев посол, стольник Герасим Сергеевич Головнин мое имя, важно ответил чернобородый.
«Вот, значит, кто это», — подумал Костя. Однако испуга не почувствовал: что могли сделать ему царские холопы в чужой земле, где люди жили по иным законам? А те законы скорее помогали ему, Косте, чем мешали.
— Нам, Костка, — оставив вдруг насмешливое величанье Конюхова Константином Евдокимовичем, зло и грубо проговорил Головнин, — о воровстве твоем известно довольно. И ежели ты соучастника своего Тимошку изловить нам поможешь, то будет тебе от государя прощенье, а от меня — награда.
— Не понимаю я, о ком ты говоришь, стольник Герасим, — ответил Костя спокойно.
— О подьячишке худом, воришке Тимке, что выдает себя за великородного человека — князя Шуйского, вот о ком говорю я, — ответил Головнин.
— Не собрал бы ты вокруг себя полдесятка холопей, набил бы я тебе рожу, — сказал Костя хрипло и, повернувшись, хотел было пойти к двери, как все, кто в избе был, тотчас же набросились на него и, повалив на пол, стали вязать. Хоть и силен был. Костя, но с такою оравой сладить и он не мог. Кричал только:
— Малоумные! Нешто вы на Москве? Кто же вам волю дал честного человека вязать и бить?
Головнин пнул связанного в бок сапогом и велел посадить его в молитвенный амбар: там и решётки на окнах были прочнее, и замок поувесистей. А чтоб не привлек криком кого из посторонних, велел сунуть в рот ему кляп.
Костю, как мешок, перетащили из избы в амбар и кинули на голый пол. Он долго ворочался и извивался, пытаясь развязать хотя бы руки, но только к утру сумел вытолкнуть изо рта тугую мокрую холстину, и подкатившись к окну, громко закричал, призывая на помощь.
Однако в амбар прибежали не те, кого он ждал, а поп Емельян с холопами. Сев на него верхом, они снова затолкали Косте выплюнутый на пол кляп и привязали для верности к столбу, подпиравшему потолок амбара.
В суматохе дверь амбара осталась раскрытое настежь и несколько человек, из тех, что жили на постоялом дворе, привлеченные криками, заглянули внутрь.
Их лица — испуганные, удивленные, с растрепанными со сна волосами как во сне промелькнули перед Костей. Однако среди них он увидел и хорошо знакомое лицо своего нарвского знакомца и приятеля Петра Белоусова.
* * *
Через час стражники стокгольмского губернатора вызволили Костю из неволи и привезли к канцлеру Акселю Оксеншерне.
Канцлер, выслушав Костю, велел ему идти куда угодно, однако сказал, что со дня на день его вызовут на суд и Косте нужно будет снова повторить все здесь сказанное.
Конюхов ушел, а канцлер велел привезти к нему московского посла. Однако Головнин сказался больным и к канцлеру не поехал. Тогда Оксеншерна велел передать Головкину, что королева не сможет принять царского посла, пока он не побывает у канцлера.
Головнин для приличия проболел ещё день и после этого явился к Оксеншерне.
Старый дипломат, сухо поклонившись, сказал:
— Я прощу вас, господин посол, объяснить мне, что произошло три дня назад в церкви русского гостиного двора.
— Я не поп, — ответил Головнин насмешливо, и что в церкви бывает — не всегда знаю. Оксеншерна вспыхнул:
— Тогда я скажу, что там случилось. Вы схватили вольного человека и, повязав веревками, кинули его в церковь.
— Вора мы повязали, боярин Аксель, нашего государя супостата, произнес Головнин таким тоном, каким говорят с непонятливыми детьми.
Оксеншерна, раздражаясь, проговорил:
— В королевстве Шведском и в иных христианских государствах послы, представляющие персону своего государя не могут вести себя как лесные разбойники. В каждой стране есть свои законы и их следует соблюдать. Что было бы, если бы шведский посол в Москве обманом заманил к себе на подворье какого-либо человека и там стал бить его и мучить?
Головнин искренне не понимал, чем недоволен канцлер и, возражая, говорил:
— Боярин Аксель! Пойманный нами человек — худой подписок, дурной человечишко, вор, тать и нашего государя супостат. От него и в свойской земле можно ждать многого убийства и воровства. И мы его взяли, чтобы и свейским людям тот вор, какого дурна не учинил. И тебе бы, боярин Аксель, за то наше дело нам следовало спасибо сказать, а ты вора выпустил, а мне, государеву послу, говоришь непонятные слова и чинишь великую досаду.
Оксеншерна, махнув рукой с раздражением, ответил, что скоро в Стокгольм приедет королева и сама решит это дело.
Христина, узнав обо всем происшедшем, приказала учредить следственную комиссию под председательством канцлера.
— Эти варвары считают, что могут делать в нашей стране все, что им заблагорассудится, — сказала королева. — Граф, я прощу вас преподнести хороший урок московским дикарям.
Оксеншерна постарался угодить королеве, тем более, что и сам хотел того же. Он учинил многодневное нудное разбирательство, во время которого были заслушаны все участники нападения на Конюхова, русский купец Силин, заманивший его в избу к стольнику, сам стольник Головнин, его многочисленные слуги, Костя Конюхов и свидетель с его стороны — Белоусов.
Оксеншерна разговаривал с каждым из них, не делая никакого различия между холопами посла и самим послом. Он доказывал им, что заманивший Костю Федор Силин менее виноват, чем поп Емельян, набросивший на шею Кости веревку, а стольник Головнин, хотя собственными руками и не душил обманутого им дворянина Конюховского — виновен больше всех, ибо всей этой затейке был голова и, кроме того, в это же самое время был послом, что означает, что все содеянное производилось им, Головниным, как бы по наущению самого царя.
— Ее величество королева Швеции Христина, — заявил в заключение канцлер, считает разбойничье нападение, учиненное русскими в её городе, великой для себя обидой и оскорблением. Она повелевает стольнику Головнину убраться из её страны, а дворянину Конюховскому дает охранный лист и разрешает ехать ему куда и когда угодно.
Выслушав решение канцлера, Головнин только рудами развел да плюнул с досады. «В Москве судят неправедно, — подумал он. — Чего греха таить — ради денег иной судья и невиновного засудит, а виноватого оправдает. Но чтобы явного вора и худородного человечишку взяли вод защиту, а государева посла прогнали прочь — такого срама на Москве никогда не бывало». Однако валух Герасим Сергеевич ничего не сказал: вывернут люторе слова его изнанкой наружу и ещё хуже представят дело. И так ясно, что войдет теперь в Москву от королевы гонец и будет в королевиной грамоте представлен он, стольник и верный государев слуга, лесным разбойником, а воры — Тимошка да Костка невинными пташками.
* * *
Алексей Михайлович после замирения Новгорода и Пскова твердо решил всякую гиль и воровство пресекать в самом начале и не давать малой искре превращаться в пожар, какой потом погасить бывает весьма трудно.
Царь любил книги по гистории и филозофии, но ещё более любил он нравоучения святых отдов, азбуковники, Минеи-Четьи, а более всего, стыдясь в этом кому-нибудь признаться, — любил читать речения и поговорки, коими исписаны были печные изразцы в его палатах.
Часто, приложив руки к горячим гладким печным изразцам, глядел Алексей Михайлович на картинки, писанные синей, зеленой, коричневой глазурью.
«Прелесная вещь» — было написано под царскою короной и Алексей Михайлович думал: «А и впрямь прелесная: сколь многих прельщает».
Печально вздохнув, думал далее: «Надо бы велеть дописать: сколь прелесна, столь и тяжка».
Разглядывая другие картинки, видел государь могучее древо высокоствольное, с раскидистою кроной, с густыми корнями. Только ствол его рассекала пополам страшная молния — внезапная и неотвратимая. А надпись, полная меланхолии, подтверждала: «Тако аз есть безсмертно». И рядом видел царь ещё одну картину: горящие сучья и поленья с многозначительной под ними сентенциею: «От многого потирания происходит огонь».
Разные были картинки и подписи под ними были разные, однако все они навевали государю одну мысль: хотя и подобен его род могучему древу, но не вечен. И может так все быть поражен, как и древо. А причиною всему будет его шапка Мономаха — воистину прелесная вещь. И отымет шапку сию появившийся подобно молнии вор и подыменщик Тимошка. Вспыхнет тогда костер огненный и будут в том костре дровами все те, кого много тёрли приказные люди, а с костром вместе вспыхнет и древо.
«Ох, много сухих дров на Руси, — с тоской и глубоко запрятавшимся в душу страхом думал Алексей Михайлович. — Пойдет полыхать — в Волге воды не хватит». И вспоминал страшные картины московского бунта, когда на глазах у него терзали ближних его людей, а он только плакал, но ничем другам своим помочь не мог. Только и добился, что родича своего и собинного друга боярина Морозова Бориса Ивановича смиренной мольбою еле-еле от погибели спас.
А дальше в памяти всплывал растерзанный хамами, кровожадными василисками Леонтий Плещеев и вспоминалось царю, как упреждал его Леонтий о злокозненном и хитром подьячишке Тимошке, коему и по звездам выпадал царский венец.
И выходило, что худой человечишко становился для него — сильнейшего в мире самодержца — хуже и опаснее турецкого султана или перекопского царя.
А тут ещё неотвратимо надвигалась новая война с Литвой и Польшей, и оставлять на воле вора Тимошку никак было нельзя. О том же неоднократно говорил ему и Борис Иванович Морозов — муж великого ума — и беспредельно преданный Григорий Гаврилович Пушкин.
Промаявшись без сна всю ночь, государь, встав с тяжелою, будто с похмелья головой, призвал к себе дьяка Волошенинова и велел послать к королеве Христине гонца с требованием выдать головою вора Тимошку и товарища его Костку.
— А чтоб королева на сие согласилась, — сказал государь, — пропиши Христине, что ежели она выдаст нам воров, то отдам короне Свойской всю Корелию с Ингерманландиею.
Волошенинов посмел с удивлением поднять на государя взор. Алексей Михайлович улыбнулся:
— Ты напиши, а там, что господь даст.
* * *
17 сентября 1651 года гонец Яков Козлов умчался в Стокгольм. Он был ещё в пути, когда вслед ему царь отправил нового гонца — Янаклыча Челищева и Козлов, и Челищев ехали в Стокгольм с охранной и толмачами, почти как послы, получив от самого государя строгий наказ: добыть вора Тимошку во что бы то ни стало. Гонцам было приказано: денег не жалеть, а паче того не жалеть посул. Обещать все, чего шведы не пожелают, но вора в Москву привезти живым или мертвым. Однако ж — лучше живым.
И гонцы, не жалея лошадей и себя щадя столь же мало, сколь и запаленных саврасов, мчались, разбрызгивая грязь, на север, на север — к ливонскому рубежу.
Доехав до Колывани, гонцы один за другим появились в замке губернатора Эстляндии графа Эрика Оксеншврны. Действовали они при этом вроде бы и спряма, но на самом деле с великою византийскою хитростью.
И та хитрость шла не от них самих, и не от их малого служебного разумения, а от больших думных людей, что у государя были в немалой чести за искусный ум, изворотливость и смекалку.
Думные чины и надоумили Козлова и Челищева, дадим быть с Эстляндским губернатором и не дать увертливому шведу, скакнув в сторону, вора Тимошку собою прикрыть.
Валено было гонцам, въехав в Колывань, отправляться на базар, а затем на площадь к Ратуше и там, сопровождавшим их толмачам читать по-русски, по-шведски и по-немецки, что приехали они в Колывань с любовью и дружбой и поедут далее в Стекольну к королеве Кристине с любовью и дружбой.
И ради любви меж просветлим царем Алексеем Михайловичем и королевою Кристиной просят они, царские гонцы, изловить злого человека, шильника и вора Тимошку, замыслившего дружбу меж двумя государствами порушить и учинить свару и войну.
Козлов, выслушав совет думцев, засомневался:
— А ладно ли то будет, господа, когда иноземный гонец станет читать повелительные листы свойским и немецким людям? Не будет ли то в обиду начальным людям — губернатору и ратманам?
Думные чины отвечали:
— Ты, Яков, и толмачи, что с тобою поедут, будете говорить о мире и дружбе и против свары и войны. И королеву Кристину будете называть просветлей, предоброй и премудрой государыней. И о благе Свойского королевства будете в тех речах пещись не менее, чем о благе Московского царства. Кто же вам поставит то в укор? Кто посмеет супротив мира и правды пойти?
А после того ведено было и Козлову, и Челищеву в окружении сколь можно большего числа обывателей идти к губернаторскому дому и то же самое принародно высказать губернатору. И в конце спросить прямо: «Если вор Тимошка окажется в Колывани, отдаст ли губернатор вора царским людям или не отдаст?»
И губернатор ничего иного сказать не посмеет, кроме как пообещать, что вора и злоумышленника Тимошку, ежели он окажется в Колывани, отдаст царским слугам. Ибо как ему того не сказать? Будет тогда губернатор тому вору друг и потачик, а обеим государям — супостат.
И обсудив ещё многое, чтоб задуманному делу хорошо свершиться, ближние государевы люди гонцов отпустили, а сами стали готовить ещё одну тайную затейку, о которой и гонцы не знали, какая могла бы сгодиться, если б эстляндский губернатор каким-нибудь образом увернулся.
И когда Козлов уехал из Москвы, а Челищев ещё ждал новых повелений, вслед за первым гонцом, не столь спешно, как он, поехали с товарами тайные государевы люди. И те сокровенные люди ехали по делу, кое от всех прочих держали они в великом секрете — ведено им было в ливонских и в шведских землях накрепко сыскивать вологодского подписка. Тимошку Анкудинова, и отыскав, добывать всеми хитростями.
И было тех человек две дюжины, но ехали они не все вместе, а четыре раза по шесть.
* * *
Тимоше с погодой повезло: он плыл от Стокгольма до Ревеля всего две недели. Повезло ему и в Ревеле: прямо на набережной встретились Анкудинову — будто нарочно ждали его — два новгородских купца — Максим Воскобойников и племянник Воскобойникова — Петр Микляев, разительно похожие друг на друга: оба низкорослые, широкоплечие, с маленькими головами, прилепленными прямо к туловищу. Оба были какой-то неопределенной масти будто на сноп переспелой соломы ветром надуло сухую землю.
Новгородцам оказалось по пути с князем Иваном Васильевичем: из Ревеля, а по-русски — Колывани, ехали они в Нарву, а по-русски — Ругодив. У купцов оказался целый обоз — шесть телег с товарами, и при обозе, кроме них самих, ещё двое приказчиков и двое мужиков-возчиков.
Воскобойников уехал вперед, а весь обоз неспешно двинулся следом. Так как у Тимоши оказалось немало рухляди, пришлось и ему нанимать две подводы и одного возчика — немца Ганса Ноппа, славившегося среди промышлявших извозом ревельцев тремя свойствами: молчаливостью, упрямством и необычайной силой.
Поздно вечером обоз остановился в придорожной корчме. Люди Воскобойникова распрягли лошадей, засыпали им овса и, отужинав вместе со своим хозяином, дожидавшимся их в корчме, легли спать.
«Господи, — подумал Тимоша засыпая, — только застать бы мне Костю в Ругодиве. Может не успел он ещё отплыть в Стокгольм?»
Среди ночи Тимоша почувствовал, как что-то тяжелое придавило его к лавке и, мгновенно очнувшись, понял, что его вяжут веревками по ногам, крепко ухватив за руки. Он рванулся, но встать не смог — четверо сразу лежали и сидели на нем.
— Ганс! — закричал Тимоша. — На помощь!
Воскобойников не думал, что немец ввяжется в драку — не для того нанимал его «князь Иван Васильевич». Но упрямый Нопп был к тому же ещё и очень честен: если уж он нанимался везти человека ли, товар ли, то и за безопасность перевозимого седока и имущества отвечал собственной головой. Да и что бы сказал честный Ганс своим товарищам по гильдии извозчиков, если бы те узнали, что силач Нопп стоял, опустив руки, в то время как разбойники — а Нопп ничуть не сомневался, что это разбойники — вязали его седока веревками?
Нопп рявкнул, схватил за конец дубовую скамью и повернулся вместе с нею сначала направо, а потом — налево. Двое мужиков повалились на пол. Двух других Нопп, схватив за пояса, сорвал с князя Ивана и, ударив одного об другого, кинул оземь.
Оставив князя, Воскобойников и его люди кинулись к Ноппу, но тот, встав спиной в угол, так махал скамьей, что только ветер свистел по избе, качая язычки трех свечей, чудом горевших на печном загнетке.
Тимоша схватил кочергу и ударил ею по голове Воскобойникова. Купец рухнул, не охнув. Его племянник кинулся к дяде, но и сам упал, получив страшный удар кочергой под ребра. Нопп крикнул по-немецки:
— Князь Иоганн! Я сейчас ударю по свечам, а вы бегите к конюшне и выводите двух лучших лошадей!
Тимоша крикнул также по-немецки:
— Хорошо!
И в наступившей тьме пулей ринулся за порог.
Когда он, сидя верхом, подогнал к избе ещё одну лошадь, с крыльца, как медведь с повисшими на шкуре собаками, скатился великан Нопп.
Из всей рухляди, что была на его возах, Тимоша успел схватить лишь пистолет о двух стволах, кривой турецкий нож и сумку с письмами и деньгами, которую он спрятал в сарае, почему-то побоявшись взять с собою в избу.
Высоко подняв пистолет над головой и зажмурившись, Тимоша спустил курок. Мужики — кто ползком, кто бегом сыпанули в стороны. Нопп, обхватив лошадь за шею, упал поперек спины и следом за князем выскочил из ворот.
Оглянувшись, Тимоша не заметил ни одного человека. «Слава богу, мелькнуло у него в голове, — боятся, сволочи, попасть под пулю».
Нопп, все ещё тяжело дыша, скакал рядом. Лицо его было совершенно спокойно, как будто он сопровождал книзя на утренней прогулке.
* * *
Граф и генерал Густав Горн — военный губернатор и комендант Нарвы был хотя и не давним, но верным приятелем Тимоши. Их взаимная приязнь возникла сразу же — при первой встрече и сохранялась неизменно, несмотря на разницу в возрасте и положении. Густав Горн — высокий, жилистый старик с водянистыми голубыми глазами, торчащими вверх усами, с острыми худыми плечами, локтями и коленями — принадлежал к старому аристократическому семейству, давшему Швеции немало дипломатов и генералов. Однако свой нынешний пост старый вояка считал недостойным для графского рода и чувствовал постоянную обиду и на королеву, и на губернатора Эстляндии Эрика Оксеншерну — мальчишку и выскочку, возвысившегося только благодаря своему дядюшке-канцлеру.
В изгнанном русском Горн почувствовал нечто родственное себе: князь из старейшего и благороднейшего семейства, умный, смелый, энергичный — а именно таким казался себе Горн — претерпевает, как и он сам, удары судьбы.
Поэтому, когда Горн снова встретился с князем шуйским, высланным из Стокгольма и едва не убитым неизвестными разбойниками, в душе старого генерала вспыхнуло доброжелательное чувство уважения и восхищения перед упорством и отвагой этого человека.
«Эти стокгольмские интриганы, — подумал Горн, — неспроста выслали князя в Эстляндию. И уж не они ли организовали и это нападение на него?»
И Горн решил оберегать князя Шуйского, сколь будет возможно. Его логика была проста; если Оксеншерне и Розендиндту нужно, чтобы русский князь погиб, значит нужно постараться его спасти. Поэтому Горн предложил шуйскому покои в своем доме, но князь отказался. Он очень спешил в Ревель, и просил лишь об одном — скорее дать ему надежный конвой. Горн дал шуйскому шесть драгун и рекомендательное письмо к вахмистру Ягану Шмидту, в доме которого, как он полагал, князь будет под надежной защитой.
* * *
По дороге в Ревель Тимоша вместе с конвоем завернул в корчму, где минувшей ночью на него было совершено нападение. Корчмарь увидев шведских драгун, испугался. Он тотчас же подумал, что его обвинят в сговоре с нападавшими и, когда Тимоша спросил его: «Куда поехали эти разбойники?» указал рукою на восток, в сторону Новгорода.
«Должно быть, так оно и есть, подумал Тимоша. — Ведь Воскобойников и Митляев — новгородцы. А куда им бежать и где прятаться, если не у себя дома?» И, повеселев, Тимоша вскочил в седло, и уже ничего не опасаясь, поскакал впереди конвоя в Ревель.
…Толстые стены из серого камня; на высоких валах, поросших жухлой травой, — приземистые башни, за ними — церковные шпили, вонзающиеся в низкое серое небо — таким предстал перед путниками Ревель. А когда подъехали ближе, первое впечатление не исчезло, а усилилось: стены показались ещё толще, башни ещё приземистей, шпили ещё острей. «Не город, а тюрьма», — подумал Тимоша и недоброе предчувствие шевельнулось у него в груди. Чувство это стало ещё сильнее, когда Тимоша въехал в город. Каменные дома с окнами, забранными решётками с узкими дверцами, обитыми железными полосами, напоминали маленькие замки.
На площади у Ратуши Тимоше вдруг показалось, что среди толпы мелькнула знакомая кургузая фигура и выбившиеся из-под шапки волосы цвета переспелой соломы, обсыпанной землей.
«Мало ли их, низкорослых да рыжеватых?» — подумал Тимоша, но беспокойство не проходило: а вдруг Воскобойников?
* * *
Дом Ягана Шмидта, старого служаки, проведшего рядом с генералом Горном четверть века, был такою же маленькой крепостцей, как и другие соседние дома. К дому примыкал маленький садик и огород, где Тимоша мог глотнуть немного воздуха да поглядеть за полетом стрижей.
Яган сказал Тимоше, что Ревель кишит царскими лазутчиками — об этом сообщили ему и его старые приятели из Ратуши, и знакомый офицер полицейской стражи, да и многие городские обыватели в один голос вот уже несколько недель толковали об этом и на рынке, и в пивных, и при встречах на улице.
На четвертый день пребывания в Ревеле — 8 октября 1651 года — Тимоша не выдержал и решил возвращаться в Стокгольм. Ему не давала покоя мысль о Косте. И днем, и ночью перед его глазами стоял его названный брат, связанный веревками, забитый в железа, терзаемый заплечных дел мастерами.
Оставлять ему было нечего — все имущество пограбили Воскобойников с Митляевым. Взяв кису с деньгами, сумку с бумагами, пистоль да кривой турецкий нож, Тимоша простился с хозяином дома и вышел за ворота.
Улица была пуста. Только вдали маячил какой-то человек. Но и он пошел прочь, как только Тимоша двинулся от ворот.
Пройдя два квартала, Анкудинов повернул за угол, на улицу, ведшую к гавани. И сразу же столкнулся с тремя подгулявшими молодцами. Он хотел обойти пьянчужек, но улица была узка и к тому же молодцы, как бы забавляясь, не пропускали его. Тимоша легонько подвинул одного из них в сторону и тотчас же все трое кинулись на него и, повалив на землю, стали вязать. Из-за спин нападавших вынырнули знакомые Тимоше рожи Воскобойникова и Митляева Тимоше завернули руки за спину, сунули в рот кляп и потащили в карету, стоявшую в трех саженях от места нападения. Дверцы кареты захлопнулись. Воскобойников и Митляев сели на распростертого Тимошу верхом, сдавив его ногами. В карету забралась ещё полдюжина молодцов и, подскакивая на ухабах, экипаж помчался неведомо куда.
* * *
Губернатор Эстляндии граф Эрик Оксеншерна вторые сутки пропадал на псарне, ожидая, когда ощенится его любимая борзая. Из-за того, что ожидание оказывалось напрасным, он нервничал и потому совершенно ничего не понял, когда пришедший слуга сказал, что в замок привезли какого-то человека, связанного по рукам и ногам и с кляпом во рту.
Оксеншерна, досадливо поморщившись, нежно погладил борзую по голове и быстро пошел к дому, желая как можно скорее развязаться с неожиданной докукой и возвратиться на псарню.
У крыльца дома он увидел черную карету с дверцами без окон и возле неё группу оживленных мужчин. Губернатор подтянулся и замедлил шаг. Его тотчас же заметили и тут же замолчали. Оксеншерна увидел в центре толпы человека со связанными руками и кляпом во рту. Оксеншерна досадливо дернул плечом и тотчас же вспомнил, что совсем недавно одна за другой такие же толпы приходили в замок и по наущению царских гонцов требовали от него поимки русского человека, который, по их словам, выдавал себя за князя.
Оксеншерна взглянул на связанного и понял, что перед ним стоит тот самый князь. Больно приметен он был — глаза разного цвета и оттопыренная нижняя губа мешали спутать его с кем-либо другим.
— Развяжите его, — сказал Оксеншерна, — и выньте кляп. Окружавшие русского князя люди, нехотя повиновались.
— Кто таков? — спросил губернатор после того, как его приказ был исполнен.
— Вор! Худой человек! Жену и детей убил! Улицу спалил! Казну пограбил! В царское имя влыгался! — закричали в толпе. Один из русских, знавший шведский язык, угодливо стал переводить все это. Оксеншерна поднял руку. Крикуны умолкли.
— Теперь пусть говорит он. — Губернатор повел рукой в сторону Анкудинова.
— Господин губернатор! Все сказанное этими глупыми и бесчестными людьми — ложь, — произнес Тимофей по-немецки. — Они клевещут, чтобы, заполучив, отвезти меня к моим недругам в Москву и там казнить. Вместе с тем у меня есть подлинные грамоты о моем происхождении. Эти грамоты видела и пресветлая госпожа, королева Христина и канцлер короны благородный господин Аксель Оксеншерна и думный дворянин Иван Розенлиндт.
Тимоша снял с плеча сумку с бумагами, которую Воскобойников и его люди в суматохе забыли снять с Анкудинова, и протянул её губернатору.
Оксеншерна взял сумку, раскрыл её, одну за другой стал доставать и читать грамоты.
Вид свитков вощеной бумаги с висящими на шелковых шнурах сургучными печатями произвел на толпу отрезвляющее впечатление. В наступившей тишине Оксеншерна сказал:
— Я оставляю этого человека у себя. Он будет здесь под надежным караулом. И если он виноват, вы получите его. Но не раньше, чем я смогу убедиться в этом.
* * *
Анкудинова отвели в светлую чистую камеру. Первый же ужин лучше всяких слов объяснил Тимоше, что губернатор скорее считает его своим гостем, нежели узником: арестанту принесли бутылку хорошего вина, жареного каплуна и горячий мягкий хлеб, только что снятый с печного пода.
Тимоша попросил перо, чернил и бумаги — и тут же получил их. Прежде всего он решил написать обо всем случившемся Розенлиндту. Слуга, принесший перо, бумагу и чернила, отчего-то не уходил.
— Чего тебе? — спросил Тимоша и слуга ответил:
— Не начинайте письма, прежде чем не переговорите с господами Валъвиком и Крузенштерном — секретарями господина губернатора.
— А когда они примут меня?
— Они сами придут сюда, как только я уйду из вашей — слуга замялся из вашей комнаты.
— Так иди же скорее! — воскликнул Тимоша, ожидая, что Вальвик и Крузенштерн придут, чтобы освободить его.
Секретари не замедлили явиться. Оба они были молоды, белокуры, голубоглазы, высоки ростом и худощавы. Держались секретари так, будто пришли не в камеру к узнику, а к другу в гости. Они ни о чем не расспрашивали, но сами раскалывали много полезного: и о происках стольника Головнина, и о пленении им Кости, и об освобождении Кости по приказу королевы.
Когда они ушли, Тимоша понял, что симпатии шведов на его стороне и его заключение — дело нескольких дней.
Положив перед собою чистый лист, Тимоша, долго думал: о чем следует писать любезному другу Ивану Пантелеймоновичу, а чего писать не следует. И решил, что прежде всего нужно будет добиться признания за ним семиградским послом — права на неприкосновенность. И затем распространить это право и на его слугу Константина Конюховского. Обдумав все это, Анкудинов вывел; «Многодостойный: и честный господин Иван Пантелеймонович Розонлит! Я сюда уехал добровольно, не без рекомендаций и не без свидетельств, и не как бегуны и блудяги, потому, государь, пактам Московским с коруною Свейской не подлегаю». — Обосновывая свое право на нерикосновенность, Тимоша писал, что «пресветлый енерал Хмельницкий» рекомендовал его «пресветлому фиршту Ракочему Трансилванскому», а тот в свою очередь дал ему рекомендательные письма в Швецию и потому его следует вызвать в Стокгольм, «где я готов версфиковаться и княжескую природную невинность ясно показати». В конце Тимоша приписал: «От Морозова морского анъела, или палача, человек мой верной Константин Конюховской новым мучениям подвергся, и чтоб до моего приезда Королевые Величества его в руки кровавые отдать не велела».
Написав письмо, Тимоша разделся и, загасив свечу, лег в чистую мягкую постель. Только сейчас, во тьме и тишине, он почувствовал усталость и боль. Ныло ушибленное в драке плечо, саднило кожу на руках, болела голова. Тимоша закрыл глаза, но картины минувшего дня проплывали одна за другой. Он видел искаженные злобой и злорадством лица Митляева и Воскобойникова, равнодушные маски Валъвика и Крузенштерна, досадливую гримасу Оксен-шерны.
«Враги вокруг меня и косные душой безучастные люди, — подумал он. Никому я не нужен и спрятал меня Оксеншерна не по доброте душевной, а для какой-нибудь собственной выгоды, про запас, как прячет рачительный хозяин старую вещь — авось когда-то ещё пригодится». И стало на душе у него так скверно, как не бывало и в Стамбуле. Там была у него надежда — избавившись от узилища, продолжить начатое далее. Пойти в степные юрты Закаспия, поднять на бой казаков, посадских, волжскую голытьбу, тряхнуть сонное Московское царство так, чтоб маковки на церквах закачались.
А когда уехал от гетмана Богдана, лелеял в сердце надежду — вот доеду до Пскова и подыму горожан на бой. Вспомню про былые их вольности — авось да схватятся за топоры, как только что хватались. Не вышло и это. Повывел царь крамолу ещё раньше, чем добрался он до московского рубежа. Затоптал костер, разметал головешки и в землю зарыл.
И остался князь Иван Васильевич сам по себе. И если только понадобится какому иноземному государю, то вспомнят, призовут и обнадежат. А не понадобится — сгинет ни за ломаный грош.
И когда понял Тимоша все это, осталось ему только одно — подороже продать две их жизни — его да Костину. И, быстро вскочив с постели, Тимоша зажег свечу и стал писать ещё одно письмо — королеве Христине.
«Всемилостивейшая королева! Пишет Вам всеми гонимый, несчастный человек, которому Вы одна можете помочь.
Недруги настигли меня в Ревеле и выдали Вашему слуге Эрику Оксеншерне, а он, не известно почему, посадил меня в тюрьму. И не знаю я, что ждет меня завтра, а более того скорблю о моем человеке Константине Конюховском — не попасть бы и ему в руки злодеев. Ибо немало знаю примеров, когда и в Волошской земле, и в Крыму, и в Стамбуле люди царской крови гибли от рук палачей.
И совсем недавно случилось такое с другом моим Александром Вазой, которого краковский епископ, изловив, посадил на кол. А был мне Александр друг и сберегатель и о королевском своем происхождении рассказал сам, не утаив ничего.
И если Вы, королева Христина, не поможете мне выйти из неволи, а прикажете отдать в руки моих недругов, то и моя кровь прольется, и будет то во грех Вам».
Тимоша написал все это единым духом, перечитал и, не перебеливая, отложил в сторону. Откинувшись затем на подушку, он сощурил глаза и подумал: «Не отдаст меня королева Воскобойникову — побоится греха. Тем более, что и брат её, Александр, доводился мне другом».
Первое письмо — к Розенлиндту — Тимоша отдал утром слуге, попросив вручить его губернатору. Второе же письмо — королеве — отдавать не стал, опасаясь, что Оксеншерна отправит его не по адресу, а перешлет своему дяде канцлеру.
Лишь через неделю, когда Тимоша понял, что слуга за невеликую мзду перешлет второе письмо с надежным человеком прямо в Стокгольм, он отдал и его.
За это время не он один отправил письма из Ревеля. О его поимке тотчас же сообщили в Новгород Великий Воскобойников и Митляев. Туда же написал обо всем случившемся и Эрик Оксеншерва, справедливо решив, что и без него нашлись в Ревеле люди, готовые поделиться радостной вестью с наместником новгородским князем Буйносовым-Ростовским. Оксеншерна же написал о поимке князя Шуйского и своему начальнику генерал-губернатору Карелии, Ингерманландии и Кексгольма графу Эрику Штейнбоку.
Вскоре пришли в Ревель и ответные письма. Новгородский наместник Буйносов просил «вора Тимошку тотчас же выдать головою», а старый, опытный и осторожный Штейнбок, напротив, советовал ничего не предпринимать, ожидая ответа из Стокгольма. И так как не Буйносов был Оксеншерне начальник, а Штейнбок, губернатор Ревеля решил подождать.
* * *
Обратный путь из Стокгольма в Нарву оказался для Кости ещё мучительней: десять недель от острова к острову шла навстречу неутихающим осенним штормам еле починенная шхуна Георга Вилькина.
В пути дважды кончались запасы и воды, и продовольствия. Шкипер Вилькин, оказавшийся на редкость жадным, обобрал Костю донага: снял с него новую заячью куртку, не побрезговал и старым кизилбашским ковром. А в конце пути и вовсе перестал его поить и кормить.
На семнадцатый день путешествия, в холодные и ненастные дни начала ноября, Вилькин, не довезя Костю до Нарвы, высадил его в устье Невы, и голодный, озябший Костя, завернувшись в старое рядно, пошел к ближайшей шведской крепости Ниеншанц, по-русски Канцы.
У ворот Ниеншанца он оказался в середине ночи. Шел дождь пополам со снегом. Костя долго стучал в ворота, пока, наконец, его впустили в крепость. Сторож разрешил ему переночевать в пустой старой конюшне. Костя лёг на гнилое, пропахшее конской мочой сено и долго не мог заснуть, несмотря на то, что все тело ныло от усталости, и от холода зуб не попадал на зуб.
Под утро он забылся в тяжелой полудрёме и на душе у него было тоскливо и неспокойно. Утром ему сказали, что князь Иван Шуйский арестован и сидит в Ревелъском замке.
* * *
О поимке Анкудинова царскими агентами и о том, что ныне загадочный русский сидит под стражей в тюрьме Ревелъского замка, Оксеншерна сообщил также и своему дяде канцлеру. Штейнбок подучил письмо через десять дней, в Стокгольм оно пришло тремя неделями позже.
В это время в шведской столице находился Янаклыч Челищев. От верных людей он получил известие о поимке Анкудинова одновременно с канцлером Оксеншерной, ибо один из матросов за немалую мзду взял от Воскобойникова письмо и тотчас же по прибытии в Стокгольм передал его царскому гонцу.
Не медля ни минуты, Челищев явился к Оксеншерне и потребовал выдачи «поимочного листа» на воров Тимошку и Костку.
Так как канцлер уже знал, что его племянник известил обо всем случившемся новгородского наместника Буйносова-Ростовского, то отказать в выдаче листа он не мог, и счастливый Челищев покинул дворец, полагая, что теперь-то оба супостата, наконец, окажутся у него в руках.
* * *
Однако же, выдав Челищеву «поимочные листы», старый канцлер засомневался: а не поспешил ли он с этим делом? Не выйдет ли от чрезмерной спешки какого-нибудь лиха?
И решил — как этого ему ни не хотелось — переговорить о князе Шуйском с королевой.
Христина была неспокойна и, слушая канцлера, думала о чем-то своем. Оксеншерне показалось, что она плохо спала: лицо королевы отекло, под глазами проступила нездоровая синева, щеки были бледны.
Канцлер говорил ей о князе Шуйском, а она неотступно думала о казненном поляками Александре Костке. Канцлер приводил резоны в пользу того, что русского князя надобно выдать царским слугам, ибо мир и союз с Россией сейчас для Швеции важнее всего, так как неизбежна война с Польшей, а Христина видела перед собою старую замшелую стену и возле неё лужи крови и растерзанного палачами тщедушного, бледного мужчину — почти юношу — и клубок бродячих псов, слизывающих кровь, и смеющихся солдат, потешающихся, что ещё живого человека грызут собаки, а он не может и руки поднять и даже крикнуть не может.
Канцлер давно уже кончил говорить, а Христина все молчала, уставившись взором в одну точку, будто видела перед собою нечто недоступное другим. Затем она плавно повела рукою возле лица, как бы подымая вуаль, заслонявшую от неё мир, и рассеянно взглянув на канцлера, спросила тихо:
— А куда же бежать бедному князю Шуйскому? Куда? И так как Оксеншерна молчал, недоумевая, Христина продолжала:
— Он уехал от Хмельницкого к Ракоци, надеясь, что мы выступим вместе с тем и другим против Польши. Мы пока что не готовы к талой войне. Хмельницкий же за то время, пока Дуйский был в дороге, настолько сблизился с русским царем, что наверное выдаст своего посла, ибо для Хмельницкого сейчас важнее всего союз с Россией. Польский король тоже будет не прочь переговорить с Шуйским, чтобы выяснить, с какой целью посещал он Стокгольм и Трансильванию. Причем не секретари будут спрашивать его об этом, а палачи. Так вот я и спрашиваю вас, граф, куда же бежать бедному князю Шуйскому? Куда?
— Благотворительность и политика не одно и то же, ваше величество, осторожно начал канцлер, но Христина не дала ему продолжить.
— Я не хочу, слышите, не хочу, чтоб его тоже разорвали на части, и чтоб собаки пожрали его внутренности! — вдруг закричала Христина, и Оксеншерна впервые заметил в её глазах очевидные признаки надвигавшегося на неё безумия. Он испугался и поспешил успокоить Христину.
— Вы же знаете, ваше величество, — проговорил он мягко и вкрадчиво, я никогда не жаждал ничьей крови. Я напишу моему племяннику, чтобы он не выдавал царскому послу князя Шуйского.
— Да, Аксель, сделайте так, прошу вас, — произнесла Христина тяжело дыша, будто только что взошла на высокую и крутую гору.
* * *
Выйдя от королевы, Оксеншерна вдруг вспомнил, что о втором русском ни он, ни её величество не произнесли ни слова. Королеве не было до него никакого дела, и Оксеншерна подумал, что судьба все-таки благосклонна к политическим планам Швеции, оставляя одного из перебежчиков в руках его племянника. «Мы отдадим царю Конюховского и тем докажем нашу искренность в отношениях с Москвой, — подумал старый канцлер. А князю Шуйскому нужно будет помочь бежать. Если же русские изловят его в Ливонии или в Литве, то ни я, ни Эрик не будем в том виноваты».
Так судьба Тимоши пошла в одну сторону, а Кости — в другую. Однако ни тот, ни другой ничего об этом не знали и думали только о том, чтобы найти друг друга поскорее и бежать куда-нибудь дальше, где не найдут их гончие псы Алексея Михайловича.
* * *
В середине ноября Челищев сел на корабль, отходивший в Ревель и, вознеся молитвы и Иисусу, и Магомету — Челищев был крещеным татарином и потому для верности попросил о помощи и у старого, и у нового бога, — ушел в бескрайнее море, ветренное и волнующееся.
Однако сколь ни страшны были волны, на душе у Янаклыча пели птицы он видел себя рядом с государем, в шубе с царского плеча, с кошельком, полным денег.
Ее знал Янаклыч одного — на том же корабле везли в Колыванъ письмо от дяди к племяннику и в том письме ведено было главного заводчика Тимошку никоим образом в руки Челищеву не давать, а сохранять и далее для некого злого умышления.
* * *
13 декабря 1651 года Челищев сошел на берег Колывани. Не заходя ни на постоялый двор, ни в избу, пошел он прямо к губернатору и получил заверения, что самозванец будет выдан ему через два дня.
Не помня себя от радости, Челищев приказал одному из толмачей, не дожидаясь утра, отправляться в путь — в Москву с благой вестью о поимке вора. Разбрызгивая чернила, Челищев писал:
«Пресветлый государь! Многими моими, холопишки твоего, стараниями вор и супостат Тимошка Анкудинов ныне с божией помощью в наших руках. И мы того вора, накрепко оковав железами, наборзе доставим, в Москву и там, государь, воздается ему по делам его». Немного подумав, Челищев добавил: «А того вора Тимошку привезу тебе аз, Янаклычко сын Челищев, холопишко твой, через два дни после того, как получишь сей мой лист».
Двое суток после этого Янаклыч провел, как во сне. Часы — да что там часы! — минуты — и те тянулись, как дни и месяцы.
Наконец, утром 15 декабря Челищев со стражниками явился в покой губернатора, но тот почему-то не появлялся и гонца к себе не звал.
После мучительно долгого ожидания, полный самых дурных предчувствий, Челищев увидел двух сухопарых, похожих друг на друга немцев, кои стали говорить ему нечто непонятное.
Немцы говорили громко, но Челищев ничего не слышал: пол комнаты плыл у него под ногами и в голове стоял шум. До слуха доносились лишь отдельные слова и обрывки фраз: «бежал минувшей ночью», «мы сожалеем», «неизвестно как», «никто не знает, где теперь обретается…»
Челищев разорвал ворот вышитой жемчугом рубахи, топал ногами и плевал на ковер столь зло и часто, будто хотел потушить одному ему видимый костер. Вальвик и Крузенштерн — белобрысые великаны с ледяными глазами — молча взирали на беснующегося московского посла. Затем Янаклыч стал хулить шведов нечистыми словами. Толмач десять минут молчал, не зная, как перевести шведам три четверти изрыгаемых послом слов.
В конце аудиенции толмач сказал, что гонец московского царя скорее умрет в Ревеле, чем уедет из Эсдляндии хотя бы без второго вора — Костки.
Секретари холодно поклонились и обещали передать просьбу гонца господину губернатору.
Глава двадцать пятая. Восхождение
Костя прожил в Ниеншанце почти до Рождества. Многие люди говорили ему, что повсюду в Эстляндии ждут его и князя Ивана Васильевича враги и гонители и что ему лучше всего переждать нынешнее лихолетье в Ниеншанце маленькой отдаленной крепостце, где редко оказывался кто-либо из русских. Костя согласился.
Однако перед самым Рождеством его известили, что князь Иван Васильевич бежал из ревельского замка и Костя решил ещё раз испытать судьбу и найти побратима. Перебрав в памяти всевозможные адреса и многочисленных доброхотов, Костя взял в долг двадцать талеров и наняв повозку с сеном и сговорчивого, не падкого на деньги возницу, выехал в Нарву к генералу Густаву Горну.
В ночь под Рождество, зарывшись в сено, Костя въехал в Нарву. Однако генерал не позволил ему остановиться в городе даже на день, а тут же приказал ехать дальше.
Новый возница посадил Костю в простую походную карету Горна — без графских гербов, без форейторов на запятках — и умчался в тихий городок Везенберг, который местные жители называли старым языческим именем Раквере.
Там Костю поселили в домике местного почтмейстера Маркуса Лангиуса и он поступил на попечение доброй супруги Лангиуса — Екатерины Даль.
Но тихое счастье Кости оказалось недолгим. Через две недели его перевезли в Ревель и оставили в доме вахмистра Ягана Шмидта. Дом Шмидта больше походил на тюрьму, чем на жилище мирного бюргера: на окнах были толстые, частые решётки, двери были обиты железом. И, кроме того, никуда из дому Костю не выпускали.
В конце марта за Костей явились вооруженные стражники и отвели его в тюрьму ревельского замка.
Камера его была темна и тесна, и когда принесли ему первый в тюрьме ужин — кружку воды, кусок черствого хлеба и щепоть соли — Костя понял, что дела его плохи.
* * *
18 мая 1653 года Костю Конюхова, связав по рукам и ногам, передали Челищеву. Вокруг крытого возка, в который положили Костю, встало столько конных стрельцов, что можно было подумать — не беглого подьячего, а царскую казну перевозят с места на место.
Вместе с Костей в возок втиснулись Янаклыч Челищев, Воскобойников и Митляев.
Выкатившись из Вышгорода, карета и конные стрельцы помчались к Москве почти без остановок и роздыха. Останавливались только затем, чтобы перепрячь лошадей.
28 мая Челищев со всеми своими людьми остановился у Тверской заставы. Еще раньше, с последнего ночлега, ушли в Москву легкоконные бирючи известить государя и приготовить город к встрече.
Костю вытащили из возка оглушенного, побитого, одеревяневшего. Десять дней провел он в тесной карете, лежа на полу, спеленутый веревками. Только раз в сутки — в середине ночи — вытаскивали его на несколько минут справить нужду и вновь заталкивали во тьму и тесноту.
С Кости сняли веревки и он, не чувствуя ни рук, ни ног, повел плечами, хрустнул пальцами и, вскинув голову, поглядел перед собой.
Только что прошел дождь и сквозь легкие белые облачка лился на землю золотой свет. Все сверкало под теплым и ласковым солнцем — клейкие молодые листочки в соседнем березнячке, дождевая вода в лужах, тихая речка и мокрый мост через нее.
А между умытой дождем землей и веселым солнышком выгнулась семицветная красавица — Рай-дуга, упавшая одним концом на черное мягкое поле, а другим — на дальние замосковные луга. Было тихо, безветренно. Нежились под солнцем и листья, и травы, и цветы — белые, синие, красные. И лишь кричали птицы да жужжали шмели.
А впереди — саженях в десяти, опираясь на бердыши, стояли угрюмые, бородатые стрельцы. А обочъ их, затаившие дыхание ребятишки да бабы.
И все они — и стрельцы, и детишки, и женщины — смотрели на него Костю. Смотрели со страхом и жалостью. «Вот он, конец», — подумал Костя и почувствовал, как кто-то, коснувшись плеча, чуть толкнул его вперед, и он, не чуя земли, как во сне пошел вперед.
Его поставили на колени и положили голову на загодя приготовленный чурбан. Черный, прокопченный мужик в кожаном фартуке надел на шею Косте железный ошейник и ловко заклепал, стараясь не причинять боли. Затем мужик привязал к кольцу две веревки, а ещё две — к рукам — привязали стрельцы. Четверо конных взялись за концы веревок и неспешно двинулись к городу.
Вокруг плотным широким кольцом шла стража — с заряженными мушкетами, с вынутыми из ножен саблями. Впереди на белом коне ехал бирюч и кричал:
— Смотрите, православные! Вот изменщик царю-батюшке! Вот лиходей и предатель нашего любезного отечества! Вот поганый богоотступник, сделавшийся язычником! Вот мерзкий и злой еретик!
Поначалу подьячий оборачивался к Косте и, изобразив на лице сугубую злость, тыкал в него пальцем. И голос у него был звонкий, пронзительный. Потом вертеться в седле подьячему надоело и кричать, он стал тише и только когда стали приближаться к Кремлю, снова закрутился и завопил по-прежнему. Костя шел, опустив голову, искоса поглядывая на избы, на людей, что теснились вдоль пути, по которому его вели. Почти на всех лицах видел Костя любопытство и страх и лишь на немногих — злую и жестокую радость. Несколько раз пытались прорваться к нему пьяные и юродивые, но стрельцы, сплотившись, не пропускали их к узнику. Однажды оглянувшись, Костя увидел невеликую толпу любопытных, шедших за ним следом.
У ворот Кремля стрельцы отогнали любопытных и, враз посуровев, быстро погнали Костю к черной избе, что стояла притулившись к стене. «Пыточная» враз узнал Костя свое новое пристанище, и, сжав зубы, шагнул через порог.
* * *
Он не помнил, сколько раз приносили и уносили его из пыточной избы. Потерял счет ударами ожогам. Только вздрагивал, когда тянули жилы и раскаленными щипцами рвали тело. Когда сознание покидало его, палачи, бросив Костю на рогожу, выволакивали бесчувственное тело за дверь и тащили в подвал Чудова монастыря, стоявшего в двадцати саженях от пыточной.
В келье — не то во сне, не то наяву — приходили к нему ангелоподобные седобородые старцы в черных схимах с белыми нашитыми поверху крестами и черепами. Тихо касались изъязвленного тела, умасливали раны, вправляли суставы. Молились неслышно, а когда Костя приходил в себя, удалялись из кельи, чтоб не мешать короткому сну несчастного.
А однажды пришел к нему старец, при появлении которого все иные стали безгласны. Древний схимник, взяв Костю за руку и глядя прямо в глаза ему подслеповатыми, слезящимися, выцветшими от старости очами, прошептал с трепетом и благолепием:
— Вразумись, сыне. Спасение твое грядет к тебе. Жалует к тебе святой отец, игумен сей святой обители.
Схимник, склонившись в земном поклоне, отошел в сторону и рядом с Костей оказался ещё один старец. Глаза у него были умные и на самом их дне увидел Костя печаль и безмерную усталость.
Коротко помолившись, игумен положил руку на голову Кости и стал спрашивать кротко и ласково о том же самом, о чем выспрашивали его дьяки и подьячие на пытке.
Палачам и подьячим Костя ничего не говорил, лишь ругался самыми черными словами, какие только знал, плевался, пока была слюна, и кричал до изнеможения. И ни слез, ни мольб о пощаде, ни обещаний рассказать что-либо не видели и не слышали палачи и судьи, сколь ни бились над ним, истерзанным. А здесь Костя вдруг заплакал. И уткнувшись в пахнущую ладаном и сухими травами руку игумена, стал, захлебываясь слезами, бормотать что-то невнятное.
Старец недвижно сидел и молча гладил Костю по голове, слушая все, что говорил узник, с великим вниманием. И если бы Костя мог поглядеть на все это со стороны, то увидел бы, что пастырь духовный более всего похож на рыбака, поймавшего на уду большую осторожную, долго не дававшуюся рыбину, и очень боявшегося, как бы рыбина не сорвалась.
Но постепенно старец стал понимать, что Костя бормочет нечто, из чего извлечь какую-нибудь пользу едва ли будет можно. Говорил Костя только о себе, а о супостате Тимошке лишь повторял бессчетно: «И был он мне великий друг и сберегатель. И был он не скудный человек, и было ему, что давать…»
* * *
Соломонида ушла из Вологды в Москву, как только узнала, что Тимоша и Костя бежали неведомо куда. Она помогала молодой невестке — ни вдове, ни мужней жене — управлялась по дому, работала на огороде, ходила за коровой, присматривала за внучатами.
Она не видела, как вели по Москве Костю Конюхова, но, услышав об этом, долго плакала и молила Богородицу уберечь и его, и сына Тимошу от великих напастей.
Об эту пору случился в Москве владыка Варлаам, и Соломонида пошла к нему — просить заступы за Костю.
Владыка сильно постарел. Прежними оставались лишь глаза — суровые, ясные.
— Чего хочешь, Соломонида? — спросил Варлаам.
— Хочу Костю Конюхова видеть, владыко, батюшке.
— О сыне, поди, хочешь его расспросить?
— О нем, владыко.
— Скажу кому надо, чтоб пустили тебя к нему, — ответил Варлаам, вздохнув, и встав на колени перед образом Пречистой, стал класть земные поклоны и шептать что-то.
Встала на колени и Соломонида.
— Пречистая матерь, — шептала она, — не дай сгинуть моему сыночку. Помоги ему, сохрани Тимошеньку.
И, шепча, плакала беззвучно.
Владыка обещание сдержал: Соломониду пустили в Кремль, за стену Чудова монастыря.
Увидев Костю в тайной келье, Соломонида упала без чувств.
Старец, что привел её к вору Костке, брызгал в лицо Соломониде водой и растерянно ахая, бормотал нечто невнятное.
Очнувшись, Соломонида заплакала. Она рыдала безутешно и долго, целовала Косте вывернутые, бессильно опущенные руки, седую голову, исхудавшее лицо, глубоко задавшие исстрадавшиеся глаза.
Костя тихо рассказывал ей о Тимоше, глаза его были полны слез, голос прерывался и дрожал.
Уйдя из кельи, Соломонида не вернулась домой. Она побрела вниз к реке и долго-долго шла через посады и слободы, пока не вышла в поле и не увидела впереди белые резные башни Новодевичьего монастыря.
Мать игуменья терпеливо выслушала сбивчивый рассказ Соломониды о её горе.
— Велики грехи у сына твоего, сестра, — сказала игуменья. — Много молитв надо будет вознести господу, чтоб замолить малую толику содеянного им.
Так в Новодевичъем монастыре появилась старица, принявшая в монашестве имя Стефаниды.
* * *
Анкудинова схватили в Голштинии. Голштинский герцог Фридрих сам явился в тюрьму поглядеть на диковинного беглеца, чтобы решить, какую мзду следует запросить у русского царя за его бывшего подданного.
Тимоша был худ, оборван и грязен. Он знал, что государевы тайные люди идут за ним по следу и потому не назвал себя ни Анкудиновым, ни Шуйским. Он назвался Демьяном, не помнящим родства, бежавшим из Пскова от страха перед казнями князя Хованского.
Герцог пожевал бескровными губами, постоял, склонив голову к плечу, и ушел, не сказав ни слова.
Однако он понял, что русский, столь хорошо говорящий по-немецки, и даже вставивший в разговор латинское изречение, конечно же, не тот, за кого себя выдает.
Фридрих приказал строго стеречь узника и отправил во Псков гонца, чтобы известить воеводу о попавшем в его руки пленнике. Однако ещё по дороге гонец узнал, что в Кенигсберге какие-то люди раздавали листы и много раз кричали на рынке и у ратуши о некоем русском человеке, бежавшем из Москвы с государевой казной и побившем многих честных людей.
Приехав в Кенигсберг, гонец пошел к ратуше и на дверях её увидел лист, в коем извещалось, что тот беглец «волосом чернорус, глаза разноцветные и нижняя туба поотвисла немного».
В листе у гонца описание было точно таким же. Повернув коня, он помчался обратно, расспрашивая по дороге, куда проехали шестеро русских.
Нашел он их довольно быстро, потому что в каждой деревне и в каждом городе, и в корчмах, и на постоялых дворах рассказывали те люди всем, кто им попадал на пути, об одном и том же: о беглом русском разбойнике, и о наградах, которые ждут любого за его поимку. В польском городе Гданьске гонец настиг русских.
Их начальник — Петер Микляев — сносно говорил по-немецки и гонец легко объяснил, какая забота привела его к нему.
Толстый, широкоплечий Микляев, вначале важно взиравший на гонца, аж подпрыгнул от радости и закричал неожиданно высоким бабьим голосом нечто непонятное, заставившее гонца подумать, что, наверное, именно так кричат татары, когда к ним на аркан попадает хорошая добыча — будь то добрых кровей конь или богатый пленник.
Через десять дней Микляеву показали пленника.
Оскалив зубы и вытолкнув из бочкообразной груди воздух, Микляев произнес только одно слово:
— Он.
* * *
Тем же крестным путем, каким недавно прошел Костя, надлежало пройти и Тимоше.
Везли его в открытых санях, еле одетого, и Микляев выходил к нему из крытого теплого возка, чтобы покуражиться над арестантом — и в который уж раз! — подробно рассказать, как пытали Костю и как будут пытать его самого.
Перед самой Москвой Тимоша выполз из-под веревок, которыми привязали его к саням, и бросился на дорогу — под копыта скачущей следом тройки. Однако и тут ему не повезло. Возница ловко свернул в сторону и его лишь задело одним полозам, порвав зипун и переехав ногу.
— Легкой смерти ищешь, вор! — неистовствовал Микдяев, по-волчьи скаля зубы и пиная ногой скрючившееся на дороге тело.
— Вяжи его, ребята, как мамка пеленала! — визжал Микляев.
Тимоше не пожалели пинков, зуботычин и веревок, и, накрепко привязав к саням, повезли дальше.
Никто не встречал его у стен Москвы. Накинув на Тимошу рогожи и заткнув в рот кляп, чтоб не кричал, — ранним утром 28 декабря 1653 года его ввезли в Москву.
Он лежал ничком, на животе — так измыслил Микляев — и подбородком отсчитывал все рытвины и ухабы московских улиц.
Первое, что он увидел, когда сдернули с него рогожи, — черный дверной проем и в нем известного всей Москве безносого палача Федьку по прозвищу Гнида.
Палач что-то сказал ему, но Тимоша не расслышал, и Федька, ярясь, хватил его кулаком по липу. Тимоша упал, но его тут же подняли и, схватив под руки, поволокли в застенок.
* * *
Государь призвал Петра Микляева. К себе, в жилую палату, и ласково глядя, слушал бахвалистые петькины речи. И хоть привирал Микляев без меры, государь его не перебивал и внимал его рассказу с удовольствием.
Хлопнув в ладоши, призвал из соседней горницы бывшего при нем стольника и сказал распевно, ласково:
— Вели всем боярам тотчас же идти к пытке. А сему молодцу вели дать тридцать рублей и, поглядев на стоящего столбом Микляева, — добавил:
— И сапоги сафьянные по ноге.
Микляев бухнулся в ноги и проговорил страстно:
— Дозволь, батюшко-царь, и мне, худородному, при пытке быти.
И так как царь молчал, ноюще прибавил:
— Я, государь, писать горазд. Все воровские скаски напишу, и вора во лже уличить помогу.
Государь поскучнел очами и, махнув рукою, промолвил:
— Иди, Микляев, иди — усладись.
* * *
Вор Тимошка висел на дыбе, над костром, почти бездыханным, но говорил мало.
Тогда привели второго вора — Костку — и подняли на дыбу, насупротив.
Оба супостата, взглянув друг на друга, заплакали.
Петр Микляев, глядя на все это, отложил перо в сторону и, повернувшись к скамьям, на коих сидела добрая дюжина бояр, произнес насмешливо:
— Хотят воры костер слезами залить. Да много слез будет надо, чтоб то свершить.
Безносый палач Федька Гнида зыркнул на Микляева пустыми страшными глазами, прошипел змеем:
— Пиши, паскуда, скаски, а зубы не скаль.
Микляев замолк, скрипя пером. Вскоре писать ему стало скучно. Воры тяжко дышали, скрипели зубами, глухо стонали.
Дьяки, вершившие допрос, хорошо понимали, что ничего важного у воров узнать не удастся. Сколько лет прошло, как бегали супостаты, скитаясь? Дела украинские — благодарение господу — успешно завершались: нынешней, осенью Земский Собор принял Малороссию под высокую руку пресветлого государя Алексея Михайловича. Ныне у Хмельницкого сидел великий государев посол боярин Бутурлин, склоняя казаков подтвердить соборное решение согласием Рады. Что могли сказать о делах малороссийских Тимошка да Костка, когда они от гетмана ушли, почитай, три года назад?
И от семиградского князя ушли воры тому более двух годов. А что до свейской королевы, то о её делах откуда ворам было знать доподлинно?
И потому спрашивали государевы дьяки, чтобы видимость соблюсти: пытаем-де ради неких тайных дал.
А дел-то никаких и не было.
И не пытали их — мучили. И потому Микляев почти ничего не писал, а в конце мучения, откинув в сторону перо, сказал виновато, повернувшись к ближнему от него дьяку:
— Всего записать не успел, пусть вор сам все напишет.
Федька Гнида спустил Тимощу на засыпанный опилками пол — в них лучше останавливались и кровь, и все прочее.
Однако же Тимоша не устоял на припеченных огнем ногах и, еле пошевелив головой, сказал:
— Не могу.
Микляев, взяв перо, написал: «А с пытки говорил, чтоб ему дали чернила да бумагу и он все подробно напишет своею рукою, и чернила и бумага ему даваны, и он, вор, отговаривался, что после пытки писать не сможет, и ничево не писал».
* * *
Последние двое суток Тимоша и Костя провели в одной келье. Они не сказали друг другу ни слова упрека, и только ободряли один другого перед страшной ожидавшей их кончиной.
— Ах, Костя, — говорил Тимоша, — кабы ещё раз на свет родиться, все с самого начала не так бы делать начал, и не к току бы концу пришел.
— А как бы, Тимоша? — спрашивал Костя, и в глазах друга Анжудинов видел все ещё живой интерес, будто не плаха их ждала — воля.
— Поднял бы я холопов и всех гонимых и мучимых, а не бегал бы от короля к султану и от гетмана к королеве. Не той дорогой шел я, Костя. И не по той дороге тебя за собою вел.
— Знать бы! — вздохнув, отвечал Костя, и Тимоша слышал в словах его не укор — сожаление.
— Не пропало бы только все, что выстрадано нами, — говорил Тимоша. Кто-то другой, что все равно придет за нами, пусть идет иной дорогой. Пусть беды наши и горе, и казни будут ему уроком.
И Костя говорил:
— А как же не придет? Непременно придет. Ведь только нас не станет, а все иное останется. Останутся и бедные, и сирые, и голодные, и обиженные. И стало быть, найдутся всем им защитники.
Ненадолго забывались они в тяжком сне, а просыпаясь, вспоминали все, что было с ними, и даже улыбались порой, хоть и нестерпима была боль во всем теле — от обожженных огнем подошв до вывернутых в плечах суставов.
А потом пришел к ним поп для предсмертного покаяния и причастия.
Костя заплакал и, не глядя на Тимошу, стал каяться и просить духовного отца молиться за него, грешного. А Тимоша, сузив джаза, сказал тихо:
— После того, что видел я, и что сделали со мной братья твои во Христе, чем можешь напугать меня?
— Вечными муками, — сказал поп.
— Вечные муки устроили вы на земле, — сказал Тимоша, — смерть — хоть и лютая — избавление от них.
— Еретик! — воскликнул поп. Воистину говорю: будет тебе анафема!
— Тимоша! — крикнул Костя, покайся, спаси душу! Молю тебя!
Тимоша отполз в угол и застыл немо.
Поп ждал. Тихо подошел он к искалеченному узнику.
— Уйди, сволочь! — крикнул Тимоша, и плюнул кровавой слюной в бороду утешителю.
* * *
И наступила их последняя ночь.
В подвале было темно и холодно, как в вырубленной во льду могиле. Чтобы стало хоть немного теплее, Тимоша и Костя прижались друг к другу и дыханием своим пытались согреть один другого.
Потом Тимоша вдруг прошептал:
— Много книг прочитал я, Костя. А запомнил немногое. Но что запомнил, то как гвозди в памяти моей. И более всего — с детства, от отца Вараввы, когда бегали мы с тобой на кладбище, в часовенку.
И оба враз вспомнили одно и то же: Вологду, мост через речку, косые кресты на расплывшихся бугорках могил, старого дьячка, что выучил их письму и чтению, и несмотря на то, что сам был не больно грамотен, не уставал повторять им притчи о пользе мудрости и учения.
И Костя, вспомнив Варавву, произнес тихо и назидательно, подражая и манере, и голосу их первого учителя:
— А еще, чада, сказано царем Соломоном: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что это лучше приобретения серебра, и прибыли от мудрости больше, чем от золота».
И им же сказано: «У меня, сиречь у премудрости, — совет и правда. Я разум, и у меня — сила. Любящих меня я люблю, и ищущие меня — найдут меня».
Но Тимофей не поддержал робкой попытки друга отвлечь их обоих от невеселых мыслей и проговорил печально:
— Ищущие уже нашли нас, и никакая премудрость уже не поможет нам, Костя.
— Ладно, Тимоша. Чему быть — того не миновать. Попробуем уснуть нелегкий день ожидает нас. Последний путь надобно пройти твердо.
И лежа в темноте, вспоминал Тимоша, как началось все это, и как шло, и как, идя за светом, пришел он к конечному своему рубежу и последнему пристанищу.
Невелик был возраст его, но много пережил он, много перевидал и много передумал.
И когда перед взором его вставала прошедшая жизнь, он перетряхивал её, как трясут бабы муку в решете, просеивая чистую и выбрасывая сор и полову.
«С чего началось все это? — думал Тимоша, мучительно напрягая ум и память. — С чего?» И вспомнил: конюшня во владычном дворе, посапывающий Игрунок, и печальный пастырь Варлаам, спрашивающий «Нетто есть где такая страна — Офир?» А вслед затем всплыл в его памяти Леонтий Плещеев. Трясущимися руками устанавливал он на окне зрительную трубу и шептал громко, страстно: «Острологикус — вот истинное учение, вот — истина!» Но, перебивая его, кричали Тимоше хором веселые гулевые люди:
«В вине и радостях жизни — истина!» А рядом плыл перед глазами скорбный лик друга и сберегателя дьяка Ивана, и бескровные губы его шептали: «В латинских странах, у кальвинистов и люторей — истина». Но безмолвно споря с ним, глядел на Тимощу безумными очами Феодосии и не шептал — кричал: «У социниян — истина! У социниян!»
И выступали из тьмы один за другим гетман Хмельницкий и бравые казацкие есаулы, и хитро щуря глаза, покручивая усы, многозначительно похлопывали по серебряным и золотым рукоятям сабель — вот-де, она, истина.
И безмолвною толпой стояли позади них казаки и мужики с рогатинами и пиками — всевеликое бунташное малороссийское войско, и вместе с ними псковичи, призывавшие Тимошу в свой город, и белозубый кареглазый Иван Вергунёнок, и болезненный, маленький Александр Костка — и у каждого из них была своя правда, которую каждый из них почитал истиной.
«Всю мою жизнь, — подумал Тимоша, — я шел за истиной, а она сколько раз показывалась мне, столько же раз и пропадала. И снова показывалась и снова исчезала, как оборотень. И, наверное, нет её — истины, а нужно всю жизнь искать её и гнаться за ней, а она всегда будет где-то впереди, манить тебя и звать и уходить все дальше и дальше, а погоня за нею и есть истина».
Близко перед рассветом отворилась дверь и в темницу вошел маленький, почти бесплотный старик в рясе до пят, с бородой до пояса, в камилавке, надвинутой на брови.
«Варавва!» — узнал Тимоша. Он хотел сесть, но старик положил на плечо ему сухую, легкую руку.
— Лежи, чадо мое возлюбленное, — тихо проговорил Варавва. — Собирай остатнюю силу, дюже сгодится она тебе вскоре. И второю рукой нежно провел по волосам Тимоши.
— Совсем седым стал ты, чадо, — произнес Варавва, — и Тимоша услышал в голосе у него слезы.
И Тимоше пришли на память стихи песнопевца Давида, и он, слабо улыбнувшись, сказал:
— Не чаял я, отче, увидеть тебя здесь перед погибелью моей. Помнишь, отче, читал ты мне, или не ты это читал? Да, впрочем, нет в том никакой разницы. «Исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава… Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами… Душа моя насытилась бедствиями и жизнь приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, брошенный между мертвыми».
— Милый сердцу моему, — ответил Варавва, — разве только это говорил царь Давид? Сказано же в псаломе восьмом: «Что естьчеловек? Немного ты, господи, умалил его перед ангелами — славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И разве не таким человеком был ты, Тимоша?
— Если это так, отче, почему я здесь, а недруги мои на воле, в пирах и неге?
— Сказано: «Через меру трудного для себя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай».
— И это все, отче?
— Нет, чадо мое, не все. Сказано также в книге Екклесиаста; «И обратился я и видел под солнцем, что не проворные побеждают в беге, не храбрым достается победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в сидках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».
— Значит, время наше такое, отче?
Варавва опустил глаза.
— «Повсюду ходят нечестивые, ибо ничтожные из сынов человеческих возвысились. И эти ничтожные не знают и не разумеют, и ходят во тьме. И проповедуют то, во что уже давно не верят. И нет никого, кто бы бедного заступил. И нет никого, кто бы согрел сироту и помог вдове, и восстал ради страдания бедных и воздыхания нищих, ибо богатые и нечестивые отобрали у бедных и праведных и надежду, и силу, а хуже всего — разобщили их и душат поодиночке, натравляя на них безумных и простодушных».
Варавва умолк и неспешно пошел к двери.
Тимоша проводил его глазами, но не заметил, как старец переступил порог и не слышал, как растворилась и затворилась дверь.
Он не то спал, не то бодрствовал, когда во мрак и смертный холод подвала вошли люди с оружием и фонарями.
— А ну, вставайте! — крикнул начальный из них громко и грубо, и Тимоша с Костей, поддерживая друг друга, поднялись и шатаясь побрели в серый просвет двери.
…Было раннее утро 31 декабря 1653 года. В зыбких и холодных предрассветных сумерках чернели сани с установленной в конце перекладиной. На Тимошу и Костю надели сотканные из черного рядна балахоны. Тимошу взвели на сани. Чтоб не упал — руки привязали к перекладине. Косте накинули на шею веревку и босого погнали по снегу вслед за санями. Рядом с Тимошвй, с двух сторон встали палачи. На красные их рубахи были накинуты легкие кожушки.
Кони дернули, сани покатились.
Тимоша вдохнул грудью свежий холодный воздух. По Москве начинали перекликаться охрипшие на холоду петухи. Тимоша вскинул голову. С края на край неба тянулась широкая звездная полоса — Млечного пути. Чуть розовел край неба и в глубокой темной синеве начинал тонуть золотой месяц. Тимоша вспомнил: небо и звезды, и месяц, и радостный петушиный крик. И вспомнил себя — маленького — счастливого — бегущего от сарая к дому. И перед глазами его встали попавшие ему навстречу муравьи — два красных и один черный. И живой явью увидел он себя — сильного и справедливого, не давшего двум красным одолеть одного — черного.
И вспомнив, повел глазами.
Палачи, сбросив кожушки, стояли возле него в красных рубахах. А он в черном рядне, распятый, стоял меж ними, и не было никого, кто мог бы помочь ему.
Ранние белые дымы тянулись в небо. Редкие прохожие, увидев страшные сани, срывали с голов драные шапки и треухи, испуганно тараща глаза и мелко, быстро крестясь. Лица у всех были невеселые, и в памяти у Тимоши всплыло: «И помрачатся смотрящие в окно». «Откуда это? В какое окно?» подумал он, удивляясь и понимая, что совсем не ко времени все это. Но память, независимо ни от чего, вдруг стала нанизывать одну на другую строки из книги древнего мудреца Екклесиаста.
И Тимоша, закрыв глаза, беззвучно, одними губами стад шептать: «И помрачатся смотрящие в окно, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы — доколе не порвалась серебряная цепочка и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем…»
Сани остановились. И Тимоша открыл глаза и, поглядев вперед, увидел высокий деревянный помост. Но прежде чем сойти с саней и подняться по ступеням, сухими и ласковыми, и испрашивающими прощения глазами взглянул на друга своего Костю и, не чувствуя боли, пошел обожженными ступнями наверх, к черной плахе с воткнутым в неё топором.
Эпилог Зимой 1661 года в Кремле, в толпе, стоявшей у патриаршего собора, появился статный мужик с курчавящейся бородкой. Из открытых дверей доносилось благолепное, ангелоподобное пение и грозный левиафанов рык протодиакона: «Подьячему Новой Четверти — Тимошке Анкудинову — анафема!» Наклонившись к седовласому, ясоглазому — по всему видать книжному человеку — спросил мужик тихо:
— Кто таков — Анкудинов?
— Великий еретик!
А мужик спросил снова:
— И все же, за что его так-то — анафеме?
Старец удивился:
— Нешто не знаешь, сколь уже лет анафемствуют Тимошку — злого еретика, продавшего и церковь, и государя, и именовавшего себя — облыжно князем Шуйским.
Мужик, тряхнув кудрями, спросил снова:
— Ты, дедушко, не гневись — издалека я, с Соловков иду, а сам — с Дону, и всего того, о чем ты баишь — не ведаю.
— А пошто это тебе, парень?
Мужик весело блеснул ровными, крепкими зубами.
— Любопытен я, дедушко, до всего, что вижу.
— А как звать-то тебя, любопытный?
— Стенькой, — ответил мужик. — А по батьке — Разей.
— По-московски, значит, будет Разин, — сказал старик.
— По-московски — Степан Тимофеевич Разин, — согласно подтвердил парень.
* * *
И встал, отринутый богом и людьми, Тимофей Демьянов сын Анкудинов в ряд с ворами и ересиархами, от имен которых в смертном страхе обмирало не одно сердце, ибо перед ним поминали первого самозванца — Гришку Отрепьева, а сразу же за ним вероучителя раскола протопопа Аввакума.
А следом шли Стенька Разин и Ивашка Мазепа, и Емелька Пугачев — позор России и её бесмертная слава. А он, Тимофей Анкудинов, не стал славой России, но не стал и её позором. Он не был Разиным, но не был и Мазепой. Он шел за светом и хотел рукою коснуться истины. Он умер задолго до рассвета, не в сумерках даже — в глубокой тьме.
Он хотел познать истину, чтобы истина сделала его свободным, а он, принеся её людям, сделал бы свободными и их. И разве не был он горящей свечой на крестном пути рода человеческого к истине?
Примечания
1
Династия Романовых вела свое происхождение от Андрея Ивановича по прозвищу Кобыла и во втором колене — от его сына Федора Андреевича Кошки.
(обратно)2
Сипахи, хумбараджи и силяхтары всадники, артиллеристы и оруженосцы турецкой армии.
(обратно)3
Мазар — могила мусульманского святого, чаще всего в виде мавзолея или склепа.
(обратно)4
Таим — содержание.
(обратно)5
Черкасы — широко употреблявшееся в России название украинских казаков.
(обратно)6
Шабала, шебала — ветошь, лохмотья. Здесь — в значении дрянная голова.
(обратно)

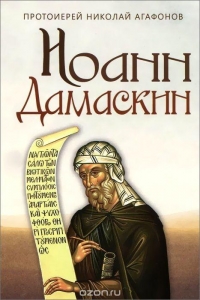



Комментарии к книге «Семнадцатый самозванец», Вольдемар Николаевич Балязин
Всего 0 комментариев