Крашевский Иосиф Игнатий Граф Брюль Интриги министров короля Августа II
ЧАСТЬ I
I
В один из прекрасных осенних вечеров при закате солнца последние рожки, созывающие охотников, раздались в лесу, состоящем из ели и старых буков. По широкому тракту, прорезывающему эти дебри, тянулись охотничьи отряды двора; по бокам люди с рогатинами и сетями верхом, в зеленых казакинах, обшитых золотым галуном и в шляпах с черными перьями; в середине изящное общество и возы с дичью, украшенной зелеными ветвями. Охота, по-видимому, была очень удачна, так как все охотники находились в веселом расположении духа, а из возов торчали оленьи рога и свешивались головы кабанов с окровавленными клыками. Впереди отряда виднелась королевская свита, великолепные наряды, прекрасные лошади и несколько амазонок с румяными личиками. Все это было одето как бы для большого торжества, так как охота оставляла тогда любимую забаву царствующего довольно счастливо над Саксонией и Польшей Августа II.
Руководил охотой сам король, а рядом с ним ехал возлюбленный первородный сын его, который должен был наследовать после отца Саксонскую корону и который составлял надежду народа… Король, несмотря на свои пожилые лета, глядел еще величественно и бодро и на лошади сидел как настоящий рыцарь; сына же его не менее красивого, но с более кротким лицом, можно было принять за младшего брата короля… Многочисленная и пышная свита окружала государя. Вся эта кавалькада спешила на ночь в недалеко отстоящий Губертсбург, где сын должен был угощать отца, так как охотничий замок составлял его собственность. В Губертсбурге ожидала их королева Жозефина, дочь императорского дома Габсбургов, недавно отданная в супружество молодому Фридриху. Общество было так многочисленно, что ему трудно было разместиться в большом замке, вследствие чего, недалеко, в молодом лесу, заранее были разбиты шатры, в которых и должна была ночевать большая часть свиты его величества.
Столы к ужину были уже сервированы и в то время как король въезжал во двор замка, охотники стали отыскивать и занимать назначенные им места. Начало смеркаться. В шатрах было уже шумно и весело; чистый и звонкий молодой смех, стесняемый прежде присутствием короля и старших, теперь раздавался гораздо свободнее. После утомительно проведенного дня все хватались за расставленные бутылки, хотя распорядитель не дал еще сигнала, призывающего к столу. Шатры для свиты, осененные деревьями, стали освещаться фонарями. Тут же рядом в импровизированных стойлах были поставлены ржащие лошади, голоса которых время от времени вызывали угрожающие проклятия конюхов.
Незнакомые между собой лошади начинали знакомство кусаньем между собою и фырканьем, но звук бича восстанавливал спокойствие. Еще далее псарня короля напоминала о себе лаем и визгом. И здесь сторожа имели не мало хлопот, чтобы подавить эту суматоху. Но в шатрах не было никого, кто бы осмелился своим авторитетом удержать песни и ссоры молодежи. Спорили еще из-за самого красивого личика, из-за самого меткого выстрела, из-за наиболее милостивого слова его королевского величества. Сын короля был героем дня; он убил наповал, попав прямо в лоб, огромного кабана, который устремился на него. Все восхищались присутствием духа, удивительным хладнокровием, с каким он долго метил и выстрелил. Когда охотники быстро прибежали на выстрел, чтобы доконать ножами разъяренного зверя, последний уже плавал в крови. Король Август поцеловал сына, который с почтением прикоснулся губами к руке царственного отца и после своего подвига остался столь же покойным и холодным, как и прежде.
Единственным признаком хорошего расположения духа было то, что отойдя немного в сторону, он велел подать себе трубку и стал затягиваться сильнее и чаще обыкновенного.
В то время уже стало распространяться курение табака, которым не брезгал и Станислав Лещинский. Август Сильный курил его с удовольствием, а сын его Фридрих со страстью. Особенно во время холостых пирушек и при пиве не обходилось без трубок. Подавали их при дворе прусского короля всякому, не спрашивая, хочет ли он курить или нет, а над тем, у кого дым производил тошноту, смеялись от души.
Одним из условий хорошего тона и молодечества считалось сосание трубки с утра до вечера. Дамы ее терпеть не могли, но отвращение их не удерживало вельмож того времени от приятного и сладостного опьянения, которым сопровождалось курение. Только очень молодым запрещено было привыкать слишком рано к этому зелью, которое наравне с картами и вином считалось самым опасным искусителем.
В шатрах трубок тоже не было. Усталые всадники, соскочив с коней, кто где мог, попадали на землю, на ковры, на бревна и на скамейки. Можно было видеть, как в замке зажигались огни, а звуки музыки проникали в лес, где расположились двор и служба. На другой день предполагалось вести охоту в других лесах и заранее было приказано, чтобы все были готовы. Немного в стороне от собравшихся в кучки старших придворных, по дороге, ведущей в замок, как бы желая проникнуть в него, расхаживал двадцатилетний юноша.
Взглянув на его платье, легко было догадаться, что это был паж его величества.
Эта личность не могла не обратить на себя внимания даже самого равнодушного человека. Он был в высшей степени изящен, прекрасно сложен и имел в себе несколько привлекательную женственность. Платье сидело на нем так, как будто он в нем родился; парик — как будто он пришел на свет уже завитым, он не растрепался даже во время охоты, а из-под него выглядывало личико, как бы сделанное из мейзенского фарфора, белое, румяное, почти детское и девственной красоты, с улыбкой наготове, с глазами быстрыми, но выжидающими приказания господина. Во всякое время они могли погаснуть и замолчать или же загореться и высказать даже то, чего может быть в душе не было.
Этот прекрасный юноша привлекал всех, словно загадка. Любили его все, не исключая короля, и несмотря на это, не было при дворе существа, более вежливого, более услужливого и смиренного. Он никогда не старался выставить себя в хорошем свете, не старался казаться лучше и выше товарищей, а между тем, взявшись за какое-нибудь дело, исполнял его с удивительной ловкостью, легкостью, скоростью и расторопностью. Это был очень бедный дворянин родом из Тюрингии, последний и самый младший из четырех братьев Брюль фон-Ганглоффс-Земмерн. Отец его был незначительным управителем при миниатюрном дворе в Вейссен-фельзе. Отдав за долги полученное от отца имение, он не знал, что сделать с этим сыном и пристроил его у вдовствующей княгини Елизаветы Фредерике, пребывавшей чаще всего в Лейпциге с тем, чтобы он выслуживался при дворе. На ярмарки того времени в город съезжались княжеские дворы; в особенности любил их Август Сильный и поговаривают, что во время одной из них, молодой паж обратил на себя его внимание, благодаря своему миленькому, улыбающемуся личику. Княгиня охотно согласилась, чтобы он был принят на службу у его величества.
Удивительнее всего то, что мальчик, который такого великолепного, полного этикета двора никогда не только наяву, а может быть и во сне не видал, с первого же дня, благодаря врожденному инстинкту, попал на настоящий путь и так понял свою службу, что далеко превзошел усердием и ловкостью старших и опытных пажей короля.
Король милостиво улыбался ему, так как его забавляла покорность мальчика, который смотрел ему в глаза и угадывал его мысли; он никогда не морщился и с благоговением преклонялся перед величием короля Геркулеса и Аполлона.
В начале ему завидовали сослуживцы, но скоро и их он обезоружил ласковостью, кротостью, скромностью и добрым сердцем. Никто не боялся, что это покорное существо могло высоко пойти, тем более, что он был очень беден, так как семья его хотя и была старого дворянского происхождения, но к тому времени до такой степени обеднела, что и родственники о ней позабыли. Таким образом, единственной его протекцией было миленькое, симпатичное, улыбающееся личико.
И, действительно, он был красив, как картинка… Женщины, в особенности старые, бросали на него очень милостивые взгляды, под которыми он в смущении опускал глаза. Никогда из уст его не вырывалось злое, насмешливое словцо; остроумие составляло характерную черту придворной молодежи того времени. Брюль выказывал восторг при встрече с властелином, с достоуважаемыми сановниками, дамами, с равными себе, со всей службой и камер-лакеями короля, которым оказывал особенное почтение, как будто тогда уже разгадав великую тайну, что с помощью самых ничтожных и ничего не значащих людей совершались часто величайшие дела, и что лакеи сваливали иногда с ног министров, министрам же трудно было свалить лакеев. Все это подсказывал ему инстинкт, которым богато одарила его щедрая для своих любимцев мать-природа.
И в эту минуту Генрих (так звали пажа) одиноко расхаживал по тропинке, ведущей от шатров к замку; можно было подумать, что он делал это для того, чтобы никому не мешать, но быть готовым каждому оказать услугу в случае необходимости.
Людям такого рода удивительно везет и в счастьи… Когда он так разгуливал без всякой цели, из замка выбежал молодой, также прекрасный мальчик, почти ровесник Брюля, но наружностью и платьем совершенно на него непохожий.
По всему видно было, что он был уверен в себе и доволен собой. Высокого роста, мужественный, с черными быстрыми глазами, с гордой осанкой, юноша быстро шел, заложив одну руку за обшлаг широкого, богато вышитого камзола, другую под полы охотничьего кафтана, обильно обшитого золотым галуном. Парик, который он имел во время охоты, заменял ему шляпу. Черты лица его сильно отличались от миленького личика Брюля, которое было как бы произведением итальянского художника XVII века. Брюль был создан придворным, этот же — воином.
По дороге все ему кланялись и радушно встречали, так как это был товарищ королевича в детских играх, любимый его наперсник, граф Александр Сулковский (тоже сын небогатого польского дворянина), который был взят когда-то ко двору Фридриха в качестве пажа, а теперь управлял домом и охотой. Уже одно это означало много, что королевич доверил ему то, что для него было дороже всего, так как охота составляла не забаву и его развлеченье, но серьезное занятие и самый важный труд.
Сулковского почитали и боялись в одно и то же время, потому что хотя Август II при своем здоровьи и силе выглядел бессмертным, но раньше или позже это божество должно было покориться участи простых смертных. А при новом восходящем солнце и эта звезда должна была заблистать на саксонском горизонте.
При виде приближающегося Сулковского скромный паж короля сошел с дороги, принял вид ягненка, немного согнулся, улыбнулся и выказал такую радость, как будто перед ним стояла прекраснейшая из богинь двора Августа. Сулковский принял эту улыбку и немое полное почтения приветствие с достоинством, но ласково. Издалека потряс он в воздухе рукой, вынутой из-за камзола и немного наклонил голову, убавил шагу, приблизился и обращаясь к Брюлю, весело сказал:
— Как поживаешь, Генрих! Что это ты здесь так одиноко мечтаешь? Счастливый, ты можешь себе отдыхать на славу, а я здесь за все отвечаю и не знаю сам с чего начать, чтобы ничего не забыть.
— Если б вам, граф, было угодно позволить мне помочь вам?
— А, нет, благодарю; нужно исполнять свои обязанности. Для такого гостя, как наш государь, всякий труд ничтожен и приятен.
Он слегка вздохнул.
— Чего ж еще? Охота удалась. Я, как тебе известно, сам не мог там быть, я выслал туда экипаж; ведь в замке столько было приготовлений.
— Да. Охота прошла великолепно. Его величество был в хорошем расположении духа.
Сулковский нагнулся к уху Брюля:
— Кто же теперь царствует у вас в королевской спальне? А?
— Право, не знаю: у нас, как кажется, теперь междуцарствие.
— Полно! Не может быть! — засмеялся Сулковский. — Кто же, Диескау, что ли?
— О, нет, об этом и говорить давным-давно перестали. Я не знаю кто.
— Как же это, ты, паж короля, и не знаешь? Брюль взглянул на него с улыбкой.
— Даже тогда, когда все знают, паж ничего знать не должен, ему следует быть подобно турецкому "немому", глухим и немым.
— А! Понимаю, — отвечал Сулковский. — Но, между нами… Брюль шепнул на ухо графу словцо крылатое, тихое как шум
листочка, падающего осенью с дерева.
— Кажется, что теперь после стольких драм, из которых каждая стоила нашему дорогому государю столько денег, хлопот и горя, мы удовольствуемся intermezzo.
— Intermezzo! — сказал Сулковский.
Сулковский, очевидно, перестал торопиться и к шатрам, куда прежде шел, и в замок. Взяв Брюля под руку, что доставило пажу большое удовольствие, задумчивый и серьезный, начал он с ним разгуливать по дороге.
— Я имею свободную минуту, — сказал он, — и мне приятно провести ее в вашем обществе, хотя мы оба до того устали, что может быть, и говорить то будем с трудом.
— О! Я нисколько, — возразил Брюль, — и верьте мне, граф, что для вас я готов ходить целую ночь и не почувствую усталости. С первой же минуты, когда имел счастье приблизиться к вам, я почувствовал в одно время глубочайшее уважение, и, если только позволительно мне сказать, самую искреннюю дружбу. Должен ли я признаться? Скажу вам, что я выбрал для прогулок эту тропинку, как бы предчувствуя, что издали увижу вас и приветствую, и вдруг такое счастье!
Сулковский взглянул на радостное сияющее лицо его и пожал протянутую руку.
— Верьте мне, — сказал он, — вы не найдете во мне неблагодарного; такая безынтересная дружба при дворе очень редка, и взявшись за руки вдвоем можно далеко пойти.
Глаза их встретились, Брюль наклонил голову.
— Вы при короле, и притом на хорошем счету.
— О, о, — отвечал Брюль, — не льщу себе…
— Уверяю вас. Я слыхал это из собственных уст его величества, он хвалил вашу услужливость и ум. Вы в милостях или, по крайней мере, на пути к ним… это от вас самих зависит.
Брюль очень скромно сложил руки.
— Не льщу себе…
— Я вам говорю, — повторил Сулковский. — Я пользуюсь любовью Фридриха, могу похвастаться тем, что он называет меня своим другом. Надеюсь, что ему трудно было бы обойтись без меня.
— Вы, это совсем другое дело, — живо прервал Брюль, — вы были столь счастливы, что с детских лет были товарищем королевича, у вас было достаточно времени расположить его к себе, и кто бы не привязался к вам, узнав вас поближе?.. Что же касается меня, то я здесь совсем чужой. Княгине я обязан тем, что нахожусь теперь при особе его величества. Я стараюсь выказать мою благодарность, но на скользком паркете двора удержаться очень трудно. Чем больше окажу я усердия господину, которого уважаю и люблю, тем более завидуют мне. Каждая улыбка господина моего куплена мной ценою не одного ядовитого взгляда. Тут человек мог бы быть счастливым, а я должен дрожать.
Сулковский рассеянно слушал.
— Да, это правда, — тихо произнес он, — но вы имеете многих за себя и бояться вам нечего. Я наблюдаю за вами, вы приняли удивительный метод: скромны и терпеливы. При дворе важнее всего устоять на месте, а тогда подвинешься, а кто слишком горячо бросается вперед, тот легче всего и падает.
— Я упиваюсь дорогими советами вашими! — воскликнул Брюль. — Какое счастье иметь такого руководителя!
Сулковский, казалось, взял за чистую монету это восклицание друга и с незаметной гордостью улыбнулся. Ему польстило признание того, в чем он был в душе убежден.
— Не бойся, Брюль, — прибавил он, — иди смело и рассчитывай на меня.
Слова эти, казалось, привели в величайший восторг молодого Генриха, он сложил руки как бы для молитвы, лицо его просияло от радости, он взглянул на Сулковского, и как будто бы колебался не броситься ли ему в ноги.
Великодушный граф с достоинством обнял его.
В эту минуту из замка раздались звуки труб: это был знак, понятный молодому фавориту, который рукой только показал товарищу, что должен торопиться и быстро пошел по направлению к замку.
Оставшись один, Брюль сначала сам не знал, что с собой сделать. Король освободил его от вечерних услуг и позволил ему употребить этот вечер на отдых; таким образом, он имел полную свободу. В шатрах приступали к ужину. Он хотел было идти туда и повеселиться вместе с другими, но посмотрев только издали в ту сторону, он свернул и задумчиво пошел по тропинке, ведущей в глубь леса. Быть может, он хотел собраться с мыслями, хотя лета его и личико не позволяли подозревать в нем глубоких размышлений. Скорее следовало подозревать у него какую-нибудь сердечную болезнь, при дворе столь полном разных любовных похождений и женских интриг. Но на спокойном лице нельзя было заметить сердечной тоски и забот, которые имеют свои характерные симптомы. Брюль не вздыхал, но взгляд его был холоден, брови были сморщены, губы сжаты; скорее он что-то рассчитывал и соображал, нежели боролся с чувством.
Так, глубоко задумавшись, он прошел мимо шатров, лошадей, псарен, мимо костров, разложенных людьми, согнанными для отыскания зверя, которые ели добытый из мешков черствый черный хлеб, тогда как для знати тут же рядом приготовляли жаркое из оленьего мяса. Эти двести человек Вендов беседовали тихо, на непонятном языке, не смея даже громко смеяться. Из лагерей доходили до них веселые возгласы и чем более там шумели, тем тише старались они сидеть.
Несколько охотников наблюдали за этой толпой, которая из дому должна была принести себе хлеб, так как только о ней одной не помнили в замке. Для собак варили в котле пищу, а о них никто не заботился. Скоро покончили они свой скудный ужин, состоявший из хлеба и воды. Большая часть легла под деревьями на траве, чтобы подкрепить себя сном. Брюль, едва взглянув на них, пошел далее.
Вечер был прекрасный, тихий, теплый, ясный, и если бы не падающие со старых буков желтые листья, он бы напоминал весну. В воздухе вместе с легким чуть заметным ветерком, который еле шевелил малыми ветками, расплывался здоровый запах лесов и увядшей зелени, перемешиваясь с пьяняющим запахом ели и сосны. За лесом, в котором ночевала свита, была тишина, спокойствие и пустыня. Шум из леса чуть слышен и то временами только долетал сюда, и деревья закрывали замок, так что можно было считать себя одиноким, можно было предположить, что нет поблизости людей.
Брюль поднял голову и вздохнул свободнее, лицо которого теперь никто не мог видеть, оно получило совершенно другое, новое выражение, легкая саркастическая улыбка пробежала по губам, и исчезла детская добродушная и кроткая прелесть личика. Одной рукой он уперся в бок, другую приложил к губам и задумался.
Он считал здесь себя совершенно одиноким, и потому каково было его изумление, почти испуг, когда он увидал под огромным старым буком две какие-то личности, неизвестные, странные, подозрительные. Невольно он отступил назад и стал пристально всматриваться. Действительно, в нескольких только десятках шагов от королевского лагеря даже эта пара людей, сидящих под деревом, могла показаться подозрительной. Около них лежали посохи и два мешка, только что снятые с плеч. Сумерки не позволяли хорошо рассмотреть их лица и платье; но Брюль догадался скорее, чем увидел, двоих, подобных себе, молодых людей, одетых в скромное дорожное платье.
Присмотревшись внимательнее, он отчасти уловил их черты лица, которые показались ему более благородными, чем у странствующих ремесленников, за которых он было их принял. Они говорили тихо, и он не мог уловить ни слова.
Но что могли делать эти путешественники здесь в нескольких шагах от короля? Любопытство, беспокойство и недоверие приковали его внимание. Ему пришла мысль, что может быть следует дать знать в шатры; но затем, ведомый скорее инстинктом, чем расчетом, он прибавил шагу и остановился перед сидящими на земле. Появление его должно было немного удивить отдыхающих, так как один из них поспешно встал и, всматриваясь в новоприбывшего, хотел как бы спросить, что он здесь делает и чего от них хочет.
Брюль не стал ждать, пока его спросят, подошел еще ближе и довольно суровым голосом сказал:
— Что вы здесь делаете?
— Отдыхаем, — отвечал сидящий на земле. — Разве здесь запрещено отдыхать путешественникам?
Голос был кроткий, а манера разговора указывала на человека образованного.
— В нескольких десятков шагов отсюда двор его величества и сам король.
— Разве мы можем ему помешать? — проговорил опять сидящий на земле, на которого это известие не произвело никакого впечатления.
— Но ведь вы сами себе можете повредить, — живо сказал Брюль. — Какой-нибудь ловчий может вас здесь накрыть и предположить какой-нибудь злой умысел с вашей стороны.
Ответом на эти слова был кроткий смех сидящего на земле, который затем встал и вышел из густой тени, бросаемой листвой деревьев. Это был юноша с прекрасной и благородной осанкой, с длинными волосами, падающими в кудрях на плечи. По платью легко было догадаться, что это студент одного из немецких университетов. Он не имел на себе никаких отличительных знаков, но простое платье, длинные сапоги, выглядывающая из кармана книжка и шапочка, какую обыкновенно носили студенты, отлично указывала на его звание.
— Что вы здесь делаете? — повторил Брюль.
— Мы отправились путешествовать, чтобы почтить Бога в природе, чтобы подышать воздухом лесов и тишиной их, сделать душу более способной молиться, — тихо начал говорить юноша. — Ночь нас здесь застала: о короле же и о его дворе мы ничего не знали, если бы не долетал сюда временами шум пирующих охотников.
Как сами слова, так и тон голоса стоящего перед ним поразил Брюля. Этот человек принадлежал другому какому-то слою общества; но во всяком случае не тому, к которому его можно было причислить по первому взгляду.
— Вы позволите, — спокойно прибавил студент, — чтобы вам, как имеющему здесь какую-то власть, я отрекомендовал себя. Я Николай Людовик, граф и владелец Цинцендорфа и Поттендорфа, а в данную минуту ищущий источник мудрости и света, путешественник, заблудившийся на бездорожье света.
Он поклонился.
Услыхав эту фамилию, Брюль взглянул на студента внимательнее. Вечерний свет и легкий блеск восходящей луны осветили красивое лицо говорящего.
С минуту оба стояли молча, как бы не зная, каким языком им говорить
— Я — Генрих Брюль, паж его величества. И он чуть заметно поклонился Цинцендорф смерил его глазами.
— А!.. Мне вас очень жалко, — вздохнул он.
— Как жалко, почему? — спросил изумленный паж.
— Потому, что быть придворным — это быть невольником, быть пажом — это быть слугой и хотя я уважаю нашего государя, но предпочитаю посвятить свою жизнь Господу на небесах, царю всех царей и жить любовью Иисуса Христа Спасителя. Именно вы нашли нас, тихо молящимися, так как мы старались соединиться с Господом, который пролил за нас свою кровь.
Брюль так был изумлен, что сделал шаг назад, как будто принял юношу за сумасшедшего, так как он произнес эти слова хотя и кротким голосом, но уже слишком патетически.
— Знаю я, — прибавил Цинцендорф, — что вам, у которого звучат в ушах смех и веселые слова придворных, должно это показаться странным, может быть даже неприличным; но когда появляется возможность разбудить набожною мыслью усыпленное сердце христианина, почему ей не воспользоваться.
Брюль стоял пораженный. Цинцендорф приблизился к нему.
— Это час молитвы… Слушайте, как лес шумит… Это он поет вечерний гимн: "Слава отцу на небесех!" Ручей тоже журчит молитву, месяц взошел, чтобы светить молящейся природе; так неужели же сердца наши не соединятся со Спасителем в эту торжественную минуту?
Ошеломленный паж слушал и, казалось, ничего не понимал.
— Вы видите перед собой чудака, — прибавил Цинцендорф, — но ведь вы встречаете не мало великосветских чудаков и прощаете им; почему бы не отнестись снисходительно к экстазу, который есть только следствие горячей восторгающейся души.
— Право… — прошептал Брюль, — я и сам набожен, но…
— Но, вероятно, прячете вашу набожность на дне сердца, опасаясь, чтобы ее не осквернила рука и слово профанов. — Я же выставляю ее, как знамя, которое готов защищать моей жизнью и кровью. Брат, — прибавил он, приближаясь к Брюлю, — если вам стало тяжело в этой бешеной и вертлявой придворной жизни, потому что только так можно объяснить вашу одинокую прогулку, сядьте здесь, отдохните с нами, вместе с нами помолитесь; я чувствую в себе жажду молитвы, а она, соединившись в одно моление, из двух, трех братних уст, крепнет и долетит к подножию престола Того, который за ничтожных тварей отдал бесценную жизнь свою.
Брюль, как бы испугавшись, чтобы его не задержали, несколько попятился назад.
— Я имею обыкновение молиться один, без свидетелей, — сказал он, — а там меня призывают служба и обязанности. Поэтому извините меня.
И он указал рукой в ту сторону, откуда долетал шум. Цинцендорф встал.
— Жалко мне вас! — воскликнул он. — Если бы мы здесь под этим величественным деревом запели вечерний гимн: "Бог наша защита, Бог надежда наша"…
— Тогда, — подсказал паж, — услыхал бы это ловчий, или какой-нибудь подкоморий короля и нас не заперли бы в кордегардию только потому, что ее здесь нет, но отвезли бы в Дрезден, под Фрауэнкирхе и посадили бы на гауптвахту.
Говоря это, он пожал плечами, легко наклонил голову и хотел уйти. Но Цинцендорф загородил ему дорогу.
— Разве действительно запрещено здесь оставаться? — спросил он.
— Это может навлечь на вас подозрение и доставит много неприятностей. Я советую вам лучше удалиться. За Губертсбургом есть деревня и постоялый двор, в котором вы удобнее переночуете, нежели на буковом пне.
— Какой же дорогой нам нужно идти, чтобы не повстречаться с кем-либо из людей его величества? — спросил Цинцендорф.
Брюль указал рукой и уже хотел уйти, но затем остановился и прибавил:
— Выйти на дорогу трудновато, граф, но если вам угодно принять мои услуги, то я вас выведу.
Цинцендофр и его молчаливый товарищ подняли свои узелки и палки и пошли за Брюлем, который, казалось, нисколько не радовался этой встрече.
У Цинцендорфа было достаточно времени, чтобы прийти в себя и освободиться от экстаза, в котором внезапно появившийся Брюль застал его. В нем был виден человек высшего общества, очень деликатный и любезный. Успокоившись совершенно, он извинился даже за то, что так странно говорил.
— Не удивляйтесь, — холодно сказал он, — мы все зовем себя христианами и сынами Бога, на самом же деле мы ничто иное, как язычники, хотя и давали обещание при святом крещении. Поэтому обязанность каждого — проповедовать, и я из этого сделал задачу моей жизни. Какая польза в словах, если ее нет в деле. Католики, протестанты, реформаторы — все мы, все мы язычники. Мы не почитаем богов потому что нет их алтарей; но мы приносим им жертвы. Несколько священников спорят и плюют себе в глаза из-за догматов, а Спаситель на кресте обливается кровью, которую напрасно примает в себя земля, потому что люди не хотят спасения.
Он вздохнул.
В то время, когда он закончил эти торжественные слова, лагерь представился их глазам и из него донесся звон от чаш, которыми чокались с шумом. Цинцендорф взглянул с ужасом.
— Разве это, — воскликнул он, — не вакханалия! Идемте скорее, мне стыдно за них!
Брюль, шедший впереди, не сказал ни слова.
Таким образом они прошли мимо лагеря. Брюль указал им дорогу, а сам бросился к первому освещенному шатру, как бы желая избавиться скорее от этого общества. Еще в ушах у него звучали странные слова Цинцендорфа, когда ему представилась в шатре новая оригинальная картина. Правда, в те времена и при этом дворе она была довольно обыкновенна, и ему нечего было особенно удивляться, однако, немногие показывались публично в таком положении, в каком застал Брюль военного советника Паули.
Он лежал посреди шатра на земле, около него валялись осколки огромной пустой бутылки: руки были разбросаны, так что его фигура изображала из себя крест: лицо багрово-красного цвета, платье расстегнуто и изорвано, а большая гончая собака, вероятно его любимая, сидела над ним, лизала его физиономию и выла…
Стоящие кругом от души хохотали.
Паули, должность которого состояла в том, чтобы быть всегда под рукой у короля, ради обширной корреспонденции, которою как в трезвом, так и в пьяном виде он заведовал довольно удачно и даже с канцелярскою ловкостью, уже не впервые был так несчастливо побеждаем бутылкой. Случалось ему часто спать и на мягкой постели, и под скамейкой у стены, после таких возлияний; но так скандально как сегодня быть посмешищем… это превышало меру.
Брюль, лишь только заметил это, бросился к несчастному и начал поднимать его с земли. Другие, опомнившись, помогли, и с немалым трудом удалось уложить его на постель из свежего сена, приготовленную в углу. В эту минуту, когда они втроем подняли его с земли, Паули обвел окружающих осоловелыми глазами и пробормотал:
— Спасибо, Брюль… я все знаю, понимаю… я не пьян… так это только… сделалось дурно. Ты славный мальчик… Спасибо тебе.
Так говоря, он, закрыв веки, тяжело вздохнув, проворчал:
— Вот служба… — и уснул.
II
В замке королевском пажи Августа II имели комнаты, в которых, ожидая приказаний, отдыхали. Лошади для них, на случай, если который будет послан, всегда были готовы. Они поочередно исполняли службу у дверей и в передней, сопровождали короля, а часто, когда не было кого под рукой постарше, были посылаемы с различными письмами и приказами. Усерднее всех исполнял эту непривлекательную службу Брюль; он дежурил за себя и весьма охотно за других, так что король, часто его видя, привык к его услугам и его лицу.
— А ты здесь опять, Брюль? — спрашивал он с улыбкой.
— Готов исполнять приказания вашего величества!
— Тебе не надоело это разве?
— Я так счастлив, когда мне выпадает счастье лицезреть ваше величество.
И молодой человек кланялся, а его величество хлопал его обыкновенно по плечу.
Никогда у него не было недостатков в ответе, ничего для него не было трудным или невозможным; бегом, с удивительной поспешностью исполнял он поручения. В этот день обыкновенно приходили отчеты и отправлялись ответы, ожидаемые с утра; в то время почты были очень неисправны, то лошадь падет, то случится разлив реки, или почтальон заболеет, так что время прихода почты не было строго определено. С утра советник Паули, который составлял королю депеши, ожидал отчетов и приказов.
Сначала он ждал очень терпеливо.
Паули, несчастный вид которого мы видели в Губертсбурге, выспался отлично, умылся и встал, не чувствуя ничего, кроме мучительной жажды.
Он знал, что мать-природа употребляет хитрость, чтобы принудить его пить воду, но он давно зарекся не пить ее, чувствуя к ней отвращение и презрение и обыкновенно говаривал, что Бог сотворил ее для гусей, а не для человека. Таким образом хитрость природы не удалась, и он утолил жажду пивом. Тотчас же ему полегчало и сделалось веселей, а вскоре совсем прошла эта болезнь, оставив только смутное воспоминание.
Вспомнил, однако, Паули, как в один несчастный день Брюль его спас и уложил на постель, а с этого времени началась дружба между старым Паули и молодым пажом.
Брюль, который никем и ничем не пренебрегал, привязался к советнику. Это был человек уже немолодой, тяжко измученный страшной службой у бутылки, при том же неимоверно полный — что мешало свободе движений: ноги уже не особенно хотели служить и после обеда, всегда, как только представлялась возможность, хотя бы и стоя, он готов был дремать.
Лицо Паули было румяно, с фиолетовым оттенком, черты лица заплыли, подбородок в несколько этажей. Руки, ноги и весь он казался как бы опухшим.
Несмотря на это, когда он принарядится ко двору, застегнется, выпрямится и примет свою служебную придворную осанку, его можно было принять за человека с большим весом. Он так привык к королю, и король к нему, что по одному слову или взгляду Августа воспроизводил целое письмо, угадав мысль, попав на надлежащую форму, и никогда его величеству не приходилось его исправлять. Поэтому он очень любил Паули и так как постоянно в нем нуждался, то и хотел иметь его всегда под рукою; король великодушно прощал его даже в тех случаях, когда он до такой степени напивался, что был не в состоянии подняться и явиться по требованию короля.
Тогда трое камердинеров должны были расшевеливать его, а Паули, не открывая глаз, ворочаемый на постели, отвечал на все: — "Сейчас! Сию минуту!" Вот и готов! "Сию секунду"… Но не вставал до тех пор, пока у него не испарялся из головы остаток излишков вина.
Когда он немного трезвел, то, умывшись холодной водой, требовал рюмку чего-нибудь крепкого для прояснения мыслей и тогда только шел к королю.
Подобные вещи тогда случались не с ним только одним, напивался и друг короля Флеминг, да и многие другие. Над этим только смеялись, хотя иметь слабую голову считалось большим позором.
В этот день, в который, как мы говорили, ожидали отчетов, Паули сидел в Маршалковской [1] зале и зевал. Он расселся в широком, удобном кресле, сложил руки на животе, немного опустил голову, удобно поместив ее на многоэтажном подбородке, и размышлял. О сне и речи не могло быть, потому что кто же может заснуть натощак и отправиться с Морфеем в дальнее путешествие в края мечтаний без чемодана с припасами.
Картины, развешанные по стенам комнаты, были давным-давно знакомы ему, так что не могли его занимать. Время от времени он зевал, но зевал так ужасно, что челюсти трещали.
Это было зрелище, раздирающее душу. Паули, такой серьезный, заслуженный, должен зевать натощак!
Часы указывали десять, затем одиннадцать, и советник сидел, зевал и вздрагивал, так как по телу бегали мурашки вследствие голода. В эту минуту он был самым несчастным из людей.
В этой же зале постоянно сновали пажи, подкомории, камергеры, лица, ожидающие аудиенции или возвращающиеся от короля. Но никто не осмелился беспокоить господина советника.
В одиннадцать часов вошел Брюль, который ожидал своего дежурства. Он был прекрасен, как ангел, в своем пажеском костюме, надетом с большой кокетливостью. Лицо его, как обыкновенно, веселое, выражало все ту же кротость и любезность. Никто не был прекраснее сложен, не имел более изящной ноги, более изящных и свежих кружев при манжетах, лучше сидящего фрака и искусно завитого парика. Глаза его смеялись, перебегая по лицам и стенам. Как чародей, он всех располагал в свою пользу улыбкой, словом, жестом, всей своей особой. Увидав его, советник, не вставая, протянул ему руку.
Брюль быстро подбежал.
— Как я счастлив! — воскликнул он и покорно поклонился.
— Ты только один можешь спасти меня, Брюль! Вообрази себе, я еще ничего не ел. Когда придут счеты и отчеты?..
Паж посмотрел на часы и пожал плечами.
— Кто знает? — отвечал он на итальянском языке, который стал входить в моду при дворе Августа наравне с французским, и был почти языком двора, потому что тогда в Дрездене мало-помалу начала увеличиваться итальянская колония.
— Одиннадцать часов, а я еще ничего не ел. Натура дает себя знать. Придется умереть с голода.
Говоря это, Паули зевнул и сильно вздрогнул:
— Брр!..
Брюль стоял, как бы размышляя, затем нагнулся к уху Паули и шепотом сказал:
— Господин советник, est modus in rebus! Зачем вы уселись на этой проезжей дороге? Рядом есть комната, двери которой выходят в коридор, ведущий в кухни и буфеты; там пока что будет, отлично можно было бы закусить, велев подать что-нибудь из кухни и другое "что-нибудь" из погреба.
У доброго советника загорелись и засмеялись глаза. — Он тотчас двинулся, но не легко ему было встать. Он уперся обеими руками в ручки кресла, локти поднялись вверх, и с трудом, кряхтя, приподнял он, наконец, свое массивное тело.
— Спаситель мой, — воскликнул он, — спасай же меня несчастного!
Брюль сделал знак и оба скрылись быстро за дверьми, очутившись в кабинете с одним окном.
Здесь, как будто ожидая Паули, какая-то сверхъестественная сила уже заранее приготовила стол. Перед ним стояло кресло, широкое, удобное, сделанное как бы по мерке для Паули; на белой как снег скатерти, стояла фарфоровая, белая с синими узорами посуда, маленькая чашка, маленькое блюдце с покрышкой и порядочный кувшинчик с искрящимся золотистым вином.
Паули, увидав все это, сделал рукою в воздухе движение и, как бы опасаясь, чтобы кто не предупредил его, ничего не спрашивая, поспешно занял место, завязал на грудь салфетку, протянул руку к чашке и, только тогда вспомнив Брюля, повернулся:
— А вы?
Паж отрицательно покачал головой.
— Это для вас, любезный советник.
— Да вознаградят тебя боги! — воскликнул Паули в восторге. — Венера пусть даст тебе самую красивую из дрезденских девушек, Гигея пусть даст тебе желудок, способный переваривать камни, пусть Вакх возбудит в тебе вечную жажду и средства для удовлетворения ее венгерским, пусть…
Но кушанье не дало ему закончить, он всецело в него погрузился. Брюль стоял, опершись одной рукой на стол, и с улыбкой смотрел на советника; Паули налил себе первый стакан вина. Он ожидал найти легкое обыкновенное венгерское, какое подавали свите, но когда приложил край стакана к губам и потянул, лицо его прояснилось, засияло, глаза загорелись, а выпив до дна, он упал на спинку кресла и с наслаждением проводил руками по груди.
Ангельская улыбка пробежала по его губам.
— Божественный напиток! Чародей ты мой, откуда ты добыл его? Я его знаю, это королевское вино. Это ведь амброзия, нектар!
— Удостойте же его ласковым вниманием и не давайте стакану сохнуть, а кувшину идти в руки профанов, которые вольют его в горло как простое вино.
— Да ведь это было бы святотатство! — воскликнул советник, наливая вторую чашу, равную объемистому стакану. — За ваше здоровье, за ваше счастье, Брюль! Я буду тебе благодарен до смерти; ты спас мне жизнь! Еще полчаса и мой труп вынесли бы на Фридрихштадт. Я уже чувствовал, как жизнь улетала из меня.
— Я очень рад, что недорогой ценой мог угодить вам; но пейте же, пожалуйста.
Паули опрокинул в горло и вторую чашу, щелкнул языком, и изображая рукою в воздухе как бы полет птицы, сказал:
— О, какое вино, какое вино! Это такого рода напиток, что каждая следующая рюмка вкуснее предыдущей. — Это как верный добрый друг, которого чем более узнаешь, тем более к нему привязываешься. Но, Брюль, что будет, если придут депеши, если его величество позовет меня, если нужно будет писать письма в Берлин или Варшаву, или в Вену?..
Он вопросительно повернул голову, но в то же время наливал третий бокал.
— Что значит для вас такой кувшинчик! Что это? Это только легкое возбуждение. Это… ничего!
— Ты прав, Брюль… ей Богу прав; не такие вещи мы делали, — засмеялся Паули. — Самая скверная вещь — это смешивать напитки. Кто же может догадаться, в каких они между собой отношениях? Встретятся иногда непримиримые враги, австрийское вино с французским: начинается баталия в желудке и голове; но когда честным образом пьется одно, испытанное, зрелое вино, то нет опасности; оно преспокойно располагается себе внутри, как ему удобнее, а вреда никакого не сделает.
Говоря это, Паули ел жареное мясо, залитое мастерски приготовленным соусом, и, постоянно улыбаясь, угощал себя токайским. Брюль стоял и наблюдал, а когда чаша опоражнивалась, он, взяв кувшинчик в руку, наливал ее снова.
Наконец, блюдо опустело, хлеб исчез, и только половина кувшинчика была еще полна вином.
Паули вздыхал, смотря на это, и ворчал:
— А депеши?
— Разве вы можете бояться?
— Да, ты прав, если бы я боялся, я бы был трусом, а я не знаю ничего позорнее этого. Наливай! За твое здоровье! Ты пойдешь высоко!.. В голове у меня проясняется, мне кажется, что солнце выглянуло из-за туч. Как теперь все смотрит весело! Я чувствую теперь удивительную способность великолепно, неподражаемо писать. Эх, если бы король дал мне составить какое-нибудь необыкновенное письмо! Вот бы я настрочил!..
Брюль постоянно наполнял бокал.
Паули посматривал на кувшин, который снизу был шире и должен был содержать в себе еще порядочное количество вина.
— Мне нечего бояться, — говорил он, как бы для своего собственного успокоения. — Не знаю, помните ли вы, как однажды, в невыносимо жаркий день, его величество послал меня к той несчастной богине, которая звалась Козель; там меня попотчевали таким предательским вином. Вкусно оно было, как вот это токайское, но поистине предательское. Я вышел на улицу и вижу, что все вокруг меня так и танцует. О, плохо дело, а нужно было идти к королю писать депеши. Двое придворных подали мне руки и казалось мне, что я лечу, что у меня выросли крылья! Посадили меня за стол, даже перо должны были обмакнуть и подать мне в руку, и бумагу положить передо мной. Король сказал несколько слов, и я произвел на свет депешу, как мне потом говорили, неподражаемую, великолепную! Но на другой день, и до сих пор, хоть убей, не знаю, что я писал! Достаточно того, что было хорошо и король, смеясь, в память этого происшествия подарил мне перстень с рубином.
Из кувшина вино все лилось в бокал, а из бокала в горло. Паули гладил себе грудь и улыбался.
— Собачья служба! — сказал он тихо. — Но вино такое, какого в другом месте и не понюхаешь даже.
Кувшин среди разговоров и вздохов пришел к концу. Последний бокал был уже мутный. Брюль хотел его принять.
— Стой! — крикнул советник. — Что ты делаешь? Природа выделила эти части не затем, чтобы их выливали, но чтобы скрыть на дне настоящую суть вина, эликсир, и самые питательные части!
Когда Паули протянул руку за бокалом, Брюль вынул из-под стола другой кувшин. При виде его советник хотел подняться, но радость приковала его к креслу.
— Что это? — крикнул он. — Что я вижу?..
— Ничего, ничего, — тихо сказал паж, — это только второй том произведения, заключающий в себе его окончание. К несчастью, — продолжал он весело, — стараясь доставить вам произведение с началом и концом, вам, столь любящему литературу…
Паули сложил руки на груди и наклонил голову.
— Боже мой, да кто же не любит такой литературы! — вздохнул он.
— Итак, — продолжал Брюль, — стараясь доставить вам полное произведение, я не мог достигнуть того, чтобы оба тома были одного издания. Вот этот второй том, — продолжал он, медленно приподнимая бутыль, покрытую плесенью, — раньше издан — это edito princeps [2].
— Прелестно! — воскликнул Паули, придвигая рюмку. — Налейте же мне этого сокровища, только одну, единственную страничку: не следует ведь злоупотреблять такой древностью.
— Но какая в нем польза, когда оно выдохнется и дух веков улетучится из него?
— Правда, тысячу раз правда! Но депеши, депеши! — воскликнул Паули, пожимая плечами.
— Сегодня депеши не придут, все дороги испорчены.
— Ну их! Если бы еще все мосты провалились! — вздохнул советник.
Рюмка была налита, и Паули выпил ее.
— Это вино только король пьет, когда чувствует себя не совсем здоровым, — шепнул Брюль.
— Panaceum universale [3]!.. Губки прелестнейшей в мире женщины не могут быть слаще этого.
— Вот как? — заметил Брюль.
— Для тебя, — продолжал Паули, — это совсем другое дело, н о для меня они потеряли свою притягательную силу; но вино — это нектар, который до самой моей смерти не потеряет своей прелести. О, если бы не депеши!..
— Что же такое депеши, неужели вы все еще о них думаете?
— И то, провал их возьми!..
Советник продолжал пить, но эти слишком частые возлияния начали на него действовать, и он, усевшись удобнее в кресле, начал сладко улыбаться и щурить глаза.
— Теперь вздремнуть бы немного и…
— Прежде нужно закончить бутылку, — не уступал паж.
— Конечно, ведь обязанность всякого честного человека или не браться за дело или кончать его, неправда ли? — продолжал советник. — Это дело совести, и потому по совести должно быть и совершено.
Когда был наполнен последний бокал, Брюль взял с окна трубку и кисет с табаком.
— Господин советник, теперь трубку!
— Милый ты мой, — воскликнул в умилении Паули, открывая глаза, — и об этом ты не забыл! Ну, а ежели от этого зелья я опьянею еще более? Как ты думаешь?
— Напротив, вы протрезвитесь, — прервал Брюль, подавая трубку.
— Как тут будешь противиться искушению! Дай, дай! Чему быть, того не миновать! Может быть почтальон свернет себе шею, и депеши не придут так скоро. Я не желаю ему зла, но пускай бы его немного так… вывихнул…
Оба рассмеялись, и Паули жадно начал глотать дым.
— Чертовски крепкий табак!
— Это королевский, — сказал паж.
— Да, но ведь король куда крепче меня.
Табак оказал свое действие, старик начал что-то бессвязно бормотать; затянулся еще раза два, и трубка выпала из его рук, он опустил голову на грудь и, перегнув ее на бок, немилосердно захрапел. Из полуоткрытого рта вылетали самые разнообразные и неприятные звуки.
Брюль некоторое время посмотрел на него, затем улыбнулся тихо, на цыпочках подойдя к дверям, вышел в коридор, где пробыл немного и побежал в переднюю короля.
Здесь его задержал молодой изящный юноша в костюме пажа. В нем проглядывал барич. Это был граф Антоний Мошинский. Его нельзя было не заметить между другими пажами короля, благодаря его белому личику и черным волосам. Черты лица его были, хотя и не особенно красивые, но выразительные; аристократическая же осанка и немного ненатуральные манеры делали его весьма заметным. Он вместе с Сулковским долгое время служил при королевиче, теперь же на время был определен к королю Августу И, который, как поговаривали, любил его ловкость и ум. Ему предсказывали тогда блестящую карьеру.
— Брюль, — спросил он, — где ты был?
Паж как будто колебался, не зная, что сказать.
— В маршалковской зале.
— Теперь ведь твое дежурство?
— Знаю, но ведь я не опоздал, — и он взглянул на часы, стоящие в углу.
— А я думал, что мне придется дежурить за тебя, — прибавил Мошинский, смеясь и переступая с ноги на ногу.
По лицу Брюля пробежало что-то вроде тени, но оно тотчас же прояснилось.
— Граф, — кротко сказал он, — вам, фаворитам короля, позволительно опоздать на час и на свои места поставить другого, но мне, бедному и выслуживающемуся, это было бы непростительно.
При этом он очень низко поклонился.
— Я не раз заменял других, меня же никто.
— Ты хочешь сказать, что никто не в состоянии заменить тебя? — прервал Мошинский.
— Граф, к чему смеяться над бедным невеждой. Я еще учусь тому, что вы давным-давно постигли. — И он опять низко поклонился.
Мошинский подал ему руку.
— С вами, — сказал он, — опасно сражаться на словах, я предпочел бы на шпагах.
Брюль тихо и скромно отвечал.
— Я ни в чем не признаю себя выше вас.
— Ну, желаю всего хорошего, — сказал Мошинский. — Теперь наступает час вашего дежурства, до свидания. — Говоря это, он вышел из передней.
Брюль вздохнул свободнее. Тихо подошел он к окну и стал в него равнодушно смотреть на двор, вымощенный каменными плитами и имеющий вид громадной залы. Прямо перед окном, в которое он смотрел, сновало множество занятых и деятельных слуг и приближенных короля. Военные в роскошных латах и мундирах, камергеры в кафтанах, шитых золотом, камердинеры, лакеи и бесчисленное множество людей, составлявших двор короля, суетились и бегали. Несколько носилок стояло у лестницы, а носильщики, одетые в желтые платья ожидали своих господ [4]; далее несколько изящных экипажей и верховые лошади в немецкой или польской сбруе; тут же стояли гайдуки в ярко красных костюмах и казаки. Все это представляло из себя живописную и пеструю картину.
Камергер вышел от короля.
— Что депеши еще не пришли? — спросил он у Брюля.
— Нет еще.
— Как только принесут их, приходите с ними к королю. А Паули?..
— Он в маршалковской зале.
— Хорошо, пусть ждет. Брюль поклонился.
Комната начинала пустеть, так как наступающее обеденное время заставляло всех спешить домой.
Долго смотрел Брюль нетерпеливо в окно и, наконец, увидал, как влетел во двор на измученной лошади почтальон, с рожком, висящим на шнурке, перекинутом через плечо, в огромных сапогах и с кожаной сумкой на груди.
Лишь только Брюль его заметил, как тотчас бросился по лестнице и прежде, чем прислуга успела взять от почтальона запечатанную кипу писем, он схватил их и, положив на серебряный поднос, стоящий наготове в передней, пошел к королю.
Август ходил по комнате с Гоимом. Увидав пажа, поднос л бумаги, он протянул руку и быстро сорвал печати. Он и Гош" приблизились к столу и начали просматривать принесенные письма
Брюль стоял, ожидая приказаний.
— А, а! — воскликнул Август. — Скорее позовите Паули! Брюль даже не пошевелился.
— Идите, позовите мне Паули! — нетерпеливо повторил король. Паж поклонился и, выбежав, вошел в кабинет.
Паули спал, точно мертвый; тогда он вернулся к королю.
— А Паули? — спросил король, видя, что паж входит один.
— Ваше величество… — начал, заикаясь, Брюль, — советник Паули… советник Паули…
— Где он? Здесь?
— Здесь, ваше величество!
— Что же он не идет?
— Советник Паули, — прибавил паж, опуская глаза в землю, — находится в невменяемом состоянии.
— Если ты найдешь его умирающим, и тогда даже приведи его ко мне! — крикнул король. — Пусть прежде исполнит свою обязанность, а потом умирает, если хочет.
Брюль опять стремительно побежал в кабинет, посмотрел на спящего, улыбнулся и вернулся к королю. Гнев короля возрастал, глаза пылали и лицо побледнело, что было самым скверным признаком. Когда этот король-силач совершенно бледнел, тогда все окружающие его дрожали от страха [5].
Брюль, не говоря ни слова, остановился у дверей.
— Паули! — крикнул король, топая ногой.
— Советник Паули находится в…
— Пьян? — прервал король. — Противное животное! Не мог даже на несколько часов воздержаться от вина. Облить его водой. Сведите его к фонтану и дайте ему уксусу. Пусть доктор даст ему какое-нибудь лекарство и протрезвит его хоть на час, а потом пусть себе издыхает эта скотина!
Говоря это, король сердито топал ногой.
Брюль опять выбежал и при помощи слуги пробовал разбудить Паули, но тот был неподвижен, как бревно: никакой врач, кроме времени, не был бы теперь в состоянии привести его в себя. Тогда Брюль тихо, медленно стал возвращаться назад, думая о чем-то; казалось в нем происходила внутренняя борьба; он как будто бы колебался, боялся чего-то и что-то соображал. Остановившись у дверей, он некоторое время не решался войти и, только набожно вздохнув, нажал ручку двери.
Король стоял посреди комнаты в выжидательной позе с бумагами в руках, губы у него были сжаты, брови сдвинулись, образуя складку на лбу.
— Паули!
— Нет никакой возможности разбудить его.
— Черт бы его побрал! Но депеши, кто мне напишет депеши… слышишь?
— Ваше величество, — промолвил Брюль, согнувшись вдвое и сложив руки на груди, — ваше величество, велика, почти преступна моя дерзость, простите ее великодушно; я знаю, что это безумно с моей стороны, но любовь моя к вашему величеству и глубокое почтение… Одним словом, ваше величество… я попробую составить депешу.
— Ты? Молокосос!
Брюль покраснел.
— Ваше величество, испытайте меня.
Август пристально посмотрел на него.
— Хорошо, пойдем, — сказал он, направляясь к окну. — Вот письмо: прочти его и составь ответ, в котором был бы отказ, но отказ не должен быть так выражен, чтобы можно было понять, что он не положителен. Подай надежду, но не слишком ясно, заставь скорее догадаться. Понимаешь?
Брюль поклонился и, взяв письмо, хотел с ним выбежать из кабинета.
— Куда? — остановил его король и, указывая рукою на кресло, прибавил: — Садись сюда и пиши тут сейчас.
Паж поклонился еще раз и присел на краю дивана, обтянутого шелковой узорчатой материей, движением руки отбросил манжеты, нагнулся над бумагой, и перо начало бегать по ней с такой быстротой, что даже король улыбнулся.
Август с любопытством и внимательно посматривал на этого красивого мальчика, который составлял депешу, как будто записочку к возлюбленной.
Жестоко ошибся бы тот, кто бы подумал, что, исполняя столь важное и могущее повлиять на его будущую карьеру дело, он забыл о своей позе. Он сел, как будто нехотя, как бы не думая, однако, ловко сложил свои изящные ножки, нагнул кокетливо головку и изящно положил на стол руки. Все это делал он хладнокровно, хотя, казалось, он сильно горячился и волновался; король не спускал с него глаз, и он, казалось, это чувствовал. Не задумываясь долго, он писал как бы под диктовку готовой мысли, ни разу не перечеркнул и ни на минуту не остановился. Только тогда перо остановилось, когда депеша была готова. Он быстро пробежал ее глазами и выпрямился.
С очевидным любопытством и приготовясь быть снисходительным, король приблизился.
— Читай, — сказал он.
Брюль кашлянул, голос его немного дрожал. Кто может угадать, не была ли демонстрация страха тоже расчетом? Король, желая его ободрить, ласково прибавил:
— Медленно, ясно и громко.
Молодой паж начал читать составленную им депешу, и голос, сначала дрожащий, сделался металлически ясным. На лице Августа изобразились попеременно изумление, радость и как будто недоверие.
Когда Брюль закончил, он не смел поднять глаз.
Лицо короля прояснилось, и он потер руки.
— Еще раз прочти сначала, — сказал король.
Теперь Брюль стал читать еще громче, яснее и отчетливее.
— Великолепно, — воскликнул он. — Сам Паули не сумел бы лучше! Перепиши начисто.
Брюль с низким поклоном подал ему депешу, которая была написана так, что совсем не требовала переписки. Август похлопал его по плечу.
— С сегодняшнего дня ты будешь моим секретарем при депешах. Пусть теперь Паули не показывается мне на глаза. Черт с ним, пусть и пьет, и издохнет.
Он позвонил и тотчас вошел дежурный камергер.
— Граф, — сказал ему король, — пусть свезут Паули домой, а когда он протрезвеет, объявите ему мое высочайшее неудовольствие. Пусть он не смеет показываться мне на глаза!!! Секретарем моим теперь будет Брюль. Уволить его от пажеской службы, но мундир оставить!
Камергер издали улыбнулся скромно стоящему в стороне Брюлю.
— Он меня выручил из крайне стеснительного положения. Я знаю Паули, он до завтрашнего утра будет лежать, как бревно, а депешу нужно послать немедленно.
Король подошел подписаться и прибавил:
— Списать копию.
— В этом нет надобности, ваше величество, — тихо сказал Брюль; — я напишу ее наизусть, я помню каждое слово.
— Вот так секретарь! — воскликнул король. — Прошу вас выдать ему триста талеров.
Брюль подошел поблагодарить, и король дал ему поцеловать руку, что было признаком большого к нему расположения.
Немного погодя курьер, взяв запечатанный пакет, скакал галопом через мост.
Брюль покорно вышел в переднюю. Здесь уже была известна, благодаря камергеру Фризену, история депеши и неожиданной милости короля для юноши, от которого никто не ожидал таких способностей. Все посматривали на него с завистью и любопытством. Когда Брюль вышел от короля, все глаза устремились на него. На лице у него не было и следа гордости, даже радость свою он прикрыл такой покорностью, что можно было подумать, что он стыдится того, что совершил.
Мошинский подбежал к нему
— Правда ли? — воскликнул он. — Брюль назначен секретарем его величества? Когда? Что? Как?
— Господа! Дайте мне опомниться от удивления и испуга, — тихо произнес Брюль. — Как это случилось? Да я сам не знаю, само Провидение позаботилось обо мне. Любовь к королю совершила чудо… Я сам не знаю; я ошеломлен, я не в своем уме.
Мошинский пристально взглянул па него.
— Если так пойдешь дальше, ты скоро обгонишь всех нас. Нужно заранее уже просить твоей милости.
— Граф, будьте милосерднее, не издевайтесь надо мной, бедным.
Говоря это, Брюль, как бы утомленный и теряющий силы, обтер пот с лица и сел, закрыв лицо руками.
— Можно подумать, смотря на него, — сказал Мошинский, — что с ним случилось величайшее несчастие.
Брюль, погрузившись в размышления, не слышал этого замечания. В комнате все шептались, смотря на него, и передавали вновь приходящим историю счастливого пажа. К вечеру весь город знал об этом, и когда Брюль вместе с прочими пажами явился в оперу, Сулковский, сопровождавший королевича, подошел к нему, чтобы его поздравить.
Брюль, по-видимому, был в высшей степени тронут и не мог найти слов, чтобы выразить свою благодарность…
— А что, видишь, Брюль, — шепнул Сулковский, посматривая на него сверху, — я предсказывал всегда, что тебя оценят; я не ошибся; орлиный глаз нашего государя сумел тебя отличить.
Начали аплодировать тенору в роли Солимана; Сулковский тоже хлопал, но, повернувшись к другу, сказал:
— Это я тебе аплодирую.
Брюль покраснел и покорно поклонился. По окончании спектакля он исчез; ему даже вменили в заслугу, что он не хвастался своим счастьем. Товарищи искали его в замке, в квартире, но и там не нашли его; комната была заперта, а слуга уверил их, что он давно уже ушел из дому.
Действительно, лишь только занавес упал, он тихо, закрывшись плащом, проскользнул в замковую улицу, а из нее в другую, ведущую к дворцу в Ташенберге, где некогда сияла Козель, а теперь властвовала дочь цезарей Жозефина. Встретив его здесь, можно было подумать, что он спешит сложить свои лавры к ногам какой-нибудь нарумяненной богини. В этом не было ничего неправдоподобного. Ему было всего двадцать лет, лицо, как у херувима, а женщины, испорченные Августом, были очень кокетливы.
Очевидно было только то, что он старался не быть замеченным и узнанным. Лицо он закрывал плащом и как только раздавались на улице шаги, он прижимался к стене и еще более торопился. Достигнув дворца королевича, он вошел не в него, а в соседний дом; но прежде пристально посмотрел на ярко освещенные окна первого этажа. Тихо, без шуму, поднялся он по знакомой лестнице и, остановясь у знакомой двери, три раза постучал в нее. Ответа не было. Подождав немного, он опять тихонько и таким же образом постучал в дверь.
Изнутри послышались медленные шаги, дверь наполовину открылась, и в ней показалась коротко остриженная голова старого человека. Брюль быстро скользнул в дверь.
Комната, в которую он вошел, была освещена единственной свечей, которую держал слуга, стоящий у двери: комната эта была заставлена шкафами и представляла мрачный и унылый вид.
Старик, отвечая на какой-то непонятный вопрос, шепнул что-то, указывая рукой на другие двери, к которым Брюль, сбросив плащ, подошел и чуть слышно постучал в них.
Живой голос тотчас отвечал ему:
— Favorisca! [6]
Комната, в которой очутился молодой паж, освещалась двумя свечами под абажуром, стоящими на столике. Она была просторная и как-то оригинально убрана.
Наполовину открытый шкаф с книгами, несколько столов, заваленных бумагами, между окнами большое распятие с фигурой Спасителя; на диване в беспорядке разбросанное платье и на нем гитара.
У стола, опершись на него одной рукой, стоял, ожидая его, человек уже немолодой, немного сгорбленный, с лицом желтым, сморщенным и длинным, с выдавшимся вперед подбородком и с черными глазами.
В нем с первого же взгляда можно было узнать итальянца. В узких, бледных губах было что-то особенное, таинственное; но вообще лицо скорее было шутливым, чем загадочным. На нем виднелись добродушие и ирония; большой орлиный нос почти закрывал собой верхнюю губу.
На коротко остриженной голове была надета черная шелковая шапочка, сам же он был в длинном черном платье, указывающем, что это духовная особа; на ногах были надеты черные чулки и туфли с большими пряжками.
Увидав Брюля, он протянул руки.
— Это ты, дитя мое! Как я рад! Да благословит тебя Господь!
Юноша покорно подошел к нему и, нагнувшись, поцеловал руку.
Хозяин сел на диван, предварительно сдвинув лежавшие на нем книги и платье, а Брюлю, стоявшему со шляпою в руках, указал на ближайший стул, на который тот присел.
— Ессо! Ессо [7]! — шепнул сидящий на диване. — Ты думаешь, что сообщишь мне новость? Я уже знаю! Все знаю и радуюсь. Видишь, Провидение награждает, Бог помогает своим верным.
Сказав это, он глубоко вздохнул.
— Его я и благодарю в моих молитвах, — тихо сказал Брюль.
— Останься верным вере, к которой тебя влечет сердце, осененное милостью Божией, и увидишь… — Он поднял высоко руку. — Ты пойдешь высоко, высоко! Невидимые руки будут тебя поднимать; я говорю тебе это. Я, сам по себе ничтожный и малый, но слуга Великого Господа.
И он смерил блестящими глазами скромно сидящего пажа, улыбнулся и, как бы исполнив свою обязанность, весело прибавил:
— Был ты в опере? Как пела Челеста? Смотрел ли на нее король? Был ли королевич?
Градом посыпались вопросы.
Падре Гуарини, так звали того, кого посетил Брюль, исповедник королевича, наперсник королевы, духовный отец нового двора, казалось столько же занимался оперой, сколько обращением на путь истины грешника, сидевшего перед ним.
Расспрашивал он о теноре, о капелле, о гостях и, наконец, спросил, не был ли паж за кулисами?
— Я? — с некоторым недоумением спросил Брюль.
— Ничего дурного! Я не думаю ничего дурного; для музыки, Для искусства, чтобы посмотреть, каковы эти ангелы, когда должны быть простыми людьми. Челеста поет как ангел, но некрасива как сатана. Дали ей это имя разве ради голоса. Нечего опасаться, чтобы король влюбился в нее.
И падре Гуарини начал смеяться.
— А кто же царствует в сердце короля? — спросил он и, не ожидая ответа, сам сказал: — кажется, что как и в Польше, скоро наступят новые выборы по этой части.
И опять он расхохотался.
— Скажи же мне что-нибудь новенького, кроме того, что ты стал секретарем короля.
— Что же мне сказать? То разве, что никакое счастье не переменит моего сердца и чувств.
— Хорошо, хорошо, я тебе советую, будь, хотя тайно, добрым католиком; от нашего настоящего короля мы не можем ни ожидать, ни требовать, чтобы он был особенно ревностным приверженцем католицизма. Хорошо еще, что он хотя таков, но молодой будет совсем иным; святая наша госпожа Жозефина не допустит его сойти с истинного пути. Он набожен, верный муж и ревностный католик. Во время его царствования должно начаться и наше; мы не отчаиваемся; протестанты съели бы нас, если б только были в состоянии, но мы жестки для их зубов, и пасть у них мала… Chi va piano, va sano… chi va sano, va lontano [8]…
Повторив несколько раз, — lontano lontano! — он вздохнул.
— В память сегодняшнего дня, благословляя тебя, дам что-то, что принесет тебе счастье. Подожди.
Падре Гуарини выдвинул ящик и, опустив в него руку, вынул маленькие черные четки с ладанкой и крестиком.
— Святой отец благословил их собственной рукой, назначив их владельцу большое отпущение грехов; но для этого нужно каждый день с ними молиться [9].
Брюль что-то сказал, поблагодарил, поцеловал руку духовника и встал.
Гуарини нагнулся к нему и начал шептать что-то на ухо, причем паж несколько раз утвердительно нагнул голову, опять поцеловал его руку и тихо вышел из комнаты.
В дверях ждал его тот же старый слуга со свечей в руке; Брюль сунул ему в руку монету и, закутавшись плащом, сошел с лестницы. Дойдя до дверей, он осторожно выглянул на улицу и, никого не увидев на ней, быстро выбежал. Отойдя несколько шагов, он остановился в раздумье, затем вновь побежал, остановился и повернул назад, но тотчас же опять вернулся, как бы не зная, на что решиться. Четки, которые обвивали его руку, он снял и быстро спрятал в карман и, подняв голову, стал отыскивать знакомый дом около церкви св. Софии.
Еще раз он оглянулся.
Двери дома, к которому он направлялся, были отворены настежь, на перилах лестницы стояла прикрепленная к столбику маленькая лампочка, которая еле рассеивала мрак, господствовавший под сводами. В обширных сенях в готическом стиле было тихо и пусто. Войдя на первый этаж, Брюль позвонил.
Ему отворила горничная.
— Пастор дома? — спросил он.
— Дома, так как у него гости, с которыми он беседует…
— Гости, — колеблясь, промолвил Брюль, как будто его что-то удерживало от посещения. — Кто же там?
— Молодежь из Лейпцига, жаждущая слова Божьего и света. Брюль стоял еще на пороге, когда из соседних дверей показался
человек средних лет и с серьезным лицом.
— Я не хочу вам мешать, — сказал паж, кланяясь.
— Никогда вы не мешали и не мешаете, — возразил хозяин, причем голос его звучал сухо, холодно и отчетливо. — Я теперь не в таком положении, чтобы ко мне то и дело приходили. Войдите, пожалуйста. Теперь такое время, что в протестантской стране к духовному лицу надо входить тайно, как первые христиане входили в катакомбы. Честь и слава тем, у которых хватает мужества войти в наш дом!
Так говоря, он ввел Брюля в обширную комнату, очень скромно меблированную, но с цветами на окнах. Здесь не было никого, кроме двух молодых людей, из них один, более высокий, показался Брюлю знакомым; только он не мог вспомнить, где и когда его видел. Тот в свою очередь пристально посмотрел на нового гостя и тотчас подошел к нему.
— Если не ошибаюсь, — сказал он, — мы во второй раз в жизни встречаемся с вами. Благодаря вам, я вышел на дорогу и не попал в руки королевских слуг, как какой-нибудь бродяга.
— Граф Цинцендорф…
— Брат во Христе, и будь вы католик, арианин, виклефист, или еще кто, но если вы веруете в Спасителя и надеетесь на него, я приветствую вас теми же словами: брат во Христе!
Хозяин, у которого лицо было в высшей степени серьезно и брови сдвинутые и сросшиеся, что придавало его лицу суровое, строгое выражение, простонал:
— Оставьте эти мечты, граф; плевелы должны быть отделены °т зерна, хотя и выросли на одном стебле.
Брюль молчал.
— Что же слышно при дворе? — спросил хозяин. — Утром, вероятно, лития, а вечером опера? Но лучше замолчать. Садитесь, любезный гость.
Все уселись. Брюль, очевидно, чувствовал себя неловко в присутствии посторонних. Цинцендорф долго и с любопытством смотрел на него, как будто желал прочесть, что у него на душе, но эти окна, через которые он мог заглянуть внутрь, прекрасные глаза Брюля, закрывались перед им: казалось, паж избегал его взгляда и боялся его проницательности.
— Правда ли, что хотят строить католический костел? — спросил хозяин.
— Я слыхал об этом, только как о предположении, — отвечал Брюль, — и очень сомневаюсь, чтобы государь наш, начавший столько зданий, мог думать о еще новом.
— Это было бы ужасно! — вздохнул пастор.
— Почему? — прервал его Цинцендорф. — Мы упрекаем их в нетерпимости, так неужели и нам ей следовать. Пусть славят Господа Бога на всех языках и всеми способами; будут ли славить католики или мы, это, мне кажется, все равно.
Брюль наклонил голову, как бы соглашаясь с этим, но в то же время встретил строгий взгляд пастора, и это движение заменила двусмысленная улыбка, и он покраснел.
— Граф, — сказал пастор, обращаясь к Цинцендорфу. — Это юношеские мечты возвышенные и прекрасные, но невозможные в жизни. Нельзя носить плаща на двух плечах, нельзя служить двум Богам, не любить две веры, потому что пришлось бы не иметь никакой, как… как это нынче случается со многими, даже с высокопоставленными людьми.
Пастор вздохнул, и все поняли, куда он метит. Брюль притворился, что не слышит; он может быть жалел, что пошел в общество, занимающееся такими щекотливыми вопросами. Напротив того, Цинцендорф казался счастливым и с почтением схватился за руку пастора.
— Как же мы могли бы обращать и распространять истину, если бы мы не сближались с иноверными? Христос не избегал фарисеев и неверных, но обращал их кротостью и любовью.
— Вы, граф, молоды и предаетесь мечтам, — вздохнул пастор, — но когда придется бороться и от поэзии перейти к делу…
— Да, ведь, я к этому только и стремлюсь! — с одушевлением воскликнул граф, поднимая руки кверху. — Если бы я любил только себя, я искал бы Спасителя в пустыне и в размышлениях; но я люблю братьев, люблю всех, даже заблудших, поэтому я бросаюсь в эти волны, хотя бы они и должны были поглотить меня.
Пастор, Брюль и молодой товарищ слушали его и находились под различными впечатлениями. Первый стоял мрачный и раздраженный, второй немного смущенный, хотя и улыбался, третий же с восхищением ловил его слова.
— Я думаю, милый друг, что эта горячность ваша охладится при дворе, — шутливо заметил пастор.
— При дворе? — спросил тихо Брюль. — При дворе, граф? Мы будем иметь счастье видеть вас там?
— Что вы! Нет, нет, никогда в жизни! — отступая, воскликнул Цинцендорф. — Никакая сила не заставит меня принять службу при дворе. Мой двор должны составлять убогие и телом и духом дети Божии. Мое будущее — это применение учения Спасителя в жизни и оживление нашего полумертвого общества любовью Христа. Спаситель воскрешал только раз умерших, тех же, которые умирают два раза, никто не в состоянии воскресить, а такие умирающие — это те, которые, получив жизнь при святом крещении, добровольно убивают ее в себе. Я пойду к тем, в которых живет дух, чтобы раздуть его и воспламенить. При дворе меня бы осмеяли; там же я исполню то, к чему чувствую призвание.
— Однако, ваше семейство… — начал пастор.
— Отец мой, которого я обязан слушать, на небесах… — быстро прервал Цинцендорф.
Брюль скоро убедился, что ему здесь делать нечего. Цинцендорф пугал его своим разговором, он отошел с пастором к окну и, немного с ним тихо поговорив, любезно попрощался. Молодому апостолу он поклонился с истинно придворной вежливостью и исчез.
Трудно сказать, у кого он был более искренним гостем, у отца иезуита, или у пастора; верно только то, что обоих их он навещал усердно и одинаково искал их расположения; однако, он заискивал более у Гуарини, чем у Кнефля, хотя в обществе он как будто был незнаком ни с тем, ни с другим.
Выйдя на улицу, Брюль задумался снова. Тут же находился дворец королевича; у ворот его стояли на часах два гвардейца.
Минуту спустя молодой паж скользнул на двор и побежал во флигель. Отворенные двери и освещенные окна позволяли попробовать счастья на новом дворе. Здесь жила старшая ключница двора королевны, графиня Коловрат-Краковская, дама очень почтенная, средних лет, любимица королевы Жозефины, и ласково принимавшая молодого пажа, который сообщал ей все дворцовые сплетни, за что и был угощаем всевозможными лакомствами.
Вход к ней был дозволен ему всегда и во всякое время, чем он пользовался благоразумно, стараясь, чтобы люди не видели его здесь слишком часто и не делали предположений об их отношениях.
В передней в парадной дворцовой ливрее стоял в парике камердинер старшей ключницы, который с низким поклоном, и не говоря ни слова, открыл ему дверь. Брюль вошел на цыпочках.
Зала была почти темная; несколько восковых с длинными светильнями свеч горели на столике, и в темном свете, бросаемом ими, несколько почерневших картин, висящих на стене, получали странные и оригинальные формы. Также тихо было и в следующих комнатах. Сперва только сквозь притворенные двери проникал яркий свет и слышался шум, указывающий, что там есть живые люди; когда заскрипели башмаки Брюля, из дверей показалась детская головка.
Брюль осторожно подошел.
— Это вы, Генрих? — послышался свежий детский голосок. — Это вы? Подождите.
Головка исчезла, но немного погодя, двери широко отворились и вошла восьмилетняя девочка. Но разве можно было так назвать ее? Это была восьмилетняя графиня или, пожалуй, кукла в атласном платье, с кружевами, в шелковых ажурных чулках и в башмачках на высоких каблуках. Головка ее была завита и напудрена. Нет, это был не ребенок, а дама. С улыбкой приветствуя Брюля, она присела, как было принято при дворе и как ее выучил сам балетмейстер, г. Фавиэ, также как приседала она перед королем Августом, начиная менуэт.
Личико ее было так комически серьезно, что, взглянув на нее, невольно приходили на мысль фарфоровые херувимчики во фраках, изготавливаемые в Мейзене.
Она присела перед Брюлем, который отвесил ей поклон, как будто старушке; большими черными глазами посмотрело на него это дитя, как бы требуя должного почтения за ее восхитительный поклон, но в то же мгновение напускная серьезность оставила ее, и она разразилась хохотом. Комедия была окончена.
— А, это вы, monsieur Генрих!
— А ее сиятельство?
— Мамино сиятельство молится у королевы. Падре Гуарини читает литии и размышления, а я скучаю. Здесь остались только собачка Филидорка, madame Браун и я, бедная сиротка. Послушай, Брюль, пойдем, поиграем со мной, я буду королевой, ты моим главным управляющим. Но Филидорка? Кем будет Филидорка?
— Панна Франциска, я с вами играл бы во все, во что бы вы ни захотели, но я должен идти к королю, не играть, но служить.
— В таком случае вы не любезный кавалер, — отвечала маленькая графиня, приняв прежний серьезный вид, что делало ее невыразимо смешной, — я вас любить не буду, и если вы когда-нибудь влюбитесь в меня…
— Еще бы, конечно, — воскликнул, смеясь, Брюль, — притом очень скоро!
— Увидите тогда, какие гримасы я буду делать и как я буду с вами жестока, — прибавила Франя.
Говоря это, она повернулась к нему спиной и взяла со стула лежащий на нем веер. Перегнув назад головку и надув губки, она взглянула на Брюля с невыразимым презрением. В глазах восьмилетней девочки отражался весь двор, весь свет, вся испорченность и легкомысленность, господствовавшие тогда.
Брюль стоял в восхищении, и сцена эта продолжалась бы быть может еще дольше, если бы не послышался смех и шум, производимый атласным платьем.
— Брюль, и ты завлекаешь мою дочь!
Особа, сказавшая эти слова, была высокого роста, с величественной осанкой, еще очень красивая, и в особенности имеющая вид в высшей степени аристократический. Это была мать Франи, графиня Коловрат-Краковская, главная ключница двора молодой королевы.
Увидев мать, Франя нисколько не смутилась, но опять церемониально присела и только тогда подошла к ней и поцеловала ей руку. Брюль, выпрямившись, с вдохновением смотрел в черные глаза графини.
Первая, да, пожалуй, и вторая ее молодость прошла уже, но обе оставили после себя черты лица нетронутыми, как бы изваянными из белого мрамора, который оживлялся, благодаря искусственному румянцу. Черные, как смоль, волоса ее не напудренные, но искусно связанные, увеличивали белизну кожи. Несмотря на изящество ее форм, казалось, что она обладает большой силой. Немного прищурив глаза, она посмотрела на пажа.
— Франя, — сказала она. — Ступай к madame Браун, мне нужно поговорить с Генрихом…
Девочка с улыбкой взглянула на мать, покачала головкой и убежала из комнаты.
Главная ключница, быстро обмахиваясь веером, стала ходить по зале и, нагнувшись к Брюлю, стала с ним интимно беседовать.
Брюль, сложа назади руки, шел рядом с ней, выказывая ей большое почтение, хотя раза два и приблизился чересчур близко. Этой таинственной беседы даже картины, висевшие на стене, не могли слышать.
Спустя полчаса паж сидел уже в передней короля и, казалось, дремал.
III
Прошло десять лет от этого пролога жизни Брюля, от этих первых сцен продолжительной драмы. Брюль был все тем же сияющим, милым, любезным, очаровательным юношей, привлекательности которого не могли даже сопротивляться и враги его; но он поднялся уже очень высоко, сделавшись из пажа секретарем его высочества.
При пышном дворе этого Северного Людовика [10], которого льстецы часто сравнивали с королем Солнцем, воздавая тому честь Аполлона, а этому честь Геркулеса, постоянно сменялись люди, любимцы, фаворитки. Через несколько лет после удаления Паули, которого место так счастливо занял Брюль, любимец короля Августа был сделан его камер-юнкером. После смерти старого Флеминга он наследовал тайную канцелярию его величества. Покорный, неподражаемо вежливый и всем уступающий, Брюль каким-то чудесным образом, как шептали при дворе сумел свалить двух своих врагов, министров Флери и Монтефля, но когда ему об этом говорили, он краснел, божился и не признавался.
Вскоре после этого он был назначен камергером и получил ключ к фраку, потому что ключ от сердца, комнат и шкатулки его величества он имел уже давно. Наконец, его сделали подкоморием и нарочно для него образовали новую должность гроссмейстера гардероба. В состав этого гардероба входили галереи, собрание произведений искусства и разные отделения домашнего управления Августа II, который не мог никак обойтись без этого ни с чем несравнимого Брюля. Без него не могли обойтись и очень многие другие… а он как будто сам во всех нуждался, как будто боялся каждого, кланялся, улыбался, оказывал почтение даже привратникам у дворцовых ворот.
Король Август Сильный с того времени, когда так молодецки действовал бокалом, саблей и на лошади, заметно состарился. Он все еще сохранял осанку Геркулеса, но уже не было его силы. Он уже не забавлялся ломанием подков или отрубанием голов лошадям.
Изящный, улыбающийся, он ходил с палкой, а когда, любезничая с дамами, ему приходилось стоять слишком долго, он отыскивал глазами табуретку, и давало себя чувствовать то место на ноге, от которого лейб-хирург короля Вейс, спасая государя, отнял палец, причем ручался за успех головой. Голова была спасена, но пальца не стало, и король не мог долго стоять на одной ноге. Это было воспоминание золотого времени, того турнира, на котором он победил сердце княжны Любомирской. Симпатии короля, одна за другой, все на золотых крылышках разлетелись по свету; даже последняя… Ожельская, теперь княжна Гольштейн-Бек была матерью семейства… и именно в этом году (1732) во время карнавала произвела на свет будущего главу княжеской фамилии.
Король скучал бы смертельно, если бы не приглашенная из Италии для исполнения главной роли в опере: "Клеофида или Александр в Индии", прелестная Фаустина Бордони, которая своим соловьиным, чарующим голоском рассеивала его мрачные мысли. Итальянку выдали замуж за известного артиста Гассе, а для того, чтобы он мог совершенствоваться в своем искусстве и не мешать жене, его послали в Италию, велев ожидать… дальнейших приказаний. Гассе, тоскуя, творил гениальные произведения.
В этом году карнавал тоже должен был быть великолепен. Не хватало немного денег, чего его величество допустить не мог, и вот Брюль, который все так мастерски исполнял, был признан за единственного человека, который может возвратить спокойствие королю.
Во время карнавала, в понедельник, король торжественно вручил Брюлю директорство акциза и податей.
Напрасно скромный и обремененный тяжелыми обязанностями юноша отказывался от этой чести, считая себя недостойным ее: король Август II терпеть не мог противоречия, не любил никаких отговорок и заставил его принять ключи от кассы.
Брюль должен был наблюдать, чтобы золото непрерывно плыло в кассу, хотя бы и перемешанное с потом и слезами.
Это уже не был прежний смиренный паж, но муж, с которым должны были сводить счеты самые сильные. Король не позволял сказать на него дурного слова и тотчас грозно хмурился. В нем одном он находил все то, что прежде должен был искать в десяти. Брюль был знатоком живописи, любил музыку, умел добыть грош оттуда, где его не было, был где нужно глухим и слепым, и всегда послушным…
Брюль получил от короля в подарок дом, из которого он сделал настоящую игрушку.
Вечером в последний вторник [11], который пышно и великолепно должен быть проведен во дворце, новый директор акциза, вчера только лишь утвержденный в этой должности, в своем собственном доме (которого нельзя было назвать еще дворцом), отдыхал в кресле и, казалось, чего-то ожидал. Комната, в которой он сидел, могла служить кабинетом самой разборчивой из женщин, испорченных роскошью двора.
В резных золоченых рамках блестели зеркала; стены были обтянуты бледно-лиловой шелковой материей; на камине, этажерках и столиках было множество фарфоровых и бронзовых безделушек, пол был выстлан мягким ковром. Брюль, вытянув ноги, удобно поместившись в кресле и откинувшись на его спинку, со сложенными руками, которые были еще красивее, окруженные богатыми манжетами и сияя несколькими перстнями, казался погруженным в раздумье и соображения. Иногда только, заслышав внутри дома скрип каких-нибудь дверей, он приподнимался и прислушивался, и так как никто не приходил, опять возвращался к своим прерванным мыслям. Несколько раз взор его падал на часы, стоящие на камине, так как обремененный столь многими обязанностями, он должен был считаться с временем так же, как считался с людьми и деньгами.
Лицо его, несмотря на труд и волнения, не потеряло свежести и блеска глаз. Это был человек, обещавший надолго сохраниться и имеющий более надежды, чем воспоминаний.
Внутри дома стали отворяться двери. Брюль прислушался; шаги приближались: тихая, осторожная походка позволяла догадываться, что она принадлежала человеку, который обыкновенно ходил к другим, но к которому эти другие никогда не ходили.
— Это он, — прошептал Брюль и приподнялся в кресле, — да, это он.
Послышался легкий, почтительный стук в двери, как будто кто-то ударил мягкими пальцами по бархатной портьере.
Брюль тихо сказал: "Herein" [12], и двери отворились и заперлись, не издав ни малейшего звука. В них стоял человек из сорта тех, которых можно встретить только при дворах, так как они как будто родятся придворными, и хотя колыбель их стояла в конюшне, гроб, наверное, будет стоять во дворце.
Он был высокого роста, силен, ловок, гибок, как клоун; но осанка его была ничто в сравнении с лицом. При первом взгляде на этом лице ничего нельзя было прочитать. Черты без выражения, холодное лицо, общее, весьма обыкновенное, что-то ни красивое, ни дурное, но останавливающее на себе внимание.
Под морщинами, которые исчезали, когда он молчал, были припрятаны все пружины, приводящие в движение лицо. Он стоял у двери спокойно, до того сжав губы, что их почти не было видно, и покорно ждал, когда к нему обратятся.
По костюму нельзя было судить о его положении в свете. Он не был роскошен и не бросался в глаза. Темное платье, стальные пуговицы, камзол скромный, вышитый, остальной костюм тоже черный; на башмаках пряжки, крытые лаком и почти невидимые, сбоку шпага со стальным эфесом, на голове парик, который был надет как неизбежная необходимость и потому казался скорее официальным, чем изящным. Под мышкой он держал черную шляпу без галуна; одна рука была обтянута перчаткой, и даже батистовые манжеты он забыл обшить кружевами.
Брюль, увидав вошедшего, быстро поднялся, как бы отброшенный пружиной, и, пройдясь по комнате, сказал:
— Ганс, у меня только полчаса свободного времени, и я призвал тебя для серьезного разговора. Отвори, пожалуйста, двери и взгляни, нет ли кого в передней.
Послушный Ганс, имя которого было Христиан, а фамилия Геннике, тихо отворил двери, окинул глазами переднюю и дал знак рукой, что они одни.
— Ты знаешь, вероятно, — начал Брюль, — что вчера его величество изволило назначить меня директором акциза и вице-директором податей.
— Я пришел именно с тем, чтобы вас поздравить, — отвечал Геннике, кланяясь.
— Право, не с чем поздравлять, — прервал его Брюль, принимая на себя вид человека недовольного и озабоченного. — Это опять новое бремя на мои слабые плечи.
— Которые, однако, не согнутся под ним, — заметил, кланяясь, стоящий у двери.
— Ганс, — обратился к нему Брюль, — все дело в двух словах: — хочешь ли ты присягнуть мне, что будешь верен и послушен? Хочешь ли вместе со мной рисковать сломать себе шею? Отвечай…
— Вдвоем, мы никогда не сломим ее, — с тихой и холодной улыбкой шепнул Геннике и покачал головой.
— Посильнее нас ломали.
— Да, но они были менее ловки, чем мы. Сила и могущество это нуль, если не уметь пользоваться ими. А мы, я вас уверяю, сумеем. Я согласен, но с условием, чтобы у меня ничем не были связаны руки.
— Помни только, — холодно заметил Брюль, — что это не пустые слова, но клятва.
С какой-то злой иронической улыбкой Геннике поднял руку с двумя пальцами кверху и сказал:
— Клянусь… но чем, хозяин и государь мой?
— Перед Богом, — отвечал Брюль, набожно нагнув голову и сложив руки на груди. — Геннике, ты знаешь, что я искренно набожен и никаких шуток…
— Ваше превосходительство, я ни над кем и ни над чем никогда не шучу. Шутки вещи дорогие, многие заплатили за них жизнью.
— Если ты пойдешь со мной, — прибавил Брюль, — я в свою очередь обещаю дать тебе власть, значение и богатство…
— Особенно последнее, — прервал Геннике, — так как в нем заключается все остальное… Богатство…
— Ты забыл, вероятно, о судьбе того, который, несмотря на свое богатство, очутился в Кенигштейне?
— А знаете ли вы, почему? — спросил стоящий у дверей.
— Немилость государя, немилость Бога.
— Нет не то, а пренебрежение туфлей. Умный человек должен поставить на алтаре туфлю и на нее молиться. Женщины все делают.
— Однако же, и сами падают; а Козель? Козель в Стольфене.
— А кто подставил ногу Козель? — спросил Геннике. — Присмотритесь получше и увидите прелестную ножку госпожи Денгофер и маленькую туфельку, под которой сидел великий король.
Брюль помолчал и вздохнул.
— Ваше превосходительство, начинаете новую жизнь. Вы ни на минуту не должны забывать, что женщина….
— Я сам помню это, — сердито отвечал Брюль. — Итак, Геннике, ты со мной?
— На жизнь и на смерть! Я человек незначительный, но во мне много опытности; поверьте мне, ум мой, воспитавшийся и созревший в передних, не хуже того, который в залах подается на серебряных подносах. Перед вами мне незачем скрываться и для вас это не тайна; Геннике, которого вы видите перед собой, вышел из дрянной скорлупы, которая лежит где-то разбитая в Цейтце. Долго я перед другими, как лакей, отворял двери, и, наконец, они открылись передо мной. Первое мое испытание было на акцизе в Люцене.
— Поэтому-то в деле акциза и податей ты мне и нужен. Король требует денег, а государство истощено; стонут, плачут, жалуются.
— Зачем же их слушать, — холодно возразил Генннке, — они никогда не довольны и вечно будут пищать. Их нужно прижать как лимон, чтобы выжать сок.
— Но чем и как?..
— Есть над чем задуматься, но мы найдем средства.
— Будут жаловаться.
— Кому? — расхохотался Геннике. — Разве нельзя загородить всех дорог саблями, а тех, которые слишком громко выразят свое недовольство, разве мы не можем, ради спокойствия нашего государя, посадить в Кенигштейн, отправить в Зоненштейн или заключить в Плейзенбург?
— Да, это правда, — задумчиво сказал Брюль, — но это не даст денег.
— Напротив, это-то их нам и доставит. Разнузданность ведь ужасная. Шляхта начала подавать голос, мещане завывать, а тут и мужичье заревело.
Брюль слушал с большим вниманием.
— Денег нужно очень много, а нынешний карнавал, ты думаешь, даром пройдет?
— Конечно, и все что спустит двор, пойдет к тому же народу, а не в землю; следовательно, у них есть чем платить. В деньгах мы нуждаемся для государя, — прибавил он, поглядывая на Брюля, — а и нам они бы пригодились. И вашему превосходительству, и вашему покорному слуге.
Брюль улыбнулся.
— Конечно, с какой же стати работать в поте лица даром!
— И взять на душу столько проклятий.
— Ну, что касается проклятий, Бог не слушает этих голосов. Король должен же иметь все, что ему нужно.
— А мы — что следует, — прибавил Геннике. — Воздадите Божие Богови, кесарево кесареви, а сборщиково — сборщику.
Брюль в раздумьи остановился перед ним и после короткого молчанья сказал тихо:
— Поэтому-то имей глаз открытым, ухо внимательным, работай и за меня, и за себя, доноси мне обо всем, что нужно: у меня и без того столько хлопот в голове, что ты мне положительно необходим, и я один не слажу со всем этим.
— Положитесь на меня, — возразил Геннике. — Я отлично понимаю, что, трудясь для вас, я тружусь для себя самого. Я не обещаю вам платонической любви, потому что так, кажется, называют, если кто целует перчатку. Каждое дело должно быть предварительно выяснено. Я буду помнить о себе, буду помнить о вас и короля не забуду.
Он поклонился, и Брюль, похлопав его по плечу, прибавил:
— Геннике… Я помогу тебе высоко подняться.
— Только не слишком и не на новом рынке [13].
— Об этом не беспокойся. А теперь, мой мудрец, какой ты мне дашь совет? Как удержаться при дворе? Войти на лестницу — вещь не великая, но не свалиться с нее и не свернуть шеи — это похитрее.
— Я могу вам дать только один совет, — начал бывший лакей. — Все нужно делать через женщин. Без женщин ничего не сделаете.
— Положим, — возразил Брюль, — есть другие пути.
— Я знаю, что вы, ваше превосходительство, имеете за собой падре Гуарини и отца…
— Тс, Геннике!
— Я молчу, а все-таки, прибавлю, пора вашему превосходительству подумать и о том, что власть женщины много значит: никогда не помешает иметь запасную струну.
Брюль вздохнул.
— Я воспользуюсь твоим советом, оставь это уж мне. Оба замолчали.
— В каких отношениях находитесь вы с графом Сулковским? — шепнул Геннике. — Не нужно забывать, что солнце заходит, что люди смертны и что сыновья заступают на место отцов, а Сулковские Брюлей.
— Этого нечего бояться, — улыбнулся Брюль, — он мне друг.
— Мне бы более было желательно, чтобы его жена была вашим другом, — заметил Ганс, — на это я больше бы мог рассчитывать.
— У Сулковского благородное сердце.
— Не спорю, но каждое сердце благородное более любит ту грудь, в которой оно бьется, чем всякую другую… Ну, а граф Мошинский?
Брюль вздрогнул и покраснел. Он быстро взглянул на Ганса, как бы желая прочесть, сказал ли он эту фамилию с задней мыслью.
Но лицо Геннике было спокойно и представляло олицетворенную невинность.
— Граф Мошинский не имеет никакого значения, — прошипел Брюль, — не имеет и никогда иметь не будет.
— Его величество выдало за него замуж собственную дочь, — медленно произнес Геннике.
Брюль не сказал ни слова.
— У людей злые языки, и поговаривали, — начал опять Геннике, — что панна Козель предпочитала бы иметь мужем кого-то Другого, а не графа Мошинского.
Сказав это, он взглянул в глаза Брюля, который молчал, надменно подняв голову.
— Да, — крикнул он, — да! Он вырвал ее у меня своими интригами, он вымолил ее!
— И оказал этим вашему превосходительству величайшую в мире услугу, — рассмеялся Геннике. — Старая любовь не ржавеет, говорит наша пословица. Вместо одной пружины, вы можете иметь обе.
Они взглянули друг другу в глаза, и по лицу Брюля пробежала тень.
— Будет об этом, — сказал он. — Итак, Геннике, ты мой, рассчитывай на меня. Являйся ежедневно в шесть часов через черные двери… Завтра ты вступаешь в должность и здесь, у меня, будешь иметь канцелярию.
Геннике поклонился.
— И получу первое жалование, соответствующее труду.
— Да, если подумаешь, чтобы было чем заплатить.
— Это мое дело.
— Ну, теперь прощай, уже поздно.
Геннике поцеловал его в плечо и положил руку на сердце, а потом медленно, тихо и незаметно вышел из комнаты. Брюль нетерпеливо позвонил. Тотчас же вбежал испуганный камердинер.
— Во дворце бал начинается через полчаса. Носилки?
— Стоят внизу.
— Домино? Маска?
— Все готово.
Говоря это, камердинер отворил двери и повел Брюля в гардеробную.
Уже тогда эта комната могла считаться особенностью столицы. Кругом у стен стояли большие резные шкафы, в данную минуту все отворенные. Между двумя окнами, которые были занавешены, стоял покрытый стол на бронзовых ногах, а на нем большое зеркало в фарфоровой узорной раме, на которой были изображены цветы и херувимы; вокруг него зимой и летом цвели розы, обвивал его плющ и нагибал свои головки ландыш, из зелени выглядывали вечно смеющиеся головки сотворенных искусством существ, которых неизвестно как следует назвать; ангелами ли, амурчиками, птичками или цветками? Наверху сидело их двое: оба бедные, нагие, как их Бог сотворил, и горячо обнимались, желая позабыть о своей нищете; хотя на плечах у них и были крылышки, но они уже не желали летать.
На этом столе перед зеркалом стоял целый прибор для туалета, как бы у женщины. В шкафах виднелись полные костюмы, начиная от башмаков и шляпы, кончая часами и шпагой; а все это было размещено в величайшем порядке. Мода и обычай требовали, чтобы все сменяли свою наружность и сходились в одном месте, как бы рожденные внезапно, благодаря одному мановению руки какого-нибудь чародея.
На сегодняшний вечер не столько был необходим костюм, сколько домино. В отдельном шкафу лежали различные маскарадные принадлежности, висели плащи, шляпы, капюшоны и домино. Брюль остановился, недоумевая, что выбрать. Конечно, это был важный шаг. Король любил, чтобы во время маскарада гости не узнавали друг друга. Может быть, и Брюль не хотел, чтобы его тотчас узнали. Камердинер, следующий за ним с двумя свечами, ожидал приказания.
Быстро повернулся новый директор.
— Где тот костюм венецианского дворянина, которым я не успел воспользоваться в декабре?
Камердинер подбежал к шкафу, стоящему в углу и закрытому дверцей другого, рядом стоящего шкафа. Брюль тотчас заметил черный бархатный костюм.
Он начал быстро одеваться. Платье сидело великолепно, и в нем юноша казался еще благороднее, величественнее и ловчее. Все положительно было черно, даже перо при шляпе и покрытая лаком шпага.
На груди только сияла тяжелая золотая цепь, на которой Брюль повесил медаль с изображением Августа Сильного.
Так одевшись, он осмотрел себя в зеркале и надел на лицо полумаску. А для того, чтобы еще более быть неузнаваемым, он приклеил на чисто выбритом подбородке испанскую бородку, которая казалась совершенно натуральной и могла обмануть даже хороших знакомых. Он переменил перстни на пальцах, повернулся несколько раз и начал быстро спускаться с лестницы.
Портшез, так назывались тогда носилки, стояли в сенях. Двое носильщиков были уже заранее переодеты по-венециански, в красных шерстяных шапках на голове и бархатных накидках на плечах. У обоих тоже были маски на лице. Лишь только спереди носилки были заперты и опустились зеленые занавески, как носильщики подняли их вверх и побежали по направлению ко дворцу.
У главных ворот стояли гвардейские часовые и не впускали никого, кроме экипажей знатных и богатых носилок. Народ толпился, но часовые отталкивали его, подставляя свои зубчатые секиры. Одни за другими въезжали освещенные факелами экипажи и носилки. Во дворе набралось уже множество прислуги. Дворец словно горел бесчисленными огнями, так как в этот день гостей принимали два двора и два хозяйства. У одного стола — сам король, у других — сын его с супругой. Из залы короля в залу королевича вел целый ряд освещенных комнат, в которых уже через окна можно было видеть тени снующих масок. Носилки Брю-ля остановились у подъезда, двери которого распахнулись, и венецианский дворянин, точно настоящий сын дожа, выскочил из носилок. В минуту, когда он начал подниматься на каменную, покрытую коврами лестницу, Бог знает откуда появилась фигура другого итальянца, но совершенно другого рода. Это был мужчина в маске, на целую голову выше Брюля, плечистый, сильный, держащий себя прямо, как воин; грудь у него выдалась вперед, одет он был отлично и точно сошел со старой картины Сальватора Розы. В этом костюме он был великолепен, как будто он для него только и был сотворен.
На голове у него был надет шлем, без забрала, на груди панцирь, который испещряли изящными узорами золотые жилки; короткий плащ на плечах, шпага с боку и кинжал у пояса довершали костюм. В руке он держал надушенные перчатки, а на белых пальцах сияло несколько перстней. На лице у него была удивительная и странная маска, страшная и суровая, с длинными усами и клочком волос на бороде. Брови, изогнутые в виде буквы S, сходились в середине и переходили в морщины. Брюль только взглянул на эту отталкивающую маску и стал подниматься на лестницу, но итальянец, очевидно, хотел его догнать и вступить в разговор.
— Синьор! — звал он шипящим голосом. — Corne sta? Va bene? [14]
Брюль ответил ему только наклонением головы, но тот приблизился к нему и шепнул что-то на ухо, так что Брюль сердито отскочил. Маска же расхохоталась и указала на него пальцем.
— A rivedersi, carrissimo, a rivedersi! [15]
И он тихо пошел за ним; из королевской залы долетали уже звуки музыки, а ему, очевидно, нечего было торопиться, он шел медленно, упершись рукой в бок и лениво двигая своими длинными ногами. Когда он вступил на последние ступени лестницы, он потерял из вида Брюля, затерявшегося в толпе. Все залы и комнаты были переполнены гостями. Блеск огней, красота богатых костюмов, сияющие алмазы женщин положительно ослепляли глаза.
Все это волновалось, шумело, пищало, смеялось, прыгало, исчезало и опять показывалось перед глазами зрителя.
В пышных польских костюмах с саблями, украшенными дорогими камнями, прогуливалось несколько легко узнаваемых сенаторов, на лицах которых, только ради приказания короля, черные полоски изображали из себя маски. Чаще всего в этой толпе бросались в глаза турки, мавры, испанцы, несколько монахов, с опущенными на лицо капюшонами, несколько летучих мышей, несколько мифологических богинь с открытыми прелестями и закрытыми лицами и множество венецианцев, похожих на Брюля.
Были здесь и шуты, и паяцы.
Даже дети с колчанами и крыльями за плечами сновали в этой толпе, как бы угрожая бессильными стрелами; но их никто не боялся.
Королева Елизавета, Мария Стюарт, Генрих IV… Кого только там не было? Король с палкой с золотым набалдашником медленно расхаживал, задевая женщин и стараясь узнать их, что ему было очень легко, так как он хорошо знал всех тех, по крайней мере, которые стоили того, чтобы быть узнанными.
На других маскарадах он мог бы встретить какую-нибудь столичную красавицу, не имеющую доступа ко двору; но в этот вечер во дворец были допущены только экипажи знатных, богатые носилки и маски, наружность которых доказывала, что они не принадлежат к плебеям.
В залах хозяйками были самые красивые дамы, в столовых и буфетах устроены были хозяйства: китайские, японские, турецкие и т. д. Каждая из придворных дам должна была принимать и угощать почтенных гостей.
За королевскими залами такие же столы находились в распоряжении королевы Жозефины и ее двора.
У одного из них сияла молодая графиня Франциска Коловрат: та же самая шалунья Франя, которая, имея восемь лет, умела так хорошо представлять из себя опытную придворную девицу… Теперь это была свежая девушка, кокетливая, веселая, гордо посматривающая на всех и вся покрытая бриллиантами; костюм пастушки не помешал ей выставить на показ все фамильные драгоценности.
Другие красавицы двора скрывались под более или менее прозрачными масками; но их выдавала походка, ручка, родимое пятнышко на белой шее, или даже самый костюм.
Королева Жозефина мало принимала участия во всеобщем веселье; да и находилась она здесь, только желая угодить тестю и мужу. Гордая ее осанка, строгое и некрасивое лицо и холодное обхождение не привлекали никого. Все знали, что она не любила пышных увеселений и предпочитала им семейную жизнь, молитвы и… сплетни. Строгая как для себя, так и для других, она внимательно посматривала на тех, которые вращались около нее. В окружающей ее атмосфере господствовали холод и принужденность. Никто не решался позволить себе свободно пошутить, так как тотчас встречал суровый взгляд королевы. Даже в маскараде, в последний вторник, Жозефина не забыла, что она дочь Цезаря.
Тут же стоял вежливый и молчаливый королевич Фридрих, довольно красивый и с величественной осанкой, но холодный, как статуя, и соблюдающий церемонии. Ему было приятно смотреть на веселье других, но сам он не принимал в нем никакого участия. Он только величественно приглашал гостей и иногда бросал только словечко к окружающим его близким людям. Несмотря на молодость, в нем проглядывала вялость физическая и в особенности нравственная. За ним стоял, ожидая приказаний, пышно и великолепно одетый Сулковский. Королевич часто поворачивал к нему голову, взглядывал в глаза, спрашивал и, получив ответ, с удовольствием наклонял голову.
Смотря на них обоих вместе, легко можно было догадаться о тех отношениях, в которых они находились между собой; первый — слуга, был больше господином, нежели сам господин, который только по наружности был государем, не чувствуя этого. Сулковский, напротив, принимал величественные позы и с аристократической надменностью посматривал на снующие кругом фигуры.
По красоте лица тоже уступал ему король, который, несмотря на молодость, здоровье и свежесть, очень напоминал собой обыкновенного немца.
Зато у столов Августа Сильного и вокруг его особы собралось самое веселое общество. Декольтированные маски то и дело задевали его величество, посматривающего сверху пресыщенным взором на маски, которые уже не имели для него ничего привлекательного.
Брюль вошел, как ему казалось, не будучи узнанным; жадными глазами он искал кого-то и хотел узнать под костюмом. Незамеченный, он проскользнул по зале мимо столов, желая убедиться, нет ли тех, кого он искал, при хозяйствах. Он не замечал, что встреченный им на лестнице итальянец издали следовал за ним.
Геркулесовское его сложение и свобода, с какой он шел по залеу не обращая ни малейшего внимания на тех, которые попадались ему навстречу, привлекали к нему женщин. Одна или две хотели его интриговать, но он, смеясь, шепнул им на ухо их фамилии… и они разбежались.
Король тоже с любопытством взглянул на него и заметил, обращаясь к Фризену:
— Если б здесь был кто-нибудь из прусских князей, они тотчас завербовали бы его в гренадеры. Кто он?
Но никто не мог дать удовлетворительного ответа. Между тем, итальянец исчез за колоннадой.
В то же самое время Брюля остановила цыганка, старая, высокого роста женщина, с палкой в руке, в шелковой широкой накидке, вся в бусах, блестках и цветных украшениях. Полумаска позволяла видеть желтый, покрытый морщинами лоб гадальщицы. Она протянула руку и как-то, не то шипя, не то пища, потребовала у Брюля руку, обещая ему погадать. Тот не имел ни малейшего желания узнавать свое будущее и поэтому хотел отступить, но цыганка настойчиво требовала руки.
— Non abbiamo paura [16]. Я вам предскажу хорошее…
Брюль протянул руку в перчатке.
— Я не гадаю по перчатке, но только по руке, — смеясь, сказала она, — сними…
На колонне, около которой они остановились, висела люстра с шестью свечами, цыганка подняла белую руку Брюля ладонью кверху, внимательно рассмотрела ее и покачала толовой.
— Великая судьба, блестящее будущее, — сказала она. — Во всем удача, а счастья мало…
— Это загадка, — прервал Брюль. — Как же иметь во всем удачу, а не иметь счастья?..
— Это также легко, как быть счастливым, несмотря на бедность и несчастную судьбу! — воскликнула старая, изменив голос. — А знаешь ли ты, почему ты не будешь наслаждаться счастьем? Потому что у тебя нет сердца.
Брюль саркастически улыбнулся.
— Ты никого не любишь.
Он молча покачал отрицательно головой.
— Продолжай, маска, продолжай, что же далее?
— Ты не благодарен, — тихо прошептала она ему на ухо, — ты слеп, ищешь только величия.
— Меня очень радует, — переменив голос, возразил Брюль, — что ты, очевидно, принимаешь меня за кого-то другого.
Маска в ответ на это написала ему на ладони: "Брюль". Он быстро вырвал руку и бросился в сторону; цыганка хотела его удержать, но он исчез. Может быть, ему приятнее было вздохнуть свободнее в этой толпе, не будучи узнанным и задеваемым. Он блуждал до тех пор, пока не показалась маска, приковавшая к себе все его внимание.
Ее фантастический, восточный костюм указывал в ней какую-то царицу… Семирамиду или Клеопатру, это было довольно трудно угадать, потому что тогда в костюмах фантазия играла большую роль, чем историческая верность. Заботились о том, чтобы быть одетой красиво и пышно, а не о том, чтобы с точностью археолога воскресить умершую старину.
И царица Семирамида хотела быть только величественной властительницей, чего с ее осанкой и костюмом легко было достигнуть. Она была одета в платье из золотой парчи с длинным шлейфом; на него падал с головы от короны прозрачный вуаль, на шее ожерелье из огромных аметистов. В руке она держала скипетр и была опоясана поясом, усаженным попеременно аметистами и алмазами: при том королева имела осанку, движения и походку настоящей властительницы народов и сердец. На красивой белоснежной шее красиво вились темные кудри волос, напудренных золотом, а нижняя часть лица, молодая и безупречной красоты, имела в себе что-то повелительное. В маленьких розовых ушах висели серьги, состоящие из бриллиантов и огромных жемчужин, из которых самая большая красовалась на короне. Когда она проходила, все сторонились с дороги, не смея заговорить с ней. Она шла, равнодушно посматривая по сторонам. Брюль стоял около колонны; увидав ее, он немного колебался и потом поклонился ей, прикоснувшись рукой к шляпе. Она остановилась на мгновенье; тогда он протянул руку, и она нехотя подала свою… Он быстро написал ей на ладони две буквы. Она пристально посмотрела на него, но ей как будто было все равно, что ее могли узнать, и, постояв секунду, она пошла далее. Брюль, не будучи в состоянии противиться ее обаянию, тихо пошел за ней. Несколько раз она повернула голову в сторону и, видя, что он упрямо следует за ней, остановилась. Между зелеными кустами (так как эта зала представляла из себя сад весной) стояла незанятая скамейка; царица села на нее, а венецианец остановился тут же. Она долго смотрела на него и велела ему подать руку, что он тотчас исполнил и почувствовал, как она написала пальчиком на его ладони Г. Б. и засмеялась. Он приблизился еще ближе и стал около померанцевого дерева.
— Что я вас узнал, графиня, это неудивительно, — прошептал он. — Я узнал бы вас везде и не в этом королевском костюме, который для вас очень подходящ; но что вы могли меня узнать…
— В костюме одного из Совета Десяти, — послышался голос из-под маски, — но он именно для вас и подходящ.
— Графиня, вы восхитительны!
Она приняла этот комплимент совершенно равнодушно.
— Но будучи прекрасной, как божество древних, изваянное из мрамора, вы и холодны, как мрамор… как мрамор без души.
— Что же далее? — спросила маска. — Скажите что-нибудь поинтереснее, а это я уже слышала много раз.
— Но что же, как не это, могу я сказать вам, графиня! — воскликнул Брюль дрожащим голосом. — Как только я взгляну на вас, во мне кипит месть, гнев, зависть, и с губ чуть не скрывается проклятье.
— Какая поэзия! Что же далее?
— Если б я только смел, я проклинал бы вас и тот день, и час, в который я вас впервые увидал, — произнес Брюль с чувством. — Но стоит только на вас взглянуть, и я бессилен. Вы имеете надо мною какую-то власть.
— Так ли это? — поворачиваясь и смотря на него, холодно спросила она.
— Нужно ли клясться, да и к чему вам моя клятва, когда вы другому поклялись перед алтарем.
— Я не требую клятвы, — спокойно возразила она, — я хочу убеждения, что это так, а его часто не даст клятва.
Она долго смотрела на него.
— Моя любовь…
— Послушайте, Брюль, я верю, что вы были влюблены в меня. В этом нет ничего удивительного: я молода, имела имя и будущее для того, кто должен был получить мою руку; но это могла быть такая любовь, какие мы видим ежедневно, воспламеняющаяся утром и потухающая вечером. Я такой любви не желаю.
— Моя любовь, кажется, дала вам доказательство; она началась еще в детстве и живет еще, несмотря на то, что вы отняли всякую надежду; будучи отталкиваема, она возвращается; презренная, она все еще не потухла.
— Любовь это или самолюбие? — спросила маска. — В твоих поступках, Брюль, главную роль играет самолюбие.
Брюль немного помолчал и покачал головой.
— Не спорю, что, потеряв надежду на счастье, хочу теперь быть страшным и сильным.
Маска взглянула на него и, подпершись рукой, начала медленно и плавно говорить:
— Мы не знаем, что ожидает нас в будущем. Я буду с тобой откровенна: я тоже не была к тебе равнодушна, с тобой я была бы счастлива, так как у нас одинаковые характеры и мысли, но так лучше… муж и жена это сражающиеся на смерть враги, мы же можем быть верными друзьями.
— Друзьями! — прервал венецианец. — Как страшен этот гробовой покров, это имя друга!
Маска подняла голову и иронически ей покачала, причем бриллианты в ее короне ослепительно заблистали, ручкой же она ударила по руке Брюля.
— Муж будет любовником, а я другом, то есть отвергнутым слугой.
— Муж любовником? — засмеялась маска. — Где ты слыхал об этом? Эти два слова противоречат друг другу. Мой муж, мой муж! Да я его ненавижу, он мне гадок, я его терпеть не могу!
— Однако же, вы вышли за него замуж.
— Меня выдал отец-король, но это случилось к лучшему, поверь мне. Я с ним свободна и сохраню себя для будущего. Я верю в будущее и в мою звезду.
— Но встретятся ли когда-нибудь наши звезды?
— Если это предназначено, то должны встретиться.
— Вы говорите это, графиня, таким холодным, равнодушным тоном.
— Потому что я всегда умею владеть собой, люблю ли я, или ненавижу. Чувство, которое не умеют скрывать, становится добычей людей.
— Но как же верить в него, не видя?
— Что же такое по-вашему вера? — засмеялась прелестная маска. — Кто любит, должен чувствовать и угадывать, а кто не разгадает сердце женщины, тот его недостоин.
Сказав эти слова, она вдруг встала и исчезла в толпе прежде, чем Брюль мог опомниться. Он еще стоял ошеломленный и счастливый, когда к нему в припрыжку подбежал очень странный паяц, так как, несмотря на шутовской костюм, огромные пуговицы состояли из рубинов, окруженных жемчугов. Казалось, он кого-то искал, но, застав здесь только венецианца, он остановился, оглядывая его с любопытством. Он нагнулся почти до земли, желая заглянуть под маску, но Брюль прижал ее рукой. Тогда он начал прыгать вокруг него с напускной веселостью и шутовскими ужимками.
— Cavaliere nero [17], что сказала тебе королева? Ты ее знаешь? Что?
— Sono un forestiero… Addio! [18], — прошипел ему на ухо Брюль и отошел от него, но паяц, не догоняя его, следил за ним. Колоссальный итальянец тоже не спускал с него глаз.
Немного спустя они встретились у колоннады. Паяц приподнялся к уху итальянца.
— Кто это?
— Брюль.
— Так и есть, — вырвалось у паяца, — я его узнал по той ненависти, которую почувствовал в его присутствии, но уверены ли вы?..
— Я? Я, который ненавижу и презираю его более вас, граф, я узнал бы его в преисподней.
Паяц вдруг отскочил и побежал, увидав издали царицу, и со страстью во взоре стал за ней следить. Итальянец же задумчиво блуждал по залам.
Общество оживлялось все более и более, и те, которые подобно паяцу искали или следили за кем-нибудь, с трудом могли протолкаться в этой толпе. Шум, писк и хохот заглушали музыку. Брюль направился в комнаты молодой королевы. В проходе его остановил монах с опущенным капюшоном и схватил его за руку.
— Ежели ты хотел, чтобы тебя не узнали, — сказал он по-итальянски, — то ты не особенно мастерски переоделся. Тебя каждый узнает, господин директор.
И он засмеялся.
— Но по чем?
— По походке, по ноге, по движениям, по вкусу, с которым ты оделся.
Брюль не мог узнать маски и бросился к ней, но она уже исчезла.
Он готов был поклясться, что это Падре Гуарини, но что мог делать иезуит здесь, в маскараде?
Немного смущенный тем, что его узнали, он очутился в комнате, слабо освещенной лампами. Здесь его остановила женщина высокого роста, ударив веером по руке. Он не сомневался, что она узнала его, он тоже узнал ее с первого взгляда, но, желая быть любезным, он притворился, что не узнает ее.
— Следует поздравить вас… Брюль.
— Право, не с чем.
— Я знаю, что ваша мысль и самолюбие стремится еще выше: но нужно идти по лестнице, иначе шествие будет неудачно. Ты уже и так стоишь высоко, а до сих пор еще не оперся на руку женщины, которая иногда умеет поднять еще выше.
Брюль вздохнул.
— Знаю я, для кого этот вздох, и что у вас делается в сердце. Но нужно забыть неблагодарную царицу и поискать другую, — сказала высокая дама.
— Искать для того, чтобы найдя, быть снова отвергнутым?
— Отвергнет разве та, которая не узнала бы тебя, а такой и жалеть нечего.
Она нагнулась и, шепнув ему что-то на ухо, исчезла в толпе.
Брюль пошел далее. Против него был стол Франи Коловрат, окруженный молодыми людьми. Девушка кокетничала, смеялась, строила глазки и подавала всем то, чего кто желал. Брюль смотрел на нее издали. Она была в высшей степени интересна и привлекательна, в глазах ее блестело остроумие, но с этой холодной любезностью, одинаковой для всех и неистощимой, она показалась ему страшной.
Долго смотрел он на нее, задумавшись, и, не присоединившись к толпе, которая ее окружала, он отошел в сторону. Лишь только он бросился в кресло, чтобы отдохнуть, так как он уже немного устал, и собраться с мыслями, как уже рядом с ним уселся великорослый итальянец. Он посмотрел на Брюля сверху и спросил:
— Не правда ли, прежде тебе была по вкусу царица, а теперь ты думаешь, не пойдут ли дела лучше с этой буфетчицей? Признайся!
Брюль, не желая завязывать разговор, отрицательно покачал головою.
— Это богатая девушка и в передничке принесет кому-то много бриллиантов… Тебе бы это пригодилось… Ведь ты их любишь?
Брюль не ответил ни слова, а сделал только нетерпеливое движение и, скрестив руки на груди, хотел не обращать внимания на то, что говорил его собеседник, и поэтому повернул голову в противоположную сторону. Но итальянец знал, что ни одно его слово не пропадает даром, и поэтому продолжал вполголоса:
— Посмотри только, какие белые ручки, какие, точно изваянные, плечи, какое личико, словно персик, которого пушок не был пошевелен крылышком птички. Это лакомый кусок, если не королевский, то по крайней мере министерский. Но Август И уже стар, а сын его, слишком набожен… Протяни только руку и получишь ее. Что будет потом, не знаю… посмотри, как она улыбается двадцати за раз, а что говорят ее глаза! Именно такая жена нужна такому, как ты, человеку. Гассе, великого музыканта, обвенчали с Фаустиной, и так артист, как ты, должен жениться на такой актрисе. Сегодня она уже великолепно исполняет свою главную роль, а что будет, когда она будет исполнять роли кокеток?
Только невольные движения Брюля позволяли судить, что эти немилосердные уколы достигали своей цели; однако, он не терял присутствия духа и сидел невозмутимо. Притворившись глухим и не смотря на итальянца, он встал и отошел.
Напрасно искал его неутомимый преследователь, так как венецианец исчез. Музыка гремела, и маски начали танцы, которые продолжались до утра.
В залах еще вертелись последние пары, когда в часовне на Ташенберге падре Гуарини посыпал пеплом головы королевы, наследника и их придворных [19].
IV
Несмотря на карнавал и большие постройки, которыми любил забавляться король; несмотря на пышность и роскошь, которая его окружала, Август II, по-видимому, сильно скучал. Его хотели для разнообразия женить; он зевнул и засмеялся: он не хотел справлять свадьбы, так как время было тяжелое, а королевский пир, который должен был бы быть достойным такого государя, стоил бы очень много. У него немного болела нога, и он был печален. Свет уже не мог ничего ему дать; он столько испробовал и дурного, и хорошего, что на дне чаши жизни осталась только одна муть. Самая прекрасная женщина была для него обыкновенной вещью; в его памяти проходил целый ряд лиц, засиявших на одну минуту и также скоро потухавших.
Любомирская сделалась старухой, Козель была заперта, другие рассеялись по всему свету. Не имея возможности быть счастливым, он хотел быть великим, и вот он стал посылать в Африку ученых, а у себя строиться.
Стали воздвигаться огромные здания в новом городе, который, по его приказанию, заменил старый, начинали строить храмы, пирамиды и дворцы.
Король отправился в Кенигштейн, чтобы осмотреть новое здание, и зевал; ездил в Губерсбург и скучал; приказывал вести себя в Морицбург и находил, что он слишком обыкновенен; Дрезден же казался ему положительно противным. Если б ему кто предложил, он может быть велел бы сжечь этот город во время концерта, чтобы его воссоздать и отстроить заново; но этот замысел был уж слишком смел.
В Польше ему казалось, что он любит Дрезден, в Дрездене же он скучал по Варшаве; одним словом, везде ему было не по себе. Второго ноября был праздник патрона охоты св. Губерта [20] и праздновали этот день всегда пышно.
Дворы короля и королевича отправились в Губертсбург, за ними следовали псарни и оба охотничьи отряда, саксонский и польский. Народу было не мало, начиная пажом и кончая ловчим. Великим ловчим двора был фон Лейбниц, великим сокольничим Мошинский. Кроме того, были еще особенные охотничьи войска его величества, которые были специально назначены для медведей и кабанов.
Но король находил св. Губерта уже слишком состарившимся, а охоту чересчур однообразной. Им овладевало какое-то беспокойство. На новый год его привлекла в Лейбнице ярмарка, на которую торговцы обещали доставить прелестных лошадей, но король нашел их препротивными. Актрисы, выписанные, из Бельгии, имели, как и лошади, фальшивые зубы.
К открытию карнавала Август вернулся в Дрезден 6 января и на первом же балу заметил, что все женские лица были уже не те, что были прежде, но какие-то впалые, бледные, без свежести, глаза потеряли свой блеск, и губы побелели.
Он надеялся, что лучше позабавит себя срыванием сейма в Варшаве.
Карнавал он поручил королевичу и падре Гаурини, а сам приказал своему двору готовиться к отъезду в Польшу. Брюль постоянно был при нем. Другие падали, исчезали, менялись, он же из пажа сделался уже министром, и король постоянно нуждался в нем [21]. Деньги и подати потоком текли в кассы, которые никогда не наполнялись.
Шляхта роптала; но это был способ добычи денег и им воспользовались. Двор наполнился чужеземцами. Словно грибы после дождя, выросли при дворе итальянцы, французы, датчане, пруссаки, баварцы, а польская шляхта удалилась, чтобы на пашне делать для короля деньги. Брюль находил, что его величество прав и что самые лучшие слуги те, судьба которых зависела от короля.
Десятого января двор замка наполнен был экипажами, лошадьми, людьми. Дворы саксонский и польский собирались в путь. В залах находились все те, которые должны были сопровождать короля. Август II прощался с сыном и его женой. Нетерпеливость и усталость заменили на лице его прежний блеск и бодрость. С чувством прижимался к отцу королевич Фридрих, с достоинством прощалась королева Жозефина. Фридрих пришел за приказаниями, смотрел отцу в глаза и улыбался. Вдруг вошел Брюль, так как нужно было подписать некоторые бумаги и взять с собой деньги. Ожидали ста тысяч талеров, которые должны были придти.
Король быстро взглянул на пришедшего директора и сделал несколько шагов к нему навстречу.
— Брюль… деньги!..
— Есть, ваше величество, — отвечал с поклоном спрошенный, — приказание вашего величества исполнено.
Лицо государя просияло.
— Слушай, — сказал он сыну, — слушай, я поручаю тебе его… Это слуга, который освободил меня от многих хлопот и неприятностей и который всегда умел мне возвратить спокойствие… помни. Ему я обязан порядком при дворе.
Фридрих, смотря отцу в лицо, ловил каждое его слово и всей фигурой ясно выказывал, что обещает свято исполнить его волю.
— Если бы у меня в Польше было несколько таких, хотя бы даже один, то их Речь Посполитая давно бы пошла к черту, и я завел там бы такой же порядок, как и в Саксонии, — прибавил король. — Те друзья мои и верные слуги: Липский, Гозий и вся их ватага боится шляхты, а меня обманывают. Но скоро я всему положу конец, падет несколько или несколько десятков голов, и будет тихо. Я не потерплю, чтобы эта чернь могла ворчать, когда я приказываю… Будет уж всего этого.
Сын выказывал величайшее почтение и умиление словами отца. Начатое и прерванное прощание снова продолжалось.
Фридрих целовал у отца руку. Камеристы, пажи и служба ожидали его в передней. Тут же стояли чиновники и духовенство, в числе которых был и падре Гуарини, осторожно спрятавшийся в уголок.
Король любезно прощался со всеми. Ловчему он поручил позаботиться о привезенных из Беловежской пущи зубрах, которые паслись около Морицбурга, и сошел к экипажам.
Почтальоны сидели уже на лошадях, придворные спешили на назначенные им места, на дворе с непокрытыми головами стояли дворяне, городской совет и мещане, на которых король только взглянул и велел им сказать, чтобы они платили подати. Немного спустя во дворце и Дрездене было пусто и тихо.
Все могли отдыхать до тех пор, пока король не воротится, и пока опять не начиналась барщина развлекания разочарованного во всем Августа.
В то время, когда весь двор в сопровождении отряда гвардейцев двинулся из дворца на мост, на дворе замка стоял еще одиноко экипаж, который должен был вести Брюля и его имущество. Государев фаворит, только что получив похвалу, сошел на двор, сладко задумавшись; здесь увидал он Сулковского, стоящего с мрачным лицом. Брюль быстро подбежал и схватил друга за руку. Они вошли в нижнюю залу.
На лице Брюля рисовалось живое участие, горячая любовь, искренняя привязанность. Сулковский был холоден.
— Как же я счастлив, что могу еще раз попрощаться с вами, еще раз могу поручить себя вашей памяти и сердцу! — воскликнул он с чувством.
— Послушай, Брюль, — прервал его Сулковский, — я тоже припоминаю тебе наш договор; что бы ни случилось, — мы всегда будем друзьями!
— Разве нужно это напоминать мне, питающему к вам любовь, дружбу, уважение, благодарность!
— Дай же мне их доказательства.
— Я жду только счастливого случая, чтобы доказать вам это. Доставьте мне его, и я упаду вам в ноги, — прервал Брюль. — Я прошу, умоляю, граф! Любезный граф, я то ваш, но вы не забывайте меня. Вы знаете, что у меня на сердце.
— Франциска Коловрат! — сказал, смеясь, Сулковский. — О, будьте спокойны, она будет вашей. На вашей стороне мать.
— Но она сама?
— Не бойся, ее никто не станет завлекать. Нужно обладать таким мужеством, как у тебя, чтобы рассчитывать на такое счастье.
— Меня уже обошло одно и побольше этого, — вздохнул Брюль.
Сулковский, смеясь, похлопал его по плечу.
— Ах ты, плут, неужели ты думаешь, что при дворе что-нибудь скроется? То, что ты называешь потерей, очевидный выигрыш. Не без причины тебя ненавидит Мошинский.
Брюль горячо начал отрицать и поднял руки.
— Но… граф…
— Нечего притворяться, не тебе бы говорить это; ты знаешь Мошинскую и находишься с ней в лучших отношениях, чем если бы она была твоей женой.
Брюль, не говоря ни слова, пожимал плечами.
— Мое сердце принадлежит Фране Коловрат.
— А рука ее ждет тебя и ничего, ничего, и ничего. Старая сама тебе ее вручит. Да и Фране пора уже надевать чепчик, потому что глаза ее страшно блестят.
— Как звезды! — крикнул Брюль.
— Что скажет на это Мошинская?
Тут Брюль как бы опомнился после долгого забытья и опять схватил Сулковского за руку.
— Граф, — сказал он, — не забывайте меня перед королевичем; я боюсь, не слишком ли мало выказал я мое почтение и мою привязанность к нему и мой восторг и восхищение нашей святой и чистой королевой.
— Не забывайте вы нас перед королем, и я не забуду вас перед моим господином. Впрочем, Брюль, у тебя там, есть сторонники. Отец Гуарини обращает тебя, графиня Коловрат хочет иметь тебя зятем. Не ручаюсь, что у тебя там нет еще кого-нибудь.
— И все это ничего не значит, если я не буду иметь вас. Я отдам и Гуарини, и графиню и еще кое-что в придачу за одну вашу дружбу.
— Только не Мошинскую! — со смехом отвечал Сулковский. — А теперь доброго пути и кланяйся всем моим землякам медведям.
— А землячкам? — спросил Брюль.
— Только в таком случае, если которая спросит про Сулковского… но сомневаюсь… по-моему, немки лучше.
— И по-моему тоже, — прибавил Брюль.
Они подошли к дверям, Сулковский его провожал:
— Eh bien, à la vie et â la mort [22]!
Они пожали друг другу руки, и Брюль сел в экипаж. В стороне стоял падре Гуарини в штатском, сером, длинном сюртуке и, сложив руки, благословлял дорогу. Брюль двинулся за своим государем в Варшаву.
V
Это было в первые дни февраля 1733 г. Утром вернулся Фридрих с охоты из Губертсбурга. Вечером была опера, и петь должна была неподражаемая Фаустина. Королевич, подобно отцу, был поклонником ее голоса и красоты. Она держала в руках весь двор, тиранила соперниц, прогоняла тех, которые имели несчастье не понравиться ей, а когда возвышала голос, то в зале делалось тише, чем в церкви, и если кто в это время чихнул, то мог быть уверен, что приобрел в ней непримиримого врага. Вечером шла "Клеофида", и королевич Фридрих радовался заранее.
Был послеобеденный час; надев богатый и удобный шелковый халат, королевич с трубкой в руке сидел в кресле и переваривал пищу с тем наслаждением, которое дает здоровый желудок и великолепная кухня.
Напротив него стоял Сулковский. Временами король посматривал на друга, улыбался и, не говоря ни слова, опять затягивался пахучим дымом.
Друг и слуга радостно смотрел на своего довольного господина и в молчании разделял его счастье.
Лицо молодого королевича сияло; по привычке, будучи счастливым, он говорил очень мало, а только размышлял, но о чем, никто никогда не знал. Иногда он поднимал опущенную голову и пристально всматривался на Сулковского, который отвечал ему взглядом; тогда он произносил:
— Сулковский!
— Слушаю!
Фридрих наклонял голову, и этим кончался разговор. Проходило четверть часа, королевич переменял вопрос и ласково звал его по имени, говоря по-итальянски. Граф отвечал, и опять наступало молчание.
Королевич говорил очень редко и то только тогда, когда было необходимо; он не любил ничего неожиданного. Жизнь его должна была плыть тихо, спокойно, без волнений и остановок.
Он особенно любил послеобеденные часы, в которые не принимал никого, исключая только близких и любимых им лиц. Утром он должен был принимать, слушать, кланяться, подписывать, иногда удивляться, время от времени немного посердиться. После таких усилий послеполуденный отдых был ему донельзя приятен.
Если в театре не было представлений, он шел вечером к Жозефине, слушал музыку, мечтая, и день оканчивался ужином.
Никогда придворные не имели господина, который бы менее его нуждался в удовольствиях. Для него было вполне достаточно, чтобы один день походил на следующий, как две капли воды.
Как раз начинался послеобеденный кейф, и королевич курил вторую трубку, когда Сулковский, заметив что-то через окно, медленно направился к дверям. Глаза королевича последовали за ним.
— Сулковский, — тихо произнес он.
— Сейчас вернусь, — ответил граф, взявшись за ручку двери, и вышел в переднюю; здесь находилось два пажа и несколько придворных.
— Без меня никого не впускать, — произнес Сулковский, причем все поклонились.
Сулковский вышел, сбежал с лестницы и, не веря своим глазам, остановился в дверях.
— Брюль, ты здесь?
Действительно, перед ним стоял фаворит Августа II в шубе и меховой шапке, покрытый снегом, усталый и окоченевший от холода. Он был бледен и смущен. Во дворе стоял экипаж, и от взмыленных, заморенных лошадей валил пар. Усталые почтальоны, соскочивши с них, стояли, еле держась на ногах.
На вопрос Брюль не отвечал ни слова, глазами только показал он, что хочет войти и отдохнуть. Этот внезапный приезд имел в себе столько таинственного и странного, что Сулковский, сильно обеспокоенный, быстро направился в нижнюю залу. Дворцовая прислуга, увидав Брюля, бросилась было к нему, но движением руки он приказал ей удалиться.
Брюль поспешно начал раздеваться. Граф стоял в ожидании.
— Брюль, ради Бога… что случилось?..
Но тот как будто не слыхал вопроса и, быстро войдя в кабинет, бросился в первое попавшееся кресло. Закрыв руками лицо, выражавшее тоску и ужас, он несколько минут сидел, не произнося ни слова. Перед ним стоял фаворит королевича с очевидным беспокойством. Но гордость не позволяла ему приставать с вопросами… он ждал, упершись рукой в бок.
Наконец, Брюль встал, с каким-то отчаянием оглянулся вокруг и, ломая руки, воскликнул:
— Король и всемилостивейший государь мой скончался!
На лице Сулковского с быстротой молнии выразилось впечатление, которое трудно описать. Тут были и ужас, и радость в одно время. Он сделал движение, как бы желая бежать, но удержался.
— Разве еще не прибыл ни один курьер из Варшавы?
— Не было ни одного.
— Следовательно, вы ничего не знаете?.. Королевич…
— Даже не догадывается, — сказал Сулковский и во второй раз пошел к двери, но, подумав немного, вернулся.
— Следует тотчас уведомить об этом королевича, — произнес он. — Но как это случилось?.. Король был здоров…
Брюль тяжело вздохнул.
— Шестнадцатого мы прибыли в Варшаву, — тихо сказал он. — Дорога была ужасная, местами лежал снег, местами же грязь и лужи. Король был усталый, утомленный, но, увидав Варшаву, он оживился, и лицо его просияло. С половины дороги мы послали туда курьеров, и потому там успели приготовиться. Приняли нас великолепно, несмотря на ужасную погоду, пушки гремели, навстречу вышел полк мушкетеров. Карета остановилась перед крыльцом Саксонского дворца. Выходя из экипажа, король ударился ногой о ступень лестницы, тем самым местом, которое всегда его беспокоило, и где Вейсс отнял палец. Мы увидали, как он побледнел и оперся на палку. К нему бросились двое пажей, и так мы проводили его в комнаты, где его ждало духовенство, сенаторы и дамы. Король тотчас же сел и потребовал от церемониймейстера, чтобы сократили прием, так как он чувствует себя очень утомленным. Лишь только мы вошли с ним в спальню, он велел тотчас же призвать Вейсса и врача, жалуясь на боль и говоря, что чувствует в ноге как бы огонь и влагу. Когда разрезали сапог, оказалось, что он был наполнен кровью. Вейсс побледнел, нога уже распухла и посинела. Несмотря на это…
— Говори скорее, — сказал Сулковский. — Кто-нибудь может уведомить королевича о твоем прибытии.
Брюль приблизился к нему.
— Граф, — сказал он, — мне кажется, что прежде, чем предпринять что-нибудь, нам нужно поговорить. Королевич горячо любил отца, а это внезапное известие… Не следует ли приготовить его?..
— Приготовить? Но как?..
— Я того мнения, — тихо прошептал Брюль, — что нам ничего не следует предпринимать, не посоветовавшись с королевой и Гуарини.
Сулковский взглянул на него с плохо скрытым неудовольствием.
— Но мне кажется, что королевич в данном случае не нуждается ни в помощи королевы, ни в духовных утешениях исповедника.
— По моему мнению… — начал Брюль, смутившись немного и посмотрев на двери.
В это самое время они отворились, и вошел падре Гуарини. Трудно было догадаться, откуда он узнал о прибытии Брюля. Он подошел к нему с лицом печальным, несмотря на его обыкновенное выражение, которое ему трудно было изменить. Он протянул руки. Брюль, пожалуй, поцеловал бы одну из них, если бы не было постороннего свидетеля, теперь же он подошел и, наклоняя голову, сказал:
— Король умер.
— Eviwa il re [23]! — тихо отвечал Гуарини, поднимая глаза кверху. — Решения Господни премудры. Королевич знает уже?
— Нет еще, — сухо отвечал Сулковский, который посмотрел на патера не только не так покорно, как Брюль, но даже не особенно дружелюбно. Гуарини тоже, как бы нарочно, не обращался к нему.
— Я советую, — сказал Брюль, — не испытывать понапрасну чувствительность королевича, но прежде посоветоваться с королевой.
Гуарини наклонил голову, а Сулковский незаметно пожал плечами и бросил на Брюля взгляд, выражающий неудовольствие.
— Идемте в таком случае к государыне, — тихо сказал он, — потому что нельзя терять ни минуты.
Брюль взглянул на свой дорожный костюм.
— Не могу же я так явиться к ней, — возразил он. — Ступайте вы, граф, с отцом Гуарини, а я в это время велю принести во дворец свое платье и переоденусь.
Сулковский молча согласился, падре Гуарини кивком головы тоже выразил свое согласие, и они направились к дверям. Брюль же, не будучи более в состоянии держаться на ногах, упал в кресло.
Довольно неохотно вышел Сулковский в сопровождении иезуита, оставляя Брюля, который закрыл лицо руками и глубоко задумался…
Но эта задумчивость и усталость продолжались очень недолго. Лишь только Сулковский и Гуарини исчезли в коридоре, Брюль быстро поднялся, подбежал к дверям и, отворив их, выглянул в переднюю.
Здесь стоял камердинер, как бы ожидая приказаний.
— Попросите мне пажа Берлепша, но только скорее.
Слуга быстро удалился, а минут пять спустя вбежал, запыхавшись, молодой мальчик в костюме пажа королевича.
Брюль, ожидавший у двери, положил ему руку на плечо.
— Берлепш, ты мне доверяешь, надеюсь; не спрашивай, как и зачем, и на собственную ответственность, понимаешь, на собственную ответственность, проболтайся о приезде Брюля. Но только живо! Если что-нибудь тебе помешает, то все пойдет к черту.
Расторопный мальчик взглянул в глаза говорившему, держась за ручку двери, не отвечая ни слова, вышел. Брюль на всякий случай сел у стола и закрыл лицо руками.
Невозмутимо тихо было кругом, и малейший шум заставлял его вздрагивать. Наверху быстро начали ходить, на лестнице послышались поспешные шаги, которые приближались к двери, и в комнату вошел еще довольно молодой мужчина, с красивым лицом, на котором были ясны следы сарказма и иронии. Он увидал Брюля и, как-то странно и иронически назвав его превосходительством, сказал:
— Его высочество королевич, случайно узнав о вашем приезде, желает, чтобы вы тотчас же принесли к нему депешу…
Брюль притворился смущенным.
— Но я не одет.
— Ступайте, в чем стоите.
— Это приказание его высочества?
— Именно.
Взглянув еще раз на свое дорожное платье, Брюль пошел как бы по принуждению, однако, он не мог скрыть отпечатавшегося на лице некоторого удовольствия.
Молча шли оба наверх.
Отворили дверь, и Брюль медленно вошел с такой выразительной печалью как на лице, так и во всей фигуре, что королевич, который еще курил трубку, выпустил ее из рук и быстро встал.
В это самое время двери были заперты, и Брюль упал на колена.
— Я приношу вашему королевскому высочеству очень печальную весть и первый спешу почтить своего нового монарха. Король и всемилостивейший наш государь скончался…
Фридрих стоял несколько секунд, словно окаменелый. Он закрыл глаза, и несколько минут оба молчали. Брюль все стоял на коленях, но Фридрих дал ему поцеловать руку и велел встать.
— Брюль, когда это случилось, как это случилось?
— Первого февраля скончался король Август Великий на моих руках. Мне он передал свою последнюю волю, мне вручил он государственные драгоценности и секретные бумаги. Все это я приношу сам сюда и складываю у ног вашего величества.
Фридрих опять дал ему поцеловать руку; Брюль нагнулся, так что почти стал на колена, и притворился плачущим: закрыл платком лицо и начал всхлипывать. Королевич тоже достал платок, и у него на самом деле полились из глаз искренние слезы. Он любил и почитал отца.
— Расскажи мне, Брюль, как случилось это несчастие? — тихо произнес он.
Тихим взволнованным голосом начал Брюль рассказывать о причине болезни, о ее ходе, о присутствии духа короля, о том мужестве и спокойствии, с какими он умирал. Наконец, он достал последнее письмо короля, запечатанное большою печатью, и положил его на колени королевича, который поспешно разорвал конверт.
Написано оно было чужой рукой, даже подпись, по-видимому, изменило страдание, но королевич прикоснулся к ней губами.
В письме заключалось прощание, благословение и поручение сыну самого верного, самого лучшего из слуг, подателя последней воли. Королевич взглянул на Брюля и сказал со вздохом:
— Все будет так, как желает и советует мой незабвенный родитель. — С этими словами он поднял руки кверху.
Открытое письмо еще лежало на коленах, а Брюль стоял уже у порога, когда отворились внутренние двери, ведущие в комнаты королевы, и в них показались Жозефина, одетая во всем черном, Сулковский и падре Гуарини.
Каково же было их удивление, когда они увидели, что королевич в слезах, Брюль стоит у дверей в дорожном платье, а на коленах у Фридриха распечатанное письмо.
Фридрих, горько плача, бросился в объятия жены, которая тоже плакала, но согласно с правилами испанско-австрийского этикета, указывающего и предписывающего двору даже форму, по которой должно быть выражено горе.
Сулковский движением головы выказал Брюлю свое неудовольствие, затем приблизился к нему и шепнул:
— Вы ведь обещали ждать нас?
— Королю кто-то донес о моем приезде, он приказал меня позвать, и я должен был слушаться.
— Кто вам передал это приказание?
— Вацдорф.
Сулковский, казалось, старался запомнить это имя.
Любопытную картину представляли собравшиеся здесь особы, из которых только один королевич был искренно огорчен. Привыкши почитать отца, искренно привязанный к нему, проникнутый горем утраты и сознанием бремени, которое на него свалилось, Фридрих стоял с измененным лицом. Всегда спокойное, теперь оно было искажено плачем и горем, которых он не думал скрывать.
Горе королевы Жозефины было скорее притворное, чем истинное, и с ним смешивалось много мыслей и чувств; она на минуту не забыла своего достоинства и правил этикета. Сулковский был мрачен и задумчив, как тот, кому дают в руки власть, и который не знает, как сделать первый шаг. Самоуверенность не оставила его даже в присутствии государыни, к которой он должен был относиться с величайшим почтением. Отец Гуарини набожно сложил руки под бородой, опустил голову и закрыл глаза. Искаженное лицо его имело выражение, как нельзя лучше соответствующее данной минуте. Брюль, не забывая о том, что он всецело должен быть погружен в свое горе, не мог не удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на лица окружающих. Чаще всего он посматривал на Сулковского и, казалось, мерил глазами своего соперника.
В то время, как королева старалась утешить мужа, Сулковский осмелился приблизиться и подать совет, чтобы созвать высших чиновников и колоколами уведомить город и государство, что они потеряли Великого Августа.
Жозефина взглянула с некоторым отвращением на советующего, что-то прошептала мужу и, подав ему руку, со всем достоинством направилась к двери в сопровождении падре Гуарини, который шел за нею с тем же выражением лица.
Все оставшиеся молчали. Брюль ожидал приказаний, королевич не смел их давать. Один Сулковский переступал с ноги на ногу.
Фридрих все еще держал платок у глаз и, пользуясь тем, что он ничего не видит, Сулковский показал Брюлю глазами, чтобы он вышел. Он уже заметил письмо Августа и угадал все, что в нем заключалось.
Брюль некоторое время, казалось, колебался, но потом взялся за ручку двери и вышел так тихо, что королевич не услыхал этого. Только Сулковский остался при нем; как бы почувствовав это, королевич отнял от глаз платок и оглянулся.
— Где Брюль?
— Он вышел.
— Пускай не уходит, пожалуйста, вели ему быть здесь.
Сулковский хотел было воспротивиться, но не посмел. Он выглянул за двери, что-то шепнул и опять возвратился.
— Нужно мужественно и по-королевски перенести то, что послал Бог, — дружеским голосом сказал Сулковский. — Королям некогда предаваться печали.
Фридрих только рукой махнул.
— Сейчас соберется тайный совет.
— Ступай и председательствуй, а я не в состоянии, — отвечал королевич. — А сюда пускай придет Брюль.
— Но к чему сюда приходить Брюлю? — с упреком проговорил Сулковский.
— На его руках скончался мой король и отец, он принял его последний вздох. Отец мне поручил его, я хочу его видеть, пусть он придет.
— Уже послали за ним, — пожимая плечами и не скрывая своего нетерпения, отвечал Сулковский.
— Не сердись же ради Бога, мой Иозеф, — плаксиво прибавил Фридрих.
В эту минуту колокола всех церквей саксонской столицы наполнили воздух жалобным стоном.
Королевич упал на колени и начал горячо молиться. Его примеру последовал и Сулковский. Один за другим отзывались колокола и сливались в унылый хор, которому вторил шум, доносившийся из города, разбуженного печальною вестью.
VI
В то время, как все это происходило во дворце, за кулисами оперы приготовлялись к назначенной в этот день и нетерпеливо ожидаемой, хотя уже столько раз повторенной "Клеофиде". Пышность, с какою были поставлены лучшие пьесы, в которых иногда выступали на сцену сотни лошадей, верблюдов и бесчисленное множество людей в великолепных костюмах востока, превосходная театральная машинерия привлекали туда столько же зрителей, сколько восхитительный голос синьорины Фаустини Бордони.
Фаустина, первая певица своего времени, прославившаяся победой над столь же известной Куццони, была здесь примадонной в полном значении этого слова: на сцене, за кулисами, и еще гораздо далее. Синьора Бордони хотя носила великое имя первого композитора того времени, могла о нем позабыть, потому что на другой же день указ короля разделил супругов, отправив артиста в классическую землю Италии.
В то время когда карета, везшая Брюля и печальную весть о кончине Августа Сильного, приближалась к замку, Фаустина сидела в своей уборной, устроенной для нее около сцены, и, сбросив с себя дорогую шубу, зевая, собиралась давать приказания.
Примадонна была уже не первой молодости и, несмотря на то, что была итальянкой, которые так скоро отцветают, как скоро и расцветают, она умела сохранить всю силу своего голоса, изящность всей фигуры и красоту лица Юноны, каким наградила ее природа.
Это не было деликатное создание, не эфирное явление, которое, как призрак, рассеивается в тумане и сиянии, но сильная величественная фигура, как бы изваянная из цельного куска мрамора сильным резцом Микельанджело. Безупречная красота соответствовала ее голосу; все как нельзя более гармонировало и подходило к ней, к ее характеру. Голова богини, одним движением брови потрясающей Олимпом, бюст нимфы, рука вакханки, осанка амазонки, нога княжны, волосы черные и густые, как грива арабского коня… В выражении лица, несмотря на его классическую красоту, было более силы и суровости, чем привлекательной женственности. Черные брови, слишком резко очерченные, часто сдвигались, изящные ноздри раздувались гневом, и из-за розовых губок грозно блистали зубки. В ней сразу была видна женщина, привыкшая властвовать и повелевать, которая не страшилась взора короля и метала громы даже на коронованные головы.
Уборная представляла роскошный и уютный уголок: она была вся обита белой с золотом материей, мебель же голубым атласом, а туалет, занавешенный кружевным покрывалом, сиял фарфором и серебром. Шкафы с нарядами были резные, а с потолка свешивалась, словно фарфоровый паук, корзинка с цветами.
Две служанки стояли у дверей, ожидая приказаний. По чертам лиц в них легко можно было узнать итальянок, которые даже не сбросили своего живописного головного убора, прикрепленного серебряными шпильками. Фаустина взглянула на часы, стоящие в углу… бросилась на диван и, не то сидя, не то лежа, играла кистями своего домашнего платья, в котором велела перенести себя в театр.
Служанки стояли молча.
В это время кто-то постучал в двери.
Фаустина даже не пошевелилась, взглянула только и встретила улыбкой показавшееся в дверях лицо красивого молодого мужчины.
Это был сопрано Анджело Монтичелли, который пришел поклониться королеве. В нем тоже с первого же взгляда можно было узнать итальянца; но насколько Фаустина олицетворяла собою энергию и резвость итальянцев, на столько же много было в нем женственной красоты. Молодой, удивительно красивый, с длинными черными, падающими на плечи кудрями, он, казалось, был предназначен для роли влюбленных, для роли богов и любовников. Никакой Аполлон древних, с увлечением играющий на лире, не мог сравняться с ним в красоте. Ему недоставало только надменности и смелости божества; он был уж чересчур покорен и самоунижен.
Он согнулся вдвое, отвешивая поклон Фаустине, которая не переставала играть кистями своего платья и чуть-чуть кивнула ему головой. Ноги его, изогнутые, как бы для танца, даже за кулисами не забывали своих обязанностей.
— Анджело, — воскликнула Фаустина, — ты волочишься за этими противными немками!.. Знаю, знаю!.. Потеряешь голос и молодость. Фи, как можно в немке видеть женщину! Взгляни только на их ноги и руки.
— Синьора, — возразил Анджело, приложив руку к груди и бросая взгляд в зеркало, так как он был немного влюблен в себя, — синьора, это неправда.
— Ты, пожалуй, скажешь, желая оправдать себя, что они ухаживают за тобой? — смеясь, прервала его Фаустина.
— Тоже нет; я тоскую, не находя здесь неба Италии, итальянских лиц, сердца итальянки… Я здесь сохну…
Фаустина взглянула на него и рукой сделала служанкам знак удалиться.
— Ingrato [24], — тихо сказала она, — мы здесь все тебя балуем, а ты еще жалуешься.
Сказав это, она подняла глаза в потолок, зевнула и, казалось, не обращала ни малейшего внимания на пожирающего ее глазами Монтичелли.
— Альбуцци здесь? — спросила она.
— Не знаю.
— Тебе не знать об Альбуцци! Ха, ха, ха!
— Она меня нисколько не интересует.
— В то время, когда ты говоришь со мною. Но я не ревную ни ее, ни твоей Аполлоновой красоты; только ее я терпеть не могу, а тебя, Анджело, ненавижу.
— За что?
— За то, что ты достоин ненависти, за то, что ты кукла, за то, что ты любишь кокетничать! Посмотри на часы и ступай одеваться!
В дверях показалось новое лицо: это был полный, хорошо сложенный, с веселым лицом и быстрыми движениями певец Путтини.
— Мое нижайшее почтение вашему превосходительству! — воскликнул он. — Но, виноват, может быть я прервал дуэт…
И он взглянул на Анджело.
— Мы только на сцене поем дуэты, — возразила Фаустина, засмеявшись и пожав плечами. — Однако вы все сегодня опаздываете. Марш одеваться.
И она приподнялась на диване, Анджело тоже направился к дверям, один Путтини стоял и смеялся.
— Я не опоздаю, трико мое надето, а остальной костюм займет немного времени.
Вдруг с шумом распахнулись двери, и в них с испугом на лице вбежал мужчина в черном платье, в башмаках, чулках и гладком парике; лицо его было круглое, с отдувавшимися щеками, маленьким носом и низким лбом.
Вся его фигура говорила, что случилось что-то необыкновенное. Фаустина, которая всегда боялась огня, пронзительно крикнула:
— Пресвятая Богородица! Спасите! Пожар!
— Где? Где?
Между тем вбежавший стоял словно немой и окаменелый. Это был Клейн, один из музыкантов оркестра, поклонник голоса Фаустины, друг итальянцев и горячий меломан.
Его имя было Иван, как и большей части немцев. Фаустина переделала его на Джиованни и дала ему прозвище Piccolo [25].
— Piccolo, что с тобой? — воскликнула она. — Ты с ума сошел, что ли?
— Король умер! Король Август Великий умер в Варшаве! При этих словах Фаустина пронзительно крикнула и закрыла
глаза рукой; все стояли пораженные. Вбегая, Клейн не запер за собой двери, и, все, кто только был в театре, собрались сюда. Большая часть артистов, которые должны были играть в "Клеофиде", были уже наполовину одеты. Альбуцци вбежала, не успев закрыть открытой груди, ни одеть что-нибудь на самую нижнюю одежду. Красота ее была поразительна даже при Фаустине: все в ней было миниатюрно и грациозно.
За ней бежала с распущенными светлыми волосами Катерина Пилюйя и целая ватага французов и итальянцев, с лицами наполовину нарумяненными, наполовину же бледными от испуга. Они были одеты как попало, на скорую руку. Все они толпились вокруг Фаустины и повторяли на все лады:
— Il re e morto [26].
Ничего нельзя было понять в этом смешении слов и восклицаний. На лицах виднелся скорее испуг, чем горе. Говорили все вместе, одна только Фаустина молчала, как будто ее менее всех касалось полученное известие.
К ней, как к оракулу, обращались все глаза и уши, все ожидали, что она скажет; но Бордони не хотела, по-видимому, высказывать в этой толпе своих мыслей.
Отовсюду послышался звон колоколов.
— Представления не будет, отправляйтесь домой! — сказала она повелительно.
Но ее никто не послушал, все стояли словно прикованные к земле, печальные, пораженные.
— Ступайте по домам! — повторила Фаустина. — Нам здесь нечего делать, и, вероятно, не скоро нам придется играть.
Сама она приблизилась к дивану и, казалось, хотела одеваться, чтобы уехать. Еще раз повернулась она и рукой указала на двери. Печально начали все выходить. Альбуцци с минуту стояла, задумавшись, перед зеркалом, взглянула через плечо на Фаустину и медленно пошла за другими.
Как только заперлись двери после выхода последнего из этих непрошеных гостей, Бордони упала на диван. Она, как казалось, не замечала мужчину уже не первой молодости, который стоял в стороне и смотрел в окно.
Желая напомнить о своем присутствии, он закашлял.
— А, это вы?
Это был Гассе, только по имени муж Фаустины.
— Да, — равнодушно ответил по-итальянски немец.
— О чем это вы призадумались? Уже не собираетесь ли писать для покойника заупокойную обедню?
— Вы почти угадали, — отвечал, поправляя парик, великий композитор. — Я думал, не будет ли подходяща для нашего государя обедня, которую уже давно написал я Sulla morte d'un peccatore [27]. Я ведь артист, и у меня горе обращается в музыку.
— А во что обратимся теперь мы? — вздохнула Фаустина.
— Chi lo sa [28]?
Они замолчали; Гассе ходил с опущенной головой, и засунув руки в карманы.
— Гассе немногие в состоянии заменить, — сказал он спокойно, остановившись перед женой, — даже Порнора, Фаустину же не заменит никто.
— Льстец, — сказала итальянка. — Гассе старый будет сочинять музыку лучше, чем смолоду, а голос Фаустины, как догорающая свеча, которая горела большим пламенем, и которая… в одно прекрасное утро погаснет.
— Это не скоро наступит, — задумчиво отвечал немец, — вы знаете это лучше меня.
— Но захочет ли новый государь, столь тихий, невозмутимый, набожный, находящийся в руках королевы?..
Гассе засмеялся.
— Он обожает и музыку, и Фаустину.
— Chi lo sa? — задумчиво прошептала она. — Если бы он не был таким, нужно все-таки его сделать таким. — Какая-то мысль засветилась в ее глазах.
— Бедный старый Август умер, — сказала она, понизив голос, — я бы ему сказала прекрасную надгробную речь, но не сумею.
Гассе пожал плечами.
— В надгробных речах недостатка не будет, — сказал он почти неслышным голосом, — но будущее другое о нем скажет. Он был величественным тираном и жил только для себя. Саксония, может быть, отдохнет теперь.
— Вы несправедливы! — воскликнула Фаустина. — Разве Саксония была когда-нибудь более счастливой и славной?.. Блеск от этого героя падал на нее.
Гассе горько улыбнулся.
— В ложе театра, когда он нам улыбался, покрытый бриллиантами, он мог вам показаться героем, но народ слезами платил за эти бриллианты. Радость и песни наполняли Дрезден, а стоны Саксонию и Польшу. Здесь была роскошь, там нищета.
Фаустина, возмущенная этими словами, вскочила с места.
— Гассе, молчи, я не позволю тебе чернить его; в тебе говорит гадкая ревность.
— Нет, — сказал Гассе, спокойно смотря на нее, — всю мою любовь поглотила музыка, и в прелестной Фаустине я полюбил только голос; с меня довольно, когда я его слышу или когда даже мечтаю о нем. Фаустина не могла иначе смотреть на короля, а потому я замолчу.
Гассе начал задумчиво ходить по комнате; в это время двери приотворились и опять затворились. Желающий войти только показался в них и тотчас отступил; но Фаустина успела его увидать и узнать, она позвала его.
Тот послушался только после некоторого колебания. Это был тот самый Вацдорф, который передал Брюлю приказание королевича… У него было удивительное лицо с выразительными глазами, выражение его было ироническое и даже саркастическое.
Движением и осанкой он очень напоминал итальянца, который в маскараде преследовал Брюля.
— Я думал, — сказал он, входя и с улыбкой приветствуя Фаустину, — что вы еще ничего не знаете?
— Ведь колокола уведомили город и государство, — произнесла итальянка, с любопытством приближаясь к нему.
— Да, но колокола имеют тот же звук как на похоронах, так и на свадьбах; поэтому вы могли подумать, что родилась какая-нибудь новая принцесса и что нам велят радоваться этому, — отвечал он, пожав плечами.
— Бедный король! — вздохнула Фаустина.
— Конечно! — со злостью заметил Вацдорф. — Жил он много, имел, по крайней мере, триста любовниц, растратил миллионы, выпил море вина, изломал множество подков и снес немало голов… После такой деятельности пора и отдохнуть.
Никто не решился прервать его, Гассе только украдкой взглянул на него.
— Что же теперь будет? — спросила итальянка.
— Мы видели оперу "Король Август", теперь поставят другую, с иным названием, но не лучше предыдущей. Главные роли возьмут: дочь цезарей, падре Гуарини, падре Салерно, падре Фоглер и падре Коппер, а в придачу еще брат… имени угадывать не стану. Фаустина будет им петь, как пела и прежде, Гассе, по-прежнему, будет писать оперы. Хуже будет с нами, придворными, когда главные роли разберут пажи с целого света и лакеи всех дворов.
Гассе, до сих пор слушавший в молчании, наклонился и прошептал:
— Будет вам, будет; а ну, если кто за дверьми?.. Ведь нам даже и слушать это опасно.
Вацдорф пожал плечами.
— Где же вы были в марте прошлого года? — рассеянно спросила Фаустина.
— Я? В марте? Постойте-ка… Ну, право, не знаю.
— Видно, что вы не были на Новом Базаре, когда там разыгралась печальная драма майора д'Аржель.
Вацдорф молчал, не прерывая.
— Знаете, это тот д'Аржель, который так резко высказывал правду и клевету, не щадя никого. Он писал пасквили и распространял их. Я имела тогда окно и смотрела. Мне очень было жалко несчастного: его выдали французы, так как он когда-то служил у нас. Его поставили у позорного столба [29] высоко, посреди бесчисленной толпы народа. Палач сломал ему над головой шпагу и, бросив ее под ноги, дал ему две такие пощечины, что кровь полилась у него изо рта, и засунул ему в рот горсть пасквилей. Я плакала, смотря на бедного человека. Теперь он сидит в Каспельхаузе в Данциге с обритой головой и ждет, пока смерть освободит его оттуда.
— Действительно, это любопытная история, синьора Фаустина, — иронически заметил Вацдорф. — Но знаете, кого я жалею более, чем майора д'Аржель? Это того, кто так бесчеловечно и зверски мстил ему.
Говоря это, Вацдорф совершенно спокойно взглянул на итальянку.
— Синьора Фаустина, — прибавил он, — теперь наступает траур, и у вас будет довольно времени, чтобы отдохнуть и так настроить голос, чтобы прельстить им нового государя и царствовать над ним так же, как царствовали вы и над покойником. А знаете ли, что я вам скажу?.. С этим ведь будет гораздо легче. Август Великий был в высшей степени непостоянен; этот же любит спокойствие и курит всегда только из одной трубки. Когда ему подают другую, он только трясет головой, и если б мог и захотел, то, пожалуй, рассердился бы.
И Вацдорф засмеялся.
— Итак, — прибавил он, — я здесь не нужен; вы уже все знаете, а мне нужно приготовить к завтрашнему дню траурное платье. Да, я, было, и позабыл! — сказал он, вдруг обращаясь к Фаустине. — В каких отношениях вы с Сулковским? Завтра он вступает на престол, и завтра Брюль поедет в Тюринген или же сделается его лакеем, чтобы, дождавшись удобного времени, подставить ему ногу… Брюль находится в неразрывной дружбе с падре Гуарини.
— Тсс!.. — шепнул Гассе.
Вацдорф руками закрыл рот.
— Нельзя разве? Молчу, молчу!
Фаустина была смущена.
— Синьор, — сказала она, — вы неисправимы. С нами вам не угрожает никакая опасность.
И она приложила к губам палец.
— Я не боюсь никаких угроз, — со вздохом сказал Вацдорф, — у меня нет другого самолюбия, кроме желания остаться навсегда честным человеком, а если меня посадят в Кенигштейн, то я не буду вводим в искушение. А это тоже что-нибудь да значит.
— Дай Бог, чтобы ты не сказал этого в дурной час, — сказал Гассе, сложив руки. — Думайте, что хотите, но говорить…
— Какая же польза была бы от моей мысли, если бы я не делился с людьми? — отвечал Вацдорф уже в дверях. — А затем желаю вам покойной ночи.
— Нет сомнения, — заметил Гассе, после его ухода, — что он окончит свое существование там, где сказал, с той только разницею, что если не найдется свободной кельи в Кенигштейне, его посадят в Зонненштейн или в Плезенбург.
Он вздохнул, Фаустина ответила ему тем же.
VII
Если б кто на другой день всмотрелся в лицо города, который со вчерашнего дня был в трауре, то он едва ли бы заметил на нем следы горя; но беспокойство было велико, а любопытство сильно возбуждено.
Перед замком и дворцом в Ташенберге осторожно сновали кучки людей, стараясь угадать, что происходит внутри.
Движение было необыкновенно, но порядок в размещении часовых, гвардии и швейцаров остался неизменным. По городу в разных направлениях мчались кареты с опущенными занавесками на окнах, и пробегали закрытые носилки. Это движение было тихо и как бы подавлено. Торжественный и официальный траур еще не начинался, а на лицах не было заметно искреннего горя и печали. На каждого выезжающего курьера толпа смотрела с любопытством, провожала его глазами и делала догадки, куда и зачем он послан. Однако никто не осмеливался говорить громко… Кенигштейн был близко, и у кормила правления оставались, как казалось, все те же люди и та же мысль, потому что королевич слишком почитал отца, для того, чтобы решиться что-нибудь переменить; он был слишком послушен, чтобы действовать самостоятельно и чересчур любил спокойствие, чтобы желать переменами увеличивать хлопоты. Догадывались только, что Брюль падет, а Сулковский высоко поднимется, но каково будет новое правление, этого никто не мог угадать.
Брюль тогда жил в своем доме, на Новом Базаре; там царствовала тишина, знали только, что вчера отвез он драгоценности, корону и всю тайную королевскую канцелярию. О том, что происходило в замке и во дворце на Ташенберге, можно было судить с улицы только пробегающим и проезжающим. Экипажи приезжали и уезжали, носилки и послы бегали во всех направлениях.
Весь день прошел в такой тишине и мнимом спокойствии. Менее значительные чиновники высматривали знаки на земле и на небе, кому нужно кланяться, а на кого плевать.
Геннике, наперсник Брюля, бывший лакей, которого и теперь (хотя он уже сделался управителем) втихомолку продолжали звать этим именем, сидел утром в своем доме, который был по соседству с домом Брюля, на Новом Базаре.
В прошлом, когда ему не приходила даже мысль, что он когда-нибудь будет занимать такие должности, Геннике женился на простой служанке, которая, кроме миловидного личика и молодости, не имела ничего. Нынче, когда и то и другое исчезло, советница Геннике, хотя и добрая женщина, была настоящим наказанием для мужа. Он нигде не мог показаться с нею, так как манеры и неумение держать себя сразу выдавали ее происхождение. Несмотря на свою привязанность к мужу, она положительно мучила его своей болтливостью и мелочностью.
Он только что избавился от нее и зевак, подпершись рукой, когда в комнату быстро, неожиданно и без доклада вошел мужчина, довольно красивый, с проницательными глазами, как видно опытный придворный, изящно одетый, хотя весь в черном.
По лицу можно было видеть только то, что у него не было недостатка в уме и сметливости, чего требует жизнь под перекрестным огнем интриг, которые, подобно колесам нескольких проезжающих один мимо другого экипажей, могут раздавить человека. Вошедший бросил на стул шляпу, вынул из кармана табакерку, взял двумя пальцами щепотку табаку и подал ее Геннике, который с любопытством смотрел на него.
— Ну, как ты думаешь, что из всего этого выйдет? — спросил прибывший, закрывая табакерку и пряча ее в карман.
— Я ничего не думаю, только жду и смотрю, — совершенно спокойно отвечал Геннике.
— А положение Брюля, как тебе кажется? Они взглянули в глаза друг другу.
— Что говорят? — спросил Геннике.
— Каждый говорит то, что было бы ему желательно: одни, что Брюля прогонят, а то и в суд позовут и посадят; другие, что Брюль других погонит, засадит и задушит. А вам как кажется?
— Я вам уже говорил, что мне никак не кажется, — возразил Геннике. — Если Брюля посадят, я помогу толкать, если же Брюль их придушит, я ему стану помогать. Слава Богу, я еще не так высоко стою, чтобы, падая, свернуть себе шею.
Гость засмеялся.
— Действительно, единственная рациональная политика, это ждать, как можно менее принимая участия в делах, и стоять в стороне.
— Да, господин Глобик, — с улыбкой заметил Геннике, — поднимаясь вперед, выскакивать нехорошо, оставаться назади опасно, умнее же всего держаться золотой середины и смотреть в обе стороны. Но, — прибавил он шепотом, — говоря между нами… Я готов биться об заклад… о чем хотите, я ставлю даже мою жену против другой — помоложе, потому что она замучила меня своей болтовней, что… (он приблизил губы к уху гостя), что Брюль сумеет удержаться, а когда удержится, я опять ставлю, что хотите, но с ним никто не выдержит, и что вот ныне мы предсказываем царствование его величества Брюля I, и будем просить Бога, чтобы оно продолжалось как можно долее. Обоим нам, господин советник, будет хорошо… Но вы, вероятно, из дворца? Ради Бога скажите, что там, что слышно?
— Ничего, тихо как в гробу; приготовляются к трауру. Падре Гуарини шныряет от курфюрста к жене его и обратно; Сулковский бодрствует и караулит, а Брюль… не знаю даже, что с ним, где он?
— Найдется… — прошептал Геннике.
— Королева, сделавшись женой курфюрста и лишившись королевской короны, по-видимому, не особенно довольна.
— Брюль сделает ее королевой, — засмеялся Геннике.
В это время под окнами послышался шум; оба бросились смотреть: отряд гвардии с крепами на рукавах и на латах, мчался в сторону замка. Во двор дома в эту минуту входил придворный камердинер в парадной ливрее. Геннике бросился к дверям, Глобик взялся за шляпу… Послышался стук в двери и вошел огромный мужчина, держа в руках маленький билет; Геннике взглянул на него, Глобик тоже бросил любопытный взгляд, однако, не мог ничего прочесть, потому что хозяин тотчас спрятал билет в карман, и подойдя к камердинеру, отпустил его, шепнув несколько слов, после чего они опять остались вдвоем.
— Тут нет никакой тайны, — сказал Геннике, — потребовалось много денег. Их нет, но должны быть, нужно поискать.
Сказав это, он взял шляпу, Глобик последовал его примеру.
— Геннике… Надеюсь, мы с тобой всегда…
— Даже, если бы пришлось падать? — иронически сказал хозяин уже у дверей.
— Совсем нет, — быстро возразил Глобик, — напротив того, когда один падает, другой должен остаться и стоять твердо, чтобы поднять его. Когда же придется подниматься на гору, тогда вместе.
— А если падать, то кулаком в спину? — спросил Геннике.
— Нет, этого совсем не нужно, ха, ха, ха! И они пожали друг другу руку.
Геннике уже собирался уходить, когда в передней показался новый посетитель. Это была высокая фигура, длинная, худая, с тонкими руками и ногами, напоминающими палки, с длинным, некрасивым, но оживленным и умным лицом.
— Смотрите-ка, и этот здесь, — засмеялся Геннике; Глобик ударил себя рукой по лбу.
Длинный мужчина вошел, поклонившись.
— Каковы дела, господа? Что слышно? Падаем или поднимаемся?
— Нетерпеливые, — крикнул хозяин, — ждите!
— Да, ждите, когда кожа чуть держится на плечах!
— Господин советник Лесс, наши кожи, сшитые все три вместе, небольшое место покрыли бы собой. Слышали ли вы что-нибудь новенького?
— Что? То, что все предвидели: Сулковский сделан первым министром.
— Любопытная история, — прошипел Геннике. — Сулковский-католик не может быть председателем совета в протестантской Саксонии, разве только сделается лютеранином, а если бы он решился на это, король наплевал бы ему в глаза и дал бы коленом… Не говоря уже о королеве.
— Ведь, пожалуй, ты и прав, — прервал его Глобик, — я и не подумал даже об этом.
— Вы забыли, — сказал Лесс, показывая длинные зубы, — что его величество может изменить закон.
— Не созывая сейма? — спросил Геннике.
— Пожалуй… Он здесь полновластный господин, — продолжал Лесс. — Это ведь не польская Речь Посполитая, где шляхта делает, что хочет, а король должен ей кланяться.
Геннике крякнул, так как в соседней комнате послышались быстрые шаги, и в то же время вошел плечистый, полный и высокого роста мужчина, широко распахнув двери. Он тотчас остановился и, не снимая шляпы, ни с кем не здороваясь, пристально и со вниманием посмотрел на собравшихся. Это был третий советник, Стаммер.
— Что же это, сейм, что ли? — медленно спросил он, обнажая голову.
— Неожиданный, — нехотя отвечал Геннике. — Право, кажется, вы готовы подумать, что мы здесь составляем заговор.
— Кто же сегодня смотрит и думает о чем-нибудь? На это будет достаточно времени завтра, — сказал Стаммер. — Сегодня каждый думает про себя и сводит счеты с совестью, не погрешил ли он в чем-нибудь перед восходящим солнцем, кланяясь заходящему: известно ведь, что став лицом на запад, нужно повернуть известную часть тела на восток. Все три советника засмеялись.
— Стаммер, ты все знаешь! — воскликнул Глобик. — Что слышно?
— Колокола, колокола и колокола! — сказал Стаммер. — Если бы я услышал что-нибудь другое, будьте уверены, что я поостерегся бы говорить об этом, так как кто из нас может знать, кто здесь друг, кто враг? Следует молчать, одним глазом плакать, а другим смеяться и тихо, тихо, тихо… Но я вижу Геннике со шляпой… — прибавил он после небольшой паузы. — Ты уходишь?
— Да, я должен идти, — извиняясь глазами перед присутствующими, сказал хозяин. — Служба.
— Да, да, очень важная, — прибавил Стаммер, — сегодня каждый сам служит себе… А нет хозяина более требовательного, чем свое я.
— В самом деле вы ничего не знаете? — тихо спросил Глобик, приближаясь к Стаммеру.
— Напротив, знаю очень много, но не скажу ничего, исключая одной новости.
Все приблизились.
— Мы в Саксонии отошли на второй план. Поляки же заняли первое место. Наше курфюршество уже в кармане, следовательно, о нас нечего и заботиться; но что касается польской короны, то она еще далеко не в руках, а получить ее было бы очень желательно; вследствие этого мы и должны уступить свое первое место Сапегам, Липским, Чарторыйским, Любомирскому, Мошинскому, Сулковскому.
— Сулковского ты поместил последним, — произнес Лесс. — Что это значит?
— То, что он должен быть первым, — сказал Стаммер, — а так как теперь жаркое время, хотя при дворе и холодно… то спешу проститься с вами, господа.
Он надел шляпу на голову и вышел. За ним вскоре ушли и Другие, последним ушел хозяин, который хотел, по-видимому, идти один, так как нарочно опоздал, отдавая приказания.
В воротах дома, оглянувшись, каждый направился в другую сторону.
На Базаре можно было видеть собравшихся в кучки людей и проходящих стройными рядами солдат. С таким же, как и здесь, любопытством расспрашивали, допытывались и в остальных домах саксонской столицы, но до вечера никто не мог сказать ничего положительного.
Уже смеркалось, когда перед домом, в котором жил падре Гузрини, остановились носилки. Комната, в которой мы видели его беседующим с Брюлем, была его кабинетом. Здесь только он принимал очень близких гостей. Исповедник королевича и королевы составлял при дворе наименее видимую, но самую могучую силу. Сам старик, будучи очень скромен и нетребователен, не нуждался в обширном помещении, но оно было необходимо для принятие многих и часто знатных гостей.
Поэтому-то падре занимал весь верх, и сообразно с тем кто был у него, он принимал или в кабинете, в котором на диване лежала гитара, или в зале, меблированной скромно, но изящно, или же в комнатах, в которых помещалась его библиотека и другие коллекции.
Из носилок выскочил мужчина в черном штатском платье и со шпагой. Лицо указывало на его иностранное происхождение, оно было очень красиво, с аристократически нежными чертами, но бледное и изношенное. Оно становилось еще привлекательнее, вследствие слишком кроткой улыбки. Высокий, белый лоб, темные большие глаза, римский нос, узкие губы и старательно выбритое лицо делали его очень похожим на великосветского кавалера. На нем был накинут черный плащ, а у платья все украшение составляли только белые кружева.
Пройдя смело лестницу, незнакомец позвонил у дверей, а когда их отворил старый слуга, он, не спрашивая ни слова и не приказывая доложить о себе, прямо направился к внутренним комнатам; увидев это, слуга поспешил как можно скорее отворить ему двери только не кабинета, а гостиной отца иезуита.
Это была темная комната, меблированная очень скромно и наполненная различными священными картинами и изображениями. Тонкий слой пыли, покрывавший мебель, указывал на то, что в этой комнате редко кто бывает.
И в данную минуту в ней не было никого, но тотчас из кабинета вошел падре Гуарини, услышавший беготню и увидавший прибывшего. Немного изумившись, он с величайшей покорностью склонил перед ним голову и сложил руки на груди.
Прибывший подошел к нему, и они поцеловались в плечи, но Гуарини нагнулся почти к самой его руке.
— Вы не ожидали меня? — быстро и подавленным голосом произнес гость. — Я и сам не знал, что буду здесь сегодня. Вы догадываетесь, что привело меня сюда… Время, которое мы переживаем, очень важно для нас.
— Я уже вчера послал за инструкциями, — тихо возразил хозяин.
— Я вам привожу их. Прикажите запереть все двери, так как мы должны говорить глаз на глаз.
— Нет надобности отдавать подобного приказания, потому что мы здесь в полной безопасности.
— В таком случае не будем терять времени. В каком положении находятся дела? Что слышно? Опасаетесь ли вы чего-нибудь? Нужна ли помощь? Говорите и посоветуемся заранее.
Гуарини задумался, взвешивая слова, которые намеревался сказать.
Хотя гость и был одет в штатское платье, тем не менее хозяин тихо сказал ему:
— Преосвященный отче, состояние двора вам так же хорошо известно, как и мне. Королевич очень ревностный католик, королева тем паче. Первый фаворит, Сулковский, тоже католик. Почти все, что их окружает, исповедует нашу веру.
— Но Сулковский? Я слыхал, что в его руки должна перейти власть. Королевич добрый, но слабый, ленивый, подчиняющийся, не любящий труда; поэтому кто-нибудь должен править вместо него. Если Сулковский, то можем ли мы ему доверить?
Гуарини задумался, взглянул в глаза прибывшему, приложил руку к губам и покачал головою.
— Он католик, — промолвил он, — но холодный, самолюбивый. Самолюбие у него стоит выше религии; его влияние, если бы оно продолжилось, было бы для нас, для католицизма и дела обращения гибельным. Нет сомнения…
— Однако, — прервал гость, — нет никакой возможности повалить или обойти его. Довольно ли сильна королева?
— С ее личностью и характером! — прошептал падре. — Неужели вы думаете, что в этом спокойном, добром и честном королевиче не отзовутся кровь и страсти Августа Сильного? Разве это возможно? Какое же значение будет иметь тогда королева? Сулковский заменит ее другими, чтобы через них управлять.
Гость сморщил брови.
— Вы рисуете очень печальную картину. Но как бы там ни было, необходимо искать выход.
— Я уже раньше думал об этом, — начал Гуарини, усаживая гостя на диван и садясь в ближайшее кресло. — Нам необходимо иметь при королевиче человека, который бы принадлежал нам всецело, служил бы нам и зависел бы от нас. Фридрих — неженка, поэтому следует ему устроить мягкое ложе, приготовить его любимые увеселения, дать ему оперу, охоту, картины, а может быть и еще что-нибудь.
Говоря последние слова, он вздохнул, а прибывший опять сдвинул брови.
— Очень печально и горько, когда в столь великом деле нужно пользоваться столь низкими и отвратительными средствами; печально…
— Cum finis licitus, etiam media sunt licita (Цель оправдывает средства), — тихо продекламировал падре Гуарини. — Средства нельзя ограничивать, в каждом отдельном случае приходится употреблять другие.
— Я понимаю, — сказал гость, — дело наше слишком велико, чтобы нам останавливаться даже перед клеветой. Тут дело идет о спасении душ и о том, чтобы удержаться в том центре противной ереси Лютера. У нас есть оружие и выпустить его из рук, ради каких-нибудь предрассудков, было бы грешно. Лучше погубить одну душу, чем целые тысячи.
Гуарини покорно слушал.
— Отец мой, — тихо промолвил он, — я уже говорил себе это не раз и поэтому-то я и сужу и служу как умею в этом оплеванном платье и без него, не всегда как руководитель и исповедник, но часто в роли шута королевича, в роли импрессарио за кулисами и в роли советника, там, где нужен совет. Если необходимо взять крепость, а нельзя этого сделать силой, то овладевают ей хитростью: media sunt licita.
— Нам незачем говорить это, — сказал гость, — откройте мне ваши планы.
— Мы должны поступать осторожно, — начал Гуарини, — и нам не раз придется вздохнуть над нашей превратностью; но как же идти со слабыми людьми, если не вести их посредством их собственных страстей?.. За королеву я ручаюсь, и первой нашей задачей должно быть охранять ее и сохранить ее влияние. Но эта святая женщина, простите меня за выражение, совсем не сносна в семейной жизни; король же нуждается в развлечении и без него он не в состоянии жить. Если его мы ему не дадим, он бросится в наиболее запрещенное, он готов…
Падре Гуарини не закончил и, помолчав немного, снова сказал:
— Сулковский не будет слушать никого, он для своего "я" принесет все в жертву и ни перед чем не остановится, чтобы удержать короля в своих руках; он даст ему все, чего только тот захочет. Мы никогда не можем на него рассчитывать, и поэтому необходимо его свалить с ног.
— Но каким образом?
— Провидение дало нам в руки превосходное оружие: у нас есть человек — это Брюль.
— Протестант, — прервал гость.
— В Саксонии и открыто — да, но в Польше и дома он католик; мы должны допустить это; вы знаете, что наши великие руководители допускают и одобряют это. Брюль будет или, пожалуй, смело можно сказать, уже стал католиком. Мы дадим ему жену католичку, которую оп получит из рук королевы и наших; кроме того, мы поможем ему свалить Сулковского, и тогда с ним мы здесь хозяева. Никто не станет нас подозревать в участии, потому что явно мы не могли бы держать заодно с протестантом против католика.
— Но уверены ли вы в нем?
Падре Гуарини улыбнулся.
— Он будет в нашей власти и будет зависеть от нас; если он подумает сегодня об измене, завтра же он падет; для этого у нас много средств.
— План великолепен, не спорю, — подумав, заметил незнакомец, — но выполнение его кажется мне сомнительным.
— Сегодня или завтра его, конечно, невозможно привести в исполнение, — отвечал падре Гуарини. — Очень возможно, что нам придется работать год, два, может быть, и больше, но победа так верна, как только может быть верен расчет в человеческих делах при милости Божией.
— Вы все основываете на характере курфюрста?
— Именно, — отвечал Гуарини, — но я в качестве исповедника много уже лет нахожусь с ним, при нем, могу даже сказать, "в нем". Я его знаю как дитя, которое вынянчил на своих руках.
— А королева? — спросил гость.
— Святая и честная женщина, но Господь совершенно не дал ей женственности, никакой привлекательности, никакой власти. Для такого государя ее недостаточно.
— Ради Бога, ведь вы не допустите, чтобы он бесился как отец, подавал дурной пример и бросился в необузданный разврат?
— Нам незачем даже удерживать его, — заметил Гуарини, — его удержит от явного, но не от тайного разврата, сама его натура. Страсти его будут скрытые, невидимые, но непобедимые. Мы должны будем многое перенести, со многим примириться и на многое закрыть глаза, чтобы удержать его в нашей вере.
Гость сложил руки и печально покачал головой.
— Горе, горе тем, которые для своего дела должны работать в грязи! Да и как здесь не испачкаться, как остаться чистым!
— Нужен же кто-нибудь, который бы принес себя в жертву, как я несчастный, — вздохнул Гуарини, принимая шутливое выражение лица. — Многие мне завидуют…
— Только не я, не я! — возразил с поклоном гость.
— Итак, наши планы? — спросил падре.
— Пойдут на рассмотрение совета, — возразил гость, — но вы не переставайте действовать, мы вас уведомим, как можно скорее.
— Брюль удержится. Королевич, обливаясь слезами, клялся жене, что такова воля его отца. Сулковский будет только мнимым властителем, он же настоящим, а затем…
— Не думаете ли вы, что сумеете его удалить? — спросил гость.
— Мы в этом уверены, мы все заодно действуем против человека, у которого нет ни малейшего предчувствия, ни мысли об угрожающей ему опасности. А тщеславие Брюля составляет для нас надежное оружие.
— А что это за человек? — спросил незнакомец.
— Это сатана в человеческом теле, но сатана, который молится, повергшись на пол, а на другой день готов задушить человека как муху и не почувствует никакого угрызения совести. При этом он в высшей степени мил, любезен и привлекателен.
Они замолчали, незнакомец прижался в угол дивана и задумался.
— Не могу ли я быть чем-нибудь полезен? — спросил падре Гуарини.
Но вопрос этот остался неуслышанным, и только после продолжительного молчания гость спросил:
— Как идет дело обращения?
— Обращение? Здесь, в самом гнезде ереси, — сказал падре, — ще колокола католической святыни не имеют права отозваться, где протестантизм господствует и поедает все как ржавчина!.. Успех очень невелик, а души, которые вытаскиваются на берег нашими рыбачьими сетями, сами по себе немногого стоят. Разве их потомки вознаградят наш апостольский труд. К прочим ересям прибывает еще новая, бороться с которой будет еще труднее, чем со всеми другими.
— Что это значит? Что такое?
— Как и все ереси, она стара, но тот, который проповедует ее, человек богатый, честный, религиозный, воодушевленный, экзальтированный и желающий жертвовать собою для общего блага. Нам придется вести борьбу не с догматами, потому что они играют у него второстепенную роль, но с новым обществом, которое он хочет создать. Ложь получает здесь блеск и ясность истины. В лесах, вдали от города уже образовалось и живет общество Моравских братьев, образуя что-то в роде общины со строгим уставом.
— Это новость, говорите скорее, — с любопытством сказал собеседник Гуарини, — я ничего не слыхал.
— Это горячая голова, реформатор не веры, но общества и жизни. Он во имя Спасителя и завещанной Им любви хочет переделать свет. Королем этой Речи Посполитой будет Христос; разделенные между собой, но в одном месте, будут жить общины женщин, общины девиц, мужчин и детей. Связью между ними будет служить только общая молитва, скромные агапеи, то есть ужины, освященные молитвой. Граф Цинцендорф наделил общину землей и сам стал ее священником и проповедником. Труд и молитва, строгое исполнение своих обязанностей и братская любовь составляют правила жизни новых Моравских братьев или вернее, Геррнгутеров.
Гость внимательно слушал.
— И вы допустили, чтобы это гнездо опасной ереси поместилось здесь, где почва для нее подготовлена?
— До сих пор я напрасно старался помешать, — сказал Гуарини. — Отправлялись комиссии, производились следствия и допросы. Самое усердное и строгое следствие не открыло ничего предосудительного. Там люди самых разнообразных верований соединены в одно общество, которое имеет все общее, в котором нет нищих, сирот, и которое составляет одно семейство, имеющее своим отцом Христа.
Крик, полный изумления и возмущения, вырвался из груди слушающего.
— Это ужасно! — крикнул он. — А браки?
— Соблюдаются свято, но знаете ли как у них, верующих в беспосредственное управление Спасителя и вдохновения, совершаются браки? Юношам по жребию достаются жены, и супруги живут примерно.
— Какие удивительные вещи вы мне рассказываете! Но ведь это только слухи; ведь это невозможно.
— Я сам был там, — возразил Гуарини, — я сам смотрел на шедших на молитву девиц в пунцовых лентах, замужних в голубых и вдов в белых.
Гость вздохнул.
— Надеюсь, вы не потерпите, чтобы у нас под боком разрасталось такое скопище? Вы бы лучше всего сделали, если бы направили против них лютеранское духовенство.
— Оно не находит в этом ничего предосудительного.
— А Цинцендорф, встречались вы с ним?
— Да, и не раз, так как он не избегает ни католиков, ни духовных; напротив того, он охотно рассуждает, но только не о теологии, а о первых христианах, о их жизни и любви к Спасителю, как об оси, на которой должен вращаться весь христианский мир.
В то время, когда он договаривал эти слова, старый слуга, отворив немного двери, рукой стал звать отца Гуарини, а тот, глазами извинившись перед гостем, поспешил в переднюю.
Здесь стоял королевский камердинер. Королевич призывал к себе своего исповедника. Нужно было проститься с гостем, которому он велел подать лампу, бумагу и все, что нужно для письма. Тот расположился, как бы в своем доме. Между тем, падре Гуарини надел свою черную сутану, и простившись с незнакомцем, быстро сошел за камердинером с лестницы и отправился к королевичу.
В той же самой комнате, в которой застало его известие о смерти отца, сидел Фридрих в удобном кресле, с неизменной трубкою, с опущенной головой и по обыкновению молчал. Только сморщенный лоб свидетельствовал, что ум его деятельно работал.
Когда вошел отец Гуарини, королевич быстро приподнялся, но иезуит предупредил его, слегка удержав на кресле, и поцеловал его руку.
Немного в стороне стоял Сулковский, который ни на минуту не оставлял своего государя. Лицо его сияло от радости и передергивалось от нетерпения, но он придал ему выражение, подходящее к трауру, в котором находился двор.
Падре Гуарини было позволено намного больше; он знал, что несмотря на официальную печаль, развлечение очень желательно; поэтому лицо его было почти весело, когда он сел на низком табурете, рядом с королевичем и, смотря ему в глаза, стал говорить по-итальянски.
— Нужно помолиться за нашего великого покойного государя, но не следует терзаться тем, что составляет неизбежную судьбу всех смертных и является естественным и необходимым. Чрезмерная печаль вредно действует на здоровье, а у вашего величества притом же нет и времени отдаваться печали. Нужно царствовать, управлять и сохранять себя для нас.
Королевич чуть-чуть улыбнулся и покачал головой.
— Я видел в передней Фроша (это был придворный шут королевича); он, словно облитый уксусом, сидит, свернувшись в клубок, и плачет, потому что не может смеяться и что ему нельзя дурить с Шторхом (другой шут). Один в одном углу, другой в другом, смотрят друг на друга и показывают языки.
— Как это должно быть смешно! — прошептал королевич. — Но я не могу этого видеть, ни даже завтра во время обеда; нет, нельзя: траур.
Гуарини промолчал.
— Фрош очень комичен, я люблю его, — сказал королевич и взглянул на Сулковского, который тихо ходил по комнате,
Падре тоже старался что-нибудь отгадать по его лицу, но на нем не выражалось ничего, кроме надменности и удовольствия. Королевич показал на него отцу Гуарини пальцем и шепнул:
— Он добрый друг… Он моя надежда… Если бы не он, не было бы мне спокойствия.
Патер утвердительно наклонил голову.
В это время Сулковский, который знал, как неприятен и утомителен для королевича продолжительный разговор, приблизился и сказал отцу Гуарини:
— Положительно нечем развлечь его величество… а тут еще столько забот…
— Я думаю, что с вашей помощью все устроится к лучшему, — заметил иезуит.
— Здесь, в Саксонии, конечно, — возразил Сулковский, на которого дружелюбно посматривал королевич, — здесь в Саксонии… Но в Польше…
— Его величество покойный король оставил там много друзей и верных слуг, как, например, его преосвященство епископ Липский. Но что говорит Брюль? — спросил Гуарини.
Королевич взглянул на Сулковского, как бы уполномочивая его отвечать. Сулковский при имени Брюля несколько колебался, но потом отвечал:
— И Брюль, и письма из Польши свидетельствуют, что наши сторонники будут верно и усердно стараться на выборах. Но кто знает, не вздумает ли стать нам на дороге Лещинский, помощь Франции, интриги? На все это нужны деньги.
Королевич слегка ударил Сулковского по руке.
— Это дело Брюля, он их должен добыть, в этом отношении он незаменим.
Сулковский не ответил ни слова.
— Мы все будем стараться достать их, а королевскую корону мы во что бы то ни стало наденем на голову нашего государя…
— И Жозефины, — быстро прервал Фридрих. — Для Жозефины она необходима. Она не может остаться женой курфюрста.
Оба присутствовавшие в молчании наклонили головы, а королевич продолжал задумчиво курить трубку. Казалось, что он и дальше будет говорить о том же, но, наклонившись к отцу Гуарини, он шепнул:
— А ведь кающийся в углу Фрош должен быть великолепен. Вы говорите, что они показывали друг другу языки?
— Друг другу или мне, этого я не знаю, но только верно, что, проходя, я увидал два красных, высунутых языка.
Забывшись, королевич громко расхохотался, но вдруг приложил руку к губам и, сконфузившись, замолчал. Сулковский остановился, призадумавшись, и с некоторым недоумением взглянул на патера.
Но немного спустя Фридрих опять нагнулся к отцу Гуарини и, закрываясь рукой, спросил:
— Видели вы Фаустину?
— Нет, — отвечал Гуарини.
— Как нет? Почему? Скажите ей, уверьте ее… Пусть только бережет голос. Я ее очень, очень ценю и уважаю. Е una diva! Ангельский голосок; никто с ней не сравнится. Мне очень скучно, когда я не слышу ее голоса. Но она должна петь теперь в церкви, я хоть там услышу ее.
Сулковскому не особенно нравилось это шептание; он отошел на несколько шагов, но тотчас опять вернулся и остановился перед королевичем. Фридрих показал на него патеру.
— Он будет первым моим министром; это моя правая рука. Гуарини одобрительно покачал головой.
— С радостью слышу я это! — воскликнул он. — Дай Бог, чтобы в Саксонии стояли во главе правления все такие люди, католики, как граф.
Королевич оглянулся.
— Если мои саксонцы не допустят его как католика быть министром, я найду на это средство: добрый Брюль сделает все, что я ему велю…
— Я не имею ничего против Брюля, — возразил Гуарини, — но ведь он завзятый еретик.
На это королевич вместо ответа испустил какой-то звук и махнул рукой в воздухе.
Сулковский с некоторым недоверием взглянул на падре Гуарини, который принял смиренный и покойный вид.
Во время этого разговора доложили о Мошинском, которого король велел принять. Тот вошел и приложился к королевской руке. Он был в трауре и с печальным лицом.
— Я пришел проститься с вашим величеством, так как сейчас еду в Варшаву, чтобы действовать в вашу пользу на выборах.
— Да, да, поезжай, поезжай, — сказал со вздохом королевич, — хотя Брюль меня уверяет…
— Брюль не знает ни Польши, ни поляков, — быстро отвечал Мошинский. — Это нас касается, это наше дело.
Вдруг, как бы припомнив что-то, Фридрих быстро встал.
— Как это кстати! Вы едете в Варшаву: пожалуйста, в Виллянове остались гончие собаки… Я хочу взять их сюда. Прикажите доставить их поскорее. Я не знаю собак лучше этих. Вы знаете?..
— Знаю, черные, — сказал Мошинский.
— Юпитер, Диана, Меркурий, Пиявка, — стал считать королевич. — Присмотрите, прошу вас, чтобы их доставили сюда в целости.
— Мне кажется, что лучше оставить их там, — заметил Мошинский, — когда королевич приедет туда уже как король…
— Дорогой мой, возьми в Саксонском дворце Магдалину и привези ее, там, пожалуй, с ней что-нибудь сделают. Только уложи ее хорошенько, оберни ватой: ведь это произведение, не имеющее цены.
Мошинский поклонился.
— Может быть еще будут какие-нибудь приказания? — спросил он.
— Поклонись мушкетерам; мой отец очень любил их, — прибавил королевич со вздохом.
Воспоминание об отце опять омрачило его чело. Королевич сел, и Сулковский, постоянно заботившийся, чтобы он не чувствовал недостатка в том, что любил, вышел и сделал знак камердинеру, в заведовании которого находился табак; тот тотчас подал трубку и горящий фитиль; королевич жадно взял в губы эту утешительницу и, с удовольствием затягиваясь, стал пускать сквозь губы дым.
В комнате воцарилось молчание.
Падре Гуарини внимательно присматривался к Фридриху. Мошинский некоторое время ждал, но напрасно: трубка и размышление всецело поглотили королевича, так что он забыл обо всем окружающем; только он сильнее затягивался и вздыхал.
Наконец Мошинский подошел к руке короля и попрощался с ним. Фридрих расстался с ним дружески, но не сказал ни слова, а только взглядом выразил ему свое расположение.
Сулковский пошел провожать Мошинского в переднюю, так что королевич остался вдвоем с отцом Гуарини. Лишь только двери закрылись, как он обратился к патеру.
— Это еще что, — прошептал он, — что они показывают друг другу язык! Но когда они начнут драться, когда Фрош примется ругать Шторха, а тот лягаться, потом сцепятся и, свернувшись в клубок, падают под стол, тогда, я вам говорю, хоть умирай со смеху!
Гуарини, казалось, вполне разделял мнение королевича о необыкновенном комизме описанной сцены и сам скорчил гримасу, столь комичную и веселую, что бедный государь-сирота опять надолго забыл о своем горе.
— Нет, завтра их нельзя пускать к обеду, но после, — тихо сказал он. — Только, чтобы они не забыли своих великолепных выходок.
Гуарини встал; он, по-видимому, торопился к оставленному дома гостю. Заметив это движение, королевич переменил тон и, нагнувшись к патеру, сказал:
— Не сердитесь на меня за то, что я хочу сделать этого Брюля министром, хотя он лютеранин. Он потихоньку примет католичество. Это человек умный и я ему велю; увидите.
Гуарини ничего не отвечал. И, поклонившись, вышел из комнаты.
VIII
Во времена Августа Сильного в Дрездене не было недостатка в прекрасных дамах. Несмотря на частые доказательства непостоянства короля, каждая из них надеялась, что хоть на минуту обратит на себя королевский взор, хотя все знали, что он не остановится долго на одной.
Однако между подрастающими девицами не было прекраснее и привлекательнее, чем графиня Франциска Коловрат, та же самая маленькая Франя, которая некогда принимала Брюля во дворце в Ташенберге и которую мы видели хозяйничавшую во время карнавала при одном из королевских столов. Высокое положение матери, которая, будучи главной ключницей двора королевы, уступала с дороги только перед членами королевского семейства, милости королевы, надежда блестящей карьеры, имя, которое она носила, делали девушку надменной и самодовольной. Чем становилась она старше, тем труднее было матери ладить с ней. Единственная дочь и любимица, она, несмотря на строгий взгляд королевы, умела всегда освободиться от уз этикета и среди двора завязать много знакомств и любовных интрижек. Будущее, по-видимому, ее нисколько не пугало. На брак она смотрела, как на средство освободиться из-под ярма, которым она тяготилась.
Несколько дней по получении известий о смерти короля, когда траур еще не был снят и все удовольствия были приостановлены, панна Франциска скучала более, чем когда-нибудь. Черное платье, которое в качестве фрейлины королевы, она должна была надеть, было ей очень к лицу, но не по вкусу. Вечером она стояла в своей комнатке перед зеркалом и рассматривала свою прекрасную фигуру и лицо.
Сумерки все более сгущались, так что она могла видеть неясное туманное изображение своей особы. Она позвонила, чтобы подали огонь, но входящий камердинер, как бы предугадывая ее желание, нес в руках тяжелые серебряные подсвечники, которые поставил на стол. Франя была одна дома, так как мать исполняла свою должность при королеве; таким образом, она была свободна до ужина и сама не знала как убить ей это время. Она обернулась на одной ноге, и взор ее упал на шкатулку, отделанную бронзой. Она взяла ее с маленького столика, поставила на стоящий перед диваном и, достав маленький ключик, который всегда носила при себе, отворила ее. Внутри было множество мелких драгоценностей и измятых бумажек. Графиня от нечего делать начала их перебирать своими маленькими пальчиками. По наружности можно было угадать, что в бумажках этих не было ничего, касающегося католической религии и Бога; это были молитвы, писанные божеству, которое теперь рассматривало их с чувством гордости и презрения. Некоторые она отбрасывала с улыбкой и не читая, другие, еле взглянув на них, более счастливые, она прочитывала с блестящими глазами и задумывалась. На пальчике ее блистало только что вынутое колечко, на которое она страстно смотрела. Это было колечко черное эмалированное, старое, некрасивое, но на черной эмали было написано по-испански неизящным почерком: Ahora y siempre (теперь и всегда).
В комнате панны Франциски, кроме главных дверей, ведших в комнаты ее матери, была еще другая, маленькая, скрытая в стене, которая вела в крошечную переднюю и на какую-то черную лестницу. В то время, когда она призадумалась, смотря на колечко, эта маленькая дверь тихо отворилась, и кто-то осторожно проскользнул в комнату…
Графиня, не слыша его, угадала, подняла голову и с легким подавленным криком поднялась с дивана. Перед ней стоял прекрасный, молодой Вацдорф. Мы уже видели его у Фаустины, когда он позволял себе слишком смело судить и острить. Сегодня лицо его имело совершенно другое выражение; оно было печально и задумчиво. Легкий след иронии, которой лицо это было как бы насквозь пропитано, был чуть заметен.
Прекрасная Франя, как бы испугавшись его прихода, стояла молча, и не двигаясь с места.
Вацдорф глазами молил ее о прощении.
— Разве можно так поступать, Христиан! — воскликнула она голосом действительно или притворно взволнованным. — Как вы могли осмелиться! Столько людей… Вас могли увидеть, донести… Королева так строга, а моя мать…
— Никто меня не мог видеть, — возразил Вацдорф, подходя к ней. — Франя, божество ты мое! Я, съежившись, сидел, выжидая целыми часами под лестницей, чтобы увидать тебя хоть на одну минуту, чтобы поговорить с тобой. Мать твоя читает или молится с государыней, дома нет никого.
— Эти вечно краденые минуты!.. — воскликнула Франя. — Я не люблю такого ворованного счастья!
— Терпите, пока придет другое, — сказал Вацдорф, беря ее руку, — потерпите, я надеюсь…
— А я совсем нет, — прервала его графиня. — Мною распорядятся против моей воли, как вещью, королева, королевич, мать, падре Гуарини; кто их знает, я ведь раба!
— Бежим отсюда!
— Неужели? Куда? — смеясь, отвечала Франя. — Не в Австрию ли, где нас поймают императорские слуги? В Пруссию, где схватят бранденбуржцы? Бежим? Превосходно! Но с чем и как? У тебя, Христиан, нет ничего, кроме места при дворе, я тоже ничего не имею, кроме милости короля и королевы. Вацдорф задумался.
— Но сердце твоей матери…
— Да, но это сердце будет искать для меня счастья с бриллиантами, другого оно не понимает.
— Франя, дорогая моя! Что ты говоришь? Как ты поступаешь со мной? Разве я затем пришел, чтобы ты отняла у меня последнюю надежду?
— Разве я могу дать тебе то, чего сама не имею? — возразила графиня печально и холодно.
— Потому что ты не любишь, меня!
Прекрасная Франя взглянула на него с упреком.
— Я никогда не любила никого, кроме тебя! — сказала она. — Никого не сумею полюбить, и именно потому, что ты мне мил, я и хочу поговорить с тобой откровенно.
Вацдорф облокотился одной рукой на ручку дивана и опустил глаза в землю.
— Понимаю, — пробормотал он, — ты будешь мне доказывать, что именно потому, что ты любишь меня, ты не можешь быть моей и я должен отказаться от трбя. Такова обыкновенно логика любви при дворе. Потому только, что я тебя люблю, что ты меня любишь, ты должна выйти замуж за другого…
— Да, именно, я выйду за первого встречного, которого мне дадут; но он не будет иметь моего сердца, а только холодную руку…
— Это мерзко, — прервал Вацдорф, — это гадко. Неужели ты не имеешь ничего для меня?
— Я бы тебя погубила, — возразила Франя, — если бы согласилась бежать с тобою. Завтра же нас настигли бы и тебя посадили бы в Кенипптейн, а меня отдали тому, на кого падет выбор.
— Мне, как кажется, псе равно не миновать Кенигштейна, — воскликнул Вацдорф, — так как я не могу молча смотреть на эту безобразную жизнь, на этот деспотизм лакеев! Я говорю то, что думаю, а это, как вам известно, отличное средство, чтобы попасть туда, где уже не с кем говорить, разве только обращаясь к четырем холодным стенам тюрьмы.
— Послушай, Христиан; мы должны не говорить, а молчать, и вместо того, чтобы желать исправить их, мы должны их презирать и властвовать над ними.
— Подчиняясь их фанатизму и проводя всю жизнь в лжи и обмане! Нечего сказать, прекрасная перспектива!
— В таком случае лучше отказаться от всего, — засмеялась Франя. — Я женщина, я не фантазирую, а беру жизнь такою, какова она на самом деле.
— А я такой не хочу! — проворчал Вацдорф.
Графиня подала ему руку.
— Бедный ты идеалист! — со вздохом промолвила она. — Если б ты только знал, как мне жалко и тебя, и себя: ничего в будущем, никакой надежды… А если нам на минуту и засияет счастье, то не иначе, как среди лжи и обмана.
Она еще более приблизилась к Вацдорфу, одну руку положила ему на плечо, а другой обняла его за шею.
— Да, эта жизнь, — прошептала она, — это такая жизнь, что для того, чтобы переносить ее, нужно быть пьяным…
— И обманщиком! — прибавил Вацдорф, схватив ее руку и страстно прижимая к губам. — Франя! Нет, ты меня не любишь! Больше, чем меня, ты любишь жизнь, свет и твои золотые цепи!
Графиня печально поникла головой.
— Кто знает, — тихо сказала она, — я сама себя не знаю. Меня воспитали, убаюкивая ложью, и учили обману и притворству, возбуждая в то же время желание впечатлений, увеселений и роскоши. Я даже не уверена в своем сердце; начиная жить, я уже была испорчена.
— Любовь излечила бы нас обоих, — страстно проговорил Вацдорф, смотря ей в глаза. — Я тоже был обыкновенным придворным до тех пор, пока не полюбил тебя… Эта любовь, подобно огню, очистила меня, и я стал человеком.
Графиня шепотом ему что-то сказала и склонила голову на его плечо. Вацдорф равно как и она, по-видимому, забыл обо всем, кроме себя; глаза их говорили лучше, чем слова; руки их встретились и сплелись.
Они забылись до того, что не услышали, как скрипнули двери, которыми вошел Вацдорф, и не заметили показавшегося в них грозного, мрачного, бледного и пылающего гневом лица матери. Она вошла и остановилась, словно окаменелая, увидав дочь с мужчиной, которого она не могла узнать… Гнев не позволял ей вымолвить ни слова…
Наконец, она пришла в себя, сделала шаг вперед и прежде, чем ее заметили, рванула Вацдорфа за руку.
Выражение глаз ее было ужасающе, губы дрожали. Франя подняла глаза и увидела перед собой грозное лицо матери. Нисколько не испуганная, она только сделала шаг назад, а Вацдорф машинально хватился за эфес шпаги, не видя еще, кто их накрыл. Только, когда обернувшись, он увидел графиню, он остановился бледный и смущенный, как преступник, уличенный на месте преступления.
Главная ключница от гнева не могла вымолвить ни слова. Она только прерывисто дышала и, схватившись одной рукой за грудь, другою повелительно указала Вацдорфу на двери. Но тот, прежде чем послушаться ее, нагнулся к руке Франи, которую она ему протянула, и прижал ее к губам; но мать вырвала ее у него, заслонила собой дочь и, дрожа, опять указала на двери.
Христиан взглянул на побледневшую Франю и медленно вышел. Графиня упала на диван… Франя же стояла холодная и равнодушная, как статуя, только личико ее покрылось бледностью. У графини потекли слезы из глаз.
— Бесстыдная! — насилу могла вымолвить она. — Ты дошла уже до того, что в твоей собственной квартире, на глазах у всего двора назначаешь свидания мужчинам!
— Потому что я люблю его! — сухо отвечала дочь. — Да, я люблю его!
— Чудовище! И ты еще смеешь говорить мне это!
— Почему мне не говорить того, что я чувствую? Графиня разразилась рыданиями.
— Ты думаешь, что я допущу, чтобы ради этой глупой любви, ради этого проходимца, которого еле терпят при дворе, чтобы ты ставила на карту всю свою будущность? Никогда и ни за что в мире!
— Я никогда не ждала и не надеялась быть счастливой и честной, — холодно возразила Франя. — Я могла заранее предвидеть мою судьбу.
— Ты с ума сошла! — кипятилась мать.
Франя села на стул против нее, машинально взяла цветок из стоящего на столике букета цветов и поднесла его к губам.
Лицо ее выражало холодное и ироническое решение; мать ожидала совершенно иного впечатления и с испугом отшатнулась.
— Счастье еще, что никто не видал, — говорила графиня как бы про себя. — Завтра же прикажу заколотить эти двери, а тебя запру, как пленницу… Могла ли я ожидать, что доживу до такого позора!..
Франя продолжала грызть цветок и, казалось, приготовилась выслушать все упреки, какие будет угодно выговорить матери.
Это почти презрительное молчание дочери только усиливало гнев графини.
Она вскочила с места и начала ходить по комнате большими шагами.
— Если Вацдорф осмелится еще раз приблизиться, заговорить с тобой, или взглянуть на тебя, тогда горе ему! Я упаду к ногам государыни, скажу Сулковскому, и его запрут навеки.
— Не думаю, чтобы он стал рисковать, — заметила Франя. — Именно сегодня я отняла у него последнюю надежду; я ему сказала, что не завишу от себя, что мной распорядятся, как вещью, что я выйду замуж за того, за кого мне велят идти, но что любить буду только его одного…
— Как ты смеешь говорить мне это?
— Еще раз повторяю вам, мама, что я откровенна, и я говорю то, что я думаю. Тот, кто женится на мне, с первого же дня увидит, чего он может от меня ожидать.
Графиня бросила на дочь грозный взгляд, но не сказала ничего. Вдруг она остановилась перед дочерью.
— Неблагодарная! Неблагодарная! — промолвила она растроганным голосом. — В то самое время, когда я с государыней старалась приготовить для тебя блестящую судьбу, ты…
— Судьбу жертвы, украшенной золотом и цветами, — горько засмеявшись, отвечала Франя. — Я давно уже имела предчувствие, что меня ждет подобная судьба; она не могла меня миновать.
— И не минует, потому что ты не можешь противиться, как воле твоей государыни, так и воле матери и государя…
— Который не имеет никакой воли… — саркастически заметила Франя.
— Молчи! — грозно прервала графиня. — Я шла уведомить тебя о счастье, а нашла здесь стыд и позор.
— Меня даже незачем уведомлять о том, что я отлично знаю. Сулковский женат, следовательно, я назначена другому министру короля — Брюлю. Этого я давно ожидала. Действительно, это большое счастье!
— Большее, чем то, которого ты заслуживаешь. Разве ты можешь сказать что-нибудь против этого милого и умного человека?
— Положительно ничего, он для меня совершенно безразличен; он, или кто другой, это мне все равно, если только не тот, которого я люблю.
— Не смей даже вспоминать мне его имени; я его ненавижу! Если он осмелится хоть на шаг приблизиться к тебе, он погибнет!
— Я предупрежу его, — сухо возразила Франя. — Я не хочу, чтобы он погиб, но чтобы отомстил за меня.
— Не смей даже подойти к нему и говорить с ним; я тебе это строго запрещаю.
Франя промолчала.
Разговор продолжался в этом роде еще с полчаса.
Главная ключница, привыкшая к строгому порядку, заведенному при дворе, с ужасом заметила, что она опоздала к королеве на пять минут.
Она бросилась к зеркалу, чтобы привести в порядок свой туалет, и, повернугшись, повелительным тоном сказала дочери:
— Ты пойдешь со мной, королева велела тебе явиться. Ты знаешь, как должна держать себя.
Наступило время ужина; осмотрев платье дочери, графиня увела ее с собой.
Строгий этикет двора, за которым ревностно следила королева и который она устроила по примеру австрийского двора, не позволял никому, исключая министров, садиться к королевскому столу. И на них даже королева Жозефина смотрела не особенно охотно. Ключница, управляющие, высшие чиновники, находящиеся во дворце во время ужина, удалялись в маршалковскую залу, где для них был сервирован другой стол.
В этот день ужинали только король с женой. Падре Гуарини, который никогда не ужинал, сидел в стороне на табурете для составления общества. Обыкновенно, при менее грустных обстоятельствах, он развлекал Фридриха веселыми шутками, наравне с двумя его шутами Фрошем и Шторхом. Чаще всего они дрались и городили всякую чушь, а королевич смеялся, подзадоривал их и бывал тогда в великолепном расположении духа. Теперь, однако, свежий траур не позволял шутам исполнять их обязанностей, тем не менее, принимая во внимание, что необходимо развлечь Фридриха, Гуарини позволил, чтобы Фрош и Шторх поместились в углу залы, не позволяя себе обыкновенных выходок. Их поставили так, чтобы королевич сразу мог их заметить. Стол был сервирован великолепно и ярко освещен. Фридрих вошел, держа под руку жену, удивительно обыкновенное и некрасивое лицо которой много теряло при красном и величественном, но как бы застывшем лице мужа.
Тип Габсбургов выразился в графине очень неудачно; еще молодая, она не имела ни капли привлекательности, свойственной молодости; отстающая губа, мрачное выражение лица и что-то суровое и нисколько неинтеллигентное во всей ее фигуре производило положительно отталкивающее впечатление.
В то время, когда падре Гуарини читал Benedicite, супруги стояли, набожно сложив руки, прислуга ждала. Фридрих рассеянно сел за стол, но в то же самое время глаза его, блуждая по комнате, остановились на стоящих в углу Фроше и Шторхе, которые сделали столь серьезные физиономии, что, благодаря этому, были еще более комичны.
Фрош был почти карлик. Шторх же неимоверно высокий и худой, с длинным носом. Оба они были одеты совершенно одинаково. Несмотря на то, что весь двор был в трауре, на них были надеты красные фраки и плюшевые голубые брючки. На голове у Фроша был парик, завитой в мелкие барашки, что выглядело очень комично; у Шторха же он состоял из длинных невьющихся волос, связанных назади в один пучок. Фрош, расставив ноги и заложив руки за спину, стоял как Колосс Родосский, а своими выпуклыми глазами и глуповатой плоской физиономией он очень напоминал лягушку. Шторх же выпрямился как свеча, сжал коленки, словно гренадер, стоящий на часах, руки висели по швам, голова была поднята кверху, и рот раскрыт; все это делало его очень смешным.
Королевич, увидав их, улыбнулся, но издали погрозил им пальцем, приказывая, чтобы они вели себя смирно. Шторх, не делая ни малейшего движения, знаменательно взглянул на Фроша, тот отвечал тем же. Королевич ел с аппетитом, пил с жадностью и в то же время посматривал на двух своих фаворитов; он жалел, что не может им позволить их обыкновенных шуток, но шум сделался бы неприличным, так как Фрош и Шторх во время обеда доходили до того в своих шалостях, что свернувшись в клубок, падали под стол, на котором королевич ужинал.
Один их вид произвел то, что королевич повеселел; кроме того, его радовало то, что Брюль и Сулковский так хорошо ладили с собой, так как Брюль добровольно, геройски даже, отказался в пользу Сулковского от должности главного эконома двора, а сам удовольствовался только председательством в совете министров, акцизом, податями и заведованием государственной кассой. И это только было до поры до времени. Сулковский надеялся, что все это вскоре перейдет к нему.
Но будущее было неизвестно.
Брюль изъявлял самую горячую дружбу к товарищу, а граф, будучи уверен в расположении к нему государя, нисколько не опасался в нем соперника.
Сдав все заботы на этих двух людей, королевич как бы освободился от тяжелого бремени. Он чувствовал себя хорошо и мог опять начать свою любимую, однообразную жизнь.
Ему не доставало только оперы, возлюбленной Фаустини, охоты, и он тяготился трауром. Но все это вскоре могло быть приведено в порядок.
В Польше Мошинский, епископ Липский и многие друзья обещали хлопотать на выборах, Брюль же уверял, что они окончатся благополучно для Фридриха.
Несколько дней спустя после получения известия о смерти отца, Фридрих объявил, что все, что обожаемый им Август Великий сделал, начал, решил, остается в полной своей силе и ни в чем не будет изменено. Страна, которая надеялась отдохнуть, вскоре убедилась, что для нее ничего не изменится, только подати начали собирать настоятельнее. В этот вечер королевич тотчас после ужина ушел в свои комнаты в сопровождении Сулковского, за ним отправился и Брюль. В другой зале собралось немногочисленное общество, состоящее из придворных королевы Жозефины, между которыми, шутя и остря, прохаживался патер Гуарини.
Сказав присутствующим всего несколько слов, королева сделала ключнице знак головой и вошла в свой кабинет; вслед за ней отправилась и графиня Коловрат, приказав дочери идти вместе.
Жозефина стояла посреди залы, как бы чего ожидая. Франя вошла с матерью, не выказывая ни страха, ни беспокойства. Королева сделала ей знак, приказывая подойти.
— Дитя мое, — сказала она сухим и неприятным голосом, — время подумать о твоей будущности… Я хочу заняться ею.
Опасаясь неподходящего ответа со стороны дочери, графиня быстро сказала:
— Мы обязаны вашему величеству вечной благодарностью.
— Я знаю, что ты ревностная католичка, — прибавила королева, — и поэтому я прежде всего должна уверить тебя, что твой будущий муж, хотя судьба и не дала ему родиться в нашей святой вере, примет ее. Таким образом у тебя будет утешение, что ты хоть одну душу спасла для Бога.
Франя равнодушно слушала и, по-видимому, утешение это не производило на нее никакого впечатления.
Королева взглянула на нее, но не могла ничего прочесть на ее молодом, как бы застывшем лице.
— Могу поздравить тебя с выбором, который мы сделали с твоею матерью. Человек, которого мы назначили тебе мужем, известен своей набожностью, характером и умом. Это министр Брюль.
Сказав это, Жозефина опять взглянула на Франю, но та стояла, словно немая.
— Ты должна сойтись с ним, узнать его и дать узнать себя, и я надеюсь, вы будете счастливы.
Мать толкнула дочь, приказывая поцеловать руку королевы; Франя молча наклонила голову и отошла. Это было простительно молодой девушке, пораженной и смущенной таким неожиданным счастьем.
Так закончился этот день, памятный в жизни женщины, которая так равнодушно смотрела на свою будущность. На следующий день, вероятно, следуя советам матери, Брюль утром, когда молодая графиня была одна, приказал доложить о себе. Она приняла его в той самой комнате, в которой вчера, на груди Вацдорфа, прощалась с надеждой на счастье.
Черное траурное платье было ей очень к лицу, она казалась еще красивее и изящнее. Кроме бледности, покрывавшей ее лицо, ничто не говорило о ее душевных страданиях. Холодное решение придавало ее чертам выражение повелительности, заставлявшее каждого чувствовать себя неловко в ее присутствии.
Брюль был самым ревностным поклонником моды и придавал большое значение умению одеваться. В этот день, хотя в трауре, он был одет особенно тщательно. Красивое лицо его и фигура казались уже чересчур женственным; улыбка, не сходившая все время с губ его, показалась на них вместе с тем, как он вошел в комнату. На сколько Франя была серьезна и задумчива, настолько он казался веселым и счастливым. Он поспешно приблизился к столу, около которого сидела Франя. Она приветствовала его легким наклонением головы и указала на стул, стоявший в некотором отдалении.
— Я вижу, что у вас и лицо сегодня печальнее обыкновенного, вероятно для того, чтобы оно гармонировало с тем трауром, который мы носим, тогда как я… я…
— Вы веселее, чем когда-нибудь, — прервала его Франя, — что же вас так осчастливило?
— Надеюсь, что вы уже уведомлены об этом, — сказал Брюль, прикладывая руку к груди.
— К чему эта комедия, ни вы меня, ни я вас не обману. Мне велят идти за вас замуж, тогда как я люблю другого; вам велят жениться на мне, хотя вы тоже любите другую. Право, в этом нет ничего веселого.
— Я, я люблю другую?.. — отвечал Брюль, притворяясь удивленным.
— Вы давно и страстно любите Мошинскую; об этом, мне кажется, знает она сама, ее муж и целый свет; как же вы хотите, чтобы я, живя при дворе, не знала об этом?
— Если вам угодно сказать, что я любил ее когда-то… — начал Брюль.
— Старая любовь не ржавеет.
— Но вы… вы ведь тоже признались?
— Да, я и не скрываю, что люблю другого.
— Кого?
— Мне незачем выдавать его и моей тайны… Достаточно того, что я откровенно и заранее говорю об этом.
— Это очень печально для меня! — воскликнул Брюль.
— Но бесконечно печальнее для меня, — прибавила Франя. — Неужели вы не могли себе найти другой, которую сделали бы счастливой?
Она взглянула на него. Брюль смутился.
— Это воля королевича и королевы.
— Отца Гуарини и так далее. Понимаю. Итак, это неисправимо?
— Панна Франциска, — сказал Брюль, придвигаясь к ней вместе со стулом, — я питаю надежду, что сумею заслужить ваше расположение… я…
— А я не питаю никакой надежды, — заметила Франя. — Но когда уже наш брак решен и неизбежен… то лучше будет, если мы заранее выясним наше положение и приготовимся к тому, что нас ожидает.
— Я буду стараться, чтобы вы были счастливы.
— Очень вам благодарна, я сама буду вынуждена постараться об этом; точно так же, как и вы позаботитесь о вашем счастье. Я вам не запрещаю любить Мошинскую, потому что это было бы напрасным трудом. Дочь Козель наследовала после смерти матери красоту и власть, я их не имею, к несчастью.
— Вы жестоки!
— Я только откровенна.
Брюль, несмотря на свое хладнокровие и умение вести разговор, чувствовал, что он уже не в состоянии поддержать его. Положение его становилось очень неловким; она же без малейшего смущения играла кончиком платка.
— Как бы там ни было, я не уйду отсюда с отчаянием в сердце. Я вас знаю с детства и давно уже считаю себя вашим поклонником; то, что вы говорите мне относительно Мошинской, было только непродолжительным увлечением, которое давно уже прошло. Мое сердце свободно, и я надеюсь, что со временем исчезнет ваше отвращение ко мне и предубеждение.
— Я не могу чувствовать к вам отвращения, потому что я к вам совершенно равнодушна.
— И это что-нибудь да значит, — сказал Брюль.
— Действительно, это значит то, что вы можете поселить во мне отвращение к вам, если будете добиваться моей любви… Это весьма возможно.
Брюль встал, лицо его пылало.
— Никогда, вероятно, искатель руки не был принят хуже, — сказал он со вздохом. — Однако, я сумею подавить в себе это тяжелое впечатление.
— Не жалуйтесь на меня королеве, — прибавила Франя, — а также матери и другим. Если ничего не переменится, если вы заупрямитесь или государыня прикажет, ежели мне уже необходимо быть жертвою, я пойду с вами к алтарю; но вы знаете, что берете и чего можете от меня ожидать.
Говоря это, она встала; Брюль, придав лицу своему самое умиленное выражение, приблизился к ней, желая взять ее за руку, но она отняла ее и сказала:
— Прощайте.
Не отвечая ни слова, министр вышел из комнаты. Лицо его за минуту перед тем печальное, опять сделалось веселым и улыбающимся. Никто, видя его, не догадался бы, что он столько проглотил оскорбительных признаний. Можно было допустить одно из двух: или что действительно это было для него безразлично, или что он великолепно умел владеть собою. Быстрым шагом прошел он пустые комнаты и только на пороге последней встретился с матерью.
Графиня Коловрат, прежде чем заговорить, внимательно взглянула ему в лицо… но не могла ничего в нем прочесть. Она подумала даже, что дочь сумела скрыть свои чувства, и это ей доставило большое удовольствие.
— Были вы у Франи?
— Я возвращаюсь оттуда.
— Как же она приняла вас?
Брюль медлил с ответом.
— Так, как принимают насильно навязанного, которому желают дать почувствовать, что он должен вознаградить за это.
— Вот что! Ну, у вас достаточно времени… По многим причинам, я не желала бы спешить со свадьбой.
— Я, напротив, потому что лучше всего искать сердце тогда, когда человек уверен в руке, — сказал Брюль. — Супружество сближает, позволяет лучше узнать друг друга, и я не теряю надежды, что дочь ваша, узнав меня и мою привязанность…
По лицу графини пробежала легкая улыбка.
— На сегодня довольно, — сказала она. — Франя так хороша, что нельзя не обожать ее, но она горда и энергична, как княгиня, на которую она походит. Если бы наш старый король был жив, я бы его боялась, потому что даже на него она производила впечатление.
Брюль, поговорив еще немного, ушел, вежливо простившись. Когда он сел в свой портшез, который ожидал его у крыльца, и остался один, лицо его опять омрачилось.
— Любопытно было бы, однако, узнать, кого она любит? — подумал он. — У нее всегда было столько обожателей, и всех она так щедро награждала взглядами и словами, что, действительно, трудно угадать, кому она отдала свое сердце. Я и не хочу претендовать на ее сердце… Мне нужна красота Франи. Кто знает, королевич недолго останется верным своей супруге… а в таком случае…
Брюль не закончил, но только улыбнулся.
— Она может не любить меня, но общие интересы сделают нас добрыми друзьями… Итак, о Мошинской все уже знают; любви и кашля невозможно скрыть, а эта любовь старинная и когда-то не было надобности скрывать ее.
Углубившись в эти размышления, Брюль и не заметил, как носилки остановились в сенях его дома.
Многочисленная прислуга, камердинеры, лакеи, секретари, поверенные ожидали его здесь. Когда открылись носилки, лицо Брюля снова сияло улыбкой и приветливостью, которая привлекала к нему все сердца.
Он ласково поздоровался и вошел на лестницу… Наверху уже ждал его Геннике.
Этот верный слуга тоже казался здоровым и веселым. Из морщинок его лица выглядывала холодная ирония. Глобик, Штаммер и Лесс ожидали его в канцелярии, в которую Брюль вбежал, как втолкнутый неведомой силой. Все встали с почтением при входе его превосходительства, за которым медленно шел Геннике. Министр хотел уже приступить к поверхностному рассмотрению бумаг, когда его верный наперсник прошептал ему на ухо:
— Вас ждут.
При этом он указал рукой на дверь залы, в которой в сером сюртуке с черными пуговками ходил взад и вперед до неузнаваемости измененный падре Гуарини.
IX
Королевич мог спокойно отдыхать, так как в Польше за него бодрствовали многие друзья, а в Дрездене работали Сулковский и Брюль.
Одинаково властолюбивый, Сулковский был более уверен в своем положении, чем его соперник. Он отлично знал характер королевича, и, что еще более имело значения, его привычки Фридрих с самого раннего детства был всегда с ним. С ним oi пережил много перемен, с ним он возмужал. Сулковский знал своего государя, потому что на глазах у него выработалось то, кем он был теперь.
Брюль же больше угадывал.
После обращения Августа II в католичество ради получения польской короны, обращения, которое было для него безразличным, так как он не имел никакой религии, папа Климент XI начал усиленно стараться, чтобы сын не заразился примером матери, которая была ревностной протестанткой, но чтобы он пошел по следам отца. Для Августа Сильного это дело было несколько щекотливое.
Избирательный польский престол легко мог миновать его сына; в протестантской же Саксонии религия составляла помеху и даже опасность. Впрочем, мать королева Эбергардина (из фамилии Бейрет) и бабушка Анна София (датская принцесса) наблюдали за тем, чтобы сын и внук их не пошел по следам отца. Обе эти дамы были не только ревностно, но неумолимо привязаны к своему исповеданию. Август II, что представляется более чем возможным, стремился к тому, чтобы сделать Польшу наследственной монархией, хотя бы пришлось для этого пожертвовать частью ее. Только питая эту надежду, он и хотел сделать сына католиком; при других обстоятельствах ему было положительно все равно: будет ли сын его католиком или лютеранином. На требовательное папское послание Август Сильный отвечал 4 сентября 1701 г., обещая, что сын его будет воспитан в католической вере, а 8 февраля 1702 года уверял саксонцев, что сын будет лютеранином. На самом же деле он сам еще не знал, что будет лучше и удобнее, и решил сообразоваться с политикой.
К маленькому Фридриху был приставлен его бабушкою Александр фон-Мильтиц, человек неспособный заняться столь важным делом. Впрочем, и сама княжна Анна, как свидетельствуют о том ее современники, не отличалась особенным умом, и после обеда она обыкновенно еще меньше, чем утром, знала, что делала.
Маленького Фридриха отняли у королевы Эбергардины, и бабушка взяла его к себе. Мильтиц — педант, скряга, лентяй — не мог иметь хорошего влияния на вверенного ему королевича. Индиферентный во всем, что касалось религии, он не придавал ей большого значения, зато протестантские духовные дворы королевы и его матери окружали молодого князя со всех сторон. Ни одного католика не допускали к маленькому воспитаннику. Об этом было донесено в Рим, и откуда пришло новое требование исполнения обещания.
Наконец двенадцатилетнего Фридриха вырвали из рук женщин и послали с учителем в первое путешествие, которое, однако же, продолжалось недолго. Обе королевы, сильно обеспокоенные, чтобы его не сделали католиком, приказали четырнадцатилетнему королевичу публично согласно с протестантскими обрядами принять утверждение в вере (конфирмация). Король, который в это время был в Данциге, сам известил об этом папу, заявляя при этом, что если бы не некоторые обстоятельства, он страшно наказал бы дерзких, которые осмелились сделать столь важный шаг без его ведома.
Обстоятельства сложились так, что Август нуждался в Риме и должен был заискивать; вследствие этого, он решил, что нужно исполнить обещание и обратить Фридриха в католичество. Из Польши был призван Лифляндский воевода Кос и сделан управляющим при молодом князе. Сулковский тогда уже находился при нем.
В 1711 году Август взял с собою сына в Польшу, откуда повез его в Прагу. Здесь он объяснился с нунцием Альбани. Было решено переменить весь двор королевича и всех окружающих его протестантов заменить католиками. Фридрих ничего не знал об этих переговорах и, вернувшись в Дрезден, в ближайшее воскресение был в лютеранской церкви. Вскоре после этого, он опять присутствовал при протестантском богослужении во Франкфурте во время выбора императора.
Тотчас после этого воевода Кос объявил приказание короля и уволил бывшего до сих пор управляющим барона Мильтиц; он удалил также всех протестантов, занимавших различные должности при дворе, исключая врача, повара и кассира, и их места отдал католикам. Дальнейшее воспитание было поручено отцу Салерно. Август II опять выслал сына путешествовать и прежде всего приказал ему ехать на карнавал в Венецию. Это было первое выступление в свет. Тогда еще пользовались огромной славой карнавалы, празднуемые на площади Св. Марка.
В январе 1712 года началось это путешествие, которое служило для удаления королевича от влияния протестантов и продолжалось семь лет.
Все письма, которые он писал к родным, были контролируемы Косом и саксонским генералом Лютцельбургом, человеком умным, но не особенно строгой нравственности.
Королевич, который почувствовал в себе нравственный разлад, нашел средства, чтобы прибегнуть за помощью к Анне, королеве Английской и Фридриху IV, королю Датскому. Первая пригласила его в Англию; второй объявил, что ежели он останется католиком, то потеряет право на Датское наследство. Папское послание того же года уверило Августа, что, в случае нападения протестантских князей, Святой Отец готов ему помогать всеми способами и средствами, какие будут в его распоряжении.
Между тем, королевич, сопровождаемый Сулковским, который в скором времени сделался его задушевным другом, будучи почти одинаковых с ним лет, путешествовал инкогнито по Италии, то как граф Мнении, то как Эльзасский граф.
Двор его составляли, кроме Сулковского, который, как сейчас было упомянуто, стал его близким другом, воевода Кос, генерал Лютцельбург, отец Салерно, одетый в штатское придворное платье, и, кроме того, саксонец, иезуит, отец Фоглер. Секретарем был тоже иезуит Коппер, принявший на это время фамилию Ведерно и тоже в штатском платье. Таким образом влияние католиков на королевича было ежедневное и постоянное, которому нельзя было не подчиниться, находясь под ним в продолжении стольких лет. Из Венеции они отправились в Болонью, где князя торжественно приняли папские уполномоченные. Здесь наконец отец Салерно совершил обряд принятия в лоно католической церкви молодого князя, который свое письменное отречение от протестантского вероисповедания вручил под величайшим секретом папскому кардиналу Кассани. Немного спустя— в награду за свои действия и Альбани, и Салерно получили кардинальские шляпы.
Обращение королевича долгое время оставалось тайным, а так как Саксония требовала, чтобы Фридрих возвратился, а Август не хотел раздражать своих подданных, то дальнейшее путешествие было приостановлено, и Фридрих, вместо того, чтобы ехать в Рим, как это было прежде решено, отправился назад в сопровождении отца Салерно, который, проводив его до Вероны, поехал в Рим, но начал вести с королевичем дружескую переписку.
Однако приказано было, чтобы Фридрих, прежде чем приехать в Дрезден, совершил поезду в Дюссельдорф и прожил там некоторое время у Пфальцского курфюрста, а затем отправился к Людовику XIV, которого папа уведомил об обращении.
Подозревают, что протестантские родственники составили заговор, чтобы во время этого путешествия похитить князя; но это дело осталось невыясненным. Все еще опасались, чтобы королевич не отрекся от принятой веры. В Париже приняли гостя в высшей степени любезно, как это видно из писем принцессы Орлеанской; его даже находили милым, хотя очень неразговорчивым; таким он и остался на всю жизнь.
Воевода Кос был самым ловким из всех придворных, поэтому он имел в Париже большой успех. О перемене религии еще никто не знал, а королевич не признался бы в этом даже родной матери. Из Франции, вместо того, чтобы ехать в Англию, как решили прежде, повезли князя через Лион и Марсель опять в Италию и Венецию, где синьоры и дворяне употребили все усилия, чтобы достойно принять его и развлечь. Маскарады, увеселения, театры, балы следовали одни за другими.
По совету папы Климента решено было, чтобы быть более уверенным в князе, женить его на ревностной католичке. Начали искать через отца Салерно, стараясь об этом в Вене; министр Штаренберг и князь Евгений так деятельно ему помогали, что наконец рука княжны была обещана. Королевича повезли в Вену, так как он не мог и не хотел сделать ни шагу без ведома отца.
Обращение все еще было тайной, хотя нечего было бояться королевы матери, так как она умерла. Однажды, в октябре 1711 г., граф Лютцельбург приказал всему двору собраться в его приемной в 10 часов.
Около одиннадцати часов у подъезда остановилась карета нунция Спинелли, на встречу которого вышла большая часть двора, чтобы ввести его в комнаты. Вскоре потом вошел маленький человечек с запертым ящиком, а Лютцельбург вышел из комнаты князя и сказал придворным, что будет происходить нечто, причем господа протестанты могут, если им угодно, присутствовать. Отворились двери: нунций у стола совершал богослужение, которое князь из-за болезни слушал лежа.
По совершении богослужения нунций удалился, а принц обратился к своим придворным протестантам.
— Теперь, господа, вы знаете кто я таков, и надеюсь, что вы в скором времени последуете моему примеру.
На это возразил генерал Коспот:
— Об этом мы еще не думали; трудно решиться так внезапно.
— Да, вы правы, — заметил принц, — прежде чем сделаться католиком, нужно быть хорошим христианином.
Наконец тайна была окончательно открыта, когда в следующее воскресение королевич слушал литургию в церкви иезуитов и причащался. В Риме по этому поводу была большая радость.
Саксонию опять уверили, что протестантская религия будет уважаема, но проповедование католического духовенства было неизбежно.
Королевича держали в Вене в продолжении семнадцати лет. Август щедро давал денег на содержание пышного двора и на роскошные балы. В 1719 году Фридрих был обвенчан с Жозефиной.
Сулковский во все это время был неотступным товарищем королевича. С ним вместе, при дворе молодой четы, он вернулся в Дрезден, который с величайшей пышностью встретил дочь цезарей. Сулковский, по привычке, и из необходимости делил с королевичем все его удовольствия и охоту, любовь к театру и искусствам.
Путешествуя с государем по Германии, Франции и Италии, он много видел и добился во всем больших успехов; он узнал свет, а что самое главное, он хорошо изучил все привычки и страсти Фридриха, умел извлекать из них пользу, удовлетворяя им, и посредством их, управляя королевичем; он знал, что сделался необходимым для Фридриха, и вследствие этого считал себя непобедимым. Они с королевичем были задушевными друзьями, и годы только укрепляли эту дружбу между ними.
Многочисленные связи при австрийском, французском и папском дворах тоже оказывали Сулковскому не малую поддержку, так как везде у него были многочисленные друзья.
Благодаря всему этому, он нисколько не опасался соперничества Брюля и не допускал даже возможности интриг со стороны последнего. Будучи женат на фрейлине королевы, девице Штейн-Иеттинген, он, благодаря ей, пользовался некоторым расположением у королевы, в постоянстве и прочности которого нисколько не сомневался. Будучи более ловким придворным, чем Брюль, но гораздо менее покорным и смелым, красивой наружности, с величественной осанкой, Сулковский не обладал способностями, необходимыми для первого министра; зато в надменности и властолюбии у него не было недостатка.
Он отлично сознавал, что ему намного меньше известны государственные текущие дела, чем Брюлю, который давно уже работал в канцелярии Августа: но он имел под рукой подходящего человека, на помощь которого надеялся. Таким образом он стремился к власти, в полной уверенности, что сладит с нею и сумеет удержать ее в своих руках. Он вел жизнь более скромную, чем Брюль, который страстно любил пышность и роскошь… Двор Сулковского был очень немногочислен, прислуга не особенно вышколена, экипажи не особенно изящны.
Министерство и управление государством уже должно было быть в скором времени предоставлено Сулковскому, когда в одно утро, прежде чем отправиться к королевичу, он послал за своим секретарем. В ожидании его он сидел в своем кабинете с французской книжкой в руках. Через несколько минут призванный советник Людовици вбежал, запыхавшись.
Он исполнял при министре те же самые обязанности, как Геннике при Брюле; это был его фактотум, начальник канцелярии, советник и исполнитель приказаний. Он оказывал огромные услуги Сулковскому, который сам был неопытен в ведении дел.
Достаточно было взглянуть на него, чтобы сразу узнать, что это за личность. Трудно было найти лица, более характерного и умеющего принимать самые разнообразные выражения, сообразно с обстоятельствами. Людовици казался, по крайней мере, тридцатью годами старше, чем он был на самом деле.
Лицо, покрытое морщинами, проницательные черные глаза, подвижные губы, про которые трудно было сказать, какова их натуральная форма, так как они были попеременно то узки, то широки, фигура шутовски изгибающаяся и постоянно движущаяся, все это производило очень неприятное впечатление. Нужно было привыкнуть к нему, чтобы быть в состоянии выносить его присутствие. Он беспрестанно смотрел в глаза, выпытывал и подхватывал недоконченные слова. К счастью, Сулковский успел к нему привыкнуть и умел обуздывать его нетерпение.
У Людовици все карманы были наполнены бумагами. Войдя, он низко поклонился и, облокотившись на спинку ближайшего стула, ожидал, что будет угодно сказать господину министру.
— У меня с собой бумаги, — сказал он, наконец, ударяя рукой по карману, из которого выглядывали бумаги, — и если, ваше превосходительство, позволите…
— Я не о том хотел сегодня с вами посоветоваться, — сказал Сулковский, — нам нужно поговорить о другом.
Людовици нагнулся с нетерпеливым любопытством, глаза его заискрились.
— О чем это, о чем? Вашему превосходительству угодно…
Сулковский, по-видимому, колебался, не зная, может ли ему довериться вполне; это выжидательное положение и неуверенность еще более увеличила любопытство чиновника.
Он всматривался министру в глаза, нагибался, как бы желая перехватить как можно скорее его слова.
Сулковский долгое время смотрел в окно, затем медленно встал и, упираясь рукой в бок, сказал:
— Для меня очень неприятно, что, живя при дворе столь неограниченном, пользуясь доверием курфюрста, приходится прибегать к осторожности, чтобы противодействовать различным прихотям властей.
Людовици улыбнулся, широко раскрыл глаза и начал двигать рукой, но не осмелился прервать.
— Я могу смело сказать, — продолжал Сулковский, — что не боюсь никого здесь, но и никому не могу доверять.
— Истинно, прекрасно, справедливо изволите говорить! — прибавил Людовици. — Никогда никому не следует верить. Один очень умный человек говорил мне, что с друзьями всегда так нужно обращаться, как будто завтра они должны сделаться нашими врагами.
— Не в этом дело, мой Людовици; они могут быть моими врагами и все-таки не сделают мне ничего. Но я желаю знать их планы и действия.
— Истинно, прекрасно, справедливо изволите говорить! — вторил Людовици.
— До сих пор я не имел в этом нужды, теперь же это мне кажется необходимым.
— Истинно, прекрасно, справедливо изволите говорить. Да, да, мы должны иметь людей, которые бы за всеми наблюдали.
— Именно, даже за высокопоставленными лицами, — с ударением на последних словах сказал Сулковский.
Людовици внимательно посмотрел на него, и не будучи уверен, так ли он понял значение этих слов, принял выжидательную позу. Он не знал, как высоко позволено ему подняться мыслью и догадкою.
Сулковскому не хотелось говорить яснее.
— Я, — прибавил он, с немного озабоченным видом, — не могу наблюдать за всеми должностными делами моих товарищей.
— Должностные дела!.. — рассмеялся Людовици. — Но это пустяки! Иногда частные дела имеют несравненно больше значения.
— Поэтому я хотел бы иметь об этом…
— Истинно, прекрасно, справедливо изволите говорить… До-кладец, ежедневно, аккуратно. Так… письменный или на словах?
Оба несколько времени колебались.
— Достаточно будет на словах, — сказал министр, — вы можете докладывать мне, наведя нужные справки, собрав материал.
— Совершеннейшая правда! Да, да, я… И уверяю, ваше превосходительство, что я буду вам верным слугой.
При этом он поклонился, но тотчас же голова его, упавшая почти до ручки кресла, быстро, словно на пружинах, снова поднялась вверх.
— Позволяю себе сделать несколько замечаний, — тихо промолвил Людовици. — Иностранные послы, пребывающие при дворе, должны быть подвержены самому ревностному наблюдению, потому что это ничто иное, как официальные шпионы своих правительств. Я не исключаю даже графа Валенштейна, хотя он в то же время и главноуправляющий двора… Что же говорить уже о Вальбурге прусском, о марграфе де Монти, о Вудуорде, о графе Вейсбахе… и о бароне Цюлих!
— Ты забываешь то, мой Людовици, что часто иностранные державы угрожают не столько, сколько внутренние интриги.
— Истинно, прекрасно, — прервал Людовици, — так, так, именно! Никто более меня не уважает министра Брюля…
Сулковский быстро взглянул на советника, тот ответил тем же, потом широко улыбнулся, поднял руку вверх, наклонил голову и замолчал. Это должно было означать: мы поняли друг друга, я попал в цель.
— Это мой давнишний друг, — начал Сулковский, — человек, необыкновенных дарований которого я не могу не оценить.
— Дарования… большие, необыкновенные, огромные, страшные! — подсказывал Людовици, размахивая руками. — Да, именно…
— Нужно вам знать, что покойный король очень просил его высочество королевича не оставлять его, что он женится на графине Коловрат и что он пользуется большим расположением королевы. Несмотря на все это, вы бы неверно истолковали смысл моих слов, если бы подумали, что я не доверяю ему или боюсь его…
— Да, но осторожность и наблюдение все-таки необходимы… Там течет золотой источник и серебряная река.
Сулковский знаком велел ему замолчать.
— Жалуются мне многие на слишком острый язык пана Вацдорфа.
— Младшего, — прервал Людовици: — да, да, он невоздержанный, но это мельница, мелющая свои собственные жернова. Этим он не вредит никому. Да и как ему не быть злым, когда…
Но он не успел закончить, так как в соседних комнатах послышался шум, пискливый голос, беготня, возня.
Сулковский замолчал и стал прислушиваться. Людовици замолчал и мгновенно преобразился: из придворного он сделался серьезным чиновником.
Сжатые губы выражали глубокое раздумье. Писк, прерываемый женским смехом, продолжал раздаваться в передней. Очевидно, кто-то хотел войти во что бы то ни стало.
Сулковский знаком показал советнику, что совещание окончено, и направился к дверям. Лишь только они отворились, как сильнее послышался как-то оригинально звучащий смех и, прежде чем хозяин успел выйти навстречу, в кабинет вбежала дама, предусмотрительно одетая в траур.
Взглянув на нее, невольно припоминались фигурки, разрисованные на ширмах или сделанные из фарфора. Очень нарядная и необыкновенно некрасивая, худая, желтая, раздушенная венгерской водой, на высоких каблуках, эта маленькая женщина влетела в кабинет, шумя платьем и сладко улыбаясь Сулковскому прищуренными глазами, губками, сложенными так, что они имели форму сердечка, и позади которых уже не было и половины некогда белых, как жемчуг, зубов.
В то самое время, когда эта гостья приступом брала кабинет, Людовици, согнувшись, старался проскользнуть в переднюю. Вновь прибывшая, хотя, по-видимому, и была очень занята, проводила его глазами.
— A ce cher comte! — воскликнула она. — Видишь ли, видишь, неблагодарный граф, прежде чем ты мог узнать, что я здесь, только поцеловав колена моей высочайшей воспитанницы, я прибежала сюда! Разве это не хорошо с моей стороны?
Сулковский поклонился и хотел поцеловать ее руку, но она ударила его черным веером по руке.
— Оставь это… я уже стара, тебе не придется по вкусу, но дай мне сесть.
Она посмотрела вокруг себя и упала в ближайшее кресло.
— Мне нужно отдохнуть; я хотела бы поговорить с вами глаз на глаз.
Сулковский стал перед ней, ожидая начала разговора. Она подняла голову.
— Ну, что, вы потеряли этого великодушного, великого нашего Августа!
Она вздохнула, Сулковский ей вторил.
— Жаль его, но, между нами говоря, он пожил достаточно и многим злоупотреблял… Я не могу об этом говорить, это ужасно! Что теперь будет с вами, бедные сироты! Королевич, правда, не может придти в себя от горя, да! Я прибыла от моего двора для выражения сочувствия ему и моей высочайшей воспитаннице.
Она немного нагнулась и кокетливо облокотилась на ручки кресла, прикладывая веер к губам.
— Что слышно, мой граф, мой дорогой граф? Что слышно? Я уже заранее знаю, что вы получите следующие вам должности. Мы все этому очень радуемся, потому что знаем, что наш двор может на вас всегда рассчитывать.
Сулковский поклонился.
Из этих слов легко было угадать, что она прибыла сюда в качестве посла австрийского двора. Это была знаменитая в свое время наставница королевы Жозефины, а потом фрейлина, девица Клинг, которую посылали в тех случаях, когда мужское посольство слишком бы обратило на себя внимание.
Девица Клинг была одним из самых ловких дипломатов того времени, состоявших на службе у императора.
— Вам должно быть все уже известно, от ее величества королевы?
— Ничего, положительно ничего не знаю, дорогой граф; знаю только, — скороговоркой произнесла она, — что вы получите первое место, так как обладаете сердцем курфюрста, и что Брюль помогает вам в этом. Но говорите же, граф, что это такое, этот Брюль?
Сулковский задумался.
— Это мой друг, — сказал он наконец.
— Вот что! Теперь… понимаю! Знаете, что королева обещала ему молодую графиню Коловрат, и что она, кажется, не особенно довольна этим. Ведь Брюль был без ума от Мошинской.
Все это было произнесено так скоро, что Сулковский не имел даже времени, чтобы подумать, что отвечать.
— Да, — сказал он, — Брюль, кажется, женится.
— Но, он лютеранин?
— Он хочет перейти в католичество.
— Только бы не так, как покойный Август II, который вешал четки на шею своим любимым собакам.
Сулковский ничего не отвечал.
— Что же еще? Королевича я еще не видела… Что он, изменился, огорчен? Как мне его жалко! Траур… он долго не услышит оперы. А Фаустина? Что же, займет ли кто ее место?
— Его величество желает, чтобы все осталось неизменным, таким же, как и было при покойном Августе… Фаустину же никто не в состоянии заменить.
— Но ведь она уже стара, и всего-то хорошего в ней только один голос.
— Она ведь им и приводит всех в восхищение, — заметил Сулковский.
Девица Клинг закрыла лицо веером и покачала головою.
— Правда, — тихо промолвила она, — женщины для меня составляют очень щекотливый вопрос; но я должна знать, мой Сулковский, все ли еще он верен жене? Я ее так люблю, мою высочайшую воспитанницу.
Граф даже попятился.
— В этом нет ни малейшего сомнения, — быстро отвечал он. — Ее величество королева никогда не оставляет королевича; ездит с ним вместе на охоту в Губертсбург и даже в Дианенбург.
— Что и будет причиной того, что она ему скоро надоест, — прошептала Клинг, — это не расчет… Я всегда боюсь этого непостоянства.
Она взглянула на графа, тот покачал головой.
— Королевич так набожен…
Клинг прикрыла веером улыбку. Окна в комнате, в которой они говорили, выходили на базарную площадь. Несмотря на то, что они говорили громко, шум, смех и крики, доносившиеся с улицы, усилились до того, что Сулковский сдвинув брови, не мог удержаться от того, чтобы не подойти к окну, и не посмотреть, что произвело этот шум.
В это время уличный шум и волнение черни были довольно редки, и если происходило что-нибудь подобное, то наверное это было следствием какого-нибудь важного происшествия, как, например, судебного приговора, исполнения его, или чего-нибудь в этом роде.
Действительно, улицы были битком набиты народом, из окон и дверей соседних домов выглядывало множество голов. Посреди этой волнующейся толпы проходило какое-то шествие, которого Сулковский еще не мог рассмотреть.
Клинг, необыкновенно любопытная, соскочила с своего места, подбежала к окну и, раздвинув занавеси, старалась увидеть зрелище, которое прервало их разговор. Сулковский тоже продолжал смотреть.
Толпа приближалась к дому и проходила под самыми окнами. Огромная толпа детей и старших оборванцев преследовала странную личность в темном платье, сидящую задом наперед на осле, которого вел человек, одетый весь в красном… Грустно было смотреть на этого несчастного преступника, человека уже не молодого, с опущенной головой, сгорбленного, согнувшегося под бременем стыда и мучений, столь тяжких для его лет. Время от времени он закрывал себе глаза руками, но тотчас опять хватался за осла, чтобы не упасть, и то и дело падал на спину или шею осла.
Из окна можно было хорошо разглядеть бледное и изнуренное желтое лицо наказанного преступника, который, если судить но платью, принадлежал к высшему обществу. Из карманов его торчали бумаги, со свесившихся ног сваливались башмаки, платье было расстегнуто и изорвано. На него, по-видимому, нашел какой-то столбняк после испытанного унижения. Он машинально старался удержать равновесие, не обращая внимания на то, что делалось вокруг него. Несмотря на то, что его окружала городская стража с алебардами, толпа немилосердная и жестокая, выждав удобное время, швыряла в старика грязью и мелкими камнями. Все его платье было уже покрыто пятнами, по лицу тоже медленно стекала грязь.
Окружающие его хохотали, дети сбегались, гнались за ним и усердно преследовали его, издеваясь над несчастным, не сознавая бессмыслия этих жестокостей.
— Что это такое? — воскликнула Клинг. — Что у вас тут происходит? Я ничего не понимаю.
— Ничего, пустяки, — равнодушно отвечал Сулковский, — это очень просто: нельзя же допустить, чтобы эта голь, эти щелкоперы, изводящие бумагу, безнаказанно осмеливались судить высокопоставленных лиц и говорить о них без должного почтения.
— Конечно, — возразила Клинг, — что бы это было, если бы им позволяли осквернять самые святые вещи!
— Я знаю, что это за личность. Это издатель какой-то газетки, некто Эрель… Уже давно было замечено, что он слишком много себе позволяет; наконец, он что-то пересолил в своих "Dresdner Merkwürdigkeiten", и мы приказали прокатить его по городу на таком же осле, каков он сам.
— Это справедливо, — воскликнула Клинг, — это очень хорошо, с этими людьми нужно быть в высшей степени строгими! Прекрасный пример! Я была бы очень рада, если бы ему следовали в Вене и если бы попались в наши руки те, которые в Гамбурге и Гаге позволяют себе обнаруживать сокровеннейшие тайны дворов.
Они еще некоторое время смотрели в окно, как с криком толпился народ.
Несчастный старец Эрель, по-видимому, ослабев, качался направо и налево, так что казалось, что вот-вот он упадет, но сопровождавшие его алебардщики хватали его за руки и опять усаживали, а так как это их злило, то не обошлось без пинков, которыми они награждали злополучного писателя, который, совершив такое преступление, позволял себе еще притворяться неженкой.
При повороте улицы это зрелище, а с ним вместе и толпа исчезли за углом, а Клинг опять уселась в свое кресло.
Кто бы мог тогда подумать, что тот, над которым немилосердно ругались, представлял собой зачаток той непобедимой силы, которой обладает современная нам журналистика.
Это зрелище нисколько не расстроило ни вечно говорящей Клинг, ни Сулковского. Исчезнув из глаз, оно исчезло также и из памяти; она опять начала шептать и допытываться. Хозяин, однако, довольно сухо и осторожно отвечал на задаваемые ему вопросы.
— Дорогой мой граф, — прибавила, наконец, посланница, — вы должны отлично понимать, что мой двор заботится о том, чтобы только здоровое влияние имело доступ к курфюрсту и даже к моей высочайшей воспитаннице. Правда, по официальному акту вы отказались от всяких претензий и приняли прагматическую санкцию. Но… вас легко могут ввести в искушение. Двор мой доверяет вам, граф, — прибавила она тихо, — и вы можете на него рассчитывать, потому что он умеет быть благодарным.
— Я считаю себя одним из самых верных слуг его императорского величества, — отвечал Сулковский.
Клинг встала и поправила свое платье, так как, несмотря на лицо и годы, она очень заботилась о своем наряде. Оглянув себя в зеркале, она улыбнулась и присела.
Сулковский подал ей руку и проводил к ожидающим ее придворным носилкам, в которых два гайдука в светло-желтой ливрее тотчас понесли долго кланявшуюся и улыбавшуюся Сулковскому баронессу.
X
Вскоре после описанных нами сцен, в обеденный час, который был в то время столь ранним, что во дворце в два часа уже вставали от стола, Брюль, в высшей степени усталый, вбежал в свой дом.
На лице его, всегда сияющем, было заметно раздражение. Он взглянул на часы и, не давая себе столь необходимого отдыха, побежал уже в знакомую нам гардеробную.
Четыре лакея ожидали здесь его превосходительство, пятым был Геннике, стоявший у дверей с очень кислым выражением лица, и, по-видимому, требующий аудиенции. Увидав его в зеркале, Брюль нетерпеливо повернулся.
— Что тебе? — спросил он.
— Дело необыкновенной важности, — мрачным голосом сказал Геннике.
— Но у меня есть безотлагательное дело, — с нетерпением возразил Брюль.
— А у меня еще более безотлагательное, чем у вашего превосходительства, — проворчал бывший лакей.
Видя, что не отвяжешься от него, министр быстро подошел к порогу и остановился тут, ожидая что ему скажет его наперсник, но советник покачал головой и дал понять, что здесь, при свидетелях, он говорить не может. Министр быстрыми шагами возвратился в кабинет и, заперев дверь, сказал:
— Говори же скорее.
Геннике засунул руку с длинными пальцами в карманы своего камзола и, пошарив в них, добыл оттуда что-то блестящее и молча подал Брюлю.
Это была монета или медаль величиной в талер. Брюль подошел с ней к окну, так как день был пасмурный. Глаза его со вниманием стали рассматривать медаль, на одной стороне которой был изображен трон, с сидящей на нем фигурой в халате и с трубкой; в фигуре этой было легко узнать или вернее угадать молодого курфюрста; три фигуры составляли подпору трона; две из них в княжеских костюмах, а третья в лакейской ливрее. Повернув медаль, можно было прочесть сатирическое двустишие, относящееся к Сулковскому, Брюлю и Геннике:
Нас всех здесь трое; Лакей и пажей двое.Посмотрев с минуту, Брюль швырнул медаль об пол, она покатилась под диван, куда и полез Геннике, доставая ее. Когда он поднялся, Брюль стоял мрачный и погруженный в задумчивость.
— Что вы скажете на это, ваше превосходительство?
— Что скажу! Дайте мне того, кто это сделал… Тогда увидите! — воскликнул Брюль.
— Кто сделал, — с гневом прервал Геннике… — Это сделано в Голландии, там, где мы не властны, но продиктовано из Саксонии. Кто же там может заботиться о том, что я был лакеем, а ваши превосходительства пажами? Голландцам до этого дела нет. Это вышло из Саксонии.
— В таком случае нужно отыскать виновного. Будь что будет, мы его найдем, не нужно жалеть денег…
Геннике пожал плечами.
— Хороша же была бы у нас полиция, если бы мы не отыскали негодяя! Дай мне медаль, — прибавил Брюль, — она мне нужна; откуда ты взял ее?
— Невидимая рука подкинула мне ее. Я нашел ее дома у себя на столе. Может быть и вы найдете у себя.
— Нужно будет поступить с беспримерною строгостью! В Кенигштейн на всю жизнь!.. — крикнул министр. — Недавно пришлось проветривать Эреля, водя по улицам; но этого господчика безопаснее будет запереть, чтобы он выучился почитать людей…
— Сперва нужно найти его, — проворчал Геннике. — Я постараюсь об этом… Мне быть в столь хорошем обществе нисколько не стыдно, — сказал он, скрывая гнев, — но превосходительствам, может быть, не совсем приятно стоять рядом с экс-лакеем.
Он взглянул Брюлю в глаза.
— Г-м. Но этот лакей нужен… Без него трудно было бы обойтись… Он много видел, много слышал, много делишек прошло через его руки; если бы захотели избавиться от него…
— Тише, замолчи, Геннике, — прервал его министр. — Напрасно делаешь подобные предположения. Медаль вы выкупим и уничтожим, а творца ее ты отыщешь. С несколькими тысячами талеров много можно чего сделать. Тотчас же послать умного человека в Голландию, на место…
— Я сам поеду, — прервал Геннике, — не сегодня, так завтра и накрою этого арестанта. Он не был бы человеком, если бы, придумав такую остроумную штуку, не похвастался перед кем-нибудь… Немного терпения… Он будет в наших руках.
Брюль очень торопился и, сделав знак рукой своему поверенному, вышел, а Геннике тотчас же исчез. В мрачном расположении духа пошел Брюль переодеться, надушиться, выбрать подходящую к своему костюму табакерку, шпагу, парик и шляпу. Взглянув на часы, он велел подавать лошадей, но они давно уже стояли у подъезда, и лишь только Брюль сел в карету, как они помчали его по направлению к Вильдруфскому предместью. День был прекрасный, весенний, теплый, солнечный. У ворот министр велел остановиться, набросил на себя легкий плащ, и выйдя из экипажа, отправил его домой и стоял до тех пор, пока он не исчез из глаз. Тогда он внимательно посмотрел вокруг себя и успокоенный тем, что все проходящие люди были простые: ремесленники, торговцы и мещане, он быстро вошел во двор, в конце которого начинался сад. По знакомой тропинке он дошел до калитки, ключ от которой был у него в кармане, и еще раз оглянувшись во все стороны, быстро вбежал в сад, в котором цветущие яблони засыпали его дождем бледно-розовых лепестков цветов.
В глубине сада виднелся очень скромный деревенский домик, уютно поместившийся между сиреневыми кустами. Птички распевали, порхая с ветки на ветку и нарушая господствовавшую тишину. Брюль тихо и задумавшись пошел по аллее, ведущей к домику. Шум отворяющегося окна заставил его очнуться. В окне стояла женщина непомерной красоты и величественной осанки и, казалось, ожидала его. Брюль тотчас увидел ее, и лицо его мгновенно просияло. Он снял шляпу и приветствовал ее, прикладывая руку к сердцу.
Те, которые когда-то знали во всем ее блеске, ни с чем несравнимой красоты, а теперь запертую в пустом замке и состарившуюся от тоски и горя, Козель, наверное нашли бы в чертах молодой дамы, стоявшей в окне, большое с ней сходство.
Не было в ней блеска матери и тех черт, словно изваянных, которые до самой смерти сохранялись, не стертые слезами, но она обладала тою же величественностью и силою взгляда.
Стоящая в окне была графиня Мошинская, муж которой подготовлял в Варшаве выборы в пользу королевича. Она предпочла остаться в Дрездене. Сделав несколько поспешных шагов, Брюль очутился на пороге домика. Она вышла к нему навстречу. Внутренность домика была гораздо наряднее, чем можно было подумать, судя по наружности. Комната была меблирована дорогими зеркалами и роскошною мебелью, приятный запах весенних цветов наполнял воздух.
В первой довольно большой комнате стоял приготовленный к обеду столик, сервированный на две персоны и сияющий серебром, хрусталем и фарфором. Здесь не было никого, кроме графини и птичек, которые, сидя в бронзовых клетках, распевали на все лады, как бы состязаясь с своими сводными братьями.
Брюль взял руку Мошинской и поднес ее к губам.
— Так поздно? — прошептала она.
— Действительно, я опоздал, — возразил Брюль, вынимая из кармана часы, усыпанные бриллиантами, — но меня задержало неприятное и важное дело…
— Неприятное? Что же это такое?
— Не будем говорить об этом сегодня, я хотел бы забыть.
— А я хотела бы знать…
— Узнаете, дорогая графиня; о неприятных вещах всегда слишком рано говорить, — сказал Брюль, садясь против нее, подпирая голову рукой. — Впрочем, что удивительного, что человек, который, подобно мне, должен был медленно подниматься со ступеньки на ступеньку и успел подняться довольно высоко, имеет врагов в лицах, которые отстали и мстят теперь бессильными пасквилями.
Графиня, слушавшая с напряженным вниманием, сделала быстрое движение и с улыбкой пренебрежения ударяла своей прекрасной ручкой по столу.
— Пасквилями, сатирами, словами! — воскликнула она. — Как же вы, однако, слабы, если обращаете на это внимание и это вас волнует! Я очень разочаровалась бы в вас, милый Генрих, если бы вы были действительно слабы. Кто желает играть в свете большую роль, тот не должен обращать внимание ни на шикание, ни на аплодисменты зрителей. Как то, так и другое ничего не стоит. Если ты так близко принимаешь к сердцу услышанное словцо, я тебя жалею, ты никогда ничего не достигнешь. Для этого нужно стоять выше…
— Подлая насмешка… — прервал Брюль.
— Разве тебя должно расстраивать то, что собака лает из-за забора? — спросила прекрасная графиня.
— Это меня раздражает.
— Я не ожидала этого от тебя… постыдись…
— Вы не знаете, в чем дело.
Говоря это, Брюль вынул из кармана медаль и подал ее графине, которая сперва бросила на нее равнодушный взгляд, затем рассмотрела изображение с одной стороны, медленно повернула на другую, прочла надпись, улыбнулась, пожала плечами и хотела выбросить ее в окно, но Брюль удержал ее руку. ,
— Она мне нужна, — сказал он.
— Зачем?
— Я этого не спущу, — возразил министр. — Эта проделка вышла из Саксонии; если мы позволим насмехаться над нашими действиями и не накажем дерзкого…
— Прежде найдите его, — шепнула графиня, — а потом подумайте, не сделаете ли вы из мухи слона, если будете мстить?
— Они уже чересчур много себе позволяют! — воскликнул Брюль. — Недавно Эреля пришлось на осле катать по улицам, а автора этой медали придется пригласить в Кенигштейн.
Мошинская презрительно пожала плечами.
— Поверь мне, месть оставь Сулковскому, и вообще, до тех пор, пока вы должны властвовать вместе, устраивайся так, чтобы ему приходилось исполнять все то, что неприятно и больно другим, а на себя бери все, что доставит другим радость и удовольствие. Я надеюсь, впрочем, что вы недолго будете с ним делиться властью.
— Как долго это будет продолжаться, я не знаю, — сказал Брюль. — По моему мнению, нужно ему дать время, чтобы он сам погубил себя самоуверенностью и какой-нибудь ошибкой.
— Ты прав, и это непременно случится. Сулковский в высшей степени горд и самоуверен. Он уверен, что сделает с королем все, что захочет. Нужно ему дать место, где бы он совершил сальто-мортале. А тем временем он будет таскать из огня каштаны для…
Сказав это, графиня засмеялась, но не могла развеселить Брюля, который сидел мрачный и погруженный в размышления. Изящно одетая, смазливенькая горничная в башмачках на высоких каблуках, в белом чепчике, по примеру знаменитой венской Лиотарды, в переднике, с ручками, обнаженными до половины и ясно свидетельствующими, что она не особенно много работала, так как они были белы и нежны, принесла в это время серебряную миску. Она приветствовала Брюля чуть заметной улыбкой и взглядом и, поставив вазу на столе, быстро выбежала из комнаты.
Обед начался при оживленном разговоре. Мошинская расспрашивала обо всем: о баронессе Клинг, о ее посольстве, даже о предполагаемой женитьбе Брюля, говоря о которой она вздохнула и сдвинула брови.
— Я надеюсь, что она не отнимет у меня твоего сердца, дорогой Генрих, — тихо сказала она, — девушка эта не любит тебя, ты тоже к ней равнодушен… Ты ведь женишься более ради королевы и старой графини Коловрат и ради связей, чем по влечению; поэтому я и спокойна.
— Как и следует, — отвечал Брюль. — У меня нет другого сердца, а то, которое я имел, я уже отдал давно. Я женюсь так же, как делюсь властью с Сулковским, так как этого нельзя избежать при настоящих обстоятельствах.
— Главное, заискивай у короля; сделайся необходимым для него, забавляй его, сиди, не оставляй его, охоться, хотя ты и не любишь охоты. Сулковский, если не ошибаюсь, захочет отдыхать, пожелает играть большого барина, ты в это время сделайся незаменимым. Король… я так уже называю его, потому что уверена в выборе его, нуждается, чтобы постоянно при нем был кто-нибудь, кому бы он мог улыбаться; он слаб и легко привыкает к людям; обо всем этом нужно постоянно помнить.
— Дорогая моя графиня, — воскликнул Брюль, хватая ее за руку, — будьте моей руководительницей, моей Эгерией, моим провидением; тогда я не буду беспокоиться о будущем!..
В это время послышался шум и какие-то голоса у калитки и у входа. Горничная вбежала с испугом на лице. Графиня вскочила от стола, грозно сдвинув брови.
— Что там такое? — спросила она.
— Какой-то… я не знаю, кто-то из дворца с письмом или приглашением. Он требует, чтобы его впустили.
— Здесь?.. Сюда?.. Но кто же мог знать, что я здесь? Меня здесь нет ни для кого.
Она произнесла эти слова, когда между деревьями в саду показался камергерский мундир. Садовник загораживал собой дорогу, но камергер не обращал на него никакого внимания и медленным шагом шел вперед. Брюль нагнулся, посмотрел в окно, узнал Вацдорфа и по знаку графини вошел в соседнюю комнату, запирая за собой двери. Но стол, накрытый на две персоны, мог его выдать. Графиня велела быстро снять другой прибор, что и исполнила ловкая субретка, забыв, однако, захватить стакан и рюмку. Никто на это не обратил внимания. Графиня села опять к столу, хотя и с беспокойством посматривала на окно; брови ее были сдвинуты, и руки дрожали от гнева.
Между тем Вацдорф подходил к домику, приблизился к отворенным дверям и, став в них напротив графини, повернулся к следующему за ним садовнику.
— А что, видишь?.. Ее превосходительство здесь, я это отлично знал.
Говоря это, он с иронией на лице поклонился, с любопытством и неприлично осматривая комнату, как бы ожидая увидеть еще кого-то.
Когда он остановился перед Мошинской, она грозно взглянула на него и с гневом спросила:
— Что вам здесь надо?
— Простите великодушно, графиня, я самый несчастный из камергеров и самый неловкий из людей. Королевич дал мне письмо, я поехал с ним во дворец, но не застал вас там. Письмо короля ведь это всегда вещь важная. Я пустился вдогонку за вашим сиятельством, шел по следам и пришел сюда.
— Что вы хотите подражать гончим и легавым, это меня нисколько не удивляет, — со злобою сказала графиня, вставая, — но я не люблю быть дичью. Оказывается, значит, что нигде нельзя спокойно отдохнуть и укрыться от камергеров.
Вацдорф, по-видимому, наслаждался ее гневом. Он посматривал на стол и на стоящее при нем кресло Брюля, на спинке которого висела салфетка. Графиня это видела, но нисколько не смутилась, только злоба ее усилилась донельзя.
— Где же письмо? — воскликнула она.
— Я подожду. Как скоро имел счастье найти ваше сиятельство, я буду терпелив.
— Но, наконец, вы выведете меня из себя! Смотря на вас, я ничего не могу взять в рот, — сказала Мошинская, насилу сдерживая свой гнев.
— Простите меня, но этот запах весны так прелестен, и я с удовольствием отдохнул бы здесь.
— Весна на поле гораздо пахучее и приятнее; отдайте мне это письмо и оставьте меня в моем уединении.
Вацдорф иронически улыбнулся и медленно искал во всех карманах письмо.
— Да, действительно, уединение в этом уголке вдвоем… Ах, как она восхитительна! — дерзко ворчал он.
— Я и моя компаньонка, да, мы вдвоем, а садовник, который был так глуп, что впустил вас и который за это завтра получит расчет… третий. Но где же письмо королевича?
Вацдорф медленно искал его и вынимал различные вещи из карманов, причем как бы случайно попалась ему в руки медаль.
— Каких только дерзких и подлых людей нет на свете! — сказал он. — Кто бы мог ожидать этого?
Он положил медаль на стол, а сам продолжал шарить в карманах.
Графиня тотчас узнала медаль, но притворилась, что видит ее впервые, начала ее рассматривать и, отбросив с величайшим хладнокровием, сказала:
— Очень неудачная острота. Но она не может никому повредить.
— Она может привести королевича к ненужным мыслям.
— Например? — спросила графиня,
— Он может пожелать найти себе другие подпоры трона.
— Кого же это? Вас, Фроша и Шторха?..
Вацдорф сильно сжал губы.
— Вы злы, графиня.
— Вы не только можете вывести меня из терпения, но также выведете из себя. Где же это письмо?
— Я в отчаянии, мне кажется, я его потерял.
— Догоняя меня, чтобы сделать мне неприятность, преследуя меня, когда я желаю быть одной.
— Одной… — повторил Вацдорф, ехидно улыбаясь и взглянув на предательское кресло.
— Понимаю, — вспылила Мошинская, — ваш взгляд падает на это кресло, и вы подозреваете меня. Разве граф Мошинский поручил вам следить за мной?
Она произнесла эти слова, не владея больше собой. Лицо ее разгорелось, что делало ее еще прекраснее; в это время послышался шум женского платья, и особа, стоявшая уже несколько времени за изящными ширмами, медленно и величественно вышла на середину комнаты.
Вацдорф остолбенел.
В этом явлении было что-то столь необыкновенное, что даже графиня, увидев его, задрожала.
Медленно вошедшая женщина была довольно высокого роста, немолодая, с удивительно проницательным взглядом и королевской осанкой, с лицом, с которого лета не успели стереть следов необыкновенной красоты. Она была одета так оригинально, что ее можно было принять за сумасшедшую.
На ней было надето что-то вроде тоги черного цвета, обшитый галуном, на груди же она имела нагрудник, на котором были вышиты какие то непонятные буквы. Пояс, который стягивал длинное платье, был золотой и покрыт черными кабалистическими и зодиакальными знаками. На голове, на черных, густых волосах было надето что-то напоминающее собой турецкую чалму, окруженную пергаментной полоской, исписанной еврейскими буквами. Чалма эта, оканчивающаяся сзади двумя длинными концами, чуть-чуть прикрывала собой белый и красивый лоб. Войдя, она презрительно взглянула на дерзкого, сдвинула брови и сказала суровым голосом:
— Что вам здесь надо? Зачем вы сюда пришли? Для того, чтобы следить за мной и дочерью моей, а потом забавлять королевича россказнями о старой Козель? Неужели и ты меня будешь преследовать сын Мансфельдского мужика? Ступай вон, сейчас же иди прочь, вон отсюда!.. Оставь меня с дочерью…
И, протянув руку, она указала на дверь.
Смущенный Вацдорф попятился.
Только глаза у него зловеще блеснули и, не сказав ни слова, он вышел.
Козель проводила его глазами до тропинки и повернулась к дочери.
Это был не первый ее визит в Стольпен, но теперь даже Мошинская не ждала ее, когда она вошла, чтобы спасти ее от подозрения. Графиня встала, приветствуя мать… В это время ей пришла мысль, что Брюль, увидав уходящего Вацдорфа, может войти и выдать себя перед матерью.
Она смутилась. Между тем Козель спокойно села на место Брюля.
Теперь, прогнав дерзкого, она не казалась не в своем уме. Исхудавшей, но еще белой и красивой рукой она ударяла по столу, а глаза ее бегали по комнате.
— Я вошла сюда неожиданно, — сказала она, не смотря на дочь, — но ты позволила мне принимать в этом домике тех, которых мне нужно видеть. Я послала сказать пастору, чтобы он пришел сюда.
На лице Мошинской выразилось удивление.
— Не бойся, он придет вечером, — прибавила Козель. — Но кто здесь был с тобой, почему он спрятался?
Мошинская промолчала, не зная что отвечать, и мать пристально и с сожалением взглянула на нее.
— Понимаю, — сказала она, презрительно улыбаясь, — придворные интриги. Новый государь, новые люди; вы должны держаться как можно осторожнее на этом скользком льду, чтобы не упасть.
То, чего опасалась Мошинская, как раз случилось. Брюль появился в отворенных дверях соседней комнаты и, увидев личность, с которой перед тем никогда не встречался, но теперь сразу догадался кто это, остолбенел, не зная, что с собой делать.
Мошинская, которая сидела спокойно спинкой к двери, не видела его, но догадалась по глазам матери. Краска выступила у нее на лице, которое тотчас же побледнело у нее, но она быстро пришла в себя.
Козель не сводила глаз с красивого мужчины и так хладнокровно рассматривала его, как бы перед ней было какое-то животное, характер которого она хотела определить.
— Так это он? — спросила она, улыбаясь.
Мошинская повернулась.
Брюль стоял на пороге.
— Кто это? — опять спросила Козель.
— Министр Брюль, — тихо отвечала дочь.
— Все у вас новое, кроме потомства мужика… Брюль!.. Я не припоминаю себе ничего подобного. Подойдите, — сказала она, делая ему знак рукою, — не бойтесь. Вы видите перед собой жреца, первосвященника, жрицу… Слышали ли вы когда-нибудь обо мне? Я вдова короля Августа Сильного… Я была его женой… Вы видите перед собою графиню Козель, знаменитую во всем свете своим счастьем и своими несчастьями. У моих ног лежали владыки всего мира, я приказывала миллионам. Август любил только меня одну…
Она произносила эти слова медленным ровным голосом, а по лицу дочери видно было, какое неприятное впечатление производили на нее эти слова, но она не могла прервать их. Брюль тоже стоял молча и еще не вполне оправившись от удивления, но уже успел придать своему лицу то вежливое, заискивающее и привлекательное выражение, с которым он обыкновенно являлся перед посторонними. Немного нагнувшись, он, по-видимому, слушал с величайшим интересом.
— Вы имеете счастье видеть королеву, прибывшую с того света… умершую, погребенную, а живущую только для того, чтобы обращать неверных на путь истинный, чтобы проповедовать веру в единого Бога, который показался Моисею в горящей купине.
Мошинская, опустив глаза в землю, сильно взволнованная, то дрожала, то взглядом умоляла мать, чтобы она перестала…
Козель, поняв ли смущение дочери или молчание смущенного Брюля, встала с кресла.
— Я пойду отдохнуть, — сказала она, — не буду мешать вашей беседе. Дочь Козель должна править Саксонией, понимаю.
Сказав это, она тем же самым величественным шагом, и смотря вверх, медленно прошла мимо стола и исчезла за теми же дверями, через которые вошел в комнату Брюль.
На пороге дверей уже несколько раз напрасно показывалась девушка с серебряным блюдом в руках.
— Я пойду, — тихо сказал Брюль, взявшись за шляпу, — не хочу мешать вам. Этот день несчастен, но меня радует хоть то, что этот подлый Ваццорф, который вероятно хотел меня здесь застать, потерпел неудачу.
— Ваццорф имел медаль; и она его радовала; я вижу в нем заклятого врага. Что ты ему сделал?
— Я — ничего! Разве, что всегда был с ним любезен?
— Это ядовитая змея, я его знаю, — сказала Мошинская.
— Такой же мужик, как и его отец, — с презрением отвечал Брюль, пожимая плечами. — Но если он станет мне поперек дороги…
— А это двустишие на медали… разве оно не похоже на его безвкусные остроты?..
Брюль только взглянул на графиню, и мысль эта, по-видимому, поразила его.
— Я велю следить за ним, и если это так, то в таком случае, он недолго погуляет по свету.
Сказав это, он прижал к губам руку графини, схватил свой плащ, брошенный у двери, который, лежа в тени, остался незамеченным Вацдорфом и выбежал в сад.
Тою же тропинкою, по которой он шел сюда, в надежде на свободную, продолжительную беседу, теперь возвращался он назад, думая только о том, чтобы незамеченным добраться до дому. Калитка, от которой у него был ключ, запиралась изнутри, так что ему приходилось отворить ее и он вышел, не позаботившись предварительно выглянуть. Потому ему понадобилось все присутствие духа, чтобы не смутиться, когда выжидающий его Ваццорф приветствовал его в высшей степени вежливым и насмешливым поклоном.
Брюль возвратил его с такой любезностью и свободной веселостью, как будто не был пойман на месте преступления…
— Это вы, камергер, — воскликнул он, — как я счастлив!
— Это я могу назвать себя счастливым, — отвечал Вацдорф, — потому что, придя сюда наслаждаться запахом цветущих яблоней, я никогда не ожидал, что счастливая судьба позволит мне встретить ваше превосходительство здесь под яблонями. Если не ошибаюсь, то плод яблони, кажется, называется запрещенным.
— Именно! — воскликнул со смехом Брюль. — Ха, ха, ха! Но я пришел сюда не за плодом, и тем более запрещенным. Графиня Козель имела просьбу к нашему государю и королевичу и просила меня сюда явиться.
В этих словах было столько правдивости, что Вацдорф немного смутился.
— А вы, камергер, что здесь делаете, здесь, в этом сельском затишье? — сказал министр.
— Ищу счастья, которого не могу нигде найти, — проворчал камергер.
— Под яблонями?
— Случается оно и там и даже чаще, чем при дворе…
— Как вижу, вам не особенно нравится эта жизнь?
— Не имею к ней призвания, — возразил Вацдорф, медленно идя с Брюлем.
— Но у вас есть остроумие, оружие, защищаясь которым вам нечего бояться.
— Действительно, оружие, хорошее для делания врагов, — прибавил Вацдорф.
Некоторое время они шли молча, камергер, по-видимому, размышлял.
— Я не имел еще случая поздравить ваше превосходительство, — внезапно сказал он.
— С чем? — спросил Брюль.
— Везде говорят, что самому гениальному из министров назначена самая прекрасная девушка нашего двора.
Голос, которым он произносил эти слова, заключал в себе столько чувства, что Брюля моментально поразила мысль, что Вацдорф вероятно тот самый, которому отдала свое сердце прекрасная Франя. Это была догадка или, вернее, предчувствие. Он перевел дух.
— Если это так, — сказал он себе в душе, — то творец медали и любовник моей жены должен отправиться в безопасное место.
Но ни медаль, ни похищенное сердце еще не были доказаны. Они смотрели друг на друга, улыбаясь, но с ненавистью в глазах. Брюль, чем более кого терпеть не мог, тем более считал себя обязанным быть с ним в высшей степени любезным; он не даром был из школы Августа Сильного.
— Ваше превосходительство, вы напрасно так часто оставляете королевича одного, — заметил Вацдорф. — Сулковский занят, у него дела, а Фроша, Шторха и отца Гуарини слишком недостаточно.
Брюль улыбнулся, как только мог слаще.
— Вы, может быть, и правы, камергер. Для того, чтобы заслужить расположение столь доброго государя, пойдешь в перегонки, хотя бы с Фрошем и Шторхом; но нужно также стараться приоб-ресть сердце своей невесты, о которой вы сейчас вспоминали.
— Мне кажется, это напрасный труд, — сказал Вацдорф. — Да и зачем сердце тому, кто получает руку и остальное… то есть всю их обладательницу? Сердце он может оставить для кого-нибудь другого. Отличный пример представляет граф Мошинский, который нисколько не заботится о сердце графини.
Лицо Брюля покрылось краской, он остановился, все еще улыбаясь, но у него уже не хватало терпения говорить с этой пиявкой, которая его постоянно кусала.
— Поговорим серьезно, камергер, — сказал он. — Скажите, в чем я согрешил перед вами, что вы меня постоянно донимаете вашими шуточками? Или это только привычка кусаться, от которой вы не хотите отучиться?
— Может быть и то, и другое вместе, — возразил Вацдорф, — но я не думал, чтобы такая ничтожная блоха, как я, могла причинить боль такому великану, как вы, ваше превосходительство.
— Это мне нисколько не больно, но только производит неприятный зуд. Разве для вас не безопаснее бы было иметь во мне друга?
Вацдорф разразился громким смехом.
— У министров нет друзей, — сказал он. — Ведь это помещено в элементарном катехизисе политиков!
— Зато у них нет недостатка в врагах.
Вацдорф поклонился, словно в честь его произнесли тост, снял шляпу и, не оглядываясь, пошел в боковую улицу.
Это было как бы объявлением войны. Брюль остолбенел от изумления.
— Он меня вызывает на бой!.. Отказывается от дружбы!.. С ума что ли он сошел?.. Что это значит? Всегда он мне был противен, но откуда такая ненависть ко мне? Это нужно выяснить.
Закрывшись плащом, он быстро пошел домой. По дороге как раз стоял дом, в котором работал Геннике, и Брюль вошел в него. Около канцелярии была особая комната, назначенная для министра, имеющая особый вход, и ключ от которой был у Брюля. Он вошел незамеченным и постучал в двери канцелярии, из которой слышались оживленные голоса. Стук этот тотчас же заставил всех замолчать. Геннике, немного удивленный, вошел с пером за ухом. Брюль сидел в кресле.
— Прикажи следить за Вацдорфом, приставь к нему ангела хранителя, который должен ходить за ним шаг за шагом. Но так как у Вацдорфа много проницательности, то нужно найти такого человека, который сумел бы сделаться невидимым и пройти везде. Нужно подкупить его слугу и рассмотреть все его бумаги.
— Вацдорф? — задумчиво, повторил секретарь. — Вацдорф?.. Разве на него падает какое-нибудь подозрение?
— Все, и при этом самые тяжелые.
— Должен ли он пасть? — спросил Геннике. Брюль не сразу ответил, но глубоко задумался.
— Увидим, — сказал он, наконец. — Я не хочу наживать новых врагов, и без того число их увеличивается; но если окажется нужным…
— Разве он мешает?
— Я его не люблю.
— Вина, когда это понадобится, всегда найдется.
— Имейте ее про запас, — мрачно проворчал Брюль. — Я старался и стараюсь быть для всех добрым, любезным; нужно показать, что я умею быть и страшным.
Сказав это, Брюль встал и вышел, провожаемый ироническим взглядом слуги.
Вацдорф, который на повороте улицы расстался с Брюлем, быстро пройдя несколько шагов, сбавил ходу и тащился как бы без мысли и без цели. Лицо его омрачилось. Он сознавал, что для того только, чтобы насытить свой гнев, он наделал глупостей, за которые может быть придется дорого заплатить. Он слишком был озлоблен против Брюля, чтобы быть в состоянии воздержаться. Вацдорф, воспитанный при дворе, с детства привыкший ко всему тому, что при нем можно видеть и встретить, сын того, которого прозвали шутом, под влиянием дурных примеров, которые могли его испортить, как и всех других, сделался человеком, разящим своей правдивостью и насмешкой. Все, что его окружало, действовало на него также, как на некоторые избранные натуры действует зло, поселяя в них отвращение ко всему. Атмосфера, в которой он жил, наполняла его возмущением и отвращением.
Любовь к Фране Коловрат, красота которой вскружила ему голову, немало способствовала к увеличению его ненависти к свету, который из этого прекрасного цветка сделал уже так рано испорченное существо. Он видел все ее недостатки и пороки, ее легкомыслие, непостоянство, надменность, эгоизм и отсутствие сердца, и между тем не мог подавить в себе этого увлечения и плакал над собой и над ней. В ее пороках он винил не ее натуру, а воспитание, двор, его обычаи, воздух, которым она дышала.
Он доходил почти до отчаяния.
В последнее время все стали замечать, что насмешливость и ирония, всегда преобладавшие в его характере, усилились донельзя. Почти что слышно было, как в нем кипела злость. Если бы он был в состоянии, он стал бы мстить первому встречному, а так как Брюль был женихом Франи, то на него он изливал всю желчь, которой пропиталось его сердце.
Придворные и прежние друзья стали избегать Вацдорфа, а некоторые из них говорили открыто, что он уже попахивает трупом.
Не зная, что с собой делать, несчастный камергер почти машинально направился к дружественному доселе дому Фаустины. Первая половина траура уже прошла и говорили о скором возобновлении оперы.
Сулковский, равно как и Брюль, был не прочь уговорить на это королевича, который страстно любил музыку и Фаустину.
Хотя Гассе и считался мужем дивы, однако, они не жили вместе. "Божественный саксонец", как его прозвали итальянцы, страстный музыкант занимал отдельный домик, в котором была устроена зала для музыкальных репетиций. Фаустина же жила в роскошных апартаментах. Она давала все приказания, к ней одной обращались с просьбами театральные клиенты.
Вацдорф спросил в передней лакея, дома ли барыня, и получил ответ, что дома. Он мог догадаться об этом по громкому разговору, веденному на итальянском языке, который слышался из комнаты. Когда, приказав доложить о себе, он вошел, то застал прекрасную итальянку в довольно небрежном костюме с сердитым пылающим лицом, что делало ее еще прекраснее.
Она стояла перед падре Гуарини, который в партикулярном платье преспокойно расхаживал по зале. На лице его играла улыбка, смешанная с выражением сожаления. Фаустина преследовала его с сжатыми кулаками.
Гуарини, увидав камергера, обеими руками указал ему на итальянку.
— Посмотри, посмотри только, что проделывает эта женщина со мной, спокойнейшим в мире человеком, который приходит к ней во имя спокойствия и примирения! Если бы вместо того, чтобы кричать, она пела…
Фаустина повернулась к Вацдорфу.
— Будьте судьей! — закричала она. — Он хочет сделать из меня куклу, хочет, чтобы я всем кланялась, чтобы я не имела своей воли. Завтра его протеже перевернет мне вверх ногами весь театр. Нет, он должен идти прочь, он пойдет прочь!
— За что, за что? — тихо, и высовывая голову из воротника, словно черепаха из скорлупы, спросил Гуарини. — За то, что ли, что прекрасный юноша не сжигает жертв перед тобою, что голубые глаза француженки имеют для него больше обаяния, нежели твои?
Фаустина хлопнула в ладоши.
— Слышите его, этого противного попа! — крикнула она, размахивая руками перед самым его лицом. — Да разве я нуждаюсь в этом обожателе, разве у меня их мало, разве они не успели мне надоесть?
— О, фимиам для женщины… — засмеялся иезуит.
— Но в чем дело? — спросил Вацдорф.
— Un poverino (один бедняжка), — возразил Гуарини, — которого эта немилосердная хочет прогнать из театра.
— Убийца, предатель, шпион! — кричала Фаустина.
Несмотря на печальное расположение духа, Вацдорф не мог удержаться от смеха при виде комической ссоры, ежедневно повторявшейся между актрисой и патером.
— Я вас помирю, — сказал он, — погодите.
Они обратили на него глаза, так как мир был очень желателен.
— Пусть виновный идет прочь, — сказал Вацдорф, — а на его место, как только понадобится хороший актер, пригласите одного из министров. Лучше их вы не найдете. А так как Фаустина не захочет ссориться с министром, будет мир.
Гуарини покачал головою. Фаустина ничего не ответила и в отчаянии бросилась на диван. Иезуит взял под руку камергера и подвел к окну.
— Carissimo, — кротко сказал он, — до каникул, кажется, еще далеко, а вы уже получили солнечный удар.
— Нет, я еще не взбесился, — отвечал Вацдорф, — но ручаюсь, впрочем, чтобы этого не случилось.
— Что же с вами, исповедуйтесь?
— В таком случае, если только колени Фаустины заменят исповедальню.
— Язычник ты этакий, — засмеялся иезуит, — что с тобою говорить!..
— Ничего, отец мой, свет мне кажется глупым, вот и все.
— Carissimo, прости! — сказал падре. — Это ты кажешься мне глупым, когда болтаешь несообразные вещи. Когда на тебя найдет такой стих, ступай в поле, где нет никого, в лес, где только оленей можешь испугать, поругайся как следует, проклинай все, накричись вволю и тогда, успокоившись, возвращайся в город. Тебе, вероятно, известно, что уже в древности употребляли это средство те, которые не умели держать свой язык на привязи.
Вацдорф слушал совершенно равнодушно.
— Жаль мне тебя, — прибавил Гуарини.
— Если бы вы знали, как мне вас всех жалко! — вздохнул Вацдорф. — Но кто же рассудит, кто из нас прав и чье сожаление лучше?
— Оставим это, — заметил иезуит и взялся за шляпу.
Фаустина, сидя на диване, старалась успокоиться от своей итальянской злости; Гуарини подошел к ней и покорно поклонился:
— Еще раз осмеливаюсь просить ваше превосходительство за этого poverino. Сделайте это для меня.
— Вы и без меня сделаете все, что вам будет угодно, — возразила Фаустина, — но даю вам честное слово, что если вы заставите меня играть с ним, то я ему публично дам пощечину.
Гуарини покачал в обе стороны головой, поклонился и пошел с докладом к королевичу.
Это был час приятного отдыха, которым Фридрих пользовался с роскошью после несколько часового ничегонеделания: час трубки и халата, Фроша и Шторха, Сулковского, Брюля и отца Гуарини, так как, кроме их, никто не был допускаем к королевичу в это время.
Гуарини входил, когда ему было угодно. Не было более приятного и во всем соглашающегося собеседника, чем он. Когда королю желательно было посмеяться, он его смешил; когда он хотел молчать, падре помогал и в этом; спрошенный отвечал всегда весело и никогда ни в чем не противоречил.
В комнате курфюрста не было никого, кроме Брюля.
Он стоял перед государевым креслом с умиленным выражением лица и что-то нашептывал. Королевич внимательно слушал и покачивал головой.
— Слышите, отец мой, что он говорит? — сказал он входящему.
Гуарини подошел.
— Продолжай, — сказал Фридрих.
Брюль стал говорить, меряя глазами падре Гуарини.
— Ум беспокойный, насмешливый, и с некоторого времени сделался, неизвестно по каким причинам, прямо невыносимым.
— Вот что, — прошептал королевич, — это плохо…
— О ком речь? — тихо спросил иезуит.
— Я осмелился обратить внимание его величества на Вацдорфа. Гуарини вспомнил недавнюю встречу с ним.
— Действительно, и я замечаю в нем много необыкновенного.
— Тем более, — прибавил Брюль, — что при дворе эта болезнь очень заразительна и пристает к другим…
Королевич вздохнул и ничего не ответил, по-видимому, это ему наскучило.
— Где этот шут Фрош? — вдруг спросил он. — Верно спит уже где-нибудь в углу.
Иезуит поспешил к двери и, выглянув в переднюю, сделал знак. Фрош и Шторх тотчас пустились в перегонки и с такой быстротой влетели в комнату, что Шторх упал, а Фрош тотчас уселся на него верхом. Королевич, взявшись за бока, начал от души смеяться.
Обиженный Шторх тотчас же хотел отомстить и быстро поднялся, думая, что внезапным движением сбросит Фроша, но тот ловко соскользнул с него и, бросившись в угол комнаты, спрятался за креслом.
Нужно было видеть, с каким удовольствием глаза Фридриха следили за борцами, желая угадать конец битвы.
Оба шута с писком и криками начали обыкновенную, веселившую королевича в самых печальных обстоятельствах его жизни битву на словах и кулаках. И то и другое сыпалось градом… Фридрих смеялся, забыв обо всем, что слышал в этот день… Неизвестно как долго бы продолжалось это, если б падре Гуарини не шепнул на ухо его величеству, что пришло время вечернего богослужения. Королевич, сделавшись вдруг серьезным, встал и, оставив своих шутов, в сопровождении иезуита пошел в дворцовую часовню, где его ожидала жена.
ЧАСТЬ II
I
Однажды весенним вечером в доме Сулковского два могущественных министра в долгом молчании сидели один против другого, и каждый из них, вероятно, старался отгадать мысли другого. Наконец Сулковский встал и с обычной своей надменностью начал расхаживать по комнате, временами останавливаясь у окон и поглядывая в сад, откуда через открытое окно слышалось веселое щебетание птиц; издалека доносился шум экипажей и телег, едущих по мостовой.
Для внимательного наблюдателя лица двух собеседников представляли резкую противоположность. Если следить за выражением лица Брюля тогда, когда он думает, что никто не наблюдает за ним, то легко было заметить, что под его добродушной усмешкой кроются страшные глубокие пороки. В его глазах светилась живая понятливость и сметливость светского человека, которому ничему не нужно учиться, он сам все понимает и предвидит; он предугадал весь ход общественных движений, чем не замедлит воспользоваться и захватить в свои руки все то, что может быть выгодно для его собственной особы.
Сулковский же, сделавшись знатным барином, воображал, что он вполне обеспечен в своем высоком положении, а поэтому все для него было возможно и дозволено. Он легкомысленно считал Брюля за что-то в роде неизбежного зла, свысока на него посматривал, с тою беспечной самоуверенностью, которая даже не допускает близко грозящей опасности; у него не было недостатка в мыслях, но ему казалось, что принуждать их деятельнее работать для него не представляло необходимости.
Глядя на двух соперников, можно было предугадать неравную борьбу и бояться за легко предвиденный исход. Никогда более красивое лицо не скрывало под своей маской более хитрости и лицемерия; конечно, едва только Брюль замечал, что на него смотрят, лицо его тотчас принимало такое наивное детское выражение, что он казался невиннейшим существом на свете. Если люди такого рода соберутся вместе и вынуждены действовать единодушно, то долго без борьбы они не могут оставаться; но в настоящем случае, пока что ничего подобного не было, напротив, существовали самые дружеские отношения; иногда какой-то инстинкт подсказывал Сулковскому, что он должен в Брюле видел своего соперника, но он смеялся над этим. Брюль же хорошо знал, что для неограниченной власти над королем необходимо уничтожить Сулковского; некоторым образом сам граф давал ору-! жие против себя; едва умеющий выжидать и рассчитывать, ов часто высказывал, что ему не нравилось господство иезуитов при дворе и большое влияние королевы; хотя перед Брюлем он в этом. не признавался, но и не скрывал до такой степени, чтобы тот не мог догадаться, и когда только Брюль находился в коротких отношениях с отцом Гуарини, Сулковский не доверял ему, а г королеве он всегда относился с глубоким уважением, но не слишком то добивался ее милостей и не старался угождать ей; время от времени у него вырывались неосторожные слова о том, что в царствование Августа II при его любовницах жилось лучше, не-?" жели теперь при одной, но такой суровой королеве. Между тем( падре Гуарини, видя, что Сулковский пользуется милостями ко? роля, вынужден был ему кланяться хотя бы издалека.
Сулковский и Брюль наедине, как сегодня, редко встречались" потому что граф постоянно находился при короле, чтобы его развлекать и забавлять. Теперь, должно быть, весь предмет их разговора истощился, потому что ни один, ни другой не прерывали продолжительного молчания, однако, Брюль не уходил — видно он еще о чем-то хотел сообщить.
Наконец, граф тихо произнес:
— Пусть все это останется между нами. Теперь Габсбургский дом падает, и должно начаться величие Саксонского; я понимаю очень хорошо, что мы отреклись от наследственных прав и прит знали избирательное право, но со смертью короля дела должны принять иной оборот. Нам нужно, по крайней мере, захватить Чехию и Шлезвиг, вознаградив Пруссию чем-нибудь другим. Я уже вам говорил, что составил целый план; я приказал Людовици переписать его.
— Я очень хотел бы его иметь и внимательно рассмотреть, — отозвался Брюль. — Этот план гениальный и достойный вас, а для будущего Саксонии он имеет громадное значение. Нечего говорить, что я буду счастливейшим человеком, если буду в состоянии содействовать его выполнению. Во мне, граф, вы смело можете иметь ревностного союзника и слугу. Прикажите, пожалуйста, Людовици и для меня переписать этот план.
— Я не хочу, чтобы такой важный план раздела Австрии мог быть прочитан два раза Людовици, — отвечал Сулковский, польщенный словами Брюля. — Но в свободное время я собственной рукой перепишу его для вас.
Брюль с любезной улыбкой поблагодарил его.
— Вы для меня, граф, сделаете величайшее одолжение. Этот колоссальный план надо заранее обработать и предпринять все меры к его выполнению. Можно было бы издалека и осторожно поразведать в Берлине.
— О, — перебил, засмеявшись, Сулковский, — нет ни малейшего сомнения, что там нас примут с распростертыми объятиями; об этом я не беспокоюсь; мы найдем верного союзника.
— Я тоже надеюсь на это, — сказал Брюль, — теперь только о том речь, чтобы не потребовали слишком большого вознаграждения.
— Но во всяком случае еще не время приступать к сделкам.
— Но время приготовляться к ним и обсудить тот образ действия, которого нам нужно держаться.
Сказав это, Брюль встал и как бы нехотя произнес:
— Я почти уверен, что эта медаль придумана в Дрездене, и даже имею сильное основание подозревать, кто именно придумал ее.
Сулковский быстро обернулся к нему.
— Но кто же этот смельчак?
— Кто же иной, как не придворный, рассчитывающий на свое общественное положение? — ответил Брюль. — Человек маленький не отважится на такое опасное дело, побоится пытки и позорного столба.
— Да, но для кого-нибудь поважнее и худшим можно пригрозить, а безнаказанно невозможно этого оставить.
— Надеюсь! — воскликнул Брюль. — Еще они вздумают по головам у нас ходить! И без того их дерзость доходит до высокой степени, а доброта короля и ваше великодушие подстрекают совершать самые нахальные выходки. Вы замечаете, граф, как много позволяет себе младший Вацдорф?
Сулковский в это время стоял, отвернувшись к окну; услышав последние слова, он обернулся и посмотрел на Брюля с некоторым сожалением.
— Да это вам кажется, потому что вы не любите Вацдорфа, — сказал он. — Как он, так и его отец, любят острить, а это уже вовсе безопасно.
— Позвольте, — быстро подхватил Брюль, — позвольте, кто привык над всеми посмеиваться, никого не станет щадить. Достанется и мне, и вам, граф, и, наконец, королю.
— Нет, он на это не осмелится.
Граф вдруг остановился, подошел к Брюлю и, положив руку на его плечо, дружески произнес:
— Признайтесь, вы имеете что-нибудь против него? Он вам мешает в чем-нибудь?
— Он мне надоел! — воскликнул Брюль. — Признаюсь в этом, он докучает меня своими шуточками…
— Ну, это вам так кажется. Даже если не ошибаюсь, — заметил Сулковский, смеясь, — он был влюблен в Франю Коловрат.
— О, это было бы только доказательством хорошего вкуса, и я не имею на него права сердиться за это, — сказал Брюль, стараясь прикрыть свое раздражение видом равнодушия. — Но он оскорбляет графиню Мошинскую, к которой я питаю глубочайшее уважение.
— A… a!.. — рассмеялся граф.
— Но графиня сама сумела бы себя защитить, шепнув словцо королеве, — говорил далее Брюль, — а в моей помощи она не нуждается; но намного хуже то, что он насмехается над всеми, никого не исключая.
— Как, и надо мной? — спросил Сулковский.
— Да, мне кажется, что и это я могу доказать.
— О, но это было бы уже слишком смело, — сухо произнес Сулковский.
— Как хотите, верьте или нет, но я говорю откровенно; я думаю, что медаль, это дело его рук! — воскликнул Брюль, положив руку на сердце. Повторив последние два слова два раза, он прошелся по зале.
— Это одна догадка, любезный Брюль, одна догадка.
— А может быть, что-нибудь и побольше догадки. Я уже узнал, что он раздал три или четыре медали.
— Кому же?
— Придворным. Спрашивается, откуда у него их так много и зачем ему распространять ту вещь, которую я стараюсь уничтожить?
— Разве вы это знаете достоверно?
— Геннике может представить вам список этих особ.
— Ну, это совсем другое дело, — прервал его Сулковский. — Это уже факт, и хотя я его скорее объясняю враждою к вам, но все же он и ко мне имеет отношение.
— Точно так, — подтвердил Брюль. — Скажу вам откровенно, я приказал в его квартире сделать тайный обыск; если там найдут несколько штук медалей — дело решенное, это его выдумка, и прошу вас, не оставляйте этого безнаказанно… Для вас, — как будто приходя в волнение, прибавил Брюль, — это может не иметь большого значения, но для меня, для такого ничтожного человека…
— Я никогда не думал, чтобы Вацдорф был бы способен совершить подобную подлость, — перебил Сулковский, нахмурившись.
— А вот, сами убедитесь, — произнес Брюль. — Но хотя доказательства у меня будут в руках, я лично ничего не стану говорить государю, но вас прошу, не выпускайте из рук эту гадину. В Кенипптейн его…
Сулковский задумался и, наконец, сказал:
— Я жалею его, но если он явно окажется виновным…
— Но повторяю, я ни о чем не буду докладывать государю; прошу вас, все устраивайте вы. Я ваш слуга и помощник, а сам по себе ничего не значу, да и ничем не хочу быть, только помощником Сулковского и его покорным слугою…
Он поклонился. Граф со свойственной ему гордостью взял Брюля за руку и произнес:
— И я хочу видеть в вас только приятеля и друга, а я, с своей стороны, тем же буду для вас, любезный Брюль; вы мне нужны, точно также и я вам могу быть полезен.
Тут они дружески обнялись; Брюль с почтением поцеловал графа в плечо. Он казался очень растроган, одним словом, отлично разыграл свою роль.
— Послушайте, Брюль, как приятель говорю вам, многие знают, что Вацдорф влюблен в Франю, и если только ради этого вы хотите его устранить, то не обо мне, а про вас станут говорить.
Брюль, как будто пораженный, отскочил.
— Сегодня, — добавил он, — они, оскорбляя нас, коснулись трона, завтра же, осмелившись, и до трона доберутся и до нашего возлюбленного государя. Нужно предупредить их нахальство; как видите, для них не существует ничего святого.
— Вы совершенно правы! — холодно ответил Сулковский, — но все-таки виновность нужно доказать.
— Без сомнения, — подтвердил Брюль, взяв шляпу, и начал прощаться. — Но мы ведь увидимся…
— Да, сейчас начнется стрельба в цель, — отвечал Брюль. — Принц нуждается в развлечении; он страстно любит стрелять, что бы там ни было, и ему нужно доставить это удовольствие; к тому же, ведь это такая невинная забава…
Брюль поспешно ушел, потому что, вероятно, весь двор уже собрался ехать в так называемый фазанник, где были приготовлены мишени для стрельбы в цель; последнего нельзя было устроить в замке, так как хотя бы для вида нужно было сохранять остатки траура. Фазанник — это был лесок недалеко от Дрездена; в нем еще во времена Августа II выстроено было несколько домиков, и он с давних пор служил местом для разного рода увеселений. Великолепные липовые аллеи, огромные буки и вязы, целые ряды статуй, недавно выкопанный пруд делали это убежище одним из самых живописных в окрестностях Дрездена; оно находилось менее, чем в получасе езды от столицы. Сад, заросший в середине диким кустарником, где был устроен амфитеатр, со всех сторон был окружен густым бором; в его чаще кое-где расставленные статуи и большие мраморные вазы чудно выделялись на темной зелени деревьев. Аромат распускающихся деревьев, полная тишина, клумбы цветов, изумрудные лужайки — все это дополняло прелесть этого живописного местечка.
На амфитеатре были приготовлены мишени для стрельбы.
Но отец Гуарини, не довольствуясь тем, что приготовляли королевские ловчие, и зная характер Фридриха, хотел приготовить ему сюрприз, над чем уже хлопотал с раннего утра; но все хранилось в глубокой тайне.
Недалеко от амфитеатра был поставлен шалаш, возле которого стояла стража, не допускавшая туда никого; там скрывалась тайна отца Гуарини.
Раза три иезуит приезжал с разными коробками и каждый раз с своими помощниками оставался довольно долго в шалаше. Наконец, когда Гуарини вернулся оттуда в последний раз, его лицо выражало плохо скрытое удовольствие; напрасно он прикрывался степенностью своего сана, глаза его смеялись против воли; должно быть, все уже было приготовлено, потому что патер, заложив назад руки, спокойно прогуливался по дорожке, ведущей к амфитеатру.
Вдруг послышался шум на дороге, и один за другим стали прибывать дворцовые экипажи, сопровождаемые гайдуками и скороходами, и верхами кавалеры и разряженные дамы; все начали выходить из экипажей и слезать с коней.
Принц вел под руку свою жену, которая везде его сопровождала, в особенности, где присутствовали дамы; за королевской четой следовали: графиня Коловрат с дочерью, фрейлины, камергеры, пажи; все толпились и спешили занять назначенные места.
Сулковский и Брюль в щегольских охотничьих костюмах были тут же, при Фридрихе.
Заранее были приготовлены штуцеры; на амфитеатре стояли пажи и другие охотники, чтобы заряжать и подавать их.
В то самое время, когда Фридрих с видимым нетерпением спешил занять свое место и стрельба должна была начаться, на боковой дорожке показался падре Гуарини в штатском платье (так он часто одевался) с тросточкой в руках. Он как будто был очень удивлен при виде такого многолюдного собрания и хотя казалось, что с его губ сейчас сорвется веселая шутка, но он, приблизившись смиренно к принцу, серьезно произнес:
— А, ваше высочество! Что я вижу, стрельба в цель? Превосходное развлечение!
— Гм… в самом деле, — отвечал, засмеявшись Фридрих, — но ведь это не про вас, вы только в сердца стреляете.
— Однако всегда в цель, впрочем, довольно несчастливо… редко попадаю, — сказал вздыхая иезуит, — постарел я. Но, вероятно, здесь произойдет знаменитое состязание… Но где же награды?
— Какие награды? — с удивлением спросил принц.
— Ваше высочество, прошу извинить меня, — отвечал с поклоном Гуарини, — но как водится обыкновенно, всегда следует лучшим стрелкам что-нибудь дать в подарок и на память.
— Ах, об этом я и не подумал! — воскликнул принц, оборачиваясь по сторонам и ища кого-то глазами.
— Если позволите, — сказал Гуарини, почтительно кланяясь, — я могу предложить пять наград; больше не в состоянии, потому что я небогатый человек; но ради потехи моего уважаемого принца приношу мой маленький дар к его стопам.
Лицо принца выражало удовольствие.
— Но что же такое, что такое? — спросил он.
— А, это моя тайна! — воскликнул иезуит. — И прежде времени я ее выдать не могу.
Указав рукою на шалаш, он произнес:
— Мои награды помещаются там; пять лучших стрелков получат их.
Можно было предполагать, что затевается какая-то забавная шутка, потому что отец Гуарини всегда усерднее других старался потешать принца; не всегда эти шутки были остроумны и новы, но дело шло о том, как бы вызвать добродушную улыбку на молчаливом лице спокойного принца.
— Очень что-то любопытное, — произнес принц.
— Но попрошу только, — сказал Гуарини, — пусть ваше величество не участвует в соревновании, так как, без сомнения, здесь никто лучше не стреляет, а у меня нет награды, достойной его особы. Так вот…
Выражение его глаз, казалось, выясняло недосказанное.
В нетерпении сам Фридрих первый начал стрельбу. С детства приученный владеть оружием, он, действительно, стрелял отлично, так что немногие могли с ним сравниться в этом искусстве, когда же он брал ружье в руки, то увлекался до того, что ничего не слышал и не видел, ни о чем не мог думать, только о ружье и пуле. Мишень была устроена таким образом: пуля, попадающая в самый центр, приподнимала кверху маленькое зелено-белое знамя — национальные цвета Саксонии; попадающая за первый круг поднимала черно-желтое знамя — цвет города, и, наконец, пули, падающие дальше, поднимали черное.
Когда Фридрих начал стрелять и каждый раз попадал в самую цель, со всех сторон посыпались рукоплескания; он выстрелил несколько десятков раз; за ним по очереди последовали другие: Сулковский, Брюль, иностранные послы, генералы Баудиссен, граф Вакербат-Сальмур, граф Лосе, барон Шенберг и многие другие. Потом сосчитали все меткие и неудачные выстрелы; видно было, что принц с нетерпением ожидал раздачи наград; между тем, отец Гуарини, заложив назад руки, скромно стоял в сторонке.
Оказалось при проверке выстрелов, что первый приз получит старый генерал Баудиссен, человек дородный, но очень скромный и послушный.
Тут Гуарини очень серьезно отдал приказание вынести из шалаша первую награду.
Любопытство всех было возбуждено до высшей степени; принц даже привстал в кресле.
Наконец, двери отворились, два ливрейных лакея в желтых фраках с гранатовыми отворотами вынесли под белым покрывалом большую корзину, в которой что-то билось с шумом.
— Генерал, — с важностью произнес падре Гуарини, — не моя вина, что вы получите награду, не соответственную вашим летам; так судьба устроила. Никто не может противиться ее предначертанию.
По данному знаку с корзины было снято покрывало, и на лужайке показался… огромный гусь, но не в том уборе, в котором он явился на свет; в руках знаменитого артиста гусь обратился в потешнейшее существо; на крыльях у него было растянуто платье из великолепной материи, которая тогда была в моде; на ногах башмачки, на голове прическа из волос и перьев. Испуганная птица, появление которой было встречено шумным смехом, начала вертеться, стараясь убежать, но платье спутывало крылья, башмаки ноги, к которым уж гуси вовсе не привыкли; она закричала, как бы прося о помощи, и поползла между зрителями.
Принц, взявшись за бока, хохотал до слез; смеялись и другие, даже серьезная принцесса.
— Второй, второй номер! — требовал Фридрих.
— Ваше величество, — сказал Гуарини, — первая награда носит название "Анджела или влюбленная".
— Кому же принадлежит вторая награда?
Вторую награду должен был получить Сулковский, которому не по вкусу пришлась эта затея Гуарини. Внесли другую корзину и в наряде арлекина из итальянского театра оттуда выскочила обезьяна, перепуганная не меньше гуся; но эта, не взирая на свой наряд, как только почуяла себя на свободе, бросилась убегать и, достигнув первого дерева, довольно ловко вскарабкалась на него.
Принц, не долго думая, схватил ружье и выстрелил; окровавленная обезьяна с криком, цепляясь за сучья, упала на землю.
Третья награда предназначалась для Брюля, который, как видно, также не совсем ее желал: это был большой заяц, наряженный шутом. Принц и его застрелил; он был удивительно оживлен и счастлив и, едва присевши, опять вскакивал, как только приносили новую награду; четвертая была серый кролик в костюме скомороха; перепуганный, он тоже хотел убежать, но пал жертвой горячности Фридриха; последняя была из самых потешнейших, но, как и гусь, уцелела: из корзины вытащили индюка, одетого доктором, во фраке, в парике, в камзоле, одним словом, в полном костюме приказного; этого спасла комичная важность.
Все хохотали до слез; принц благодарил Гуарини и даже произнес длинную речь, уверяя его, что целую жизнь не забудет этой замечательной штуки и даже завещает своему потомству помнить ее.
Долго еще в парке продолжалась стрельба в цель; уже стемнело; вечер был тихий, воздух свежий и ароматичный; никому не хотелось возвращаться домой; все присутствующие разбрелись по парку.
Между тем, во время раздачи наград, судьба так устроила, что Вацдорф поместился около Франи Коловрат; сейчас же это приметила ее мать и сообразив, что, прикрывшись веером, легко разговаривать, старалась отозвать свою дочь, так как Вацдорфа не легко было удалить; но и это не удалось графине; не желая дать заметить посторонним больше, чем следовало, она вынуждена была оставить их в покое.
Вацдорф не замедлил воспользоваться соседством Франи. Всегда веселый и насмешливый, он в этот вечер был грустен и молчалив: вблизи никого не было, так что он мог вполголоса разговаривать с Франциской.
— В самом деле, за сегодняшний день я могу поблагодарить судьбу, хотя редко я ей бываю благодарен; ей я обязан, что в последний раз прощаюсь с моей царицей.
— Как? В последний раз? — подхватила Франя, не глядя на него.
— Да, к сожалению, это правда. Здесь стоит только тень Вацдорфа; я чувствую над своей головой страшную месть пажа министра; за каждым моим шагом следят, быть может и прислуга моя вся подкуплена; однажды, возвратясь домой, я нашел свои бумаги в беспорядке, а некоторых совсем не стало. Я догадался, что был тайный обыск. В таком случае, я погиб.
— Беги! — в отчаянии воскликнула графиня. — Заклинаю тебя всем святым, нашей любовью!.. Уходи. Здесь никто на тебя не обращает внимания! Хорошая лошадь, и ты в Чехии.
— Да и австрийцы завтра привезут меня назад.
— Ну так уходи в Пруссию, в Голландию, во Францию, — быстро проговорила Франя.
— На это у меня нет средств, — отвечал Вацдорф с полнейшим равнодушием. — Но что хуже всего я потерял интерес к жизни, ко всему. Что же найду я там? Для меня нет больше счастья… Франя, — прибавил он еще тише. — Не знаю, что со мною будет; может быть, ты одна не забудешь меня и ты должна отомстить за Вацдорфа. Ты будешь женой этого человека, будь его палачом…
Он вынужден был замолчать, но смотрел прямо в глаза Франи; они метали молнии.
— Если завтра я не явлюсь при дворе, следовательно, месть меня настигла, — опять заговорил он. — Но у меня есть такое страшное предчувствие, от которого я не могу избавиться.
— Но откуда эти подозрения? Откуда такие догадки?
— За час перед этим я был дома; там нашел страшный беспорядок, лакей исчез, а с ним и те вещи, которые более всего могли меня обвинить. Будь счастлива! — говорил он взволнованным голосом. — Ты будешь жить, а я угасну между четырьмя стенами, в глубокой тишине. Франя, умоляю тебя, оставь мне что-нибудь на память, урони платок, потеряй перчатку. Я спрячу на сердце. Успокой мои страдания воспоминанием о тебе!
Растроганная Франя незаметно выронила из рук платок. Вацдорф нагнулся и спрятал его у себя на груди.
— Благодарю тебя, — сказал он. — Еще одна минута и глаза твои навеки погаснут для меня и засветят для других. Франя, живи счастливо, прощай навеки!..
Этими словами закончился их разговор, потому что приблизилась графиня Коловрат и, пользуясь говором и шумом толпы, почти насильно оттащила свою дочь. Вацдорф отступил назад; в нескольких шагах от него в это время отец Гуарини занимал принца и принцессу. Между тем, отойдя в сторону, Брюль с Сулковским тихо разговаривали.
— Позвольте, одно только слово, — заговорил первый измененным голосом, — догадки мои оправдались.
— Какие? Что такое? — спросил граф равнодушно.
— Обыск сделан у Вацдорфа; все бумаги пересмотрены. Нашли множество пасквилей, но это пустяки; главное же найдено пятьдесят штук медалей и письмо от фабриканта, который пишет, что присланный рисунок он выполнил насколько возможно лучше. Это такое веское доказательство, что больше ничего не нужно для полного обвинения человека…
При этих словах Сулковский побледнел, а Брюль всунул ему в руки бумагу.
— Прошу вас, возьмите это; я лично ничего не буду делать; действуйте, как сами знаете; но если Вацдорф не будет заключен в Кенигштейн… кто знает, не займет ли кто-нибудь из нас для него предназначенного места. Смелость и бесстыдство много значат… Делайте, граф, как сами знаете, я же умываю руки, потому что личной мести я не ищу… Но здесь дело касается принца… Это оскорбление королевского трона, а за это смертная казнь…
Сказав эти слова, Брюль быстро отошел; на лице его появилась обычная улыбка. Увидев издали графиню Мошинскую, он подошел к ней, кланяясь почтительно и низко, на что прекрасная графиня едва заметно кивнула головой.
Между тем, Франя полумертвая, но гордая, без слезинки в глазу, тихо шла, поддерживаемая матерью; несколько раз она оглядывалась в ту сторону, где стоял Вацдорф, который также, казалось, ничего не видел и не слышал.
В это время перед глазами Франи предстал Брюль с низким поклоном и приятной улыбкой; у гордой девушки заблестели глаза, она выпрямилась и окинула министра холодным, презрительным взглядом.
— Не правда ли, — сладко заговорил он, — как мы приятно и весело провели время?
— Да, вы, все господа, удивительно хорошо стреляете, — отвечала Франя, — не сомневаюсь, что вы также метко можете попадать и в людей…
Брюль с удивлением посмотрел на нее.
— Мало практиковался в этом, — холодно произнес он. — Но если бы понадобилось для защиты нашего принца взять оружие в руки, то не сомневаюсь, что стрелял бы, и метко бы стрелял. А вы, как я заметил, еще веселее провели время в приятной беседе с камергером Вацдорфом? — прибавил Брюль.
— Действительно, — отвечала Франя, — Вацдорф удивительно остроумен, его слова и замечания также метки как и ваши пули, господа.
— Но это оружие небезопасно для тех, кто не умеет искусно владеть им, — заметил Брюль, — пожалуй и себя самого поранишь…
Старая графиня имела намерение прервать этот неприятный разговор, но взгляд дочери заставил ее замолчать. Франя хотела сейчас же откровенно переговорить с Брюлем, но ее удерживала гордость, и к тому же она не могла быть уверена, что Вацдорф не преувеличивал опасности и не объяснял ошибочно исчезновение своих бумаг.
Принцесса с фрейлинами раньше уехала домой; Фридрих остался один в своем избранном кружке; Сулковский уже давно старался с ним остаться наедине. Часть дороги принц пожелал пройти пешком, этим воспользовался граф и пошел с ним рядом, а остальные следовали издали; Брюль был неотлучно при графине Коловрат.
Принц был в веселом расположении духа, но Сулковский не думал долго ждать с делом Вацдорфа; оно его тяготило, и он рад был поскорее отделаться от него, а может быть боялся побега камергера, если тот уже знал про его замысел.
— Какая неприятная обязанность, — заговорил Сулковский, — опечалить ваше величество.
Услышав эти слова, Фридрих нахмурился и бросил на Сулковского такой взгляд, как будто хотел отвязаться от этого разговора, но тот после недолгой остановки продолжал далее.
— Дело, не терпящее отлагательства. Я, Брюль, и даже наш всемилостивый принц, все мы выставлены на посмешище целой Европы; не упоминал я об этом раньше, потому что все старался как-нибудь избавиться от того неприятного впечатления, которое производит страшная неблагодарность. В Голландии выбита медаль, на ней представлен отвратительный рисунок…
Фридрих, перепуганный, остановился; лицо его побледнело, как бывало у отца, когда он впадал в страшный гнев и лишался сознания.
— Об этом я прежде не мог говорить, пока не был открыт виновный, — продолжал Сулковский. — Я и Брюль ему простили личную обиду, но оскорбление трона, мы, как министры, не должны оставлять без наказания.
— Но кто же он, кто такой? — спрашивал Фридрих.
— Это человек, одаренный вашими милостями; его семейство обязано всем отцу вашего величества. Это беспримерная дерзость и неблагодарность…
— Кто же это? — допытывался принц.
— Камергер Вацдорф.
Фридрих повел кругом мутными глазами.
— Вот они. У меня в руках найденное письмо и медали.
— Не хочу, не хочу видеть, — воскликнул принц, закрываясь рукою, — ничего! Ни их, ни его! Прочь… Прочь!..
— Прикажете отпустить безнаказанно? — спросил граф. — Но ведь это невозможно; за границей он начнет распространять клевету, а кто знает, какую именно? Быть может, священная память отца вашего величества?..
— Камергер Вацдорф, Вацдорф младший, — повторял, перебивая графа, Фридрих. — Но что же это такое, да как же?.. — Говоря это, он вытирал пот со лба.
— В Кенигштейн… — коротко произнес Сулковский.
Наступило молчание… Принц с опущенной головой шел тихо. За все его царствование это было первое преступление и первое такое наказание.
— Но где же Брюль? — спросил Фридрих.
— Брюль предоставил мне все это дело, — отвечал граф.
— Вацдорф… Кенигштейн… — все повторял принц, тяжело вздыхая.
Вдруг Фридрих остановился, уставился глазами на Сулковского и закричал:
— Не хочу ни о чем больше слышать! Довольно! Не хочу слышать! Делайте, что хотите!..
Сулковский обернулся и сделал знак идущему сзади Гуарини приблизиться; иезуит умел лучше всех развеселить принца; на данный знак он поспешил подойти, догадываясь, что он здесь нужен.
— Я в отчаянии, — воскликнул он, — мой гусь исчез, улетел! Видя себя отверженным, он, должно быть, отправился в лес искать смерти. Я его преследовал и на мое несчастье, подряд три раза за гуся принимал одну из наших дам. Никогда мне этого они не простят.
По мере того, как принц слушал рассказ иезуита, его опечаленное лицо стало проясняться; как с пасмурного неба сбегают тучи, так с его прекрасного лица исчезли морщины; губы сложились в улыбку, на щеках появился едва заметный румянец; он внимательно смотрел на иезуита, как бы желая на его наивно улыбающемся лице, напоминавшем итальянского полишинеля, найти источник необходимого для него веселья. Гуарини угадывал, что произошло что-то опечалившее принца и со всем своим остроумием он старался поскорее уничтожить все следы неприятного впечатления. По мере того, как сыпались веселые шутки и язвительные слова, принц, как будто начал забывать недавнюю неприятность и начал добродушно улыбаться; однако, веселому патеру надо было употребить не одно усилие, чтобы окончательно уничтожить снова набегавшие тучки, и он до тех пор не давал покоя принцу, пока не услышал того простодушного громкого смеха, который свидетельствовал, что его величество изволил забыть о всех горестях сего мира.
На другой день исчез бесследно королевский камергер Вацдорф. Никто не посмел расспрашивать, что с ним сталось; это была первая жертва нового царствования; несколько дней спустя потихоньку стали поговаривать, что Вацдорфа свезли в Кенигштейн.
Принц больше никогда не вспоминал его имени, Сулковский и Брюль, как будто ни о чем не знали, но тревога распространялась между придворными и между тайными врагами обоих министров. Брюль же, при первом удобном случае, насколько мог явно, умыл руки в этом деле, уверяя, что ровно ничего не знал и не во что не вмешивался.
В "Историческом Меркурии", бывшем чем-то вроде французской газеты, издаваемой в то время, вскоре были напечатаны следующие строки:
"Те, которые хорошо знали вольный образ мыслей того молодого человека, который не раз отличался своим злым остроумием, не будут удивлены случившейся с ним катастрофой, которую ему уже предсказывали с давних пор".
С этого времени никто уже больше не видел Вапдорфа. После четырнадцатилетнего заключения в Кенигштейне он умер там, убитый тоской и неволей.
II
Прошел год после вышеописанных событий.
Дворец, в котором жил министр Брюль, светился огнями.
Нигде не устраивалось такого торжества с большим великолепием, как в Дрездене; нигде не могло быть более роскошных увеселений, предание о которых было оставлено Августом Сильным. От двора эта роскошь передавалась приближенным короля, а дальше тем, которым приходилось с ними сталкиваться, которые имели связи с высшим обществом, частью даже в зажиточное купечество; тогдашние банкиры не раз задавали пиры для двора; все на того ласково смотрели, кто содействовал веселью и мог прислужиться каким-нибудь сюрпризом.
Фейерверки, иллюминации, цветы, гирлянды, музыка являлись на сцену при всяком удобном случае.
Брюль был одним из самых расточительных временщиков своего времени; он удивлял даже тех, которые перестали чему бы то ни было удивляться.
На этот раз освещение его дворца своей причудливостью превосходило все, давно виданное в столице. Большая толпа народа в почтительном отдалении с удивлением смотрела на каменные палаты знатного вельможи, блистающие разноцветными огнями, как бы гирляндами из дорогих камней и цветов.
Над главным подъездом в овальном щите, выложенном серебряными звездами, светились две тесно соединенные буквы "Ф" и "Г", по сторонам ниспадали гирлянды из роз и зелени; немного ниже, в транспарантах — два гербовых щита, наклоненные друг к другу; они были испещрены какими-то знаками, непонятными для толпы. Дворовые объясняли любопытным, что там значилась фамильная геральдика новобрачных.
Толпа уже довольно долго стояла перед дворцом, когда со стороны замка показалась карета, сопровождаемая гайдуками и скороходами. В ней ехали молодые и мать новобрачной: после приема и бала в замке, они возвращались в собственный дом.
Красавица молодая должна была в первый раз переступить порог своего нового жилища. Все приготовились для встречи молодых; по обеим сторонам лестницы, ведущей в залу из сеней в первый этаж, стояла целая шеренга лакеев в роскошных ливреях; наверху ожидали камердинеры, дворецкий и пажи министра. Для приезда жены Брюль весь дом отделал заново, расширил его и убрал с царской роскошью: везде блестели фарфор, серебро, бронза и тысяча мелких безделушек, которые в тот век были в большой моде. Всю эту роскошь Брюль объяснял себе тем, что этим он воздает честь своему королю; он уверял, что на это тратит свой последний грош только для того, чтобы своей пышностью придавать еще более блеску саксонскому двору.
Когда экипаж остановился у подъезда, из него вышла с помощью зятя старая графиня и медленно стала подниматься наверх; Брюль поспешил подать руку жене, но она показала вид, что не замечает этого и пошла рядом с ним.
Прекрасное лицо Франциски в этот день было очень печально и серьезно, что возбуждало удивление присутствующих; на этом пасмурном лице не было видно счастья новобрачной; равнодушным взглядом она смотрела на блестящее убранство дома, как будто даже ничего не хотела видеть; она шла, как обреченная жертва, которая знает, что не может противиться своей судьбе, хотя счастья ей нечего ожидать. Должно быть, она принудила себя быть равнодушной, успела освоиться с своим положением; ее лицо не выражало глубокой печали, но поражало своей неподвижностью; ее печаль обратилась в медленную изнурительную болезнь, неразлучную с ее существованием.
Наверху в маленькой зале, где на всех стенах горели яркие свечи, блестели хрустальные подвески и богатые оправы у образов, графиня Коловрат остановилась; Франя встала возле нее, с другой стороны — Брюль в свадебном фраке из фиолетового бархата, шитом золотом, в кружевах, с букетом в петличке.
Мать приблизилась к дочери и, приложив губы к ее лбу, прощалась с ней долгим поцелуем, но Франя не была тронута этим доказательством материнской нежности; у графини на глазах навернулись слезы, хотя жизнь при дворе давно сделала ее равнодушной.
— Будьте же счастливы, — тихо проговорила она, — благословляю вас! Будьте счастливы! — и она, растроганная, закрыла глаза рукой; Брюль схватил ее другую руку и покрыл ее поцелуями.
— Вы должны остаться одни, — прибавила она измененным голосом, — моей обязанностью было вас проводить и благословить вас здесь; я не хочу вам мешать, к тому же мне самой нужно отдохнуть после всех волнений… — Она обернулась к Брюлю.
— Поручаю тебе мою дочь! Будь для нее добрым любящим мужем. Франя также привыкнет к тебе. Будьте счастливы. Нужно пользоваться изменчивым земным счастьем… Нужно услаждать дни своей жизни, но не отравлять их. Франя, надеюсь, что и ты для него будешь доброй женой…
Она хотела еще что-то добавить, но какая-то мысль мешала ей выразить то, что лежало на душе, и остановила слова, готовые сорваться с ее губ; они сами должны были догадаться о том, о чем она хотела сказать. Еще раз графиня запечатлела поцелуй на лбу дочери, а та стояла неподвижно, как мраморная статуя. Графиня хотела уходить. Брюль быстро подскочил к ней, с вежливостью подал руку и проводил ее вниз до ожидающего придворного экипажа; она села в него, не говоря ни слова, и откинулась вглубь, прячась от взоров любопытной толпы.
На минуту молодая осталась одна и стояла в глубокой задумчивости; она не успела тронуться с своего места, как Брюль уже вернулся; он хотел взять ее за руку, но она отскочила от него и взглянула с таким удивлением, как будто совсем забыла, где она и что она его жена.
— Ради Бога, — прошептал министр, — с улицы и в доме тысячи глаз устремлены на нас; будем хоть для них счастливы! На сцене жизни мы все должны быть актерами (это была его любимая и часто повторяемая фраза). Разыграем же и мы хорошо наши роли. — Сказав это, он подал ей руку и повел через целый ряд ярко освещенных комнат на ее половину. Все, что попадалось рассеянным глазам Франи, было так великолепно, так богато и роскошно, что у каждого, кроме нее, вызвало бы возглас удивления, но она шла ни на что не смотря, ничего не замечая. Наконец, они вошли в уборную; следующая за ней комната была спальня; там две алебастровые лампы разливали таинственный полусвет.
Молодая женщина бросилась в кресло, стоящее перед туалетом, и, облокотившись рукой на столик, покрытый белой кружевной салфеткой, глубоко задумалась.
Здесь новобрачные были совершенно одни, только с улицы доносился говор толпы, все еще глазевшей на иллюминацию.
— Теперь вы в своем собственном доме, — заговорил Брюль мягким вкрадчивым голосом, — и я первый к вашим услугам стою перед вами.
Он хотел стать перед ней на колени, но Франя быстро поднялась, вздохнула, как будто сбрасывала с своей груди давившую ее тяжесть, и произнесла твердым голосом:
— За целый день разве не довольно было комедии. Наедине друг с другом нам нечего ее разыгрывать. Потрудитесь и меня, и себя избавить от этого. Мы должны быть откровенны и с первого же дня нужно поступать таким образом. Мы заключили деловой контракт, но не супружество, не союз сердец, так нужно его стараться сделать выгодным для обеих сторон, — и, ни разу не взглянув на Брюля, она начала снимать перед зеркалом венок и подвенечный вуаль.
— Если вы не хотите, чтобы нас могли подслушать, то потрудитесь убедиться, одни ли мы.
— Я уверен в этом, потому что отдал надлежащее приказание, — холодно ответил Брюль.
Франя замолчала. Она взяла с уборного стола флакон с одеколоном и смачивала им свои горячие виски.
— Да, я должна делать вид, что счастлива, как и всякая другая женщина, — заговорила она спокойно, продолжая снимать мелкие принадлежности своего туалета, — но Франя не может быть счастлива… Тот, кого я любила, не скрываю этого, теперь лежит в темнице на сырой соломе и не видит он ни неба, ни солнечного света… Вы любите другую, а мы друг другу чужие. Хотя мне никто не говорил, но я знаю, на что я обречена. Но ведь и я хочу наслаждаться жизнью и вполне свободно буду пользоваться всеми ее прелестями: горечь нужно усладить, следовательно, я имею на это право. Люблю роскошь, меня должны окружить ею; я требую развлечения, чтобы вечно не плакать, чтобы заглушить голос сердца; все это должны мне доставить… Вы для меня человек посторонний… мы можем быть хорошими друзьями, если вы того заслужите. А, быть может, через два дня у меня явится фантазия, и я полюблю вас. Но невольницей ни у кого не буду… даже…
Она быстро обернулась к Брюлю, он стоял озабоченный, не говоря ни слова.
— Вы меня понимаете? Он молчал.
— Мне никто не говорил ни слова, — продолжала она, — но я женским инстинктом отгадала все. Я знаю свою судьбу и знаю…
— Послушайте, — прервал министр, — есть вещи, о которых говорить нельзя; одно слово неосторожно сказанное — уже измена.
— Но вам не нужно меня этому учить, я сама понимаю. Если хотите, я расскажу вам о том, что вы считаете тайной. Август II любил разглашать и хвалиться своими любовными интригами, но его набожный сын боится допускать малейшее подозрение о себе. Поэтому нужно так устроить, чтобы все тщательно скрыть от людского взгляда, — и она сухо засмеялась. — Надеюсь, что, доставляя вам власть и могущество, я буду тем же пользоваться, и желаю, чтобы моя каждая фантазия, каждая затея исполнялась, а у меня их не мало будет, предупреждаю вас. Я жажду жизни, хочу ею наслаждаться, чтобы заглушить тоску. Вы думаете, — с оживлением прибавила она, — что придет то время, когда образ этого несчастного исчезнет из моей памяти? Нет! Я всегда буду видеть те стены, в которых его заточили; темную каморку, твердую постель и бледное истомленное лицо в крошечном окошечке; но в этом человеке живет мощный дух, который его поддерживает и до тех пор будет поддерживать, пока не отворятся перед ним тяжелые двери темницы. Но правда ли, что другая ваша жертва, бедный Гойм, повесился в тюрьме?
Брюль стоял с опущенными глазами.
— Да, это правда! — сухо ответил он. — Но тут жалеть не о чем. Я о нем плакать не стану.
— Да и я также, — произнесла Франя, — но того, другого, я не забуду. Понимаете ли, что рука, погубившая его, хотя и соединенная у алтаря с моей, не может никогда коснуться моей руки… Мы всегда останемся чужими друг другу.
Она насмешливо улыбнулась и продолжала далее:
— Вы для меня приняли католическое вероисповедание, хотя это тоже должно быть тайной. Но и это мне прекрасно вас рекомендует. Какой такт! Какая политика! Польскому королю нужен в Польше министр католик, Брюль там является католиком; саксонский курфюрст должен иметь в Саксонии министра протестанта, Брюль усердный лютеранин; а если бы Моравские братья сделали Циндендорфа своим королем, вы бы, вероятно, присоединились к геррнгутерской общине…
— Но вы не знаете, как глубоко оскорбляете меня! — взволнованным голосом проговорил Брюль. — Я благочестивый христианин, быть может, я много грешу в своей жизни, но Евангелие и его предписания, вера в Спасителя… — и он возвел свои взоры к небу.
— Ах, понимаю, это относится к вашей роли, — сказала Фра-ня, — так лучше оставим это. Но я хочу отдохнуть и остаться одна.
Она взглянула на него.
— Но что же скажет прислуга, что подумают, если вы выгоните меня отсюда? Но, ведь так невозможно поступать!..
— Но иначе быть не может, — воскликнула Франя. — Вы проведете ночь здесь в кабинете, на софе, в креслах, где угодно, а я пойду в спальню и затворюсь там.
Брюль с беспокойством смотрел на нее:
— Позвольте же мне, по крайней мере, переодеться и вернуться сюда. Никто не должен догадываться о наших отношениях; это вы должны знать.
— Понимаю, понимаю, все должно оставаться тайной и мы — нежные супруги. Признайтесь, ведь наше платоническое супружество очень комично. Мужчины станут вам завидовать, женщины — мне. Иные находят вас недурным мужчиной, но король гораздо красивее да еще "король" вдобавок. Я думаю, что приятней быть, хоть тайной любовницей короля, нежели женой министра.
Она засмеялась с злобной иронией.
— Воображаю, как его величество в присутствии жены побоится взглянуть на меня, каким равнодушным станет прикидываться…
— Но, ради Бога, — прервал министр, ломая руки, — ведь и стены имеют уши!
Франя пожала плечами.
— Вы знаете, — шепотом произнес он, — если бы не только нас выдали, но хотя бы явилось малейшее подозрение, малейшая тень правды, мы оба погибли.
— О, это было бы очень нехорошо, в особенности для меня, — отвечала молодая женщина. — Мне пришлось бы тогда жить с вами tet-à-tet, без малейшей надежды на лучшее будущее… Следовательно, нужно быть поосторожнее.
Брюль, ничего не говоря, вышел из комнаты. Все комнаты еще были освещены; медленным шагом он прошел в свой кабинет, где его ждали камердинер и лакеи, зная, что он придет переодеваться.
На столике лежал его утренний костюм: парадный халат из голубого лионского атласа, белье снежной белизны и легкие шелковые туфли, и все это было безупречной свежести.
Брюль переоделся, и так как в это время свечи были везде погашены, то камердинер с двумя серебряными подсвечниками в руках проводил своего барина до дверей уборной; там никого не было, только на столике были разбросаны вуаль и венок новобрачной, ее перчатки и платок; дверь в спальню была закрыта на ключ, в углу горела ночная лампа, в комнате господствовала полная тишина. На городской башне пробил поздний час ночи; Брюль взглянул в окно, на улице было пусто, иллюминация погасла; над темными зданиями высоко светил месяц, выплывая из-за белых волнистых облаков. Ночь была летняя, тихая… он отворил окно, но свежий воздух казался ему душным. В спальне не было слышно ни малейшего шороха. Муж прелестной Франи несколько раз прошелся по комнате; он кругом осматривался, отыскивая себе место для отдыха; маленькая софа и приставленное к ней кресло должны были служить ему постелью… Он прилег и, облокотясь на руку, долго думал; по его губам пробегала ироническая усмешка, он несколько раз бросал взгляд на дверь спальной; но вскоре его мысли приняли другой оборот, и он, утомленный, задремал. И во сне перед его глазами блестело золото, бриллианты, царское богатство, но все это было мертво, нигде не было видно живого лица, ни одной живой души; потом эта картина покрылась густыми облаками и на них буквы с графской короной; наконец, все исчезло во мраке.
Когда он проснулся, был уже белый день. Брюль почему-то перепугался света; он, как можно живее, вскочил с своей неудобной постели, поставил на место кресло, завернулся в халат и на цыпочках вышел из комнаты. Прежде он взглянул на часы… с ужасом увидел, что уже был шестой час; в эту пору он обыкновенно принимался за дела свои. В кабинете он уже застал отца Гуарини, добродушно улыбавшегося, в утреннем сером сюртуке с черными пуговками.
Иезуит молча протянул министру руку, которую тот почтительно поцеловал.
Брюль был немного смущен. Прежде, чем заговорить, оба пытливо взглянули друг на друга.
Гуарини таинственно наклонился к Брюлю и сказал:
— Даже на другой день свадьбы министр не имеет права выспаться, как следует, а в особенности, если он имеет столько могущественных врагов, как вы.
— Но я могу не бояться их, на моей стороне вы, отец, и помощь королевы, — заметил Брюль.
— Нет, всегда нужно бояться и быть осторожным, — прошептал Гуарини… — Хотя за вас сама королева, но помните, мой друг, ведь королевы не вечно господствуют.
— Но, вы, отец, — еще тише проговорил министр, — вы теперь управляете, и надеюсь долго будете управлять совестью нашего короля.
— Дитя мое, а разве я бессмертен? Я уже стар и чувствую, что скоро сделаюсь негодной вещью, которую выбросят в сорную кучу.
На минуту они замолчали. Гуарини ходил по комнате, заложив назад руки.
— И я, и королева немного приготовили князя Лихтенштейна, — произнес он, — но князь действует медленно и осмотрительно. Вообще с этим делом спешить не следует. Дайте время приготовить короля. Пока что у него Сулковский первый человек. Сулковский для него все… Но вы имеете за собой воспоминание об отце; постарайтесь заслужить что-нибудь побольше…
Иезуит замолчал.
— Piano, piano, pianissimo, — снова прошептал он. — С принцем нужно уметь как говорить и получше разгадать его. По пению узнаешь птичку, по речи — голову, — привел он итальянскую пословицу. Почтенный патер усмехнулся, он чрезвычайно любил употреблять в разговоре итальянские народные поговорки. — Duro con duro non fan mai muro (из твердого с твердым стены не сложишь), — прибавил он. — Сулковский бывает duro, a вы должны быть мягким, вкрадчивым. Ma piano, ma piano, ma piano! — Тут он начал что-то быстро шептать на ухо министру, отчаянно жестикулируя; потом, взглянув на часы, Гуарини схватил шляпу и поспешно вышел из комнаты.
В то самое время, когда за ним затворилась дверь, из другой двери показалось желтое сморщенное лицо, и в комнату вошел Геннике; он весь съежился и нес под мышкой большой сверток бумаг; проницательным взглядом он окинул Брюля, чтобы по выражению лица догадаться о расположении духа своего начальника.
— Ваше превосходительство, — сказал Геннике, — прежде всего позвольте принести вам мое поздравление.
— Прежде всего дела, — прервал министр, — нам нужны деньги, деньги и деньги: для двора, для дел в Польше, для короля, для меня, для тебя, не считая Сулковского… Геннике, ты слышишь, нужны деньги!
Экс-лакей закусил губы.
— Но эти негодяи поднимают шум, — произнес он, — шляхта ерошится, в местечках волнение, просят льгот и определенных постановлений.
— Но кто же именно? — спросил Брюль.
— Все.
— Кто же стоит во главе их? Кто громче кричит?
— Там много таких.
— Ну, сколько? Трое, четверо?.. Послать солдат, пусть их отвезут в Плессенбург, там к ним вернется благоразумие, а остальные утихнут.
— Но кого выбрать из них? — спросил Геннике.
— Я бы сам стал сомневаться в выборе, если бы ты не мог сообразить. Не посягай слишком высоко, потому что можешь затронуть сторонников Сулковского; пониже тоже нечего орать, так как от этого пользы не будет; того, кто имеет связи во дворе, не трогай, но пару людей из знати…
— А причины? — перебил экс-лакей. Брюль захохотал.
— Неужто и этому тебя учить? Слово, громко сказанное, оскорбление престола… понимаешь, Геннике, или ты поглупел?..
— Понимаю, — вздыхая, отвечал Геннике. Брюль встал и быстро начал ходить по комнате.
— Не знаю, увижу ли я сегодня Глобика. Передай ему от меня, что он точно не исполняет моих приказаний. На последней охоте едва не поднесли петиции королеве… в кустах сидел, спрятавшись, шляхтич. За несколько часов до прогулки или охоты все дороги должны быть осмотрены, расставлены часовые… Кто знает, с каким намерением?..
— Ваше превосходительство, всего один я не могу досмотреть… а Лосе… а Штамер, Глобик и остальные что же они делают?
— Но Геннике должен справляться за всех, если желает получить вознаграждение один.
Разговор перешел в тихий шепот, но на этот раз он продолжался недолго.
Брюль зевал от скуки.
Геннике понял, что ему следует удалиться.
Принесли шоколад; Брюль наскоро выпил одну чашку с несколькими бисквитами и потребовал одеваться.
В уборной все было приготовлено, так что совершение его туалета заняло немного времени. Портшез с гайдуками ждал у крыльца. Министр приказал вести себя к князю Лихтенштейну. В то время дом посольства находился на старом рынке, так что туда путешествие было недолгое.
Обыкновенно в эту пору Брюль являлся к королю, но по случаю вчерашней свадьбы министр был уволен на целый день; пользуясь этой свободой, Брюль поспешил навестить князя. Когда о нем доложили, сам хозяин встретил его в зале. Министр не забывал, что сегодня для всех он счастливейший человек в мире и, действительно, хотя его наружность носила следы некоторого утомления, но все же оно сияло радостью и счастьем.
Князь Лихтенштейн был в полном смысле слова вельможей и придворным одного из древнейших царствующих домов в Европе; его наружность превосходно соответствовала его высокому положению: высокого роста, красивый, утонченно вежливый, а в глазах его светился ум и хитрость дипломата. Однако Брюль, хотя незнатного происхождения, но теперь первый министр польского короля, муж графини Коловрат, мог бы себя считать равным князю
Лихтенштейну, но он имел такт не показывать того, а напротив относился к нему с почтительной вежливостью.
Обменявшись первыми приветственными словами, князь увел министра в кабинет; здесь придвинул кресло и усадил его против себя.
— Возвратимся, — сказал князь, — к тому разговору, который вчера был так несчастливо прерван. Могу вас уверить, мой добрый друг, что вы можете ожидать всего хорошего от австрийского двора: титула, состояния, если понадобится, протекции, только мы должны идти рука об руку… Вы понимаете меня?
Брюль протянул ему руку.
— Да, мы, действительно, должны действовать единодушно, но должны это хранить в глубокой тайне, иначе все погибнет.
— Если я погибну, следовательно, погибнет единственный человек, который здесь вам верно служит.
— Но неужели вы можете сомневаться в моей честности? — спросил Лихтенштейн. — Данное мной слово — одно и то же, что слово короля.
— Этого для меня достаточно, — подхватил Брюль.
— Но правда ли, может ли быть, что у Сулковского есть какие-нибудь замыслы или планы на будущее? — спрашивал князь.
— В этом нет никакого сомнения.
— Но, однако, ничего определенного?..
— Как! — воскликнул Брюль. — Настолько определенное, что даже мне известно, что дело касается занятия Чехии… План не только придуманный, но написанный на бумаге…
— Вы его видели?
Брюль усмехнулся.
— Но могли бы вы его достать? — торопливо добавил князь.
Улыбка министра стала еще заметнее; князь придвинулся ближе и схватил его за обе руки.
— Ежели вы мне доставите этот план, ежели вы мне его дадите… — Он почему-то затруднялся говорить далее.
— Тогда бы это было одно и тоже, если бы я отдал в ваши руки свою голову, — тихо отвечал Брюль.
— Однако я думаю, что вы даже свою голову можете мне смело доверить, — прервал князь Лихтенштейн.
— Могу, без всякого сомнения, — произнес министр. — Но если план будет в ваших руках, тогда нет другого исхода, один из нас погибнет. Вам ведь известно, князь, насколько король привязан к нему.
Лихтенштейн вскочил со стула.
— Но ведь на вашей стороне королева, отец Гуарини, патер Фоглер, Фаустина, — быстро вычислял он.
Брюль усмехнулся.
— Но к Сулковскому давнишняя привязанность короля.
— Действительно, слабые люди бывают упрямы, — проговорил князь, — но, однако, действуя мягко и осторожно, можно их покорить. Действовать внезапно с ними нельзя, потому что они сознают собственную слабость, которая в них порождает упрямство; а если влиять постепенно, нечувствительно, тогда они воображают, что поступают совершенно самостоятельно. Хорошим учителем вам может служить отец Гуарини.
— Но не забывайте того, что Сулковский друг детства короля; он его поверенный в таких делах, о которых он больше никому не говорит.
— Я не спорю, что задача не легкая, но не признаю ее невыполнимой, — отвечал Лихтенштейн… — Но этот план!.. Скажите, ради Бога, вы его видели, читали его?
Но Брюль своей рассчитанной холодностью сдерживал любопытство собеседника.
— Нельзя ли, князь, прежде переговорить об условиях?
— С величайшей охотою.
— Я искренно сожалею о нашем предприятии, — говорил министр, — потому что в других отношениях я очень ценю Сулковского; он любит короля и верен ему; он хочет сделать Саксонию могущественной. Но когда его влияние увеличится, гордость увлечет графа по опасной дороге. Кроме того, Сулковский не умеет ценить нашей праведной королевы. Сулковский недостаточно уважает духовенство…
— Ах, почтенный Брюль, — прервал его князь, — ведь я отлично его знаю, может быть, даже лучше, чем вы, так как он передо мной никогда не маскируется, а я с ним познакомился еще тогда, когда он был в Вене с королем.
— Сулковского нужно удалить, — решительно сказал Брюль, — я больше ничего не желаю и должен достичь этого для блага короля и государства. Пусть будет так, как я рассчитываю, а тогда я сам сумею удержаться и вы будете во мне иметь вернейшего слугу австрийского дома.
— Но все-таки, где же план, тот план?.. — повторял Лихтенштейн. — Отдайте мне его и я на все согласен…
Брюль, как бы неохотно опустил руку в боковой карман; князь, заметив это движение, вздрогнул, приблизился к нему и протянул обе руки.
Брюль медленно вытащил бумагу и держал ее перед глазами князя. В эту минуту постучались в дверь; камердинер вошел и доложил:
— Граф Сулковский.
В одно мгновение бумага исчезла, а Брюль сидел развалившись, нюхая табак из эмалированной табакерки, которую уже успел достать из кармана.
Сулковский стоял на пороге и окинул проницательным взором министра и князя, но обратил большее внимание на своего товарища; Брюль привстал и протянул ему руку.
— Вот ранняя птичка! На следующее утро после свадьбы, он от молодой жены летит уже к послам. Я предполагал, что вы у ног своей царицы, — проговорил Сулковский.
— Обязанность, прежде всего, — отвечал министр. — Я узнал, что князь уезжает в Вену, а мне нужно было с ним увидеться.
— Как? Князь уезжает в Вену? — с удивлением спросил граф, занимая место на диване. — Я ничего об этом не слышал.
Лихтенштейн казался смущенным.
— Наверное, ничего не могу сказать, может быть, может быть, — невнятно проговорил он. — При дворе я вчера упоминал об отъезде, а сегодня вижу, что Брюль, знающий обо всем на свете, узнал и про это.
Он засмеялся. Граф пожал плечами.
— В таком случае еще ничего не известно…
— Наверное, ничего не могу сказать, — проговорил Лихтенштейн, бросая на Брюля многозначительные взгляды. — Я жду одну депешу; если получу ее, то буду вынужден уехать, хотя мне жалко покидать Дрезден.
Разговор перешел к городским сплетням.
III
Пока что двух соперников соединяла еще тесная дружба, но между ними началась борьба, незаметная для посторонних глаз. На другой день после свадьбы Брюля в своем кабинете Сулковский беседовал с поверенным Людовици; они разговаривали о замужестве графини Коловрат. Людовици был слишком подозрителен и осторожен, нежели его начальник.
— Однако нам нужно хорошо подумать об этой женитьбе, — говорил он, — министр породнился не с одной графиней, но с ее матерью и с австрийским двором; а через это еще теснее сблизился с Гуарини и с самой королевой. Брюль приятен и сладок, как мед, но кто же подставил ногу Флери и Мантейфе-лю, погубил Вакенберта и Гойма, засадил Вацдорфа в Кенигш-тейн? По чьей милости повесился Гойм? Я положительно не доверяю Брюлю.
Сулковский засмеялся и пожал плечами.
— Не забывай, любезный, — произнес он гордо, — кто они были, и кто я. Все они вместе с Гуарини, с австрийцами, меня не уничтожат… Я выгоню отсюда патера Гуарини и весь полк иезуитов, а королеве назначу другой штат. Мне надоели все эти князья, я их не могу терпеть. Что же касается Вацдорфа и Гойма, ты ошибаешься, я их сам удалил, а не он.
— Ну да, то есть он, руками вашего сиятельства. Я, как адвокат, хорошо запомнил эту истину. Вацдорф вскружил голову графине.
— Пожалуйста, нечего меня учить в этих делах, — ответил Сулковский. — Знаю я сам, что делаю, и никто из вас не понимает, как я твердо стою.
— Разве я могу в этом сомневаться? — кланяясь, сухо произнес Людовици.
Однако этот короткий разговор глубоко врезался в память Сулковского. Граф давно не доверял Брюлю, но скрывал это подозрение даже от такого доверенного лица, каким был Людовици. Особенно ему казалось подозрительным то, что Брюль всегда безотлучно находится при Фридрихе-Августе, везде сопутствует ему, а между тем принц свыкался с его лицом. Отсутствие Брюля становилось для него заметным, и он сейчас же осведомлялся о нем; видно было, что он привыкает к нему, но все-таки Сулковский не допускал того, что ему угрожает какая-либо опасность; но он не хотел иметь соперников, потому что был завистлив и жаждал милости исключительно только для себя.
— Брюля следует удалить, — решил он, — а предлог легко найти. В тот же день после обеда принц, по обыкновению, вернулся
в свои комнаты, сейчас же переоделся в халат и, сев в кресло, закурил трубку. Сулковский уже занимал свое обычное место. На этот раз он что-то принес с собою; в переднюю за ним внесли таинственный пакет, который он, приняв от лакея, сам внес в комнату принца.
Во время путешествия по Италии Фридрих близко познакомился со всеми лучшими произведениями итальянской живописи; он жаждал походить на своего отца и перенял страсть от него к музыке, охоте, театру, ярмаркам, например, бывавшей в Лейпциге, он также чрезвычайно любил картины и другие произведения искусства. Везде он старался приобретать картины, со страстностью любовался ими и обогащал Дрезденскую картинную галерею; начало ей было положено при Августе II. Угодить его высочеству не могло быть лучшего средства, как приобрести для него какое-нибудь образцовое произведение; обыкновенно холодный и флегматичный Август III преображался при виде картины и становился иным человеком: глаза его тогда блистали, как будто он слушал пение Фаустины… Мысли в голове живее работали и всегда скупой на слова, он старался выразить свое суждение и восторг. В самые грустные минуты опера или новая картина проясняла лицо принца. Сулковский не менее других знал эту слабость принца.
В ту самую минуту, когда принц потянул в первый раз из трубки, Сулковский внес ящик. Фридрих взглянул на него, весь выпрямился и, не говоря ни слова, с жадностью протянул руку; он, вероятно, догадался, что находилось в пакете.
— Ваше высочество, — тихо произнес Сулковский, — это образцовое произведение, но… но…
— Ну, что же? — спросил недовольно король.
— Но, — продолжал граф, — содержание картины мифологическое и если, сохрани Бог, придет ее величество королева…
Король нахмурился и перестал настаивать; лицо его стало серьезно, он многозначительно покачал головою.
Сулковский поставил ящик в угол: глаза Августа последовали за ним.
— А чья живопись? — спросил он.
— Итальянского маэстро, — ответил граф, — лучшее произведение кисти Тициана. Небольшого размера, но выполнено восхитительно.
Услышав имя художника, король склонился, как будто приветствовал самого Тициана и прошептал:
— Gran maestro!
Сулковский заговорил о другом, как будто и речи не было про картину. Король смотрел на него, ничего не понимая, задумался и, наконец, произнес про себя:
— Очень уж склонен к мифологии!
Тут граф заговорил об охоте, но Фридрих опять его прервал:
— Что там нарисовано? Граф замахал руками.
— Очень неприличная сцена.
— О, фи! Спрячь! Вдруг войдет королева или Гуарини… Фи!..
Однако король не спускал глаз с ящика.
— Лучше будет, если я это унесу прочь, — произнес Сулковский, приближаясь к пакету.
Король ничего не решился сказать, но поморщился.
— Однако, что же там такое?
— Марс и Венера в ту минуту, когда поймавший их Вулкан набрасывает на них сети.
Король закрыл глаза и замахал руками.
— Фуй, фуй! — воскликнул он. Сулковский взял картину под мышку.
— Но взглянуть ради любви к искусству, ради живописи, ведь грех не большой, — сказал Август. — На исповеди ведь я признаюсь в этом Гуарини. Заставит прочитать три раза "Отче Наш" и только.
Он протянул руку, граф, улыбаясь, отворил ящик и, выбрав правильное освещение, показал картину королю. Трубка выпала из рук последнего, картина была, действительно, восхитительна. Это был тот известный тип красавиц Тициана, который послужил моделью для изображения Венеры и Данаи; красавица была чудно сложена, но в позе… чересчур мифологической. Король с жадностью присматривался, но как будто стыдился своего восторга и любопытства; он сильно покраснел и хотел оттолкнуть от себя картину, но все-таки не выпускал ее из рук; он то повторял: — да, великий мастер, то бранился; глаза его блистали; может быть, он забыл, что кто-нибудь его слушает, или не стеснялся графа, потому что начинал говорить шепотом:
— Венера очень хороша… классические формы… очаровательна!.. Что за чудесная картинка!..
Вдруг ему что-то пришло в голову; он осмотрелся кругом, оттолкнул картину, плюнул, перекрестился и произнес сурово:
— Возьми это прочь! Прочь от меня! Я не хочу губить душу!.. Зачем ты мне показываешь такие вещи?
— Но ведь какая живопись, ваше величество.
— Да, произведение маэстро, но возьми его, возьми.
Граф поскорее закрыл крышку и хотел унести ящик, но король удержал его за руку.
— Подожди, пусть не будет соблазна для других; поставь там в углу; а потом увидим, сожжем…
— Такую чудную картину!..
Король замолчал и курил трубку. Граф задвинул ящик под диван и вернулся на свое место.
Все еще находясь под впечатлением красоты картины, Фридрих шептал:
— Дьявол во плоти!.. — и пожал плечами. — Но, как она хороша!.. Если бы там не было Марса и Венера могла бы переодеться в кающуюся Магдалину, я бы ее повесил в кабинете.
— Ваше величество, разве можно обращать внимание на неприличное содержание? Ведь здесь ценится кисть художника.
Король на это ничего не сказал.
— Я сейчас должен исповедаться у Гуарини.
— Ваше величество, — проговорил граф, — поверьте, сам патер с удовольствием взглянул бы на такую картину и не подумал бы об исповеди.
— Экий ты распутник! — пробурчал король. — Молчи лучше! Довольно!
Разговор о Венере Тициана закончился. Брюль не приходил, король несколько раз спросил о нем.
Сулковский вздохнул. Август посмотрел на него.
— Как видно, Брюль хочет занять мое место при его величестве, — сказал граф, — а это очень больно для вашего покорного слуги. Могу признаться, что за одно это я мог бы его не любить.
Король значительно кашлянул.
— Я не спорю, что он человек полезный, но имеет свои недостатки, — продолжал граф, — и я его опасаюсь; он во все вмешивается, все старается захватить в свои руки; кроме того, сорит деньгами… любит роскошь…
— Ого, ого! — проворчал король.
— Точно так, ваше величество.
— Его ценил мой отец, и этого достаточно, — проговорил коротко Август.
Граф, грустный, замолчал; королю стало жаль его.
— Не бойся, Сулковский, — сказал он, — для вас обоих найдется место; но ты у меня всегда останешься первым.
Он проговорил столько слов, что это было даже удивительно. Граф с чувством поцеловал его руку, король же прижал его к своей груди.
— Ты мой старый приятель, но Брюль мне нужен.
Граф не имел намерения продолжать сегодня начатый разговор, но не думал оставлять совершенно этот план удаления своего соперника; но действовать на короля постепенно — было лучшим средством придти к хорошим результатам; он не мог прямо обвинять Брюля, но с беспокойством замечал, что Фридрих все более привыкает к министру.
Король спокойно покуривал трубку, моргая глазами, что означало полное удовлетворение своей судьбою.
В дверь кто-то постучался. Это возвестило приход кого-то из привилегированных особ, которые входили без доклада, и, вероятно, это был никто другой, как падре Гуарини или Брюль. Вошел Гуарини с почтительной улыбкой; король дружески кивнул ему головою, но, продолжая курить трубку, моргал глазами. Сулковский молча стоял в стороне. Иезуит тотчас же заметил под диваном ящик и, как будто удивленный присутствием незнакомого предмета, поспешил осведомиться, что там такое? Заметив это намерение, король сильно покраснел и с упреком взглянул на графа. Сулковский подошел к Гуарини и шепнул ему что-то на ухо, а Фридрих, заранее оправдываясь, едва внятно произнес:
— Я не знал, что там такое, даже не хотел смотреть. Мифология.
— Эх! — смеясь, отвечал Гуарини. — Мифология может быть опасна для вашего величества, но для меня старика она не представляет ничего опасного…
Сулковский уговаривал, Гуарини не уступал. Король был сильно сконфужен и сердился на своего любимца; но иезуит стоял на своем и беспрестанно твердил:
— Но раз эта вещь принесена, ее следует посмотреть.
Положение графа было неприятное. Как бы то ни было, король был скомпрометирован этой картиной, а между тем в глазах света он старался слыть за человека строгих правил.
— Слушайте, — обратился Гуарини к графу, — если вы мне не покажете картину, я могу думать, что вы принесли Бог знает какую непристойность, и вы, желая двум богам служить: управлять государством и заниматься искусством, одно из двух не выполняете хорошо, потому что разом за двумя зайцами не гоняются.
Последние слова укололи графа, и он отправился за ящиком, иезуит за ним; король отвернулся к окну. Крышку подняли, и патер, всплеснувши руками, воскликнул:
— Это дивная вещь, образцовое произведение! Но что же вы говорили, почему содержание безнравственно? Напротив, виновных встречает заслуженное наказание! Вулкан их накрывает, а Вулкан здесь представляет божескую справедливость. Что же касается Венеры, бедняжка немного неодета…
Иезуит замахал руками.
Король взглянул на него, обрадованный таким пояснением.
— Покажи мне, покажи! — просил он Сулковского
Граф снова принес ящик, и король с видным вниманием присматривался к Венере, но случилось то, чего все опасались, что могло быть худшим наказанием за излишнее любопытство: пока все, наклонившись, восхищались злополучной Венерой, дверь вдруг отворилась, и на пороге показалась, как мстительный призрак, гордая и суровая Жозефина.
В одно мгновение крышка захлопнулась, патер отскочил к окну, король бессмысленно устремил свои взоры в потолок, а Сулковский ловко отступал с ящиком, стараясь его припрятать; но разве может что-нибудь скрыться от глаз завистливой и подозрительной женщины? Действительно, Жозефина отгадала все, покраснела и, нахмурив брови, быстро подошла к королю, который встал при ее приближении.
— Сегодня у нас идет опера, поет Фаустина, — сказал он.
— Да, — отвечала королева, посматривая на Сулковского, — но я вижу, что вы были чем-то заняты. Граф что-то старательно прячет. Что же это такое может быть? Мне интересно знать.
Жозефина сама занималась рисованием и любила живопись, но король, зная ее необыкновенную скромность, доходившую до крайности, совсем растерялся.
— Довольно интересная картинка, — отвечал король, — но немного вольного содержания; из мифологии.
Разгневанная Жозефина посмотрела на графа.
— Я тоже ценю искусство, — произнесла она, — но не такое, которое служит животным инстинктам человека; тогда самая лучшая кисть теряет все свое достоинство.
У королевы было предчувствие, что ей не следовало смотреть картину, но она ее представила себе в худшем виде, нежели та была на самом деле; Сулковский верно угадал, что она очень рассердилась на него. Некрасивой королеве всегда казалось, что у нее отнимут мужа; что придворные вовлекут его в такие же интриги, как и покойного отца, и прямой дорогой к тому было рассматривание картин подобного содержания. Но отец Гуарини ловко поспешил замять этот разговор и начал рассказывать о ссорах актеров, как ему всегда приходилось их мирить и как они снова принимались за старое с новым усердием. Но королева была задумчива и пасмурна, она не умела, да и не видела надобности, скрывать свои чувства. Король ожидал с глазу на глаз строгого выговора, зачем он позволяет графу такие смелые выходки; он все только вздыхал и с нетерпением ожидал часа оперы, чтобы в музыкальном восторге забыть о всех горестях, неизбежных даже при такой жизни, когда можно было по целым дням сидеть в халате, курить трубку, хлопать глазами и предаваться игривым мечтам своей фантазии.
Скоро граф и отец Гуарини ушли, оставив наедине двух супругов, что было лучшим средством привести королеву в хорошее расположение духа.
IV
В царствование двух Августов самым любимым, но и дорого стоящим развлечением была опера и музыка. Еще во времена Августа Сильного состав певцов в опере был замечательный; в царствование его сына он также не ухудшился: Август III восхищался музыкой, к тому же она избавляла его от разговоров, которых он не любил, а между тем не мешала ему погружаться в мечтания, что составляло для него любимое препровождение времени.
Вокальную музыку исполняли двадцать французских певцов; во главе их стоял композитор Луи Андре; также между ними были немцы, как, например, Гетцель, и итальянцы, Аннибали — альт, который занимал первое место. Придворный оркестр состоял из пятидесяти человек под управлением славного Гасса, фиктивного мужа Фаустины: между ними в особенности выделялись два композитора, один концертмейстер и несколько солистов. Кроме этого, еще был польский салонный оркестр; им управлял Шульце, и в нем насчитывалось до семнадцати человек. Этот оркестр король брал с собой в Варшаву, когда он выезжал туда надолго.
На сцене игрались оперы и французские комедии; всего исполнителей было: 11 актеров и 16 актрис; для разнообразия иногда шел французский балет, состоящий из 60 французов, во главе которых стоял Фавьер.
Но кто мог высчитать, сколько все это стоило! Громадные суммы шли на эти затеи и на содержание людей. Когда шло представление оперы Гааса (либретто для нее было составлено Метастазио) в триумфальном шествии кесаря, победителя варваров, выступало сто лошадей, весь римский сенат, рыцари, ликторы, легкая и тяжелая кавалерия, пехота; для военной добычи понадобилось золото и серебро, так что нужно было все это взять из королевского хранилища.
Зрелище было восхитительное; еще осталось памятным в тот вечер, что в восторге барабанщик пробил дыру в барабане. Всего на сцене было 250 человек; опера была освещена 8000 восковых свеч, а из Парижа специально для постановки этой оперы был выписан машинист Сервандони.
Представление некоторых опер обходилось до 100000 талеров. Необыкновенное впечатление на Августа III производила Фаустина Бордони, все еще прелестная собой и чарующая своим пением. Несколько месяцев подряд повторялась одна и та же опера и никогда королю не надоедали эти постоянно повторяющиеся мотивы. Именно в это самое время, о котором идет речь, рядом с примадонной Фаустиной появилась Тереза Альбуци Тодечи, которую называли второй Фаустиной; она не была моложе первой, но красивее ее и такая же бойкая и смелая; все говорили, что ей покровительствует Брюль.
В тот день на сцене шла опера "Клеофида". Король уже сидел в ложе; театр был полон; час начала прошел, но занавес не поднимался; в этом было что-то необычайное, но итальянские актеры, а в особенности дива Фаустина, имели свои привилегии; все ожидали терпеливо; между тем за кулисами подымалась буря. Фаустина не хотела петь вместе с Терезой… Тереза клялась, что с мерзкой Фаустиной не выйдет на сцену; что между ними произошло, что их поссорило, для всех было загадкой. Обе бранились злобно, с страшным ожесточением, но даже в своем волнении ни одна не проговорилась, что послужило поводом этого несогласия. Возле стояла Пилайа, певица третьего разряда, сложив руки, прислушивалась к потоку отборных уличных выражений, усмехаясь, как зритель на самой лучшей комедии. Однако некоторые возгласы доносились в залу, и Сулковский послал пажа узнать, что там такое. Паж возвратился, не зная, что сказать, кроме того, что унять бурю в состоянии один трезубец Нептуна. Граф шепнул что-то на ухо королю и послал за Гуарини, который был мастером смирять и укрощать все ссоры. Тем временем Фаустина и Тереза стояли одна против другой, как бы готовясь вступить в рукопашный бой, обе одетые в костюмы, не обращая внимания, что гнев портит румяна на их лицах и мнет богатые платья, в которых они должны были выходить на сцену. В отдалении индейцы и греки в театральных костюмах, некоторые с трубками в зубах, спокойно слушали этот дуэт проклятий. Вероятно, дело дошло бы до поединка, если бы вовремя не явился Гуарини; при виде его, обе замолчали и как будто имели сильное намерение общими силами броситься на непрошенного посредника. Гуарини посмотрел на них и сначала оттащил в сторону Фаустину и, должно быть, ласковыми словами начал ее уговаривать. Тишина ожидания наступила после переполоха; слышно было только настраивание инструментов в оркестре. Бордони прямо от отца Гуарини подошла к зеркалу, что было хорошим признаком; а патер взял на допрос Альбуци, грозя ей пальцем; Терезе хотелось заплакать; он долго ей что-то нашептывал, наконец, развел руками и воскликнул:
— Успокойся, и смотри, если заупрямишься, милейшая Тереза, то как бы тебе не полететь с печки вниз головой. Довольно. Пусть оркестр начинает увертюру. Король ждет.
В эту самую минуту на сцену вышел Брюль; сначала он поздоровался с Фаустиной, потом с Альбуци, которой сделал какой-то знак; тут раздались первые звуки оркестра, и все заняли свои места.
Отец Гуарини кивнул министру и повел его через тесные проходы, где помещались машинисты с громами, бурями, богами (которых на проволоках спускали на землю); наконец, они дошли до небольшой комнаты; здесь были разбросаны все принадлежности женского туалета: по всему можно было догадаться, что это была уборная одной из тех барынь, которые за минуту перед тем, так отчаянно бранились, а теперь исполняли роли, полные счастья и веселья.
Гуарини и Брюль оба были сильно утомлены; они молча уселись рядом; патер улыбался.
— Здесь, — сказал он, — никто нас не подслушает, никто не увидит; это — убежище этой змейки Альбуци и мы в полной безопасности. Потолкуем… — И он хлопнул своей широкой ладонью по колену собеседника.
Брюль наклонился к уху иезуита.
— План в руках Лихтенштейна; поезжайте с ним в Вену.
— Отлично, — отвечал патер, — я уже приготовил королеву. Я знаю, что Сулковский грозится нас всех выгнать со двора; хочет оттолкнуть короля от жены и предложить ему другую… — Иезуит засмеялся и пожал плечами, — немножко поздно подумал об этом.
Лицо Брюля сделалось пасмурно.
— С такой честной натурой, как наш король, нужно уметь, как поступать, — продолжал Гуарини. — Он не виноват, что в наследство по отцу получил его страсти и вынужден с ними бороться. Вот это-то и есть, что в писании называется покаянием за отцовские грехи. Славный Август дал ему жизнь и с нею свою необузданную натуру; набожный король не может побороть своей страсти, так, по крайней мере, прегрешения его нужно прятать от глаз света, не допускать о них ни малейшего подозрения. Если мы будет требовать от него полнейшего воздержания, он может дойти до неожиданной вспышки, которая всех нас погубит. Чему быть, того не миновать. Сулковский плохо рассчитывал и просчитался же, бедняга! Дело уже кончено, место занято, и король, хотя его любит, но не откроет ему своей тайны… А весь грех я беру на себя.
Они начали говорить шепотом.
— Сулковский, — произнес Брюль, — соскучился; король его сделал генералом, но, оставаясь дома, разве он может отличиться в ратных подвигах! Однажды он мне говорил, что охотно бы отправился в поход на Рейн, в Венгрию А что, если сам король подаст ему эту мысль! Тем временем…
Объяснять дальше не представлялось надобности, потому что Гуарини все отлично понял и одобрил этот план.
— Я намекну Августу, что после тяжелых трудов этот достойный человек имеет право отдохнуть; таким образом, все устроится и уладится…
Итальянец махнул рукой перед глазами Брюля и встал с своего места.
— Теперь я к королю, а чтобы ему понравиться, аплодируй Фаустине. — Дальше он продолжал шепотом: — Не препятствуй графу оставаться с королем; у меня есть большое основание предполагать, что он имеет намерение вовлечь его величество в одну любовную интригу; но я знаю, король с ужасом отвергнет это предложение, а между тем, такие вещи пригодятся, пригодятся… — Гуарини засмеялся и, отворив дверь, быстро исчез в темном лабиринте закулисных проходов, как человек, хорошо знакомый с расположением здания; гораздо труднее и осторожнее пришлось Брюлю выбираться из этой темноты. Однако он скоро успел дойти до королевской ложи.
Зала блистала яркими огнями. Двор не менее блистательный, чем при Августе II, занимал почти все места. Также в первых рядах сидели сенаторы, приехавшие из Польши; они были одеты в богатых кунтушах, с брильянтовыми запонками и застежками, подпоясанных золотыми кушаками; король на них смотрел с довольной улыбкой. В рядах дам блистали первые придворные красавицы: графиня Мошинская, жена Брюля, Сулковская; кроме того, там были жены посланников, королевские фрейлины и многие другие, принадлежавшие ко двору.
Каждый раз, как появлялась Фаустина, король с необыкновенным вниманием смотрел на сцену и, в упоении слыша ее пение, закрывал глаза; иногда он аплодировал примадонне, а за ним все остальные; дамы махали платками. Время от времени Август останавливал свой взгляд на рядах красавиц, но тотчас же с тревогой отворачивался и снова смотрел на Фаустину, восхищался ею, на нее заглядывался. Ради пения и ее голоса это, конечно, могло быть позволительным. Против короля сидела в ложе Франя; ее смелая повелевающая красота обращала на нее всеобщее внимание, один только Август, как будто не замечал ее, если бы он не был известен за прямого откровенного человека, его бы каждый мог обвинить, что он с умыслом не смотрит на красавицу.
Рядом с женою Брюля сидела скромно одетая графиня Сулковская; ее приятное, спокойное лицо не обладало чарующей красотой ее соседки, которая приковывала к себе самые равнодушные взгляды. Сидящие в партере, Дялынский и Тарло, Ясельский староста, украдкой поглядывали на дам и первый говорил на ухо своему соседу:
— Ах, душа моя, мы теперь, как те еврейские отроки, что были брошены в огненную печь; человек не знает, куда девать глаза. Взгляну — против стоит эта итальянка, как полунагая мраморная статуя, а поет так, что душа замирает; обернусь направо — там сидит эта нарядная барыня, глаза которой так и манят к себе; а посмотри налево, что за красавица!
Взглянул молодой Тарло и не мог оторвать взгляда от чудного видения.
В ложе графини Сулковской сидела молодая девушка. При дворе ее никто не видел и не знал; судя по лицу, можно было заключить, что она знатного происхождения. Все тогдашние красавицы отличались крепким телосложением и полнотою форм; худенькие, небольшого роста девушки мало кому нравились. Все знаменитые фаворитки Августа II походили на лесных богинь; все искусные наездницы, они любили охоту и стрельбу, не боялись ни зверей, ни человека. Незнакомая девушка, сидевшая возле графини Сулковской, была красавицей, именно в таком роде; она походила ча пышный, здоровый цветок, взросший на плодородной почве; румяная, сложенная как Диана, черноокая и чернобровая, она смотрела гордо и прямо; но эта смелость скорее происходила от детского незнания жизни, нежели от светской опытности. Она смотрела на все ее окружавшее с невинным восхищением. Черное платье с кружевами, отделанное пунцовыми лентами, еще более увеличивало ее пленительную красоту. Все с любопытством спрашивали друг у друга:
— Кто это такая?
Франя тоже с любопытством рассматривала свою соседку. Графиня Мошинская не спускала с нее глаз. Молодежь отправилась собирать сведения, но ничего не узнала, кроме того только, что это была родственница графини, приехавшая из Вены.
Между тем Сулковский, дождавшись, когда Брюль вышел отдать должное приветствие жене, и остальные также удалились, наклонился к Августу и тихо заговорил:
— Ваше величество, вы восхищаетесь творениями искусства, но разве не следует удостаивать взглядом живые творения рук Создателя. Хотя графиня Штейн далекая родственница моей жены, но я, без хвастовства, осмеливаюсь обратить внимание вашего величества на ее необыкновенную красоту; ни Тициан, ни Поль Ве-ронезе не производили ничего подобного.
Услышав эти слова, король с удивлением и даже с упреком взглянул на своего любимца и, ни слова не отвечая, снова сосредоточил все свое внимание на примадонне.
Сулковский замолчал, но зная хорошо характер Августа, он был уверен, что после некоторой борьбы с собою, король разыграет ту самую сцену, которая произошла с картиной Тициана. Он не ошибся в расчете.
Король не замедлил взглянуть, очень осторожно на прелестную Штейн, но, будто пораженный, он поспешно отвернулся в другую сторону; однако, через минуту, он уже не смея повернуть головы, опять бросил несколько взглядов туда, где сияла нововосходящая звезда. Должно быть, эти взгляды заметила Франя и, вероятно, без всякой цели, как будто погрозила своим белым пальчиком.
Между тем, король уже аплодировал певице, будто ее одну он только видел и слышал; по его примеру по всей зале раздалось оглушительное браво.
Однако легко можно было заметить, как Фаустина, нахмурив брови, смотрела на короля, как Франя на него нетерпеливо поглядывала, а графиня Мошинская зорко следила за своим мужем и за министром, злобно улыбаясь; также из незаметных укромных уголков бросались многозначительные взгляды, которым из первых рядов отвечали тем же.
Наконец загремел последний хор на сцене… и замолк в пространстве, подобно затихающей буре… Все поднялись с своих мест — опера закончилась. Прекрасная Штейн, героиня этого вечера, также встала с своего места, и все могли видеть ее стройную фигуру; но король не смел взглянуть туда, и едва замолкли последние звуки музыки, он удалился.
— Прямо отсюда надо идти к конфесионалу, — воскликнул Дялынский, обращаясь к своему товарищу. — Мы не привыкшие ничего подобного ни видеть, ни слышать, выйдем пьяные отсюда, а пока все угомонится на душе и в голове, и придет в надлежащий порядок, человек измучится. Это, сударь мой, называется вводить в соблазн и больше ничего.
Тарло засмеялся.
— Но не знаю, можно ли встретить где-нибудь столько красавиц. Дялынский нагнулся к нему и прошептал:
— Да есть такие сирены, душа моя, от которых нужно убегать, закрыв глаза и заткнувши уши.
В замке, по обыкновению, еще до двенадцати часов после ужина все разошлись. Брюль, получив распоряжения, уехал домой. Сул-ковский остался. Отец Гуарини, хотя также по вечерам забавлял короля, но на этот раз совсем не явился. Фрош и Шторх уже стояли по углам. Король сейчас же отправился к себе, облекся в халат и закурил трубку; в комнатах Жозефины табачный дым не допускался. Вообще, в те времена, все курящие имели для того отдельные комнаты, потому что дамы не могли переносить табачного дыму.
Итак, король с своим любимцем остались вдвоем. В этот вечер граф был чрезвычайно весел, но король, напротив, задумчивее, чем когда-либо более.
— Ваше величество, — заговорил граф, — я не мог заметить, удостоили ли вы взглянуть на Аделаиду Штейн? Как она чудно хороша! Его величество, покойный Август Сильный, не спустил бы с нее глаз.
Король обернулся; открыл рот, хотел что-то сказать, но замолчал.
Сулковский засмеялся и поцеловал руку короля.
— Старый слуга его величества, — сказал он, — не может надивиться вашей добродетели. Однако королю можно себе больше позволить, нежели обыкновенному смертному; вы живете как бедный шляхтич, не смея поднять глаз на мир Божий! Сегодня я замечал как все дамы бросали восхищенные взгляды на светило, оно же взглянуть на них не хотело. Аделаида Штейн призналась моей жене, что в жизни не видала более красивого мужчины, чем ваше величество.
Сулковский замолчал. Король курил трубку, боясь на него взглянуть, и показывая вид, что не слушает искусителя.
— Фаустина сегодня пела восхитительно, — произнес король, переменяя разговор.
— Но Фаустина годится только для сцены. Если не ошибаюсь, ей больше тридцати лет, а итальянки скоро стареют. Штейн, настоящий ангел, но, вы ведь, ваше величество, не взглянули на нее.
Король, вместо ответа, взглянул на графа и пожал плечами.
— Позвольте мне откровенно выразить свое мнение. Ваше величество можете быть святым, но счастливым никогда. Я от души сожалею своего короля; к тому же королевский двор не монастырь.
Август III молча слушал, то поправляя свой халат, то смотря в потолок.
— Позвольте, ваше величество, представить ко двору графиню Штейн, — продолжал далее Сулковский, ни мало не смущаясь молчанием своего собеседника.
— Обратись к королеве, — отвечал Август с заметным нетерпением.
— Графиня Штейн сирота, она потеряла своих родителей, близких у нее никого нет, а жена моя очень дальняя родственница. Мы хотели бы позаботиться о ее судьбе. При августейшей протекции вашего величества, она легко бы нашла себе мужа, а я вижу, что ей здесь все нравится и что она рада здесь остаться.
Он перестал говорить, ожидая ответа. Ему казалось, что король лучше поймет, если он будет говорить не совсем ясно. Но молчание короля обмануло его и он, придвинувшись ближе, снова заговорил:
— И если Аделаида могла бы понравиться вашему величеству, никто бы в свете не догадался об этой связи… Разве ваше величество в состоянии вести такую жизнь…
Он взглянул на короля, лицо Августа побледнело, глаза закрывались, руки начинали дрожать. Испуганный граф вдруг замолчал. Король поднялся с места, кругом поводя глазами, как будто ища защиты.
— Сулковский, — наконец, закричал он глухим голосом, — я… я не хочу на тебя сердиться… не хочу, но ты… ты забываешься!..
И он в волнении прошелся несколько раз по комнате; но на его побледневшем лице мало-помалу выступил румянец. Видимо, он боролся с собою, чтобы сдержать свой гнев; губы его были крепко стиснуты. Никогда еще граф не видал его таким, в таком сильном гневе; он опустился перед Августом на колени и умолял о прощении. Король сначала колебался, но, наконец, протянул ему руку.
— Прошу тебя, об этом больше ни слова… Все кончено, забыто. Пусть Штейн уезжает отсюда. Завтра, — продолжал он после короткого молчания, — в Губертсбург. Отправить вперед собак и людей; я давно не охотился. Брюль и ты поедете со мной… конечно, и королева также. Я там буду охотиться три дня, в первый день на оленей, во второй парфорс, на третий на тетеревей.
Сулковский поклонился.
— Сейчас же отдам распоряжения.
— Да, пусть все будет готово… мы выезжаем рано…
И Август направился в комнаты Жозефины; граф еще не мог придти в себя; в беспокойстве он молча бросился к королю, стараясь поцеловать его руку. Но Август, казалось, забыл о том, что произошло; добродушно улыбаясь, он протянул свою руку.
В следующие дни охотились в Губертсбурге, в соседних лесах. Король был в отличном расположении духа, потому что охота была удачная. Брюль и Сулковский ему сопутствовали.
В первый же вечер королева вспомнила, что она однажды слышала от отца Гуарини, который так любил Сулковского, что граф мечтает о походе на Рейн и в Венгрию; это можно было приписать его желанию приучить себя к походной жизни и таким образом в случае надобности, послужить королю и отечеству.
Король, выслушав жену, отрицательно покачал головою.
— Он и без того хороший полководец, а я не могу обходиться без него.
Жозефина не настаивала.
На третий день двор вернулся в Дрезден; в тот же вечер Август приказал устроить стрельбу в цель. Все приближенные принимали участие в этой забаве, и Брюль, хотя стрелял отлично, но очень старался, чтобы у него было меньше удачных выстрелов, нежели у короля.
Едва наступило утро, король уехал на охоту в Клаппендорф; на другой день он уже гонялся за оленями под Гроссенгеймом, на третий день, под Штаухитцом, а ночевал в Морицбурге. На следующее утро король вернулся в Дрезден, потому что должна была петь Фаустина. В опере он едва смел поднять глаза; все дамы сидели на тех же местах, но Август смотрел только на одну Фа-устину. Только в конце оперы, разговаривая с генералом Боадис-соном, он обвел глазами ложи, графиня Сулковская сидела одна; Август вздохнул свободнее, он проговорил несколько слов генералу, который низко кланялся; потом его взгляд обращался на сцену и скользнул туда, где сидела Франя, задумчивая, красивая; она глядела на всех с невыразимым презрением; казалось, ей целый свет был безразличен.
V
Седьмого октября праздновался день рождения короля в его любимом Губертсбургском замке. Август III строго соблюдал все старые обычаи и придворный этикет. Все, что было заведено Августом II, заботливо сохранялось.
В восьмом часу все придворные ждали выхода короля; в это время он должен был пройти в церковь к обедне. В этот день на всех были желтые мундиры и высокие ботфорты, так как сейчас же после завтрака предполагалась охота.
Пользуясь ясным утром, прямо от обедни король и королева и все те, кто хотел угодить, собрались на сборном пункте, у так называемого Рубинштейнского креста… отсюда началась охота, и король с жаром погнался за оленями, уже оцепленными со всех сторон. Сулковский, Брюль, генерал Боадиссон и многие другие не отставали от своего короля; он был в наилучшем расположении духа. Поутру королева ему сделала приятный сюрприз, подарила свой портрет, собственноручно ей нарисованный для него на память; Август с чувством поблагодарил августейшую артистку и велел картину повесить в своем кабинете. По просьбе Сулковского, отец Гуарини выписал из Венеции великолепный портрет старого Пальмы, и граф его преподнес королю; Брюль также предложил ему портрет Рембрандта, приобретенный им в Голландии. Картины всегда приводили Августа в хорошее настроение; обыкновенно он их приказывал оставлять в своей комнате; долго рассматривал, любовался ими, а потом уже велел переносить их в картинную галерею.
В этот день было убито три оленя, что еще более развеселило Августа; он мало говорил, но улыбался, моргал глазами, голову поднимал высоко, одним словом, вся его внешность выказывала внутреннее удовольствие. В особенности на долю фаворита графа выпало несколько многозначительных улыбок, как будто он хотел тем изгладить неприятное впечатление, произведенное недавним недоразумением.
Охота скоро закончилась; были отрублены рога у убитых оленей и с триумфом привезены в Губертсбург, где ждал парадный обед. По обыкновению, королева присутствовала в продолжении целой охоты и хотя на ее пасмурном лице видна была усталость, но она старалась улыбнуться и быть ласковой; даже Сулковский услышал от нее несколько радушных слов.
Едва закончился обед, лошади и экипажи уже были готовы для отъезда в Дрезден. Там ожидали короля опера и в антрактах три балета и кантата, сочиненная Гассом в честь короля. В пятом часу театр, ярко освещенный, был переполнен зрителями. Занавес взвился, и Фаустина, разодетая, появилась на сцене, устремив глаза на королевскую ложу. В ней сидел Август, довольный тем, что жизнь его шла по заведенному порядку, ничем невозмутимая; он больше ничего не требовал от судьбы, ни славы, ни новых завоеваний, только одного невозмутимого покоя, который ему позволял хорошо пообедать, забавляясь шутками Фроша и Шторха, выкурить трубку, полюбоваться на картины и насладиться голосом Фаустины, послушать болтовню отца Гуарини и потом отправиться спать, не заботясь о завтрашнем дне. Что происходило в промежутках этой жизни, кроме самых доверенных особ, для всех было тайной. Никто лучше Сулковского не знал его привычек и характера, но и тот даже ничего не подозревал, что там скрываются неукротимые страсти, стыдясь света и людей. Только один отец Гуарини про все знал и мог указать те верные средства, посредством которых можно было завладеть королем. Следуя его указаниям, с помощью графини Коловрат и своей жены, Брюль овладел этой неприступной твердыней и уже был ее властелином, прежде нежели Сулковский отважился на это предприятие; а когда предпринял первый шаг, тогда уже было поздно, место оказалось занято; между тем, Брюль показывал вид, что ничего не знает и не хочет знать и никогда ни единым словом не изменил себе; на его молчание можно было вполне рассчитывать, так как оно было в его собственном интересе; таким образом, он крепче держался на своем месте, нежели Сулковский; последний же в своем полном ослеплении ничего не замечал и никогда не думал, что кто-нибудь другой, кроме него, может быть необходимее для Августа; он чувствовал себя еще более спокойным после разговора о графине Штейн, так как был уверен, что никто другой этим способом не успеет овладеть королем; но, между тем, он в это время уже стоял на краю невидимой пропасти.
В этот день Фаустина пела восхитительно, ее трели лились, как перлы чистой воды. Король был в восторге, казалось, он ей одною был только занят, на ее одну только и смотрел, но внимательный наблюдатель мог бы заметить изредка бросаемые взгляды на прелестную Франю. В этот день она была очаровательна. Все удивлялись, откуда Брюль доставал столько денег на необычайную роскошь, которая их окружала. Сегодня Франя, видимо, хотела быть лучше и наряднее всех; на ней было белое платье, все затканное золотыми цветами, в нем она казалась молоденькой девушкой; прическа из локон очень шла к ее прелестному личику, бриллиантовые серьги сияли в ее ушах, как две звезды, на голове блестела бриллиантовая диадема с большой жемчужиной посреди; платье было убрано букетами полевых цветов и брабантскими кружевами; она была царицей этого вечера. Мошинская, своим строгим лицом напоминающая Козель, хотя и была хороша, но не могла соперничать с красотою Франи. Все глаза были обращены на жену министра, она же сидела, обернувшись к сцене, но глаза ее, устремленные в одну точку, смотрели бессмысленным взглядом. Все завидовали Брюлю, он улыбался и был совершенно счастлив; в честь короля он также был в роскошном костюме и смотрелся так свежо и молодо, что скорее походил на ветреного Дон-Жуана, нежели на деятельного министра, на плечах которого покоились судьбы государства.
После первого акта оперы начался французский балет; в нем участвовали знаменитый солист Дизониерс и актрисы Ротьер и Вориевиль; они, в одеждах идеальных крестьянок, были похожи на богинь.
После конца оперы, более почетные лица приглашены были на торжественный ужин в замке; этот обычай перешел по традиции от Августа Смелого; ужин обыкновенно кончался небольшой оргией в тесном кружке. Большая званная зала была ярко освещена; посреди стоял роскошно сервированный стол на восемьдесят особ, а на возвышении — отдельно для короля и королевы; по этикету австрийского двора, никто не мог быть приглашен к королевскому столу, кроме одних кардиналов; но исключение было сделано для первых двух министров. За обедом король был в отличном расположении духа, но королева, как всегда, молчалива и невесела. Жозефину смущало и сердило то, что красавицы затемняли ее своим блеском; но король не дал ни малейшего повода к ревности, напротив, был очень нежен и внимателен к своей супруге и даже не смотрел на красавиц.
Ужин подавался с большими церемониями, приносили редкие блюда; после каждого тоста на галерее играла музыка, а на Краковском предместье гремели пушки в честь королевской четы.
В десятом часу все поднялись из-за стола, в веселом расположении духа. Король в сопровождении Сулковского и Брюля поспешил в свои комнаты. Высоко подняв голову, не смотря по сторонам, он прошел мимо дам; но, однако, успел с красавицей Франей обменяться незаметным взглядом.
Сулковский ничего не замечал, и именно сегодня он имел намерение откровенно поговорить с королем об устранении Брюля и надеялся на успех, а только не знал как приступить к делу.
В этот день Август быль к обоим одинаково внимателен.
Когда король вошел в свою комнату, там уже ждал гардеробмейстер с халатом; камердинеры сейчас же поспешили снять с него одежду.
Оба министра стояли перед своим государем.
Граф, дождавшись, когда вышла прислуга, тотчас же приблизился к Августу и что-то тихо сказал ему; король незаметно улыбнулся и указал на Брюля; это не ушло от внимания министра, он подошел; Сулковский шепнул ему несколько слов, но, как видно, эти слова не по вкусу пришлись Брюлю; он взглянул на короля и, наконец, после некоторого колебания, вышел из комнаты. Когда двери за ним затворились, Август проговорил с своим обычным лаконизмом:
— У меня нет подобных, как ты и Брюль.
Имя министра, пожалуй, и не по вкусу пришлось Сулковскому, но нужно было пропустить эту неприятность.
Перед королем стояли картины, и он с удовольствием любовался ими.
— В самом деле, — произнес граф, — Брюль в некоторых отношениях незаменим. Он вполне полезен; послушный, скромный; всегда позволяет себе все объяснить и никогда не противоречит. Я им управляю, как хочу, и вообще им очень доволен.
Сулковский следил за каждым движением Августа, за каждым взглядом, стараясь отгадать его мысли. На его слова король только покивал головой. Ему, пожалуй, странно показалось, что граф позволил себе быть довольным Брюлем.
Сулковский начал ходить по комнате.
— Мне никогда не приходилось, — говорил он дальше, — спорить с ним: он человек понятливый, способный, но, однако, у него есть свои недостатки…
Король посмотрел с удивлением, но граф продолжал, ни мало не смущаясь:
— Он чрезвычайно расточителен и любит жить на большую ногу… слишком дорого нам стоит.
Проговорив это, граф остановился перед королем в ожидании ответа. Король громко откашлялся, посмотрел вверх, но молчал.
— Добрый человек… добрый человек, — наконец прошептал он, видя, что граф ждет ответа; конец своей мысли он выразил ударом руки по ручке кресла; затем он снова погрузился в созерцание своих картин.
— Ваше величество, позвольте мне откровенно высказаться, высказать свою мысль… — сказал Сулковский.
Август выразил согласие, кивнув головою.
— Нам необходимо удалить Брюля, — продолжал граф тихо, — но пока что, он нам нужен. Он не отвыкнет от расточительности, но мы обойдемся без него мелкими чиновниками; он же станет бережливым и не успеет привыкнуть к тщеславию. Я не опасаюсь его, как соперника, но зачем же делать человека несчастным? Вероятно, австрийский государь не откажет в просьбе короля пожаловать в Чехии какое-нибудь поместье Коловратам, и они могут там поселиться.
Сулковский наблюдал, какое впечатление произведут на Августа его слова, но он был так занят рассматриванием картин, что, казалось, не слушал и ничего слышать не хотел.
Граф два раза повторил:
— Но все это потом в будущем.
Август посмотрел на него, но воздержался от ответа и промолчал. Через несколько минут он встал, велел себе посветить и еще внимательнее рассматривал картины. Потом прошелся по комнате, посмотрелся в зеркало и зевнул несколько раз. Это означало, что ему пора ложиться спать, а графу уйти. Последний недовольный, смущенный, поцеловал руку короля и тихо вышел.
Между тем, Брюль, удалившись с покорностью, поехал к себе домой. Случилось так, что в нескольких шагах от себя министр заметил портшез своей жены, так что супруги встретились у подъезда. Он с большой предупредительностью подал руку Фране; удивленная этим, она сначала отступила, но немного подумав, с едва скрытой насмешливой улыбкой, она взяла под руку мужа, и они молча начали подниматься по лестнице. Франя, как видно, имела намерение поскорее избавиться от такого приятного общества, но министр не выпускал ее руки и провел до ее комнаты.
И вот они снова находились в той самой уборной, где в первый вечер после свадьбы между ними происходил тот интересный разговор, которым начиналась их супружеская жизнь… После этого они редко бывали вдвоем, или на очень короткое время, или при свидетелях. Обыкновенно, мать приезжала по утрам к своей дочери и увозила ее к себе, а иногда, под разными предлогами, совсем не отпускала ее домой.
Брюль обязан был исполнять все прихоти жены, что он и исполнял с большою предупредительностью, а в других отношениях супруги жили, как люди совершенно посторонние, которые должны быть знакомы и не вредить друг другу. Муж был всегда мил и любезен; иногда он встречал устремленный на него любопытный взгляд жены, но едва она видела, что ее взгляд был замечен, сейчас отводила глаза в другую сторону.
Франя за это время очень изменилась; она сделалась очень смелой, приобрела множество странных фантазий, привыкла повелевать в доме и требовать, чтобы ее воля исполнялась в одно мгновение. Брюль всегда видел ее веселою; временами она бывала с ним безжалостно насмешлива; иногда до такой степени кокетничала с посторонними, что возбуждала ревность даже в таком рассудительном муже, каким он казался. Брюль все-таки был молодой человек и не мог оставаться вполне равнодушным к своей красавице жене, безжалостно насмехавшейся над ним и над его страстными взглядами.
Войдя в уборную, Франя начала снимать перчатки, в ожидании, что муж сейчас же попрощается и уйдет, но она с удивлением видела, что он упорно продолжает стоять в дверях. Взгляд, брошенный на него, очень ясно говорил: — Вы еще здесь?
По лицу министра пробежала улыбка, как будто в ответ: — да, ожидаю.
— Разве нам нужно о чем-нибудь переговорить? — спросила она равнодушно.
— Но, может быть, вы мне позволите присесть и хотя полюбоваться на вас.
Франя отвернулась и захохотала, пожимая плечами: не без кокетства она посмотрелась в зеркало, что не ушло от внимания Брюля.
— Вы ведь согласны, что мое положение исключительное.
— Это правда, но и мое также. Ни мне, ни вам не приходится этому удивляться.
— Прошу вас, припомните, что однажды вы мне позволили надеяться, что когда-нибудь… у вас может явиться фантазия… к мужу…
— Да, может быть, не помню, — ответила она спокойно. — Но теперь у меня нет никаких фантазий. Прошу вас, поезжайте лучше к Мошинской играть в карты, или веселиться к Альбуци: меня же оставьте в покое. Вы мне надоедаете.
— Но я у вас прошу только одну минуту для разговора.
— Хорошо, будем говорить, но о чем-нибудь ином.
— В таком случае, может быть о короле? — сказал министр.
— Не знаю, дозволено ли это мне? — смеясь отвечала Франя.
— Да, но только между нами… Хотя мы не питаем взаимных чувств, но у нас есть общие интересы.
— Вы дельно рассуждаете. И так…
— Как Август расположен к Сулковскому? — перебил Брюль. Наступило долгое молчание.
Если бы заглянуть в душу молодой женщины, то можно было бы увидеть, насколько оскорбил ее этот вопрос. Она видела, как мало она значила для этого человека, которого, по странному капризу ей хотелось дразнить, хотелось ему нравиться, чтобы иметь удовольствие мучить его. Но она не показала вида, насколько поразил ее этот равнодушный вопрос.
— А, — вдруг заговорила она, — вам угодно, чтобы я была откровенна? Сулковский, вы и даже король, все мне страшно надоели. Что мне за дело до вашего честолюбия и до ваших интриг? Я хочу жить!.. А ваш король — безжизненная кукла.
— Ради Бога!.. — закричал Брюль.
— Но ведь нас же никто не слышит, — сказала спокойно Фра-ня… — Вы мне велели эту куклу забавлять, или лучше сказать, мне дали ее для забавы: но вы не можете требовать, чтобы я влюбилась в нее. Вы очень хорошо знаете, что такое наш король… Человек добрый, красивый, но ни к чему не способный; страстный, но без всякого чувства истинной привязанности; набожный и суеверный, а между тем человек сладострастный, скрытный, бессмысленный и скучный, смертельно скучный.
— Послушайте, — воскликнул Брюль, — хотя бы это была все правда, но все-таки, вам нельзя так говорить, ни мне слушать.
— Ну, так начнем зевать, — проговорила молодая женщина, широко зевая, но потом упала в кресло, как будто в изнеможении: ее голова свесилась на грудь, руки опустились без движения, но в такой позе она была чудно хороша. Брюль посмотрел на нее и вздохнул.
— Вы у меня спрашивали о Сулковском? — тихо начала Франя. Министр кивнул головой.
— Но кто же может отгадать, что творится в душе этого истукана? Разве у него есть сердце, разве он может кого-нибудь любить, к кому-нибудь чувствовать привязанность? К Сулковскому он привык точно также, как к своим придворным шутам. Больше я ничего не знаю.
— Но если мы желаем властвовать, вы и я, то есть я, благодаря вам, — добавил он, — мы должны его удалить.
— В Кенигштейн, как Вацдорфа? — нахмурив брови, проговорила Франя.
— Даю вам честное слово, что Сулковский посадил Вацдорфа в Кенигштейн, но не я.
— Да, честное слово министра, дипломата.
— Нет, честное слово благородного человека, — подхватил Брюль, положив руку на сердце. — К тому же ведь он удален не ради зависти и не ради ревности… Я до сих пор на то не имею права.
— Что это означает: до сих пор? Разве вы надеетесь когда-нибудь получить такое право?
— По крайней мере, мне так кажется, — мягко проговорил Брюль. — Кто знает, не сегодня, так завтра вы может быть от скуки удостоите взглянуть на вашего покорного слугу.
— Но мне кажется, что вам долго придется ждать, — прошептала молодая женщина.
— Буду терпеливым, — произнес министр.
— Ну, и верьте и ждите, — насмешливо заметила Франя.
Брюль вздрогнул, но сейчас же холодно проговорил:
— Вы должны помочь мне удалить фаворита.
Она посмотрела на него.
— Да, мне тоже сегодня говорила мать; мне нужно опасаться, что граф вздумает приблизить к королю графиню Штейн или кого-нибудь другого.
Франя пожала плечами.
— Но, разве мне не все равно?
— Но ведь вы любите бриллианты, наряды, роскошь? — спросил Брюль.
Оба посмотрели друг другу в глаза.
— Вы ведь не могли бы жить в изгнании, в бедности? Эти слова, казалось, произвели на нее впечатление.
— Очень хорошо, — сказала она, — погубим Сулковского, это будет месть за моего Вацдорфа и к тому же своего рода развлечение. Погубим этого гордеца.
Она снова зевнула и произнесла:
— Ну, теперь уж все закончено. Спокойной ночи.
Брюль не уходил.
— Именно об этом деле нам нужно поговорить. Нечаянно, вдруг, его ведь нельзя удалить; нужна осторожность, нужна…
Должно быть, он еще долго хотел развивать план удаления Сулковского, но Франя быстро вскочила с кресла. Видимо, она потеряла всякое терпение.
— Вы меня принуждаете слушать наставление, — начала она, смеясь, — но на что же я, женщина? Вы думаете, что меня нужно учить коварству? Как по капле вливать яд? Когда нужно произнести двусмысленное слово, которое губит человека? — и она как-то странно захохотала. — Будьте спокойны, я сумею его уничтожить, а если мне захочется, то и вас… и…
Она вдруг замолчала и, слышно было, как ключ повернулся в замке.
Брюль остался один.
VI
Недалеко от стены старого города проходила неширокая улица, она спускалась по склону к Эльбе. На этой улице можно было легко заметить небольшой каменный домик, стоящий в саду посреди деревьев, обнесенный забором с крепкими воротами. Он был недавно выстроен и по своей архитектуре отличался от соседних зданий. На стенах и вокруг окон были высечены из камня затейливые украшения; они были сделаны так искусно, как будто твердый песчаник был мягкой массой; игривая фантазия придала ему странные причудливые формы; нигде не было видно резкой линии, каприз художника заставлял ее то извиваться, то принимать овальную форму, уничтожая все углы. На воротах стояли две вазы, вероятно, привезенные из Италии; с одной стороны дома тянулась галерейка, обвитая плющом, так напоминающая итальянскую беседку. Своим фасадом домик был обращен к Эльбе, как будто не хотел смотреть на город. Издалека виднелся Японский дворец. Недавно посаженные деревья уже пышно разрослись и бросали тень; две старые липы, с сгнившими пнями, широко раскинули свои ветви.
В один осенний вечер на балконе сидела молодая женщина. Это был настоящий образ тоски. Молодая, красивая, она была задумчива, как темная ночь; в ее черных глазах блестели слезы; нахмурив брови, она сложила руки на коленях и с тоскою глядела вдаль. В ней легко было узнать итальянку; только под тем жгучим солнцем так пышно расцветают женщины, только в той атмосфере, пропитанной благоуханием померанцевых цветов, природа жертвует такие роскошные формы своим избранным детям. На розовых губках красавицы блуждала песенка; думы ее прерывали; но потом опять, как бы нехотя раздавался тихий голосок и снова замирал в глубоком вздохе. Она сидела одна, погруженная в свои грустные мысли, как видно, измученная жизнью, пела же она по привычке, но слезы лились от сердца. Молодая женщина была так одета, как одевалась на родине; сегодня можно было мечтать об итальянской осени, день был такой теплый, в воздухе было так душно. Надетое на ней легкое платье совсем спускалось с плеч, а на босых ногах были только маленькие туфельки, черные распущенные волосы спускались до земли, обнаженные руки могли служить моделью для скульптора.
Трудно было отгадать ее года; первая молодость проходила, и наступали те года, когда все боятся будущего, но все еще надеются на него. Глаза ее уже привыкли плакать, уста не раз усмехались поцелуям и перестали жаждать их. Мысли ее блуждали где-то далеко, за морями, за горами, но не здесь над печальной Эльбой, под этим бедным северным небом. Время от времени в душе молодой женщины поднималась буря, и тогда песня раздавалась громче, слезы катились но щекам, и глаза сильней блестели. Вдруг раздался шум возле калитки, послышались поспешные шаги; это пробудило от задумчивости молодую женщину; она быстро поднялась с своего места и тихо прислушивалась. Кто-то постучался в ворота; испуганная, закутываясь в платье, она вбежала в комнаты и поспешно скрылась. Раздался другой удар, но в доме все было тихо; еще последовало три удара и, наконец, калитка отворилась. Из нее выглянул, осматриваясь по сторонам, старик, в одном белье, в накинутом сверху рыжем, бархатном плаще, в войлочной шляпе на седых длинных волосах. За воротами стоял закутанный молодой человек; он, ничего не говоря, вошел во двор. Старик, ворча, затворил калитку и потащился к дому.
Вошедший спросил по-итальянски, — дома ли Тереза? — и получив утвердительный ответ, он быстрыми шагами направился к дому; двери стояли настежь открытыми; в сенях, посаженные в кадках, цвели два громадных олеандра; на лестнице было тихо и пусто, и двери наверху были замкнуты.
Продолжительные удары разбудили, наконец, старую женщину, бедно одетую; она взглянула на гостя и впустила его.
Комнатки, мило убранные, казались бы веселыми, если б в них не царствовала полнейшая тишина; по всем углам в беспорядке было разбросано множество вещей, дамских нарядов и нот.
Стеклянные двери на балкон стояли отворенными, гость вошел туда, он искал кого-то. Вид с балкона был так красив, что он остановился им полюбоваться и стоял задумавшись.
В это время сзади него зашелестело платье, и та самая молодая женщина, которая перед тем сидела на балконе, вошла; но она переоделась в темное платье, свои темные волосы небрежно связала сзади; только ее ножки оставались босые, в одних туфлях, а на лице была видна та же печаль.
Гость обернулся и поздоровался с нею. Они разговаривали по-итальянски.
— Что с тобой? — спросил он.
— Я больна и умираю от тоски и скуки, — отвечала неохотно итальянка. — Здесь жить невозможно, невозможно!
— Откуда же такое отчаяние?
— Ах, от воздуха! — воскликнула молодая женщина, бросаясь на софу.
Молодой человек взял кресло и сел подле нее. Она оперлась на руки, ее белые пальцы были унизаны кольцами.
— От воздуха, — снова повторила она. — Здесь нечем дышать; нечем существовать… Мне кажется придется скоро умереть.
— Да что же с тобою?
— Зачем же вам спрашивать? Ведь вы видите.
— Значит, снова вернулась тоска?
— Но она никогда не оставляла меня.
— Вероятно, опять Фаустина виновата? — проговорил гость.
Это был Брюль, как легко можно было догадаться.
— Фаустина! — проговорила она, бросая на него гневный взгляд. — Она вечно одна у вас в голове и на языке.
— А почему же ты не стараешься затмить Фаустину, понравиться его величеству, победить ее? Она старше.
— Она Фурия, старая, как свет, — быстро прервала Тереза, — противная комедиантка. Но с этим королем…
— Прошу говорить с уважением о короле.
Тереза надула губы.
— Так я ничего не стану говорить.
Они сидели довольно долго молча.
— Я тебе дам один хороший совет, — заговорил Брюль, — когда ты поешь, ты всегда оборачивайся к королю, смотри на него, улыбайся и кокетничай. Если только король будет тебе аплодировать, ты будешь примадонною.
— А между тем остается примадонной прежняя Фаустина! Фуй! У короля только привычка, но нет ни вкуса, ни глаз. У нее охрипший голос, седые волосы; но что же из этого? Она diva, a мы простые актеры.
Она с тоской произнесла эти слова.
— Послушай, Тереза, не отчаивайся, все переменится. Фаустина уедет на родину, а ты останешься.
— А я желала бы, чтобы случилось наоборот, — проворчала Тереза и вдруг замолкла.
— Но сегодня у нас нет времени говорить об этом, — проговорил Брюль. — Через минуту кто-то постучится в ворота, пусть Беппо его впустит. Я не мог сегодня свободно переговорить с отцом Гуарини, потому он должен придти сюда. Предложи ему чего-нибудь сладкого, только, конечно, не свои губки, которые слаще всего; а потом оставь нас одних.
Тереза равнодушно выслушала, потом нехотя поднялась с софы и лениво направилась к дверям; она позвала свою мать и шепнула ей несколько слов. Брюль с нетерпением ходил по комнате. Тереза вернулась, бросила на него любопытный взгляд и снова уселась на прежнее место.
Раздался глухой стук в калитку; молодая женщина вскочила и бросилась прибирать в комнате, приготовляясь к принятию отца Гуарини. Послышались легкие шаги по лестнице, и в дверях показалась добродушная физиономия патера. Увидев суетившуюся Терезу, он воскликнул:
— Оставь, Тереза, ведь я не гость, я, как у себя дома! Беппо мне руку поцеловал. Старуха меня чуть не обняла и мне так весело в кругу своих соотечественников.
Тереза, поцеловав руку отца Гуарини, захватила с собой, что могла, и исчезла. Брюль быстро приблизился к иезуиту.
— Ну, что же? — спросил он. — Уезжает или нет?
— Уезжает, — ответил, смеясь, патер, — король сам сказал, что ему нужно отдохнуть от занятий. Понимаешь меня? — И он снова засмеялся. — Дело было устроено очень ловко. Я никогда не думал, чтобы королева могла так хорошо действовать. Как будто принимая живейшее участие в Сулковском, она так настроила короля, что тот сам уговорил графа. "Я знаю, — говорила она, — что тебе тяжело оставаться без Сулковского, что ты без него станешь скучать… Мы не в состоянии его заменить, но он, наконец, заболеет от занятий, он создан быть солдатом, вести походную жизнь… Пусть отдохнет, съездит, понюхает пороху, и он вернется помолодевши". Король на эти слова поцеловал руку жены, растроганный таким сочувствием к его другу. — "Сегодня же отдам приказ об отъезде и, кроме того, еще выдам ему денег на дорогу". — Ну, на это нечего жалеть денег. Пусть едет, пусть едет! — воскликнул отец Гуарини.
— Пусть едет! — повторил Брюль.
— Он там пробудет несколько месяцев, — продолжал Гуарини, — и у нас останется много времени приготовить его удаление, а между тем король отвыкнет от него.
Лицо Брюля прояснилось.
— Мне не нужно вас учить, как вы должны действовать во все это время, — прибавил патер. — Вы не должны идти против графа: это предоставьте мне и королеве; между тем, своею гордостью Сулковский приобрел много врагов, и пусть только они увидят, что счастье отвернулось от него, они сами, непрошеные, помогут нам. Вам же следует до конца оставаться его другом.
— Да, я тоже так думаю. Теперь я должен ожидать, пока сам король мне скажет о его отъезде; я буду против этого намерения на том основании, что без Сулковского трудно обходиться.
— Превосходно! — воскликнул Гуарини. — Врагу стоит изготовить золотой мост, только бы он бежал. Если только король потребует денег, давайте.
— Хотя бы последние, — произнес Брюль, потирая руки от удовольствия, но потом, спохватившись, обнял Гуарини и поцеловал ему руку:
— Дальше с глаз, дальше от сердца, — тихо проговорил патер. — Король отвыкнет от него, а вы займете его место.
Оба начали ходить по комнате… Но Гуарини был что-то задумчив.
— Но жена здесь останется и может обо всем доносить мужу, — сказал он тихо.
— Нужно, чтобы при ней были люди.
— Довольно и одного приставить, — сказал, улыбаясь, Гуарини. — Но это обязанность очень трудная; охотника на нее не легко найти.
Они начали шептаться.
— Капля камень точит, — добавил патер.
В эту минуту показалась Тереза, приодевшаяся, с тарелкою фруктов в руках, которую с любезной улыбкой поставила на стол. Патер потрепал ее по плечу, по итальянскому обычаю, она поцеловала его в руку. Гуарини вытащил из кармана связку образков и отделил три: для Терезы, для ее матери, для Беппо; за это он получил еще один поцелуй в руку.
Долго еще тихо беседовали патер и министр. Брюль с покорностью выслушивал все наставления, но, судя по его задумчивости и рассеянности, видно было, что он в то же время составлял свои собственные планы.
Уже стемнело, когда Гуарини удалился; Тереза вбежала в комнату, потому что хотела поговорить с Брюлем, но и он спешил уйти, обещая зайти позднее.
И вот молодая женщина опять осталась одна, по-прежнему печальная; пришла старуха мать и молча уселась возле нее, но и на нее напала грусть; обе сидели, ничего не говоря, и обе тяжело вздыхали. Свеч еще не зажигали, потому что через отворенные двери и окна с реки налетало множество комаров.
Вдруг снова застучались в ворота; Тереза даже не приподнялась со стула, хотя ей любопытно было знать кто пришел; но кто же мог доставить ей какую-нибудь радость?
На лестнице разговаривали по-итальянски; по голосу Тереза узнала, что пришла женщина; она вскочила, машинально приглаживая волосы; мать тоже встала. В темноте они могли различить, что на пороге стояла женская фигура, высокого роста, в шелковом платье, убранном кружевами; на ней было навешано множество блестящих безделушек, которые так любят итальянки. Тереза с удивлением увидала, что это была ее неприятельница Бордони-Гассе, знаменитая Фаустина.
Примадонна с любопытством осматривала жилище своей соперницы и, видимо, затруднялась, с чего начать разговор.
Тереза стояла напротив и тоже молчала.
— Вот, видишь, я пришла к тебе! — воскликнула, смеясь, Фаустина. — Я напрасно ожидала, что ты придешь ко мне для примирения; но вижу, что я первая должна протянуть руку. Ах, милая Тереза, ведь мы обе итальянки, обе оттуда, где вечно голубое небо, где цветут померанцы, а вместо того, чтобы друг другу услаждать жизнь, мы ее отравляем. Протяни руку, будем сестрами.
Тереза колебалась, но, наконец, заливаясь слезами, она бросилась на шею Фаустине.
— Я никогда не была врагом твоим! — воскликнула она. — Я не хотела отнимать у тебя любовника и тебе не говорила ни одного худого слова!
— Ах, довольно, довольно, не будем вспоминать прошлого! — отвечала Фаустина. — Будем жить дружно. Наша жизнь и без того тяжела, и без того ее другие отравляют…
Фаустина глубоко вздохнула.
— Я пришла потому, что от души тебя жалею; но в чем же могут помочь добрый совет и доброе слово? Что раз случилось, разве можно переделать?
Она замолчала.
Тихо вошла мать Терезы и уселась на низенькой скамейке у ног Фаустины.
— Люди завидуют нашему счастью, — продолжала Бордони, — мы же глотаем слезы. Здесь не наша сторона. При дворе нужно ступать осторожно, как по льду, а иначе поскользнешься и упадешь. На мое счастье, королю нравится мой голос. Мое пение для него насущный хлеб.
Она нагнулась к Терезе и поцеловала ее в лоб.
— Мне тебя жалко, ты попалась в нехорошие руки. Послушай, Тереза…
Она понизила голос. Тереза пугливо озиралась и тихо прошептала:
— Я должна бояться даже родной матери.
— А я никого, — продолжала Фаустина. — Но знаешь ли ты этого будущего властелина, который тебе бросил платок?
Она содрогнулась.
— Это страшный человек. На вид он добрый, милый, но для меня его смех кажется змеиным шипением; у него добрая улыбка, но сердца нет. Между тем, он такой покорный, набожный…
И Фаустина опять вздохнула.
— Поверь мне, я пришла тебя пожалеть. Он скоро всех нас приберет в ручки, и горе тому, кто не захочет повиноваться! Бедняжка!
Тереза молчала.
Щеки Фаустины горели.
— Для тебя он может казаться хорошим человеком, но если бы ты каждый день, как я, слышала вопли и жалобы людей, о, как бы ты ненавидела его!
— Дорогая моя Фаустина, — наконец, заговорила Тереза, — ты пришла ко мне, когда глаза мои еще не успели высохнуть от слез. О, как мы несчастны здесь! Я засыпаю и во сне слышу плеск волн моей Адриатики; мне снится, что я там, у порога моего домика. Мерцают светляки… Андрео бренчит на гитаре… песенка звучит, а ветер доносит запах цветов; но я просыпаюсь и слышу тот же шум, но шумит холодный ветер со снегом, и люди говорят на ненавистном чужом языке. Их шутки оскорбляют, и любовь их унижает.
Тереза закрыла лицо руками.
— Дорогая моя, — проговорила Фаустина, целуя ее. — Не будем ссориться, но будем помогать друг другу идти по этой тернистой дороге.
Она подала Терезе руку и прошептала ей на ухо:
— Опасайся того, кто завладел тобой, он страшный человек. Да защитит тебя св. Мадонна.
Тереза пошла проводить ее до дверей.
— Аддио, — сказала она, — пусть тебе Бог отплатит за доброе дело; ты пришла меня утешить в печали. Мне легче теперь, когда мы обе друг за друга.
Они расстались. Возле ворот Фаустину ждал портшез; она приказала себя нести домой. Через опущенное окно она могла все видеть, не будучи замечена. Из маленькой улицы, где скромно жила Альбуци, пока ее знатный покровитель выстроит ей палаты в Фридрихштадте, Фаустина скоро приблизилась к городским воротам. На улицах не совсем было темно; лица людей можно было легко различать; с противной стороны она увидала приближающийся портшез, она догадалась, что это был Сулковский; скоро в темноте она могла различить его бледное лицо и черные усы. Вдруг в Фаустине пробудилось мужество, и, когда портшез Сулковского поравнялся с нею, она застучала в окно и закричала:
— Стойте!
Граф, сидевший в глубине, высунул голову и посмотрел… Носильщики остановились, и портшезы оказались рядом, так что сидящие могли свободно разговаривать. Смущенная Фаустина выглянула в окно; граф, немного удивленный, также приблизился к окну.
— Прикажите, ваше сиятельство, вашим людям отойти, или позвольте мне говорить по-итальянски; хотя бы я погибла, но я должна откровенно с вами говорить.
При этих словах граф вздрогнул и ближе придвинулся к ней.
— Прелестная дива, — отвечал он, — если дело касается какой-нибудь ссоры, то обратитесь к Гуарини; если же у вас какая-нибудь просьба к королю, то наперед могу сказать, что он вам не откажет, я же… я не имею времени, прекрасная синьора.
— Граф, дело идет не обо мне; я ничего не прошу, потому что и без того осыпана вашими милостями. Но дело касается вас и самого короля… — смело произнесла Фаустина.
Сулковский, как будто ничего не мог понять, но отворил дверцы портшеза и подошел к актрисе.
— Як вашим услугам и слушаю, — сказал он, усмехаясь, но видно было, что он старался превозмочь свое нетерпение.
— Послушайте, граф, это правда, что вы думаете уезжать? В таком случае, вы оставляете свободным место действия для ваших врагов.
Сулковский засмеялся.
— У меня нет врагов, — отвечал он, — но я бы считал честью иметь их, состоя на службе у своего короля, и если бы нажил себе врагов, то никогда бы не боялся их.
— Вы мне не доверяете, — прервала Фаустина, — вы не хотите говорить откровенно с ничтожной певицей? Но из-за кулис лучше можно узнавать людей, нежели в ваших салонах. Я вам желаю добра, граф, потому что вы любите короля и верно служите отечеству, которое я считаю второй своей родиной. Вы человек добрый и желаете, чтобы все любили короля; другие же только думают о себе, но не заботятся о своем короле.
Сулковский нахмурился.
— Но о ком же вы говорите, о ком?
— Как, неужели вы настолько слепы, — воскликнула, вся вспыхнув, Фаустина, — неужели вы ничего не замечаете! Неужели я первая должна вам открыть глаза? Королева вам завидует; отец Гуарини — ваш враг; Брюль — соперник. Теперь они приводят в исполнение свой замысел, который давно уже замышляли; вас отсюда выпроваживают, чтобы занять ваше место, чтобы отнять у вас расположение короля. И вы не замечаете ничего, вы добровольно продаете свое будущее. Этот человек всем завладеет, для вас здесь не будет места.
Сулковский стоял и слушал, но эти речи не произвели никакого впечатления на него, только он вздрогнул несколько раз, и на его бледном лице вспыхнул румянец.
— Многоуважаемая синьорина, — сказал он, — право, все это одни мечты. Я, в самом деле, уезжаю, но сам хлопотал об этом; врагов у меня нет, но король меня любит, и ничто в свете не в состоянии меня лишить его привязанности. Успокойтесь, синьора, это пустые сплетни. При каждом дворе их так много, как над болотом комаров. Меня обмануть не легко. Поверьте, синьорина Фаустина, я вам очень благодарен за вашу заботливость и доброе мнение обо мне. Могу также вас уверить, что никто не узнает о нашем разговоре, все останется между нами.
Он хотел удалиться, но Фаустина, протягивая к нему руки, воскликнула:
— Граф, неужели вы слепы настолько? Разве это может быть? Ваш благородный характер не допускает обмана, но все то замечают, чего вы не хотите видеть.
— Но все это одни предположения, выдумки. Брюль обязан мне многим, но пуст только он осмелится на меня поднять руку, хотя бы он даже имел таких союзников, как ее величество королева и почтеннейший патер…
Он потряс головою. Фаустина, опустив голову, молчала.
— В таком случае, чему быть, того не миновать, — прошептала она, как бы про себя. — Adio, signor conte, и да хранит вас Провидение!.. Не оставайтесь там долго. Когда-нибудь вспомните предостережение глупой Фаустины, но тогда уже будет поздно.
Она опустила грустно голову. Граф с чувством пожал ей руку.
— Прелестная, добрая Бордони, — сказал он, — благодарю вас, благодарю! У вас доброе сердце; между нами таких людей мало найдется, но я умею их ценить. Дела же не так дурны… нет. Я осмеливаюсь называть короля своим другом и надеюсь, что он никогда не обманет меня!.. Не беспокойтесь, прелестная синьорина!
Фаустина, ничего не говоря, откинулась вглубь портшеза; граф отошел, приветливо кивая ей головой. Ему пришло на мысль сейчас же видеться с Брюлем; в это время он мог застать его дома. В несколько минут он уже находился у подъезда дворца министра. Сулковскому не нужно было докладывать о себе, в то время везде двери отворялись настежь перед всемогущим фаворитом.
Министр был дома.
Ничего не говоря, Сулковский вбежал по лестнице, не замечая того, что через другие двери паж пошел предупредить о его приезде. Брюль в это время беседовал с Геннике, которого поспешил выпроводить, и пока Сулковский успел пройти целый ряд комнат, министр уже стоял на коленях перед Распятием, сложив руки, и горячо молился. Ловкость, с какою он принял эту позу, свидетельствовала о том, что он не в первый раз прибегал к такому средству, когда того требовали обстоятельства. Можно было рассмеяться при виде этого человека в беседе с Богом, одетого в бархатный фрак, в парике, при шпаге; но молитва никогда не может быть смешна. По свидетельству современников, Брюля часто заставали в таких религиозных размышлениях.
Граф отворил двери и удивленный остановился на пороге; в первый раз ему случилось застать Брюля на молитве; едва веря собственным глазам, он стоял, не двигаясь; между тем, министр, как будто ничего не видя и не слыша, продолжал молиться, подняв глаза к Распятию и тяжело вздыхая; наконец, начал себя ударять в грудь и класть поклоны так горячо и усердно, как нищий перед церковью, желающий получить милостыню. Сулковский не двигался с места; он не мог допустить, что все это была комедия, тем более, что он вошел без доклада.
Эта немая сцена продолжалась довольно долго. Наконец, Брюль, распростер руки и упал ниц. Слышен был шепот молитвы. Граф заметил, что на его правой руке были надеты четки.
Сулковский тихо кашлянул.
Брюль вскочил, как будто испуганный, и, увидев посетителя, закрыл лицо руками.
— Ах, дорогой граф! Извините… право мне совестно… Но временами душа требует сближения со своим Спасителем! Мы столько времени посвящаем светским делам, что иногда чувствуешь потребность хоть на минуту отдаться Богу и молитве!
— Это я должен перед вами извиняться, — отвечал Сулковский. — Я совершенно растроган такою набожностью. Простите, что я прервал вашу молитву.
— Нет, она уже закончилась! — воскликнул министр, приглашая Сулковского садиться на диван.
На столе уже горели свечи.
Человек, который так искренно молится, не может быть дурным и испорченным, — подумал про себя Сулковский; у него свалился камень с души.
— А вы знаете, что я уезжаю, — промолвил граф, спокойно усаживаясь на диван.
— Конечно, вы поступаете, как вам нравится, — медленно отвечал министр, — но я не одобряю этой поездки. Откровенно говоря, я всегда был против нее. Главное, никто не сумеет вас заменить. Я хочу и должен быть с вами откровенным. С грустью мне приходиться сказать свое мнение; хотя королева святая женщина, и она привязана к королю, но все-таки она женщина. Вы одни могли уменьшать ее влияние на короля; теперь же, вы уезжаете, королева и отец Гуарини окончательно завладеют им. Вы сами видели, что я, приняв католическое вероисповедание, сделался искренним католиком, но все-таки я не желаю, чтобы король попал под исключительное влияние патеров-иезуитов; это приводит в уныние его саксонских подданных.
Граф слушал с большим вниманием.
— Любезный Брюль, — сказал он, — вы справедливо рассуждаете, я вполне разделяю ваше мнение. Все это правда. Но вы здесь остаетесь, а я недолго буду в отсутствии. Вы говорите, что я худо поступаю, оставляя короля, но ведь я солдат. Я назначен полководцем и ожидаю войны; мне удалось доказать королю, что она неизбежна, потому что Саксония должна пользоваться положением Австрии и напомнить ей о своих правах. В виду такого положения дел я должен ознакомиться с походами и с военной жизнью. Так вот, вы видите, что я еду не ради собственной забавы.
— Но все-таки, мне думается, было бы лучше, чтобы вы остались, — возразил министр. — Вы говорите, что остаюсь я; но разве я обладаю таким влиянием на короля?
— Однако, вы слышали, что люди говорят? — спросил Сул-ковский.
Брюль с удивлением посмотрел на него.
— Вещь довольно любопытная, — начал рассказывать граф. — Меня предостерегают, что как будто вы и отец Гуарини составили против меня заговор и что с умыслом удаляете меня…
Брюль вскочил с места и громко закричал:
— Говорите, кто этот клеветник? Это на меня… на меня так смеют говорить! Ого! Нет ничего на свете, чего нельзя было бы выдумать! Я и отец Гуарини! Я, который его боится, как огня! Я и королева, которая не терпит меня! Скажите, пожалуйста! Я, ничтожный червяк, осмелюсь поднять руку на того человека, которого сам король называет своим другом. О, это было бы ужасно, если бы не было так смешно и глупо!
— Успокойтесь, — хладнокровно возразил Сулковский, — эти бессмысленные толки я повторил только в доказательство того, что люди могут выдумать. Прошу вас, не думайте, что я не доверяю вам.
И после короткого молчания он прибавил:
— На подобное дело мог решиться человек глупый, честолюбивый, но ему пришлось бы жестоко раскаиваться. Я могу поручиться, что король от меня не имеет тайн.
Он гордо пожал плечами.
— Это все правда, — сказал взволнованный Брюль, — но если так, то я еще настойчивее прошу вас отказаться от поездки.
— Прошу меня извинить, но я думаю, что именно поэтому-то я должен ехать, чтобы доказать всем глупцам, что я никого не боюсь и пренебрегаю всеми толками.
Брюль махнул рукой.
— Но ведь это не имеет никакого смысла! Разве чернь выдумала, или из Берлина пришли эти слухи, где всегда готовят сплетни про Саксонию… Страшно глупо.
— Но, любезный Брюль, я уже совсем готов в дорогу, завтра двинусь в Прагу, — сказал Сулковский, охотно переменяя разговор. — Я не без причины выбрал этот путь; я должен сделать стратегическое обозрение Праги, потому что ее первую мы должны будем занять. Поэтому нельзя ли сегодня проститься с вашей женой?
Брюль позвонил. Вошел камердинер в ливрее.
— Барыня дома?
— Точно так.
— Одна?
— Кажется, одна, ваше превосходительство.
— Доложи о графе Сулковском и обо мне.
Камердинер поспешно вышел; в комнате воцарилось молчание. Двери скоро отворились.
— Барыня просит.
Сулковский, как бы в изнеможении, тяжело поднялся с дивана и направился в залу; за ним последовал Брюль. Несмотря на волнение, которое министр испытал, его лицо было совершенно спокойно, и он любезно улыбался. В зале их встретила прелестная Франя. Она, только что вернулась с ассамблеи, бывшей у королевы; они обыкновенно продолжались от 4-х до 6-ти часов после обеда. Франя была разодета и блистала своей красотой, но в ее глазах светилось какое-то дикое выражение, время от времени на губах появлялась страшная улыбка. На всем ее лице отражалось то беспокойство, которое царило в ее душе. Она смотрела на Сулковского.
— Я пришел с вами попрощаться, — сказал он, — вам, вероятно, уже известно, что я уезжаю. Мне грустно покидать наш милый город, но что же делать? Необходимость! К моему большому счастью, надеюсь, что моя отлучка недолго продолжится.
Граф говорил несколько сбивчиво.
— Да, да! — отвечала Франя. — Я сегодня слышала на собрании у ее величества, что вы, граф, нас покидаете. Меня это очень удивило.
— Но разве вам муж ничего не говорил? — спросил Сулковский.
— Муж? — сделав гримаску, воскликнула Франя. — Мой муж всегда так занят, что мы по целым месяцам не видимся, хотя живем в одном и том же доме. Иногда я вынуждена у посторонних осведомляться о нем.
— О, так вы должны его наказывать!
— О, нет! — плутовски засмеявшись, — отвечала она. — Он свободен, и я также; разве может быть что-нибудь лучше в супружестве? Мы не успеваем надоесть друг другу, поэтому мы очень счастливы.
Она насмешливо посмотрела на мужа; Брюль старался улыбаться, насколько можно натуральнее.
— А графиня едет с вами? — спросила Франя.
— К сожалению, должен ее оставить, — отвечал Сулковский, — хотя бы я от души желал посадить ее на коня и в продолжение целой кампании видеть ее подле себя.
— Так вы думаете отправляться на войну?
— Точно так! Пожелайте мне успеха, чтобы я мог привезти вам голову турка.
— От этого увольняю, — шаловливо сказала Франя. — Мы удовольствуемся, если вы нам привезете свою в целости… Так значит, граф, вы будете скоро увенчаны почетными медалями?
Слово "медаль" припомнило ей бедного Вацдорфа: ее глаза дико загорелись.
— Желаю графу всякого благополучия, — произнесла она, кланяясь, но глаза ее говорили совершенно иное.
Сулковский быстро раскланялся. Брюль взял его под руку и, дружески разговаривая, они пошли назад в его кабинет.
VII
Прошло несколько месяцев после отъезда Сулковского. Однажды в темный зимний вечер отец Гуарини вошел в королевский кабинет. Обыкновенно в это время Август III или присутствовал у королевы, или бывал в опере, или же занимался стрельбою в цель. Август до страсти любил стрелять в животных. Для его забавы иногда около замка бросалась павшая лошадь; целая стая собак приближалась к падали, и его величество король, стоя на стене, стрелял в них, но так как подобным образом можно было перебить всех собак, то Август не убивал их насмерть, но, искалечив, отсылал их на излечение, чтобы бедные животные могли снова явиться на подобный ужин.
Случилось, что в этот день не было ни оперы, ни стрельбы, и Август даже не спешил идти слушать музыку к королеве. Уже два раза за ним приходили камергеры, но он с неудовольствием отсылал их. Это был признак худого расположения духа. Дали знать отцу Гуарини, который поспешил к королю. Ему одному удавалось чего-нибудь добиться от молчаливого Августа. Патер вошел со своим обычным спокойным лицом, всегда готовый шутить и смеяться.
Не обращая внимания на холодный прием, Гуарини уселся на табурете и спокойно заговорил:
— Ваше величество, позвольте мне узнать, почему ваше лицо так печально? Это глубоко огорчает вашего верного слугу.
Август что-то невнятно проговорил, покачал головою и снова начал курить.
Наступило молчание.
— Ваше величество, соизвольте довериться мне, — сказал иезуит, — тогда вам легче будет.
— Пустяки! — отвечал король.
— Но в таком случае, зачем же грустить?
— Пустяки… — снова повторил король. Проговорив это слово, он встал и начал ходить по комнате, вздыхая и швыряя все, что попадалось ему под ноги; это был признак сильного душевного волнения. Гуарини зорко следил за ним.
— Но ведь это дурно, — произнес патер, — что ваше величество после тяжелых занятий не ищете какого-нибудь развлечения. Развлечение для человека необходимо; ведь даже св. Иоанн охотился в Патмосе на куропаток!
— На куропаток, — повторил задумчиво король. — Я лучше люблю охотиться на тетеревей; куропатки — мелкая дичь! — Он продолжал ходить и вздыхать.
— Нужно придумать какое-нибудь развлечение: музыку, оперу, наконец, охоту.
Август только махнул рукой.
— Но где же Брюль? — спросил Гуарини.
— Брюль? Все один Брюль?!.. Но он занят, так занят! Пусть, хоть немного отдохнет, бедняжка. Брюль, добрый человек!
— Да, редкий человек! — подтвердил Гуарини. — Но, ваше величество, к нему вы не чувствуете никакого сожаления!
— Ну что же! Брюль… драгоценный Брюль, — промолвил король и печально опустил голову.
— Но, неужели, ваше величество, вы соскучились без Сулков-ского?
Король вздрогнул и вдруг остановился. Гуарини понял, что коснулся больного места.
— Ну, вот, этот Сулковский! Видишь, отец, Жозефина его не любит. Гм!.. Как можно не любить Сулковского? Скажи, пожалуйста?
Гуарини молчал. Вопрос был поставлен прямо, однако, он не отвечал. Король повторил тише:
— Отец! Разве можно его не любить?
Патер раздумывал, минута наступила решительная; нужно было ловко повести дело, но Гуарини был давно к тому подготовлен.
— Ваше величество, — наконец начал он, — я лично ничего не имею против Сулковского. Это правда, что он неусердный католик… Но я давно замечаю, что он не почтителен к нашей доброй королеве…
— Ого! Ого!.. — прервал король.
— По крайней мере, и многие другие замечают тоже, — продолжал, не смущаясь, Гуарини. — Он человек легкомысленный, а милость и доброта вашего величества позволяют ему слишком зазнаваться…
Нахмурившись, король слушал, не прерывая.
— Ваше величество, — быстро проговорил Гуарини, приближаясь к королю, — мы теперь одни; нас никто не слышит, кроме Бога. Признайтесь мне, как на исповеди, положа руку на сердце, когда-нибудь не вводил ли он в искушение своего короля и господина?!
При этих словах Август широко раскрыл глаза и покраснел; потом, ничего не отвечая, начал быстро ходить.
Молчание было достаточным ответом. Гуарини тихо засмеялся.
— А разве это не дерзость, а? Я допускаю, что ради привязанности к королю своему, можно принять грех на душу, но мог же он обождать, пока пожелают того.
Король продолжал ходить, опустив голову.
— Нет ничего удивительного, что у королевы есть предчувствие! Но об этом довольно. А разве не всем известно, какие у него мысли относительно Австрии, родины нашей королевы и против всех наших святейших обещаний?..
Август, как бы в изнеможении, опустился на кресло и смотрел на говорящего.
— Но что хуже всего, это его гордость и самоуверенность; есть люди, которые слышали, как он хвалился, что он сделает с королем, что захочет. Пожалуй, не мешало бы его усмирить. Люди говорят, что он управляет Саксонией, а не наш всемилостивейший король. Разве это хорошо?
— Ого! — невнятно проговорил Август. — Кто же смеет так говорить? Кто? Того нужно повесить!
— Повторяют те, кому хвастался Сулковский!
— Хвастается! Это нехорошо, — произнес король. — Когда вернется, выдеру ему уши.
Гуарини заметил, что на один раз прием лекарства достаточен, и замолчал. Через некоторое время он подошел к руке короля.
— Ваше величество, простите меня и забудьте, что я осмелился вам говорить. Я священник и мой сан велит мне говорить вам правду; светские люди могут отступать перед ней, но священник должен высказывать все, что у него на душе. А с кем же нужно быть откровеннее, как не с тем, то правит народом и кому редко приходится слышать правду.
— Это верно! — прошептал король.
По лицу и по его голосу иезуит заметил, что этот разговор королю наскучил. Он был уверен, что брошенное семя взойдет позже и старался чем-нибудь развлечь короля.
Неизвестно, удалось ли бы отцу Гуарини найти развлекающий предмет, но именно в эту минуту вошел камергер с уведомлением, что в комнатах королевы его величество ждет музыка.
— Пойдемте! — проговорил со вздохом король. Прислуга со свечами шла впереди.
Комнаты королевы приняли теперь совсем иной вид, чем когда их заняла Жозефина. Они были отделаны чрезвычайно просто, но вместе с тем с царским величием.
Картины, украшавшие стены, были почти все религиозного содержания. Кроме того, в кабинетах стояли кресты, ящички с мощами и другие священные символы вместо обыкновенных украшений.
Весь ее двор содержался в строгом этикете под начальством гофмейстерины и состоял из пожилых дам, и притом так подобранных, чтобы ни одна из них не могла обратить на себя внимание короля.
В этот день в большой концертной зале должен был отличаться знаменитый капельмейстер — скрипач Ян Писендель с несколькими первоклассными солистами. Кроме него, должен был играть Панталеон Геберстрейт на новом инструменте вроде клавицимбал, им самим изобретенном.
На флейтах должны были играть два маэстро: несравненный виртуоз Буффардио и его соперник Кванц, оба знавшие свое искусство в совершенстве. Так, значит, было что послушать.
Королева ходила уже в нетерпении по комнате, когда, наконец, король явился; она поспешно приблизилась к нему, стараясь прочесть что-нибудь на его лице, и могла заметить на нем только одно неудовольствие. Но в этом случае верным средством служила музыка.
Король спокойно уселся и, как только Буффардио заиграл на флейте, его лицо начало проясняться, и улыбка удовольствия пробегала по его губам. В то время, когда король спешил к своему креслу, Жозефина успела дать знак отцу Гуарини.
Но на более продолжительный разговор не было времени; итальянец успел шепнуть ей только несколько слов насчет своего разговора о Сулковском с королем.
После этого королева, как ни в чем ни бывало, ускорила шаги и одновременно с королем приблизилась к креслам. Видно, ожидали только пришествия его величества, потому что сейчас же оркестр заиграл блестящую увертюру, и король стал слушать с большим вниманием.
По лицу Жозефины во время музыки можно было заметить, что она больше была занята мужем и какими-то более важными делами, нежели концертом. Напрасно господин Писендель усердно работал своим смычком. Королева, казалось, его вовсе не слушала. Кроме других придворных, рядом с матерью сидела госпожа Брюль, а за креслом короля стоял Брюль, как невинный барашек с опущенными глазами, скромный, будто не он был первым и единственным министром.
Отец Гуарини, проходя возле него, сказал ему шепотом:
— Война началась, неприятель защищается, нужно сосредоточить все силы; поэтому будь наготове!
Брюль, как будто ничего не слушал, стоял, наслаждаясь музыкой. В это время Буффардио с Кванцем играли дуэт. Король закрыл глаза и наслаждался музыкой, ни на что не обращая внимания. Если бы кто-нибудь увидел тогда госпожу Брюль, то испугался бы того презрения, с которым она смотрела на короля.
Тут же за ее креслом стоял весь штат министра, допущенный присутствовать на концерте; резко выделялся среди всех красивый, молодой мужчина, удивительно похожий на Вацдорфа, так что его можно было испугаться, как привидения. Томный взгляд госпожи Брюль иногда устремлялся в его сторону и останавливался на его лице, стараясь встретиться с его глазами, и тогда яркий румянец выступал на лице молодого человека; между тем, в ту же самую минуту Брюль бледнел, хотя казалось, он даже не смотрел в эту сторону, и губы его как-то особенно дрожали; но можно было предполагать, что музыка производила на него сильное впечатление.
Концерт продолжался очень долго; после него был подан ужин на особом столе для короля и королевы, а на маршалковском для придворных.
Король ел и пил отлично, так что казалось, он обо всем забыл; однако, сейчас же после ужина он пожелал отправиться с Брюлем в свои комнаты.
Большая часть придворных разошлась; некоторые дамы остались на вечернюю молитву; тогда по принятому обычаю отец Гуарини по некоторым дням читал молитвы и литании, причем должны были присутствовать все приближенные королевы.
Именно в этот день должна была происходить духовная беседа в маленькой домовой церкви; по ее окончании все могли удалиться; отец Гуарини также хотел уйти, но королева сделала ему знак, чтобы он остался; обер-гофмейстерша отошла в сторону и остановилась на приличном расстоянии.
— Что произошло, отец мой? Король сам заговорил о Сулковском?
— Его очень огорчает, что некоторые особы неблагосклонно смотрят на его любимца; мне невозможно было замолчать, пришлось начать войну.
— Ну и что же? Что такое? — с любопытством спрашивала королева.
— Я говорил довольно долго, сколько можно было, чтобы не устрашить короля, — продолжал отец Гуарини. — Я ему все высказал, что лежало у меня на душе.
— А что же король?
— Слушал молча.
— Ну, а как вам кажется? Произвело ли это на него какое-нибудь впечатление?
— Непременно, но теперь нужно повторять атаку. Сулковский скоро возвращается, дело не терпит отлагательства; он должен застать короля уже обращенного на путь истинный: иначе привычка возьмет свое, вернется прежняя привязанность; Сулковский снова займет свое место, а тогда никакими силами нельзя будет его вытеснить. Ваше величество, — прибавил Гуарини, — не нужно добиваться многого; нельзя желать, чтобы его постигла судьба Гойма. Вина его не настолько велика, чтобы можно было ее доказать. Нужно только его удалить и этого достаточно.
— Достаточно? — спросила Жозефина. — Но ведь вы знаете слабость короля к нему? Разве она не отзовется впоследствии? И он воспользуется этим. Разве он не найдет к этому средств? Человек без религии, как уже доказано, на все может решиться. Случалось ли вам видеть, когда он бывал по доброй воле в церкви? Знаете, что он никогда не соблюдал постов?
Королева вздрогнула.
— Я не отступлю, — прибавила она, — вы тоже должны действовать. Брюль не может.
— Разве в последние минуты, — прошептал отец Гуарини, — и то с большой осторожностью. Нужно употребить все средства для хорошего дела. Бог поможет, Бог поможет! Когда он вернется?
— Жена ожидает его со дня на день; королю он писал, что приедет на этой неделе. Нужно поспешить, — прибавила королева.
Гуарини поклонился и вышел.
На другой день, по утру, по обыкновению Брюль находился в королевских комнатах, когда его величество поднимался с постели. Это была не утомительная служба, но очень скучная. Обычно Август ничего не говорил; нужно было стоять и, глядя на него, отвечать на его улыбку поклоном. Но больше труда стоило Брюлю окружать стражей особу короля. Для его спокойствия нужно было предупреждать, чтобы никто из посторонних не имел к нему доступа; при всех аудиенциях Брюль должен был непременно присутствовать. Если король шел к обедне, вся дорога старательно очищалась от лиц посторонних, не принадлежащих ко двору. В отсутствии министра никто не смел приблизиться к королю. Видно было, что Август больше всего ценивший свое спокойствие и боявшийся неожиданностей, доволен был этим и не старался вырваться из-под опеки, даже напротив оказывал большую благодарность своим телохранителям. После обедни и неизбежных разговоров, в продолжении которых король не удостоил никого ласковым словом, наконец, он остался с одним министром вдвоем. Брюль догадался, что король хочет о чем-то говорить, потому что он прохаживался в беспокойстве, часто останавливался перед ним, моргая глазами и грустно улыбаясь, потом опять отходил, опять возвращался, как-то не решаясь начать разговор. Наконец, остановился и, положив руку на плечо министра, спросил:
— Брюль, что ты мне скажешь о Сулковском?
Уже приготовленный к этому вопросу, Брюль не сразу ответил и опустил глаза.
— Ваше величество, — очень ловко ответил он, — я не могу думать о нем иначе, чем его величество король.
— А ты знаешь, что я думаю о нем?
— Нет, не знаю, но я верный слуга своего короля и считаю своими друзьями его друзей, а врагами его врагов. Ваше величество были так добры, допустили к своей особе моих двух братьев, а если бы один из них имел несчастье заслужить гнев короля, я и от брата отрекся бы.
Лицо короля прояснилось.
— Брюль! Я тебя люблю! — воскликнул он. Министр приложился к руке короля.
— Брюль, я очень тебя люблю, — опять повторил Август, — поэтому я хочу с тобою посоветоваться. Послушай, меня им стращают… — Он пристально посмотрел на Брюля. — Отвечай, смело отвечай!..
— Я лично ничего не могу иметь против Сулковского, но милость короля, которая заставляет меня быть еще смиреннее, его делает спесивым. Слыхали, как он иногда хвалился, что он все сделает, что только захочет, не только в государственных делах, но даже с нашим всемилостивейшим королем. Это очень могло быть.
— Гм! Ты говоришь, что это могло быть. О, да! Это могло быть, очень даже могло быть! — сказал король. — По правде говоря, он плохо понимает музыку и в картинах также ничего не смыслит. Ему лишь бы голые! Лишь бы голые!.. Но тише! Чтобы Гуарини не услышал. А какую Венеру он однажды принес, сколько я беды тогда набрался с королевой! Велела ее сжечь! А красивая была картина. Ну, и то правда, иногда зазнавался…
Не закончив своей речи, Август засмотрелся в окно, задумался и зевнул.
— А как ты думаешь, может ли это быть настоящий Рибер, которого вчера привезли из Венеции?
Брюль пожал плечами.
— Мое такое же мнение, как и вашего величества.
— Это может быть Рибер, — произнес невнятно король.
— Точно так, это мог быть Рибер, — подтвердил Брюль. — Но также может быть и il Frate…
— О! Это верно, что он очень похож на Frate. Брюль, а ты можешь судить о таких вещах?
— Научился при его величестве короле.
Август, очень довольный, начал расхаживать по комнате; потом приблизился к Брюлю и сказал ему на ухо:
— Королева желает, чтобы я его прогнал. Верно ей кто-нибудь шепнул, что он советовал мне затеять любовную интригу…
— Но никто в свете не может обвинять его величество в таких делах! — воскликнул Брюль. — Никто! Все знают о его примерной жизни.
— Я никогда не допущу, чтобы меня обвиняли в этом, — прошептал король, — никогда, никогда! Лучше, лучше… — и не мог докончить.
Брюль приблизился к нему и тихо сказал:
— Ни одна живая душа, никто не может обвинять ваше величество.
Он положил руку на сердце.
— Да, так должно быть, — прошептал Август и, еще понизив голос, сказал. — Ты думаешь, что он уже знает что-нибудь? Подозревает? А?
— Наверно, ничего не знает и знать не может, но если он постоянно будет здесь присутствовать, постоянно подсматривать, следить, тогда… кто же может поручиться за последствия?
Король встревожился.
— В таком случае его нужно удалить; да, так лучше будет, а ты мне его заменишь.
Брюль опять поцеловал руку короля.
Но, однако, на лице Августа выражалась печаль; он тяжело вздыхал; видно было, что ему тяжело расставаться с другом детства; в глазах его стояли слезы.
— Брюль, это уже решено, так хочет королева, Гуарини советует, ты тоже ничего не имеешь против. Но как же, как? Говори… но говори же!..
Министр опустил глаза на землю, палец приложил к губам и старался выразить большое затруднение.
Король следил за каждым его движением и ожидал, что он скажет.
Брюль вдруг резко поднял голову.
— Ваше величество, — заговорил он наконец медленно, — поводов к вашей немилости найдется довольно. Достаточно ему только припомнить, что он смел допустить себя к излишней фамильярности с своим королем. Я никогда не советовал бы поступать с ним слишком строго. Самый суровый приговор будет для него — удаление от особы вашего величества.
— Да, именно так, — согласился король, — я даже назначу ему маленький пансион.
Он взглянул на Брюля, тот подтвердил, что он говорил.
— Значит решено — изгнание, — прибавил Август. — А как это устроить?.. Я тебе поручаю все устроить! Чтобы я не имел с ним неприятного объяснения, никакого! Пусть себе уезжает…
Они еще долго разговаривали. Август был совсем счастлив, что ему удалось избавиться от лишних хлопот, взвалив их на чужие плечи. Наконец он произнес:
— Брюль, доложи королеве, что я хочу с ней переговорить. Если королева не молится, то рисует, а если рисует, то я могу к ней прийти.
Брюль тотчас же вышел.
Спустя пять минут король поспешно шел к жене. Действительно, он застал ее с кистью в руке.
Позади королевы стоял молодой артист в почтительной позе; она сидела у пюпитра с натянутой бумагой, на ней была начата голова Спасителя, которую рисовала августейшая артистка, иногда обращаясь за советом к своему помощнику. На самом деле, тут немного было ее работы, потому что в отсутствие королевы помощник исправлял неверные тени и неясные черты; но на другой день королеве Жозефине казалось, что все она сама нарисовала, а потому она была вполне довольна своей работой. Таким способом продолжалось рисование и в конце концов картина выходила произведением Жозефины, а весь двор прославлял талант своей королевы.
Когда король вошел, Жозефина даже не поднялась с своего места, а указала только на начатую работу.
Август встал за ней и долго с удовольствием всматривался в рисунок, который со вчерашнего дня еще не успел быть испорченным и потому совсем хорошо смотрелся; наконец, произнес комплимент и тогда сделал знак молодому художнику удалиться. Тот поспешно исполнил это приказание, кланяясь чуть не до земли.
Король, осмотревшись кругом, прошептал на ухо Жозефине:
— Итак исполнится то, что ты желаешь: мы удалим Сулковского. Об этом я и пришел тебе доложить.
Королева быстро обернулась к мужу с улыбкой.
— Но тише, больше ни слова, — прибавил Август, — пожалуйста, продолжай рисовать. Брюль все устроит, а я не хочу об этом беспокоиться.
— Да тебе и не следует, — сказала Жозефина. — Обратись к отцу Гуарини и Брюлю; они все исполнят.
Август не хотел больше говорить об этом и сейчас же обратил свое внимание на картину.
— Тени великолепны, могу поздравить, — сказал он. — Очень натуральны! Честное слово, Лиотард не нарисовал бы лучше; прелестно ты рисуешь… Только не позволяй портить этому художнику и не слушай никаких советов.
— Конечно, он мне только затачивает карандаш, — отвечала королева.
— Прекрасная голова! Если ты мне захочешь подарить, я повешу ее у себя, — и он вежливо улыбнулся.
Так как час обеда еще не наступил, то король поцеловав руку жены, вошел в свои комнаты и приказал изгнанному художнику поспешить на помощь королеве. На его лице теперь выражалось удовольствие, после того как он избавился от излишних забот и мучений. Он сделался иным человеком, нежели был вчера, лицо его прояснилось, на губах явилась улыбка; он мог дышать свободно и думать о чем угодно. Его не столько угнетала дума о Сулковском, сколько о нарушении его покоя. Он готов был пожертвовать человеком, лишь бы только поскорей избавиться от неприятного дела и ни о чем больше не знать. На вечер было дано распоряжение устроить стрельбу при факелах в цель. Брюль по поводу всех этих происшествий и случайностей совсем не отходил в этот день от короля и каждую минуту был готов явиться по требованию. Король, увидав его, рассмеялся и сказал:
— Дело покончено; после обеда стрельба, вечером музыка, завтра опера.
Брюль поспешно приблизился.
— Пусть никто мне не напоминает о нем. Дело кончено, чтобы я не слыхал даже имени… Даже имени…
Подумав немного, он опять заговорил:
— Возьмите себе на помощь, кого хотите, все заботы возлагаю на вас… Только чтобы я об этом ничего не знал.
Он опять задумался и вдруг воскликнул:
— Послушай, Брюль, ведь это Рибер!
— Точно так, ваше величество! Это Рибер, — подтвердил министр.
VIII
В этом году карнавал обещал быть блистательным. В Саксонии дела обстояли как нельзя благополучно; тех из знати, которые смели быть недовольными, отсылали на покаяние в Плейсенбург. В Польше спокойствие было обеспечено пацификальным сеймом и смертью последнего из Собесских. Фаустина все также чудесно пела, а крупный зверь не переводился в Губертсбургских лесах. На последней Лейпцигской ярмарке король приобрел много лошадей и отличных собак.
День за днем проходил в удивительном, заранее установленном порядке. И вот этот-то блаженный покой нарушился тревогой, когда пришло известие о возвращении Сулковского, которое заставило королеву действовать энергичнее и произнести приговор против него. Было решено, что любимец не должен быть допущен к особе короля. Геннике и его помощники отдали приказ сторожить по всем дорогам; сторожа стояли у ворот, собранные люди издалека окружали дворец Сулковского, чтобы можно было сейчас, как только он прибудет, предпринять известные средства. Экипажи министра и великого маршала двора прибыли уже раньше. Жена хотела выехать ему навстречу в Прагу. Именно этого боялись, поэтому графиня Коловрат очень ловко уведомила ее о желании королевы, чтобы она не удалялась из Дрездена и готова была явиться в замок, когда ей дадут об этом знать. Графиня волей-неволей должна была повиноваться.
Вечером 1 февраля 1738 г. граф Сулковский приехал уже в Пирну, где должны были только отдохнуть лошади, чтобы к ночи прибыть в Дрезден. Впереди едущий курьер все приготовил в гостинице для принятия министра. Еще ни один человек даже не подозревал об участи Сулковского.
Все, кто жил в местечке — чиновники, бургомистры в нарядных платьях ожидали перед гостиницей на морозе приезда того, кого все еще они считали всемогущим, перед которым все дрожали. Курьер оповестил, что его сиятельство прибудет в четвертом часу; но поезд опоздал, потому что накануне выпал снег и все гористые дороги были заметены сугробами. Взоры всех были обращены на дорогу к Праге, как вдруг со стороны Дрездена подъехал к гостинице закутанный плащом всадник на взмыленном коне. Эта гостиница "Под Короною" была лучшей в местечке; хозяином ее был Яниш Тендер, человек смелый и решительный; он быстро подбежал к путнику, которому в другое время он был бы очень рад, но теперь должен был предупредить, что места в гостинице нет. В классической одежде трактирщиков, в белом как снег фартуке, в меховой шапке, румяный, веселый Яниш очень любезно и вежливо заговорил с незнакомцем.
— Прошу извинить нас… мы ожидаем приезда его сиятельства графа Сулковского; у меня нет свободного угла ни для вас, ни для вашей лошади; но в трактире "Пальмовая ветвь" вы найдете не совсем дурной приют и хозяин человек хороший; это мой шурин; конечно, там не будет так, как у меня.
Прибывший, казалось, едва слушал Яниша. Опустив поводья на шею лошади, он рассеянно смотрел на трактирщика. Это был человек средних лет, что можно было заключить по его глазам, окруженным глубокими морщинками; вероятно, по причине холода его рот был завязан платком, а шапка глубоко надвинута на брови.
— Коли именно сюда заедет его сиятельство, — сказал он глухим голосом, не снимая платка, со рта, — то здесь-то и нужно мне остановиться, потому что я послан к нему.
При этих словах трактирщик поклонился и собственноручно взял коня.
— А это дело другое, — воскликнул он, — дело другое! Пожалуйста ко мне, сударь, погрейтесь. Горячее вино готово, а нет ничего лучше как выпить глинтвейну, когда холодно, это давно известно.
Лошадь поставили в конюшне. Работник подбежал и повел усталого коня. Трактирщик, в надежде разузнать что-нибудь, последовал за гостем в дом, присматриваясь к нему, чтобы отгадать, кто бы это мог быть, но ни по одежде, ни по физиономии, он ничего не мог узнать. Платье господина было очень приличное, выговор чистый, без примеси акцента саксонского; по его развязному обращению можно было заключить, что он из придворных; но опять-таки, он не мог принадлежать к числу знатных особ, потому что приехал верхом, без слуги, в простых сапогах. Яниш узнавал людей с первого взгляда, он угадывал всегда верно и принимал своих гостей, как кому пристало. Но на этот раз он не мог отгадать, кто был незнакомец; однако, надеялся, когда незнакомец откроет лицо, узнать с кем имеет дело, с конюхом ли, с важным ли чиновником? Очень удивило Яниша, что незнакомец, входя в дом, даже не поклонился стоявшим на морозе городским властям. Из этого можно было заключить, что он считал себя повыше их; но ведь те, которые постоянно трутся около больших господ, бывают очень горды.
Для Сулковского потребовалось занять все комнаты, осталась свободной только комната самого хозяина, куда Тендер попросил своего гостя. Там можно было очень удобно расположиться; в камине пылал веселый огонь; свеженькая хозяйка что-то стряпала на нем; две девочки помогали ей, а комната была недурно убрана и с большой опрятностью. Тендер помог незнакомцу освободиться от громадного плаща и платка, из под которых показалась костлявая странная фигура с неприятным канцелярским лицом. Глаза его так и впивались в человека, а вокруг искривленных губ лежали широкие складки. Посмотрев на него, Яниш, который был отличным знатоком людей, решил про себя: это опасный человек. Однако приходилось быть тем более гостеприимным с таким страшным послом из столицы.
Хотя жители Пирны считаются в Саксонии неповоротливыми, а Тендер был родом из этого города, несмотря на это, он был очень расторопным малым. Он поспешно вытер передником стул, придвинул его к огню и пригласил сесть незнакомца, который очень равнодушно принимал все эти свидетельства вежливости. Он был как будто чем-то озабочен и погружен в какие-то печальные размышления. Несколько раз хозяин заговаривал, но не получал ответа. Поднес гостю стакан подогретого вина, которое он взял, но даже головою не кивнул.
— Должно быть важная фигура, не иначе, — подумал Яниш.
После этого он еще удвоил свою вежливость, детям приказал держаться вдалеке, как вдруг послышался звук трубы, хлопанье бича и шум у подъезда. Сулковский приехал. Хозяин, как ошпаренный, вылетел навстречу. Но незнакомец даже не двинулся с места и, задумавшись, продолжал сидеть со стаканом в руке; а это что-нибудь да значило.
С большим почетом ввели министра в назначенные ему комнаты; но уставший вельможа, поблагодарив встречавших, отпустил всех домой. Прислуга вносила сундуки с съестными припасами… Тендер, выброшенный в своем собственном доме за двери, вошел в свою комнату недовольный и немало удивился, увидев незнакомца, который все еще сидел у камина и пил вино, смотря задумчиво на огонь. Казалось, он ничего не видел и не слышал, даже прихода трактирщика… Тот остановился и считал своей обязанностью громко объявить:
— Его сиятельство прибыл!
Странный гость кивнул головой и скорчил гримасу; видно, он о чем-то раздумывал; допив вино, он вынул какой-то пакет, спрятанный у него на груди, посмотрел на него с недоброй улыбкой, потряс головой и, наконец, взявшись за шапку, вышел…
Если бы Яниш Тендер бывал в Дрездене и имел бы дела в высших присутственных местах, то узнал бы в своем госте советника Людовици. Медленно и как бы с отвращением советник взялся за ручку двери и, не спрашивая позволения, вошел в залу. Там стоял накрытый стол, прислуга суетилась, молодой адъютант стоял у окна, а сам Сулковский лежал на диване с вытянутыми ногами. Увидав в дверях знакомую фигуру Людовици, он радостно вскочил с своего места.
— Ах, это вы! — воскликнул он. — Вот отлично! Хорошая мысль вам пришла в голову приехать ко мне навстречу. Чудесно! Бесконечно вам благодарен! К тому же узнаю от вас, что делается в столице; последние письма ко мне были коротки и бессодержательны. Ну, как же ты поживаешь, Людовици, как поживаешь?..
Советник как-то печально поклонился, лицо его не выражало ничего доброго; он молча приветствовал графа. Людовици искоса посмотрел на адъютанта.
Сулковский повел его в следующую комнату, где в камине также горел огонь; его очень удивила пасмурная, вытянутая физиономия Людовици; граф же был в наилучшем расположении духа. На Рейне и в Венгрии рекомендованный везде письмами, своим именем и высоким положением, он был отлично принят и возвращался счастливый результатом своей поездки, довольный собою и уверенный в себе более, чем когда-либо.
Едва они вошли в другую комнату, граф засыпал советника вопросами, но ответы последовали скупо. Людовици, как будто не имел отваги открыть рта; он с грустью смотрел на радость графа, которую он должен был уничтожить одним словом и, может быть, заменить отчаянием. Он сначала позволил Сулковскому наговориться; тот, смеясь, описывал свои похождения, впечатления, какие он испытывал, как его встречали с почетом. Людовици только посматривал на него, кивая головой.
— Что же с вами, мой почтенный советник, прозябли вы или очень устали? Вы рта даже не хотите открыть.
Людовици осмотрелся кругом.
— Не с чем мне торопиться, — сказал он пасмурно, — никаких добрых вестей я не привез.
— Жена здорова?
— Слава Богу!
— Король здоров?
— Да, да, здоров! Но… — тут советник взглянул на графа и с грустью продолжал: — я с тем приехал, чтобы известить ваше сиятельство, что вы уже не найдете короля таким, каким оставили. Много чего изменилось; я всегда был против этой поездки и не советовал ее никогда.
— Что же могло случиться худого? — легкомысленно воскликнул Сулковский.
— Случилось самое худшее, что только можно было ожидать, — продолжал Людовици. — Ваши неприятели, королева во главе, Гаурини, хитрый Брюль… оклеветали вас. Нечего подносить горечь по каплям. Мы все погибли…
Сулковский смотрел на него и слушал, как человека, лишившегося ума, пожимал плечами и смеялся.
— Что тебе приснилось? Что тебе вообразилось?
— О, много я бы дал, если бы это могло быть сном! — продолжал советник глухим голосом. — Нет времени себя обманывать, нужно спасаться, если только возможно спасение. Я тайно приехал сюда, рискуя жизнью, чтобы вас предостеречь. В воротах стража, в доме шпионы… Если вы прибудете в Дрезден и будете узнаны, то вас даже не допустят к королю. Такие даны распоряжения!
— Но этого не может быть! — громко закричал граф. — Это глупая мистификация! Кто-то наплел тебе эту бессмыслицу, а ты добродушно ему поверил! Нет человека на свете, который мог бы отнять у меня сердце короля. Это просто невероятно, это шутки, это подлая ложь! Я смеюсь над этим. Меня! Меня не допустить к королю! Людовици, ты с ума сошел!..
Советник стоял со сложенными руками и смотрел на графа с видимым сожалением. Сулковский ходил быстро по комнате, по временам усмехаясь про себя.
— Где ты услышал эти глупые сплетни? — спросил он.
— Из вернейшего источника в свете, — произнес медленно, гробовым голосом Людовици. — Я дал слово, что не скажу имени того или той, которая меня предостерегала и приказала ехать. Но все, что я говорю, святая правда.
— Но скажи, ради Бога, как все это могло случиться? — воскликнул Сулковский, уже немного встревоженный.
— Король — слабый человек, — начал Людовици, — королева — упрямая женщина. Отец Гуарини хитрейший из людей, а Брюль умеет отлично загребать жар чужими руками. Вот и вся тайна. Вы не скрывали, ваше сиятельство, своей неприязни к монахам, теперь пожинаете плоды их трудов. Все уже устроено. Заговорщики принудили короля согласиться на удаление вас, хотя он долго противился. Вы присуждены к почетному изгнанию с маленьким пенсионом, чтобы не мешали Брюлю собирать миллионы. Он боится вашего влияния, мягкости королевского сердца, поэтому к нему вас даже не допустят.
Сулковский нахмурился.
— Вы в этом уверены? — спросил он коротко.
— Как нельзя больше: в воротах отдан приказ страже, в замке тоже стерегут. Как только вы появитесь, сейчас же получите отставку.
— Даже король не хочет меня видеть? — воскликнул Сулковский.
— Ведь король невольник, — отвечал Людовици.
С минуту Сулковский как бы размышлял.
— Ежели вы думаете со всей свитой приехать в город, — продолжал Людовици, — дело кончено; вы попадетесь в их руки. Может быть найдется какое-нибудь средство, помимо их, добраться до короля, то воспользуйтесь им. Вы имеете влияние, попробуйте действовать; но это будет борьба на смерть и на жизнь с королевой, с духовником, с Брюлем.
Насупив брови, Сулковский долго ходил по комнате; наконец, приблизился к советнику, потрепал его по плечу и спросил:
— Ты уверен, что все это правда?
— Как в том, что я живу.
— Ну, так молчи… Я никого не боюсь: меня так нельзя погубить, как они погубили Гойма и других. Я твердо стою… Посмотрим… Не показывай ни о чем ни малейшего знака, пойдем обедать, а потом я сажусь с тобой на коня. Вся свита останется здесь, а мы с тобой в несколько часов, неузнанные, будем в Дрездене. Любопытно знать, кто осмелится передо мною затворить королевские двери! Посмотрим, посмотрим!.. Конечно, мы можем рассчитывать, что нам удастся приехать в город неузнанными?
— Должны, — коротко отвечал Людовици.
— Нужно поесть, а то еще люди с голоду додумаются до чего-нибудь. Идем!
Проговорив это, он повел советника в первую комнату, где на столе уже ожидал обед. В молчании, или разговаривая об обыкновенных вещах, они начали подкреплять свои силы, но Сулковский почти ничего не тронул. Пил вино и ломал хлеб, разбрасывая перед собою куски его. Проголодавшийся советник ел за всех: Сулковский обратился к своему молодому адъютанту.
— Граф Альфонс, и вы, и лошадь, измучены, поэтому ночуйте в Пирне. А я хочу сделать сюрприз жене, сажусь на коня и вместе с советником протрясусь до Дрездена.
Адъютант казался несказанно удивленным. Сулковский обыкновенно любил ездить с удобством; такое путешествие инкогнито, в худую пору, вечером, по дорогам, занесенным снегом, показалось ему странным. Прочитав на лице его удивление, Сулковский прибавил с принужденным смехом:
— В этом нет ничего удивительного и в старом возрасте приходится иногда удовлетворять молодым фантазиям.
Сказав это, он тихо отозвал в сторону графа Альфонса и шепотом дал ему какое-то приказание. Адъютант немедленно вышел. Сулковский стоял молча, задумавшись. Скоро два оседланных коня стояли у ворот гостиницы; министру советовали взять с собою в дорогу слугу или конюха, но он решительно отказался. Это путешествие для адвоката, непривыкшего к верховой езде и недавно приехавшего из Дрездена в Пирну, было еще более неприятно, нежели для самого графа, но, однако, он не хотел, чтобы Сулковский один отправлялся. К счастью для обоих, небо прояснилось, снег перестал падать и на ночь начался сильный мороз. Лошади знали дорогу, по которой часто проезжали; достаточно было опустить поводья, чтобы они сами держались торного тракта. Солнце уже заходило, поэтому они ехали крупной рысью, граф впереди, а за ним советник. Скоро стемнело, только снег едва освещал дорогу, но лошади шли инстинктом. Они скоро миновали разбросанные по дороге усадьбы и дома. Уже ночь наступала, когда частые мерцающие огни возвестили близость Дрездена. На большой дороге началось оживление; мимо проезжали легкие сани, всадники, пешие, возы, тяжело нагруженные. На прояснившемся небе обрисовались черные башни церквей… Сулковский поехал тише и должен был немного обождать, пока его нагонит Людовици.
— Если в воротах сторожат, — сказал граф, — то нужно при въезде принять всякие предосторожности.
— Ваше сиятельство, вы должны обернуться плащом и ехать позади меня, как мой товарищ. Хотя в воротах стоят часовые, но они стерегут экипажи и свиту, с которой вы должны приехать.
— Ты говоришь, что шпионы окружают мой дом?
— Наверное, — отвечал Людовици.
— В таком случае я не могу подъезжать к своему дому и скроюсь у тебя, или же пешком пройду домой.
— Последнее я бы не советовал, — прервал советник, — в теперешнее время даже за прислугу нельзя поручиться; кто-нибудь может донести.
Сулковский задумался, а потом горько засмеялся.
— Это смешно! — воскликнул он. — Кто бы смел сказать сегодня поутру, что в Дрездене мне негде будет безопасно переночевать!!! Но если уж так плохо мне приходится, — помолчав с гордостью, сказал он, — в таком случае я никого не стану подвергать опасности. Почтенный Людовици, потрудись только отослать лошадь на почту, я пойду пешком и сам поищу себе места, а потом посмотрю, что предпринять.
Проговорив это, Сулковский повернул коня и закутался плотнее плащом.
Людовици поехал вперед, а граф сгорбился в седле и с видом слуги, который следует за своим господином, ехал сзади мелкой рысью. Они приблизились к воротам. Действительно, там стояли часовые, но советник назвался вымышленным именем, и они благополучно въехали в город: даже почти никакого внимания не было обращено на двух всадников. Они уже отъехали несколько шагов, как к ним подбежал солдат.
— Откуда господин едет? Не из Пирны ли?
— Да, из Пирны, — ответил советник.
— Ничего вы там не слыхали о графе Сулковском, который именно сегодня должен был туда приехать?
— Как же, слышал, — воскликнул добродушно Людовици, повертываясь на седле к солдату, — гостиница "Под Короной" уже занята для его сиятельства, но приехал курьер с известием, что граф только через два дня выедет из Праги.
Солдат отошел довольный, что они избавлены от бдительной ночной стражи, а советник и граф отправились дальше. В городе еще не утих шум, как всегда во время карнавала. Возле старой почты Сулковский слез с коня и оставил его Людовици, шепнув последнему несколько слов, и в задумчивости пошел пешком к дому. Он не сомневался, судя по расспросам у ворот, что все слышанное им от советника, была правда; с большими предосторожностями он стал пробираться к дому. Он даже колебался, не лучше ли ему переночевать в другом месте, но гордость не допустила его скрываться, как виновному. Главным для него делом было, как бы войти так, чтобы прислуга, которой он не доверял, не заметила. Давно отвыкнув от подобных тайных прогулок и укрывательств, Сулковский сразу ничего не мог придумать. С странным чувством он присматривался к тому, что делалось на улицах, встречал своих знакомых, проезжающие экипажи и видел все это движение и шум карнавала; мимо него проходили чиновники и служащие знакомых ему вельмож, которых ему не раз случалось видеть; а они, конечно, не догадывались, что этот человек, завернутый в плащ, тот самый, перед которым они недавно падали на колени. Сулковскому собственное свое положение казалось сказочным; все эти приключения представлялись ему каким-то сновидением, а угрожавшая опасность одною мечтою; он сердился, что ему приходилось верить, что все это правда. Он сравнивал то положение, которое он занимал, с угрожавшим упадком и не понимал, каким образом это могло быть на самом деле…
Под господством этих мыслей он как-то смелее подходил к своему дворцу; уже будучи недалеко от него, граф заметил сновавших взад и вперед людей, как будто кого-то поджидавших; эти фигуры, скрывавшиеся за углом, подтверждали, что его подстерегали. При каждом приближающемся экипаже они выскакивали и присматривались к проезжающему экипажу. Сулковский пробрался в боковую улицу и сам не знал, что ему делать. В эту минуту он вспомнил одного человека, которому он мог довериться; это был иезуит, отец Фоглер, прежний духовник короля; человек уже старый, по-видимому, добровольно уступивший место отцу Гуаринй. Он жил, не вмешиваясь ни в какие дела, редко показывался при дворе, постоянно сидел дома, углубившись в книжки. Он когда-то был любимцем короля, но лишился его милостей, потому что не умел забавлять и не старался ему нравиться. Это был человек молчаливый, суровый, но трудолюбивый и к тому же скрытный и таинственный. У Сулковского он был домашним священником и его духовником; граф пользовался его благосклонностью. Однако, несмотря на то, что Фоглер жил, по-видимому, в стороне от всех интриг, но отца Гуаринй как будто побаивался и оказывал ему большое почтение. Фоглер не скрывал, что он презирает Брюля, и хотя говорил мало, но видно было, что ему очень не по вкусу были описанные нами придворные дела. Теперь Сулковский припомнил, что перед выездом Фоглер его уговаривал не оставаться долго в отлучке и предостерегал не слишком доверяться тем, которые ему выказывают большую привязанность. Фоглер, должно быть, обо всем случившемся знает. Графу пришлось пробираться по старому рынку и по многолюдной Замковой улице, недалеко от которой жил иезуит; он завернулся в плащ и старался идти в тени около домов, чтобы не быть узнанным. Экипажи и пролетки ехали к замку.
Он встретил портшез Брюля; при этой встрече он ощутил какое-то чувство горечи, которое ему первый раз в жизни пришлось испытать; неизвестно, почему ему пришла на мысль та уличная сцена, когда везли на осле Эрреля и ему подумалось, что его постигла участь этого несчастного журналиста.
Дом, в котором жил Фоглер, принадлежал к замковым строениям; но вход в него был с боковой улицы, теперь совершенно неосвещенной. Парадные двери еще были отворены, но по лестнице ему приходилось идти ощупью. Он знал, что Фоглер занимал второй этаж; наконец, в темноте он нашел двери, в которые он позвонил. Закрыв лицо, он ожидал долго, пока ему не отворили; на пороге показался мальчик с огарком в руке.
— Патер Фоглер дома?
Мальчик со страхом присматривался к незнакомцу и не знал, что отвечать.
— Дома патер Фоглер? — повторил граф громче. — Очень важное к нему дело, очень важное. Дома ли он?
Наконец, мальчик, ничего не отвечая, оставил отворенными двери и сам убежал со свечкой. Через минуту он вернулся и указал рукой, что можно войти. Сулковский, не сбрасывая плаща, быстро вошел в комнату. Это была комната ученого. Посреди стоял стол, заваленный фолиантами; по стенам полки, на которых в большом беспорядке лежали кипы бумаг. На столе горела лампа с абажуром. Против нее сидел в кресле, обитом кожею, худой человек высокого роста, сгорбленный, лысый, с прищуренными глазами. Он, казалось, очень был удивлен этим ночным посещением; он уставил свои слабые глаза на вошедшего, который был еще закутан. Когда мальчик затворил за собою двери, то Сулковский снял с головы покрывало, открыл лицо и приблизился к отцу Фоглеру; тот схватил его за руку и вскрикнул от удивления.
— Тише! — произнес Сулковский.
Фоглер молча обнял его, усадил на диван, но прежде вышел в переднюю дать мальчику надлежащие наставления. Граф, опершись на стол, задумался.
— Я вижу, — сказал иезуит дрожащим голосом, — что вы все уже знаете, хотя у нас здесь никто ни о чем не догадывается. Вас никто, никто не видел?
— Прямо с дороги я пришел к вам, — отвечал граф. — В Пирне я узнал о заговоре; подтверждение о нем я от вас слышу. Так значит все правда? Значит они осмелились?
Фоглер пожал плечами.
— Да, все это так; ваши хорошие приятели поджидают вас с этой неожиданностью, — сказал он тихо, — и к королю вас не допустят.
— Вот, я именно и хочу устроить им неожиданность и помимо их всех войду к королю! — воскликнул Сулковский. — Эти господа ошибаются; король мог подписать в моем отсутствии приговор, но если я его увижу и с ним поговорю только один час, я получу снова утраченную власть; а тогда… Тогда, — воскликнул Сулковский, вставая и грозно поднимая кулак, — я не пойду прочь, но те, которые осмелились посягнуть на меня!
Он замолчал. Фоглер, сложив руки, поднял глаза к небу.
— Теперь для меня главное, где можно переночевать, переждать завтрашнего дня, чтобы никто не знал о моем приезде. Вероятно, при дворе не отдан приказ не допускать меня, а я по праву и по закону имею доступ к его величеству во всякое время. Этого никто не смеет запретить мне. В одиннадцатом часу король обыкновенно один, там Брюля не бывает.
Фоглер со вниманием слушал графа, не показывая вида, каким он находил этот план.
— Вам нечего терять и вы должны испробовать все средства.
— Отважитесь ли вы дать мне ночлег? — с улыбкой спросил Сулковский.
Не колеблясь, Фоглер отвечал:
— Пожалуйста; только вам неудобно будет, но мое жилище к вашим услугам. Вы здесь в безопасном месте; потому что никто меня не посещает. Расположитесь поудобнее, граф; да поможет вам Бог в вашем деле.
У Сулковского глаза заблистали.
— Если мне удастся увидеться с королем, я уверен, что мое дело выиграно…
— Дай-то Бог! — прошептал Фоглер.
На другой день Брюль узнал через Геннике, что Сулковский приедет только через два дня. В Прагу был послан тайный агент, чтобы следить за графом.
Между тем, для всех во дворе заговор был строгой тайной, а королева графиню Сулковскую приветливо принимала, так что та ни малейшего предчувствия не имела о несчастии. Король снова приобрел свое хорошее расположение духа, а карнавал, как в прежнее время, проходил очень весело.
Рано поутру министр явился во дворец, принял все нужные распоряжения и, оставив отца Гуарини при короле, сам вернулся домой. Здесь переодевшись (этикет требовал менять платье несколько раз в день), он отправился к графине Мошинской. Теперь он у нее был как дома. Муж ее несколько месяцев тому назад умер и она осталась вдовушкой, так что Брюль мог быть уверен, что она ни свое сердце, ни руку не отдаст другому. Его нежные отношения к прекрасной графине не были тайной. Каждый день у них происходили совещания, а по вечерам, если у Брюля был прием, она приезжала к нему. Если Геннике приходилось сообщать что-нибудь важное, то он всегда искал его у графини. И в этот день Брюль пришел к ней отдохнуть.
Мошинская лежала с книжкою в руках; она была еще в трауре после мужа; ей был к лицу этот наряд, она была еще прекраснее и величественнее. Увидав входящего Брюля, она еще издали закричала ему:
— Ну, что же Сулковский приехал? Он тут?
— Нет еще, из Пирны дали знать, что он едва через два дня прибудет.
Прекрасная Фридерика с неудовольствием покачала головой.
— Это что-то не так, — произнесла она, — что-то подозрительно. — Мне говорила его жена, что он должен вернуться не позже завтрашнего дня.
— Кто же мог бы ему дать знать? Это немыслимо! Никто ничего не знает!
Графиня засмеялась.
— Пересчитаем особ, посвященных в тайну, — сказала она, и на белых своих пальчиках стала высчитывать: — королева, графиня Коловрат, король, Гуарини, вы, Генрих, я, и, конечно, ваша жена. Этой, если бы даже не сказать, она сама бы догадалась; прибавим еще Геннике. Приходилось ли вам слышать, чтобы дело, поверенное восьми особам, оставалось тайной?
Брюль покачал головой в размышлении.
— Но хотя бы он узнал, уже все равно, ничто не спасет его. Королева так допекает короля Сулковским, что ради своего драгоценного покоя он отречется от своего любимца.
Таким образом начатый разговор скоро перешел на другие предметы. Но Брюль, несмотря на внешнее спокойствие, немного был угрюм и задумчив. Около двенадцати часов он взялся за шляпу и хотел уходить, как вдруг раздался стук в двери и, не ожидая дозволения, вбежал Геннике, бледный как полотно. Его изменившееся лицо и быстрое внезапное появление означало происшедшую катастрофу. Графиня вскочила, Брюль подбежал к нему. Геннике не мог выговорить ни слова, глаза его бегали, как у сумасшедшего во все стороны.
— Что с тобой, Геннике, да опомнись ты! — крикнул Брюль.
— Что со мной? Сулковский вчера вечером тайно прибыл в город; в одиннадцать часов явился в замок и ни у кого не спрашиваясь вошел к королю. Отец Гуарини, который был там в это время, рассказывает, что король при виде вошедшего к нему Сул-ковского, побледнел как мрамор. Граф как ни в чем не бывало, преклонив колени, приветствовал короля в самых горячих выражениях, доложил, что первое его желание было упасть к стопам государя. Король растрогался и обнял его. Потом он начал весело рассказывать о своем путешествии, о приключениях и рассмешил короля… и таким образом опять вошел в свои обязанности, ни у кого не спрашиваясь. В эту минуту Сулковский находится у его величества; во дворце переполох; королева плачет, отец Гуарини ходит бледный… все погибло.
Брюль и Мошинская взглянули друг на друга. Брюль, казалось, не был испуган, но страшно раздражен: он стоял с сжатыми губами.
— Послушай, Геннике, ведь Сулковский не может же целый день там оставаться, — а я не имею охоты с ним встречаться; дай мне знать когда он уйдет! Нечего сказать, хорошо сторожили в воротах и хорошо исполнили мои приказания, — прибавил министр сухо.
Он подошел к графине, поцеловал ее руку и, шепнув ей несколько слов, ушел вместе с Геннике.
Сцена, описанная в коротких словах Геннике, действительно была любопытна. Появление дикого зверя не могло произвести большого переполоха во дворце, как неожиданный приход Сулковского, который прямо прошел к королю. Август на минуту совершенно остолбенел; ничего на свете для него не было тяжелее всяких ссор и упреков. Отец Гуарини, несмотря на всю власть над собою, не мог скрыть смущения. Сулковский, с притворной веселостью, на коленях приветствовал Августа и радовался, что наконец может лицезреть своего короля.
Но Гуарини заметил, что Август ни слова не говорил, только усмехался. Сначала иезуит имел намерение остаться до конца разговора; но потом пришло ему на мысль, что он был обязан донести королеве о случившемся и сейчас же предпринять свои меры. Хотя король с беспокойством оглядывался, но Гуарини, прослушав около часа разговор, должен был удалиться.
Сулковский говорил весело, с лихорадочным оживлением. Он хотя ни малейшим намеком не показывал, что он знает о том, что его ожидает, но можно было судить по его раздражению, по смелости, с которою он говорил с королем, что он ставит на карту свою последнюю ставку. Король казался испуганным и старался быть суровым; иногда он улыбался, но сейчас же опять возвращался к холодной сдержанности. Пока отец Гуарини присутствовал, граф говорил о делах и о своей поездке, но как только двери затворились за иезуитом, он переменил предмет разговора.
— Ваше величество, — говорил он, — с неизмеримою грустью я спешил сюда; у меня было какое-то предчувствие, хотя, благодарение Богу, оно не оправдалось. Я служу с детства моему королю, до сих пор посвящал ему всю мою жизнь и готов отдать остальную; я успел приобрести милость и доверие, но совесть моя чиста, я не опасаюсь интриг моих врагов, если я имею их; но не думаю, чтобы они были, потому что я никому ничего не сделал худого.
Король все слушал с принужденной важностью, что ни предвещало ничего доброго. Когда Сулковский поцеловал его руку, он совсем смутился, пробормотал что-то про себя, переступил с ноги на ногу, но не проговорил ни одного внятного слова. Граф все более горячился и говорил с увеличивающейся лихорадочностью.
— Король мой, господин мой, в твое сердце я верю, как в Бога! Но хитрые интриганы злыми наветами и доносами могут лишить меня вашей доброты.
— Ого! Ого! — прервал Август. — Здесь интриганов нет.
— Но куда они не успеют втереться, под какой личиною они не скрываются! — продолжал, смеясь, Сулковский. — Ваше величество, я солдат и говорю по-рыцарски; под маскою я не умею прятаться. Много есть злых людей, а именно те, которые кажутся покорными и смиреннейшими, и есть самые опасные люди, властелин, король мой! Других я не хочу называть, но Брюль… Брюля нужно отстранить, или же он завладеет всем здесь, и удалит от его величества короля всех настоящих друзей, чтобы одному распоряжаться.
Говоря так, граф смотрел в лицо короля, которое сначала покрылось яркой краской, а потом сделалось мертвенно-синее. Глаза Августа приняли дикое выражение, которое придает скрытый гнев. Сулковский знал, что нужно только раз побороть такое сильное раздражение в короле, любящем спокойствие, чтобы им завладеть; это раздражение никогда долго не продолжалось. Иногда король имел сильное желание разорвать связывающие его оковы, но едва попробовав свои силы, он отступал при твердом сопротивлении. Граф видел его не раз в таком положении и вместо того, чтобы испугаться, он сделался еще смелее.
— Ваше величество, — воскликнул граф, бросаясь за королем, который попятился к окну, — вы достойно чтите память великого родителя, пусть он вам служит примером! Тот никому не позволял управлять собою, ни королеве, ни фаворитам, ни министрам, ни монахам. Он всем управлял. Король должен только кивнуть, захотеть, приказать и все замолчит, что бушует, тяготит и связывает… Нужно иметь смелость жить и властвовать, нужно пользоваться жизнью и властью, которую Бог даровал, нужно сбросить эти оковы.
Король слушал, но казался все более и более испуганным; вместо того, чтобы дать какой-нибудь ответ, он закрыл уши руками и все далее и далее отходил от Сулковского. Граф зашел уже слишком далеко и отступить назад не было никакого смысла; как ему казалось, нужно было ковать железо, пока горячо.
— Я чувствую, — говорил он дальше, — что дерзнул говорить смелые речи; но это ради преданности к моему королю, которого я хочу видеть столь же великим и счастливым, как его родитель. К чему ведет монастырская жизнь! Ваше величество, вы жаждете покоя, но вы его приобретете только славою и добрыми делами, как только вы энергично объявите свою волю. От таких непрошеных опекунов, как отец Гуарини и Брюль, нужно избавиться. Королева добродетельная, ваше величество, в скором времени отправимся покорять Венгрию, потому что король Карл II не долго проживет; а вы, ваше величество, только в походной жизни вздохнете свободно.
Сулковский смеялся… Король пасмурно смотрел в окно; ни одним словом, ни движением он не выдавал своих мыслей. Он был, видимо, утомлен. На счастье, в эту минуту движение в коридорах возвестило обеденную пору, Август двинулся с места, вероятно желая идти к обеду без свиты. Сулковский подошел к его руке и горячо начал ее целовать. Румянец выступил на щеках короля. В эту минуту вошел гофмейстер двора и, застав графа, так чувствительно прощавшегося с королем, конечно, не мог не сомневаться, что фаворит останется в прежней милости; часть разговора королева подслушала, стоя у дверей с отцом Гуарини.
Сулковский вышел, ослепленный и уверенный в том, что он все переделает по своему и что ему больше не грозит никакая опасность. С прежней своей надменностью он поздоровался с чиновниками и придворными и после короткого разговора с ними, он велел подать себе дворцовый портшез и отправился домой.
По его мнению, дело было окончено. Он верил в сердце короля, видел, какая борьба в нем происходила, и был уверен, что победил.
Дома он весело встретил жену, приказал Людовици созвать чиновников, после обеда принести бумаги и рапорты о всех делах. Потом он отпустил Людовици с тем, чтобы он до следующего дня выискал все пункты, наиболее обвиняющие Брюля, указывающие на злоупотребления, фальшивые счеты и недоимки. Для розыска этих документов нужно было посвятить всю остальную часть дня и всю ночь.
Советник сейчас же удалился для выполнения полученных приказаний.
Когда все это происходило у Сулковских, король сидел за обедом и почти ничего не ел; его уже настолько хорошо знали, что сейчас же были пущены в ход все верные средства. Фрош и Шторх уже стояли наготове, против стола, измеряя друг друга глазами, что означало скорое наступление битвы. Фрош, скорчившись, положил руки в карманы и даже не хотел взглянуть на Шторха, только раз или два кинул на него гордый взгляд; а Шторх, сжав губы, прищурив глаза, показывал на него пальцами и, вытянувшись, незаметно подвигался к своему товарищу. Его сдвинутые ноги не двигались, но, всем телом прижавшись к стене, он приближался к Фрошу, который, казалось, не обращал на него никакого внимания.
Когда он уже так близко подошел к Фрошу, что приходилось пробираться между ним и стеною, он поднял вдруг колено и подбросил его вверх; Фрош вскрикнул, а король взглянул в ту сторону, и лицо его прояснилось.
Обыкновенно их шутки начинались в молчании, но выразительной мимикой. Крик Фроша был началом войны на словах. Оба богатыря славились неистощимым остроумием, ежедневно забавлявшим короля.
— Изменник! — воскликнул Фрош, встав против Шторха. — У тебя не хватает смелости вызвать на борьбу такого богатыря, как я, потому что ты знаешь, что я тебя стер бы в порошок, обратил бы в пыль и одним дуновением разнес бы твои нечистые остатки на все четыре стороны! Ты подкапываешься под меня подлостью, коварством, и потому тебя ожидает неминуемая кара!
Шторх представился испуганным, униженным, причем глаза его так выворачивались, что видны были только одни белки; он вдруг бросился на колени, сложил руки, и будто молил о помиловании.
Фрош не был этим тронут и бросился на согнувшегося Шторха, и случилось так, что он перескочил через голову последнего и повис на его плечах; Шторх схватил его за пятки и начал бегать с ним по комнате, а между тем, Фрош обеими руками бил его по плечам, и, наконец, схватил его за уши, и оба повалились на землю.
Король, позабыв обо всем, начал усердно хохотать, стараясь ничего не пропустить из этого приятного зрелища; даже аппетит его вернулся, и он принялся жадно есть.
Королева тоже притворно смеялась, хотя все это ее ничуть не занимало и на душе ее лежала большая забота.
Вскоре Фрош и Шторх так уморительно играли, срывая друг с друга парики и бегая один за другим по углам.
Все эти забавы с несколькими стаканами хорошего вина, видимо, поправили расположение духа короля, так что Жозефина не сомневалась, что после обеда можно будет приступить к делу, которое не терпело отлагательства.
Брюль с отцом Гуарини ожидали в королевских комнатах. Министр не решался брать на себя отдавать приказания в случае появления Сулковского при дворе, объявить последнему, что король его не может принять.
Было поручено камергерам, под каким бы то ни было предлогом, не допускать графа. Началась решительная битва; но слова Сулковского произвели на короля впечатление, так что неизвестно на чьей бы стороне осталась победа, если бы королева не услышала большей части смелых восклицаний и советов Сулковского.
Как обыкновенно после обеда, Август уже собирался уходить в свой кабинет, чтобы там, затворившись, отдохнуть в своем халате и уже прощался с Жозефиной, ни слова ни упомянув о Сулковском, но она сама удержала его в кабинете.
— Август, — воскликнула королева, — я слышала, что тебе говорил Сулковский и на какие дела он тебя склонял.
— Где? Каким образом?
— Я стояла у дверей, — прервала Жозефина, — и к счастью вышло, что я случайно в это время была там. Ты ангел доброты, но таким король не должен быть. Этот наглец осмелился оскорблять королевский трон, меня, тебя; он до такой степени забылся, что советовал тебе начать беспутную жизнь. Август, если нога этого человека останется во дворце, нас постигнет наказание Божие. И ты стерпел все эти речи?..
— Ну, а что же? Как же? — спросил Август. — Это меня мучает. Мне нужно отдохнуть. Выгнать его… ну… выгнать!..
— Отдай сейчас же приказания! Август послушно кивнул головой.
Однако королева, не доверяя ему, послала тотчас за Гуарини и шепнула ему, чтобы он немедленно действовал.
Брюль, смущенный и пасмурный, ожидал прихода короля. Увидав его, Август ничего не сказал, только с упреком покачал головой, погрозил пальцем и бросился в кресло. В эту же самую минуту вошел, усмехаясь, отец Гуарини.
— Ах, нашлась наша потеря, ваше величество. Сулковский вернулся, значит рассудил, что искать счастья по свету для него нет надобности. Кому хорошо стоять, тому зачем двигаться? Ему здесь не нравилось, однако, вернулся, значит еще хуже в другом месте?
Август закурил трубку и, указав на Брюля, произнес:
— Вот этот виноват! А?.. Зачем впустили?.. Королева слышала, а он глупости болтал…
— О, я не виноват, но нам кто-то, ваше величество, изменил! — воскликнул Брюль.
— Делай, что хочешь, — произнес живо король, — не хочу ни о чем знать. Напишите распоряжение, подайте подписать, потом отошлите…
— Но зачем этим терзаться! Зачем портить свое здоровье, расположение духа, ваше величество! — прибавил Гуарини. — Фа-устина поет сегодня вместе с Альбуци; они уже помирились и любят друг друга, как две нежные голубки.
Август осмотрелся кругом и проговорил начальные слова какой-то оперной арии. Он уже имел намерение затянуть ее, но остановился и занялся трубкою. Отец Гуарини больше всех заботился, чтобы изгладить все следы неприятного случая и поэтому велел, чтобы тотчас внесли великолепный портрет, присланный из Венеции. Увидав его, король с восторгом вскочил с своего места и воскликнул:
— А, che bello!
И все неприятные мысли его исчезли.
— Какая мягкость! Какая нежность!.. Какие краски! Сколько жизни! — повторял он, любуясь картиной; глаза его искрились.
Через полчаса явилась Фаустина и просила позволения переговорить с королем о каком-то важном деле относительно театра; король согласился.
Все удалились. В продолжение получаса она занимала короля веселым разговором; когда она вышла от него, Август провожал ее таким лучезарным взглядом, как будто на свете никогда не существовало ни министров, ни дел, ни малейших забот. Все тучки на его челе рассеялись.
Но не так-то легко было рассеять беспокойство королевы и других особ, принадлежавших к заговору. Им хорошо была известна смелость Сулковского, привязанность к нему короля, далее, все средства, которыми он мог воспользоваться, зная привычки короля и, кроме того, между придворными у него было много приятелей. В тот же день часовые были расставлены возле дома Сулковского, у входа в оперу, у лестницы, ведущей в королевские покои; между тем, граф и не думал в этот день выходить из дому…
Отец Гуарини ни на шаг не отступал от короля, королева была настороже. Брюль суетился, бегал, графиня Мошинская разъезжала, Геннике со своими подчиненными — Глобигом, Лоссом и Стаммером и вся плеяда секретарей и служащих Брюля рассыпались по городу, занимая назначенные места.
Сулковский не обращал никакого внимания на все это движение, вполне уверенный в своей победе и приготовлял все пункты для обвинения своего противника. Граф был слишком уверен, что он все преодолеет тем сильным впечатлением, которое он произвел на короля.
Жена его была далеко не так уверена в успехе и вечером поехала к королеве. Отцу Гуарини она должна была показать вид, что ничего не знает и не касается придворных дел.
Графиня Сулковская в девушках была фрейлиною королевы и пользовалась ее милостью и, кажется, ничем не могла заслужить нерасположения Жозефины. Она вошла в комнату, где сидела королева, читая книгу духовного содержания. Графиня не знала, с чего начать разговор. Наконец, с почтительным видом, она начала с того, что пришла поделиться с нею радостью по случаю возвращения мужа; потом она переменила разговор и перешла к слухам, что как будто враги мужа ее стараются ему повредить.
— Милая графиня, — прервала королева, — поговорим о чем ином, прошу тебя; я занята моими детьми, молитвой, искусством и не вмешиваюсь ни в интриги, ни в дела придворные, даже о них не хочу слышать.
Еще раз графиня хотела заговорить о том же, но королева холодно заговорила:
— Я ни о чем не знаю. Король никогда не спрашивает моих советов, и я не вмешиваюсь в его дела.
Королева переменила разговор и начала о недавно окрещенном еврее, у которого она была кумой, потом о великопостной церковной службе. Графиня встала и с грустью попрощалась с королевой.
Трудно было бы сказать, поверила ли она этому полному неведению королевою придворных интриг, но спокойно уехала домой, потому что привыкла верить своему мужу.
Поздно вечером явился Людовици, но в дурном расположении духа, которое не предсказывало ничего доброго. Он пришел доложить, что в розыске бумаг он нашел непреодолимые преграды: то чиновников не нашел на своих местах, то старались избавиться от него под различными неправдоподобными предлогами, и поэтому ни в каком случае он не может приготовить бумаг к следующему дню.
IX
Такие характеры, как Сулковский, до самой последней минуты не хотят ни знать, ни видеть, что им угрожает опасность. Ничто не отнимало у него уверенности в себе и надежды на будущее, ни холодный прием его жены у королевы, которая обо всем ему рассказала, ни те известия, которые принес Людовици.
Ему казалось, что король был слишком привязан к нему, чтобы мог обойтись без него; к тому же он был уверен, что последний разговор не мог не произвести впечатления; а может быть даже сам не знал, на что рассчитывал, но оставался спокойным. Но графиня находилась в смертельной тревоге, хотя старалась не показывать этого. Скромная и боязливая, она имела понятие о том, что такое двор и придворная жизнь и что такое королевская милость. Она очень хорошо знала, что немилость в Саксонии, особенно если в этом принимают участие неприятели, никогда не кончается одним удалением от двора и изгнанием; за этим следовала под каким-нибудь предлогом конфискация имений, и часто вечное заключение без суда и без всякого основания. Сулковский, попав в немилость, всегда мог оставаться страшным для своих неприятелей, благодаря своим связям при австрийском, французском и прусском дворах; почему же не могло быть совершенно естественным опасение, что он может быть заключен в крепость, ради их личной безопасности?
В такой тревоге графиня провела ночь, скрывая свои слезы и не желая отнимать мужество у мужа.
Граф, напротив, был в отличном расположении духа, рассказывал жене, что он говорил королю и какое впечатление произвел своими словами; он хвалился, что успел порвать сети, расставленные ему неприятелями; что все придет в прежний порядок, и он удалит тех лиц, которые относятся к нему неприязненно, а королеву настолько отстранит, что она будет совсем безопасна.
На другой день, 5 февраля, граф проснулся в обычном часу, оделся, и, по давнишнему обычаю, поехал в замок. Если бы граф был побольше догадлив и поменьше самоуверен, он легко бы заметил, что при его появлении во дворце все придворные многозначительно переглядывались; некоторые поспешно удалялись, а те, которые не могли избежать с ним встречи, были неразговорчивы и холодны.
Сулковский, по обыкновению, прямо направился в комнаты короля, зная, где он находился в это время, но вдруг Левендаль очень вежливо остановил его, говоря, что король занят в своем кабинете важными делами и приказал, без исключения, никого не допускать.
— Да, ведь это не может ко мне относиться, — воскликнул, засмеявшись, Сулковский.
— Не знаю, — отвечал Левендаль, — это можно позднее выяснить, но теперь, извините меня, граф, я должен точно исполнять приказания и не имею права их обсуждать и самовольно отменять.
Не желая унижать себя ссорой, Сулковский в надежде позднее отомстить ему за эту дерзость, свысока поклонившись, повернулся и ушел. Граф решил приехать еще во второй раз в одиннадцатом часу, когда король принимал всех. Сходя с лестницы, он заметил портшез Брюля и это его сильно укололо.
— Однако, терпение, — сказал он сам себе, — немного терпения; это последние усилия этих господ. Потом не посмеют захлопнуть двери перед моим носом. Увидим!..
Из замка он поехал в канцелярию Людовици и нашел его бледным и озабоченным.
— Что же, бумаги приготовлены? — спросил он.
— До сих пор не могу их отыскать. Собираю только те, которые прежде были приготовлены; чиновники относятся ко мне как-то подозрительно, ходят как ошпаренные: все это нам не может предвещать ничего доброго.
— Я все понимаю очень хорошо, — сказал смеясь Сулковский. — Как же ты хочешь, чтобы тот, кто видит свою погибель, не потерял бы голову! Я еще не мог видеться с его величеством; мне донесли, что он занят делами. Должно быть происходит генеральное совещание о том, что сделать с Сулковским, который нарушил все их порядки.
Он продолжал смеяться, а Людовици вздохнул, но графа не вывел из заблуждения. Потом Сулковскому пришло на мысль не поехать ли к Брюлю? По настоящему, министр должен был навестить Сулковского; это уклонение от встречи также можно было объяснить объявлением войны.
— У него совесть нечиста, — подумал про себя граф, — не желает мне показаться на глаза, а, может быть, собирает свои узлы, предчувствуя отставку. Это верно, я не позволю ему здесь долго оставаться.
В этот день Людовици был не разговорчив. Погруженный в раздумье, он показывал вид, что не слушает, что ему говорят, прохаживался и кряхтел. Сулковского это просто смешило. Не зная, что теперь делать, он решил, ради шутки, навестить графиню Мошинскую, чтобы узнать как она его примет и насколько будет напугана его приходом.
Итак, он отправился к графине, но здесь его не приняли под тем предлогом, что слишком рано и барыня еще не одета. Граф возвратился домой, где его встретила жена в беспокойстве…
Сулковский подшутил над ее страхом, и сказал, что он сейчас снова пойдет к королю. Она ничего не ответила на это. В одиннадцатом часу Сулковский опять поехал в замок. В приемных народу было много. Фрош и Шторх, которые при короле бывали такие потешные, теперь сидели усталые, вовсе нерасположенные к дурачеству. У Шторха болели колени от вчерашнего падения, а Фрош тоже был пасмурный, как ночь, оставался здесь только по обязанности, между тем, как сердце его и мысли пребывали у домашнего очага.
Едва Сулковский приблизился к дверям королевских покоев, как подбежал паж и сообщил ему, что его величество у королевы. К королеве идти Сулковский не мог и не хотел; там нужно было просить приема, и он мог быть не принят; он прошелся несколько раз в приемной, не зная, что ему предпринять и, наконец, приказал подать свой портшез. Он не хотел тотчас же ехать домой, чтобы не испугать жены своим скорым возвращением. Этот второй отказ заставил графа поразмыслить; он догадался о существовании новой интриги, но все-таки не верил в могущие быть последствия; он решил, что терпением и твердостью пройдет все препятствия; выдержать свое настоящее положение, не выказать нетерпения, и он останется победителем.
Ему нужно было проезжать возле дома Фаустины… Он заехал к ней. Он имел надежду разузнать от нее что-нибудь, зная расположение к ней короля. Уже в передней он услышал громкую болтовню на итальянском языке и хотел удалиться, чтобы не попасть в неподходящее общество, но вдруг дверь отворилась, и Амореволи, Монтичелели, Альбузи, Путтини, Пилай и еще несколько французов с криком и бранью высыпали на порог комнаты. Увидав Сулковского, они все замолчали, низко кланяясь. Их выгоняла Фаустина и теперь показалась сама; она также была удивлена при виде гостя, немного смутилась, но с натянутой улыбкой попросила графа войти.
— Когда же, ваше сиятельство вернулись? — воскликнула она. — Мы ничего не слышали о вашем приезде.
— Потому что я до сих пор остаюсь наполовину инкогнито, — рассмеялся граф. — Но вы представьте, прекрасная синьора, что я со вчерашнего дня не могу достигнуть счастья лицезреть короля! Три раза был в замке и два раза не был принят! Я! — прибавил Сулковский, указывая на себя пальцем. — Я начинаю думать, что мое долговременное отсутствие сделало мне непонятными придворные обычаи, и вот я пришел к вам, с просьбою о разъяснении.
— Граф, вы шутите надо мной, — отвечала серьезно Фаустина, смотря на него с видимым сожалением. — Я со двором знакома только со сцены. На сцене я королева, или богиня, а сойду с подмосток, я делаюсь незаметным существом, которое не знает ни о чем, что делается на свете.
— Однако, — тише начал Сулковский, — скажите вы мне, не слышали ли вы чего-нибудь? Или вся эта гроза скопилась надо мной по старанию вашего приятеля Гуарини?..
— Ничего, ничего не знаю, — кивая отрицательно головой, прервала Фаустина. — С меня довольно одних хлопот о театре. Очень может быть, что против вас составляется заговор, но вы разве можете бояться?
— Конечно, не боюсь, но хотел бы, хоть из любопытства, знать, что там такое?
— Конечно, зависть и соперничество, — произнесла Бордо-ни. — Мы актеры с этим очень знакомы; вещь самая обыкновенная.
— А какое на это может быть лекарство? Фаустина пожала плечами.
— Кто может, должен удалиться, убежать, а кто имеет охоту бороться, должен долго держаться в бою, потому что успокоения нигде и никогда не найдешь.
Сулковский не смел ей напомнить тех предостережений, которые она ему давала несколько месяцев тому назад, но теперь ее слова и обхождение были другие. Фаустина боялась. Видя, что здесь он ничего не узнает, граф, расспросив о музыке, опере, о Гассе, прошелся несколько раз по гостиной и распрощался с Фаустиной. Он поехал прямо домой.
Несмотря на надежду, которая его до сих пор не оставляла, он быль пасмурен и едва сдерживался от раздражения, которое он чувствовал. Возле подъезда своего дома он увидел придворный экипаж. Баронесса Левендаль, дочь гофмейстера, приехала к его жене. Сулковский вошел в залу. На диване сидели две дамы, занятые оживленным разговором. Баронесса Левендаль была живая дамочка, уже не очень молодая, но отлично всегда осведомленная о всех текущих новостях. Когда вошел граф, она вскочила с дивана и подбежала к нему. На ее лице выражалось необычайное смущение.
— Граф, вы мне можете лучше всех все объяснить! — воскликнула она, здороваясь. — При дворе произошли, или готовятся перемены, мы не можем отгадать, в чем дело.
— Но откуда вы вывели подобные заключения? — спросил Сулковский.
— Я это знаю точно, — начала быстро баронесса. — За час перед этим, король послал за старым генералом Бодиссеном, который лежит больной в подагре. Генерал, который едва в состоянии с палкой пройтись по комнате, просил извинения у короля, что не может приехать, но несмотря на это, за ним послали в другой раз, и я собственными глазами видела, что он встал и поехал в замок.
— Не знаю, что там такое произошло, — спокойно отвечал Сулковский, — я был два раза в замке, но так неудачно, что не мог видеться с королем.
Он засмеялся, а баронесса продолжала щебетать.
— Вот уже несколько дней повторяют, что Бодиссен, который несколько раз просил об отставке, наконец, теперь ее получил; в этом нет ничего худого, потому что ему давно пора на покой. Но что гораздо хуже, говорят другие, что мой отец тоже будет удален.
— Не думаю, — сказал Сулковский, — но так как я не был несколько месяцев в Дрездене, то и не знаю никаких новостей.
Баронесса Левендаль посмотрела на него.
— Но ведь легко догадаться, что места нужны для новых любимцев.
— Тише! Тише! — перебила графиня. — Право, я боюсь даже слово произнести…
Граф пожал плечами.
— Напрасные опасения, — сказал он, — скоро все дела примут другой оборот.
При этих словах вошел камердинер и доложил:
— Его сиятельство гофмейстер Левендаль и генерал Бодиссен. Все переглянулись, баронесса побледнела и опустилась на диван.
— Проси! — воскликнул Сулковский, приближаясь к дверям.
В ту же минуту вошли гости, и Левендаль, увидев дочь, посмотрел с удивлением и с упреком, зачем она сюда приехала. Приветствие было натянуто. Граф, не зная, чем объяснить их приезд, принял гостей сдержанно и холодно; он пригласил их сесть, но генерал Бодиссен приблизился к нему и сказал:
— Граф, позвольте говорить без свидетелей; мы приехали с поручением от короля.
Лицо графа ничуть не изменилось, он пригласил гостей пройти в кабинет. Дамы не могли слышать тихого разговора; сидели испуганные и заинтересованные. Графиня была бледна и дрожала, имея предчувствие чего-то недоброго. Баронесса хотела ехать, но графиня умоляла ее остаться.
Между тем, в кабинете происходило следующее.
Бодиссен, старый послушный солдат, с видимым неудовольствием достал из кармана бумагу… Приказ из королевской канцелярии, собственноручно подписанный королем. Молча он подал его Сулковскому, который, пройдя из залы в кабинет, как будто переступил порог другого света, стоял бледный и, видимо, сраженный ударом. Дрожащими руками он взял бумагу, читал ее, но ничего не понимал. Он совсем растерялся.
Левендалю, хотя и жаль было графа, но ему поскорей хотелось удалиться отсюда и, видя, что граф ничего не говорит, и как будто ничего не может понять, стал за ним и начал громко читать. Бумага состояла из нескольких коротких выражений.
"Его Величество король убедился в том, что граф Сулковский уже несколько раз и даже в последнее свидание осмелился забыться в присутствии короля, поэтому Его Величество нашел справедливым — сложить с него все обязанности, которые были на него возложены и отставить его от должности. Однако, принимая во внимание его долголетнюю службу, соизволил ему назначить пенсию, как генералу".
Вероятно, Сулковский ожидал чего-то худшего, судя по той судьбе, которая встретила других; вскоре он совершенно пришел в себя.
— Воля его величества короля, — сказал он, — для меня священна. Хотя я чувствую себя несправедливо обиженным, по всей вероятности по милости моих врагов, но я перенесу с покорностью, что меня постигло. Если я даже позволял себе лишнее в присутствии короля, то, конечно, вследствие моей привязанности к королю, но никак не вследствие неуважения к нему.
Ни Бодиссен, ни Левендаль ничего не отвечали, и несчастный граф, перед которым еще недавно все падали ниц, должен был терпеть первые следствия немилости. Прежняя учтивость забылась. Бодиссен обращался с ним, как с равным, а Левендаль, как с подчиненным. На их лицах заметно было беспокойство и желание как можно скорее удалиться. Оба холодно поклонились. Граф ответил им на поклон и проводил в залу; здесь свысока отдав поклон дамам, они удалились.
Граф, уже совсем оправившись, вежливо проводил их до сеней и вернулся в залу; графиня ничего не могла прочитать на лице мужа, так оно было спокойно; но все-таки этот тайный разговор не мог быть ничего не значащим.
Баронесса все еще не уходила, желая узнать о чем-нибудь, но не смела ничего спрашивать.
Хладнокровно граф подошел к столу и посмотрел на жену; лицо последней выражало беспокойное любопытство.
— Могу тебя поздравить, — сказал он, слегка дрожащим голосом, — мы уже уволены. Его величеству угодно было удалить меня от службы; меня это нисколько не огорчает, а только я жалею короля. Но при теперешних обстоятельствах при дворе трудно оставаться благородному человеку.
Графиня бросилась на диван, обливаясь слезами.
— Дорогая моя, — сказал граф, — умоляю тебя, успокойся. Причина моей отставки как будто бы та, что я позволял себе лишнее в присутствии короля; это означает то, что я говорил неприятную правду; король соизволил мне назначить пенсию, но даровал мне неоцененную свободу. Мы поедем в Вену, — прибавил граф, протягивая руку жене.
Баронесса с удивлением смотрела на графа; она не могла понять того спокойствия, с каким он принял свое падение.
Действительно, гордость не позволяла графу сильно переживать огорчение и показывать его; после первого удара он скоро оправился и принял с достоинством то, что судьба ему предназначила. Очень может быть, что он надеялся на перемену…
Графиня плакала.
Баронесса почувствовала, что она здесь лишняя, потому что утешить не могла, между тем, своим присутствием она мешала им утешать друг друга в горе и молча, пожав руку своей приятельнице, удалилась из комнаты. Графиня упала лицом на диван.
— Дорогая моя, — воскликнул граф, — заклинаю тебя всем, будь мужественна! Нам нельзя показывать, что мы огорчены. Мы должны быть благодарны доброте короля, что я не выслан в Кенигштейн на место Гойма и вместо того, чтобы у нас взять имение, нам назначена пенсия. Изгнание, к которому я присужден, нисколько меня не страшит и не отнимет надежды… уничтожить все то, что произвела ловкая рука моего почтенного и верного приятеля Брюля. Прошу тебя, друг мой, успокойся.
Но слезы высушить было не легко.
Сулковский посмотрел на часы и, подав руку жене, повел в ее комнаты.
X
Величайшее презрение к человеческому роду может возбудить поведение людей, когда человека постигает упадок и унижение. Все тогда от него отворачиваются, переменяются с ним в обращении, между тем, как еще за минуту преклонялись перед ним, когда он был баловнем судьбы.
В этом есть столько подлого, низкого, что сердце при одной мысли невольно вздрагивает; только в таких случаях человек узнает свет и испытывает своих собратий. Кто сам не был в подобном положении, не испытал, что тогда происходит на душе, тот не может понять, какую горечь тогда чувствует человек.
Сулковский, который с детства находился при короле и привык считать его за друга, которому никогда в голову не приходило, что постигло его теперь, с холодною гордостью переносил свою долю; но не мог удержаться от величайшего презрения, которое уже в нем возбудили королевские посланцы.
Скоро граф послал за Людовици. Советник ему всем был обязан и до последней минуты оставался верным, но… опасения за свою судьбу, за место теперь его заставили отказаться прийти, извиняясь служебными занятиями.
— В таком случае придется, — сказал холодно граф, — мне самому идти к нему с визитом, чтобы взять бумаги, если только они уже не в руках Брюля.
В тот же день граф, выбрав послеобеденный час, опять пошел в замок. Это путешествие было настоящим скорбным путем.
В городе около двух часов распространилось известие об упадке Сулковского и, хотя он был виноват против своих подчиненных разве только одним гордым обращением, но ничего злого никому не причинил, а для многих был даже слишком добр, между тем, все считали своею обязанностью показывать, как они радовались его падению.
Граф проходил возле канцелярии Брюля, через окна его заметили писаря и целая их толпа с перьями за ушами, заложив руки в карманы, со смехом, выбежала на улицу, чтобы посмотреть на вчерашнего вельможу, а сегодня уже осужденного преступника. Сулковский видел и слышал, что вокруг него происходило, но имел столь большую власть над собою, что ни разу не оглянувшись, не показав виду, что слышит что-нибудь и замечает, он прошел мимо, тихим шагом, и еще долго доходили до него насмешливые возгласы. На каждом шагу он встречал кого-нибудь из тех, которые еще вчера ему низко кланялись, а сегодня проходили, как будто не замечая его, или же нахально смотрели на него, не снимая шляпы, чтобы показать, что насмехаются над ним. Проезжали мимо экипажи, оттуда с любопытством выглядывали лица и окидывали его взором. А во дворце приход графа произвел едва ли не меньшее впечатление, нежели появление мертвеца; все старались не встречаться с ним, топот, смех всюду его приветствовали. Двери не посмели ему затворить, но даже прислуга не уступала ему дороги; при таких обстоятельствах трудно было спросить или узнать что-нибудь. Сулковский, может быть, поскорее ушел бы отсюда, но он решил еще раз увидеть короля.
Зная, что король любил очень регулярную жизнь, он рассчитывал, что в этот час король, проходя к королеве, будет в гардеробной. Там, по счастью, никого не было; конечно, прислуга могла предупредить короля, но граф на все решился. Довольно долго там стоял один, прячась в углу, тот самый могущественный человек, который еще недавно держал в руках весь двор и короля, размышляя над тем, что ему приготовила судьба; задумавшись, он не слышал, как двери отворились и вошел король в сопровождении камергера; король ничего не видел, а когда вдруг Сулковский бросился ему в ноги, он, испугавшись, хотел убежать. Граф его удержал.
— Ваше величество, — воскликнул он, — не годится, чтобы вы прогнали своего слугу, не выслушав его прежде! С детства я имел счастье усердно исполнять свои обязанности.
На побледневшем лице короля, видно было смущение и тревога. Прерывающимся голосом он воскликнул:
— Сулковский… Я не могу… Я ничего не хочу слышать…
— Прошу и заклинаю Богом, ваше величество! — продолжал граф. — Я ничего не добиваюсь, только одного, чтобы я мог удалиться оправданным, потому что совесть свою чувствую чистою. Припомните, ваше величество, сколько лет я пробыл возле вас, провинился ли я в чем-нибудь, перешел ли когда-нибудь должное уважение! Есть люди, которые хотят меня удалить для того, чтобы бдительный глаз не следил за их делами, они хотят удалить меня за мою верность и преданность. Король мой…
Граф поднял глаза на Августа, последний закрывался руками и нетерпеливо топал ногами, повторяя:
— Я ничего не хочу слушать…
— Но я хочу только оправдаться.
— Довольно, — произнес король, — я постановил расстаться с тобою, это решение неизменно. Будь покоен, ни для тебя, ни для твоих родственников ничего худого не будет сделано; но только уходи, уходи!
Король все это проговорил так быстро и с таким страхом, как будто бы боялся, чтобы кто-нибудь не пришел на эту сцену, или чтобы непрошеные слезы не смягчили его сердце.
— Ваше величество! — с отчаянием воскликнул граф. — Я ничего не прошу, но позвольте мне поблагодарить вас в последний раз за все ваши благодеяния; прошу о последней милости, позвольте мне в последний раз поцеловать ту руку, которой я столько обязан.
Король чуть не плакал, но за ним стоял камергер, свидетель и вместе шпион; Август протянул дрожащую руку, которую граф схватил, покрывая ее поцелуями.
— Король мой! И эта рука теперь меня, невинного, отталкивает! Повторяю, я ни в чем не повинен, разве только излишней привязанностью к моему королю я грешен!
Беспокойство и страх короля увеличивались.
— Довольно, — крикнул он, — я не хочу вас слушать, не хочу и приказываю вам удалиться!
Сулковский замолк, поклонился и отошел. Август прошел мимо него и быстро скрылся за дверями, ведущими в комнаты королевы. Графу нужно было собраться с мыслями и с силами. Он оперся возле стены и стиснул голову руками; так простоял он некоторое время и хотел уже уйти, как вдруг подошел камергер и грубо объявил ему, чтобы он долее здесь не оставался.
— Его величество повелел мне передать вам, чтоб вы сейчас же удалились из замка и не показывались никогда больше при дворе. Воля его величества, чтобы вы поселились в Убегау.
Сулковский гордо взглянул на него и, ничего не отвечая, вышел. Все в нем кипело, однако, он умел себя сдержать; последнее напрасное усилие было сделано, последняя капля была выпита без содрогания. В его сердце отозвалось желание мести, но и это сумел он в себе подавить; он знал, что его неприятели и этим сумеют воспользоваться. Граф вернулся домой, чтобы успокоить больную жену и уверить ее, что нечего опасаться.
Изгнание в Убегау, недалеко от Дрездена, позволяло иметь надежду встретиться и объясниться с королем; поэтому Сулковский хотел туда тотчас же переселиться, но графиня об этом и слышать не хотела.
— Брюль этим не ограничится. Мы попадем в его руки. Он найдет опять какой-нибудь предлог преследовать нас. Сейчас же уедем из этой проклятой Саксонии, в Польшу, Вену — куда хочешь, лишь бы не оставаться здесь!
В продолжение всего вечера толпа любопытных стояла возле дома Сулковских, заглядывая в окна, желая видеть и насытиться страданиями жертвы. Иногда граф подходил к окну и спрятанный за занавесами смотрел на эту толпу с раздражением и презрением. В продолжение целого вечера никто не показался, никто не пришел навестить; только камердинеру Олизу была вручена бумага об увольнении Сулковского от должностей министра внешних дел и обер-шталмейстера двора.
Эту бумагу граф бросил на стол, ничего не говоря.
В тот же день у Брюля был вечер. Еще гости не съехались, но министр уже находился в зале, готовый к их принятию. Лицо его выдавало большое волнение и беспокойство, причиненное, вероятно, тяжкою борьбою. Он бросился в кресло. В эту минуту из противоположных дверей вошла его жена. Он не заметил ее прихода, так был погружен в свои мысли; Франя насмешливо глядела на него. Наконец, он, заметив ее, встал.
— Должно поздравить вас, — заговорила она, — вы теперь король Саксонии и Польши; Геннике — наместник; Лос, Штаммер и Глобиг вице-короли! Не правда ли?
— А вы — королева! — засмеявшись сказал Брюль.
— Да, да! — отвечала Франя, тоже улыбаясь. — Я начинаю привыкать к своему положению и нахожу его довольно сносным.
И она пожала плечами.
— Лишь бы только все это дольше продолжалось, нежели царствование Сулковского. Да, я забыла, — смеясь прошептала она, — что ваш трон поддерживают женщины: королева, вторая королева — я, Мошинская и Штернберг — это что-нибудь да значит; не считая Альбуци, которая полагается сверх счета.
— Но вы сами виноваты, что я должен искать посторонней помощи и сердца вне дома.
— А, сердца, сердца! — прервала Франя. — Но ни вы, ни я не имеем права говорить о сердце. У нас есть фантазия, но не сердце, у нас есть рассудок, но не чувство. Да так и лучше!
И она отвернулась.
— Одно слово, — произнес Брюль, подходя к ней, — позвольте шепнуть одно слово; потом придут гости, и я не буду иметь счастья разговаривать с вами.
— Ну, говорите.
Брюль приблизился почти к самому ее уху и сказал:
— Вы себя компрометируете!
— Каким образом?
— Эта молодежь из моей канцелярии…
Франя покраснела и сделала гневную гримаску.
— У меня есть свои фантазии, — произнесла она, — и никто мне их запретить не смеет! Прошу в это не вмешиваться, как я не вмешиваюсь в ваши дела. Очень прошу!
— Но позвольте!..
Но при этих словах, которыми, по всей вероятности, началась бы супружеская ссора, вошла сияющая графиня Мошинская. Она подошла к Фране и, подавая ей руку, воскликнула громко:
— Так значит победа! На всем фронте! В целом городе ни о чем больше не говорят, как об этом; все удивлены, дрожат…
— И радуются, — прибавил Брюль.
— Ну, этого не знаю, — прервала Мошинская, — с меня и того довольно, что мы радуемся упадку этого проконсула. Наконец-то мы en famille, и нам не нужно кланяться этому важному господину.
— Но что же слышно? Что он думает? — спросил министр.
— Ежели вы его знаете хорошо, — воскликнула Мошинская, — то должны догадаться! Конечно, уедет в Убегау, где будет сидеть, потрясая головой по-прежнему, и стараться увидеться с королем, интриговать, чтобы вернуться к прежнему положению.
Брюль засмеялся.
— Да, все это может быть, но, любезная графиня… от Убегау недалеко до Дрездена, но так же близко к Кенингштейну… Сомневаюсь… сомневаюсь…
В эту минуту вошла графиня Штернберг, жена австрийского посла, женщина красивая, черноокая, аристократического вида, которая слыла также любовницей Брюля; почти не здороваясь ни с кем, она вмешалась в разговор:
— Я держу пари, что он поедет в Вену.
Брюль сморщился. Две дамы начали тихо разговаривать между собою, а Мошинская отвела Брюля в сторону.
— Вы сделали ошибку, — сказала она. — Никогда нельзя дело устраивать наполовину; он начнет мстить, нужно было его запереть…
— В первое время король никогда на это не согласится, — сказал Брюль. — Требуя много, можно было довести до открытого бунта, а тогда Сулковский свернул бы всем головы. Это во-первых; во-вторых, я знаю графа и поэтому не боюсь его, он неспособный человек и никогда не в состоянии составить заговора. Прежде чем он выедет из Убегау, я буду иметь доказательство присвоения им двух миллионов талеров, а тогда Кенигштейн может быть вполне заслуженным.
— Брюль, — воскликнула, захохотав, Мошинская, — два миллиона талеров!.. А вы?..
— У меня нет ни гроша! — отвечал Брюль. — Я разоряюсь на роскошную обстановку, чтобы оказать тем честь моему королю, я весь в долгах…
Он начал говорить на ухо графине.
— Не думайте, графиня, я не настолько ограничен, чтобы выпустить из рук врага, не погубив его окончательно, но я вынужден разложить совершение этого дела на два срока. В Убегау, где он должен жить и откуда не так легко убежать, я его могу во всякое время захватить; между тем я соберу нужные доказательства, а король через несколько недель согласится на все.
Он странно засмеялся.
В это время вошел гофмейстер Левендаль, и министр вынужден был оставить графиню; она присоединилась к дамам. Брюль с Левендалем удалились в сторону.
— Ну, как же он принял известие? — воскликнул Брюль.
— Сначала он был сильно поражен, но сейчас же пришел в себя и все время был тверд и мужествен.
— Однако, — прошептал Брюль, — мне рассказывал камергер Фризен, что он виделся с королем в гардеробной и ползал у его ног.
— Может быть, — произнес Левендаль, — но…
Он не успел докончить, потому что камердинер сделал знак министру, так что он должен был оставить гостя, чтобы узнать, что могло случиться. Не без беспокойства он проходил залу; он все опасался, что, несмотря на бдительную стражу при короле, прежний фаворит мог или письмо подбросить, или же сам прокрасться к королю. Он знал о короткой дружбе графа с Фоглером, и хотя последний редко бывал при дворе, но как духовный во всякое время мог иметь свидание с королем. В кабинете ждал Геннике, бесцеремонно развалившись в кресле. Правда, он привстал при входе министра; но видно было, что он бесцеремонно обходился с Брюлем и полагал, что он нужнее министру, нежели министр ему.
— Зачем ты меня вызвал? — с упреком начал министр. — Люди могут подумать, что опять случилось что-нибудь?
— А пусть себе думают, что хотят, — нетерпеливо ответил Геннике. — Вы себе только развлекаетесь, а я должен работать. Я не могу угождать фантазиям вашего сиятельства.
— Что ты, с ума сошел?
— Я? — спросил Геннике, засмеявшись. — Ну, ну, оставим это, ваше сиятельство; вас могут другие считать великим человеком, но я… — он махнул рукой. — Что бы вы могли значить без Геннике?
— А ты без меня? — воскликнул немного разгневанный Брюль.
— Но ведь я играю роль вилки, которой каждый министр вынужден есть.
Брюль смягчился.
— Ну, что там такое? Что такое? Говори!
— Вы бы меня должны благодарить, а вы ворчите, ваше сиятельство. Это правда, что Геннике был лакеем, но именно потому-то и не любит воспоминаний о прошлом.
Говоря это, он развертывал бумаги.
— Вот что я принес. Напоив Людовици, я уверил его, что мы сделаем его тайным советником департамента, и могу уверить, что уж таким тайным будет, что никто в свете не узнает про то, ха, ха!.. У меня уже имеются указания; есть суммы, взятые из акциза, есть квитанции и солдатские недоимки. Найдется подобного много! Из каких бы доходов он покупал имения! Ведь после короля Лещинского он их приобрел.
— Нужно, чтобы доказательства были, — сказал Брюль.
— Черное на белом, — ответил Геннике.
— Но когда они могут быть готовы?
— Через несколько дней.
— Слишком спешить нет надобности, — сказал Брюль. — Пусть король оправится после первого удара. Фаустина запоет; Гуарини пошутит, немножко еще вдобавок употребим пороху. Сцена в коридоре забудется, и вот тогда можно приступить к второму действию. Главное дело в том, чтобы все оставалось в тайне, чтобы он не мог возыметь никакого подозрения и не убежал…
Геннике внимательно наблюдал за своим начальником и прибавил:
— Нужно здесь и в Убегау к нему приставить тайную стражу. Вероятно, он теперь отправит некоторых из своих лакеев, а на это место нужно ему доставить прислугу из наших рук, которая будет нам доносить.
— Это хорошо, — произнес Брюль.
— Надеюсь, хорошо, потому я никогда дурного не придумаю, — прибавил Геннике.
— Но если он удалится в Вену, Пруссию и даже в Польшу, — сказал задумчиво Брюль, — это для нас будет невыгодная штука.
— Да, и опасная, — начал Геннике, поправляя парик, — хотя у него тупая голова, но никаким врагом пренебрегать нельзя.
— Ну так дело решенное, — прошептал Брюль, — вы собираете доказательства виновности. Так как я получаю наследство, то мне не годится явно действовать против своего товарища; я перед королем всегда его защищаю и прошу за него. А эти бумаги, найденные как бы случайно, доставит граф Вакербарт-Сальмур, это дело решенное.
Он хотел уже уйти.
— Слушай, Геннике, — сказал он тихо, — тебе удаляться нельзя, но можно Глобига послать. Конечно, такого гостя, как Сулковский, засадить нельза в дрянную каморку, в особенности потому, что, по всей вероятности, там ему придется надолго поселиться. Понимаешь, пусть Глобиг поедет кататься, дорога санная, а теперь заговенье и вот… навестит коменданта и пусть осмотрит несколько чистых комнаток для графа; все-таки нельзя, чтобы ему слишком дурно было. Там теперь довольно пустого помещения и не говоря никому ни слова, ни для кого, ни за чем, пусть приберут.
Геннике засмеялся.
— Ваше сиятельство, ведь вы не должны забывать, что и мне следует подарок за такого крупного зверя.
— Но тогда, когда его посадят в клетку, — отвечал Брюль. — Любезный мой, ты говоришь, чтобы я о тебе не забывал, но мне кажется, что и сам ты отлично помнишь о себе.
— Ах, ваше сиятельство, — огрызнулся Геннике, в то время складывавший бумаги, — оба мы из одного материала и нам нечего друг друга упрекать. Мы отлично понимаем друг друга!
Хотя бывший лакей так грубо обращался с Брюлем, но последний, напротив, заискивал у него, потому, что Геннике был ему нужен.
С прояснившимся лицом министр вернулся в залу, где были уже приготовлены столики для карточной игры.
Мошинская ожидала его.
— Садитесь же, — заговорила она. — В такое позднее время все дела нужно оставить в покое.
XI
В этом году заговенье было веселее, чем когда-либо; все старались развлечь короля; на его челе часто сгущались облака печали и заботы. После обеда он часто скучал, и даже шутки отца Гуарини проходили бесследно. Фаустине было приказано, чтобы она, появляясь на сцене, подходила к королевской ложе и выбирала любимые арии короля. Фрошу и Шторху обещаны были особые награды, если они удвоят свои шутки; каждый день устраивалась стрельба в цель; увеселения в замке отличались разнообразием и богатством костюмов. Брюль почти не выходил из замка и когда король оставался один, то министр стоял у дверей, ожидая приказаний и угадывая мысли. Иногда Август бывал в веселом расположении духа, покашливал и охотно смеялся; но вдруг, среди веселости его чело омрачалось облаком печали — король смотрел в окно и казалось, ничего не слышал и не видел.
Сразу же на другой день Сулковскому было послано распоряжение немедленно удалиться в Убегау, где помещение совсем не было приготовлено, и он вынужден был оставить Дрезден.
Толпа ожидала, когда он будет ехать, чтобы проводить его смехом и шутками; за экипажем графа следовала его любимая собака Фидо; около моста в нее кто-то выстрелил и убил. Все это происходило в городе, среди белого дня и никто на это слова ни сказал: — негодяй торжествовал, а толпа смеялась. Графиня заплакала, но граф ни слова не произнес, даже не взглянул; все он перенес со стоическим терпением, показывая вид, что ничего не замечает. Негодная толпа провожала их с криком далее за мост. Кучер погонял лошадей; но граф даже не дрогнул, устремив взор в даль. Он не страдал, потому что чувствовал себя гораздо выше всех подобных низостей. Геннике и остальные знали обо всем случившемся хорошо, если даже не способствовали этому. Когда они донесли Брюлю, он только усмехнулся…
В городе ходила различные слухи. И как бы то ни было, но новый министр, завладевший большою частью состояния, отнятого у фаворита, чувствовал скорее сожаление, нежели радость, скорее боязнь, нежели надежду на лучшее. Так везде шептали. Брюлю оставалось только одно средство, устроить все так, чтобы и одно неподходящее слово не могло дойти до ушей короля. Сейчас же приступили к перемене сановников, имеющих доступ к королю. Брат Брюля был сделан гофмейстером двора; даже сменены были лакеи и пажи, которых подозревали в сношениях с Сулковским.
Августа старались развлекать, чем только было возможно; он был взят в полную опеку и ему было совсем хорошо, потому что угождение своим прихотям он считал выше всего на свете. В первое время об устранении влияния королевы не могло быть и речи; но в расчетах Брюля первою необходимостью было отделаться от Жозефины; это он подготовлял в глубокой тайне с помощью жены, потому что, пожалуй, Гуарини не Согласился бы на такое радикальное средство.
Брюль чувствовал себя всемогущим, а его подчиненные, так называемые вице-короли, поднимали головы все выше и выше. Однако все они еще опасались Сулковского; его дело еще не было закончено. Геннике усердно собирал доказательства о похищенных и растраченных деньгах. Предполагалось отнять у Сулковского Фюрстембергский дворец, который уже давно был подарен графу, потом перевести из Убегау и заключить в Кенигштейн; последняя мера часто употреблялась во времена Августа Сильного; на этом-то основании Брюль думал, что и теперь привести в исполнение подобный план ничего не значило; между тем, Сулковский на свободе оставался бы вечным опасным врагом; Сулковский с женой в Вене еще страшнее был бы на будущее; опасения Брюля еще более увеличивались тем, что граф не казался унывающим человеком; вся недостающая мебель была перевезена в Убегау, а прекрасное устройство дома и прелестный вид на окрестности делали его жилище привлекательным; из окон Сулковский мог всегда видеть башни того замка, в котором он еще так недавно владычествовал.
Шла масляница, граф и не трогался с места. За его каждым шагом следили; но разузнать ничего нельзя было; из города туда никто не ездил: на Бриснице шпионы напрасно поджидали к Сулковским гостей; они жили в полном уединении, каждый день люди ездили за провизией в Дрезден, но нигде не бывали, кроме рынка для покупок. Преступника ни в чем нельзя было заподозрить. Что происходило в доме Сулковского — никто не знал. По целым дням граф читал книги, разговаривал с женой, писал письма, но каким путем и куда он их отсылал проследить не было возможности.
Однажды утром Брюль явился к королю с бумагами. Более неприятного для короля ничего не могло быть, как вид этих бумаг и разговоры об интригах; сейчас же он нахмуривался и зевал; Брюль старался как можно более сокращать это занятие — бумаги представлялись совсем уже готовыми, оставалось только их подписать, и Август, усевшись у стола, и не бросив ни одного взгляда на предложенную бумагу, подписывал ее всегда одинаковым ровным почерком. И в этот день, король, увидев связку бумаг, уже начал готовиться к этой операции, но Брюль стоял и не выпускал из рук бумаг. Наконец, несколько пытливых взглядов, брошенных на него, заставили его приступить к разговору.
— Ваше величество, — начал он, — я сегодня должен приступить к неприятному делу, хотя я с удовольствием бы желал избавить от него ваше величество.
Король сделал гримасу и поправил парик.
— Я просил других заменить меня в докладе этого дела, — говорил Брюль, вздыхая, — но никто не выручил меня, и я вынужден сам доложить о нем вашему величеству.
— Гм? — отозвался Август.
— Ведь вашему величеству известно, — продолжал дальше министр, — что я не принимал участия в деле Сулковского.
— Это покончено! Довольно! Кончено! — прервал король с нетерпением.
— Не совсем, — произнес Брюль, — но вот это-то именно и плохо. Я рассмотрел все дело, касающееся его; я честный человек и должен войти во все.
Король широко открыл глаза, которые выражали гнев.
— Я нашел в его бумагах письма, корреспонденции, сильно обвиняющие неблагодарного слугу его величества, недочеты, дефицит в кассе…
Король громко кашлянул.
— Но деньги у меня еще есть, Брюль? — живо спросил он.
— Есть, но не столько, сколько должно было быть, — понизив голос, отвечал министр. — Хуже всего то, что письма и сношения с дворами его сильно компрометируют и доказывают, что он опасный человек. Если он поселится в Польше — он, защищенный правами Речи Посполитой, произведет возмущение; если поедет в Вену, то также может быть опасным. Одним словом, где бы он ни был…
Брюль со вниманием наблюдал за королем и старался говорить соответственно с его настроением; хотя он умел по выражению лица Августа хорошо угадывать его расположение духа, но на этот раз ничего не мог себе объяснить. Король в задумчивости слушал и водил глазами по комнате, то бледнел, то краснел, был смущен, но ни одно слово не сорвалось с его губ. Министр замолчал. Август громко кашлянул и вопросительно посмотрел на Брюля; наконец, последний должен был закончить.
— Вы меня знаете, ваше величество, и знаете, что я не люблю прибегать к сильным мерам; я тоже любил этого человека и был его приятелем до тех пор, пока он не провинился перед моим королем. Сегодня, как честный человек, как министр я вынужден нанести удар моему сердцу.
В эту минуту вошел Гуарини. Еще заранее министр и отец Гуарини условились между собою, что иезуит должен войти во время разговора. Король хотел воспользоваться его приходом и переменил разговор, спросив о Фаустине.
— Жива и здорова, — отвечал отец.
А Брюль все-таки стоял с этими несчастными бумагами. Министр ловко вставил свое словцо.
— Ваше величество, позвольте закончить этот неприятный разговор. Ведь отец Гуарини обо всем знает.
— Ах, знает? Это отлично, — и, обернувшись к иезуиту, он продолжал: — Ну, а что он скажет?
Падре пожал плечами.
— Что, ваше величество, вы спрашиваете у меня? — отвечал он, смеясь. — Я монах, духовный, до меня ничего не относится.
Наступило молчание. Август опустил глаза в землю: Брюль испугался, что дело опять затянется.
— Если бы был жив ваш родитель, Август Сильный, то Сулковский давно бы сидел в Кенигштейне.
— Нет, нет! — воскликнул король и сейчас же замолчал, побледнел, взглянув на Брюля, и начал ходить по комнате.
Гуарини, заложив руки, глубоко вздыхал.
— Я никогда не настаивал на суровых наказаниях, — произнес Брюль, — я всегда и всем советую прощение, но здесь видна такая неблагодарность, такое страшное преступление.
Иезуит еще раз поднял глаза к небу и глубоко вздохнул.
Оба следили за каждым движением короля и не знали, что подумать. Никогда Август не был столь загадочным. Зная его, они были уверены, что сумеют поставить на своем, но дело было в том, чтобы не утомлять Августа, потому что в таком случае он всегда бывал долго недоволен.
Брюль посмотрел на Гуарини и показывал взглядами закончить начатое. Падре отвечал министру тем же взглядом, возлагая дело на него. Между тем, Август топтал ковер и думал о чем-то ином.
— Что ваше величество прикажете? — настойчиво спрашивал Брюль.
— Где, как, что такое? — пробормотал король
— С Сулковским…
— А с этим, да, да… — и опять ногами мял ковер. Наконец, как будто с большим усилием, повернувшись к Брюлю и указывая рукою на стол, произнес: — Бумаги эти до завтра.
Министр смутился, он не мог оставить подписание бумаг до следующего дня. Хотя он был уверен, что король не станет их читать, но боялся чего-нибудь неожиданного; он был слишком осторожен и рассчитывал разом покончить дело. Он и Гуарини незаметно переглянулись.
— Ваше величество, — заговорил тихо итальянец, — это такое горькое блюдо, не стоит его разделять на два дня.
Король не отвечал, потом обратился к Брюлю:
— После обеда в замке стрельба в цель.
От подобного сообщения Брюль смутился еще более.
— Последний олень очень долго нас промучил, — прибавил король, — но зато этот рогач стоил труда.
Он замолчал на некоторое время.
— А последний зубр издох, — прибавил он и вздохнул.
Часы показывали время, когда король обыкновенно захаживал к своей жене. Он велел позвать камергера. Брюль чувствовал, что его отпускают ни с чем. Он не знал чему приписать это упорство; Брюль и Гуарини опять поглядывали друг на друга. Король поспешил выйти, они вынуждены были пойти за ним из кабинета. Брюль увел иезуита в прилегающую комнату и бросил бумаги на стол.
— Ничего не понимаю! — произнес он.
— Терпение, терпение, — отвечал Гуарини. — До завтра! Это и не могло так скоро устроиться. Король ничего не сказал, но он свыкнется с этой мыслью, а так как ему невыносима возобновленная атака, то вы скоро поставите на своем.
Министр задумался.
— Но все-таки плохо! — произнес он. — В нем все еще осталась привязанность к Сулковскому.
Они начали тихо говорить и советоваться. После этого Гуарини отправился к королеве, а Брюль с бумагами домой.
Обыкновенно после полудня король в халате, с трубкой в зубах допускал к себе только тех, кто мог его забавлять: даже Брюль, если являлся в это время, также должен был забывать свою должность министра и играть роль шута; но министр являлся очень редко, так как в это время никто не был принимаем в замке, кроме домашних; поэтому опасности не было. Король забавлялся с своими шутами, ему нельзя было принимать никого, не принадлежащего ко двору, и если бы он даже дал приказание явиться постороннему лицу, то служители Брюля, под каким бы то ни было предлогом не исполнили приказания его, до тех пор, пока не получали дозволения от министра.
Со времен Августа Сильного оставался еще Иозеф Фрейлих, славный шут, который носил на спине громадный, камергерский серебряный ключ, который мог вместить в себя кварту вина. Прежде он был фаворитом короля Августа Сильного, теперь же остался как воспоминание о покойном. Брюль ему не доверял и поэтому старался насколько возможно удалять его точно так же, как и барона Шмиделя, но совсем прогнать отцовских служителей от двора Брюль не мог, потому Август на это не согласился бы.
За мостом у Фрейлиха был собственный дом. Там жилось ему хорошо, и он редко показывался в замке; но достаточно было для Августа увидеть его веселую и вместе смешную физиономию, как он помирал от хохота, хотя бы тот не успел еще произнести ни одного слова.
В этот день после обеда Брюля не было дома. У Фроша сделался флюс от пощечины, которую он получил от Шторха как будто шуткой; за что этот был наказан арестом на кухне, так что никому не могло показаться удивительным, когда король послал пажа за Фрейлихом, а так как шутки последнего казались еще смешнее, если перед старым шутом стоял барон Шмидель с меланхолическим выражением лица, то паж спросил, должно ли призвать Шмиделя; король отрицательно покачал головою и повторил:
— Одного Фрейлиха.
Велико было удивление Фрейлиха, когда он узнал, что ему приказано явиться в замок; он поспешил надеть одно из лучших пестрых платьев, которых у него было до трехсот; прицепил свой ключ, и как вихрь помчался пешком по мосту, придумывая чем бы забавлять короля. И у шутов бывают такие минуты в жизни, когда не хочется смеяться и смешить других; именно в таком расположении духа находился теперь Фрейлих: на лице его выражался смех, но в сердце была у него грусть. Он никому не говорил, что настоящее царствование приходится ему не по вкусу; прежние времена казались ему лучшими, хотя, в сущности, и тогда было худо. Долгая привычка смеяться по заказу и на этот раз помогла Фрей-лиху зажечь в себе искру веселости, которая светилась в его глазах и на лице, когда он явился перед королем. Кроме своего остроумия, Фрейлих умел очень ловко показывать фокусы, и на этот раз решил с этого начать.
Преклонив колено перед королем, он объявил, что так спешил к его величеству, что у него пересохло в горле. Он отцепил ключ и осмелился попросить его величество принять во внимание его преклонные лета и позволить ему для подкрепления сил выпить вина. Король позвал пажа и велел принести бутылку вина. Тем временем Фрейлих чистил как бы заржавленный ключ, из которого он должен был пить, и рассказывал, как он высоко ценил этот подарок и между тем, как редко приходится теперь его употреблять. Паж уже стоял с бутылкой, приготовляясь наливать, как вдруг Фрейлих взглянул на дно ключа и с ужасом заметил, что там на дне его что-то есть.
— Кто бы мог подумать? — воскликнул он. — Там птица свила себе гнездо!..
В самом деле из ключа вылетела канарейка. Король смеялся, но на этом не кончилось; в ключе еще что-то было, и Фрейлих большим крючком начал оттуда вытаскивать ленты разных цветов, которых оказалось большая куча. Потом еще множество различных вещей: шесть платков носовых, горсть орехов; но каким образом все это могло там помещаться, было секретом Фрейлиха. Он объявил, что так как он не уверен, нет ли еще чего-нибудь в ключе, может быть там заключается заколдованная принцесса, то не лучше ли для безопасности пить из обыкновенной рюмки. По окончании церемонии паж удалился, а Фрейлих начал смешить короля, передразнивая актеров на сцене; это продолжалось около получаса; король вынужден был смеяться, но проницательный Фрейлих заметил беспокойство короля и его рассеянность. Он не знал, чему это приписать, но вдруг в большом удивлении он увидел, что король встал с своего места и направился к окну, подальше от дверей и делал ему знаки приблизиться. В этом было что-то таинственное и страшное, так что Фрейлих почти испугался, но однако поспешил подойти к окну. Король стоял тоже как будто испуганный и в нерешительности поглядывал кругом. Напрасно шут напрягал все свои мысли к разрешению этой загадки.
— Послушай, Фрейлих, — произнес король, едва слышным голосом, — смейся громко, но слушай, что я тебе скажу…. понимаешь…
Шут пока еще ничего не понимал, но так громко начал хохотать, что мог своим смехом заглушить самый громкий разговор… Король взял его за ухо и приблизил почти к своим губам.
— Почтенный, верный Фрейлих, ты не изменишь мне. Сегодня тайно отправляйся в Убегау, понимаешь? Скажи ему, — понимаешь? — Пусть сейчас же бежит в Польшу!
Фрейлих сразу не мог понять, неужели король хотел употребить его как тайного посла? А Сулковский ему не приходил и в голову. Он руками и выражением лица сделал знак вопроса. Король еще ближе нагнулся к нему и произнес лишь одно слово:
— Сулковский.
Он вздрогнул, назвав это имя, и отскочил на несколько шагов.
У Фрейлиха смех замер на устах. Он боялся, что может быть не так понял; вероятно, его лицо ясно выражало недоумение, потому что король опять велел ему смеяться и еще раз внятно повторил приказание. Он говорил отрывисто, коротко, без связи; но, однако, шут понял, что король его посылает предупредить графа об угрожавшей опасности, и что он должен бежать в Польшу. Для того, чтобы не возбудить никакого подозрения, Август еще слушал шута, а потом, вынув из кармана горсть дукатов, всыпал их в куртку шута.
— Ступай домой! — сказал он.
Фрейлих, поцеловав руку короля, тотчас ушел. В передней похвастался полученными деньгами и, не останавливаясь, помчался домой.
Все происшедшее никак не могло перевариться у него в голове. Ему нужно было некоторое время, чтобы опомниться и обдумать поручение короля, который боялся всех окружающих и должен был выбрать шута своим поверенным. Он задумался и вздохнул…
Задача была не легкая. Хотя он мало был знаком с придворной жизнью и судьбою фаворитов, но легко мог сообразить, что в Убегау и даже в самом замке было много шпионов. Фрейлиха все знали, но он умел хорошо переодеваться; не тратя времени, он заперся в своей комнате и приступил к выбору платья и парика.
Это было в начале февраля, Эльба, начиная от Чехии, замерзла, и лед был толстый, как стена. Поэтому Фрейлих решил, что к замку удобнее и безопаснее можно подойти со стороны реки. Было слишком поздно, так что идти пешком за город могло показаться подозрительным, но в Брестницу легко можно было нанять саночки; обещав хорошее вознаграждение, он пустился в дорогу. В загородной гостинице толпилось множество народу, так как в это время была масляница. Здесь собралось, в сущности, скверное, но веселое общество. Приказав извозчику ждать, старик вышел другими дверями к Эльбе. Он чувствовал, что только разве счастливая случайность позволит ему благополучно совершить опасное предприятие. К тому же мысль, что он исполняет поручение короля, придавала ему мужества. Он долго колебался, но, наконец, вбежал через отворенную калитку прямо в сени. Там было пусто и темно.
У Сулковского даже в счастливые времена не было людного двора, а теперь он был еще меньше. Лестница не была освещена и, взойдя на нее, Фрейлих услышал в передней шум и разговор прислуги, играющей в карты. При виде странно одетого незнакомца, явившегося в таков поздний час, все, перепуганные, вскочили со своих мест, но Фрейлих объявил, что он должен как можно скорее увидеться с графом. Сначала его обыскали, нет ли у него в кармане какого-нибудь оружия, а потом доложили графу.
В замке произошла суматоха; в парике, обвязанный платком, Фрейлих был неузнаваем. Его провели в залу и тогда подали свечи. Сулковский был не одет, бледный, но спокойный и такой гордый, как будто он оставался министром. Гость просил удалить лакея. Все это возбуждало тревогу и подозрение, но граф не показывал своих опасений. Когда они остались вдвоем, Фрейлих открыл лицо.
— За два часа перед этим, — сказал он, — меня потребовали к королю. Повторяю вам его собственные слова: "Сегодня отправься в Убегау, скажи ему: пусть сейчас отправится в Польшу".
Сулковский слушал недоверчиво.
— Король это тебе сказал?
— Да, король, боясь, чтобы его кто-нибудь не подслушал, как будто бы он не был королем, а невольником.
— Да, он невольник и всегда им останется, — произнес, вздыхая граф, и задумался.
— Да вознаградит тебя Господь! — произнес он. — Ты подвергался опасности ради меня, впрочем, скорее ради короля. Но чем я могу тебя отблагодарить?
— Тем, что граф в эту ночь исполнит волю короля. Он поклонился и вышел.
Граф стоял в размышлении, как прикованный. Уже Фрейлих вышел и бежал к своим саням, а Сулковский все еще стоял возле стола, не зная, что делать. Он слишком знал Брюля, чтобы не воспользоваться советом.
На другой день Август возвращался с ранней обедни; его встретил Гуарини, осведомляясь о здоровьи его величества. Но цветущий вид короля лучше всего свидетельствовал о его здоровьи. Он наследовал от отца силу и здоровое телосложение. Кроме того, жизнь, которую он вел, еще более поддерживала его здоровье. Гуарини с другими придворными проводил его величество в кабинет. Король несколько раз взглянул на патера, как будто хотел что-нибудь прочитать на его лице, наконец, проговорил лаконически:
— Мороз…
— Больше всех я, как итальянец, это чувствую, но несмотря на то, что так холодно, — прибавил он тише, — есть люди, которые не боятся далекого путешествия. Тот граф, имени которого я не хочу произносить, потому что он имел несчастье попасть в немилость… в эту ночь выехал. Куда, неизвестно.
Король молчал, как будто ничего не слыша. В кабинете ждал его с бумагами Брюль; он был смущен и задумчив; Август быстро подошел к нему.
— Брюль, эти бумаги, которые ты вчера приносил, нужно поскорее подписать.
— Все уже кончено! — произнес, вздыхая министр.
— Гм? Что такое? — спросил король, прикидываясь удивленным.
— Преступника уже нет, ваше величество: он сегодня убежал в Польшу.
Король ударил рукой об стол и казалось был поражен.
— Я знаю, что мне изменили, — прибавил министр. — При дворе, должно быть, существуют еще его сторонники и приятели, но рано или поздно все будет открыто.
Вместо ответа Август взял со стола огромную фарфоровую табакерку, отворил ее и предложил министру, ничего не говоря. Брюль, наклонившись, дотронулся пальцами до табакерки.
— Охотиться будем около Таубенсгейма, — произнес король, — пусть приготовят экипажи.
XII
Брюль остался победителем, но, однако, не имел удовольствия навсегда избавиться от неприятеля; многие годы он должен был опасаться мести Сулковского. Граф большей частью проживал в Вене; там он получил княжеский титул; после смерти короля Лещинского он получил имение в Польше. Кроме того, в Шлезвиге он также имел значительные поместья: но ни разу граф не старался напомнить о себе Августу; между тем, Брюль окружил короля заботливой опекою.
Наш рассказ относится к началу деятельности Брюля, который до самой смерти Августа III управлял Саксонией и Польшей; он успел переделать себя в польского дворянина; по его собственным словам, счастье служило ему до последней минуты. Брюль, личность историческая и вместе с тем служит характерным типом своей эпохи; в Брюле мы видим, как в зеркале, весь век Августа III.
Ничего не прибавляя мы могли бы окончить наш рассказ, но до нас дошла интересная сцена, которая может служить эпилогом к нашему рассказу.
В 1756 году, во время войны с Пруссией, поздней осенью, Брюль во главе своей армии, оставляя все в руках неприятеля, вместе с Августом должен был уходить в Польшу; по случаю дурной погоды и недостатка лошадей, весь обоз, войско и экипажи разбились на несколько отрядов; король ехал в переднем, его министр случайно попал в задний отряд, так что Брюль страшно боялся попасть в руки короля прусского, который его ненавидел; поэтому он непременно хотел догнать короля и остальную дорогу ехать с ним; при Августе он мог чувствовать себя в большей безопасности. Но как нарочно его везде преследовала неудача: лошади падали, ломались колеса, так что ехать быстрее не было никакой возможности; осенние дожди испортили дороги, так что требовалось вдвое больше лошадей против обыкновенного. Брюль, волей-неволей, должен был подчиниться своей судьбе. Он ехал под впечатлением тех неудач, которые его постигли. Потерпев ничем не вознаградимые миллионные потери, он вынужден был вместе с Августом скрыться в Польшу, в которой нельзя было пользоваться такой неограниченной властью, как в Саксонии. Ловкость Брюля и здесь могла найти средства против всяческих неудач, но дело шло не так легко. Неудивительно, что прежний баловень судьбы в настоящую минуту казался пасмурен, немного перепуган и рассеян. В короткое время он быстро постарел, иногда он был до такой степени рассеян, что не мог понять, что ему говорят.
Наступил вечер; дождь лил, как из ведра, лошади едва тащились. В сером тумане показалось издали маленькое местечко, с церковной колокольней. Брюль надеялся там найти короля, но возле почты он узнал, что Август ночевал в трех милях отсюда. Лошадей невозможно было достать, а люди уговаривали, чтобы в местечке остановиться ночевать. Брюль хотел послать за лошадьми, обещая щедрое вознаграждение, но все было напрасно, никто не ручался привезти до утра лошадей. Пришлось в местечке искать ночлега, где была всего одна гостиница. Вся многочисленная прислуга министра, имевшего тогда уже графский титул, разбежалась искать подходящего помещения.
В гостинице "Лошадь" все было занято. В ней поместился какой-то польский вельможа со своим двором.
Министру казалось, что достаточно одного его имени, чтобы ему уступили помещение, тем более, что польские вельможи почтительно относились к сейму, где Брюль всем распоряжался, и за вежливость мог пожаловать староство. Камердинер его превосходительства вбежал в гостиницу; там он увидел обширную свиту и какого-то знатного вельможу, которого величали князем. Не спрашивая о фамилии, камердинер обратился, как ему казалось, с просьбой, но скорее с повелением уступить часть помещения для его превосходительства.
Услышав имя, польский вельможа как-то сморщился и, нахмурившись, отвечал немцу очень чисто по-немецки и даже с саксонским акцентом, что он не желает уступить занятой гостиницы, но готов разделить ночлег с господином министром.
Между тем, дождь бил в окно кареты, так что внутри все было замочено. Камердинер вернулся с ответом, но Брюль, не останавливаясь перед тем, что придется на ночлеге приобрести новое знакомство, велел ехать в гостиницу. Он надеялся, что там его встретят, но он ошибся, никто не вышел навстречу. Брюль имел обыкновение удваивать свою вежливость и предупредительность в том случае, если с ним обходились грубо; он непременно решился пристыдить своей добротой гордого человека — поляка. Камердинер отворил дверь, министр вошел в обширную комнату; там в камине был разложен огонь, на столе горела свеча. Он искал глазами того князя. Но в нескольких шагах от него стоял Сулковский, вовсе не смущенный этой неожиданной встречей, но более гордый, чем когда-либо.
Князь стоял молча, поглядывая свысока на своего врага, даже не приветствуя его поклоном и только равнодушно присматриваясь к нему.
В первую минуту Брюль страшно побледнел и, пораженный, хотел уходить назад: ему казалось, что он попал в какую-то западню. Несмотря на всю силу характера, его лицо так изменилось от этой неожиданности, что Сулковский не мог удержаться от смеха.
Должно быть, в эту минуту князь вспомнил и отца Гуарини и его поговорки, и этот язык, часто употребляемый при дворе: первые его слова были по-итальянски:
— Гора с горой не сходится!..
Брюль стоял в недоумении, видно было, что ему здесь не хотелось оставаться.
— Вы, вероятно, слышали басню, — произнес Сулковский, — о буре, которая загнала волка и овцу в одну пещеру… Что-то вроде этого случилось и с нами. В такую грязь и слякоть не годится даже врагу отказать в убежище.
Брюль молчал и отступал к дверям.
— Будьте уверены, граф, что я не буду злоупотреблять своим положением, и не стану вас терзать, — прибавил Сулковский. — Для меня наша встреча, действительно, забавна, да еще в такую пору, когда после 14 лет судьба отомстила за меня.
— Князь, — прервал Брюль, как можно вежливее.
— Граф, — отвечал Сулковский, — если бы от вас это зависело, то вместо княжеского титула теперь у меня была бы удобная квартира в Кенигштейне.
— Князь, — воскликнул Брюль, — вы мне приписываете такую власть, которой я никогда не имел!.. Прежде всего вы должны приписывать свой упадок своей собственной неосторожности, потом, может быть, справедливому гневу королевы, наконец, воле его величества, которой я был только исполнителем.
— Граф, — сказал Сулковский, — про это следует говорить совершенно иначе, так как история когда-нибудь запишет, что его величество был исполнителем ваших фантазий.
— Князь, вы ошибаетесь…
— Граф, неужели вы меня считаете настолько ограниченным, чтобы я, зная лучше других людей обстоятельства, позволил уговорить себя верить в вашу невинность?
— Я беру Бога в свидетели! — складывая руки, произнес Брюль.
— Это выгоднее всего, — отвечал Сулковский, — потому что такой свидетель не может вмешиваться в наши дела настолько деятельно, чтобы для них сходить на землю. Лучшим свидетельством Божиим может служить судьба, которая теперь постигла нас. Вот, плоды вашей политики; нашествие пруссаков и постыдное бегство короля.
Брюль содрогнулся.
— Но это еще не конец, а начало! Увидим, какие последствия будут. А теперь вы едете в Польшу осчастливить ее, чтобы привести в такое положение, как Саксонию, — говорил Сулковский, смеясь.
— В управлении Саксонией, — отвечал, кашляя Брюль, — мне не приходилось делать никаких нововведений, с меня довольно было идти по следам моего знаменитого предшественника.
У князя глаза заблистали.
— Ваш предшественник иначе хотел устроить будущее Саксонии, — гордо отвечал Сулковский, — доказательством тому служит план, который вы отобрали у меня, для того, чтобы через князя Лихтенштейна передать австрийскому двору.
Брюль вздохнул.
— Я… Я об этом ничего не знаю, — невнятно проговорил он, совершенно смущенный. — Но если кто-нибудь сделал это…
Сулковский, смеясь, начал ходить по комнате, стараясь не приближаться к министру.
— Послушайте, Брюль, — говоря по старому без титула, произнес князь, — по крайней мере, не играйте со мною комедий, это ни к чему не ведет. Точно так же, как передо мной, вам не придется разыграть ее перед историей, которую нет возможности обмануть. Вы заставите молчать литераторов, прикажете писать, говорить, думать, но ваши последние дела не скроете… Никто в свете не в состоянии сделать вас чистым перед историей. Вы перед ней предстанете без маски, как перед судом Божиим. При жизни вам удалось избежать позорного столба, но не избежите его после смерти.
— Вся моя жизнь на виду! — в волнении воскликнул министр. — У меня нет тайн, князь, и я желаю этого суда!
— Желали бы или нет, но вы его не можете избежать; это напрасно; он будет строгим и беспощадным.
— Я покоряюсь ему, — отвечал Брюль, — я ни в чем себя не упрекаю; я вам прощаю, князь. Вы говорите, как соперник, которому не удалось сделать то, что мне само счастье дало в руки.
— Что вы называете счастьем? — спросил, смеясь, Сулковский. — Патер Гуарини, или…
Брюль покраснел; князь пожал плечами.
— Честное слово, граф, я удивляюсь вам… Не говорите, что я мог бы тоже самое сделать на вашем месте! Скромно признаюсь, что я не в состоянии был бы столько зла и обмана привести к исполнению. Я желал славы, величия Саксонии; да, хорошо зная Августа, его благородную натуру, но ленивую и неспособную, я стоял на страже, чтобы помогать ему своей энергией. Всем тем, что имею, я обязан доброте нашего короля, но не обману и лицемерию.
— Князь, — прервал министр, — это уже слишком! Сулковский повернулся к нему, пожимая плечами.
— Ведь мы оба, как римские авгуры, можем смеяться из-за кулис над этой комедией, не скрываясь друг перед другом? Вы можете для других быть невинным Ефраимом… Но для меня вы всегда прежний, хорошо знакомый Брюль, которого я видел незаметным пажом, кланяющегося лакеям…
Лицо Брюля то краснело, то бледнело; видно было, что он то хотел уйти, то оставался, в надежде, что он сумеет объясниться. Брюль всегда был очень ловок в разговорах; всегда он имел наготове софизм или удачную увертку; он знал неповоротливость Сулковского и думал, что все-таки под конец он его победит. Но он ошибся в расчетах. У князя явились и сила и слова. Напрасно министр искал точки опоры, наконец, он проговорил тихо:
— Ваше сиятельство, я думаю, что вы должны относиться с большим уважением к Брюлю, потому что в Польше, где у вас есть поместья, Брюль также кое-что значит.
— Да, но в Польше, господин Брюль, существуют известные права, которые побольше значат, нежели власть министра, или даже чья-нибудь повыше. В Польше скорее меня можно бояться, потому что я недавно из польского дворянина сделался австрийским князем.
— Я имею такое же право на покровительство дворянства, как и ваше сиятельство, — прервал министр.
— Вот забавная штука! — рассмеялся князь. — Неужели есть в целом крае хотя бы один человек, который бы не знал, что из тюрингенского дворянства вы перешли в польское шляхетство? Ваше дворянство, как и другие ваши дела, есть ни что иное, как обман.
— Ваше сиятельство, вам, вероятно, желательно, чтобы я ушел из комнаты, — сказал министр, собираясь уходить.
— Вовсе нет, потому что меня очень потешает эта сцена, — отвечал князь. — Но повторяю вам, не будем играть комедию.
Некоторое время они стояли молча. Только слышно было, как дождь бил в окна, и целые потоки воды с шумом бежали с крыш; именно это и заставляло Брюля оставаться в этой единственной свободной комнате, которую должен был разделять со своим врагом. Министр о чем-то раздумывал.
— Ваше сиятельство, — проговорил он, — будем говорить как старые приятели…
— Фатальное воспоминание! — проворчал Сулковский.
— В доказательство, что я лично ничего не имею против вас, я обещаю примирить вас с королем. Для меня одного тяжело двигать все бремя моих обязанностей.
— Точно так, — прервал Сулковский, — мы могли бы ими с вами поделиться. Пересчитаем их: председатель сейма, великий подкоморий, председатель в акцизе, директор наумбургского и презбургского учреждений, генеральный комиссар балтийских портов, комендант Саксонских войск в Польше, полковник легкой кавалерии и пехоты; капитул мейсенского учреждения, кавалер польского ордена Белого Орла, российского Св. Андрея и даже прусского Черного Орла! Да разве это все? Я не считаю польских староств. Ха, ха, ха! — рассмеялся князь.
— Не шутя, — прервал Брюль, — я утомлен. Поезжайте, князь, в Варшаву, я вас примирю с королем.
— Да! Для того, чтобы завтра же без суда и расправы отправить меня в крепость, — отвечал Сулковский. — Нет, благодарю вас; я предпочитаю оставаться при Венском дворе и оттуда созерцать ваши гениальные дела.
Брюль вздохнул, поднимая глаза к небу. В то время он уже был автором той знаменитой книги о молитве, которая заставляла легковерных людей считать его набожным, а других ханжей.
Он охотно разыгрывал роль невинной жертвы.
— Ах, — воскликнул он, — я несчастнейший человек в мире! Я один должен отвечать за чужую вину, тогда как то добро, которое мне удавалось совершать, обыкновенно приписывалось другим. Никто меня не знает, а все клевещут на меня; даже те, которым я желаю добра, преследуют меня!
— Помилуйте, милейший граф, — произнес, смеясь, Сулковский, — ведь роль Цинцендорфа, которого вы изгнали из страны за его набожность, совсем вам не идет. Вы плохо ее разыгрываете… Моравские братья не примут вас, а такие люди, как я, осмеют… Оставьте это; согрейтесь лучше у камина; бросимте этот разговор.
Сказав это, князь удалился к окошку и, увидев там кресло, уселся в нем, молчаливый и погруженный в раздумье.
Прошло полчаса, а на дворе усиливался ветер и непогода. В камине завывал осенний ветер, издавая дикие звуки, иногда стекла звенели от порывов лютой бури, которая, казалось, удалялась, чтобы возвратиться с новой жестокостью.
Этот странный аккомпанемент разговора двух соперников согласовался с их настроением. Порою открытые двери на постоялом дворе захлопывались с такою силою, что стены дома дрожали. Угасающее уже пламя под влиянием невидимой силы влетало в избу и гнало туда облака дыма, то опять разрастаясь возвращалось в трубу. Самое веселое настроение духа должно было уступить впечатлениям ночи и разыгравшихся стихий.
Брюль иногда вздыхал.
Он повернул голову к Сулковскому, который казался погруженным в полудремоту.
— Князь, позвольте мне сказать вам еще одно слово, не в оправдание мое, а потому, чтобы молчание не осталось на моей совести.
— Что за нежная и впечатлительная совесть! — сказал про себя Сулковский.
— Наш монарх забыл уже оскорбление, его легко было бы умилостивить. Я не желаю быть посредником, потому что не пользуюсь доверием вашим, князь! Но епископ Краковский, или…
— Граф, разве вам еще хочется уверить меня в том, — отвечал Сулковский, — что король когда-нибудь сердился на меня?! Не верьте этому, я знаю все причины, которые четырнадцать лет тому назад были поводом моего падения; у меня есть неопровержимые доказательства, что вы навязали королю причины немилости, что вы работали с усилием, и это вам не легко досталось.
— Я, я? Протестую против этого обвинения! — вскричал Брюль.
— Брюль, — сказал Сулковский, — за кого ты меня считаешь, чтобы я тебя обвинял в собственноручной работе, когда ты мог сделать чужими руками? Ты слишком ловкий артист, чтобы выступить лично там, где можешь загребать жар чужими руками.
— Но, князь, вы были преданы королю, — сказал министр, желая дать другое направление разговору. — Разве вам не было бы желательно опять приблизиться к нему?
— Да, наверное, если бы вы, работая целых четырнадцать лет над этою доброю душою и флегматической натурою, не сделали из нее послушную вам куклу, привыкшую уже к покою, не любящую уже никого, а играющую всеми, — сказал со вздохом Сулковский. — Смотреть теперь на развалины этого человека слишком грустно. Будущее отомстит вам за него.
Оба замолчали. Брюль еще прибавил:
— Мне не в чем упрекать себя. Мне казалось, что само провидение свело нас здесь, чтобы заживить рану и вознаградить за причиненные обиды. Я с своей стороны сделал все, что только можно было придумать, чтобы исполнить волю Провидения и сделал то, что указал перст Божий.
— Бог и Брюль! Странное созвучие! — со смехом сказал Сулковский. — Ты позавидовал славе Цинцендорфа. В странном настроении я встретил ваше сиятельство: между Саксонским лютеранизмом и польским католицизмом. Видно, что эти два ритуала сошлись на рубеже и удвоились; вот причины настоящего благочестия.
Сказав это, Сулковский плюнул, нагнулся к окошку и почти прильнул к нему, желая посмотреть, что делается на дворе.
После этого, не сказав ни слова, надел меховую шапку, и оставив Брюля одного, вышел из избы в сени. Ветер выл беспрестанно, и дождь лил как из ведра. Несмотря на это, князь, не входя в комнату, велел камердинеру запрягать.
Слуга попытался отговорить ей.
— В первую встречную деревню, корчму, хату, лишь бы прочь отсюда! — закричал князь. — Только живо!
Он не вошел уже в избу, в которой остался Брюль, предпочитая темные сени, и когда после продолжительного ожидания, экипаж был подан к крыльцу, он с нетерпением, бросился в него, и на вопрос слуги куда ехать, сказал:
— Куда хочешь, мне все равно.
Сквозь освещенное изнутри окошко постоялого двора видна была чья-то тень, как бы желающая высмотреть, что происходило на дворе. Экипаж Сулковского тронулся и голова в окошке исчезла.
Примечания
1
Маршалок — это управляющий домом и прислугой знатных особ. Этим именем называют также и предводителя дворянства.
(обратно)2
Более раннее издание.
(обратно)3
Лекарство от всех болезней.
(обратно)4
Довольно долго в Польше существовал у знати обычай ездить по городу не в экипажах, но, в так называемых, лектыках, то есть роскошных носилках, которые несли четыре, шесть или восемь носильщиков. Если же выезжали в экипаже, то впереди бежал обыкновенно один или несколько скороходов.
(обратно)5
Август II отличался необыкновенной силой, которая вошла в поговорку. Однажды в дороге у его лошади отвалилась подкова. Остановившись у кузницы, он велел кузнецу сделать новую. Но когда тот принес ее, то Август, взяв в руки, свободно переломил ее, то же случилось со второй и третьей и только четвертую он не мог сломать. Тогда он дал кузнецу талер, но тот, улыбнувшись, переломил его; король дал другой, третий, четвертый, но кузнец продолжал ломать и их, и только тогда остановился, когда Август дал ему сразу несколько.
(обратно)6
По-итальянски: пожалуйте, войдите.
(обратно)7
Вот! вот! (по-итальянски).
(обратно)8
Кто идет тихо, будет здоров… а кто здоров, долго может идти.
(обратно)9
У католиков существует верование, что некоторые молитвы, утвержденные папой, имеют такое значение, что читающий их получает полное отпущение грехов или частное отпущение их. Такой же способностью обладают и некоторые священные вещи, крестики.
(обратно)10
Известно, что Людовик XIV отличался любовью к пышной, роскошной жизни и крайним эгоизмом; любимой его поговоркой было: "Etat c'est moi" (государство, это я). Никогда во Франции не было такой распущенности нравов, как при нем.
(обратно)11
У католиков великий пост начинается со среды.
(обратно)12
Войдите.
(обратно)13
Под словом "новый рынок" — место казней в Дрездене, нужно разуметь вероятно, виселицу.
(обратно)14
Как поживаете? Хорошо ли?
(обратно)15
Ну до свидания, любезнейший, до свидания.
(обратно)16
Не бойтесь.
(обратно)17
Черный рыцарь.
(обратно)18
Я иностранец… прощайте.
(обратно)19
В первый день Великого поста, называемый по-польски Попелец, у католиков во время литургии священник посыпает головы пеплом, в знак смирения и покаяния.
(обратно)20
У католиков в Польше не только каждый город, но даже каждое ремесло имеет своего патрона. Так, например, Святой Петр считается патроном рыбаков, Святой Губерт патроном охоты и т. д.
(обратно)21
Брюль личность действительная, историческая, а не вымышленная. Благодаря своему уму и хитрости, он добился того, что сделался первым министром. Но он имел многих врагов, и в числе их Фридриха Великого, который в насмешку назвал свою лошадь "Брюль".
(обратно)22
Итак, на жизнь и на смерть.
(обратно)23
Да здравствует король.
(обратно)24
Неблагодарный.
(обратно)25
Маленький.
(обратно)26
Король умер.
(обратно)27
На смерть грешника.
(обратно)28
Кто это знает?
(обратно)29
Позорный столб в то время устраивался совершенно иначе, чем теперь. На высоком эшафоте ставили небольшой столб, а на нем ребром доску, так что все вместе имело форму буквы Т. В доске проделывались три отверстия: одно для головы и два по бокам для рук; осужденный стоял так по несколько часов. Чернь ругалась над ним и плевала ему в лицо. Таким образом был наказан знаменитый де Фое, автор "Робинзона Круза", за свободомыслие.
(обратно)
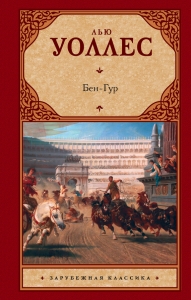



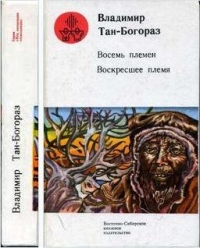
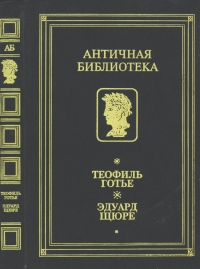
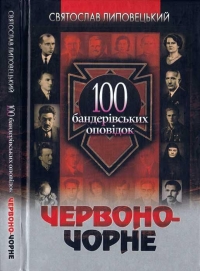
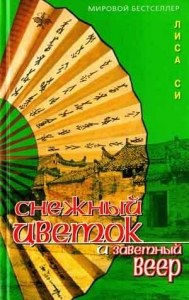

Комментарии к книге «Граф Брюль», Юзеф Игнаций Крашевский
Всего 0 комментариев