Павло Скоропадський СПОГАДИ
Видавничі данні
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Ярослав ПЕЛЕНСЬКИЙ (головний редактор), Лев БІЛАС, Генадій БОРЯК, Кирило ВИСЛОБОКОВ, Костянтин ГЛОМОЗДА. Євген ЗИБЛІКЕВИЧ, Богдан КОВАЛЬ, Олена ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Георгій ПАПАКІН, Христина ПЕЛЕНСЬКА, Віталій ПЕРЕДРІЄНКО, Руслан ПИРІГ, Олександр РУБЛЬОВ, Павло СОХАНЬ
Коментарі: Костянтин Гломозда, Руслан Пиріг, Олександр Рубльов; за участю: Костянтина Бондаренка, Федора Проданюка, Галини Сварішк Текстологічна редакція Віталія Передрієнка Редакція Тамари Санкович Технічна редакція Майї Притикіної Художнє оформлення Георгія Сергеєва Оригінал-макет Ярини Семеніхіної
Східноєвропейський дослідний інститут ім. В'ячеслава Липинського — українська наукова установа у Філадельфії (США), яка займається збереженням, дослідженням та виданням архівних матеріалів і наукових праць з історії, політології, культури України та східноєвропейських країн. Діяльність СЄДІ фінансується благодійними пожертвами української діаспори США і Канада. СЄДІ співфінансує видання цього тому спільно з фондом «Відродження» та Оленою Отт-Скоропадською.
Матеріали тому підготовлені на комп'ютерному обладнанні, наданому Інститутові української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Фондом Катедр Українознавства при Гарвардському Університеті (США). Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ, фінансується за рахунок благодійних пожертв українських громад США та Канади
© Інститут української археографії та джерелознавства
ISBN 5-7702-0845-7
ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995 © Інститут східноєвропейських досліджень НАН України, 1995 © Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського, 1995
Надруковано в Україні
Передмова: Спогади гетьмана Павла Скоропадського (кінець 1917 — грудень 1918)
Майже всі відомі нам спогади про українську визвольну боротьбу 1917–1921 років уже давно опубліковані. Найновішим додатком до надрукованих праць лього жанру, пов'язаних з відповідним періодом історії України, є нещодавно знайдені «Спомини» президента Української Народної Республіки Михайла Грушевськрго (1866–1934), що вийшли друком у Києві в 1989 році[1]. Винятком треба вважати відомі, проте досі повністю не опубліковані «Спогади» гетьмана Павла Скоропадського (16.V.1873. - 26.IV.1945). Це унікальне мемуарне джерело, яке має особливе значення для історії української революції і державного будівництва 1917–1921 років і, зокрема, Другого Гетьманату (29.IV. - 14.XII.1918), вперше друкується тут повністю.
Особливість «Спогадів» Павла Скоропадського полягає в тому, що воли висвітлюють епоху і Діяльність автора з відмінної порівняно з іншими зразками української мемуарної літератури політичної перспективи — з позицій поміркованого консерватизму, культурного і політичного елітаризму та аристократизму. Вони, є цінним документом історії також тому, що на відміну від української мемуарної літератури, яка традиційно розглядала проблему Української революції 1917–1921 років у статичний спосіб, їхній автор підходить до справи зі стратегічної, а, отже, динамічної перспективи професійного військовика-генерала. Написані безпосередньо після подій 1917–1918 років, «Спогади» вражають ясним, відвертим і недвозначним описом розвитку найважливіших аспектів діяльності Павла Скоропадського, насамперед як головнокомандувача 34-го корпусу російської імперської армії (згодом названого після його українізації Першим Українським Корпусом), а опісля як гетьмана України. Скоропадський підкреслює, що він хоче подати власне бачення подій свого часу так, як він сам їх розумів, а оцінка його доби — це справа майбутньої історичної науки: «Можливо, майбутнім історикам революції мої записки пригодяться. Прошу їх повірити, що все записане мною буде правильним, тобто я буду заносити так, як мені бачилось становище на даний час, а чи правильно я думав, чи неправильно — у цьому допоможе розібратися майбутнє»[2]. Якщо йдеться про місце «Спогадів» у європейській мемуарній літературі, то вони нагадують спогади тогочасних голів європейських держав, наприклад, німецького президента Пауля фон Гінденбурга, президента Фінляндії, полкового товариша Скоропадського у російській армії маршала Карла Маннергейма та угорського регента адмірала Міклоша Горті[3].
Археографічний опис «Спогадів»
Оригінальний текст «Спогадів» гетьмана Павла Скоропадського, написаний російською мовою власною рукою гетьмана, має заголовок: «Воспоминания: конец 1917 года по декабрь 1918 года» (хоч автор розглядав справи від лютого 1917 р.). Він зберігається у тій частині еміграційного архіву родини Скоропадських, що міститься у Східноєвропейському дослідному інституті ім. В. Липинського у Філадельфії, США (далі СЄДІ). (Копія рукопису зберігається у бібліотеці Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України у Києві). Рукопис, разом із поправками автора, нараховує 1698 сторінок невеликого формату (19 х 12 см), зброшурованих у 16 зошитів. «Спогади» були початі в Берліні 5 січня 1919 року, тобто через три тижні після падіння Гетьманату (14.ХІІ.1918). Дата 5 січня 1919 року, вказана на титульній сторінці першого зошита як початкова, підтверджується записом від 6 січня 1919 року в неопублікованих «Дневниках» П. Скоропадського (написаних також російською мовою): «З учорашнього дня приступив я до [писання] своїх спогадів. Опишу ціле гетьманство, все, що йому передувало і наслідувало, можливо, [вони] висвітлять період революції[4]. Хронологію складання «Спогадів» можна реконструювати на підставі дат на титульних сторінках деяких зошитів у такому порядку:
Дата Зошит Сторінки 5 січня 1919 І 1 -87 23 січня 1919 II 88 — 138 31 січня 1919 III 139- 190 31 січня 1919 IV 191-238 V 239-316 VI 317-394 VII 395 — 472 VIII 473-534 IX 535 — 686 X 687-838 XI 839-980 XII 981- 1122 XIII 1123–1264 17 квітня 1919 XIV 1265–1423 2 травня 1919 XV 1424–1582 XVI 1583–1698Зошит XVI складається з двох частин: 1) Підсумки «Спогадів» (с. 1583–1640) і 2) Додатки («Приложения»), які насправді є записками до «Приложений» (с. 1641–1698). Написання «Спогадів» було завершене 6 травня 1919 року: «Дневник [тобто «Спогади»] закінчений і переданий Маляревському»[5]. Оригінальний рукопис «Спогадів» Скоропадського був умовно визначений Євгеном Зиблікевичем (колишнім президентом СЄДІ; 1895–1987) і Ярославом Пеленським (теперішнім президентом СЄДІ) як перша редакція «Спогадів» Скоропадського, екземпляр 1. Далі він окреслюватиметься як Спогади Скоропадського, Перша Редакція, Екземпляр 1 (ССПР-1).
Перші дванадцять зошитів рукопису (с. 1-1122) надрукувала на машинці дружина гетьмана Олександра (з дому Дурново) у 1945–1946 рокахб. Вони окреслюються як Перша Редакція Спогадів Скоропадського, екземпляр 2 (ССПР-2).
Крім двох згаданих, в архіві СЄДІ збереглася друга машинописна редакція твору. У своїх «Дневниках» під датою 4 квітня 1919 року Павло Скоропадський зазначив, що «Маляревський знайшов даму, і мої записки [тобто «Спогади»] переписуються»[6]. Повний текст «Спогадів», за винятком «Приложений», був надрукований на машинці, мабуть, згаданою вище дамою (?) на 465 нерегулярно нумерованих сторінках і відредагований автором власноручно між 1920 і початком 1922 року. Цей текст, що був визначений Є. Зиблікевичем і Я. Пеленським як друга авторська редакція «Спогадів» Скоропадського, екземпляр 1, далі позначатиметься аббревіатурою ССДР-1.[7] Мабуть, вона була здійснена, серед іншого, у зв'язку з підготовкою до друку «Уривка зі 'Споминів' Гетьмана Павла Скоропадського», що був опублікований в українському перекладі зі значними текстовими та смисловими купюрами в журналі «Хліборобська Україна» під заголовками «1-й Український Корпус» (IV, 7 і 8 [1922–1923], с. 3–40) і «Від початку 1918-го року до проголошення Гетьманства» (V [1924–1925], с. 31–92)[8]. Ці два фрагменти становлять близько 35 % усього тексту «Спогадів» П. Скоропадського.
З огляду на поганий стан машинопису Другої редакції Спогадів Скоропадського (ССДР-1), її наново передруковано на машинці на 502 сторінках у формі робочої копії за сучасним російським правописом у 1980-х роках. Друга частина XVI зошита «Приложения», яка нараховує 25 сторінок, була надрукована тоді ж. Ця робоча копія окреслюватиметься як Друга редакція Спогадів Скоропадського, екземпляр 2 (ССДР-2).
Друкований у цьому томі текст був скопійований з другої редакції «Спогадів» П. Скоропадського (ССДР-1). Це відповідає волі П. Скоропадського (підтвердженій дочкою гетьмана Оленою Отт-Скоропадською), оскільки автор, відредаговуючи власноручно і авторизуючи другу редакцію своїх «Спогадів», вважав її остаточною. Таким чином, опублікований у цьому томі текст «Спогадів» позначатиметься як Друга редакція Спогадів Скоропадського, екземпляр З (ССДР-3).
Соціально-культурний портрет Павла Скоропадського до Революції 1917 року
Павло Скоропадський був людиною двох культур — української та російської. З українською культурою його пов'язувало родове походження. Як відомо, він був нащадком одного з найвизначніших родів козацької України, до якої ставився з пошаною в сенсі територіального патріотизму (Landespatriotismus), залюбки користуючись поняттями «козаки», «українські козаки». Ряд його предків були високими козацькими старшинами, найвизначніший серед них — гетьман Іван Скоропадський (1646–1722), який обійняв гетманство після полтавської трагедії і намагався рятувати загрожепу українську державність і гуманно допомагати тим, хто підтримував незалежну мазепинську ідею. І хоча члени цього роду політично орієнтувалися на проросійсько-лояльну позицію і робили кар'єри в системі імперії, більшість із них не зреклася української державної гетьманської традиції. Згідно зі свідченням Павла Скоропадського, у їх домі плекалася повага до українства: «постійно співалися українські пісні», «з пошаною ставилися до бандуристів, які співали свої думи», «читалися і обговорювалися книги Костомарова та інших українських письменників», серед гетьманських портретів висів портрет гетьмана Івана Мазепи, до якого «ставилися мовчазно з симпатією»[9].
Одночасно Скоропадський був продуктом російської імперської системи, у якій зробив престижну військову кар'єру. З його поглягу, вирішальними чинниками успіху людини були не культурно-етичні пов'язання, а соціальний статус, кар'єра, зв'язки з імператорським двором. Як генерал та член верховного імперського істебліьх іенту, він відстоював російські військові цілі, до речі, повністю підтримувані іншими державами Антанти, а в пізнішій фазі війни — і СІЛА. Така позиція Скоропадського була зумовлена не симпатіями до поширеної тоді серед вищих військових кіл ідеї панславізму, а лояльністю до царського престолу та імперії. Відданий православному віросповіданшо (хоч не в клерикальному сенсі) і вірний підданий Російської імперії, він одночасно вважав себе патріотом і Росії, і України.
Такий на перший погляд складний портрет П. Скоропадського (з огляду на роздвоєну лояльність, яка, безсумнівно, відіграла роль у подальших політичних рішеннях) спричинився до того, що його особа, та й сам Гетьманат опинилися серед найбільш табуїзованих питань історії України XX століття, оповитих міфами, упередженнями або й відвертими фальсифікаціями.[10] Тому аналіз та оцінка даної теми до сьогоднішнього дня ускладнені антиісторичним ідеологізованим підходом більшості дослідників і публіцистів як в Україні, так і в діаспорі та відсутністю критичної біографії Скоропадського, а також аналітичної монографії про добу Другого Гетьманату і спеціалізованих досліджень різних його аспектів (за винятком взаємин з Центральними державами).[11] У підсумку можна вирізнити лише кілька загальних праць, як-от: офіційна біографія А.Маляревського «П. Скоропадский, Гетман всея Украины» (Київ, 1918); фактографічно-позитивістська робота, написана з прогетьманської перспективи, яку можна вважати своєрідною енциклопедією цього періоду і водночас єдиним посібником з історії Другого Гетьманату, — Д. Дорошенка «Історія України 1917–1923 pp.», том 2: «Українська гетьманська держава І918 року» (Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954); генеалогічне дослідження О. Пріцака «Рід Скоропадських. Історично-генеалогічна студія» (Львів, 1938); аналітичний нарис І.С. Решетаря у його праці «The Ukrainian Revolution, 1917–1920» (Принстон, 1952), с. 143–207[12].
Взаємини з Центральними державами: Німецькою і Австро-Угорською імперіями
Серед головних тем, порушених у «Спогадах», важливе місце припадає українсько-німецьким взаєминам. Це можна пояснити присутністю німців в Україні під час гетьманату Павла Скоропадського, за умов Української Центральної Ради і встановлення 29 квітня 1918 року Української держави у формі Гетьманату. Аж тоді він мав нагоду виробити докладніший, хоч іноді й стереотипний образ знайомих йому німців. Як генерал, на перший план гетьман висував військових, до яких ставився дуже прихильно і діяльність яких в Україні оцінював позитивно, хоча й бачив негативний вплив німецької окупації в цілому. Він, зокрема, вважав маршала Германа фон Айхгорна, генерала Вільгельма Гренера та їхніх підлеглих висококваліфікованими, думаючими і відповідальними політиками, які за тогочасних умов намагалися реалізувати розв'язки, що якнайкраще влаштовували б як Німецьку імперію, так і Україну. Він вважав їх, наприклад, Гренера, демократами[13].
До другої категорії німців він зараховував професійних дипломата, які, на його думку, були в основному компетентними людьми в галузі свого фаху, але пристосовували власну політику до потреб німецького міністерства закордонних справ, кайзера, рейхстагу та, врешті, німецьких соціалістів. Хоч і з певним сарказмом, він характеризує таких дипломатів, як, наприклад, барона Філіпа Альфонса Мумма фон Шварценштайна і графа Ганса фон Берхема, як урівноважених людей[14].
До третьої категорії німців, з його перспективи, належали вчені і журналісти, до яких він ставився з упередженням, окреслюючи їх так: «Що стосується панів учених, то я — мушу зізнатися, — вихований на глибокій повазі до німецької науки, при ближчому знайомстві з цими шановними добродіями дещо в них розчарувався. Мені здавалось, що раз вони вважають себе людьми науки, то можна було б очікувати від них більшої вдумливості і правильної оцінки фактів. Насправді ж нічого подібного — сама лише гонитва за дешевими лаврами, демагогічні прийоми, теоретизування і величезна самозакоханість»[15].
«Спогади» засвідчують, що Скоропадський був політично зорієнтований не на Німеччину (точніше, Центральні держави), а на Антанту — союз Англії, Франції і Росії, який сформувався перед Першою світовою війною (у ході війни до Антанти примкнули Італія, Японія, США та інші держави, а Росія фактично перестала бути її членом з приходом до влади більшовиків у 1917 р). Тому він не вірив у можливість перемоги Німеччини, навіть якби тій вдалося перемогти Росію. Цей факт був досі невідомий дослідникам, оскільки «Спогади» гетьмана були їм недоступні, а коментарі Скоропадського на цю тему в опублікованому «Уривку зі 'Споминів'…» — пропущені. Починаючи з подій липня 1917 року (наступ Корейського) та протягом усієї політичної кар'єри, спершу як головнокомандувача Першого Українського Корпусу, а далі як гетьмана України, Скоропадського переслідували роздуми про результат Першої світової війни. Він раз-по-раз запитує себе: хто буде остаточним переможцем — Центральні держави чи Антанта, рішуче схиляючись до другого варіанту. Наприклад, у розмові в середині квітня 1918 року з російським генералом Абрамом Драгомировим, стосовно його участі у військовій підготовці повалення уряду Центральної Ради, Скоропадський викладає свій погляд на це питання так: «Драгомирову я виклав свою точку зору, але він рішуче не погоджувався зі мною. По-перше, він не визнавав будь-якого українства, по-друге, він вважав, що німці будуть незабаром розбиті і тому можна мати справу тільки з Антантою, яка все відновить, усе врятує. Я доводив йому, що я також не вірю в перемогу німців, але вважаю, що те, що нині діється у нас на Україні, мало чим відрізняється від більшовизму; коли чекати на перемогу Антанти, то промине багато часу, а тут треба негайного порятунку. Він залишився при своєму переконанні, а я при своєму; ми розійшлися, і більше я його не бачив[16].
Інший приклад — запис у «Спогадах» після того, як Скоропадський уже став гетьманом, висловлюючий той самий прогноз щодо завершення Першої світової війни: «Але все-таки я завжди вірив, попри воєнні перемоги німців, що вони не могли бути остаточними переможцями і що рано чи пізно доведеться зустрітися з представниками Антанти. Саме тому з першого дня [Гетьманату] я вирішив робити все можливе для збереження щонайдійовішого нейтралітету»[17].
Процитований абзац зі «Спогадів» також пропущений в опублікованому «Уривку зі 'Споминів'…», натомість підкреслено виділяється запис про те, що німецька армія захищала Україну від зовнішніх і внутрішніх руїнницьких сил за відносно низьку ціну — експорт кількох мільйонів пудів збіжжя в обмін на промислову продукцію. Пропуски в «Уривку зі 'Споминів'…» та розбіжності між відповідними текстами останнього і «Споминів» можна пояснити тим, що коли друкувався «Уривок зі 'Споминів'…» (1922–1924), Скоропадський, як гетьман в екзилі, намагався втримати можливість ділової співпраці з німецькою владою Веймарської республіки.[18]
Міркування про результат Першої світової війни, подібні до згаданих вище, наводяться у «Спогадах» ще раз у зв'язку з роздумами про організацію української армії (останнє було продовженням програми, розпочатої ще за часів Центральної Ради): «Щодо створення армії, то від самого початку справи виглядали дуже погано. Але, намагаючись бути об'єктивним, я все ж не бачу своєї провини там, де, як я чув, багато хто її знаходить. Я визнаю свою провину і провину військового міністерства і всього вищого командування в тому, що ми припускали, ніби німці стоятимуть до пізньої весни [1919 р.] і ми встигнемо сформувати справжню армію, за останнім словом військового мистецтва. Ми не взяли до уваги, що в Німеччині буде революція, яка змінить усе становище. Я передчував, що німці не можуть бути переможцями, що вони можуть бути розбигі. Я гадав, що в такому випадку згідно з інтересом Антанти буде підтримати нас, і це відновить рівновагу до того часу, доки я й сам спроможуся ходити на власних ногах. Ця неправильна думка лягла в основу всіх наших заходів.
Скоропадський мав на увазі німецький програш і тоді, коли їздив з державним візитом у Німеччину до кайзера Вільгельма II у вересні 1918 року, про що в деталях записав до «Спогадів»[19]. під час візиту він обмінявся думками з кайзером, який дав на честь гетьмана як голови Української держави офіційний обід. На бажання німецьких господарів товариш міністра закордонних справ Гетьманату Олександр Палтов запропонував, щоб Скоропадський випив тост за перемогу німецької армії. Гетьман, відмовившись, проголосив тост за німецький народ[20]. У ході розмови з кайзером Скоропадський висловив думку, що російський цар Микола II передчасно зрікся престолу, оскільки його армія ще воювала, а цар може лише тоді зректися, коли всі інші політичні можливості вичерпані. Це зауваження, як підтвердив Скоропадський у «Спогадах», запало в пам'ять Вільгельма II: «Дивно, що ця моя фраза якось врізалася в голову Кайзера, оскільки, як мені переказували в Києві, уже в листопаді [1918 р.] Кайзер протягом кількох днів доводив, що він як Кайзер не має права зректися [престолу] і що на цьому також наполягав Гетьман. Дивні речі діються в житті. Чн міг би я подумати, що колись гратиму роль у житгі німецького Кайзера, я, котрий ніколи не мав жодного відношення не лише до кайзерівської Німеччини, але й взагалі до Німеччини, хіба що проти неї воював»[21].
На підставі засвідченого у «Спогадах» стриманого ставлення Скоропадського до Німеччини можна твердити, що він, усвідомлюючи, що Німеччина програє Першу світову війну і що Антанта (включно з Росією) стане в ній переможцем, вважав альянс Гетьманату з Німеччиною, особливо до падіння кайзерівського Рейху, тимчасовим заходом для збереження Української держави під наступом більшовицької Росії. Така політика виявилась почасти успішною: Гетьманат втримався протягом семи з половиною місяців 1918 року в надзвичайно несприятливих умовах аж до перебрання влади Директорією, що продовжило, своєю чергою, існування Української держави до 1920 року. Можна припускати, що в протилежному випадку німецька воєнщина після повалення Центральної Ради наприкінці квітня 1918 року встановила б в Україні окупаційний режим у формі німецько-австрійського військового губернаторства під керівництвом російських офіцерів і чиновників.
Якщо йдеться про взаємини України з Австро-Угорською імперією під час гетьманату Скоропадського, то вони були напруженими. Це засвідчено як у документах, дотичних української революції, з державного архіву у Відні, опублікованих СЄДІ за редакцією о. Теофіла Горникевича під заголовком «Ereignisse in der Ukraine 1914–1922 deren Bedeutung und historische Hintergrtinde» (y 4 т. — Філадельфія, 1966–1969; зокрема т. 2 і 3), так і в «Спогадах» Скоропадського. Останні, в основному, висвітлюють негативну оцінку політики австрійського імперського уряду і військових кіл щодо України.
Хоч Скоропадський усвідомлював, що Австро-Угорщина була менш впливовим партнером у коаліції Центральних держав, ніж Німеччина, він ставився з підозрою і недовірою до Габсбургської монархії. Як прибічник «великоукраїнської», концепції, що передбачала прилучення до Української держави Криму й Кубані, він був твердим противником австрійської, тобто «малоукраїнської» розв'язки української державної проблеми, що передбачала аннексію деяких українських територій, які до Першої світової війни належали Російській імперії, Австро-Угорщиною з наступним створенням або конфедеративної, або й навіть формально самостійної Української держави — насправді сателіта Гобсбургської монархії. Тому, наприклад, Скоропадського дуже тривожила присутність на політичній арені ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга-Лотрінгена (1895–1948?), сина ерцгерцога Карла Стефана Габсбурга та небожа кайзера Австро-Угорщини Карла 12[22]. Відомий серед українців під іменем Василя Вишиваного, Вільгельм фон Габсбург служив полковником розташованого в Україні у 1918 році легіону Українських Січових Стрільців. Він був австрійським контркандидатом на гетьмана України, а певні українські — галицькі — та австрійські кола, апелюючи до історичної традиції ХІІІ-XIV століть за доби королів Данила і Юрія Галицьких, навіть вважали його бажаним кандидатом на український королівський престол. Скоропадський усвідомлював, що віденський двір та українські греко-католики, ведучи кампанію проти нього, «висували на гетьмана кандидатуру ерцгерцога Вільгельма [фон Габсбурга], молодого чоловіка, який серйозно готується до своєї ролі, оскільки вивчив українську мову, ходив в українській сорочці [вишиванці — тому «Вишиваний»] і своєю поведінкою приваблював на свій бік українців шовіністичного відтінку»[23].
Прихильне ставлення частини еліти і населення Галичини до австрійської (тобто «малоукраїнської») розв'язки української державної проблеми було причиною внутрішньоукраїнських конфліктів, які безсумнівно впливали на критичне, хоч і шанобливе ставлення Скоропадського до галицьких українців, до їхніх поглядів на українську державність та концепцій нації і уніатської церкви, оскільки, як уже згадувалось, гетьман підтримував «великоукраїнську» ідею неподільної України.
Німеччина, зі свого боку, була також негативно настроєна до австрійської орієнтації в українському житті. Це можна підтвердити, наприклад, застереженням німців щодо призначення Дмитра Дорошенка (1882–1951) міністром закордонних справ Гетьманату з огляду на його ймовірне австрофільство і галицькі зв'язків. З точки зору німецької політики, проавстрійськи настроєні українці з територій, що входили до складу Російської імперії, не могли вважатися цілком лояльними партнерами Німеччини.
Що стосується взаємин українських урядів Центральної Ради і Гетьманату з Центральними державами, то Скоропадський у своїх «Спогадах» оцінює їх врівноважено і реалістично. Так, згідно зі «Спогадами», після падіння Тимчасового Правительства в Росії він мав сумніви щодо заходів Центральної Ради укласти сепаратний мир з імперською Німеччиною і поставився несхвально до миру, укладеного між Центральними державами та Україною 9 лютого 1918 року у Брест-Литовську. Оскільки ж така угода стала дійсністю і німецькі та австрійські війська на запрошення Центральної Ради окупували Україну та, прогнавши більшовиків, надали їй військовий захист, гетьман вважав, що український уряд, дотримуючись зобов'язань Брест-Литовської угоди, мусив рекомпенсувати свій борг, постачаючи Німеччині і Австро-Угорщині сировину, продукти тощо. І хоч його оцінка дій і поведінки Центральної Ради була критичною, її можна вважати доречною і справедливою.
Скоропадський сподівався, що його професійніший і впорядкованіший уряд матиме більше шансів по-діловому співпрацювати з німецькими та австрійськими урядовими і військовими колами, захищаючи українське населення від зловживань, які звичайно супроводжують військову окупацію. Проте, як відомо з історії Гетьманату, його сподівання не здійснилися і, як колись Центральна Рада, уряд Скоропадського зіткнувся з негативною реакцією значної частини українського населення, зокрема селянства, на німецьку економічну політику в Україні. Проте, як видно зі «Спогадів», гетьман не приховував ані негативних аспектів взаємин з німецькими властями, ані труднощів, на які наразився у спробах знайти компроміс, що уможливив би Україні пережити німецько-австрійську окупацію[24].
Між федералізмом і незалежністю
Найбільш контроверсійний вчинок Павла Скоропадського, який вплинув негативно на образ гетьмана і Гетьманату і, безсумнівно, спричинився до табуїзованого підходу до питань, пов'язаних з його особою і добою, — це проголошення грамотою від 14 листопада 1918 року федерації з Росією і потреби створення «всеросійської федерації». Що спонукало гетьмана декларувати федерацію з Росією і які були його справжні погляди на статус України, зокрема — на справу української незалежності під час Гетьманату, далі — на початку еміграції 1919 року, коли він писав «Спогади» і, врешті — протягом 25-літнього перебування та діяльності в еміграції (до 1945 року), — це питання, які хвилюють дослідників політичної спадщини гетьмана від часів падіння Гетьманату до сьогоднішнього дня.
«Спогади» Скоропадського засвідчують, що ще й у момент їхнього написання в Берліні гетьман не був перекопаним самостійником, хоча під час окупації України, за його Гетьманату, Німеччина відстоювала концепцію незалежності Української держави, якій, очевидно, призначалася роль сателіта Німецької імперії зі статусом обмеженого суверенітету. Він, наприклад, писав так: «Звичайно, самостійність, якої тоді доводилося суворо дотримуватися через німців, що твердо на цьому наполягали, для мене ніколи не була життєвою, але я думав — та як би воно так і було — німці змінили б свою політику в бік федерації України з Росією»[25]. у березні 1918 року, зважаючи на можливість обійняти владу в Україні, він зазначив: «Мене дещо турбувала думка, що німці стоять за самостійну Україну, що б там не було»[26]. (До речі, процитований абзац пропущено в опублікованому «Уривку зі 'Споминів'…»). Згодом Скоропадський хвилювався, що кайзер Вільгельм II у вересні 1918 року посилався на Україну як на «незалежну» державу[27], або що восени 1918 року німці наполягали на «націоналізації» і більш яскравій «українізації» його урядуй.
Погляди Скоропадського на статус України були підсилені позицією західних союзників, які рішуче противилися незалежності Української держави. Скоропадський зрозумів це уже в січні 1918 року, під час розмови з генералом Жоржем Табуї, французьким комісаром при уряді Української Народної Республіки і шефом французької місії в Україні. Розмова точилася довкола стабілізації ситуації в Україні, яку Скоропадський, розмірковуючи над можливістю встановлення військової диктатури в Україні без повалення Української Центральної Ради, задумував здійснити при французькій підтримці і за допомогою українсько-польсько-чеського військового союзу.[28] Переговори завершилися неуспіхом, оскільки французи, що представляли західних союзників в Україні, поставилися негативно до акту проголошення її незалежності від 22 січня 1918 року, відверто заявляючи Скоропадському, що «Антанта ніколи не визнає незалежності України»[29]. (Ця важлива теза теж пропущена в опублікованому «Уривку зі 'Споминів'…»).[30]
Схожі результати мали й переговори між представником Скоропадського Іваном Коростовцем та представником Антанти в Яссах, які Скоропадський описав так: «У той самий час до мене прийшло кілька осіб, до яких я відчував безумовну довіру… Один з них привіз до мене певну особу, яка займала цілком відповідне становище. Ця особа заявила мені (причому все це було підтверджене багатьма вагомими документами), що Антанта, а особливо Франція, котра виступає головною діяльною державою з-поміж держав Згоди в Україні, рішуче не бажає говорити з українським урядом, доки той стоятиме на точці зору самостійності, і що тільки федеративна Україна може мати успіх у них»[31]. Варто додати, що за інформацією представників Скоропадського, французи в Яссах навіть не прийняли уповноваженого Українського національного союзу, який відстоював концепцію самостійної України.
Опинившись у скрутній ситуації, Скоропадський мав до вибору складну альтернативу. Перше — спробувати очолити національний рух, впливаючи на Український національний союз (який планував 17 листопада 1918 року скликати Український національний конгрес) і досягти угоди з усіма українськими політичними силами, в тому числі й лівими, хоча сам гетьман вважав останні анархістсько-руїнницькими. До такого варіанту він ставився з великою неохотою, оскільки був поінформований, що об'єднані в Українському національному союзі політичні угруповання планували повстання проти нього.
Інший шлях полягав у можливості не допустити до проведення згаданого Національного конгресу, очоливши російський рух в Україні (точніше — кола російського офіцерства), що нараховував близько 15 тисяч чоловік, і проголосивши нову політичну програму, яка б мала на меті федерацію України з Росією.
Як відомо, Скоропадський обрав друге. Таке рішення відповідало його власним переконанням, оскільки він, по-перше, не вірив у перемогу Німеччини, яка підтримувала самостійність України, по-друге — його переконання збігалися з вимогами Антанти (як він сам пише, «ця вимога [федеративна Україна] збігалася з моїми власними поглядами»)[32]. Врешті, по-третє, він вважав даний варіант найбільш реалістичним, оскільки його власна оцінка політичної ситуації підтверджувалася ставленням Антанти до української справи загалом.
Союзники обіцяли Скоропадському, що «уповноважений представник держав Згоди днями прибуде [в Україну], який увійде в переговори тільки за умови ясно вираженого нового курсу українського уряду»[33]. Тоді ж було повідомлено, що Еміль Енно (Неппо), здогадний представник Антанти в Південній Росії, прибуде до Києва реалізувати союзницькі плани. Наступний хід подій показав, що згадані обіцянки обернулися на марне чекання, оскільки виконані не були. Правда, негативна позиція Антанти в українському питанні не вплинула на те, що, виїхавши в еміграцію і оселившись у Берліні, Скоропадський з 1939 року поселив свого сина Данила не в Німеччині, яка на той час була впливовою (хоч і пацистськоіо) державою, а в Англії. Тому не можна вважати Скоропадського за людину виключно німецької орієнтації. Певні його вчинки засвідчують, що впродовж своєї політичної кар'єри і до кінця життя він орієнтувався швидше на західних союзників. Вибір Англії для проживання Данила зумовлювався, серед іншого, і тим, що Англія була монархічною державою, а, як відомо, Скоропадський на еміграції став українським монархістом.
Політика західних союзників, що орієнтувалася на збереження Російської імперії і тим самим заперечувала усамостійнення неросійських народів, зокрема найбільшого серед них — українського, мала фатальні наслідки для всесвітньої історії. Можна твердити, що власне ця політика спричинила перемогу більшовиків у Росії з наступним відновленням імперії в ленінсько-сталінській моделі, яка стала ще жорстокішою, агресивнішою і експансивпішою, ніж її попередниця — царська імперія. Перемога більшовизму значною мірою вплинула і на успіх у Європі фашизму й нацизму, які не лише удавано претендували на роль захисника західної цивілізації, але й організовували свої політичні та поліційпі системи за зразком більшовицької моделі.
Фатальним вчинком належить визнати і проголошення Павлом Скоропадським федерації з Росією. Таку оцінку не можуть пом'якшити аргументи його прихильників-гетьманців, які починаючи від 1945 року намагалися пояснити це як «акт розпуки», бо, мовляв, грамота Скоропадського від 14 листопада 1918 року про «утворення всеросійської федерації» була тільки вимушеним наслідком тодішніх політичних обставин. Хоча цей документ і справді був лише декларацією намірів, його належить розцінювати як трагічну політичну помилку: віддзеркалюючи тогочасний погляд гетьмана на українську справу, він до сьогоднішнього дня затьмарює його ширший внесок в українське державне будівництво.
Незадовго після написання «Спогадів», на початку 1920-х років, Скоропадський змінив свої погляди на питання державної незалежності України під впливом В'ячеслава Липинського, Дмитра Дорошенка та інших націонал-консерваторів, які тоді фактично керували гетьманським рухом і були послідовними речниками незалежності. Натомість, працюючи над другою редакцією «Спогадів» між 1920 і 1922 роками, він не вніс правок до тексту, які б відповідали його новій позиції (правда, він за життя так і не опублікував повністю «Спогадів»).
Федералізм чи співдружність незалежних держав?
У грамоті від 14 листопада 1918 року, яка проголошувала федерацію України з Росією, Скоропадський заявив: «На принципах федеративних повинна бутч відновлена давня могутність і сила всеросійської держави. В цій федерації Україні належить зайняти одне з перших місць, бо від неї пішов порядок і законність в краю [країні] і в її межах перший раз свобідно віджили всі принижені і пригноблені большевицьким деспотизмом громадяни бувшої Росії… їй першій належить виступити у справі утворення всеросійської федерації, якої конечною метою буде відновлення великої Росії. В осягненні цієї мети лежить як запорука добробуту всієї Росії, так і забезпечення економічно-культурного розвитку цілого українського народу на міцних підставах національно-державної самобутності»[34]».
Оскільки Скоропадського критикують за декларацію федеративного з'єднання України з Росією, і особливо за те, що він вчинив це не з примусу, а з власної волі, згідно зі своїми політичними переконаннями, належить встановити, що він розумів під терміном «федерація». У «Спогадах», які рясніють посиланнями на федерацію, є такі слова: «Я не приховую, що хочу лише широко децентралізованої Росії, я хочу, щоб жила Україна і українська національність, я хочу, щоб у цьому тіснішому союзі окремих областей і держав Україна займала достойне місце і щоб усі ці області й держави зливалися як рівні з рівними в одному могутньому організмі, названому Великою Росією. Я не маю сумніву, що як би там не було, але врешті-решт, так і буде»[35].
Як процитований уривок з грамоти проголошення федерації, так і даний фрагмент зі «Спогадів», який можна вважати яскравим прикладом роздвоєної лояльності Скоропадського, показують, що, по-перше, не будучи пі істориком, ні юристом, ні політологом, Скоропадський вживав термін «федерація» довільно, у тогочасному популярному розумінні; по-друге, його концепцію взаємин України з Росією не можна окреслити словом «федерація» в сучасному політологічно-юридичному тлумаченні, оскільки він посилається на Україну як на «державу» з «окремим» і «самобутнім» статусом. У Спогадах він зазначав: «Україна була державою з усіми правильно функціонуючими установами, з визначеними планами дій, з фінансовим бюджетом, з певною програмою створення армії, яка мала бути організована до весни 1919 року, з промисловістю, що відновлювалась, з певними міжнародними відносинами»[36].
На підставі процитованого абзацу та інших записів у «Спогадах», а також відповідних документів епохи Гетьманату і неопублікованих «Дпевников» Скоропадського можна твердити, що він мав вироблений погляд на Україну як на державу. По-перше, він підгримував потребу консолідації державної території, включно з заходами щодо приєднання Криму і навіть частини Кубані (це був чи не перший історичний прецедент українських претензій до Криму). По-друге, він визнавав конечну необхідність інтеграції населення України не за етнічним, а за територіально-державним принципом, а також наполягав на стабілізації влади (справа першорядної ваги в державному будівництві) і суверенності у зовнішніх взаєминах. По-третє, він відстоював потребу власної армії, флоту, служби безпеки, поліції, національної валюти, власної закордонної політики, тобто усіх прикмет суверенної держави. Як засновник Української Академії наук, Державного українського університету в Києві, Державного українського університету в Кам'янці-Подільському, 150 гімназій по всій Україні та цілої низки вищих науково-педагогічних мистецьких установ, він розумів краще, ніж тогочасні політики і певні представники академічного середовища, потребу державної підтримки національної науки. Врешті, політичне утворення, яке він очолював від 29.IV. до 14.ХІІ.1918 року, носило назву «Українська держава». Такий підхід до побудови держави і її взаємин з іншою, більшою державою окреслюється в науці не як федерація, а як конфедерація, або співдружність незалежних держав (commonwealth).
Можна ставитися критично до ідеї співдружності у взаєминах України з Росією, можна аргументувати з перспективи українського національного інтересу, що Україна не повинна входити до такого утворення, як сучасна СНД, навпаки — утвердившись повністю незалежною і суверенною, наполегливо намагатися стати членом Європейської співдружності держав, НАТО і західної системи угод і союзів. Проте не є історичним підходом вважати Скоропадського беззастережним федералістом тільки через те, що він користувався цим терміном довільно. Зрештою, навіть IV Універсал від 22 січня 1918 року залишав відкритою можливість федерації України з Росією: «Цьому найвищому нашому органові [Українським Установчим Зборам] належить рішити про федеративний зв'язок з народними республіками бувшої російської держави»[37].
Якщо ж порівняти. поведінку Павла Скоропадського з поведінкою інших визначних політиків Цей тральної Ради і Директорії УНР в еміграції, то колишній гетьман займав однозначну позицію: хоча він і не визнавав публічно проголошення федерації України з Росією за помилку, проте в еміграції до кінця життя належав до української самостійницької політичної спільноти. Його діти Данило, Єлисавета (Кужім), Марія (Монтрезор) і Олена (Отт) також були інтегральною частиною української еміграційної громади і відстоювали ідею самостійності України.
Натомість, наприклад, Михайло Грушевський, перейшовши в еміграції на радикально ліві позиції, повернувся до Радянської України та визнав радянську політичну систему, тобто ленінський радянський федералізм (УРСР не була тоді незалежною і суверенною державою).
Інший приклад: Володимир Винниченко, лідер УСДРП, перший голова Генерального Секретаріату УНР, голова Українського націопального союзу, перший голова Директорії УНР, опинившися в еміграції і щонайменше 20 років вагаючись між українською самостійницько-комуністичною платформою і концепцією української радянської республіки (тобто ленінським радянським федералізмом) неодноразово стверджував, що «ми всі федералісти».
Навіть такий досвідчений і заслужений діяч, як Євген Петрушевич, президент ЗУНР, опісля її диктатор, внаслідок політичної катастрофи свого часу робив ставку на уряд УРСР і був готовий іти на компроміс з політичною концепцією УРСР, яка означала визнання ленінського радянського федералізму. Або, врешті, такі провідні діячі української радикальної паргії, як Антін Крушельницький, співтворець самостійницької групи «Молода Україна» і міністр освіти УНР, та Юліян Бачинський, один з перших теоретиків української самостійності, автор класичного твору «Ukraina irredenta» (1895) і піонерської соціологічної монографії «Українська еміграція в ЗДА» (1914), представник уряду УНР у Вашингтоні (1919), переїхавши до УРСР, пішли на політичні компроміси з ленінським радянським федералізмом. Таким чином, віра у федералістську ідею будь-то з огляду на роздвоєну лояльність, чи завдяки наївному переконанню у можливості служити своєму народові, чи через політичні обставини була характерною рисою цілої низки визначних політиків української визвольної боротьби, що трагічно відбилася на історії України першої половини XX століття.
Державний устрій Гетьманату
Питання устрою Української держави в період Гетьманату (29.IV. -14.ХІІ.1918) досі не розроблене в історичній науці. Не з'ясований також погляд Скоропадського на цю справу. Зміст основних документів, виданих у зв'язку з встановленням гетьманського режиму, тобто грамоти «До всього українського народу» і «Законів про тимчасовий державний устрій України», датованих 29 квітня 1918 року, є подекуди суперечливим щодо державного устрою»[38]. Згідно з цими документами, гетьман тимчасово перебирає на себе «повноту влади», і «влада управи [правління] належить виключно до гетьмана України у Межах всієї Української Держави». До його прерогатив було віднесене також керівництво армією і закордонною політикою. Крім того, «Гетьман стверджує закони, і без його санкцій ніякий закон не може мати сили». Хоча Скоропадський намагався надати Гетьманату форму і зміст правової держави, він був наділений істотлим повновладдям у сфері судочинства. Коротко кажучи, йому підляглі виконавча, законодавча і судова гілки влада.
Одночасно Скоропадський не виключав можливості представницької системи, оскільки «Закони про тимчасовий устрій України» стверджували недвозначно, що вони є зобов'язуючими «тимчасово, до вибрання Сейму». Отже, згідно з таким визначенням, одноосібна влада належала гетьману тимчасово, оскільки в майбутньому мав бути обраний Сейм, який перебрав би законодавчі функції. Встановлення виборного Сейму забезпечило б Скоропадському сильну президентську владу на зразок американської чи теперішньої французької.
Щодо самого Скоропадського, то його концепція державного устрою напередодні захоплення влади і протягом довшого періоду урядування може бути визначена як бюрократично-військова диктатура. Він це стверджує у «Спогадах», розмірковуючи над оформленням гетьманської політичної партії під назвою Українська народна громада: «Я сам не йшов свідомо до гетьманства, до якого мене підштовхнув швидкий розвиток подій. Я не кажу, що не припускав, щоб в Україні в майбутньому не було гетьмана; навпаки — я був переконаний, що це станеться, але я вважав, що спершу буде створена партія, яка бачитиме порятунок батьківщини в необхідності створення сильної влади в особі диктатора-гетьмана і що цей диктатор проводитиме ті принципи, які лягли б наріжним каменем в основу паргії»[39].
Після захоплення влади Скоропадський недвозначно заявив, що він бажав би правити у спосіб, що відповідає «ідеї диктатора», оскільки «не мав парламенту або іншої аналогічної установило. На зустрічі з представниками об'єднаних українських паргій, яка відбулася незабаром після проголошення Гетьманату, він висловив погляд щодо форми правління Гетьманату так: «Як дивлюся я на те, що уявляє з себе гетьман, тобто чи він є президентом республіки, чи чимось більшим, коли вкажу строк скликання Сейму, причому Сейм у їх [партій] розумінні — це Установчі Збори? Я їм на це відповів, що повністю дотримуюся своєї Грамоти, у якій все оголошено і від якої я ніколи добровільно не відступлюсь. Погодитися на той час на роль президента республіки я вважав згубним для всієї країни, і краще було б не починати цілої справи. Країну, по-моєму, може врятувати тільки диктаторська влада, тільки волею однієї людини можна повернути у нас порядок, розв'язати аграрне питання і провести ті демократичні реформи, які є такими необхідними для країни.[40] Я це завжди сповідував і при цій думці лишаюся й тепер. Я прекрасно знаю, що західні люди здебільшого не поділяють моїх поглядів; я цілком вірю, що вони праві, коли йдеться про їхні країни, але в нас, у Великоросії і Україні, це справді не може бути інакше»[41].
У «Спогадах» немає згадки про монархістські аспірації роду Скоропадських або про наміри гетьмана встановити в Україні гетьманську монархію під час його гетьманування. Навпаки, Закон про спадкоємність, який був затверджений Скоропадським, передбачав «вибір нового гетьмана» на випадок смерті попереднього. Проте Скоропадський вважав, що «стара історія України уся наповнена різноманітними ускладненнями саме через те, що зі смертю гетьмана не було влади і починалися партійні чвари з приводу виборів нового гетьмана, обрання якого звичайно призводило до анархії». Таке критичне ставлення до української ірадиції, можна твердити, було зумовлене його переконанням, що найкращою формою державного правління для України була таки диктатура. Отже, на підставі «Спогадів» та інших матеріалів устрій Української держави за урядування Скоропадського можна окреслити як виборний Гетьманат (оскільки Скоропадський був проголошений гетьманом на Хліборобському конгресі 29 квітня 1918 року в Києві) з диктаторськими повноваженнями правителя.
Як відомо, концепція виборного Гетьманату перемогла в історії гетьманської України XVІІ-XVIII століть, хоча за Богдана Хмельницького, Івана Самойловича, Івана Мазепи і Кирила Розумовського були спроби встановити спадковий монархічний гетьманат, які, проте, завершилися неуспіхом. Концепція української спадкової трудової гетьманської монархії була розроблена уже в еміграції В'ячеславом Липинським. Павло Скоропадський та його прихильники прийняли її на початку 1920-х років; останній гетьман дотримувався її до смерті у 1945 році.
Заключні зауваження
У науковій літературі про Українську революцію 1917–1920 років, у тому числі і в «Спогадах» Павла Скоропадського, наголошується переважно на переломних подіях того часу — наприклад, на гетьманському перевороті Скоропадського 29 квітня 1918 року та на повстанні Директорії УНР проти Гетьманату в середині листопада 1918 року після проголошення гетьманом федерації України з Росією грамотою від 14 листопада 1918 року. Водночас не акцентуються і достатньо не обговорюються причини, які призвели до згаданих переломів, зокрема — неспроможність українських політичних еліт досягнути необхідного компромісу на самому початку формування основних елементів української державності у 1917 році, що остаточно вплинуло на падіння Української держави у 1920 році. Тим часом гетьманський переворот і антигеїьманське повстання були тільки трагічними наслідками фатальних помилок, зроблених на самому зародку визвольних змагань.
Чи не першою такою помилкою був розкол в українському національному русі на початку революції між його народницько-соціалістичним крилом і національно-консервативною течією. Що призвело до розколу? Маловагома деталь у порівнянні з роллю тогочасного українського державного будівництва — конфлікт серед національних сил, серед інших причин якого була й популярність Скоропадського у військових колах.
Від початку свого виходу на політичну арену в Україні Скоропадський усвідомлював, що для успішного функціонування Української держави необхідно сформувати збройні сили, які б захищали її від ворожого нападу. У порозумінні з Генеральним Секретаріатом, тобто урядом Центральної Ради, він зукраїнізував 34-й корпус російської імперської армії, згодом названий Першим Українським Корпусом. Це було перше і найбільш дисципліноване українське військове формування на центральноукраїнських землях, яке нараховувало близько 30 тисяч офіцерів та вояків. Завдяки йому не дійшло до окупації значної чистини України, особливо Києва збільшовизованими загонами російської армії в останні місяці 1917 року. Можна напевне ствердити, що без дій Першого Українського Корпусу проголошення III і IV Універсалів було б неможливим. Завдяки намаганням Скоропадського вплинути на подальшу розбудову українських військових частин та й взагалі з огляду на його популярність серед військових кіл, з'їзд Українського Вільного Козацтва, тобто українських військових формувань 1917–1918 років, що нараховували близько 60 тисяч чоловік, 16–18 жовтня 1917 року в Чигирині обрав його Почесним військовим отаманом. Ця популярність, серед іншого, призвела до конфлікту з Українською Центральною Радою, що завершився відходом Скоропадського з посту головнокомандувача Першим Українським Корпусом, а також — що суттєвіше, уже згаданим політичним розколом в українському національному русі між народницько-соціалістичним крилом і національно-консервативною течією.[42]
Цей розбрат так і не вдалося подолати аж до кіпця Української революції, особливо після гетьманського перевороту та відмови політичних партій, у тому числі Української хліборобсько-демократичної, співпрацювати з новим урядом. Шанси на успіх українського національного руху, який до Першої світової війни на центральних і східноукраїнських землях не був достатньо сильним, у ситуації політичних катаклізмів — війни, революції чи розвалу Російської імперії — залежали від консолідації в один неподільний фронт усіх національно зорієнтованих сил незалежно від їхніх суспільно-політичних програм. Потрібен був національний компроміс, на який на той час спромігся, наприклад, польський визвольний рух (тобто, з одного боку — його центрово-ліве крило під керівництвом Юзефа Пілсудського, особливо Польська соціалістична партія, а з другого — права течія, репрезентована головно національними демократами на чолі з Романом Дмовським, які, до речі, до Першої світової війни принципово не висували концепції незалежної Польщі). Тільки такий компроміс міг врятувати українську державність 1917–1920 років. Неспроможність національного руху об'єднати сили Центральної Ради з групами, які підтримували Павла Скоропадського, не кажучи вже про анархістські течії, очолювані різними отаманами, особливо Нестором Махном, котрі в жодному випадку не підпорядковувалися б Українській національній державі, та й загалом усі неуспіхи Гетьманату і Директорії були наслідком розколу, що відбувся восени 1917 року і став однією з головних причин провалу української визвольної боротьби 1917–1920 років.
Безсумнівно істотну роль відігравали й зовнішні фактори. Зокрема, постійний натиск і відверта агресія більшовицької Росії супроти українських державних утворень, політична і мілітарна інтервенція пекомуністичних російських імперських сил та негативне ставлення західних союзників до справи української незалежності були, беручи разом, чи не найголовнішою причиною того, що спроба побудови Української держави у 1917-1920-х роках не здійснилася.
Сьогодні «Спогади» Павла Скоропадського публікуються в критичний для України момент. Український народ і його еліти намагаються — уже вкотре — збудувати Українську державу. Але історія повторюється, і зарисовується поділ між силами, які прямують до остаточного утвердження незалежності, та силами, що, негативно настроєні до національного руху, закликають до відновлення СРСР (тобто перетворення сучасної Російської імперії на російську падімперію) та підтримують реорганізацію СНД у двоконтинентальну надімперію на ленінсько-сталінській федералістських основах. Крім того, провідники і лідери цих сил пропагують, як це було і в 1917–1920 роках, згубні концепції федералізму і соціалізму в його тоталітарно-комуністичному варіанті, використовуючи страх, зубожіння і відсутність національної свідомості певних прошарків українського населення, а водночас обіцяючи їм, як це робили колись більшовики, світле майбутнє у безкласовому і нібито безнаціональному, а в дійсності російському імперському суспільстві.
Тому надруковані тут «Спогади» є не лише цінним історичним джерелом, а й важливим повчальним документом про будівництво Української держави та її падіння у 1917–1920 роках. Вони покликані донести сумний урок історії до покоління, зацікавленого в побудові сьогоднішньої держави, а разом з тим стати усвідомлюючим чинником для відповідальних за державне будівництво українських політичних еліт. Державне будівництво — це справа політичного розуму. Тому не можна допустити повторення трагічного досвіду 1917–1920 років та, уникаючи його, треба об'єднати всі сили для збереження української державності. Історія — це суворий суддя. Вона судить не за красиві слова і добрі наміри, а за розумні рішення і корисні справи. її присуд за невикористаний сьогоднішній шанс може бути набагато жорстокіший, ніж усі дотеперішні покарання.
Ярослав Пелепський
Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945)
Павло Скоропадський — особа, навколо якої тривалий час точилися неабиякі дискусії в українській історографії — від відвертої ідеалізації його діяльності прихильниками гетьмана до не менш відвертої, навіть часто фальсифікованої критики всіх його політичних кроків радянськими істориками та соціалістичними діячами в діаспорі. Сьогодні постала потреба Об'єктивного висвітлення життя і діяльності П. Скоропадського як у контексті загальноукраїнської історії, так і в плані пізнання його як особистості. Нарис спогадів останнього гетьмана України, що пропонується читачеві, дає можливість відчути внутрішній світ цієї безумовно видатної постаті в українській історії, побачити і зрозуміти світогляд Скоропадського, його оцінку подій, які переживала українська земля у важкі роки революції і в епіцентрі яких певний час він перебував.
Коротка хроніка життя Павла Скоропадського дасть читачеві можливість більш повно познайомитися з його особою, життєвим шляхом та багатовіковою історією родоводу.
Павло Петрович Скоропадський народився 3 (16) травня 1873 року у Вісбадені, де його мати, Марія Андріївна Скоропадська (в дівоцтві Миклашевська), відпочивала на мінеральних водах Німеччини.
Скоропадські — один з найшляхетніших українських родів, який упродовж кількох століть грав провідні ролі у вітчизняній політичній і культурницькій історії. Рід Скоропадських був пов'язаний шлюбними зв'язками з такими визначними українськими козацько-шляхетськими родинами, як Апостоли, Бутовичі, Гамалії, Дуніни-Борковські, Забіли, Закревські, Кочубеї, Кулябки, Лизогуби, Лисенки, Лобакевичі, Маркевичі, Миклашевські, Милорадовичі, Новицькі, Полуботки, Посудевські, Розумовські, Сулими, Тарнавські, Туманські і Чарниші[43].
Генеалогія роду Скоропадських, за відомими сьогодні історичними джерелами, бере свій початок від першої половини XVII ст., з Федора Скоропадського, який був вихідцем із західноукраїнських земель, але згодом оселився на Уманщині[44]. Ф. Скоропадський брав участь у національно-визвольній війні на чолі з Б. Хмельницьким і загинув 1648 року в битві під Жовтими Водами.
Всі подальші нащадки Ф. Скоропадського вірно служили в українському війську аж до скасування Гетьманщини Катериною II. Один із них, рідний брат пращура Павла Петровича Іван Ілліч Скоропадський (1646-3.VII. 1722), за часів Петра І наслідував булаву після Івана Мазепи і був гетьманом України з 1708 по 1722 p., аж до самої смерті. Він був соратником Мазепи на початку його виступу проти царя, але, блокований російськими військами в Сгародубі, не зміг підтримати бунтівного гетьмана. Коли І. Скоропадський став гетьманом, він під жорстоким контролем Петра І завжди намагався боронити права Гетьманщини та козацькі вольності.
Прапрадід Павла Петровича Яків Михайлович Скоропадський (?-1785) навчався у Києво-Могиляиській Академії і був останнім в історії козацької Гетьманщини генеральним бунчужним за гетьманування Кирила Розумовського[45].
Прадід Павла Скоропадського Михайло Якович (19.IV. 1764–1810) за сімейним звичаєм теж присвятив себе військовій службі. Але в зв'язку з тим, що Україна вже остаточно втратила елементи державності, Михайло Скоропадський вступив до Імператорського Сухопутного шляхетського кадетського корпусу. Свою військову кар'єру Михайло Якович закінчив у чині секунд-майора і до кінця життя мешкав у своєму маєтку.
Дід гетьмана Павла, Іван Михайлович Скоропадський (30.1.1805-8.ІІ.1887), двічі був прилуцьким повітовим маршалком і двічі — губернським маршалком Полтавщини. Свого часу він брав активну участь у селянській реформі 1861 року. Коштом Івана Скоропадського було засновано низку шкіл та гімназій в Україні. Помер дід Павла Скоропадського у своєму селі Тростяиці, поблизу якого засадив великий дендропарк. Могила його збереглася там і донині.
Дочка Івана Скоропадського, тітка гетьмана Павла Єлисавета Милорадович (1.1.1832-14.11.1890), золотими літерами вписала своє ім'я в культурно-освітню історію України. її коштом видавалися книги, засновувались школи та бібліотеки. Але найбільшою її заслугою перед українською культурою стало заснування «Наукового Товариства ім. Т. Шевченка» у Львові. Саме завдяки її пожертвам (близько 20000 австр. сріби. крон) стала можливим фундація Товариства у 1873 році.
Батько гетьмана, Петро Іванович Скоропадський (6.11.1834-30.VI.1885), за сімейними звичаями навчався у школі гвардійських підпрапорщиків, згодом став військовим офіцером. Брав участь у походах на Кавказ, за що отримав низку орденів. 1865 року в чині полковника Петро Скоропадський звільняється з війська і бере активну участь в громадському житті Стародубщини на посту повітового предводителя дворянства. Помер батько майбутнього гетьмана 1885 року у Києві і був похований у Гамаліївському монастирі. Дружиною Петра Скоропадського і матір'ю гетьмана Павла була Марія Андріївна Миклашевська (9.ІХ.1841-29.ХІ.1901), яка також належала до старовинного українського роду, що бере початок ще з Великого князя Київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, та з українсько-литовського князя Гедиміна[46].
Дитячі роки Павло Скоропадський провів у родовому мастку Тростянець на Полтавщині. Там він вбирав до своєї душі перші паростки розуміння спорідненості з рідним краєм. В садибі Скоропадських була велика колекція предметів української старовини, портретів визначних діячів. У сімейному житії родина Скоропадських зберігала і ірималася старих українських звичаїв. Великий вплив на малого Павла мали, крім його діда Івана Скоропадського, ще й такі відомі українські діячі, як П.Я. Дорошенко, Новицький та Пжицький.
Сімейні традиції, як і традиції всієї тодішньої аристократії Російської імперії, вимагали, щоб юний Павло пішов шляхом військовика. Військова кар'єра приваблювала і самого П. Скоропадського, який був зачарований військовим минулим свого батька та інших представників роду. У 1886 році Павло Скоропадський вступає до Петербурзького Пажеського корпусу і успішно закінчує його 1893 року в чині корнета. Молодого офіцера призначають на службу до Кавалергардського полку тимчасово виконуючим обов'язки командира ескадрону. Через два роки (1895) він отримує призначення на посаду полкового ад'ютанта цього полку, а в грудні 1897 р. стає поручником[47].
11 січня 1898 р. Павло Скоропадський одружусгься з Олександрою Дуриово, дочкою генерал-лейтенанта П. П. Дурново. Рід Дурново бере свій початок від сина Ярослава Мудрого Святослава II. Згодом у подружжя народилося дві дочки — Марія (1898) і Єлисавета (1899) та іри сини — Петро (1900), Данило (1904) і Павло (1916).
З початку російсько-японської війни 1904–1905 рр. молодий честолюбний офіцер прагне на ділі викопувати обов'язки військового і подає рапорт з проханням перевести його на фронт в діючу армію. На початку квітня 1904 року П. Скоропадський виїздить з Петербурга на фронт. В Мукдені він викопує обов'язки у штаті 3-го Верхньоудинського козачого полку, після чого молодого осавула відряджають до Східного загону Манчжурської армії ад'ютантом командуючого цим загоном генерала А. Келлера. Восени 1904 року П. Скоропадський призначається командиром 5-ої сотні 2-го Читинського козачого полку Забайкальського козачого війська, а невдовзі стає ад'ютантом головнокомандувача російськими військами на Далекому Сході генерала Ліневича. Під час Першої світової війни Павло Петрович за особисту мужність і героїзм нагороджувався Георгіївською зброєю і всіма орденами до Святого Володимира 4-го ступеня включно[48].
Одразу ж після війни, в грудні 1905 року, російський імператор Микола II признає П. П. Скоропадського своїм флігель-ад'ютантом, з наданням військового звання полковника. 4 вересня 1910 р. полковник Скоропадський призначається командиром 20-го драгунського Фінляндського полку, лишаючись флігель-ад'ютантом царя. Проте невдовзі, у квітні 1911 р., його призначають командиром лейбгвардії Кінного полку, а 25 березня 1912 р. полковнику Скоропадському було присвоєне звання генерал-майора і зараховано до імператорського полку. Слід сказати, що заходами і стараннями П. Скоропадського лейб-гвардії Кінний полк спав одним з найбільш боєздатних у Російській імперії.
З початку Першої світової війни Павло Петрович відправляється на фронт, і вже 6 серпня 1914 р. Кінний полк генерала П. Скоропадського відзначився у бою під Краупішкеном. За цей бій Георгіївська дума Кінної гвардії нагородила його, згідно з наказом від 13 жовтня 1914 року, вищою відзнакою за хоробрість і героїзм — орденом Святого Георгія 4-го ступеня. Подальша військова служба П. Скоропадського проходила вдало, і незабаром він вже командував гвардійською кавалерійською дивізією, яка успішно діяла в Прибалтиці у 1915–1916 рр. Після отримання влітку 1916 року чину генерал-лейтенанта Павло Петрович 22 січня 1917 р. приймає командування 34-м армійським корпусом, який розташувався на терені України. Перебуваючи на посаді командуючого 34-м корпусом, Скоропадський вперше познайомився з масовим українським революційним рухом.
Революційні події в Петрограді призвели до деморалізації армії і поступової її більшовизації. В Україні національний революційний рух очолила Центральна Рада. Скоропадський не сприйняв соціалістичні ідеї українських та російських революційних партій, бо вони були чужі його світогляду, і, крім того, як офіцер він вважав, що перш за все необхідно довести війну до переможного кінця. Зрештою, погляд Скоропадського на події 1917 року читач знайде у самих його спогадах. Єдиною тоді проблемою, яка постала перед ним, була проблема збереження дисципліни і боєздатності у ввіреному йому корпусі.
Тим часом у травні 1917 року в Києві відбувся І Всеукраїнський військовий з'їзд, який схвалив ідею створення української національної армії. З різних боків П. Скоропадському починають радити українізувати свій корпус, але як військовик, без наказу вищого командування, він не мав права і не робив цього. Однак після одержання в серпні 1917 р. відповідного наказу від генерала Корнілова Скоропадський одразу ж розпочав українізацію корпусу. Згодом 34-й армійський корпус дістав назву 1-го Українського і налічував 60 тис. добре дисциплінованих озброєних вояків[49]. Корпус розпочав підготовку до відправки на фронт. Тим часом українські полки, що організовувались Центральною Радою, почали танути і зникати, здеморалізовані більшовицькою агітацією.
Ще з березня 1917 р. в Україні почав ширитися рух Вільного козацтва. Серед козацтва особа нащадка гетьманского роду, бойового генерала Павла Скоропадського мала неабияку популярність. Як наслідок цього, 16–17 жовтня 1917 р. в Чигирині на З'їзді Вільного козацтва двома тисячами делегатів від 60000 зорганізованих козаків п'яти українських губерній і Кубані на отамана Вільного козацтва було обрано командира 1-го Українського корпусу генерала Павла Скоропадського[50].
Успіх Жовтневого перевороту в Петрограді ще більше загострив процес розладу і більшовизації армії. В листопаді 1917 р. збільшовизований 2-й гвардійський корпус, на чолі з більшовичкою Є. Бош, рушив на Київ для розгону української влади. Перед Скоропадським, корпус якого був єдиною боєздатною українською військовою силою, постав вибір: виконати наказ командування і виїхати з корпусом на фронт для боротьби із давнім ворогом у світовій війні, чи стати на захист нелюбої йому соціалістичної, хоч і української, Цетральної Ради. Скоропадський виступив на захист батьківщини і українського національного відродження. Корпус Павла Петровича зайняв станції на залізниці до Києва і, обеззброюючи збільшовизовані загони, відправляв їх до Московщини.
Завдяки цьому рішучому кроку генерала Скоропадського в листопаді 1917 року була врятована не лише Рада і українська столиця від «червоного» терору, а й, можливо, сама справа української революції та державності. З того часу Павло Скоропадський став на шлях відродження і організації українських збройних сил. І хоча він не займав ніякої політичної позиції, а обмежував свою діяльність лише турботою про боєздатність свого військового підрозділу, Скоропадський зустрів холодне ставлення до себе з боку Генерального Секретаріату. Ще з літа 1917 р. уряд Центральної Ради, занепокоєний великою популярністю аристократа-землевласника генерала Скоропадського, чинив йому перешкоди у керівництві корпусом: припиняв або затримував надходження до 1-го Українського корпусу озброєння, одягу, харчів тощо. Скоропадський змушений був піти у відставку…
Незабаром більшовицька Росія розпочала агресію проти Української Народної Республіки. Коли більшовики у січні 1918 р. зайняли Київ, П. Скоропадський не покинув його і переховувався від репресій у місті. Тим часом, Центральна Рада на мирних переговорах у Брест-Литовську покликала на допомогу в боротьбі з Червоною армією німецькі та австро-угорські війська. В результаті такого миру між УНР та Центральними державами Україна опинилася перед фактом австро-німецької окупації. З поверненням до Києва, Центральна Рада в березні 1918 р. оголосила про продовження нею внутрішньої політики соціалізації, яка була відбита у III-му Універсалі. У відповідь по Україні шириться і організовується опозиційний рух власних кіл громадянства. В середині березня 1918 р. П. Скоропадський утвердив опозиційну до Ради політичну організацію під назвою «Українська Громада» (пізніше «Українська Народна Громада»), яка увійшла в тісний контакт з Українською демократично-хліборобського партією та «Союзом земельних власників» з метою домогтися спільними зусиллями зміни уряду і внутрішньо-економічної політики Ради. Коли ж німецькі окупаційні власті, невдоволеиі господарською руїною і неспроможністю уряду виконувати продовольчі угоди, що були підписані між УНР та Центральними державами, задумали ліквідувати українську державність, «Українська Народна Громада» розпочала підготовку до державного перевороту. Німецьке командування, як тільки-но дізналося про наміри генерала Скоропадського, розпочало з ним переговори і оголосило йому про свій нейтралітет з цього приводу. 29 квітня 1918 р. Всеукраїнський з'їзд хліборобів у складі 6432 повноважних депутатів від восьми губерній одностайно проголосив гетьманом України Павла Скоропадського. В ніч на ЗО квітня гетьманські офіцери зайняли всі найважливіші установи міста. Одразу ж було проголошено про утворення «Української Держави» на чолі з Гетьманом, який тимчасово взяв на себе надзвичайно великі повноваження по осібному управлінню краєм. Було відновлено право на приватну власність. Сім з половиною місяців Гетьманщини, як свідчать спогади сучасників, відзначалися відносним спокоєм і підновленням господарства.
Проте, гетьманові не вдалося об'єднати навколо себе різні кола громадянства, до чого значною мірою спричинилася безкомпромісна антиурядова діяльність соціалістичних партій і агітація більшовиків. Невирішеність аграрного питання разом із загальною політичної напругою призвела, врешті, до антигетьманського повстання. Окупаційні війська, здеморалізовані невдачами на західному фронті і листопадовою революцією в Німеччині, зайняли нейтральну позицію. Збройні сили гетьманського уряду, які щойно почали організовуватися, не змогли стримати розростання і посилення повстанської війни, яку очолила Директорія. 14 грудня 1918 р. війська Директорії увійшли до Києва Докладніше про період Гетьманщини та іруднощі, які спіткали П. Скоропадського у державницьких справах, читач зможе дізнатися із його спогадів.
Короткий час після повалення гетьманської влади, П. Скоропадський переховувався в Києві, а потім перебрався до Берліна, де одразу ж розпочав працювати над першою редакцією своїх спогадів. Після народження там молодшої дочки Олени Павло Петрович з дружиною в липні 1919 року від'їжджають до Швейцарії, щоб зустрітися там з іншими членами сім'ї, які також покинули Україну, але раніше і іншим шляхом. Через два роки вся родина повертається до Німеччини і оселяється у м. Вапзеє поблизу Берліна.
Вже 1920 року, завдяки наполяганням емігрантів-гетьманців, які на чолі з В. Липиіюьким та С. Шеметом зорганізувалися в «Український союз хліборобів-державників», Павло Скоропадський повертається до активного політичного життя. Він очолює новий гетьманський рух, а В. Липинський стає його теоретиком. Проте на початку 30-х років між практиком Скоропадським і теоретиком Липинським виникли певні чвари і розбіжності щодо існування руху, і єдиний «Союз» розколюється. Прибічники гетьмана об'єдналися у «Союз гетьманців-державників». Завдяки зусиллям П. Скоропадського філії гетьманського руху з'являються не лише в Австрії та Німеччині, але й у Чехословаччині, Америці, Канаді, Франції, на західноукраїнських землях, що перебували у складі Польщі, і навіть на Далекому Сході — у Манчжурії та Китаї. Крім того, заходами П. Скоропадського, 1925 року у Німеччині засновується Український науковий інститут при Берлінському університеті, який зіграв велику роль у розвитку української науки і культури на еміграції.
З приходом до влади націонал-соціалістів життя П. Скоропадського ускладнилось. Доводилося докладати чималих зусиль і використовувати власний авторитет та зв'язки, щоб зробити можливим подальше існування і діяльність «Союзу гетьманців-державників» та «Української Громади» в цій країні. Разом з тим, передбачаючи неминучу війну у Європі, П. Скоропадський 1939 року відправляє свого сина Данила до Англії, з метою гарантування продовження існування гетьманського руху на випадок перемоги антигітлерівської коаліції. І хоча гетьман не підтримував фашизм, він змушений був «лояльно» ставитися до нього. Але, незважаючи ні ігащо, П. Скоропадський завжди відстоював перед офіційними колами Рейха і серед громадськості інтереси українців. Так, наприклад, коли угорські війська, зі згоди Німеччини, окупували у 1939 році Карпатську Україну, гетьман виступив в оборону її незалежності. Заходам Павла Скоропадського завдячують своє звільнення з німецьких концтаборів і деякі українські політичні діячі, зокрема, С. Бандера, А. Мельник, Я. Стецько та інші. Протягом 1938–1941 рр. Скоропадський намагався згуртувати всі українські сили в діаспорі. Він не поділяв надій деяких емігрантських угруповань, що німці відновлять україїгську державність.
Павло Скоропадський не встиг у мирний час завершити організаційне та ідеологічне сформування як «Союзу гетьманців-державників», так і загальної політичної спілки українських емігрантських кіл. Наприкінці війни, 16 квітня 1945 року, під час бомбардування станції Платлінг, що поблизу Мюнхена у Баварії, його було смертельно поранено. П. Скоропадський помер 26 квітня в шпиталі монастиря Меттен. Пізніше його прах було перевезено родиною до Оберстсдорфа, де знаходяться всі поховання родини Скоропадських, яка перебувала на еміграції, крім могили Данила Скоропадського у Лондоні[51].
Олена Отт-Скоропадська, Павло Гай-Нижник
Лінгвістичні засади опрацювання тексту
«Спогади» П. Скоропадського написані типовою для першої чверті XX ст. російською літературною мовою, для якої характерні певні часові, стилістичні та авторські особливості. У виданні повністю збережено ці особливості, як і лексику та синтаксис твору. Окремі виправлення зроблено лише в орфографії та пунктації, які, проте, не порушують фонетику, морфологію, інтонаційну і синтаксичну структуру авторського тексту. Зокрема:
1. За нормами сучасної російської орфографії пишуться слова разом, окремо або через дефіс.
2. За сучасними правилами вживається велика літера. Зроблено, проте, деякі відступи на користь оригіналу.
3. Літеру і замінено літерою е.
4. Літеру і замінено літерою п.
5. Літеру ъ збережено лише в тих випадках, коли її вживання відповідає нормам сучасної російської орфографії.
6. Літеру θ замінено літерою ф.
7. За сучасними правилами передано випадки асиміляції приголосних, здебільшого на межі префексів і коренів: рассыпать замість разсыпать тощо.
8. За сучасними правилами передано випадки подвоєння приголосних.
9. Збережено деякі застарілі слова, вживані в тогочасній літературній мові: заарестовать.
10. За сучасними вимогами подаються форми родового відмінку однини прикметників чоловічого роду: доброю, твою замість добраю, товаго.
11. За сучасними вимогами подаються форми родового відмінку деяких займенників: ее, те замість ея, шя.
12. Повністю збережено інтонаційну та синтаксичну структуру авторського тексту.
13. У вживанні знаків пунктуації усунено лише звичайні описки та окремі помилки.
Віталій Передрієнко
Павел Скоропадский ВОСПОМИНАНИЯ Конец 1917 года по декабрь 1918 года [Мои Воспоминания]
Записывая свои впечатления, я не особенно считался с тем, как будут судить меня мои современники, и делаю это не для того, чтобы входить с ними в полемику. Я нахожу необходимым правдиво записать все, что касается моей деятельности за период с конца 1917 года по январь 1919 года. Лично не чувствую пи охоты, ни способности создавать интересные мемуары, но события, центром которых мне пришлось быть за этот период времени, сложность только что пережитой мною политической обстановки заставляют меня записать то, что не изгладилось из моей памяти.
Может быть, будущим историкам революции мои записки пригодятся. Прошу их верить, что все мною записанное будет верно, т. е. что я буду заносить так, как мне казалось положение в данное время, а там правильно ли я мыслил или неправильно, в этом поможет разобраться будущее. Жаль, конечно, что у меня нет под рукой необходимых документальных справок, по заинтересовавшийся моими записками будет всегда в состоянии найти все для него необходимое в архивах.
Прежде чем начать пересказ всего мною пережитого в эту интересную эпоху, я не могу не остановиться на одном факте, который меня сильно поражал и которому я до сих пор не могу дать точного определения. Как это могло случиться, что среди всех окружавших меня людей за время, особенно моего гетманства, было так мало лиц, которые в вопросе о том, как мыслить Украину, которую мы созидали, мыслили бы ее так, как я. Было два течения как в социальных, так и в национальных вопросах, оба крайние, ни с тем ни с другим я не мог согласиться и держался середины. Это трагично для меня, но это так, и, несомненно, это способствовало тому, что я рано или поздно должен был или всех убедить итти за мной, или же уйти. Последнее и случилось: оно логично не должно было произойти теперь, а случилось просто из-за грубой ошибки Entente{1}. Исполни они мое желание, т. е. пришли они своего представителя в Киев, лишь бы видели, что меня фактически поддерживает Entente, этого не произошло бы, и, я думаю, задача восстановления порядка не только в Украине, но и в бывшей России тем самым была бы значительно облегчена. Теперь же я не хочу быть пророком, по не вижу, каким образом можно добиться в этой стране давно всеми желанного правового порядка.
Благодаря моему деду и отцу, семейным традициям, Петру Яковлевичу Дорошенко{2}, Василию Петровичу Горленка{3}, Новицкому{4} и другим, несмотря на свою службу в Петрограде, я постоянно занимался историей Малороссии, всегда страстно любил Украину не только как страну с тучными полями, с прекрасным климатом, по и со славным историческим прошлым, с людьми, вся идеология которых разнится от московской; но тут разница между мною и украинскими кругами та, что последние, любя Украину, ненавидят Россию; у меня этой ненависти нет. Во всем этом гнете, который был так резко проявлен Россией по отношению ко всему украинскому, нельзя обвинять русский народ; это была система правления; народ в этом не принимал никакого участия; потому мне и казалось, да и кажется до сих пор, что для России единой никакой опасности не представляет федеративное устройство, где бы всякая составная часть могла свободно развиваться: в частности, на Украине существовали бы две параллельные культуры, когда все особенности украинского миросозерцания могли бы свободно развиваться и достигать известного высокого уровня; если же все украинство — мыльный пузырь, то оно само собою просто было бы сведено на нет.
Я люблю русский язык, украинцы его терпеть не могут; по крайней мере, делают вид, что не любят его; я люблю среднюю Россию, Московщину — они находят, что эта страна отвратительна; я верю в великое будущее России, если только она переустроится на новых началах, где все бы части ее в решении вопросов имели одинаковый голос и где бы не было того, как теперь, например, когда в Москве в известных кругах смотрят на Украину, как хозяин смотрит на работника; украинцы этому будущему не верят и т. д. и т. д. Нет ни одного пункта, в котором я бы в этих вопросах с ними сходился.
С другой стороны, великорусские круги на Украине невыносимы, особенно теперь, когда за время моего гетманства туда собралась чуть ли не вся интеллигентная Россия: все прятались под мое крыло и, до комичности жалко, что эти же самые люди рубили сук, на котором сидели, стараясь всячески подорвать мое значение вместо того, чтобы укреплять его, и дошли до того, что меня свалили. Это особенно ясно будет видно при дальнейшем изложении фактов: великорусские интеллигентные круги были одним из главных факторов моего свержения.
Эти великороссы совершенно не понимали духа украинства. Простое объяснение, что все это вздор, что выдумали украинство немцы и австрийцы ради ослабления России, — неверно. Вот факт: стоило только центральному русскому правительству ослабнуть, как немедленно со всех сторон появились украинцы, быстро захватывая все более широкие круги среди народа. Я прекрасно знаю класс пашей мелкой интеллигенции. Она всегда увлекалась украинством; все мелкие управляющие, конторщики, телеграфисты всегда говорили по-украински, получали Раду{5}, увлекались Шевченко, а этот класс наиболее близок к народу. Сельские священники в заботах о насущном пропитании своей многочисленной семьи под влиянием высшего духовенства, которое до сих пор лишь за малым исключением все великорусское (московского направления), не высказываются определенно. Но если поискать, то у каждого из них найдется украинская книжка и скрытая мечта осуществления Украины. Поэтому когда великороссы говорят: украинства нет, то сильно ошибаются, и немцы и австрийцы тут не при чем, т. е. в основе они не при чем.
Конечно, общение с Галицией имело громадное значение для усиления украинской идеи среди некоторых кругов. Но это общение произошло естественно: тут ни подкуп, ни агитация не имели существенного значения. Просто люди обращались во Львов, т. к. отношение ко всему украинскому в этом городе было свободно. Естественно, что со временем за это украинство ухватилось и австрийское правительство и немецкое, но я лично убежден, что украинство жило среди народа, а эти правительства лишь способствовали его развитию, поэтому мнение великороссов, что украинства нет, что оно искусственно создано нашими бывшими врагами, — неверно. Точно так же неверно, что к украинству народ не льнет, народ страшно быстро его воспринимает без всякой пристегнутой к нему социальной идеи. Великороссы говорят: народ не хочет Украины, но воспринимает ее потому, что украинские деятели вместе с украинством сулят этому народу всякие социальные блага, поэтому народ из-за социальных обещаний льнет к украинству. Это тоже неверно: в народе есть любовь ко всему своему, украинскому, но он не верит пока в возможность достижения этих желаний; он еще не разубежден в том, что украинство не есть нечто низшее. Это последнее столетиями вдалбливали ему в голову, и поэтому у него нет еще народной гордости, и, конечно, всякий украинец, повысившись в силу того или другого условия по общественной лестнице из народа, немедленно переделывался в великоросса со всеми его положительными и отрицательными качествами. Великороссы совершенно не признают украинского языка, они говорят: «Вот язык, на котором говорят в деревнях крестьяне, мы понимаем, а литературного украинского языка нет. Это — галицийское наречие, которое нам не нужно, оно безобразно, это набор немецких, французских и польских слов, приноровленных к украинскому языку». Бесспорно, что некоторые галичане говорят и пишут на своем языке; безусловно верно, что в некоторых министерствах было много этих галичан, которые досаждали публике своим наречием, но верно и то, что литературный украинский язык существует, хотя в некоторых специальных вопросах он не развит. Я вполне согласен, что, например, в судопроизводстве, где требуется точность, этот язык нуждается еще в большем развитии, но это частности. Вообще же это возмутительно-презрительное отношение к украинскому языку основано исключительно на невежестве, на полном незнании и нежелании знать украинскую литературу.
Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», а я говорю: «Что бы то ни было, Украина в той или другой форме будет. Не заставишь реку итти вспять, так же и с народом, его не заставишь отказаться от его идеалов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сделаешь». Великороссы никак этого понять не хотели и говорили: «Все это оперетка», — и довели до Директории с шовинистическим украинством со всей его нетерпимостью и ненавистью к России, с радикальным проведением [насаждением] украинского языка и, вдобавок ко всему этому, с крайними социальными лозунгами. Только кучка людей из великороссов искренне признавала федерацию{6}; остальные из вежливости говорили мне: «Федерация, да!», но тут же решительно делали все для того, чтобы помину от Украины не было.
Затем в области социальных реформ среди великороссов господствует полнейшее непонимание. Кстати, к великороссам я отношу весь наш помещичий класс, т. е. и малороссов, поскольку у них одно и то же мировоззрение. Наш украинец — индивидуалист, никакой социализации ему не нужно. Он решительно против этого. Русские левые круги навязывают свои программы, которые к Украине неприменимы. Я всегда считал, что украинское движение уже хорошо тем, что оно проникнуто сильным национальным чувством, что, играя на этих струнах, можно легче всего спасти народ от большевизма. Я, например, хотел создать казачество из хлеборобов, но в ответ на это какие только палки в колеса не вставляли мне великорусские деятели. Казалось, ясно — главный враг большевизм великорусский, и затем наш внутренний украинский. Для борьбы с ним нужна физическая сила. Создавать войско, конечно, хорошо, но это требует времени, а главное при создании армии, какие лозунги мог бы я дать. При царском режиме были: царь, вера и отечество. Единственный понятный крестьянству лозунг — земля. Насчет воли — они сами изверились что-то, но землю подавай всю. Что бы из этого вышло, предоставляю судить каждому. Я и решил эту необходимую силу создать из хлеборобов, воспитав их в умеренном украинском духе, без ненависти к России, но с сознанием, что они не те, которые в России стали большевиками. Я решил, группируя их в сотни, полки, коши, перевести их в казачество или скорее возобновить старое казачество, которое испокон веков у нас было. Так как все эти казаки-хлеборобы — собственники, то естественно, что идеи большевизма не прилипали бы к ним. Я являлся их непосредственным главою; общность интересов заставила бы их быть преданными мне. Это страшно укрепило бы мою власть, и несомненно, что тогда можно было бы спокойно проводить и аграрную и другие коренные реформы. Но никто меня не поддержал; министры два раза проваливали проект, и в конце концов я сам провел это осенью и то в каком-то искалеченном виде, без всякого сочувствия со стороны министров и большинства старост, так что фактическти ввести это в жизнь не представлялось возможным.
Для меня понятно отношение великорусских кругов к моим начинаниям: они не хотели Украины и думали, что можно целиком вернуться к старому, а я хотел Украину, не враждебную Великороссии, а братскую, где все украинские стремления находили бы себе выход. Тогда фактически эта искусственно разжигаемая галичанами ненависть к России не имела бы почвы и в конце концов исчезла бы вовсе.
Когда я был выбран хлеборобами в Гетманы, в своей первой Грамоте я изложил свою программу и этой программы, одобренной моими же выборщиками, я свято придерживался. Я действительно думал, что люди понимают, что украинское движение имеет право на существование. Конечно, самостоятельность, которой тогда приходилось строго придерживаться из-за немцев, твердо на этом стоявших, для меня никогда не была жизненна, но я думал, — да так бы оно и было — немцы изменили бы свою политику в сторону федерации Украины с Россией. _ Я указывал на эту необходимость, будучи в Берлине, и видел полное сочувствие; у немцев все было к этому подготовлено. Но для русских кругов, как оказалось, я был лишь переходной стадией между Центральной Радой и полным уничтожением украинства. Если были некоторые круги, которые признавали федерацию, автономию или что-нибудь подобное, то дело тут вовсе не в украинской идее, а исключительно в смысле удобства для обывателей иметь децентрализованную Россию. Удобнее какому-нибудь сахарозаводчику или горнозаводчику из Киевской или Екатеринославской губернии ехать в Киев и сразу в кругу министров получить необходимые ему справки и разрешения вместо того, чтобы. тащиться в Петроград и там высиживать в передних разных сановников… Одним словом, вся эта группа хотела решительного возврата к старому, как с точки зрения национальной, так и с точки зрения социальной. Были оттенки: например, некоторые совершенно не понимали украинства, хотя сами были природными украинцами. Они были податливее других, но они только сочувствовали начинаниям в искусстве и в области некоторых исторических воспоминаний. Казачеству они сочувствовали потому, что это напоминало старое казачество, жупаны, бунчуки и т. под.; вообще, это говорило их художественному чутью, но глубины вопроса они не воспринимали и поэтому не считали все это дело спешным. Да и таких было мало. Для других, коротко говоря, революции не было. Нужно было вернуться к старому, для этого, по их мнению, был необходим временно я.
Украинские влиятельные круги — главным образом социалистические; к ним относится справа небольшая кучка социал-федералистов и несколько человек беспартийных; затем слева — масса всякого, совершенно разложившегося элемента, выдававшего себя за украинцев, а потом при известных обстоятельствах попадавшего в Союз Русского Народа{7}. Социалистические элементы на Украине — значительно умереннее великорусских. В этом отношении их социализм умеряется действительно сильным национальным чувством. Интернационализма великорусского нет, и, конечно, на этой почве, если высшие классы к ним прислушались бы, не поддаваясь им, а помогая мне создавать действительную силу, можно было бы найти путь к соглашению. У украинцев ужасная черта — нетерпимость и желание добиться всего сразу; в этом отношении меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает все сразу, тот в конце концов ничего не получает. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них неприемлемо. Например, с языком: они считают, что русский язык необходимо совершенно вытеснить. Помню, как пришлось потратить много слов для депутации, которая настаивала на украинизации университета Св. Владимира. Причем интеллигенции на Украине почти нет: все это полуинтеллигепты. Если они, т. е. Директория, не образумится и снова выгонит всех русских чиновников и посадит туда всех своих безграмотных молодых людей, то из этого выйдет хаос, не лучше того, что было при Центральной Раде. Когда я говорил украинцам: «Подождите, не торопитесь, создавайте свою интеллигенцию, своих специалистов по всем отраслям государествепного управления», они сейчас же вставали на дыбы и говорили: «Це неможливо».
Верно, эта обстановка, счастливо сложившаяся для украинского движения, вскружила всем этим украинским деятелям голову, и они закусили удила, но я думаю, что не надолго. Галичане интеллигентнее, но, к сожалению, их культура из-за исторических причин слишком разнится от пашей.
Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России. Вот такого рода галичане и были лучшими агитаторами, посылаемыми нам австрийцами. Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины — быть населенной каким-то прозябающим селянством. Тут, кстати сказать, эта ненависть разжигается униатскими священниками.
С точки зрения социальной, галичане умереннее, они даже не социалисты, а просто очень демократично настроенные люди. В этом отношении они были бы нам очень полезны и умерили бы пыл нашей интеллигенции, воспитанной в русских школах со всеми их отрицательными чертами. Но из-за этой ненависти к Великороссии мне приходилось много с ними бороться. Эта ненависть у них настолько сильна, что идеям большевизма, чего доброго, на Украине они не будут перечить.
Почти вся промышленность и помещичья земля на Украине принадлежит великороссам, малороссам и полякам, отрицающим все украинское. Из-за ненависти к этим национальностям, очень может быть, галичане, а паши украинцы и подавно, скажут, что большевизм им на пользу, так как он косвенно способствует вытеснению этих классов из Украины.
Винниченко{8} говорил (не мне, по мне передавали), что для создания Украины он считает необходимым, чтобы по пей прокатилась волна большевизма. Я лично этого не слыхал, по охотно верю, так как знаю точку зрения таких людей. Разве можно было мне итти рука об руку с подобными людьми?
Затем есть еще одна черта, но это уже касается многих деятелей, — беспринципность, полное отсутствие благородства. Жаловались, что при старом режиме было воровство, но нельзя себе представить, во сколько раз оно увеличилось теперь, за время революции. Да дело не в этом. Наполеон достигал великих результатов, имея в числе своих маршалов и других крупных сподвижников преизрядное количество мошенников.
Возвращаясь к вопросу разницы точек зрения великороссов и украинцев, я резюмирую: великороссы всех партий Украины не хотят. Правые их круги почему-то видели во мне монархический принцип и поэтому несколько поддерживали меня. Я им был нужен как переходная ступень от Центральной Рады к возврату старого режима. Российские либералы, будучи совершенно того же мнения относительно возврата к старому в смысле единой России, видя во мне все же человека демократического образа мышления, относились ко мне, не скажу, чтобы враждебно, нет, скорее благосклонно, по без всякого единодушия, без всякой активности.
Украинцы вначале поддерживали меня, думая, что я пойду с ними полностью и приму всю их галицийскую ориентацию. Но я с ними не согласился, и они, в особенности в последнее время, резко пошли против меня. Лично я понимал, что Украина на существование имеет полное основание, но лишь как составная часть будущей российской федерации, что необходимо поддерживать все здоровое в украинстве, отбрасывая его темные и несимпатичные стороны. Великороссам же надо указать их определенное место.
Признавая две параллельные культуры, как глава государства я старался относиться к обоим лагерям совершенно беспристрастно и объективно. Я глубоко верю, что только такая Украина жизненна, что она наиболее соответствует духу простого народа, что все остальные точки зрения суть, с одной стороны, не более и не менее как революционная накипь, с другой — старый русский правительственный взгляд, теперь уже отживший: «Держать и не пущать».
Я глубоко верю, что если бы люди были искренни и хоть немного отрешились от собственных личных интересов, если бы было больше доверия друг к другу, мои мысли по этому вопросу, проведенные в жизнь, могли бы примирить всех. Я глубоко верю, что эта точка зрения в конце концов возьмет верх, но, конечно, жаль, что теперь это все будет достигнуто с большими потрясениями и с ручьями крови; в то время как если бы мое правление продолжалось дольше, все было бы достигнуто совершенно спокойно.
В области социальных реформ я считаю, что мы должны на Украине вести крайне демократическую политику, но отнюдь не проводить в жизнь те крайние социалистические лозунги, которые Директория собирается проводить, что несомненно приведет к большевизму.
Затем я думаю, что политика моя была правильна в том отношении, что я постоянно рассматривал аграрный вопрос не с точки зрения экономической, а, приняв, главным образом, во внимание политическую сторону жизни страны. С точки зрения экономической аграрная реформа не выдерживала критики, она просто в данное время не была нужна. С точки зрения политической она была крайне необходима, и тут приходилось руководствоваться лишь государственной необходимостью, а не интересами частных лиц. Этого-то земельные собственники, по крайней мере их правление, простить мне не могли.
Вообще, возвращаясь к прошлому, скажу, если бы мне снова пришлось стать во главе правительства Украины, я лично ни на йоту не изменил бы своих убеждений в том, что нужно для народа Украины.
У правых кругов все было обосновано на усилении полиции, на арестах, скажу прямо, на терроре. Никаких уступок, совершенное пренебрежение психологией масс. У левых все было основано на насилии толпы над более состоятельными классами, на демагогии, на потакании низменным инстинктам селянства и рабочих.
Я лично стоял за твердую власть, не останавливающуюся ни перед чем; одновременно с этим я признавал необходимость созидательной деятельности в области национального вопроса, а в сфере социальной проводил целый ряд демократических реформ. Конечно, тут нужно было известное счастье для того, чтобы провести государственный корабль через все подводные камни, которых, как будет видно при дальнейшем изложении фактов, было очень много. Счастье мне в данном случае не улыбнулось. Но мой уход нисколько не изменил моего мнения. Я все же считаю, что тот тернистый путь в области внутренней политики, который я избрал, единственно верный. Те люди, которые за мною не пошли или не хотели итти, потому что это не совпадало с их личными выгодами, или не могли итти в силу тех закоренелых понятий, которыми они насквозь пропитаны и от которых они отрешиться не могли, те люди были неправы; будущее их в этом убедит.
В разгар любой революции только люди с крайними лозунгами при известном счастливом стечении событий становились вождями и имели успех. Я это знал, но на мое несчастье я пришел к власти в тот момент, когда для страны, измученной войной и анархией, в действительности была нужна средняя линия, линия компромиссов. Отсутствие политического воспитания в России; взаимное недоверие; ненависть; деморализация всех классов, особенно усилившаяся во время войны и последующей за ней революции; полная оторванность страны от внешнего мира, дающая возможность всякому толковать мировые события, как это ему кажется выгодным; военная оккупация — все эти условия мало сулили успеха в моей работе, но, взяв власть не ради личной авантюры, я и теперь не изменил своего мнения.
Начало 1 части
Я вел спой дневник с начала 1915 года по ноябрь 1917 года. Затем вихрь событий так меня затормошил, а главное, частая невозможность иметь при себе в силу того или другого условия записную книжку, в которой я мог бы правдиво описывать события, боясь, чтобы все записанное мною не попало в руки людей, которым не надо было бы знать, как я смотрю на тот или другой вопрос, все это заставило меня прекратить мои записки уже с ноября прошлого года.
Теперь этот интересный промежуток моей жизни придется восстанавливать по памяти; думаю, что с этим справлюсь.
Многие товарищи по войне, знакомые, друзья, не находящиеся все время при мне, не понимали, каким образом Скоропадский, все время бывший на войне, никогда не занимавшийся политикою, а украинскою подавно, не имевший никаких связей с немцами, вдруг оказался Гетманом всея Украины, поддержанный немцами, вошедший в Сношения с Entente-ой. Каким образом все это произошло? Конечно, как это всегда бывает, начались всякие нелестные для меня предположения: изменил России, продался немцам, преследует личные выгоды и т. п. Лично считаю ниже своего достоинства опровергать истерические выкрики всей этой мелкой публики, скажу лишь одно, что я сам не понимаю, как все это произошло. Меня, если можно так выразиться, выдвинули обстоятельства, не я вел определенную политику для достижения всего этого, меня события заставляли принять то или другое решение, которое приближало меня к гетманской власти.
Из моего дневника можно видеть, насколько я мало интересовался всем тем, что не имело отношения к войне с немцами, и как я нехотя шел в сторону политики. Даже после прекращения мною дневника это явление еще резче проявлялось.
Как я уже выше говорил, меня всегда интересовало прошлое Украины, по я никогда не интересовался новейшим украинским движением.
Когда в феврале и марте 1917 года, стоя с 34-ым корпусом на позиции у Стохода в Углах, я впервые читал в «Киевской мысли»{9} об украинских демонстрациях, мне это не понравилось, я подумал, что это работа исключительно наших врагов с целью внести раздор в нашем тылу. Когда в «Киевлянине»{10} появились статьи против этих демонстраций, я с этими статьями соглашался.
Помню, что по этому поводу пришлось спорить с моим адъютантом Черницким, который, воспитываясь раньше в Киевском университете, теперь, слыша про украинские демонстрации, придавал им большое значение. Адъютант Черницкий был скрытый враг России, как поляк, и поэтому в этих вопросах я ему не доверял. Вспоминаю затем, что в конце апреля я ездил как-то в штаб командующего армией Балуева и по дороге туда остановился в Сарнах, где провел несколько часов в Конной Гвардии{11}, стоявшей там на охране железной дороги. В разговоре с офицерами мне как-то Ходкевич, поляк, сказал, что я должен был бы принять участие в украинском движении, что я могу быть выдающимся украинским деятелем, гетманом даже, и, помню, как это мне казалось мало интересным. В мае и июне я ни разу не вспомнил про украинство, если не считать, что в начале мая, как-то проезжая в автомобиле из штаба 16-го корпуса в Коломыю, где стоял мой штаб, я подвез по дороге какого-то солдата, который был назначен депутатом от украинцев на первый Войсковой Украинский Съезд{12}. Этот солдат меня спрашивал, как я смотрю на вопрос, нужно ли теперь украинцам выделяться из частей и образовывать отдельные части. Я ему ответил, что считаю это пагубным с точки зрения нашей военной мощи, что переформирование военных частей почти под огнем противника последнему на руку, что таким образом мы только расстроим окончательно нашу армию. Он ушел от меня, когда я подъезжал к Коломые, и я забыл про этот разговор.
Уже после нашего последнего наступления, когда корпус мой отошел в резерв, штаб мой был в Мужилове. Было это около 29-го июля, ко мне приехал некто поручик Скрыпчинский{13}, украинский комиссар при штабе фронта, и предложил мне, с согласия главнокомандующего, Гутора{14}, украинизировать корпус. Человеком он мне показался приличным, очень умеренных воззрений, я с ним разговорился и спросил его, почему он именно ко мне обратился. Он ответил, что украинизации свыше сочувствуют, так как здесь играет большое значение главным образом национализация, а не социализация, в украинском элементе солдатская масса более поддающаяся дисциплине и поэтому более способна воевать. Обратился же Скрыпчинский ко мне потому, что мой корпус в данное время был очень малочисленным (верно, в последнем наступлении он понес большие потери, особенно в 23-ей дивизии), и потому, что я, Скоропадский, сам украинец. Я прекрасно помню, что ответил ему скорее отрицательно, указывая на то, что боюсь, как бы украинизация не расстроила окончательно мой корпус, что же касается того, что я украинец, то верно то, что я очень люблю Украину, но что мало знаю и совершенно не сочувствую тому украинскому движению, которое тогда господствовало, что оно слишком левое, что из этого никакого добра не выйдет, что я сам «пан», а все это движение направлено против панов, что, таким образом, я никогда не смогу слиться с остальными вожаками движения. Я помню также, что я ему решительно не отказал, а сказал, что подумаю и, во всяком случае, прежде чем дать ему определенный ответ, должен лично узнать мнение по этому вопросу моего командующего армией, Селивачева{15}, и главнокомандующего, Гутора. Он уехал.
Я ему тогда резко не отказал по следующей причине: в то время я только что закончил нашу печальную наступательную операцию (последнее наступление Керенского){16}. Нельзя себе представить, сколько тяжелых минут мне тогда пришлось пережигь из-за развала, происшедшего среди наших солдатских масс благодаря революции. К сожалению, офицеры принимали в этом безобразии большое участие, особенно из среды не побывавших в огне. Мне приходилось тогда атаковать очень трудный участок, Обренчовский лес. У меня было четыре дивизии: мои две, 104 и 153, да приданные мне для атаки и дальнейшего наступления 19 Сиб[ирская] стр[елковая] и 23 пехотная. 23 пехотная дивизия была вначале в прекрасном состоянии, она давно стояла на этой позиции, сжилась с нею и согласна была атаковать, мои же две дивизии и только что пришедшие, и 19-ая Сибирская, незнакомые с местностью, заявили, что атака трудна, но отложить атаку было невозможно. Я неоднократно непосредственно писал главнокомандующему{17}, что атака без основательной подготовки плацдарма успеха иметь не может. Он лично по моему последнему письму приехал ко мне и сказал, что откладывать атаку из-за меня он не может, атака будет. Сперва атака была назначена на 12, потом была перенесена на 17 июля. Вышеуказанные части на позицию идти не хотели, энергично взяться за подготовку окопов тоже не хотели; приходилось их убеждать.
Озверевшие солдаты митинговали, сбившись в толпы, необходимо было въезжать или входить в середину толпы и убеждать. Конечно, при этом надо было отказываться от всякого самолюбия.
Помню тогда интересный эпизод моего знакомства с социал-революционером Савинковым{18}, который в то время был комиссаром 7-ой армии, в состав которой мы входили. Два полка 104-ой дивизии решительно отказались исполнить приказание. Савинков и я с начальником дивизии Люповым поехали убеждать их. Савинков говорил очень хорошо, по в результате только небольшая часть этих полков пошла, большая же часть осталась, обсыпая нас потоками ругани, из среды толпы выходили агитаторы и говорили речи, лейтмотив которых был, что начальство о нас не заботится, пьет нашу кровь и т. д. Савинкову тоже досталось; когда мы уезжали, толпа эта провожала нас гиком и свистом. Такие сцены мне не раз пришлось пережить перед атакою. В конце концов, мой корпус атаковал и взял три линии окопов, затем, вместо того чтобы немедленно двигаться дальше, части занялись обшариванием окопов и, несмотря ни на какие увещания, дальше идти не хотели. В результате на следующий день они находились на исходных позициях. Вообще, этот период управления в бою революционными войсками — одно из самых отвратительных воспоминаний моей жизни, за время которой мне волею судеб приходилось иногда выкручиваться из очень неприятных положений, но никогда еще не было таких нравственных страданий, столько несправедливого ко мне отношения, такой жестокой неблагодарности.
Я очень много работал над своим корпусом и старался всегда, чем мог, облегчить положение солдат, постоянно бывал на позициях и требовал от своих подчиненных того же, поэтому, когда мне пришлось услышать все эти речи от людей, которые, кстати, сами в огне никогда не бывали, меня это приводило в отчаяние. Я это старательно скрывал и теперь, когда ко мне явился Скрыпчинский с предложением отделаться от всех этих господ, я, без всякого отношения к политике, подумал, что это было бы не так уж плохо, но все же, не желая смешиваться с приверженцами Рады{19}, я решил сначала лично выяснить точку зрения высшего командования, поэтому начал с того, что написал письмо моему хорошему знакомому еще по японской войне, генерал-квартирмейстру фронта генералу Рателю{20}, с просьбой это письмо довести до сведения главнокомандующего Гутора и его начальника штаба, генерала Духонина{21}. В этом письме я указывал, что если мне прикажут, я могу украинизировать корпус, но считаю, что это представляет большие затруднения. Допускаю, что в данное время украинцы являются лучшим элементом в боевом смысле, но не могу не указать на политическую сторону, которая будет чревата всякими последствиями. На последнем я особенно настаивал. Не помню, в конце ли письма или отдельною телеграммою, я просил разрешения главнокомандующего поехать для выяснения вопроса на несколько дней в Киев, предварительно заехав к нему.
Дня через два я получил телеграмму, в которой главнокомандующий меня уведомлял, что он разрешает мне на несколько дней ехать в Киев, по предварительно просил меня заехать к нему в штаб для выяснения вопроса.
Я выехал в сопровождении Вас[илия] Васильевича[52] Кочубея{22} и офицера штаба корпуса, капитана Кизиль-Баши. Сначала я сьездил к командующему армией Селивачеву. Он на национальный вопрос украинства смотрел не особенно сочувственно, но, вообще, ко мне лично относился очень хорошо, и поэтому к специальному вопросу об украинизации корпуса он относился терпимо. Начальник штаба, граф Каменский, очень симпатичный человек, чрезвычайно откровенный, энергичный, просто рвал и метал, ругая Гутора за его мысли об украинизации. Он все же выдал мне бумагу, что я командирован в ставку главнокомандующего и далее в Киев для выяснения всех вопросов, связанных с украинизацией корпуса.
Кажегся, 31 июля началось мое автомобильное путешествие из Мужилова в Киев с заездом в Федорове к главнокомандующему. Штаб я его застал в довольно подавленном настроении. Кажется, накануне неприятельские снаряды попали в один из наших складов, который начал разрываться, и, судя по выбитым в поезде главнокомандующего окнам и пробоинам в стенках вагона, несколько осколков попали в поезд. Сначала я повидал Рателя, напомнил ему о письме, которое я ему написал, и просил это письмо передать в дело штаба, считая его официальным. Затем я отправился к Духонину. Последний страшно меня торопил, указывая на то, что он где-то видел украинские войска{23}, и что они на него произвели хорошее впечатление, и что необходимо, чтобы я скорее украинизировал корпус. На все мои сомнения он отвечал, что при желании все трудности можно преодолеть, и повел меня к главнокомандующему, с которым я завтракал. Во время еды главнокомандующий Гутор неоднократно возвращался к вопросу моего корпуса, считая, что вопрос его украинизации решен и мне задумываться над этим не приходится. На мой вопрос, читал ли он мое письмо, он ответил, что читал, но мнения своего не изменил. Я просил с окончательным решением этого вопроса повременить до возвращения моего из Киева и немедленно же после завтрака выехал на автомобиле в Киев.
Никогда еще мне не приходилось делать такого тяжелого путешествия. Дорога была отвратительна, хотя машина была отличная, сильный бенц, но для подобной дороги было недостаточно шин, они скоро полопались, приходилось их вечно чинить. Таким образом, вместо одного, максимум полутора дня, мы ехали четверо суток. Помню, ночевали в Бродах первую ночь; город был под обстрелом противника, паши батареи имели позиции в самом городе. Ночевали в какой-то чистенькой гостинице, хозяйка которой была чрезвычайно напугана положением вещей в Бродах. На следующий день мы продолжали путешествие таким же образом, останавливаясь на два-три часа по несколько раз в день. Наконец, поздно ночью мы добрались до какого-то хуторка в 16-ти верстах от Новоград-Волынска, где просидели весь остаток ночи над надуванием шин. Надували их втроем, а шофер чинил. Тут в хате я разговаривал с хозяевами. Это были хуторяне столыпинской реформы{24}. Рано поутру я обошел с ними весь их хутор и пришел в восторг от виденного. Такого порядка и довольства в крестьянском хозяйстве я еще не встречал, хотя объездил и живал подолгу среди крестьян, особенно во время войны. Хуторяне приписывали свое благоденствие выделению их на отруба{25}. Хозяин все время к своим поясненим прибавлял: «Да, теперь стоит работать, ничего не пропадет, никому не приходится давать объяснений». Отъехавши утром версты две от хутора, вся наша ночная работа снова пропала. Шипы сразу лопнули на двух ободах, тогда мы набили их старым платьем и бельем и кое-как добрались до Новоград-Волынска. Здесь я никак не мог найти нового автомобиля, мои офицеры обошли весь город. Наконец, Кочубей как-то узнал, что на окраине города живет какой-то шофер-украинец, он поехал к нему, разговорился с ним и заявил, что он тоже украинец, но что, вот большое несчастье, с ним едет генерал Скоропадский, который едет в Киев в Раду по вопросу об украинизации корпуса, и что нельзя доехать, так как наш автомобиль не имеет шин, а дело очень спешное. Украинец-шофер, фамилию я его, к сожалению, забыл, действительно отнесся трогательно к нашему положению. Он немедленно вошел в соглашение с каким-то инженером, достал автомобиль, сам свез нас в Житомир, хлопотал, чтобы у нас был автомобиль на следующий день для поездки в Киев и ни копейки с меня не взял, заявив, что делает это все в виду того, что я украинец и что украинцы должны друг другу помогать. Мы ночевали у Франсуа в Житомире. В ресторане сидели польские паны и говорили про пана Грушевского{26}, последний был им очень неприятен.
На следующий день мы только вечером добрались до Киева, где я остановился у В.К.[53] В.К. на мои вопросы, что такое Рада, высказался против нее, находя, что это кучка подкупленных австрийцами лиц, которые ведут украинскую агитацию, что в народе эта агитация не встречает сочувствия, что туг тайно примешивается агитация Шептицкого{27}, стремящегося обратить наших малороссов в униатство и т. д. На следующий день я отправился в Генеральный Секретариат по воинским справам{28}. В то время все лица, там заседавшие, совершенно еще не оперились; все они производили впечатление новичков в своем деле. Собственно говоря, никакого делопроизводства еще не было, и, кажется, вся их забота состояла главным образом в борьбе с командующим войсками Киевского военного округа, социал-революционером Оберучевым{29}. Настроение тогда у них было умеренное в смысле политических и социальных реформ, главным образом проводилась национальная идея. Там я впервые встретил Петлюру{30}. Окружен он был массой молодых людей, которые носились с какими-то бумагами. Вообще, типично революционный штаб, которых впоследствии приходилось часто встречать. В помещении был большой беспорядок и грязь. Очевидно, дела у Центральной Рады шли еще не особенно хорошо. Чувствовалась какая-то неуверенность. Но что мне понравилось, это определенное чувство любви ко всему украинскому. Это чувство было неподдельное и без всяких личных утилитарных целей. Сознаюсь, что мне было симпатично; видно было, что люди работают не из-под палки, а с увлечением. С Петлюрой я очень мало говорил, он совсем не был в курсе военных дел, а больше занимался киевской политикой. Был любезен, тогда еще говорил со мной по-русски, а не по-украински, вообще, тогда украинский язык еще не навязывался насильно. Кроме Петлюры, там был еще генерал Кондратович{31}, который разыгрывал украинца, но ему, видимо, не доверяли, и он был на третьих ролях. Душой всего дела и самым осведомленным был какой-то поручик и Скрыпчинский{32}. В общем, на меня вся эта организация не произвела такого отталкивающего впечатления, как меня предупреждали другие. Говорилось о дисциплине, о необходимости воевать с немцами. Не знаю, было ли это искрение, во всяком случае, на меня, тогда вернувшегося только что с фронта, украинизация скверного впечатления, согласно с моими воззрениями, не произвела; я находил только, что украинизировать корпус очень сложно и эта сложная операция может повредить боеспособности, и поэтому, уезжая из Секретариата, решил просить, чтобы мой корпус не украинизировали.
На следующий день в Киеве началась стрельба из-за выступления так называемых полуботковцев{33}. Подробностей этого дела я не знаю. Меня уверяли, что это выступление было заранее подготовлено с целью свержения власти Центральной Рады и захвата власти чуть ли не полковником Капканом{34}, который собирался провозгласить себя гетманом, по что в последний момент он на это не решился. Полуботковцы были большею частью арестованы. Не знаю, так ли все это, да это и неважно. Факт тот, что движение это, во всяком случае, носило характер большевистский, арестовывали офицеров, срывали погоны и т. д.
Я отправился в штаб округа. Командующий войсками округа, по назначению Керенского, был тогда Оберучев, начальником штаба генерал генерального штаба А.[54] Самого Оберучева я не видал, он был где-то за городом. Личность это довольно интересная, судя по тому, что я о нем слышал. Говорили о нем, что он умный, образованный и энергичный социал-революционер; бывший артиллерийский полковник, лет за десять до нашей революции участвовавший в каком-то офицерском заговоре, бежал за границу, где и находился до начала революции. С первых ее дней он играл видную роль в Киеве. Если он действительно, как говорят, умный человек, то мне положительно невдомек, каким образом он думал, что, руководствуясь принципами, положенными в основу управления нашими войсками во времена Керенского, можно было заставить их повиноваться, да будучи еще сам при этом военным человеком, дослужившимся до чипа полковника. Его вначале слушали, брал он смелостью и умением говорить; через некоторое время, как это всегда бывает, его уже ни в грош не ставили, повторяю, я его не видел, записываю это с чужих слов; кстати, мне уже говорили, да этому я и верю, так как Оберучев об этом писал в «Киевской мысли», он был ярым врагом всего украинского, а украинизации армии и подавно.
Начальник штаба, генерал А.[55] на меня произвел впечатление личности, находящейся в руках Оберучева, и собственного мнения не имевший. Итак, большинство лиц, которых я встретил, да и мои личные впечатления были скорее за то, чтобы корпус не украинизировать. С таким решением я и выехал обратно в корпус по железной дороге.
Уже на станции Киев я узнал, что немцы и австрийцы перешли в наступление{35}, поэтому, чтобы не разыскивать долго корпус, я решил отправиться в Каменец-Подольск, а оттуда на автомобиле уже к себе. В Каменце находился штаб главнокомандующего, который даст мне все нужные сведения. Так я и сделал. На следующий день, т. е. 7-го июля, я приехал в Каменец-Подольск. В штабе главнокомандующего смятение: только что прибыл Корнилов{36}, назначенный вместо Гутора. Бывший главнокомандующий Гутор прощался со штабом. Немцы прорвали фронт, подробности неизвестны.
Я побывал у Рателя, Духонина и отправился к Корнилову. У последнего мне всегда было приятно бывать. Я его знал, когда командовал Гвардейским кавалерийским корпусом вместо хана Нахичеванского, а затем 34-ым корпусом, Корнилов же командовал 25-ым{37}. Нам тогда часто приходилось встречаться на совещаниях в Луцке у Валуева, и Корнилов на меня всегда производил впечатление человека честного и сильного. Он относился ко мне всегда хорошо. Еще недели за две до его назначения главнокомандующим, он звал меня к себе в 8-ую армию, где предлагал дать мне 23-ий корпус. Я решил было согласиться из-за желания служить под командой Корнилова, но через несколько дней я узнал, что Корнилов поссорился со своими комитетами и решил сдать армию. Поэтому я отказался уходить от 34-го корпуса, с которым я сжился и который я мог бы покинуть лишь для того, чтобы служить у Корнилова. Еще раньше, когда Гурко{38} уходил из Особой армии, где я командовал гвардейской дивизией{39}, Гурко предложил мне на выбор пять корпусов, по мне жаль было бросать свой 34-й корпус. Обоих этих генералов я искренне любил и уважал и готов был принципиально за ними следовать. Я не ошибся. Корнилов, как и следовало было ожидать, получил Юго-Западный фронт, а на его место был назначен ужаснейший генерал Черемисов{40}.
Корнилов встретил меня любезно и принял со словами: «Я от Вас требую украинизации Вашего корпуса. Я видел Вашу 56-ю дивизию, которую в 81-ой армии частью украинизировал, она прекрасно дралась в последнем наступлении. Вы украинизируйте Ваши остальные дивизии, я Вам верну 56-ю, и у Вас будет прекрасный корпус». Эта 56-ая дивизия была временно от меня оторвана и придана 8-ой армии Корнилова, я же был с двумя дивизиями в 7-ой армии. Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблюдал украинских деятелей, и на меня они произвели впечатление скорее неблагоприятное, что корпус впоследствии может стать серьезной данной для развития украинства в нежелательном для России смысле и т. д. На это мне Корнилов сказал, прекрасно помню его слова, они меня поразили: «Все это пустяки, главное война. Все, что в такую критическую минуту может усилить пашу мощь, мы должны брать. Что же касается Украинской Рады, впоследствии мы ее выясним. Украинизируйте корпус». Меня эти слова поразили, потому что общее впечатление об украинском движении заставляло думать, что движение это серьезное. Легкомысленное же отношение Корнилова к этому вопросу показало мне его неосведомленность или непонимание. Я старался обратить его внимание на серьезность вопроса, понимая, что к такому национальному чувству, какое было у украинцев, надо относиться с тактом и без эксплуатации его из-за его искренности. Я, помню, тогда вышел и подумал: не может же быть, чтобы Корнилов не продумал вопроса и принял решение, и такое важное, как национализация армии, не отдавши себе отчета во всех ее последствиях. Конечно, теперь, вспоминая всех этих генералов, я не поверил бы им, это были положительно дети в вопросах политики, но тогда, не имея другой мысли в голове, как борьбу с немцами на полях сражения, я не сомневался в правоте их мнений. На прощание Корнилов мне еще раз сказал: «Корпус Ваш будет украинизироваться, а теперь спешите к нему, он сегодня, вероятно, вступил в бой».
Я немедленно, раздобыв себе автомобиль, поехал в Бучач к командующему армией, в сопровождении какого-то, вновь прибывшего, французского офицера. К командующему Селивачеву прибыл я вечером. Хороший генерал, это тоже один из честных русских генералов. Вообще, как и во всем в России, вечно самые яркие контрасты, также и в среде генералов. Чуть ли не ходячее мнение, что наш высший командный состав плох. Это, по-моему, неверно; среди нашего генералитета были действительно светлые личности, и к таким, между прочим, я причисляю Селивачева. Но при существующей у нас вечной анархии и справа и слева честным людям приходится преодолевать несравненно больше препятствий для проявления своей воли и инициативы в полезную сторону, чем где бы то ни было в другой стране.
Прибыв к Селивачеву, я сразу понял, что дело неладно. Бучач, дотоле шумный, где в течение очень долгого времени стоял штаб 7-ой армии, и теперь кипел жизнью, но чувствовалось, что уже прошли времена, когда над штабом витала победа, теперь настроение у всех было подавленное — немцы прорвали фронт в нескольких местах, наши войска, видимо, по всей линии отступали. Мой корпус с утра был уже выдвинут из резерва в Мужилове в северо-западном направлении, но в виду того, что корпуса, находящиеся на фронте, уже отступали, он получил приказание сосредоточиться в районе Барнакова, куда он должен был прибыть к утру. От Селивачева я получил все должные указания и ушел добывать автомобиль. Помню, что уходя, встретил комиссара при VII-ой армии, заменившего Савинкова{41}, я его видел до этого раза два, и он меня поразил своим видом непогрешимого папы. Все, что он делал или говорил, по его мнению, было великолепно, он считал, что именно он является решающим голосом во всех вопросах, на нас он смотрел свысока. С виду это был человек лет 55-ти, с большой бородой, по профессии, кажется, врач, бывший политический каторжник. Теперь, когда я его встретил, у него был совершенно растерянный вид. Он обратился ко мне и спросил, можем ли мы удержаться и не является ли это началом разгрома армии. Раздосадованный всеми порядками, заведенными у нас в армии этими людьми, я ему довольно резко ответил, что в обыкновенное время мы бы довольно быстро локализировали прорыв и остановили противника, но теперь с новыми порядками не знаю, что из всего этого выйдет. Он от меня отскочил.
В Барнаков приехал поздно ночью, штаб и войска мои еще туда не прибыли. Я переночевал в хате; к утру подошли сначала какие-то наши обозы, а затем и штаб. Началось так называемое «Тарнопольское отступление», которое является одной из самых печальных, до отчаяния тяжелых страниц нашей военной истории. Я не буду подробно останавливаться на боевых действиях моего корпуса, что совершенно не представляет интереса для выяснения дальнейших политических событий, в которых я играл роль. Ограничусь лишь коротким перечнем событий. В течение двух войн мне приходилось бывать в очень неприятных положениях, но, как я уже говорил, таких нравственных мучений. которые я пережил с 8-го по 18-ое июля, т. е. когда мы окончательно осели на Збруче у Сатапова{42}, я никогда не забуду.
9-го у Барнакова был бои при очень трудных для меня условиях, из которых главное — перерыв связи по фронту и вглубь с командующим армией. Помню, что когда связь эта восстановилась, я в тот день объехал все свои части, выдвигая их на позиции, торопя, подбадривая, вернулся в Барнаков, довольный своей деятельностью, и полагал, что Селивачев, получив вечером мое донесение, будет тоже очень доволен. Каково же было мое удивление, когда, подойдя к аппарату, я вдруг прочел: «Вы действуете медленно, потрудитесь проявить больше энергии и т.и.» Я совершенно не понимал, какой еще энергии он от меня требует. Не имея никакой связи, мне пришлось разослать всех своих ординарцев и адъютантов. Лично я, когда части подходили, объездил все полки, говорил с ними, затем перед подходом к позиции опять разговаривал с начальствующими лицами и, благодаря личному воздействию, могу сказать без преувеличения, части недурно разворачивались. Я был доволен, и… вдруг- нагоняй, да еще какой! Долго спустя, уже в Меджибужье, в мирной обстановке, как-то раз, когда Селивачев был у меня, я его спросил, почему он так тогда на меня напал. Селивачев внимательно меня выслушал, мы разобрали все детали разворачивания корпуса. Оказалось, что он ошибся, полагая, что дивизии уже были сосредоточены против своего будущего фронта и что им нужно было только подвинуться вперед. В тоже время, на самом деле, дивизии были сосредоточены частью почти у самого Барнакова, частью же еще не подошли с ночного марша, поэтому обстановка для разворачивания была очень сложной и требовала, при самом большем напряжении, значительно более долгий срок. Селивачев разобрался во всем этом и сразу согласился. Вообще, это был редко честный человек. 9-го июля, к концу дня, обозы нескольких корпусов, смешавшись, проходили через Барнаков. Тут я увидел воочию, что из себя представляет революционная дисциплина: пришлось разослать весь штаб, чтобы хоть как-нибудь упорядочить это движение, грозящее каждую минуту перейти в катастрофу, из-за возможной в такой среде паники от каждого пустяка. 10-го, утром, мы были уже в Хмелевке, за ночь туда перебрались. В этом бою у меня перебывало дивизий 7 или 8, но большинство из них драться не хотело, другие же делали вид, что дерутся, по при первом маленьком натиске отходили. Моя 104-ая дивизия, во главе с доблестным генералом Гандзюком{43}, дралась, т. е. большинство полков хорошо себя вели, в особенности 4-ый полк{44}. К концу боя оба начальника дивизии, генерал Ольшевский 153-й дивизии Гандзюк 104-й дивизии, были тяжело ранены, особенно последний. Я думал, что он погиб, но крепкая его натура и на этот раз выдержала. После страшнейшей контузии уже через два месяца он стал во главе дивизии. Это был настоящий герой. Девять раз раненный и вышедший из войны все же дееспособным, бедный Гандзюк был убит в январе 1918 года большевиками.
В бою у Хмелевки меня охватывали то радостные минуты, то я приходил в отчаяние. Временами, глядя, как дрались некоторые, немногие части под командой лихих офицеров, мне казалось, что и с такой армией можно еще отстаивать честь Родины. Но тут же рядом наблюдал безобразнейшие картины бегства других частей. Помню, одну часть с 45-ю офицерами увел какой-то демагог поручик. Часть эту я остановил и офицеров предал суду. Другие части сразу не удирали, а постепенно таяли от уходящих понемногу, один за другим, негодяев. Вначале еще я кое-как справлялся, приказывал их арестовывать и т. д., но потом поток стал неудержим; люди нескольких дивизий смешались, и тогда уже ничего нельзя было сделать. На фронте держались до вечера два полка 174-ой дивизии и, кажется, один полк 3-ей Амурской дивизии.
11-го мой штаб был в Лясковцах. Там же сосредоточились также штаб первого корпуса, Мельгунова, и шестого корпуса, Нотбека{45}.
В бою у Лясковцев положение было очень плохое, не хотелось отступать за реку, да и приказания на это я еще днем не имел. Большинство частей неважно дрались, главным образом приходилось держаться отвагою тех частей, которые так хорошо пели себя накануне. Около двух-трех часов дня положение было совсем как будто плохое, в это время мне передали два подошедшие полка Туркестанской дивизии, не помню номера. Нотбек, видя обстановку, пришел ко мне и говорит-: «Я эти полки знаю, одним из них я командовал, они за мной пойдут, я сам их поведу в атаку». И пошел, и действительно временно задержал наступление. Нужно согласиться, что не всякий генерал, не будучи обязан, на четвертом году войны взялся бы быть охотником для спасения дела и с чужими частями бросаться в огонь, да еще и безнадежное дело и с революционными войсками. Я проникся к нему глубоким уважением. Поэтому я был так удивлен, что этот честный Нотбек теперь командует какими-то частями у большевиков 11 наблюдает, как его же част и расстреливают товарищей офицеров и его знакомых массами в России. Это что-то моему разуму непонятное.
Помню, что во всех этих боях мне очень помогли броневики, в особенности английские{46}. Наши русские броневые отряды уже отчасти деморализировались и за малейшее дело являлись ко мне, умоляя представить их к награде, хотя я и им в лихости не мог отказать. Англичане же были героями и не раз косили целые немецкие роты, находящиеся в компактных массах; они проникали в тыл противника и там вносили временное расстройство. Верно, что прекрасное шоссе сильно способствовало их усиленным действиям.
Ночью на 11-ое через Косов я отошел к Яблонову. Было приятно рано, после ночного марша, очутиться в прекрасном доме графини Ченской, которая нас очень радушно приняла и угостила чаем.
Каких усилий мне стоило, чтобы проходящие войска не грабили ее и окрестных жителей, по, несмотря на все меры, принятые мною, на следующий день, когда мы были в Копычинцах, я узнал, что после нашего ухода наши мародеры дотла ее ограбили и хуже того, по словам местных жителей, мужчин истязали, а женщин изнасиловали.
12-го немцы на нас не наступали, и это нас спасло. Это дало возможность нам немножко водворить порядок в обозах четырех корпусов, которые, несмотря на совершенно точное приказание, в котором каждому корпусному обозу был указан отдельный путь, все сбились в участке шоссе Копычинцы — Гусятин. Тут творилось что-то невообразимое, и только усиленными мерами командующего армией в Гусятине и моими в Копычинцах к вечеру нормальное движение было более или менее восстановлено.
В ночь на 13-ое мне было приказано сразу оторваться от противника и ночным маршем перед рекой перейти к Збручу, где и занять позицию западнее реки. Желая помешать насилию частей над жителями Копычннцев, я остался со штабом до полного отхода частей, и здесь мне пришлось быть свидетелем зверств наших революционных солдат. Положительно это были звери. Грабеж, убийства, насилия и всякие другие безобразия стали обыкновенным явлением. Не щадили женщин и маленьких детей. И это среди населения, которое относилось к нам очень сочувственно. Что мог предпринять штаб и я, когда комитеты считались настоящими хозяевами. Я еще как-то умел с ними ладить и подчинять их своей воле. Во время боев комитеты куда-то исчезали, и тогда было значительно легче работать. Как только противник был далеко, все эти учреждения снова делали свое отвратительное, разлагающее дело. Я встречал чудаков, которые мне говорили, что если бы не было комитетов, было бы еще хуже. Это, по-моему, сплошной вздор. Комитеты некоторым слабым начальникам были удобны — это верно, так как эти господа могли всегда ответственность сваливать частью на комитеты. Бывали действительно случаи, когда в комитеты попадали хорошие, благонамеренные люди, и тогда, иногда, они приносили пользу, по такие случаи были очень редки, да и вопрос еще, окупалась ли та польза, которую они приносили, тем вредом, который они делали, содействуя развалу армии, так как о таких полезных случаях немедленно кричали, доводили до сведения высшего начальства и некоторые из числа высших генералов начинали верить, что действительно комитеты не так уж дурны. На самом же деле это было величайшее зло, которое нас погубило. Всякую демократизацию можно было ввести другими мерами свыше, но подрыв власти командного состава, да еще во время войны, когда те же революционные деятели требовали от нас наступления, просто указывает на глубину невежества этих людей. Сколько бесцельных жертв мы понесли среди наших лучших граждан за этот грех нашей интеллигенции, так безграмотно взявшейся править Россией.
Ночью на 13-ое я с корпусом отошел на Збруч благополучно и здесь усиленно начал укреплять позицию. Это была последняя позиция, на которой я стоял. Ею я закончил войну, да впрочем, далее немцы и не двинулись.
В Саганове стал мой штаб. Корпусу моему досталась прекрасная позиция. Я с увлечением начал ее укреплять. Впереди открытая местность, тыл наш прикрыт густым лесом, обеспеченные фланги, сносные дороги и сверх того прелестная, чрезвычайно живописная местность. Вот, думал я, тут можно будет дать хорошую трепку немцам, если пойдут на меня. Но они шли на Гусятин, а на меня ежедневно с тыла нападали комитеты и всякий другой народ, свой и приезжий, даже из Петербурга, в лице каких-то членов рабочих и солдатских депутатов{47}. На следующий день, по прибытии на Збручскую позицию, я рано утром с адъютантом Черницким поехал на позицию и тут же дорогою пришел в ярость. От противника мы оторвались верст на 25, кругом спокойно, позиция хорошая, а вижу, целые толпы солдат прут дальше куда-то в тыл. Я понял, что если на этой позиции мы не остановимся решительно, тогда уже наступит окончательный развал. Я начал подъезжать от одной кучки к другой, увещевал, ругал, — делают вид, что слушаются, отъеду — поворачиваются и идут на восток. Тогда, поняв, что такими мерами ничего не достигнешь, я поехал в штаб 153-ей дивизии, расположившийся в долине среди гор, заросших прелестным лесом. У входа штаба стояла куча солдат. — «Это кто такие?» — спрашиваю временно командующего дивизией. «Да вот уж перешли реку, собирались удирать — я их увещеваю». — «Не увещевать, а нужно расстреливать!» Временно командующий дивизией возразил, что не имеет этого права по закону. Тут же послышались голоса, разделяющие тоже его мнение. Я вошел в дом, приказал выделить одного из кучи дезертиров, более нахального, и написал лично приказ немедленно расстрелять его, объявив в дивизии, что всякий, кто без приказания перейдет реку Збруч, будет немедленно расстрелян. И сказал временно командующему дивизией, что если приказ этот не будет немедленно исполнен, я его отрешаю от должности и предам суду за неисполнение приказаний. Дезертир был расстрелян, и была выставлена надпись у реки: «Дезертир, не уходи за реку, будешь расстрелян!» Эта, далеко не демократическая, мера сразу возымела свое действие: массовое дезертирство прекратилось, и работы по укреплению позиции пошли довольно успешно. Этот случаи приказа расстрелять даром мне не прошел: комитеты заволновались, началось обсуждение, как быть со мной. Корниловский приказ о предании суду виновных в дезертирстве, грабежах, насилиях и т. п. и о введении смертной казни вышел значительно позже{48}.
В это же приблизительно время появился первый приказ, помню даже точно, 16-го был расстрелян дезертир, а 18-го вышел приказ Корнилова об украинизации корпуса.
Раз Корнилов требовал настойчиво украинизации, я ничего не имел против того, чтобы была украинизирована 153-я дивизия. Это была дивизия последней формации, плохо снабженная, несбитая и ничем доблестным во время последних боев себя не проявившая. Но я решительно восстал против того, чтобы была украинизирована 104-ая дивизия, в последних боях показавшая себя очень недурно, особенно в то время, когда во главе ее стоял генерал Гандзюк. Я непосредственно по этому поводу говорил с Селивачевым и просил его выхлопотать разрешение не украинизировать эту дивизию, а вместо нее дать мне в корпус какую-нибудь растрепанную за последние бои дивизию, которую не жалко будет раскассировать. Хотя Селивачев вполне со мною соглашался, тем не менее 23-го июня я снова получил приказ о выводе 153-ей и 104-ой дивизий, причем всех офицеров и солдат великороссов передать в 41-ый корпус (мой сосед справа). Я начал с того, что членов комитетов, всех евреев и великороссов передал в 41-ый корпус. Всех офицеров я не передал в 41-ый корпус, оставляя всех хороших у себя, слабоватых всех передал, точно так же поступил и с должностными солдатами. Это, может быть, с моей стороны была ошибка, но мне было тяжело отправить этот хороший элемент из корпуса, не устроив его приличным образом. Это мое решение создало мне потом кучу неприятностей.
24-го июля с одним кадром корпуса я ушел, сдавши позицию 41-му корпусу, в Меджибож. Для меня переход из Ивапковиц в Меджибож, кажется, 150 верст, одно из самых приятных воспоминаний 1917 года. Мы двинулись верхом. Компания наша состояла из инспектора артиллерии, Аккермана{49}, адъютанта Черницкого, прапорщика Зеленевского и двух-трех вестовых. Зеленевский{50}, бывший помещик в этой губернии, прекрасно знал всех окрестных жителей. Ехали мы очень быстро, так что на следующий день были уже в Меджибоже.
25-го июля я прибыл в Меджибож, вскоре подъехал мой штаб, и началась моя чисто украинская работа, которая меня довела до гетманства.
Я со своими офицерами расположился в замке, части в самом Меджибоже и в лагере 12-го корпуса.
Украинских пополнений почти что не было, но те, которые были, представляли из себя очень хороший элемент. У меня была надежда, судя по этим людям, что украинизация даст действительно хороший боевой контингент. Было особенно приятно, что среди этих украинцев не было озлобленных, недовольных, распропагандированных лиц, все смотрели весело и хотели работать. Ярые националисты, но и только; раз начальство украинское и украинский корпус — все хорошо. Работа закипела, и я надеялся, что все пойдет хорошо.
Но вскоре пришлось несколько разочароваться. Во-первых, через некоторое время явились пополнения совершенно другого состава, все больше политиканы на социалистической подкладке. Затем недостаток украинских офицеров сразу дал себя почувствовать. Мне все присылали с пополнениями одних лишь прапорщиков, очень остро национально настроенных, но не имеющих никакого понятия о поенных делах. В частях сразу же пошла рознь между новыми украинскими офицерами и старыми, главным образом великорусским элементом. Это были как раз те элементы, которые я придержал, желая их лучше пристроить в других частях и, кроме того, использовать как опытных офицеров, по так как пополнение явилось только в виде прапорщиков, которых на командные места я назначать не мог, мне приходилось не выпускать старых офицеров, пока я не найду более опытных старших. Глядя на всех этих украинских шовинистов, мне стало ясно с первого дня, что ссоры должны начаться и что в каждой части будет два непримиримых лагеря.
Снабжение, которое было обещано, также не приходило. Мне же, по плану Корнилова, на украинизацию моего корпуса был дан всего один месяц, и действительно, не помню, так кажется, но около 15-го августа я получил приказание передвинуть корпус в Ларгу-Липкин. Видя, что в том состоянии, в котором находился сейчас корпус, пи о каком передвижении не может быть и речи, я решил поехать с разрешения Селивачева в Бердичев к главнокомандующему.
17-го августа, по прибытии в штаб фронта, прежде всего зашел к генералу Маркову{51}. Я сразу заметил у него чрезвычайно недоброжелательное ко мне отношение и полное недоверие ко всему тому, что я говорил о положении корпуса. После этого я пошел к генералу Деникину{52}, который знал меня еще раньше, так как я временно командовал его 8-м корпусом. Я заметил опять то же самое отношение: корректное, но холодное и недоверчивое. Я недоумевал. Потом уже в разговоре выяснилось, что они полагали, что весь вопрос украинизации корпуса изобретен мною, что высшее начальство в это не вмешивалось, что, таким образом, я являлся каким-то авантюристом. Конечно, всего этого они мне не говорили, по такое мнение обо мне ясно можно было уяснить себе из наших разговоров.
На мое счастье, я как бы предчувствовал все это и поэтому приказал адъютанту вести с собой подробное дело украинизации корпуса. За этим делом в штабе я лично следил и знал, что там подшита каждая, даже маленькая, бумага и телефонный разговор. Поэтому, когда Марков в присутствии главнокомандующего Деникина обращался ко мне с вопросом: «А на каком основании Вы это сделали?», я молча указывал на бумагу, подшитую к моему делу. После этого объяснения со мной и Деникин и Марков сразу переменились ко мне, вероятно, сообразив, что я к тем украинским деятелям особого сорта не принадлежу{53}.
Оба эти генерала были чрезвычайно недовольны украинизацией корпуса, в особенности Марков. Марков рвал и метал, но ничего не мог мне сказать, так как положительно каждое мое распоряжение в вопросе украинизации было основано на письменном или телефонном распоряжении высшего начальства. В конце концов было решено, что украинизацию нужно провести только в тех частях, где она уже была у меня в ходу, что же касается артиллерии и вспомогательных частей, то оставить все по-прежнему. Это шло вразрез с настоятельным требованием бывшего главнокомандующего, Корнилова, теперь уже верховнокомандующего, который, наоборот, требовал полной украинизации вплоть до лазаретных команд. Я был несколько расстроен: одно начальство требовало одного, явилось другое, когда уже дело в ходу, и требовало совсем другого. Я жалел, что согласился тогда остаться в корпусе. Выяснивши только второстепенные вопросы, я отправился к себе в корпус, по самого главного вопроса об офицерах, т. е. что мне делать с уходящими великорусскими офицерами и солдатами и откуда мне получить опытных украинских офицеров, это все так и не было ими выяснено.
Во время моего пребывания в Бердичеве у меня осталось прекрасное впечатление от встречи с капитаном Удовиченко{54}. Это был молодой человек, образованный и широких взглядов, вместе с тем убежденный украинец. Я об этом упоминаю, так как это явление довольно редкое. Удовиченко теперь сменил в штабе фронта Скрыпчинского по должности украинского комиссара. Последнего удалил Марков.
Вернувшись к себе в корпус, я положительно приуныл: отношения между офицерами еще больше обострились. Прапорщики начали высказывать свое политическое кредо, многие из них оказались противниками войны, на заседаниях комитетов, куда многие из этих крикунов попали, была обычная тема о корпусе, который должен защищать лишь Украину, центром которой является Киев, что если сейчас корпус не будет отведен к Киеву, его займут великорусские войска, возвращающиеся с фронта, и тогда — конец Украине.
Высшего начальства, понимающего положение, не было, лишь впоследствии вернулся генерал Гандзюк и прибыли вновь назначенные ко мне генералы Клименко{55} и Крамаренко{56}. С их приездом мне, конечно, стало легче, но все же у меня положительно не было под рукой строевого начальника, на которого я мог бы вполне рассчитывать. Не потому, что эти генералы были неподходящими, наоборот, я их очень высоко ставлю как честных, добросовестных, исполнительных и прекрасно знающих свое дело людей. Но люди эти не могли быть совершенно надежными помощниками, потому что абсолютно не разбирались в делах, когда необходимо было вести политику.
Обещанное снаряжение являлось далеко не в том количестве, которое полагалось. Помню, как тяжело было со штанами: целые батальоны разгуливали в лохмотьях вместо штанов, но дисциплина все же поддерживалась, люди на занятия выходили веселыми.
Мы создали офицерскую школу с прекрасным составом учителей, особенно много труда положил на нее прекраснейшая личность, мой инспектор артиллерии, генерал Аккерман, полковник Ермолов и капитан Кузнецов. Для меня наслаждение было посещать эту школу. Я ясно наблюдал перемену, которая происходила в жизни многих из прапорщиков за время прохождения курса. Являлись они туда с известной мыслью, что их ничему не обучат, что это просто отбытие очередного номера. Большинство из них было напитано поверхностно всякими крайними социалистическими программами и к военному делу относилось враждебно. Вначале были чрезвычайно неаккуратны, но благодаря умению и такту руководителей, все это быстро менялось, и офицеры с большим интересом и усердием работали не покладая рук. Через полтора месяца это были неузнаваемые люди, дисциплинированные и знающие свое маленькое, но ответственное дело.
Мы значительно расширили курс школы прапорщиков, установленный правительством. Помню, какие интересные лекции читал сам очень образованный человек, капитан Кузнецов, по военной психологии, лично я с большим интересом за ними следил.
По окончании школы был торжественный акт и завтрак. Эти офицеры вышли из школы перерожденны, с горячим желанием работать для водворения порядка. Они являлись во всех частях самым надежным элементом, оставаясь вместе с этим украинцами, но без той узости и нетерпимости, которою они были напичканы раньше, той ненависти ко всему русскому, которая проповедовалась в течение всей революции их вождями.
Унтер-офицерские школы были также очень хороши. Кроме того, было много вспомогательных школ: бомбометания, минометная, гранатная, учебный городок и т. д.
Меня тогда посетил генерал Шейдеман, посланный главнокомандующим для выяснения готовности школы{57}. Он остался мною очень доволен, по все же признал, что при таком состоянии Корпуса, без старших офицеров и с таким снаряжением, выступать Корпусу невозможно. В виду такого положения и сознавая, что дальнейшее пребывание корпуса в тылу, подверженном значительно большему влиянию здесь всевозможных агитаторов, крайне нежелательно, я счел необходимым псе сделать для того, чтобы скорее выступить на фронт.
Вопрос об агитаторах в то время стоял неблагополучно, не говоря уже о том, что очень многие прапорщики в этом отношении были ужасный элемент. На мое несчастье, рядом с расположением в лагере наших частей стоял наш же 14-ый запасной полк, в среде которого были настоящие, видимо австрийского происхождения, шпионы, они вели сначала подпольную, а потом пытались вести и явную агитацию чисто большевистского характера и среди моих солдат. Какой-то агитатор даже успел собрать митинг, которые в то время, благодаря оздоровляющему влиянию Корнилова, были уже запрещены, но здесь украинское национальное чувство взяло верх. Немедленно же поехали и прапорщики, и солдаты из всех комитетов, держали соответственные речи, а когда это не помогло, то просили послать военную силу, и митинг был разогнан, по главный агитатор, к сожалению, как водится, удрал. Так уже открыто, пока мы были в Меджибуже, митинг не повторился. Но я не сомневаюсь, что подпольная работа подобных господ продолжала свое разлагающее, большевистское дело.
Я решил с разрешением Селивачева ехать в Ставку лично к Корнилову, который, я знал, интересовался моим корпусом и который единственно мог мне помочь в вопросе об улучшении положения офицеров и в деле переформирования корпуса.
26-го августа я, в сопровождении своего адъютанта, Черницкого, выехал на автомобиле в Бердичев, 27-го утром был в Киеве и вечером же поехал в Могилев. На следующий день, подъезжая к Могилеву, я вижу, в коридоре кондуктор читает публике телеграмму. Я подошел послушать. Оказывается, что это было телеграфное повторение манифеста Корнилова, в котором он объявлял, что Родина гибнет, что министры изменники и что он берег власть на себя{58}. Декларация эта всем известна, и я ее повторять не буду. Пассажиры переполошились, раздавались голоса и за и против, но когда через полчаса тот же кондуктор явился с телеграммой Керенского, в которой последний объявлял Корнилова изменником народному делу и т.и., тоже всем известная, напряжение среди публики дошло до высших пределов, и в соседнем купе началась уже какая-то перебранка, по видимо, по крайней мере в нашем вагоне, корниловцы брали верх. Я молчал и думал лишь о том, как бы скорее разобраться во всем происходящем и вернуться скорее в корпус, где, ясно сознавал, что все эти декларации не пройдут бесследно.
Приехали в Могилев. На станции масса часовых, караулы все выправленные, чисто одетые, дисциплинированные. Чтобы проехать в город, нужно было предстать перед каким-то чиновником, который подробно опрашивал меня о цели приезда и указал, что мне необходимо явиться к коменданту Ставки, прежде нежели получу разрешение проезда в штаб. Я так и сделал.
Помещение коменданта находилось возле дворца, где жил Корнилов. Подъезжая туда, я заметил скопление войск. Перед самым дворцом строились Георгиевский полк и Корниловский ударный батальон,{59} конные туркмены проходили повзводно и становились за решеткой. Штабные офицеры частью остановились, частью были разосланы в различных направлениях с приказаниями. Я понял, что тут что-то происходит, и решил подождать и посмотреть. Подошел хор музыки — очевидно, ожидали какое-то начальство. Наконец, под звуки встречного марша появился Корнилов, по-видимому, больной. Все были без пальто, он в шинели, нервною походкою обошел фронт, поздоровался и стал на какое-то возвышение, вроде скамейки, и обратился с речью. Всего я расслышать не мог, но по отдельным фразам: «Я казак, такой же простой человек, как и вы, братцы», «У теперешних министров звенит иностранное золото в карманах» и т. д., мне показалось, что он в общем повторил то обращение к народу, которое я уже читал в вагоне.
Окончив речь, он обратился к корниловцам: «Ну что же, корниловцы, вы пойдете со мною?» — «Точно так, господин генерал!» — был единодушный ответ. «А вы, молодцы-георгиевцы, пойдете со мною?» Несколько голосов ответило согласием, другие молчали. «Что же, пойдете?» — переспросил Корнилов. «Точно так, пойдем!» — по ответ был недружный и далеко не всеобщий. Начало не обещало хороших результатов.
Я пошел являться к коменданту. Через час я сидел у Лукомского,{60} начальника штаба Корнилова. Я его почти не знаю, по на меня он всегда производил впечатление человека очень умного и спокойного. Мы говорили о корпусе, по видно было, что Лукомскому было не до него. Хотя с виду он был спокоен, внутреннее волнение проявлялось резким постукиванием ножом по пресс-папье, лежавшем на столе. — «К сожалению, Вы приехали в такой момент, когда Вы сами видите, что у нас происходит». — «Точно так, в[аше] пр[евосходительство], я понимаю, что Вам не до меня, постараюсь как-нибудь с Вашими подчинеными разрешить все вопросы и поскорее уехать в корпус, дабы предупредить всякие осложнения».
Вечером я его снова видел за обедом, он был совершенно спокоен. Это человек, во всяком случае, прекрасно умеющий владеть собой. Уходя от него, я понял, что к Корнилову идти теперь не время, и решил через генерал-квартирмейстера и дежурного генерала выяснить все мои корпусные вопросы. Я так и сделал, и мне обещали все, что я просил: и офицеров прислать, и великороссов уходящих хорошо пристроить, а до получения ими места уплачивать им содержание по рассчету последней должности. Снаряжение должно было быть получено мною даже сверх комплекта, артиллерия моя должна была быть усилена. Я был чрезвычайно доволен и думал, что через какие-нибудь две-три недели мой корпус будет, заново отделанный, в состоянии выступить на позицию. Но тут же явилась мысль, что все хорошо, но как это завершится начатый переворот, и что-то поначалу мне показалось, что ничего из всего этого не выйдет.
Я пошел в штаб, где у меня было много знакомых, узнавать подробности переворога. Все находили его своевременным и очень хорошо задуманным. Сегодня должны были по всем направлениям выехать офицеры-ординарцы, в сопровождении двух туркменов, на автомобилях с приказаниями. Один такой автомобиль должен был двинуться в Киев для передачи приказаний Драгомирову Абраму{61}, у которого была подготовлена офицерская организация. Другой направлялся дальше в Бердичев для передачи приказаний Деникину, остальные не помню уже куда. Видел офицеров в штабе, собранных для рассылки по всей России. Генерал Крымов удачно подвигался со своими частями. Рассчитывали, что Петроград на следующий день должен был быть уже в руках корниловских войск{62}.
— А, — спросил я, — скажите, пожалуйста, у Корнилова в авангарде что идет, есть ли какие-нибудь офицерские батальоны или, может быть туземные войска в духе корниловских туркменов?
— Войска у Крымова прекрасные и не выдадут ни в каком случае. Это мне не понравилось, для меня было ясно, что раз у Крымова нет убежденных людей в авангарде, а таковых в вопросах внутренней политики у нас среди регулярных обыкновенных войск пег, так как в душе, как это не грустно, все наши солдаты в общем приближаются к большевикам, для меня было ясно, что экспедиция Крымова, очень возможно, потерпит поражение, так как авангард будет встречен парламентерами Керенского, начнутся переговоры, а после переговоров я ни разу не видел, чгобы брались снова за оружие. Кажется, так в конце концов и вышло. Во всяком случае, мне это не понравилось. — «А на кого же опирается главковерх? Ведь в армии мы ничего не знаем; положим, мы, высшее начальство, почти все будем с ним, по что касается офицерства, встретит ли декларация генерала Корнилова такое уж сочувствие? Разрабатывают ли этот вопрос?»
Ответ был уклончивый, но, видимо, всем хотелось верить в успех, да и сам я был в таком же настроении. — «А есть ли серьезные общественные группы, на которые главковерх опирается?»
— О да, главным образом, кадетские круги, да и другие еще, — был радостный ответ!
Для меня тогда значение кадетов{63} и насколько это люди, на которых можно положиться в таких вопросах, было совершенно неясно. Все же я не понимал, кто же в тылу будет драться за Корнилова. Неужели кадеты? Где же грубая, но необходимая сила? Что-то ее я не видел. Вообще, в этот день где-то в душе я чувствовал, что из этого ничего не выйдет, но почему-то я себе определенного отчета не отдавал.
Во всяком случае, когда выяснился вопрос, как мне скорее добраться до своего корпуса, мне предложили ехать на автомобиле с офицерами, везущими приказания. Я от этого отказался и решил ехать демонстративно в штабном вагоне, как ни в чем не бывало, и я был прав: ни один автомобиль, как оказалось впоследствии, не дошел до назначения, все были своевременно остановлены, и седоки, везущие приказания, заарестованы. На следующий день лишь после полудня, а не утром, как нам было обещано, я двинулся в обратный путь.
Помню, лежу на верхней полке в купе. Чудное августовское утро, масса приятных событий: и корпус мой удовлетворен, и Корнилов берет силу, армия восстанавливается, все хорошо. Поезд подошел к Гомелю. Слышу, у вагона какие-то голоса. Я невольно прислушиваюсь. — «А что, товарищ, генерал тут сидит?» — «А тебе на что?» — «А так, надо!» Я насторожился и подумал, что это не к добру. Встал и вышел на платформу. Вижу, все спокойно, но когда я вернулся, слышу снова тот же вопрос: — «Где генерал?» Тогда, не теряя времени, я вырвал из дела, которое возил Корнилову, несколько секретных бумаг, разорвал их на мелкие куски и клочки бумаги бросал в простенки, куда опускаются оконные рамы в вагоне.
Через четверть часа вдруг явился молодой человек, еврейского типа, в сопровождении нескольких конвойных с оружием и заявил мне, что он принужден меня арестовать, так как я еду в штабном вагоне и, очевидно, из Могилева. Мы вошли с ним в пререкания: «Неужели Вы думаете, что я поехал бы откровенно в штабном вагоне, если бы был замешан в чем-либо?» — «Да, верно, мы вчера заарестовали автомобиль из Могилева». Это, очевидно, был один из тех автомобилей, которые везли приказания на юг. В конце концов, оружие, которое хотели у меня отобрать, я не дал, а бумаги разрешил бегло просмотреть в купе, что п. было исполнено. Затем, после длинных переговоров с каким-то господином в Гомеле по телефону, сначала разрешено было отправить меня в город Гомель, потом же решено было оставить меня в вагоне, части. Он вынес впечатление хорошее в смысле подготовки и духа в корпусе, но признал, что до получения снабжения корпус на позицию выступить, не может. Шейдеман постоянно посылался на ревизии по корпусам и поэтому, наглядевшись в других корпусах на безобразия, очевидно, не предъявлял к моему корпусу особых требований, но я прекрасно понимал, что главный недостаток — тот внутренний разлад, который все ярче и ярче давал себя чувствовать во всех частях. Поэтому я решил не сдаваться и поехал сначала к вновь назначенному командующему армией, генералу Циховичу.
Славный Селивачев был арестован и отставлен от должности во время корниловского переворота. Цихович ничего не мог мне сказать, поэтому 5-го октября я выехал в Бердичев к Володченко{64}.
Этот генерал был совершенно другого типа, нежели предыдущий. У него шныряли комиссары, говорили длинные речи, вообще, как военный он мне не поправился, хотя, говорят, храбрый и дельный в бою. Очевидно, должность главнокомандующего в такой момент была ему не по плечу, и он старался приспособиться. На мои просьбы он ответил полным сочувствием, но меня удивило, что по вопросу о назначении офицеров предложил мне самому поехать в Киев и в Генеральном Секретариате выбрать подходящих себе офицеров. Меня это устраивало, по я был удивлен, что Володченко мне это предложил, я понял, что он считается с Центральною Радою{65}.
6-го октября в Киеве, когда я еще находился у себя в номере, ко мне явился капитан Удовиченко и заявил, что здесь заседает Украинский Войсковой Сьезд{66}, что сегодня будет доклад представителей моего корпуса, что многие из украинских офицеров и солдат, встречавших меня, просили мне передать, что они очень желали бы видеть меня на съезде. Я решил пойти на съезд.
Мне это, я помню, ставили в вину некоторые из моих бывших товарищей. Я не понял, почему у нашей братии, строевых генералов, желающих порядка, не могут быть две теории. Одна: наступила революция со всеми ее отклонениями, генерал заявляет: «Я не хочу подчиняться требованиям и взглядам, которым не сочувствую», кланяется и уходит. Это красиво и хорошо для него лично, но не для дела. Другая теория: генерал не сочувствует отрицательным проявлениям революции, по решил, что с этим нужно бороться всеми доступными ему средствами, он остается. Раз он остается, ему приходится завязать какие-то отношения с людьми различных лагерей. Если он будет только критиковать, деятельность его немыслима, нужно постараться подойти к ним поближе и влиять на них. Это далеко не значит подлаживаться, нужно говорить правду, но нужно, насколько возможно, установить приличные отношения.
Я, когда вспыхнула революция, думал: что мне делать? Хотелось уйти, но это мне казалось слабостью, я решил остаться, а раз я остался, мне пришлось со всеми деятелями установить приличные отношения, хотя я никогда не подлаживался, никогда не скреплял своею подписью постановлений, которые, я считал, могли бы чем-нибудь повредить тому делу, которому я служил. В данном случае те хорошие отношения, которые установились у меня в корпусе, повели к тому, что меня позвали в Центральный Войсковой Сьезд. Я решил, что слава Богу, когда зовут на съезд генерала с моим чисто дисциплинарным военным воззрением, в то время когда других генералов постановляли арестовывать и отнюдь не исполнять их приказаний. Поэтому я пошел и не пожалел.
Явился я туда и сел в толпе. Все, что говорилось, носило вполне умеренный и приемлемый характер. Между прочим, председательствовал тогда еще вполне дисциплинированный штабс-капитан Шинкарь{67}, впоследствии бывший командующим войсками Киевского военного округа, а затем крайний левый, предводитель Звенигородского восстания. Через некоторое время кто-то из ораторов, узнавши, что я тут, приветствовал меня. Я принужден был выйти из своего угла и ответить, затем, оставшись еще некоторое время и прослушав своих представителей, которые несли что-то несуразное, все больше, конечно, насчет штанов, да оно, положим, и понятно, так как в корпусе не было их, я ушел, вынося самое лучшее впечатление о виденном. Большинство из заседающих были социал-революционеры, немного социал-демократов и очень мало самостийников, кажется, всего четыре, потом все это переменилось. Меня они приветствовали лишь потому, что я командовал Украинским корпусом, так как всегда и каждому я заявлял, что я не социалист.
В тот же день я уехал из Бердичева на автомобиле с женой и дочерью, которые приехали ко мне на несколько дней в Меджибуж из Орла, а теперь возвращались обратно. Черницкий также меня сопровождал. Чудная осенняя погода, прекрасное шоссе сделали это путешествие очень приятным. Снова мы обедали у Франсуа в Житомире и поздно вечером приехали в Киев, где остановились в единственно свободной тогда гостинице «Универсал».
На следующий день, будучи в Секретариате, я получил через Скрыпчинского телеграмму о том, что 6-го октября в Чигирине на Всеукраинском казачьем съезде я единогласно избран атаманом всех Вольных Казаков{68}. Об этих казаках я до той поры слышал очень мало{69}.
В скором времени после начала революции у некоторых из украинцев, воспитанных на старинных преданиях, явилось желание возобновить Казачество. Одновременно в нескольких местах об этом тол благодаря настоянию моих, если можно так выразиться, приверженцев. Как бы там ни было, в Генеральном Секретариате мое избрание произвело чрезвычайно неприятное впечатление, это я сразу заметил. На мой вопрос Скрыпчинскому, что это избрание означает, он мне сказал, что это так себе, почетная должность, не сопряженная ни с какой деятельностью, что подробности они могут сказать только тогда, когда вернется Полтавец{70}, которого они командировали в Чигирин. Я обождал прибытия Полтавца и, когда он на следующий день приехал, поехал к нему узнать, в чем дело. Тут я и познакомился с ним. Он на меня произвел хорошее впечатление, рассказал всю подноготную деятелей в Секретариате, сообщил мне подробности казачьего движения и навел меня на мысль, что это движение может, если его суметь захватить, явиться тем здоровым течением, которое спасет Украину от того развала, сильно дававшего уже себя чувствовать не только среди войск, по и в кругу мирных обывателей. Я был избран, оказывается, атаманом, он моим помощником, Василий Васильевич Кочубей начальником штаба. По старинной казачьей терминологии, Полтавец был генеральным эсаулом, Кочубей — генеральным писарем. {71}
Я сообщил Полтавцу, что пока я занят созданием корпуса, я в казачьи дела вмешиваться не буду. Отправив благодарственную телеграмму председателю съезда Шевченко, я сказал Полтавцу, чтобы он пока всем заправлял сам, а там через некоторое время посмотрю, буду ли я в состоянии фактически принять должность или нет. Так и порешили.
В Генеральном Секретариате я лично набрал порядочное количество старшин офицеров и решил ехать обратно. В этот мой приезд, благодаря, оказывается, моему избранию атаманом, Союз Землевладельцев{72} выставил меня своим кандидатом для избрания в члены Всероссийского Учредительного Собрания. Хлеборобы предполагали, что, поместив меня в свои списки, казаки будут голосовать за землевладельческий список. Хотя я аграрным вопросом никогда не занимался, я решил, что отказываться мне не следует, и согласился на помещение моей фамилии в списках. Это было крайне легкомысленно с моей стороны и со стороны помещиков недальновидно, так как моей точки зрения по аграрному вопросу они совершенно не знали, никогда меня об этом не спросив, а, как оказалось позже, я диаметрально с ними расходился во взглядах. Для моего же прямого дела, т. е. для влияния в корпусе, это очень мне испортило, так как эта кандидатура дала пищу и Генеральному Секретариату, и всяким крикунам в корпусе говорить, что я совсем не иду с демократией, что я крупный помещик и только сочувствую интересам богатых людей и т. д. Кроме того, это было излишне, так как, кажется, за списки землевластников было очень мало голосов и, наконец, самое главное, как известно, Учредительное Собрание не состоялось{73}.
11-го октября я благополучно приехал в корпус. Володченко сдержал свое слово: снабжение, благодаря его нажиму на интендантов, начало появляться. С этой стороны дело в корпусе как будто пошло лучше. Но тут началась новая беда: 2-ой Гвардейский корпус со страшными грабежами, предавая все помещичьи усадьбы огню и мечу, прошел с фронта через всю Подольскую губернию. Известия о массовых бесчинствах, совершаемых частями, входящими в состав этого корпуса, я не знаю, каким образом, доходили до сведения моих полков, и главное, что их прельщало в этих сведениях, это грабежи винокуренных заводов. На мое несчастье, корпус занимал район, где заводское производство спирта процветало. Когда командиры частей доложили мне, что в некоторых частях есть брожение на почве стремления разгромить подобный завод, я, желая предупредить безобразие, приказал выпустить спирт. Делалось это с ведома командующего армией. Но тут-то и началось безобразие: когда спирт выпускался, безразлично куда, в реку ли, в навозную ли кучу, все местное население бросалось с ведрами и умудрялось доставать спирт, но в каком виде! Впрочем, для них это было безразлично. Ставились караулы, по редкий из них был на высоте положения. Помню, раз, когда мне пришлось самому наблюдать за выпусканием 50000 ведер спирта, я наткнулся на такую картину: от завода была прорыта канава в реку. Желая ночью произвести выпуск так, чтобы не заметили его селяне, команда инженерного полка начала проделывать отверстие в чанах, поставлены были часовые вдоль канавы, начался проток спирта. Я наблюдал за часовыми. Стоят смирно, никто не шелохнется. Думаю, хорошо. Поблагодарил их. Через некоторое время прихожу, стоят, но как-то дико уставились глазами в сторону протекающего спирта. Ничего, думаю, стоят — дисциплина есть. Через некоторое время прихожу и вижу: один из часовых стоит, как загипнотизированный, смотря на спирт, вдруг, не далее шагов десяти от меня, с криком «была — не была» подбегает к канаве и прямо так и бросается на нее, начиная жадно пить. Это был сигнал. Весь караул последовал его примеру. Их оттащили и предали суду. При этом я убежден в том, что это были хорошие люди, один из них потом мне говорил: «Сам знаю, что нехорошо, по сил нет, глядя, как пропадает такое золото!» Потом уж я отказался от выпуска спирта, а охранял его, но ничего не помогло. Все население и части были обильно снабжены спиртом, результатом чего пошли грабежи и пожары помещичьих усадеб. Обыкновенно бабы натравляли на поместье солдат, те начинали, а затем уже все село грабило. Кое-где части не поддавались соблазнам, по в общем усадьб 15 было разгромлено. К счастью, не было убийств. Я считал, что единственным средством для спасения корпуса оставалось елико возможно скорее его вывести на фронт.
Приблизительно в это время произошел переворот в Киеве, когда-то власть от Временного правительства перешла в Киеве в руки украинцев и большевиков{74}. Обе партии в то время только готовились к борьбе между собой. До меня со всех сторон стали доходить сведения, что среди младшего офицерства идут толки о том, что на фронт идти не надо, что необходимо спасать Киев, что великороссы «знищать рідну матку-Україну» и т. д. Собственно говоря, в это время проповедующие эти лозунги руководствовались исключительно шкурными интересами, просто боялись окопов. Затем, помню, как в половине октября командир 611-го полка мне доложил, что прапорщик Кожушко, возвратясь из Киева, распространяет слухи, что Центральная Рада хочет заключить сепаратный мир с немцами. Это было единственное сведение об отношении Центральной Рады к немцам, которое дошло до меня за весь период моего командования корпусом, я ему не придал никакого значения. Через некоторое время я узнал, что между Генеральным Секретариатом и некоторыми влиятельными группами корпуса существует постоянное сношение, что из Киева приезжают всякие господа, убеждая офицеров и солдат не идти на фронт. По произведенному расследованию оказалось, что эти требования исходили от Петлюры, бывшего тогда Генеральным Секретарем, т. е. министром.
Я получил приказание с 5-го ноября быть готовым к выступлению. Всюду части как бы раздвоились: одна половина была за то, чтобы исполнять приказания и идти на фронт, другая часть, преимущественно молодые офицеры, страшно агитировали, чтобы не идти. Петлюра же подсылал всяких господ убеждать идти в Киев, мне же присылал бумаги, наоборот-, о необходимости спешно выступать на фронт.
Тут, кстати, произошел еще такой инцидент-: вдруг вечером я получаю секретную бумагу «в собственные руки», открываю. Оказывается, какой-то революционный исполнительный украинский комитет{75} мне приказывает изготовить корпус для выступления по получению от него приказания и немедленно двинуться на Киев. Я, кстати, так никогда и не узнал, что это был. за комитет. На следующий день вечером мне докладывают, что прапорщик Биденко (такой действительно служил в 153-ей дивизии{76}, очень глупый, нахальный и большой путанник, но почему-то его выбирали все комитеты, хотя он там и слышал иногда горькие для себя истины), в сопровождении двух каких-то личностей, желает меня видеть наедине. Я принял их наедине в пустынном мрачном зале замка.
— Что Вам угодно?
— Мы. пап Атаман, явились к Вам для того, чтобы Вам доложить, что, по требованию Петлюры, Вам надлежит немедленно вести корпус пешим порядком в Киев.
— Я исполняю приказания Главнокомандующего и такого распоряжения не получал, да, вероятно, и не получу, так как вести теперь корпус более трехсот верст пешком — это значит окончательно его дезорганизировать.
— В таком случае, к Вам будут применены особые меры принуждения, — вдруг заявляет мне солдат, лет 35-ти, длинный, худой, болезненного вида.
— Как вы смеете говорить мне такие вещи. Я в течение 4-х лет не раз был в смертельной опасности, а Вы вздумали меня пугать. Кто Вы такой?
— Я кандидат Киевского университета, доктор прав Сорбонны, член такого-то и такого-то научного общества, одним словом, целое извержение каких-то научных титулов, Макаренко.
— В таком случае меня еще более удивляет, как это Вы, интеллигентный человек, предлагаете мне такие вещи!
Потом я с этим Макаренко поближе познакомился, оказалось, безобиднейший человек, ярый украинец, идеалист, чахоточный, еле дышащий на ладан, бросил какую-то выгодную службу и пошел в солдаты за пять рублей в месяц, когда узнал, что разрешено украинизировать, кажется, 10-ый корпус или какие-то в нем частив. Как выяснилось, эти господа были посланы тоже каким-то комитетом для того, чтобы предложить мне принять высшее командование над всеми украинскими частями, формирующимися на фронте, и идти с этими частями отстаивать Киев.
Я наотрез отказался и поехал к главнокомандующему просить его принять меры к тому, чтобы прекратить эту вакханалию, которая происходила у меня в корпусе из-за присылки ко мне Петлюрою всяких агитаторов, убеждавших идти в Киев, а не на фронт. В тот момент, когда я садился в автомобиль, приехала еще с таким же предложением депутация от Богдановского полка{77}. Всем я им ответил, что предварительно должен получить приказание от главнокомандующего, а тогда уж посмотрим.
Это было 2-го ноября. Главнокомандующий, топкий, видно, политик, не желавший ссориться с «Радою», предложил мне поехать сговариваться с Петлюрою.
Поехал в Киев. Петлюра уверяет, что он не посылал ко мне агитаторов, наоборот, он сторонник того, чтобы я шел на фронт, в доказательство чего он мне послал телеграмму с лучшими пожеланиями в моей будущей деятельности на фронте. Я видел, что он уклоняется от истины, по думал, что после моего разговора такое подстрекательство не повторится. Для меня в сущности безразлично было, итти на фронт или в Киев, даже последнее было приятнее, так как это совпадало со взглядами Некоторых кругов и областного Союза Землевладельцев, предполагавших, что мой корпус все же лучше будет охранять от грабежей. Я не хотел лишь, чтобы в моем корпусе была какая-нибудь другая власть, кроме моей, а эти присылки подпольных агитаторов Петлюрой вконец убивали всякое понятие о порядке.
Вернулся к главнокомандующему в Бердичев. Туда же на следующий день приехал и Петлюра, и тут, после громадного торга, несмотря на мои протесты, решили 153-ю дивизию послать в окрестности Киева, а 104-ю на фронт, мне же ехать со штабом на фронт.
Я вернулся к себе совершенно разбитый нравственно, понимая, что в такое время полного развала и отсутствия элементарных понятий о дисциплине такая мера окончательно губит корпус, что пойдут сейчас толки о том, что это начальство выдумало для того, чтобы разъединить корпус, потом совершенно его уничтожить, что 104-я дивизия не захочет идти на фронт, начнутся скандалы. Так все и случилось.
Началось ужасное время: командиры частей ежедневно докладывали мне о начинающихся беспорядках, комитеты настаивали на отмене приказания идти на фронт, приходилось ездить по полкам убеждать; внешняя дисциплина кое-как поддерживалась, но внутренняя была совершенно утеряна. Я это чувствовал все более и более. А тут, с одной стороны, Петлюра продолжал разлагающую деятельность: так, например, он помимо меня дал разрешение батальону остаться в Летичеве и не идти на фронт, тогда и остальные батальоны этого полка отказались выступать. С другой стороны, в мое отсутствие, когда я был у главнокомандующего, депутация Богдановского полка, подосланная, как видно будет впоследствии, тем же Петлюрой, сформировала революционный комитет, самочинно назначила своих представителей из числа сочувствующих в полках офицеров и начала распоряжаться. Положим, что когда я вернулся от главнокомандующего, одним из первых моих дел было распустить весь этот комитет и предложить богдановцам немедленно удалиться, что они и сделали. Но все же зло уже проникло в массы.
Видя, что такое положение долго продолжаться не может и что, если не принять какого-нибудь решения, разложение может дойти до геркулесовых столбов, я телеграфировал главнокомандующему (копию Петлюре), что ввиду того, что Петлюра продолжает свою пропаганду в полках помимо меня и не имея никаких сил с этим справиться, я прошу главнокомандующего освободить меня от командования корпусом. Главнокомандующий мне ответил, что вполне понимает мое положение, что он примет все зависящие от него меры, по что меня он просит пока остаться.
Но кроме Петлюры с его пропагандой, армейский комиссар тоже начал делать мне всякие пакости. И без того положение осложнилось до крайности со всеми великорусскими элементами, которые должны были быть переведены из корпуса. В этом отношении главнокомандующий, несмотря на все мои просьбы, ничем мне не помог; все обещания, данные мне относительно улучшения положения этих офицеров и солдат, канули в воду. А комиссар, очевидно, из желания сделаться популярным, начал давать им всякие обещания, которые шли вразрез с приказаниями строевого начальства. Тем самым недовольство этих элементов в корпусе направилось против меня.
Вообще, этот период командования корпусом был для меня сплошным кошмаром. Мое нравственное состояние ухудшалось еще тем, что начальники штаба, а их у меня сменилось уже два, хотя и были уважаемые и достойные люди, тем не менее, как великороссы, не пользовались доверием среди украинских масс. Приходилось самому разбирать все мелочи. Первый из начальников штаба был полковник П.[56], человек чрезвычайно способный, энергичный, до крайности самолюбивый, честолюбивый, видимо, служил в шгабах, где начальство не вмешивалось в дела, и поэтому все делал сам. У меня же ему приходилось исполнять мои приказания; это ему не нравилось, раздражало его, и на этой почве у меня с ним выходили пререкаштя. Со своими подчиненными он почему-то не ладил. Мне казалось смешным то раздражение, которое он проявлял, замечая, что никакого успеха у комитетов не имеет, тогда как ко мне они относились с уважением. П. был приверженцем крайних социалистических взглядов. Я же, во всяком случае, не сочувствовал всем новшествам в армии, например, в вопросе о комитетах мы с ним совершенно расходились. Он считал, что комитеты хорошее дело, а я на них смотрел как на величайшее зло, от которого не мог отделаться. Он действительно страдал, когда видел, какие глупости творятся в комитетах, шел к ним и часто с ними спорил, а я ничего путного от комитетов и не ждал и потому старался все их бессмысленные постановления обезвредить, не входя с шши, в большинстве случаев, в пререкания. П. возмущало, что комитеты часто занимались улучшением собственного благополучия, а меня это уараивало: пока они просиживали целые заседания над вопросом, как добиться того, чтобы члены комитетов могли ездить на автомобилях, которых, кстати, у нас почти не было, я был доволен, так как они мне не мешали. В результате комитеты П., социалиста и убежденного их сторонника, возненавидели, а меня слушали. Меня П. почему-то считал аристократом, хотя я ему никогда не высказывал своих политических убеждений, а в простоте обращения со всеми даже мои злейшие враги не могут найти данных для того, чтобы укорять меня в чванливости. Из-за всех этих мелочей он решил перевестись в другой корпус. Как боевого помощника мне было его жалко, как человека я его не жалел. В нем было что-то озлобленное, постоянное какое-то недовольство, причины которому я найти не мог.
Заменил его полковник, впоследствии генерал, Сафонов, очень симпатичный, толстый добряк. Его большинство офицеров в штабе очень полюбило. Я с ним жил хорошо. Он терпеть не мог комитетов, и потому псе сношения с ними остались на мне. В нем был только один очень крупный недостаток: он очень легко при мало-мальски сложной обстановке терялся, по для меня в этой мирной обстановке это не являлось опасным. Я не решаюсь сказать это с полным убеждением, по мне кажется, что бедный Сафонов погиб из-за этого своего недостатка. Он всегда слепо исполнял все мои распоряжения, и мне очень было жалко, сдавая корпус, расставаться с таким честным, добросовестным работником.
Насколько, с одной стороны, разрасталась пропаганда не идти на фронт, настолько же с другой — беспорядки в частях усиливались. Они были далеко не всеобщие, мне вполне ясно было, что зло не в солдатах, а в окрестном населении, которое их подбивало. Бывали случаи, когда части не поддавались уговорам местных жителей, по все же в общем картина была отвратительна.
Как известно, в ноябре Керенский пал, в Петрограде водворился большевизм. Хотя у нас на фронте он сразу не прививался, тем не менее все элементы беспорядка сильно подняли голову. Я был в несколько лучших условиях, благодаря командованию Украинским Корпусом, но в других корпусах творилось нечто ужасное. В защиту своих украинцев скажу, что те же прапорщики, которые испортили мне немало крови, определенно стали против большевизма, скорее против большевизма российского, потому что те беспорядки, которые у меня в корпусе происходили, мало чем отличались от вакханалии, которые захват или всю Россию.
В начале второй половины ноября было окончательно приказано выступить корпусу. В полках начались митинги, по на погрузку пошли. Первоначально стали грузиться части 104-ой дивизии. Но тут произошло следующее: некоторые эшелоны входили в соглашение с украинскими железнодорожными комиссарами и направлялись не в сторону фронта, а в Киев. Таким образом были направлены два полка, причем, кто давал распоряжения по дорогам о пропуске этих эшелонов, несмотря на расследование, произведенное штабом фронта, не выяснилось. Штабу моему приказано было двинуться с последними полками, отбывающими из Меджибужья прямо на фронт.
В местечке все было настроено уже более или менее большевистски. Когда мы прибыли туда около 15-го ноября ночью, слышу, стрельба, крики, бешеная скачка. Оказывается, погром, устроенный украинцами. Но слава Богу, силами штабной команды и некоторых частей инженерного полка, расположенного в самом Меджибужье, удалось его прекратить без кровопролития, хотя все еврейские лавки были разгромлены. У меня, на счастье, сохранилась дивизионная унтер-офицерская школа, унтер-офицеры которой были вполне дисциплинированными, и я мог решительно подавлять вспышки таких безобразий. Но этот разгром Меджибужья, в связи с переходом власти к большевикам, был ярым показателем окончательно ухудшившегося положения.
В это время я начал получать телеграммы с распоряжениями Крыленко{78}. Главнокомандующий Володченко ушел, его место временно занял генерал Стогов{79}. 22-го я со штабом поехал грузиться. Помню то отвратительное душевное состояние, которое мною овладело в этот день. Я понимал, что корпус мой, теперь разрозненный, затертый между другими частями, на фронте окончательно будет распропагандирован. Фронта, собственно говоря, в это время уже не было: окопы все были брошены, все дерево уже давно вытаскивалось оттуда на — топливо. Были лишь части, скорее сборища солдат и офицеров, которые стояли в ближайших от фронта деревушках и занимались митингами. Положение начальства было самое дикое, да оно почти всюду отставлялось комитетами и заменялось всякими проходимцами. Мне рисовалась отвратительная картина того ближайшего будущего, которое предстояло пережить. По приезде на станцию Деражпя я узнал, что 2-ой Гвардейский корпус, пройдя с фронта, как я уже выше говорил, Подольскую губернию под предводительством агитаторши Бош{80}, весь сосредоточился у Жмеринки и что ходят слухи о том, что он собирается идти на Киев.
Я невольно призадумался над создавшимся положением, когда даже некому стало защищать Киев от большевиков, и пришел к решению, что я к Крыленко на фронт не пойду, а двинусь энергично на Киев с тем, чтобы быть в состоянии преградить доступ 2-му Гвардейскому корпусу в город.
Решение это мне далось нелегко. Мы с начальником штаба, генералом Сафоновым, гуляли по платформе. Поезд уже был подан, ждали лишь его отправки. Я заявил Сафонову, что я корпус не веду на фронт, а решил пробиться на Казатин, Вапнярку, тем самым я не дам 2-му корпусу разгромить Киев. Сафонов, очень дисциплинированный генерал, мне говорит: «Но как же, ваше превосходительство, мы же получили определенное приказание от главноверха?»
— Да Вы, Яков Васильевич, бросьте, подумайте, кто теперь главноверх!
— Да, верно-то верно, но все-таки…
Несмотря на всю нелогичность заявления Сафонова, мне и самому трудно было ослушаться данного мне приказания, хотя бы такого господина, как Крыленко, но все же главноверха, настолько у нас, военных, привито чувство необходимости исполнения приказаний начальства. Помню, как трудно было мне решиться, но я все-таки стоял на своем, понимая, что, идя на фронт, я ничего не сделаю и окончательно сведу корпус на нет, а тут я могу принести реальную пользу. Я немедленно позвал украинского комиссара и, рассказавши ему задачу, спросил его, может ли он мне помочь вытянуть мой корпус на Казатин. Он согласился с восторгом и поступил в мое распоряжение. Это был прекрасный человек по фамилии Шоппа, энергичный, преданный делу до самозабвения, чрезвычайно находчивый, ярый украинец в хорошем смысле и ненавидевший большевиков, он мне был очень полезен. С места он дал распоряжение по линии, паровоз в моем вагоне перецепили на другую сторону. Из предосторожности, я свой корпусный комитет, чтобы он не мешал мне, посадил во второй штабной поезд.
Погрузил всех и все, что мне в то время не было нужно, и отправил их, не меняя маршрут, на фронт. Сделал это я, так как боялся, чтобы комитет не пересилил и не начал бы агитировать, чтобы мы шли в самый Киев, а не останавливались в Казатине. В то время мой хороший председатель корпусного комитета ушел, а его заменил какой-то безвольный, глупый прапорщик, по фамилии Головинский, который являлся игрушкою в руках всяких демагогов.
И вот, на следующий день, 23-го ноября, мы начали прорываться на восток. Тут ко мне посыпались телеграммы самого убийственного свойства от Крыленко и его сподвижников. Меня он предавал революционному трибуналу, отрешал от должности, чуть-ли не предавал публичной анафеме. Бедный Сафонов ужасно волновался, все меня спрашивал: «Что с нами будет?» Стогову, очень приличному человеку и хорошему генералу, я посылал донесения в самой корректной форме, он молчал, видимо, не зная, что ему со мной делать.
Одновременно с этим я послал телеграмму в Киев Украинскому Войсковому Секретариату, в которой, указав на ту задачу, которую я взял на себя, просил их сговориться со Стоговым, чтобы я был передан в распоряжение Секретариата для защиты Киева. Но ответа не получил. С величайшими затруднениями, с остановками по несколько суток на маленьких станциях, с продолжающимися проклятиями Крыленко, я, наконец, через 8 суток добрался до Казатипа, прочно его занял, и тут только получил телеграмму от Петлюры, что я передан в распоряжение Генерального Украинского Секретариата и что на меня возложена вся оборона правобережной Украины с подчинением всех частей (украинских и неукраинских), с передачею в мое распоряжение Сечевого Украинского Корпуса, выделенного из 6-го корпуса{81}.
Я немедленно занял всю линию от Гневани до Казатина частями 153-ей дивизии, а также линию Шепетовка — Вапнярка — Казатин. Очевидно, мое решение было правильное, и это мне удалось. Уже через два дня после того, как я занял Казатин, из Жмеринки начал двигаться 2-ой Гвардейский корпус по направлению Киева, 4-го или 5-го декабря тронулись два эшелона Волынского полка, чистейшей воды большевики. Я двинул навстречу им Стрелковый Украинский дивизион и команды добровольцев железнодорожников, и в ту же ночь в балке, невдалеке от Винницы, волынцы были захвачены врасплох, обезоружены, немедленно посажены в поезда и направлены на север, в Великороссию. Части, находящиеся в тылу и оказавшиеся большевистскими, были также обезоружены. В Казатине комиссар, очень энергичный и стремящийся к порядку человек, просил меня избавить его от кавалергардов, которые вместо того, чтобы охранять станцию, грабили ее. По произведенному мною подсчету выяснилось, что они в течение месяца присвоили себе всякого добра более чем на 300000 рублей. Как мне ни было тяжело, прослужив свою молодость в Кавалергардском полку{82}, я приказал два казатинских эскадрона расформировать и водворить их на север.
Эшелоны Кексгольмского полка, кажется, подверглись той же самой участи. Вообще, я без всякого преувеличения могу сказать, что если большевики появились в Киеве лишь 21-го января 1918 года, а не в ноябре, то причиною тому мой Корпус, который занял указанные выше железные дороги и решительно противился появлению вооруженных частей большевистского направления на этой линии.
Чем больше я живу, тем более убеждаюсь в том, насколько оценка деятельности различных лиц начальством и общественным мнением несправедлива. Я наблюдал это явление и по отношению к другим, и на себе испытал не раз. Хотя бы по отношению к себе: и в мирное время, и особенно за время, проведенное мною в войсках, я часто получал отличия, меня хвалили за дела, которым я лично не придавал никакого значения, в то время как за действительно удачные решения, где требовалось и присутствие духа, и сметливость, а главное, где это удачное решение помогло общему делу, мне не только не говорили спасибо, по бывали даже случаи, когда давали выговоры. Я совершенно не хочу сказать, что я считаю себя обиженным, обойденным похвалою начальства или общественного мнения, наоборот, в этом отношении, без всякого желания рисоваться своими добродетелями, я утверждаю, что слишком награжден и орденами, и похвалами, но я просто констатирую факт, что награды, будь то начальство, дающее ордена, или общественное мнение, воспевающее в прессе всевозможные панегирики данному лицу, далеко не есть докательство, что имевшего это лицо действительно отличилось или что подвиг, совершенный им, наиболее заслуживает похвалы из всей той работы, которую он совершил на пользу обществу или Родины. За мою жизнь было несколько таких случаев. Хотя бы один эпизод на Дубиссе в 1915-ом году, во время командования 3-ей дивизией{83}. Положение было очень трудное, мои части, стоя на фланге общего боевого порядка корпуса, дрогнули. Я перешел с одним полком в контратаку, некоторые части примкнули ко мне, и я восстановил порядок и перешел в наступление. Дело было не крупное, по все же начавшееся беспорядочное отступление могло грозить гибелью не только моим войскам, но и крупным частям пехоты, на фланге которой я стоял. Покойник Орановский{84} и еще начальник штаба Залесский, оба, чтобы там ни говорили, все же выдающиеся генералы, не только спасибо не сказали, но еще вечером за какие-то пустяки я получил от них выговор. Так бывало часто. То же самое и в данном случае: не прими я быстрого решения, 2-ой Гвардейский корпус оказался бы в Киеве еще в ноябре. Настроение же у него, под командой знаменитой Бош, было далеко не из миролюбивых, а, между прочим, мне пришлось потом не раз за эти мои действия от некоторых лиц слышать критику.
Для меня этот период моего пребывания с корпусом был очень тяжел в смысле работы, но доставлял нравственное удовлетворение, так как я видел, что приношу пользу. Кстати, с момента отбытия корпуса из Меджибужа и движения на Казатип все комитеты затихли, вся пропаганда в первое время тоже прекратилась. Части жили в вагонах, даже не в теплушках, так как Киев не давал нам печей, и, несмотря на стужу, никакого ропота не было. В особенности в первое время все беспрекословно исполняли мои приказания и очень охотно вступали в бой с большевиками.
Весь штаб мой с места был отправлен в Белую Церковь, я ездил в вагоне по линиям и руководил частями, по главное мое местопребывание было в Казатине. Безоружных солдат мы пропускали в поездах, стараясь последние не отправлять на Киев. На станции я имел возможность наблюдать безобразнейшие сцены среди этого контингента солдат. Порядок не нарушался лишь на станции, занятой моими частями, но стоило отойти в местечко, чтобы иметь возможность убедиться, до чего русский солдат, при всех его положительных качествах, может терять человеческий облик, когда он чувствует, что все, что бы он не предпринял, сходит для него безнаказанно.
На станции Казатии я был на ст. езде вольных казаков Бердичевского уезда и увидел, насколько местное население интересовалось установлением этой организации. Этот сьезд напомнил мне о том, что пора уже и мне выяснить свое отношение к казачеству, и я решил при первой возможности поехать в Белую Церковь, где, кроме моего штаба во главе с генералом Сафоновым, находилась также учрежденная нами Генеральная Казачья Рада под предводительством Полтавца. Во время моих скитаний по железнодорожным линиям правобережной Украины я убедился в той громадной работе, самоотверженности и действительной любви к Украине, которую проявляли все железнодорожные служащие-украинцы. Я не хочу умалять работы служащих других национальностей, но скажу, наибольших противников большевизма я встречал среди украинцев; они соглашались на самые рискованные предприятия, лишь бы не дать большевикам усилиться, и часто это делали с большой опасностью для жизни. Таким образом действовали и украинцы-телеграфисты, у всех у них был громадный подьем духа.
Тогда же я имел дело с знаменитым институтом железнодорожных комиссаров. Этот институт, учрежденный Центральною Радою, далеко не привлекал наиболее культурные силы из числа железнодорожных служащих (званий и степеней я не знаю), но по чистой совести скажу, что в тот период революции для борьбы с большевизмом эти украинские комиссары были очень полезны. Как это там случилось, я подробно не могу объяснить, так как в то время меня в Киеве не было, по фактически вся железнодорожная власть была у них в руках, и распоряжались они на линиях по-диктаторски. Что делала нормальная, законом установленная власть в конце 1917-го и в начале 1918-го годов на железных дорогах Украины, все эти управляющие, инженеры всяких наименований и степеней, я не знаю.
Этот институт железнодорожных комиссаров впоследствии навлекал на себя сильную критику правительства. Считалось, что с учреждением гетманства, т. е. с введением более нормального порядка, эти комиссары должны были быть немедленно удалены со своих мест. Бывший министр Бутенко{85}, находившийся всецело в руках небольшой кучки узких украинцев, не хотел их увольнять и только благодаря моим неоднократным настойчивым требованиям постепенно их смещал.
Что их необходимо было уволить летом 1918-го года, в этом для меня не было никакого сомнения, потому что, насколько эти люди были полезны в период большевистского нажима, во время полной анархии, когда они со свойственной им энергией молодости и самоотречения боролись за Украину, а Украина того времени была единственной носительницей идей хоть какого-нибудь правопорядка, то эти же люди, когда за время гетманства усилилась идея украинской государственности, привыкнув самочинно распоряжаться на дорогах, установив контроль за другими служащими, часто отдавая распоряжения, вредящие железнодорожному делу, благодаря отсутствию у них специальных знаний, были настолько уже не нужны, что институт их подлежал упразднению. Но я все-таки считал, что с этими элементами, безусловно принесшими большую пользу в свое время, необходимо было считаться, нужно было хорошо их пристроить, иначе ясно, что все они перейдут в лагерь врагов правительства, как впоследствии и оказалось. Одна из главных причин удачи петлюровского восстания была поддержка его железнодорожными служащими, потому что все бывшие железнодорожные комиссары пошли с ним.
Постепенно район моей деятельности расширился. Бои у Ваппярки, у Гневани, у Шепетовки, у Ново-Константиновки в конце ноября и декабря всюду были успешны. Мы действовали энергично. Положим, что и большевики того времени не представляли таких убежденных разбойников, как их преемники, красногвардейцы настоящего времени. Десятки поездов обезоруженных нами частей были отправлены в Великороссию. В переговоры с ними не вступали. Я запрещал это делать, так как знал, чем обыкновенно кончаются такие переговоры.
В начале декабря мне нужно было поехать в Бердичев для свидания с комиссаром фронта Певным{86}, чтобы переговорить о прибывших частях 6-го корпуса. Приехав в Бердичев, я вспомнил, что здесь находится штаб главнокомандующего и что мне необходимо зайти представиться главнокомандующему, генералу Стогову. Меня несколько смущало, как Стогов и его штаб ко мне отнесутся после того, как я фактически и все же самовольно ушел из их подчинения, и ожидать, что эта встреча будет приятной для меня, не было основания. Каково же было мое удивление, когда, едва я вошел в штаб, как был встречен генерал-квартирмейстером Петипым, который воскликнул: «Вы наш спаситель!» Предложил оказать помощь, заявив, что он все готов сделать, и добавил: «Мы здесь можем служить только благодаря Вам». Я приободрился и отправился к Стогову. Последний отчаянно бранил большевиков.
12-го декабря ко мне в Васильков приехал представитель от казаков приветствовать меня от Казачьей Рады. В тот же день я отправился в Белую Церковь, где находился мой штаб, и прибыл туда вечером. Полтавец завел уже гам полный внешний порядок. На станции был выставлен почетный караул. К моему удивлению, этот караул был прекрасно одет и в порядке. Оказалось, что Полтавец сформировал отдельную согню, хотя собирал он аммуницию с бору да с сосенки, по в общем люди были всем обеспечены. Сотня эта называлась атаманской.
Я сообщил Полтавцу, что приглашен жить в Александрии у графини Браницкой, у которой, я полагал, мне отведут во флигеле где-нибудь скромное помещение и что, никого не повидавши, буду в состоянии скорее лечь спать. Каково же было мое удивление, когда, подкатив ко дворцу на автомобиле, высланном за мной графиней
Браницкой, мне сообщили, что дочь ее, княгиня Радзивилл, меня ждет. Войдя в зал, я был поражен тем парадным видом дам и мужчин, которых я там застал. Все дамы в полуоткрытых платьях с драгоценностями, мужчины во фраках и смокингах.
Оказывается, что они ждали моего приезда и мне устроили нечто вроде встречи. Я был очень смущен, во-первых, после трехнедельного пребывания во всяких вагонах с клопами я был грязей, как только можно быть грязным от таких путешествий, когда у нас даже умывальника не было в вагоне, а приходилось часто мыться на дворе; во-вторых, я прекрасно понимал, что вся эта встреча делалась не мне как определенной личности, а как человеку, от которого ожидали, что он их спасет, и что теперь, раз он приехал, можно быть как у Христа за пазухой. Последнее особенно меня смущало потому, что если части пока еще дрались с большевиками, это совершенно не означало, что, попав в Белую Церковь, они будут защищать имение графини Браницкой. Со мной были чрезвычайно любезны, и я продолжал чувствовать, что эта любезность была результатом того мнения, что во мне видели чуть ли не спасителя, который сохранит этим людям все их достояние. Я старался им объяснить, как они жестоко ошибаются, возлагая на меня такие большие надежды, что я настолько мало верю в этом отношении моим частям, что решил в Белую Церковь ввести как можно меньше войск, что у меня всего тут будут два батальона 1-го Украинского полка{87}, да и те я при первой возможности переведу куда-нибудь в другое место. Но убеждения эти мало действовали. Помню, что я даже советовал хозяевам уехать в более верное место. Но семья Радзивиллов не верила.
К каждому обеду и завтраку все являлись нарядные, все были веселы, довольны и верили, что ничего не произойдет, что все обойдется благополучно. Все это было весело и мило, но несколько напоминало мне пир во время чумы.
Я наладил свой штаб, связался юзом со всеми большими узлами. Это дало мне возможность несколько дней остаться в Белой Церкви. В это время я ближе подошел к казачьему вопросу и тогда же впервые убедился, насколько эта идея пользовалась сочувствием среди некоторых частей населения, и видел ходоков, приезжавших в Генеральную Казачью Раду из Полтавской, Екатеринославской и Херсонской губерний.
Полтавец организовал дело с теми скудными средствами, которые у него находились, довольно хорошо. Всего было тысяч 20, собранных с бору да с сосенки, плюс ничтожные по 50 коп. с казаков. На эти деньги содержались библиотека, целый небольшой штат агентов, кроме того, казачья сотня. Конечно, для нее приходилось прибегать к дополнительным средствам, главным образом помогала тр. Брапицкая, по думаю, что тут не обходилось без контрибуции, налагающихся на евреев, хотя определенных данных на это не имею.
Сотня эта мало имела смысла, но организация казаков, как я уже ранее указывал, имела в то время большое значение, поэтому я всячески налегал на то, чтобы на местах закладывались сотни, причем было обращено особое внимание на тот контингент, который туда записывался.
Через несколько дней, отдохнув в гостеприимной Александрии, я выехал снова на линию, или на внутренний свой фронт, как в то время называлась линия Шепеговка — Казатин — Вапнярка, которую обороняли мои части, взял с собою Полтавца и Зеленевского.
О последнем скажу несколько слов, так как он впоследствии своею близостью непосредственно ко мне сыграл некоторую роль в Киеве. Уже немолодой человек, умный, ловкий, чрезвычайно большой любитель выпить и хорошо поесть, сердечный помещик, прокутивший все свое состояние, много путешествовал, говорил на всех языках, большой лентяй, но за все свое пребывание около меня трогательно заботился обо мне. Я лично терпеть не могу все житейские мелочи и предпочитаю от удобств отказаться совершенно, лишь бы не думать о них и не заниматься их добыванием.
Зеленевский в этом отношении был для меня, как нянька.
Впервые я его увидел дежурным офицером на телефоне в штабе корпуса, где он страшно путал, я на него из-за этого обратил внимание. Мне сказали, что это интересный человек, и я с ним познакомился. Потом, не знаю как, он был прикомандирован к штабу и заведовал нашей столовой. Это дело оказалось его настоящим призванием. Он в самых сложных условиях умудрялся кормить нас великолепно, затем уж так и пошло. Когда мне приходилось куда-нибудь отдаляться от штаба, тогда хозяйственную часть брал на себя Зеленевский. Потом уж он постоянно был со мной. Со времени моего гетманства был моим ад'ютантом и проявлял ко мне в трудные минуты много сердечности.
Итак, я с Полтавцем и Зеленевским 18-го декабря 1917 года снова пустился в скитания по линиям. Части, в большинстве случаев, жили в отвратительных условиях, в сильную зимнюю стужу они находились в истопленных вагонах. Как я пи хлопотал, по решительно ничего не мог добиться из Киева. Мне это даже показалось подозрительным: не желает ли Секретариат, видя мои успехи, добиться того, чтобы у меня Корпус при таких условиях начал бы безобразничать. И, действительно, в то мое посещение частей я заметил уже совершенно другое настроение. Пошли снова комитетские заседания, люди уже находили, что пора ехать в Киев, или другое какое-либо место, отдыхать. Начальники дивизий и командиры полков проявляли настроение далеко не бодрое, чуя, что все снова пойдет по-старому, как в Меджибужье.
Между тем большевистское правительство объявило поход на Украину{88}. В то время, как я командовал войсками на правобережной Украине, вся левобережная оборона была поручена полковнику Капкану.
На Украину производился нажим с обеих сторон. Видя, что условия, в которых живут мои части, плохи и что в зависимости от этого и их душевное настроение заметно ухудшается, я решил воспользоваться вольными казаками и разослать грамоту в Звенигородский и Бердичевский уезды. В ней я объявил добровольный призыв казаков.
Они меня интересовали как помощь, а кроме того, я очень хотел в действительности видеть, что они из себя представляют как элемент боевой и что за политическая у них фигура.
Действительно, через несколько дней они откликнулись на мой призыв, и несколько сотен явилось из Звенигородки в Винницу, куда я их направил для прикомандирования к 610-му полку. Как элемент боевой они оказались хорошими, по во главе, кажется, Смелянской сотни находилася темнейшей воды личность, некто Водяной{89}, чрезвычайно энергичный, но безусловно нечестный человек. Вообще, я убедился, что из казачества только тогда, может, что-нибудь выйдет, когда во главе будет не выборное, а поставленное мною начальство. В этом направлении я и повел дело. Только в Виннице я знал о той колоссальной агитации, которую старались вести большевики 2-го Гвардейского корпуса среди моих частей. Я послал тогда телеграммы в Киев и во все украинские национальные общества, просил их прислать мне людей, которые могли бы вести коптрагитацию, по Киев остался глух к моим просьбам. Тогда я решил лично съездить в Киев.
По приезде, еще на станции, я узнал, что Петлюра ушел, вместо него военным министром стал Порш{90}, о котором я тогда еще понятия не имел. Главнокомандующим всеми силами на Украине был Капкан, последнее меня взорвало. Я уже знал, что предназначается главнокомандующий, находил это необходимым для объединения всех наших действий и слышал, что на эту должность предназначается генерал […]{91}, талантливый инспектор артиллерии 6-го корпуса, боевой генерал, известный своими работами по массировании артиллерии. Я с ним встречался на войне. Он мне нравился, и хотя он был моложе меня и чином и по командовании крупными частями, я с его назначением вполне примирился. Но Капкан, какой-то преподозрительпый авантюрист, с очень нелестной репутацией насчет денежных вопросов за время его службы в Ораниенбаумской офицерской школе, — с этим назначением я согласиться не мог.
Приехав в Киев, я также постарался собрать сведения, кто такой Порш. Оказывается, что это по профессии присяжный поверенный, исключенный за всякие неблаговидные проделки из сословия адвока топ, вместе с тем имевший, по слухам, какие-то отношения с немцами. Умный, большой нахал. Я поехал к нему и заявил, что если мне не дадут все по списку, который я тут же представил, для поддержания корпуса в порядке, я прошу меня освободить от командования корпусом. Порш имел чрезвычайно надменный вид, видимо, ничего в пашем деле не понимал и ни на одно мое законное требование не дал мне положительного ответа, хотя для меня было ясно, что при желании возможно было это сделать.
Я понял, что тут играла роль моя личность и боязнь того возрастающего значения, которое я приобрел в украинских частях. Сообразив это, я вышел в другую комнату и тут же написал рапорт об моем отчислении от командования корпусом с предписанием временно вступить в командование начальнику 104-ой дивизии генералу Гандзюку, и ушел. В тот же вечер я поехал обратно в Белую Церковь, куда и прибыл на следующий день, было это, кажется, 26 декабря.
В Киеве тогда же я познакомился с неким доктором Луценко{92}. Полтавец выставлял мне его как одного из крупных организаторов Казачества на юге Украины, в Одессе. В первое время он действительно что-то сделал. Так как людей у меня совершенно не было, я хотел поближе его узнать и пригласить его в Белую Церковь, где, кстати, в тот же день в здании Белоцерковской гимназии я открывал сьезд представителей от различных сотен.
Луценко показался мне идеалистом, желавшим в наше время возродить полностью старое казачество и всю Украину перестроить на казачий лад. Он был каким-то фанатиком, ненавидевшим все русское, хотя это не помешало ему дослужиться в России, будучи военным [врачем], до чипа надворного советника. В денежном отношении честный, по недалекий, чрезвычайно честолюбивый, хотевший во чтобы то ни стало играть первую скрипку. Судьба потом надолго свела его со мною, и я убедился, что не ошибся в своей первоначальной оценке.
Я пошел на сьезд. То, что мне нужно было и что удалось до тех пор создать, оказались две совершенно различные пещи. Я хотел создать оплот государственного порядка из казаков, а, несмотря на слышавшиеся осуждения большевиков, при докладах с места видел, что действия некоторых сотен мало отличались от тактики большевиков в смысле захвата чужого имущества. Была какая-то наивность во всех этих докладах. Люди думали, что делают политическое дело. Докладывали, например, что захватили на каком-то конном заводе для своей сотни всех чистокровных жеребцов, в другом месте захватили для сотни помещение какого-то завода, так что завод не мог работать. Ясно было, что начальники никуда не годились, да стоило только посмотреть на их лица, чтобы сразу понять, что люди эти совершенно не подходили для той работы, за которую они взялись. И Луценко в разговоре со мной потом согласился, что такой способ выборного начальства не даст нам здорового и полезного казачества.
На съезде Луценко тоже выступил, ни к селу, ни к городу, с предложением дебатировать вопрос самостийности Украины. Сьезд в тот же день закончил свои заседания, и я решил, сдавши корпус, ехать в Киев и там окончательно выяснить, будет ли Казачья Рада признана Центральною Радою и тогда уже официально действовать, создавши целую стройную организацию, но в случае непризнания ее я решил попробовать действовать за свой страх, по радикально изменив всю систему назначения начальников, и для этого я хотел в Киеве набрать подходящих офицеров-украинцев и организовать инструкторскую школу, а затем уже вышедших из этой инструкторской школы распределить по сотням. Они же и являлись бы нашими агитаторами.
Декабря 29-го я сдал корпус Гандзюку. Сафонов остался начальником штаба. Я предчувствовал, что из комбинации этих двух лиц ничего путного не выйдет. Оба прекрасные люди, Гандзюк — настоящий герой, по оба это были начальники, привыкшие исполнять, но выкручиваться из сложных положений они не умели. Оба этих честных генерала, судя по всем отрывочным сведениям, которые я имел, погибли на своем посту, растерявшись перед кучей большевиков.
Того же дня, 29-го, штаб корпуса устроил мне прощальный ужин. Очень сердечным было мое прощание с людьми, с которыми пришлось много пережить, большинство из них были прекрасные люди. В тот же вечер я с Полтавцем уехал в Киев, где остановился в той же гостинице «Универсал».
В Киеве работа кипела. Поняв, что с министерством дела не сладишь, так как оно, не желая нас признавать, создало особый казачий отдел, во главе которого оно поставило некоего прапорщика Певного, старавшегося всячески дискредитировать нашу организацию и раздававшего оружие всевозможному сброду, который потом действовал якобы под нашим флагом, несмотря на то, что я предлагал вести точный учет казаков и ввести для приема особый порядок поручительства. Кроме того, я считал необходимым назначить начальником козачьего отдела Василия Васильевича Кочубея, человека вполне определенных взглядов в смысле необходимости вводить порядок, а не анархию.
Поняв такое отношение министерства, я решил действовать самолично. Для этого прежде всего устроил нечто вроде вербовочного бюро офицеров. В этом деле мне много помогал полковник Каракуцца, георгиевский кавалер, украинец. Начальником инструкторской школы я назначил штабс-капитана Секрета{93}, тоже украинца. Всем этим людям я точно растолковал их дело. Наш первый набор офицеров немедленно начался.
Затем мне пришлось обратить особенное внимание на организацию казачества в Полтавщине. Там эта организация появилась уже сравнительно давно. В Полтавщипе, главным образом, действовали Сахно-Устимович{94} и Милорадовичи. Александр Сахно-Устимович примкнул к пашей Казачьей Раде и собирался действовать совместно с нами.
Киевский полк, т. е. пабравшийся в Киевском уезде, был сравнительно многочисленный. Во главе его стоял некий Павлюк, галичанин. Этот Павлюк был самостийником, по все же не фанатического толка. Он мне сначала поправился, казался энергичным человеком, много говорил о своих подвигах в борьбе с большевизмом. Полк у него, по беглому впечатлению, производил вид части, которая может пригодиться. Только не хватало обмундирования и снаряжения.
Этот же Павлюк позвал раз меня на заседание самостийников. Я пошел. Происходило оно на квартире одного из Макаренков{95}. Был там и его чахогочпый брат-солдат, который в Меджибужье приезжал ко мне, несколько украинских старшин-офицеров из частей Капкана, генерал Греков{96}, Павлюк, Полтавец, я и еще Остапенко, кажется, присяжный повереный. Эти самостийники мне несколько правились тем, что их социальная программа была правее остальных партий, кроме того, они были сторонниками безусловного порядка в армии. Они почему-то считали, что казачество должно идти с ними, и с этой целью я, вероятно, и был приглашен. Ничего на этом заседании особенно интересного не было, главным образом, они обсуждали вопрос о необходимости добиться смены Порша, но выдвигали они, по-моему, совершенно неподходящего кандидата, некого капитана Болбочана{97}, который тут же присутствовал. Я только раз был у них. Они мне показались неинтересными болтунами, фанатиками, совершенно не считающимися с реальными условиями. Вероятно, и я им особенно не поправился.
В первых числах января 1918 года произошло мое знакомство с французами. Еще на фронте, когда я командовал корпусом, у меня были французские летчики, и я был знаком с некоторыми из них. Затем, позже, в Меджибужье, ко мне приезжал часто французский офицер погостить, а я, пользуясь тем, что в Проскурове, недалеко от нас, стояли французские ангары, посылал туда школу прапорщиков осматривать их. Порядок, который они там наблюдали, благотворно действовал на молодых офицеров. Кроме этого, мне было известно, что французская миссия более или менее интересовалась мною, считая меня хорошим генералом. Помню, они хотели непременно иметь копии с моих личных записок, представленных мной в военное министерство по поводу реорганизации армии. Знаю, что Василий Васильевич Кочубей, который имел способность всех знать, ходил к ним, и они заставили дать перевод с этих докладных записок, с моего, конечно, разрешения. Теперь же я сблизился с французской миссией и ее главой, генералом
Табуи{98}, вот по какой причине: в это время уже чувствовался разлад в Центральной Раде; соц. — демократы проваливались, брали верх соц. — революционеры, анархия на местах все более увеличивалась, растерянность перед большевиками была полная, но главное, ходили неопределенные слухи о заключении сепаратного мира на всевозможных невыгодных условиях, причем называли много лиц из Рады, в том числе и Порша, принимающих большое участие в этом деле.
Для противодействия большевикам были войска не только украинские, по польские и чехословацкие, по не было никакого объединения в действиях, а главное, во главе украинских войск стоял Капкан, который совершенно не мог справиться с этой задачей. Я был убежден, что если не примут решительных мер, Киев будет занят большевиками. Я уже послал оружие на свой собственный риск некоторым организациям казаков, например Милорадовичу, в Полтавской губернии и др., по это была капля в море из того, что нужно было сделать. Мне и казалось, что если войти в соглашение с генералом Табуи, который, кстати, более пли менее распоряжался польским корпусом{99} и чехословаками{100}, так как последние были от него в денежной зависимости, и если примкнуть сюда некоторые из украинских частей, которые хотели идти ко мне, можно было бы, не разгоняя пока Рады, так как внутри ее было полное несогласие и она сама стремилась, под страхом большевистской опасности, признать любую власть, лишь бы она была украинской, объявить нечто вроде диктатуры, а уже потом видно будет, что делать. Когда я решился действовать, тем же Василием Васильевичем Кочубеем было устроено мне свидание с генералом Табуи и комендантом Уадпсих. Сначала я отправился к ним, где-то около Левашевской у них была канцелярия, потом дня через два я был приглашен ими обедать в «Континенталь». Табуи и Уадпсих внимательно меня выслушали, кое-что записали, соглашались со мной, по как-то не шли навстречу, т. е. все время оставались в области общих разговоров, а я хотел перейти сразу к делу. Время не ждало, и необходимо было войти в соглашение с поляками и чехословаками, что далеко не было так легко. В результате я думал, что из этого ничего не выйдет, и в течение нескольких дней больше уж об этом деле не вспоминал. Свидания эти происходили 2-го — 3-го января. В это время ко мне приходила масса всякого народа: офицеры, помещики, общественные деятели, просящие защитить их. Петлюра тогда тоже ходил ко мне, ему все хотелось организовать особый отряд из Козаков для выдвижения в сторону Полтавы, что ему более или менее удалось, так как через несколько дней он был назначен кошевым атаманом Полтавского коша{101} и с остатками этого коша принимал, не без успеха, участие в делах у Арсенала в памятные январские дни 1918 года. Казаков в то время я ему положительно дать не мог, не из-за нежелания, а просто потому, что в Киеве, кроме Павлюка, других казаков не было. Он на меня, как мне передавали, за этот отказ обиделся. Кроме этих лиц, ко мне заходили представители различных организаций. Тогда в Киеве играл роль полк, набранный из рабочих киевских фабрик, который был антибольшевистским и украинским, заправлял им некий Ковенко{102}, человек энергичный. Ковенко в начале гетманства ко мне часто приходил и хотел всегда, по его словам, вести усиленную борьбу с большевиками. Ковенко заведывал Арсеналом, где было за время всех киевских восстаний гнездо большевизма, но одновременно с этим, по словам начальствующих лиц, он сам готовил восстание против меня. Так ли это или нет, я не знаю. В то время Ковенко хотел соединиться с нами, того же хотел также и глава Елизаветградской козачьей рабочей организации, очень многочисленной. Он тоже приезжал ко мне, и у нас было несколько заседаний, по по мере выяснения вопроса, я заметил, что паши точки зрения по всем пунктам различны, поэтому я мягко отклонил. Приходила масса деятелей старого режима узнать, в чем дело, и просить места, но скоро уходили, когда я им указывал, что единственное место, которое я могу предложить, это организовать из хлеборобов надежные отряды и с ними идти бить большевиков. Являлись также и генералы. Среди них особенно жалел я бывшего главнокомандующего Западного фронта, Балуева{103}.
Приходили коннозаводчики просить дагь им охрану. Я помогал, чем мог, по у меня только начиналось дело, предстояла большая работа прежде, нежели я с уверенностью мог бы сказать, что те люди, которых я пошлю, действительно принесут пользу. Тогда я еще больше верил в людей, потом пришлось убедиться на фактах, насколько революция приняла у нас уродливый характер, главным образом тем, что подействовала растлевающе на массы в нравственном смысле, и это отразилось не только на лицах низшего сословия, по и на интеллигенции и высших классах. Тогда же мне князь Виктор Сергеевич Кочубей прислал со своею рекомендательною карточкою некоего Конюшенко-Сагайдачного. Он сообщил мне, что он украинский помещик Харьковской губернии, организовал казаков в Харьковщине, был где-то украинским комиссаром, по одновременно с этим принадлежал, я это потом узнал, к каким-то правым организациям{104}. Также у меня появился его друг, Гижицкий{105}, который потом вместе с Конюшенко сыграли такую большую роль в перевороте 29-го апреля. В то время они просили лишь оружие для тех частей, которые они, якобы, организовали, и казались мне мало интересными и бледными типами. Явился также Сергей Константинович Мокротун{106}. Его осведомленность меня поразила. Он занимал место начальника железнодорожной милиции и заседал в Главном управлении Юго-Западных железных дорог, был великолепно ориентирован во всех вопросах, волновавших в то время не только Киев, но и всю Украину.
Моркотун — украинец, но чрезвычайно умеренных взглядов, образовал общество Молодой Украины из интеллигентных молодых людей, прекрасно знал французскую миссию, постоянно у них бывал и, видно, пользовался их доверием. При всем этом лично был состоятельным человеком, обладал домом с громадным садом на Большой Владимирской, что даже для меня представляло некоторое значение, так как я считал, что состоятельные люди все же несколько гарантированы от желания незаконно присвоить себе деньги, которые им даны для определенного общественного дела.
Моркотун много путешествовал и в этом отношении отличался от всей той малокультурной среды украинцев, в которой мне приходилось вращаться. Особенно меня к нему располагало то, что его покойный отец был другом моего опекуна и дяди, генерала графа Александра Васильевича Олсуфьева, которого я очень, уважал. Мокротун ко мне в эти дни приходил часто. Я ему рассказал про свой план совместной работы с французами, поляками, чехословаками. Он ничего мне не ответил, но через день сообщил, что французы очень просили меня зайти к ним, где будут и представители польского корпуса. Свидание было на конспиративной квартире, так как украинские власти Центральной Рады следили за французами и за мною. Так, например, свидание после обеда с генералом Табуи, как мне передавали, было известно всем в Генеральном Секретариате. Очевидно, что в «Континентале» лакеи состояли на службе у тогдашней милиции. Уадпсих, правая рука генерала Табуи, принял меня очень любезно. Топ был уже другой, в духе решимости что-нибудь предпринять, но тут оказалось, что поляки не так уж в руках французов, как я полагал. Дело в том, что я требовал от них, числил корпус их, находящийся между Минском и Гомелем, спустился первоначально в район Ворожбы, Конотопа, Бахмача, они же стремились на правый берег Днепра, что меня совершенно не устраивало, так как, во-первых, большевикам с востока все доступы оставались открытыми, во-вторых, появление польского корпуса на правобережной Украине произвело бы скверное впечатление на все партии и меня обвинили бы в поддержке специально польских помещиков. Частным образом, по мере возможности, я готов был назначить несколько отдельных небольших охран, но вводить туда целый корпус я считал в то неопределенное время опасным с политической точки зрения. Кроме истории с польским корпусом, обстояло неладно и с чехословаками. Почему — не знаю, но обещанные представители не явились. На этом заседании, таким образом, ничего существенного с французами выработано не было. В это время, я должен сказать (это было между 15-м и 17-м января), новости приходили одна за другой хуже: Капкан отступал с востока по всей линии под натиском большевиков. Ластовченко{107}, командир Богдановского полка, был убит, Миргород был занят противником, в Киеве постреливали и велась отчаянная агитация в пользу большевиков, полки тогдашнего гарнизона драться не хотели. Крестьянские беспорядки начались повсеместно.
В Центральной Раде страшнейшие раздоры. Министерство Винниченко пало. Появилось министерство Голубовича{108}. В это самое время была объявлена Самостийность Украины{109}.
Это очень не поправилось французам, помню, они мне тогда говорили, что никогда Самостийная Украина признанной Антантой не будет. Должен откровенно сказать, что нерешительность французов в вопросе поляков и чехословаков в то время мне была несколько на руку, потому что я понял, что за такой короткий срок с такими войсками без соответственной пропаганды рассчет на успех был минимальный. К тому же, большевики начали агитировать в полку Павлюка, и последний в то время, когда я хотел ему приказать действовать, начал мне доказывать, что нужно то и другое, а потом через некоторое время сообщил, что у него в полку неладно, хотя на приведение полка в порядок я ему дал, кажется, около 70–80 тыс. рублей. Вот тоже человек, на точность заявлений которого рассчитывать нельзя. Инструкторская школа у меня была готова, и я группами высылал офицеров в Белую Церковь, но оттуда приходили недобрые вести. Для того чтобы наладить там порядок, я выслал туда Полтавца, причем, так как там вопили, что в Казачьей Раде нет денег, я переслал ему 100 тыс. рублей. Я получил эти деньги от Резниченко и Капкана. Однажды Капкан с Резниченко явились ко мне, неся какой-то большой пакет.
— «Вот мы пришли к Вам, пан генерал, чтобы Украину рятувать, а то усе загине!» В чем же дело? Оказывается, что они были у тогдашнего министра продовольствия Ковалевского, тот им с места отвалил 200 000 рублей. Они на эти деньги решили набрать людей для борьбы с большевиками и приехали просить помочь им людьми. Я согласился, по предупредил, что ставлю лишь условием, чтобы к этим деньгам я касательства не имел. Пусть ту часть, которую они признают нужной, они передадут д-ру Луценко, который при этом находился. Он свезет деньги в Белую Церковь, а с остальными деньгами пусть распоряжаются, как хотят. Кажется, 100000 рублей взял Луценко и передал в Белой Церкви Полтавцу, 100000 рублей взял себе Винниченко.
В Киеве становилось все хуже и хуже. Производились какие-то бессмысленные обыски украинскими властями, причем, как водится при этих обысках, исчезали цепные вещи обыскиваемых. По улицам стреляли все больше и больше, по ночам гремели почему-то пушки. Я хотел выехать в Белую Церковь, видя, что здесь все равно ничего не поделаешь, но поезда с 19-го перестали ходить.
Все украинские части поспешно отступали на Киев, некоторые из этих полков выражали, еще до прихода большевиков, сочувствие этим господам. В правительстве, кажется, заседали беспрерывно, по оно никакого значения не имело. Что делал в это время Капкан — я не знаю. В Киеве командующим войсками был в то время знаменитый впоследствии своим безобразным восстанием Шинкарь. Тогда он мне казался из всех деятелей того времени одним из наиболее порядочных и толковых. С ним можно было иметь дело. Начальником штаба у него был генерал Греков, человек беспринципный и с большим желанием играть выдающуюся роль, обладающий недостаточными волевыми качествами. Почему этот Греков, курский помещик, кажется, и великоросс, объявил себя крайним самостийником, непонятно!{110} Этот же Греков играл за время моего гетманства очень двойственную роль: во-первых, сразу не примкнул ко мне, а через несколько дней явился. Ясно, я его на службу не назначил, хотя им со всех сторон подсылались друзья для того, чтобы он мог получить назначение. Когда он увидел, что украинцы не имеют успеха, он через великорусские круги старался попасть ко мне. Помню, как я был удивлен, когда герцог Георгий Лейхтенбергский стал хлопотать за него.
— Да чего ты-то о нем хлопочешь, ведь он же ярый самостийник?
— Да разве это так? Он меня уверял, что он чистейший воды великоросс!
— Это не так, ты разберись, а потом хлопочи о нем. Через несколько дней он приходит и говорит:
— Ради Бог а, не назначай Грекова, он мне все наврал. Вообще, Греков человек очень растяжимых понятий о порядочности.
Когда образовалось украинское министерство, я попробовал назначить его начальннком главного штаба. Он уверял меня, что разделяемого точку зрения на Украину, что он честный человек и т. д., что не помешало этому честному человеку, когда началось восстание, перейти на сторону Петлюры и запять там пост главнокомандующего. Говорю откровенно, я нисколько не озлобился на солдатские массы, которые пошли прошв меня, ни на полуинтеллигентных офицеров, которые последовали за Петлюрой, ни на самого Петлюру. Первым обещали золотые горы, для вторых общая политическая обстановка была совершенно непонятна, да и верно, что положение было таково, что и разобраться было нелегко. Но когда генерал изменяет своему слову, свободно данному, для меня это непостижимо.
Был у нас холмский староста, Скоропись-Йолтуховский{111}, убежденнейший самостийник. Когда в силу сложившихся условий необходимо было перейти на федерацию с Россией, которую я объявил в своей грамоте от 14-го декабря, то на следующий день министр внутренних дел получил телеграмму, в которой Йолтуховский его уведомлял, что, стремясь к самостийности Украины, он не может продолжать свою службу и просит найти ему заместителя, до приезда которого он останется на своем посту. Я считаю, что Йолтуховский поступил честно, а Грекова, изменившего мне, после усиленных клятв, что разделяет мои убеждения, я презираю. Этот человек никогда не может сделать большого дела.
Возвращаюсь к личности Шинкаря. Помню, что он произвел на меня впечатление человека далеко не левых убеждений, он был националист и считал, что ради достижения Украины можно пожертвовать хотя бы на время своими левыми убеждениями, и шел вразрез с своими друзьями, фанатиками и левыми доктринерами. Я с ним виделся несколько раз. Молодой, благовоспитанный, энергичный, он производил хорошее впечатление, но, конечно, не годился для места главнокомандующего войсками, что и доказал безобразной обороной Киева, благодаря полнейшему отсутствию у него военного образования.
С 19-го января утром на улицах Киева начали появляться баррикады. Украинцы громили Арсенал, где заседали большевики, последние стреляли по городу. Стрельба, особенно к вечеру, была очень сильная. Ввиду того, что в «Универсале» могло быть неспокойно, я переехал к Моркотуну и ходил лишь днем в «Универсал», который все больше пустел.
20-го числа января я решил во чтобы то пи стало добраться до Белой Церкви. Тогда же ко мне чуть ли не пешком пришел один очень порядочный галичанин, некий архитектор Мартынович (настоящее его имя было Строкой), с которым мне пришлось потом перенести немало невзгод за время большевистского нашествия. Мартынович заявил мне, что Александрия сожжена. Я решил в тот же день ехать туда. У меня был шофер, но автомобиля не было. У Шинкаря, по должности, был автомобиль, а шофера не было. Я узнал, что он хочет ехать в Звенигородку и там образовать части для противодействия наступлению большевиков. Я послал ему сказать, что я дам ему шофера, если он меня свезет в Белую Церковь.
В результате он немедленно укатил, убедив шофера, что все изменилось и что меня ждать не нужно. Хотя это маленький штрих, но я понял, что этот человек не из особенно добросовестных. Ехать верхом лошадей не было. 21-го вечером я собрал тех нескольких офицеров, которые были при мне, сказав им, что они свободны, пусть обо мне не думают и сами спасаются. Я ушел. Безусловно, мне пора было уйти. Оказывается, вскоре после моего ухода большевики обыскали всю гостиницу, разыскивая меня, причем моя голова была оценена. Я ушел с Мартыновичем.
Город производил отвратительное впечатление. Полнейшая темнота, стрельба во всех направлениях. Трудно было ориентироваться, где свои и где большевики. Мы пробирались перебежками, от укрытия до укрытия. Через Прорезную и Большую Владимирскую перешли на Львовскую, оттуда дошли до церкви св. Федора. Невдалеке от нее Мартынович знал казарму, где жили пленные галичане. Мы решили там переночевать. Галичане очень заботливо ко мне отнеслись: предоставили кровать, напоили чаем и всю ночь стерегли.
На рассвете ко мне явился один из них и заявил, что он ночью ходил на разведку и выяснилось, что большевики наступают со стороны Житомирского шоссе на Киев, что все огороды и предместья города заняты ими, и галичане решительно советовали мне уходить, а то будет поздно. Я оделся и вышел.
Было темно. Я стал прислушиваться. В нескольких направлениях слышна была стрельба, где-то вдалеке одиночные выстрелы. Улица же, по которой я шел, была совершенно пуста. Я пошел вдоль нее, стараясь выбраться на огороды. Предварительно разведав, я знал, что за огородами идут рытвины, где можно было бы укрыться. Пройдя приблизительно около версты, я, наконец, дошел до огородов. К тому времени стрельба значительно усилилась. Появились небольшие цепи украинцев. Когда я обращался к ним с вопросом, дабы мне как-нибудь ориентироваться, я получал от них ответы, которые совершенно не помогали моему делу. Тогда я решил идти прямо, будь что будет. Через полчаса я уже был вне ближайшей опасности, выстрелы противника слышались позади. Дорога оказалось незанятой. Редкие крестьяне, попадавшиеся по пути, указывали мне места, занятые большевиками; я эти места обходил, таким образом я добрался до Жулян. Там уже пошел по полотну железной дороги. К вечеру я был уже в Василькове. Расстояние от Василькова до Киева, кажется, 36 верст. Я очень устал. Переночевав у одного еврея, на следующий день на наемной паре кляч к вечеру приехал в Белую Церковь и с места отправился в расположение штаба корпуса. Я только застал там находящиеся под начальством капитана Андерсона остатки штаба корпуса. Сам корпусный командир со штабом был в Василькове.
Большевики, занявши Фастов, двигались на Киев. У бедного Андерсона настроение было очень подавленное, так как у него на руках были казенные деньги, и он не знал, что с ними делать. Он мне рассказал, что Казачья Рада разогнана, что Александрия спалена крестьянами, причем участвовали и наши части, но что семьи Браницких и Радзивилл спасены и живут в Белой Церкви по различным домам, так что никто определенно не знает, где они находятся. Мне было чрезвычайно жаль бедных Браницких, чудная Александрия с ее художественными сокровищами погибла. Я знаю, насколько тяжелы такие потери, лично только что пережив это огорчение, когда узнал, что мой Тросгянец со всеми вещами и картинами сожжен дотла. Брапицкие обвиняли в нераспорядительности Сафонова и Полтавца. Полтавец, наоборот, что он геройствовал и спасал, что мог. Я лично думаю, что общие условия складывались так, что несчастье неизбежно должно было произойти. Местные крестьяне, согия Полтавца и даже самые ближайшие служащие графини принимали участие в этом отвратительном безобразии. Думаю, что Сафонов растерялся, это похоже на него. Что касается Полтавца, был ли он в состоянии фактически что-нибудь сделать, когда, судя по его словам, ему перерубили шины в броневом автомобиле, который являлся главным ядром обороны Александрии.
Уезжая из корпуса в конце декабря, я все надеялся, что сумею сформировать часть из галичан, которую хотел привести в Белую Цекровь. Но это мне не удалось, так как все они пошли в полк, который формировала Центральная Рада для своей охраны{112}. Это единственное, что могло в то время спасти Александрию.
Андерсон мне сказал, что в Белой Церкви с минуты на минуту ждут прихода большевиков, и он советовал мне уехать, так как в Белой Церкви есть много местных большевиков, которые меня ищут. Этот же Андерсон мне сообщил, что Полтавец и все офицеры Казачьей Рады поехали в Звенигородку, где по некоторым сведениям были казаки, желавшие идти драться с большевиками. Я решил переночевать в Белой Церкви и остановился у одной очень сердечной и милой женщины, жены артиллерийского полковника. Никогда я не забуду той заботливости, которую она проявила по отношению ко мне.
Весть о моем приезде среди некоторых лиц, встретивших меня, разнеслась по городу, и ко мне стали являться лица с просьбой уехать, так как я здесь ничего не могу сделать. Помню, ко мне пришел полковник Лось, организовавший оборону. Его через несколько дней после этого убили. Являлись и подозрительные господа, которые шли ко мне, чтобы узнать мои планы, и затем бежали сообщить обо всем узнанном большевикам, во главе которых стояла какая-то еврейка, на мое счастье, поехавшая за инструкциями в Киев. Этим господам я ничего не сообщал.
Сам же, после некоторого колебания, решил ехать в Звенигородку. Колебался я потому, что Звенигородка была далеко, а я думал, что могу что-нибудь сделать в корпусе, но потом решил, что, сдавши корпус, мне было неловко вмешиваться в распоряжения Гандзюка, и потому я остановился на первом решении, и, может быть, напрасно, потому что и Гандзюк, и Сафонов были совершенно не ориентированы в положении вещей и 22-го или 23-го января, когда они уже со штабом оказались под самым Киевом, оба они решили ехать в Генеральный Секретариат за сведениями. Выехали они на автомобиле. Их где-то большевики остановили. Они заявили, что едут из первого Украинского корпуса. За это их немедленно выволокли. из автомобиля, без всякого с их стороны сопротивления, а затем через 1–2 дня они были расстреляны, причем тел их не похоронили. Уже когда я был гетманом, ко мне приезжали их несчастные жены, я им помог, чем мог. Они разыскали тела своих мужей в обезображенном виде. Есть показания по этому поводу одного офицера генерального штаба, Краевского, которого вместе с ними приставили к стенке для расстрела, но который был лишь после залпа ранен и удрал. Когда я его видел, нравственное его состояние было таково, что трудно было от него добиться более подробных сведений о последних минутах [жизни] этих двух честных генералов.
Я очень обрадовался, что мои верховые лошади оказались целыми в конюшнях штаба. На следующий день я подготовлял все для выезда в Звенигородку. В это время выяснилось, что большевики выдвинули какой-то небольшой отряд в направлении Белой Церкви и уже какие-то их комиссары приехали в город.
24-го января 1918 года я в сопровождении Мартыновича, прапорщика Убийского, офицера корпуса, моих двух вестовых на рассвете выехали из Белой Церкви. Было решено, так как меня все знали в Белой Церкви, что я пройду в соседнее большое село, а туда прибудут вестовые с моими лошадьми и телегой, которую я взял из штаба корпуса. Пришлось снова пройти пешком верст 20 до села. Там мы остановились у крестьянина.
Забавно и в то же время грустно было слышать его спокойный и деловитый рассказ, как он грабил соседнего помещика. Никакого сомнения в правоте своего дела, причем оказалось, что ему достались лишь низ от какого-то большого стола и несколько листов железа. Я его спросил, почему он так мало взял.
— Да, — говорит он, — все больше палили и ломали, потом уж спохватились брать, да поздно было.
— А вы что же, сильно сердиты были на помещика, что сильно жал вас?
— Нет, барин был добрый, мы с ним по-хорошему жили, да так уж вышло.
Более определенных причин разорения, видимо, прекрасного хозяйства я получить от этого крестьянина не мог.
К полудню подошли лошади; покормивши их, мы поехали дальше. Я был одет рабочим, георгиевский крест и свадебное кольцо были заїли ты в рукаве моего тулупа. На всех остановках я заходил в хаты и в трактиры погреться и выпить чаю. Настроение крестьян было совершенно спокойное, но положительно никто не хотел идти выручать Киев от большевиков, к которым в общем относились весьма сочувственно.
К вечеру мы остановились в маленьком хуторе. Я пошел постучать, неохотно мне отворила какая-то крестьянская девушка и ни за что не хотела пустить нас переночевать. Видя, что мои переговоры не увенчались успехом, я послал своего вестового Мазанкова, унтер-офицера конного полка. Полтавской губернии, писанного красавца. Он поговорил, и нас пустили. Я спросил, что же это меня не пускали, а вот он поговорил, и согласились нас пустить.
— Да я думала, что все такие приехали старые, как Вы. На следующий день выехали снопа на рассвете. К полудню добрались до сельского священника, где решили отдохнуть. Священник был, видимо, политик, он нас принял любезно, но не зная, что мы за люди и каких политических убеждений и не желая попасть впросак, выдавал себя за большевика, а когда увидел, что мы несколько озадачены его заявлением, то сразу объявил себя убежденным монархистом, сторонником старого режима и т. п. Как бы там ни было, он нас хорошо накормил, и к вечеру мы добрались до Листвянки.
Здесь мы остановились у еврея, который нам доложил, что все имения сожжены, что большевистский режим несомненно наступит. Вообще, повторяю, на меня угнетающе действовало сознание, что поднять народ для борьбы с большевизмом было, при тогдашнем состоянии умой, совершенно немыслимо. Нужно было бы предварительно развить большую пропаганду, и только тогда можно было бы добиться чего-нибудь, и то преимущественно среди более зажиточных крестьян. Дорога была отвратительная, таяло; по грязи приходилось тащиться почти шагом.
К 26-ому января мы только в три часа подъехали к Звенигородке. Попутно с нами тащились обозы со «скарбом» разоренных помещиков. В Звенигородке, после недолгих поисков, мы остановились в небольшой гостинице «Англия», где я нашел Полтавца, и к моему неудовольствию, там же оказался и Шинкарь со своими приверженцами. Полтавец был весь бритый, одетый тоже вроде мастерового.
Он рассказывал, что когда большевики подошли к Фастову, его вся сотня, забравши лошадей, разбежалась и что на Генеральную Казачью Раду, с целью его арестовать, двинулась какая-то команда автомобильных починочных мастерских штаба фронта, что он еле-еле спасся, по что помещение Казачьей Рады они разгромили. Тогда он решил ехать в Звенигородку, надеясь на казака Грызло, но что здесь Шинкарь объявил себя нечто вроде начальника и посадил этого Грызло в тюрьму, за якобы неблаговидные проделки.
Я повидался с Шинкарем и упрекнул его за его отношение ко мне в истории с автомобилем. Он начал оправдываться, рассказывая, что не мог ждать, так как ему нужно было спасти какого-то раненого офицера, но что он выслал за мной другой автомобиль и что я напрасно его не дождался, что здесь он собирает людей и формирует части для того, чтобы идти на Киев. Я уже знал, с кем имею дело, и относился к нему осторожно.
За это путешествие в разговорах с крестьянами, да и из типа селян, записавшихся в казаки, я убедился, насколько казачья организация неправильно поставлена и насколько она еще в зачаточном состоянии. Я видел, что для борьбы с большевиками их не поднять, и поэтому, понимая, что Шинкарь, какой он там ни на есть, все же не потерял надежды на это, решил ему не препятствовать, а, наоборот, помогать, так как я видел тогда, что он искренне ненавидит большевиков. Поэтому лишние деньги от Казачьей Рады, имеющиеся у нас, я тогда приказал передать ему для формирования частей. Шинкарь был настроен национально, нос ним был его правая рука, неглупый человек, прапорщик Демерлий. Этот Демерлий все время сбивал его на крайний социализм, и Шинкарь сдавался ему. Это особенно ясно выразилось тогда, когда мы обсуждали вопрос формирования частей для спасения Украины от большевиков. Шинкарь рассуждал здраво, пришел Демерлий и начал мне выкладывать весь свой крайний социалистический катехизис. Я понял тогда, что мне с этим господином окончательно не по пути.
Тогда же у меня с Шинкарем произошел разговор, который он впоследствии хотел использовать для того, чтобы как можно больше восстановить немцев против меня. Но взялся он за это дело в тот момент, когда мне нужно было во чтобы то ни стало войти в сношения с Entente-й, и весь его удар пришелся по воде. Впрочем, этот- эпизод довольно забавен, и поэтому я могу изложить его подробней. Дело в том, что, очевидно, всем тогдашним деятелям Рады уже было известно о мирных переговорах с немцами. Все это довольно ловко скрывалось, потому что мне, например, серьезного в этом отношении ничего не было известно. Я был настроен против немцев, недавно еще воевал с ними, разозленный их политикой с большевиками, я не мог с ними примириться, и помню, что когда Шинкарь мне как-то заявил, что нам необходимо идти с немцами, заключив с ними мир, я протестовал, доказывая ему, что несомненно в конечном итоге они должны быть разбиты, да что и в экономическом отношении нам выгоднее быть с державами Согласия. Я про этот разговор забыл.
Прошло месяцев девять. Я был гетманом. Как раз в то время главным образом великороссы, для того чтобы меня провалить, горячо поддерживали среди некоторых кругов мнение, что я ярый германофил. Для меня же было важно как можно скорее войти в непосредственные сношения с представителями Entente-ы в Яссах. Помню, что у меня как-то сидел секретарь представителя держав Согласия г. Эно, г. Серкаль, и мы как раз об этом говорили. Вдруг мне приносят помер подпольной газеты «Боротьба», и там, между прочим, помещено было открытое письмо Шинкаря, в котором он обращается ко мне, после, конечно, обязательных упреков мне, что я кровопийца, хочу забрать все у народа (это было как раз в то время, когда я вел самую откровенную борьбу за проведение единственного, по моему мнению, возможного аграрного закона) и т. д., он обращается ко мне со словами: «Да кто же Вы такой, паи гетман, теперь Вы как-будто германофил, а когда я несколько времени тому назад беседовал с Вами в Звенигородке, в гостинице «Англия», помните, что Вы говорили и то, и другое, и третье. Помните, какие панегирики Вы пели тогда французам и другим нациям Согласия…»{113}
Я этот экземпляр немедленно передал Серкалю для передачи посольствам в Яссы, а Шинкарю приказал ответить, что я пи германофил, пи франкофил, пи англофил, а просто люблю свою Родину и, желая ей блага, пользуюсь всеми возможностями ее спасти, и всякий, кто честно мне помогает в этом, хотя бы даже ради своей выгоды, меня удовлетворяет, и с ним я пойду.
Из Звенигородки все же, желая лично еще раз убедиться, нельзя ли поднять казаков села Ольховцы, я поехал к одному из деятелей Казачьей Рады, но, поговорив с ним, увидел, что ничего не выйдет, и вернулся обратно. До Звенигородки из Киева доходили самые неопределенные сведения. Говорили некоторые, что в Житомире находятся украинские части, которые хотят драться с большевиками, другие, что под Киевом идут бои… Видя, что в Звенигородке ничего не выходит с казаками, я решил послать Полтавца на Кубань выведать, нельзя ли там собрать какие-нибудь части. Я сам хотел ехать в Житомир и принять участие в боях, или же проехать в Киев и там узнать о точном положении дел.
29-го января 1918 года я сдал на хуторе одному прапорщику своих лошадей с вестовым, которого снабдил деньгами, взял с собою лишь Мартыновича. Шинкарь меня просил подвезти еще какого-то галичанина. Кроме того, ко мне присоединился еще один украинец, который служил у главнокомандующего румынским фронтом и который ехал зачем-то отыскивать доктора Луценко. Мы все тронулись в пул, на штабной повозке. Так как мы не хотели садиться в поезд в Звенигородке, решено было доехать до Тального, а там уже по железной дороге пробираться дальше.
Помню грустное размышление, на которое меня наводило занятие, которому мы предавались ночью, сидя в маленькой пустой квартире. Я, корпусный командир, сидел с Мартыновичем и смотрел, как бывший полицейский начальник из какого-то сибирского города составлял нам фальшивые паспорта и с большой ловкостью подделывал нам печати, при помощи соединения сажи с сахаром и еще каких-то снадобьев. Я думал о том, что никогда не поверил бы, что буду присутствовать при таком деле, если бы мне сказали об этом несколько месяцев тому назад.
30-го, еще в темноте, мы выехали. В Тальном я убедился, что фальшивые паспорта составлены опытною рукою, так как при осмотре их местным начальством, не то большевистским, не то очень близким к нему, нас благополучно пропустили. Мы сели в поезд. Ехали пленные австрийцы, я прислушивался к их разговорам, они прекрасно говорили по-русски. Форменные большевики, их любимым занятием было подвешивать за шею какую-то куклу и приговаривать, что так они сделают со своим императором Карлом. Впоследствии я перешел в другой вагон, где сидели мадьяры, те оказались таких же политических убеждений. На следующий день мы приехали в Казатин, и к вечеру я добрался до Бердичева. Остановились в небольшой еврейской гостинице.
Я послал Мартыновича и своего украинца на разведку. Последний был удивительный тип. Резкость в его суждениях, когда дело касалось Украины, я приписывал его «самостийности». Говорили мы дорогою обо всем. Видимо, он много читал, был очень воспитан и чистоплотен. Я никак не мог сообразить, что у него за профессия. На мой вопрос он мне ответил: «Вы удивитесь, но это так, я официант по призванию, мне это дело правится. Я вижу в ресторанах массу народа, разговариваю с ним и чувствую себя прекрасно. Ведь ничего позорного нет быть официантом». — «Конечно, нет, по все-таки есть же более интересные профессии для человека такого начитанного, как Вы». — «Может быть, и есть, по это мне по душе».
Я более его не спрашивал и был очень рад, что нашел в моем положении человека «официанта по призванию». Может быть, он и за мной, из любви к искусству, поухаживает-. Так и случилось: хотя я сначала старался быть на совершенно равных началах, тем не менее как-то так вышло, что он занимался всем моим хозяйством и все у меня было в порядке; где пуговица оторвется — гляди, он вечером уже и пришьет, ничего мне не сказав. Он знал Шевченко наизусть и, видимо, страшно любил все украинское неподдельной любовью.
Из разведки они явились очень опечаленными. Оказывается, что когда мы въезжали в город с одной стороны, с другой в город входили большевистские части. Уже в штабе главнокомандующего появился какой-то комиссар Гусарский, который прибирал все к рукам. Еврейчики в гостинице поглядывали на нас подозрительно. Во избежание того, чтобы они нас не выдали, я решил послать Мартыновича узнать, нет ли еще тут полковника П.[57]{114}; через некоторое время явился сам П. и с большими предосторожностями перевел меня к себе на квартиру. Я у него переночевал. Жил он очень скромно в одной комнате со своей женой, но был так любезен, что услал куда-то жену и дал мне возможность переночевать у него.
Я хотел ехать в Житомир, по Мартынович выяснил, что большевики заняли шоссе и никого не пропускают, тогда я решил пробраться в Киев и там, узнавши общее положение дел, обдумать, что делать дальше. Мартынович остался в Бердичеве ждать возможности пробраться в Житомир, а я со своим украинцем пошел на станцию. Здесь мне снова пришлось пережить неприятные минуты. На станции был всякий сброд большевиков, тут же находилось много кавалергардов и конногвардейцев из эскадронов, которые были мною расформированы в декабре месяце. Все они меня прекрасно знали в лицо, так как я всю свою жизнь провел в этой бригаде, а потом командовал их дивизией, по мой костюм и небритая в течение долгого времени борода меня спасли. Я сидел между ними часа три, разговаривал с ними, они мне рассказывали о своих похождениях, а я себя выдавал за мастерового электротехника, едущего в Киев за работой. Минуты мне казались вечностью, но все обошлось благополучно. Подошел поезд, и я, забившись в какой-то вагон с дровами, благополучно уехал в Казятин. В Казятине целая ночь таких же мучений, что и на станции Бердичев. Все меня там знали еще за время моего осеннего командования корпусом против большевиков, но я из предосторожности уселся в группе пленных немцев, возвращающихся в Германию. Немцы уверяли, что у них никакого большевизма быть не может.
Прибыл поезд на Киев, по он был так переполнен, что никакими усилиями в вагон нельзя было протиснуться, наконец, где-то в хвосте поезда у одного вагона стояла меньшая толпа товарищей, я решил забраться туда. С трудом пробрался к отдвижным дверям товарного вагона, поднял руки, чтобы положить свои вещи, находящиеся в сухарных солдатских мешках, но в это время почувствовал, что с обеих сторон в карманах моих рейтуз кто-то выбирает содержимое. Я спешно взял обратно свои вещи, положил их на платформу и схватил за шиворот маленького невзрачного солдата, который стоял около меня. Он барахтался и ругался, я его при всех, указывая, что он вор, обыскал, по ничего не нашел. Несомненно, что это была шайка и что все украденные вещи он передал другому, а тот удрал. Так как у него вещей не оказалось, толпа стала возмущаться против меня, некоторые кричали: «Что ты на солдата нападаешь? Он кровь свою проливал, а ты на печи сидел!» Видя, что тут все равно правды не добиться, я отошел. В результате оказалось, что у меня решительно все ценное было украдено, плюс паспорт. Я почувствовал себя отвратительно. У меня было три тысячи рублей полученного жалования, револьвер, часы и паспорт. Больше всего я жалел паспорт. На мое счастье, у украинца было немного денег. Я вернулся снова в буфет и дождался уже утром следующего поезда. То же переполнение, влезть невозможно. Тогда украинец и я сели на буфера и поехали. Холод был страшный. Сидя на буфере, я рассуждал о превратности человеческой судьбы. Действительно, положение было незавидное: без денег, без оружия, за отсутствием паспорта подверженный риску, что всякий может меня остановить. Ехал так несколько станций, наконец, стало окончательно невмоготу: из-за холода у меня окоченели руки, рукавиц же не было, их тоже украли, и приходилось держаться за какую-то проволоку, сползавшую с крыши вагона.
После долгих поисков я с своим украинцем примостились на какой-то открытой платформе, переполненной солдатами. Среди них ехала молодая, видимо, зажиточная женщина, в крестьянском платье. Мой украинец, по-видимому, большой любитель поухаживать, примостился около нее. Ехали мы страшно долго с часовыми остановками на каждом полустанке. К вечеру холод стал невыносимым, тогда откуда-то раздобыли большую железную плиту, положили ее на настил платформы и развели костер. Все поочередно усаживались вокруг него, так и ехали.
Я прислушивался к разговорам. Хотя большинство солдат восприняли уже большевистскую фразеологию, но были и такие, которые с ними не соглашались. Интересно было наблюдать за тем, что все тыловые солдаты были уже вполне натасканы на большевизм, они-то, главным образом, обвиняли офицерство в различных зверствах, описывали солдатские страдания, хотя сами были хорошо одеты, имели сытый и даже холеный вид, другие просто молчали, по первые их забивали по всем пунктам. Желая поддержать окопников, я стал задавать им различные больные вопросы. Помню, что мне удалось одного унтер-офицера, форменного провокатора, поднять на смех. Но когда тот, разозлившись, обратился ко мне с вопросом: «Да ты что здесь, борода, среди нас, солдат?», я вспомнил свое положение беспаспортного и решил не возобновлять диспута, тем более, что кондуктор, все время обходивший на станциях поезд, требовал, чтобы штатские с этим поездом не ехали, и я боялся, что при каком-нибудь сандале меня бы не высадили и не спросили документа. Наконец, к 12-1 часам ночи мы подъехали к Жулянам. Я стоял на краю платформы, боясь простудиться от жара пылающего костра. Паровоз перед отходом дал свисток и сразу сильно дернул, поезд тронулся. Около меня стоял какой-то еврейчик-солдат, он, видимо, при толчке испугался и схватил меня за плечо, я потерял равновесие, закачался и с размаху слетел с платформы под откос дороги на камни, потеряв сознание. Через некоторое время, очнувшись, вижу, что люди около меня копошатся, и почувствовал сильную боль в руке. Вот тут-то в первый раз, сознаюсь, испытал чувство сильного угнетения. Думаю себе: без паспорта, а рука сломана, отвезут в Киев, там узнают. Но затем начал тихонько шевелить пальцами, вижу, шевелятся, ну, слава Богу, рука цела! Оказывается, то хоть и большевики, по чувство сострадания у них было. Когда я упал с платформы, они подняли крик. Паровоз находился недалеко от нашей платформы, на паровозе услышали, поезд остановили и меня торжественно водворили обратно на мое же место. Женщина, которая ехала с нами, оказалась очень сердобольной, она перешла ко мне и стала за мной ухаживать. Рука сильно болела, как оказалось впоследствии, у меня было сильное растяжение сухожилий.
Часа в три ночи мы приехали в Киев. Женщина меня спросила, где собираюсь ночевать. Я ответил: «Где-нибудь в гостинице». — «Ах нет, и туда не ходите, там теперь плохо!» — «А куда же?» — «Да переночуйте у меня». — «Да муж-то Ваш Вас за это не похвалит, подумает Бог знает что о Вас!» — «Нет, муж у меня хороший». — «Подумайте!» Пошли.
Мне пришлось нести еще какие-то вещи этой женщины, она ехала и везла в город провизию, по, маленькая и слабая, не могла всего нести. Шли довольно долго. Наконец, в Златоустовском переулке пришли к пей на квартиру. Муж встретил нас очень любезно. Он страшно обрадовался жене. Оказалось, что по профессии он был сапожником, сам украинец, у него было два помощника, которые жили тут же. Все баптисты. Целыми днями работают, вечером читают Евангелие, живут дружно, чисто и хорошо. Мне повезло.
Меня трогало отношение между мужем и женой. Я редко видел такое симпатичное выражение любви между мужчиной и женщиной. После всей той обстановки, в которой я жил, приятно было окунуться в такую теплую, сердечную атмосферу. Хозяин мне немедленно сделал какой-то лубок для руки, жена перевязала и напоила чаем. Во время еды хозяин на меня пристально смотрел, потом, когда рабочие его пошли к себе, в соседнюю комнату, он мне сказал, многозначительно напирая на слова: «Вы, говорит, берегитесь, тут в Киеве идет избиение офицеров и генералов, Вы лучше поживите у меня». Долгое время спустя, когда большевиков и след простыл, я его как-то спросил, почему он мне сказал об этом с такою многозначительностью. — «Да я во время еды понял, что Вы не мастеровой, как говорили, а офицер или помещик, вот я и хотел Вас предупредить». Я намотал себе на ус сказанное и на следующий день остался у него, а украинца направил к госпоже М.[58] узнать, нельзя ли мне с ней повидаться. Она мне передала, чтобы я через день явился к пей. В этот же день случилась большая неприятность: мой верный «официант по призванию» заболел, и очень серьезно. Он всю ночь бредил, терял сознание. Оказалось, что у него сильнейшее воспаление легких. Хозяева и я ухаживали за ним, как могли.
Мне нужны были деньги, и на следующий день, когда стемнело, я пошел к г-же М. Какое неприветливое впечатление производил ее домик, несколько времени до того, когда я у них жил, такой уютный. Кругом пусто, окна выбиты, сад разорен. Оказывается, большевики произвели у них обыск и привели дом в такое состояние. Старая горничная открыла мне двери и указала дом и улицу, где я должен был встретить ее хозяйку. Я поехал туда; оказывается, сердечная г-жа М. отыскала мне приют и решила немедленно меня туда отвести. И вот, почти через весь город, она шла впереди, а я за пей на некотором расстоянии. Мне было жаль, что такая почтенная женщина из-за меня делала такую несвойственную ей прогулку. Наконец, добрались до Л.[59], которого впоследствии, во время гетманства, я назначил своим секретарем, так я у него и поселился.
Л., приличный молодой человек, с высшим образованием, у него очень миловидная, умненькая жена. Лично он занимал должность, еще при «Раде», железнодорожного комиссара по железнодорожной милиции, но остался при большевиках и, благодаря этому, имел возможность спасти массу народа в это ужасное для нашего брата, офицера и генерала, время. Такие люди приносили громадную пользу.
В это время в одном Киеве было перебито около трех тысяч офицеров{115}. Многих мучали. Это был сплошной ад. Несмотря на мое желание точно знать, уже при гетманстве, цифру расстрелянных офицеров и мирных жителей, я не мог установить ее. Во всяком случае, нужно считать тысячами. Особенно мною погибло офицеров приезжих или либеральствующих и полагавших, что с большевиками можно говорить, как с людьми. Я узнал тогда, что меня искали по всему Киеву, что моя голова была оценена, что гостиницу «Универсаль», отыскивая меня, перерыли от чердаков до погребов. Уже распространился слух, что меня где-то расстреляли.
У Л. я поселился так, что кроме самых близких и верных ему знакомых, никто не знал и не видел меня. Жена Л., очень милая дама, доставала мне все, что нужно было; а нужно было очень много, так как кроме того, что было на мне, у меня ничего другого не было. Я же жил в кабинете, и никто меня не видел, кроме определенных лиц. Так провел дней десять, наконец, выяснилось, что самому Л. жить на его квартире было не безопасно. В это время большевики, чуя приближение немцев, начали уже свой отход, но предварительно делали всевозможные Зезобразия. Л. бросил свою службу, она его очень тяготила, выправил себе и мне билеты, добился через знакомых возможности поселиться на окраине города.
Около 6-го февраля 1918 года я с Л., оба одетые рабочими, отправились в указанную нам кварт пру, причем нам было сказано, что нас там не знают и называть свои настоящие фамилии не следует. Когда мы позвонили, нам открыла дверь почтенная старая дама и познакомила со своей дочерью, взрослою барышнею. Меня поразило то, что никакой прислуги, несмотря на сравнительно большую квартиру и зажиточность, не было. Все, включая приготовление пищи, делалось г-жей Д.[60] и ее дочерью.
Мы приняты были очень любезно, но велико же было мое разочарование, когда, сидя за чаем, вижу, входит молодой человек неопределенного вида, подходит ко мне и здоровается со мною: «Здравствуйте, ваше превосходительство». Меня это смутило, тем более, что я только что рассказывал своей хозяйке какую-то длиннейшую историю о своей, якобы, инженерной деятельности. Я сделал вид, что не заметил, и решил выяснить, что это за человек, и, если он мне не понравится, после чая уйду. Уже через несколько минут я понял, что этот молодой человек офицер, принимавший участие в борьбе с большевиками, и теперь он скрывается так же, как и я. Выяснилось, что он служил в 125-ой пехотной дивизии в то время, когда она входила в состав Гвардейского кавалерийского корпуса, а я временно командовал им. Он сразу меня узнал. Он оказался по профессии музыкантом. Я провел у них тоже несколько дней. Обе дамы были трогательно заботливы, работали с утра до вечера и свободно обходились без всякой прислуги. Я нахожу, что во время большевиков это почти единственное средство быть более или менее спокойным за свое существование. Большинство разгромов, убийств и насилий в частных квартирах являлись результатом предательств горничных и мужской прислуги.
Целыми днями я читал и из комнаты не выходил. Мы получали лишь смутные сведения о том, что делается в городе, главным образом через дочь хозяйки, собиравшей эти сведения во время ее закупок провизии на базаре. Наконец, мы как-то узнали, что украинцы подходят к городу, и с ними чехословаки{116}. Последние спешно уходили от немцев, украинцы же шли на Киев. Тут выяснилось, что когда немцы начали наступать, все украинское приободрилось и начало тоже наступать. Большевики же, чувствуя, что с немцами им не справиться, спешно уходили. И вот, все начальники старались наперегонки входить в Киев и получить соответственные овации. Первым вошел Петлюра со своей дружиной. За украинцами, в непосредственной близости, двигались немцы. Помню, какое радостное чувство меня охватило, когда я увидел первого украинского конного казака. Я немедленно ж взял свое несложное добро, поблагодарил хозяйку и вышел на улицу.
На дворе была уже весна, было тепло, светло и весело. После моего сидения в маленькой комнатке Киев показался мне раем. Я взял извозчика и приказал ему ехать к «Капе», где надеялся, что знают что-нибудь о Зеленевском. На улицах еще было далеко неспокойно. Шла кое-где перестрелка. Я лично наткнулся на несколько трупов, одни на Львовской был почти при мне убит каким-то украинцем, уверявшим, что убил переодетого большевика.
Бог их разберет. Но не к чести наших украинцев, многие из них во время большевистского нашествия перешли на сторону большевиков и не меньше бесчинствовали, чем великороссы, что не мешало им через некоторое время снова уверять, что у них одна мечта, святое дело — создать Украину.
Я добрался до гостиницы «Кане». Зеленевский тоже только что там водворился и тянул уже какой-то напиток. Я был очень счастлив снова с ним свидеться и решил поселиться в «Кане». Мы заняли две с половиной комнаты, так что у каждого из нас вышло по спальне, и еще была приемная. Я думал только о том, как бы мне более или менее прилично одеться и вымыться. Все оставленные мною вещи в «Кане», куда я их перенес перед уходом из «Универсаля», разграбили большевики. У меня ничего не было, приходилось все заново заводить.
На следующий день утром немцы входили в город. На меня это производило двоякое впечатление. Я думал о том, что бы я сказал, если бы мне сообщили, что немцы, с которыми мы так дрались, входят в Киев. Я бы не поверил и наговорил бы этому лицу кучу дерзостей. До такого позора мы дошли, что теперь это терпимо и даже втайне радостно, так как это освобождало нас от ненавистного гнета большевиков.
Ввиду прихода немцев, я решил немедленно одеть штатское платье и, хотя делал вид, что удивляюсь, почему все интересуются немцами и подробностями их прихода, сознаюсь, меня это тоже интересовало. Я хотел знать все подробности их снаряжения, в каком они порядке, будучи убежден, что все это в ужасном состоянии, и, наблюдая за прохождением войск всех родов оружия, я был ошеломлен порядком, выправкою людей, сохранностью самых маловажных подробностей снаряжения. Все это были люди, как будто бы вчера объявившие войну. Я помню, что как-то, глядя из окна на гусарский полк, вступавший в блестящем порядке в Киев, я вспомнил наши полки кавалергардов, конную гвардию, в которых я провел почти всю свою жизнь. Вспомнил, в каком блестящем порядке конная гвардия была на войне, какие чудные были люди, красавцы и молодцы, значительно лучше этих мелких худосочных немцев. И чем теперь все это кончилось? Все превратилось в большевиков. Меня охватило какое-то чувство отчаяния. Сознание позора и бессилия меня угнетало; я захлопнул фортку, лег на кровать и пролежал до самого вечера. Кто бы сказал, что эта блестящая армия, руководимая прекрасными вождями, с такою методичностью и быстротой разворачивающаяся на Украине, через 8 месяцев превратится в стадо каких-то болтунов, которых всякий большевик имел возможность обезоружить.
Начался совершенно новый период моей жизни. Я был свободен, с казачьим вопросом после полного разочарования, которое я испытал за последнее время, я временно решил приостановиться, поняв, что казачество возможно только как вполне планомерная правительственная работа и организация, а что как час гное предприятие оно немыслимо.
Через два дня приехал Полтавец. Оказывается, что когда я уехал, он через несколько дней проехал в Киев, а оттуда в Житомир и там командовал каким-то отрядом. Забыл сказать, что я еще раньше получил от него, уже не помню, каким образом, переданное мне письмо, в котором он по настоянию офицеров просил меня приехать в Житомир для командования частями боровшихся с большевиками, оперирующими против Киева. Я письмо получил в то время, когда уже знал, что немцы двигаются на Украину, и наотрез отказался от этого дела, так как сознавал, что если бы я это сделал, меня всегда бы укоряли в том, что я привел немцев к себе на Родину.
Теперь, когда Полтавец мне начал предлагать казачье дело, я, не веря в успех этого предприятия, отказался пока действовать, а решил выждать, посмотреть и выяснить все, что можно сделать в будущем. Тем не менее, в скором времени около меня начала группироваться небольшая кучка близких мне людей.
Первые дни я ничего не делал, радовался, что гнет большевизма больше не существует. Прежде всего оделся. Все у меня было разгромлено, пришлось заводить все наново. Помню, как удивился сапожник, у которого я остановился в то время, когда скрывался от большевиков; я его призвал, чествовал и, конечно, заказал сапоги. Впоследствии он часто приходил ко мне во время гетманства. Я побывал у многих знакомых всех слоев общества.
Меня удивило, что существовали только одни социалистические украинские партии. Все русские партии ничего не делали, а если и делали, то в такой области, которая никакого отношения к создавшемуся положению вещей иметь не могла. Кадеты и другие все твердили свое, а жизнь уносила их Совсем в другую сторону. Слыша различные мнения и наблюдая ту полную растерянность, которая тогда существовала среди всех оттенков более или менее имущих классов, мне представлялось, что у нас существовали только одни украинские социал-демократы{117} и социал-революционеры{118}, а затем неопределенная народная Масса. Все остальное или будировало, среди Них, главным образом, украинское течение, Или молчало. Немцев я тогда совершенно не знал, по слышал, что когда с ними говорили, они были очень удивлены, что не видят никаких признаков работы несоциалистических партий. Этот абсентеизм приводил их к заключению, что именно мнение социал-демократов и социал-революционеров и является той доминирующей нотой внутренней политики, которую нужно поддерживать. Я же в течение 10 месяцев, постоянно имея общение с отдельными деятелями этих партий, убедился уже, — насколько, при всей их искренности и желании что-то создать, они интеллектуально бессильны вывести страну на созидательный путь. Кроме того, мне было ясно, что главным препятствием для работы более культурных кругов являлось то шовинистическое галицийское украинское направление, которое нашей «народной массе далеко не так правилось, как об этом думали теперешние вожди украинства.
Все эти мысли привели меня к сознанию, что Необходимо создать демократическую партию, это обязательно (украинец в душе демократ), но совсем не социалистическую. Затем, эта же партия должна была исповедовать украинство, но не крайне шовинистическое, а определенно стоя на задаче развития украинской культуры, не затрагивая и не воспитывая ненависть ко всему русскому. Я полагал, что такая партия объединит всех собственников без различия оттенков в борьбе против разрушительных социалистических лозунгов, которые, к сожалению, у нас, раз исповедывается социализация, одни имеют успех. Этого иностранцы у нас не понимают; они думают, что мы можем держаться на Ступени разумного социализма, как это бывает в западных странах. Я глубоко убежден, что у нас это немыслимо. Если правительство станет на путь наших социалистических партий, оно докатится через короткий срок до явного свирепого большевизма. Для меня это аксиома. Мы сначала должны демократизировать страну, воспитать людей, развить в них сознание долга, привить им честность, расширить их культурный горизонт, и тогда только лишь можно разговаривать о дальнейшем этапе социальной эволюции.
Еще в 1905 году, как-то у начальника Заамурской железной дороги, генерала Хорвата, в Харбине, мне пришлось слышать, как Михаил Стахович говорил, что нашему крестьянину нужен или царь, или анархия. Я думал, что он не прав, теперь я полагаю, что ему, во всяком случае, понятнее царь или большевизм [ближе], чем программа социал-революционеров ней подобные. Мне много приходилось говорить с народом, те откровенные мнения, проникнутые сознанием их непреложности, которые мне приходилось слышать, только подтверждают мое мнение. И это совершенно не относится к самому низшему слою народа, нет, наша полуинтеллигенция мыслит в том же духе. Скажу более, наша интеллигенция, в другой лишь области, в. особенности помещичий класс, тоже исповедует те же принципы. Несмотря на все то, что помещики пережили, они стоят на точке зрения, что все должно вернуться к старому, никаких уступок. Большинство же наших неимущих интеллигентов или проповедуют какую-то маниловщину, проникнутую глупейшим сентиментализмом, или же просто в скрытой форме большевизм. Эти большевистские теории они проводят в жизнь не потому, что верят в коммунизм, а просто потому, что их раздражает недосягаемое для них имущество; им неприятна зажиточность, но как только они этой зажиточности достигают, они перекочевывают в большевиков справа.
Я думал, что партия, которую я намеревался создать, должна была как раз вести к известным компромиссам, как справа, так и слева, в социальном отношении и в великорусском и в украинском вопросах в смысле националистическом. Первоначально я составил программу с Л.[61], но прежде нежели я остановился на окончательной редакции, она подверглась большой переработке.
В то время в кругах Рады был полный раскол и непонимание, что предпринять дальше. Правительство все настаивало на проведении в жизнь своих универсалов. На местах же просто грабили и власти Центральной Рады не признавали. Немцы и австрийцы внесли новый элемент неразберихи. В то время как австрийцы в своем районе на юге Украины почти сразу занялись водворением порядка чрезвычайно суровыми мерами, немцы внутренней жизни страны мало касались, а брали то, что им нужно было, не считаясь с тогдашним украинским правительством.
Что творилось в Центральном Управлении [Рады], не поддается никакому описанию. Помню, например, что как финансовое предприятие, единственное, которое мог предложить тогдашний министр финансов, Ткаченко, — это обложить немедленно всех крупных собственников на какую-то очень большую сумму с единовременным взносом. А других мероприятий для возрождения нашей финансовой жизни он не нашел. В военном ведомстве дела обстояли несколько лучше: создавалось восемь корпусов{119}, но все это делалось теоретически и совершенно не учитывая факта прихода немцев, которые этих корпусов не хотели. Для воспитания украинских офицеров была создана офицерская школа с шестинедельным курсом{120}, но там обращалось все внимание на воспитание офицеров в украинском духе. Время, шесть недель, было далеко недостаточное для того, чтобы выработать будущих воспитателей армии, да еще в такое трудное время. Отношение между немцами и украинским правительством было довольно странное: немцы просто не считались, а украинцы, призвавшие немцев и все время писавшие об этом, не знали, как вывернуться перед народом. Вначале они доказывали, что немецкие части пришли помогать против большевиков и что, если украинцы потребуют, последние немедленно уйдут. Когда же немцам для своей армии нужно было и то, и другое, и это было неприятно местным жителям, украинцы начали говорить, что немцев призвали помещики. Вот тут я вспомнил, хорош бы я был, если бы вместо Петлюры, который шел с немцами на Киев, был я. Несомненно, что все обвинения народа на привод немцев пали бы на меня. Когда же немцы начали требовать исполнения [Берестейского] договора{121} и тут начался вопль среди народа, тогда украинские деятели пустились на всякие хитрости, лишь бы как-нибудь что-нибудь удержать из обещанного договором.
Тогда начались трения между немцами и украинским правительством, которое на словах соглашалось с немцами, боясь их, но на деле давало приказания своим низшим подчиненным тормозить. Немцы возмущались, престиж правительства падал, и в результате — немцы брали силою, а украинцы молчали.
В положении сельского хозяйства был полнейший застой. В сахарной промышленности, этой большой отрасли нашего хозяйства, промышленности, в которой, можно сказать с гордостью, ни одна страна в мире не достигла такой высоты, был полный развал и никаких указаний на будущее. Правительство все более и более шло по пути большевистских мероприятий, готовился универсал о социализации домов.
В смысле украинской культуры ровно ничего не делалось. Центральная Рада не открыла ни одного учебного заведения, если не считать безобразнейшего учреждения в лице народного украинского университета{122}, где больше митинговали, чем учились. Почему, кстати, он назывался украинским, я не знаю, так как все почти лекции читались на русском языке.
Вся украинская культура выражалась в том, что по Киеву гуляла ха всякой неопределенной молодежи в шапках с «китицею»; некоторые сбривали себе голову, отпуская «оселедець».
Я невольно думал, что же будет дальше? Немцы все сильнее и апомерпее захватывали страну. Я наблюдал ту педантичность и одуманность, которые сказывались во всех их действиях. Я видел, что ни не объединятся те культурные слон общества, которых у нас было мало на Украине, но которые были распылены, немцы же, всегда считавшиеся с умом и силою, просто при известных условиях превратят Украину в новую Германию. Уже к тому были данные, так как, несмотря универсалы, уничтожавшие собственность на землю, имения были оданы немцам.
Разработав программу, я отправился в Союз Землевладельцев, вился там с правителем дел, Вишневским, с Василием Петровичем Ко-беем и Михаилом Васильевичем Кочубеем и сказал им о своих сомнениях, а также о проекте партии. Они, видимо, были заинтересованы, решено было, что через несколько дней соберется небольшой кружок и я выскажусь определеннее.
Я редко испытывал такое разочарование в способностях наших леших классов что-нибудь создавать, как тогда, когда через несколько ей в маленькой обособленной компании в помещении, где собрались члены союза, я начал излагать свои взгляды. Я хотел очертить положение, затем перейти к тому, что нужно сделать, а именно, выступить партии с определенной программой, так как, стоя на точке зрения)Юза, жизнь пройдет мимо него. Я хотел указать, что украинское движение не есть пропаганда немцев, а живет в народе, что, может быть, го многим и неприятно, но это нужно учесть; что немцы считаются только с силой, а силу мы можем противопоставить только в лице партии, что партия, предлагаемая мною, не предопределяет форму правления, но ясно стоит за демократичность и за сохранение собственности. Демократичность в программе главным образом выражалась, роме обычных требований в демократических партиях, еще сильным сдвигом в аграрном вопросе. Я еще и десятой част не сказал того, что отел сказать, как уже видел, что чего-нибудь добиться тут немыслимо.
Во-первых, в вопросе национальном — никакого послабления, кроме ого, в вопросе аграрном, когда я заикнулся о необходимых реформах, на меня сразу посыпалась масса реплик. Помню, как я был зол на покойного теперь гр. Мусин-Пушкина. Он сидел и молчал, но видно шло, что все, что я говорил, ему не нравилось. Накопи, он начал резко опровергать мои доводы, все время с чувством какого-то превосходства, указывая на то, у нас в Государственном Совете смотрели на аграрную реформу так-то и так-то». Да при чем тут Государственный Совет, думал я, ведь с этим Государственным Советом и подобными учреждениями докатились мы до того, что переживаем революцию и неразбериху, по грандиозности и бессмысленности проявлений которой мир еще не переживал. Я постарался, видя настроение общества, все скомкать и ушел, решив больше с этими господами не разговаривать. У большинства членов союза почему-то существовало убеждение, что весь мир должен быть для них; что немцы, как только придут, немедленно восстановят старый режим; что все, что тогда переживалось, было лишь временно; поэтому думали, к чему какие-то уступки, когда можно все получить с лихвой. Это мнение существовало не только лишь у помещиков, но и у селян. (Когда немцы надвигались на Украину, то крестьяне до прибытия их уже местами все возвращали). Как бы там ни было, оказалось, что все же кое-кто из числа членов Союза Землевладельцев поверил моим доводам, так как впоследствии, когда партия начала работать, они записались у нас.
Как я уже говорил, я остановился в гостинице «Кане», вел на вид довольно беспечный образ жизни, тем не менее ко мне приходила масса народу. Снова появились Коношенко и Гижицкий. Они были всегда удивительно хорошо осведомлены. Появились крупные землевладельцы, Подгорский и граф Грохольский, особенно часто приходили они, стараясь от меня узнать, что я делаю. Я тогда настолько широко смотрел на дело, что предлагал им вступить в партию, но они отклонили это предложение, и в эту минуту я особенно ясно понял, что наши правобережные паны еще далеко себе не уяснили сущность моих планов. Тогда же у меня был Михновский{123}. Вот о нем и его партии я хочу поговорить подробнее.
Еще в самом начале революции, чуть ли не в марте месяце 1917-го года, Михновский выступал в Киеве как украинский деятель, участвовал в уличных демонстрациях, чуть ли не ездил в Петроград хлопотать о признании Украинской Республики Временным правительством. Потом вынырнули новые деятели, и он исчез. Как мне рассказывал впоследствии Михновский, Петлюра, побоявшись его влияния, убедил тогдашнего командующего Киевским военным округом убрать из Киева Михновского, служившего тогда по военно-судебному ведомству, в какую-нибудь армию, что и было сделано. Кажется, в этом деле снова, судя по словам Михновского, принимал участие Луценко, о котором я говорил выше. Видимо, что-то с Луценко не поделивший Михновский именно рассказывал мне этот факт с целью предупредить меня, чтобы я не особенно доверял Луценко, игравшему двойную игру; последний был так глуп и все его мелкие пакости были шиты такими белыми нитками, что предупреждения Михновского были совершенно излишни, я совершенно Луценко не доверял. Михновский скрывался, или скорее не появлялся как политический деятель довольно долго. Он был присяжным поверенным в Полтавской губернии. Я спрашивал полтавцев о Михновском, все мне говорили, что этот человек страшно неуживчивый, обладающий громадным самомнением, желающий во чтобы то ни стало играть роль, фактически не обладая для этого соответствующими качествами. Должен сознаться, что мнение это о нем было довольно единодушно, даже среди многих украинцев, которые предупреждали меня, дабы я не вздумал пригласить Михновского к себе на службу. Лично на меня он далеко не производил такого впечатления, если не считать его крайне шовинистического украинского направления, которое все ему портило. В социальном же отношении и он, и его партия были мне всегда по душе. Эта партия, к сожалению, очень немногочисленная, демократична, никаких социалистических крайностей в ней нет, собственность признает, вместе с тем проникнута не теоретическими лозунгами, а стремится приступить к делу.
Еще будучи с корпусом в Меджибужье, ко мне вдруг явились два офицера от Богдановского полка, Павелко и Лукьянов{124}, оба с высшим образованием, очень выдержанные молодые люди, они произвели на меня хорошее впечатление. У них была какая-то бумага, в которой высказывалось пожелание, чтобы я принял командование всеми украинскими частями. В то время я часто слышал такие пожелания и потому особого значения этому не придавал. Центральное Управление (Рады) относилось к этим молодым людям, как не социалистам, отрицательно, главным образом Петлюра. Мне этот их антисоциализм тоже понравился. Оба оказались помощниками Михновского, которого боготворили и считали будущим украинским Бисмарком. Что Михновский человек неглупый, это верно, но почему он должен быть украинским Бисмарком, этого я не знаю. Павелко и Лукьянова я зачислил в 153-ю дивизию, иногда их видел и с ними разговаривал. Лукьянов на меня производил впечатление несложного человека, Павелко же, наоборот, казался мне подозрительным, хотя я не имел никаких определенных данных, а из разговоров с ним вывел, что у него могут быть кой-какие тайные связи с элементами, далеко не сочувствующими той ориентации, которой я придерживался, и поэтому я его остерегался. Через некоторое время он просил перевода и исчез. Теперь же, когда я уже обосновался в Киеве, он снова появился и привел ко мне Михновского. Повторяю, я в Михновском ничего скверного не видел и не мог понять, почему к нему относятся так отрицательно. В его партии было тоже несколько человек, с которыми я любил поговорить, это братья Шеметы{125}, а затем молодой историк, Липинский{126}, которого я впоследствии назначил нашим представителем в Вене. Во всех этих людях я не любил лишь их крайнего украинства, из этого страшная нетерпимость ко всему неукраинскому. В смысле же программы внутренней политики, [эта партия] была вполне приемлема. Эту партию в особенности ненавидел Союз Землевладельцев-Собственников и в каких только преступлениях ее не обвинял, что всегда, при проверке, оказывалось вздором. Партия их называлась Украинской Хлеборобско-Демократической. Она главным образом имела успех в Полтавской губернии, была немногочисленна, но сыграла, благодаря свой сплоченности, большую роль в деле свержения Рады. Она первая нанесла ей серьезный удар.
У нас работа кипела. Мы завербовали членов, окончательно выработали программу! Луценко, ужаснейший проныра, пользуясь тем, что он был когда-то в Генеральной Казачьей Раде, поселился тоже в гостинице «Кане» и старался проникнуть в наши дела. Мы его дурачили, рассказывали всякие небылицы, так как предполагали, что он все передает членам Центральной Рады.
В это время я познакомился с неким Донцовым{127}. Он мне тогда (понравился также тем, что сознавал, что одними социалистическими партиями дела не сделаешь: Он недурно писал в ''Новой Раде», и все его статьи мне нравились. Впоследствии я назначил его начальником Украинскою пресс-бюро, но он оказался совсем не на высоте, только жаловался на всех, а сам ничего не делал. Да и физиономия его при работе в правительстве выяснилась совсем не такой, как я ожидал, а главное, что мне в нем не понравилось, это его крайняя галицийская ориентация. Этот самый Донцов, с которым я нянчился и которого я вытаскивал за уши из всяких неприятностей, лишь только потому, что видел в нем человека более уравновешенного образца мышления в вопросе социальном, потом мне отплатил тем, что написал обо мне, через день после моего падения, статью возмутительнейшего содержания, Я нисколько не обиделся, зная, что это удел всех тех, кто так или иначе перестал занимать то положение, которое занимал, но был лишь удивлен, что Донцов это сделал, считая его более крупной личностью.
Первое учредительное заседание партии мы устроили у Николая Николаевича Устимовича{128}. Этот Николай Николаевич был прекрасным типом старого украинца, действительно не за страх, а за совесть любил Украину. Я с ним тогда только что познакомился. Это честный и благородный человек, в чем я имел возможность не раз убедиться. Теперь здесь разнеслась весть, что его расстреляли украинцы за то, что он был за меня и дрался в Дарнице в декабрьские дни. Пока я не хочу этому верить. Да ляжет тягчайшим позором это преступление и убийство на тех лиц, которые руководили этим злодеянием!
На первое заседание партии были приглашены лица, видимо, без особого выбора. Помню, что произошла небольшая заминка, когда я прочел программу, услышал мнения совершенно «не из той оперы». Оказалось, что кто-то пригласил на паше собрание несколько членов Союза Русского Народа. Там был некий Родзевич, который, как я потом слышал, являлся в Одессе чуть ли не главарем этого союза. На следующих заседаниях они у нас уже не бывали.
Немцы все более и более становились хозяевами Киева. В начале марта как-то нам объявили, что немцы реквизируют гостиницу «Капе». Тут я впервые говорил с немцами. Мне пришлось с Зеленевским отправиться в «Гранд Отель» и говорить с каким-то майором. Он любезно разрешил временно остаться на 10 дней, а затем гостиница должна перейти в их ведение.
Киев был так набит приезжими из деревень, где царствовала анархия, что найти какое-нибудь жилище было не так легко. Я поехал с Полтавцем к Киевскому коменданту, генералу Цысовичу. Пока я с ним разговаривал, Полтавец познакомился с только что прибывшим молодым офицером. Поговоривши о деле с Цысовичем, который отвел две отвратительные комнаты в «Петербургской гостинице», я вышел и спросил Полтавца, кто с ним разговаривал. Он мне ответил, что это был адъютант австрийского посла, который спросил его, кто я такой. Узнав мою фамилию, он сказал, что посол непременно хотел быть у меня и что он очень рад, что он может сообщить послу мой адрес, так как посол уже давно хочет у меня побывать.
Действительно, на следующий день ко мне приехал австрийский майор, Флейшман, совсем не посол, а военный уполномоченный; почему его адъютант всегда называл послом, так я и не выяснил. Флейшман был блестящий офицер, проведший два года в штабе Гинденбурга{129}, чрезвычайно ловкий и, видимо, не глупый. Рассыпался в тысячах любезностей. О политике мы мало говорили, но тогда же из отрывочных фраз я впервые понял, что между немцами и австрийцами далеко не так ладно, как это внешне казалось. Он делал вид, что очень интересуется пашей казачьей организацией. Вообще, с этой казачьей организацией было много оригинальных моментов. Я к казачьему вопросу относился серьезно и думал лишь о том, как сорганизовать это дело. У моих помощников, в особенности у Полтавца, кроме желания создать серьезное дело, было стремление казаться, что они стоят у какой-то громадной и сильной организации, и так ловко они раздували это, что многие действительно верили, что казаки являются серьезной опасностью для существующего тогда правительства. Когда запрашивали [Казачью] Раду, сколько у нас вооруженных казаков, они обыкновенно отвечали, что 450000. На самом же деле у нас всего было 40000 винтовок. Этому много содействовало то, что еще, когда в декабре месяце, при начале наступления большевиков, у Капкана, тогда командовавшею войсками на левом берегу Днепра и Киева, было мало войск и он попросил у Казачьей Рады дать казаков, то по телеграмме из Рады прибыло несколько тысяч человек. Капкан, не ожидавший такого результата от своей просьбы, ничего не приготовил для их размещения. Тогда из-за этого был целый ряд недоразумений. Но вместе с тем это очень подняло престиж Генеральной Казачьей Рады, даже настолько, что когда предполагалось выпустить третий универсал, его в проекте прислали Полтавцу на заключение, и он, нимало не смутившись, на проекте написал, что Генеральная Казачья Рада с таким анархическим законом примириться не может, и послал обратно. Когда нужно было что-нибудь, в Генеральный Секретариат посылалась делегация от казаков, которая вела себя там далеко не почтительным образом по отношению к тогдашним лицам, стоявшим у власти. Все это утверждало во мнении киевской публики, что казаки являются сильною и стройною организацией), чего, как я уже писал, на самом деле не было и что являлось для меня источником большого огорчения.
Оказывается, что Украинский Корпус, с одной стороны, и казачья организация, с другой, создали мне в Галиции некоторую известность, результатом чего и был немедленный приезд ко мне военно-уполномоченного Флейшмана. Этот Флейшман при всей своей любезности и видимом, якобы, сочувствии, повел против меня впоследствии сильную подпольную агитацию и настолько организованную, что я, уже будучи гетманом, принял меры к тому, чтобы его так или иначе убрали.
Главное обвинение, которое мои враги постоянно преподносят в печати, говоря обо мне, является, якобы, мое безудержное честолюбие, исключительно ради коротого я затеял гетманство, что мною руководила не идея принести пользу народу в трудном положении, в котором он находился, а жажда почестей и т. п. В общем, слава Богу, что особых других обвинений даже враги не придумали.
Я всегда любил людей честолюбивых. Это люди, в большинстве случаев, которые умеют желать и достигать намеченной цели. Одно из наших несчастий и состоит в том, что у нас мало именно честолюбивых людей. Какое мне дело до побуждений человека, лишь бы он дело делал. Мы страдали от отсутствия людей, стремящихся достигнуть чего-либо большего, все какая-то мелочь, главным образом, жаждущая, чтобы никто не возмущал ее покоя, а если уж нужно действовать, то только лишь для того, чтобы как-нибудь безопасно спекульнуть для своего мещанского благополучия.
Я хотел точно установить, когда мне реально пришла в голову мысль сделаться гетманом для захвата власти на Украине, с широкими перспективами в будущем, и скажу откровенно, что еще в первой половине марта я об этом не думал. Вокруг меня были люди, которые говорили, что нужно создать гетманство, что вот Вы будете гетманом и т. д. Это все я принимал как шутку и никогда над этим серьезно не задумывался.
В первой половине марта 1918 года о власти я не думал. Я скучал от ничего неделания, возмущался, что другие тоже ничего не делают. Видел полную растерянность или же какой-то совершенно необоснованный оптимизм, что вот немцы пришли, теперь наступит полный порядок, и всем будет хорошо. Возмущался немцами, которые, мне казалось, смотрели на нас исключительно как на будущую колонию и все прибирали к рукам. Не зная хорошо психологии наших имущественных классов, как крупных, так и мелких, я думал, что стоит только энергично взяться за дело, как все это спаяется в сильную организацию, голос которой услышат немцы, с одной стороны, и все социалистические партии, с другой. В национальном вопросе считай; что нужно спасти этот богатейший край, выдвинув сильно украинский национализм, по не во вред русским культурным начинаниям и ив воспитывая ненависти к России, а давая свободно развиваться здоровым начинаниям украинства. Тяготения к Галиции и восприятия Галицийского мировоззрения я не хотел, считая это для нас несоответственным явлением, которое привело бы нас к духовному и физическому обнищанию. Возмущался теми великороссами, которые, не считаясь с жизнью, все твердят свое старое и смотрят на Украину как на нечто, ничем не отличающееся от Тульской губернии. Считал, что в вопросе национальном мы должны идти смело и решительно вперед, что если мы не станем на этот путь, то мы ничего не получим. Меня смущала несколько мысль, что немцы стоят за самостийную Украину во чтобы то ни стало, но тогда я более чем когда-либо верил, что немцы не могут быть окончательными вершителями наших судеб, хотя я, конечно, как, я думаю, и никто и в Германии, не ожидал, что в царстве Вильгельма может произойти такая социальная катастрофа, как та, которую теперь переживают немцы. Короче говоря, я хотел создать и быть одним из главарей той мелко демократической партии, учреждаемой мною, которая должна была вести к компромиссам между собственностью и неимущими и между великороссами и украинцами.
В то время в Центральной Раде, впрочем, об этом я говорил уже выше, был раскол; выдвигались различние комбинации. Немцы старались тоже влиять на дела и думали о смене министерств. По городу ходили различные списки министров, между прочим, в некоторых списках фигурировал и я, как военный министр. Я над этим только смеялся. На должность военного министра, при таком хаотическом состоянии управления страной, идти было не сладко. Так пока шло дело.
Ежедневно вставали мы рано; ко мне являлось несколько офицеров, которые жили со мной в одной гостинице, вместе пили чай. В штабе корпуса был у меня капитан Богданович, он теперь тоже жил с нами в одной гостинице. На его обязанности было доставать из какой-то хорошей молочной, которую он один только знал, сливки, при том он должен был сообщать нам всегородские новости.
Однажды он спросил меня, не читал ли я статью какого-то правничьего товарищества. Я прочел. Оказывается, что это Товарищество Украинских Юристов выступило с сильной критикой против существующего положения вещей и требовало, чтобы власть была передана какому-нибудь лицу с диктаторскими полномочиями, которые одни могут спасти страну от того критического состояния, в котором она находилась. Помню, что эта статья произвела на меня впечатление. Написал ее некто Парчевский, я его потом хорошо узнал. Убежденный украинец, стремившийся возродить старые времена Гетманства, большой идеалист. Он записался к нам в партию, недурно говорил и дал толчек партии в сторону проповедывания идеи Гетманства.
Это было в начале второй половины марта 1918 года. Мне действительно казалось, что только сильная, доброжелательная к народу власть теперь может принести пользу, что и немцы, и австрийцы с такой властью будут считаться. И, действительно, окидывая взглядом вокруг себя, я положительно не видел» никого, кто бы в данный момент подходил для того, чтобы эту обязанность принять на себя. Из украинцев никого, все они мечтатели или крайние шовинисты галицийской ориентации? Ни за кем из них великороссы на Украине не Пойдут. Из великороссов тоже никого не было (украинцы этого никогда, кстати, не допустили бы). И вот постепенно я надумал, что действительно наиболее подходящий — и, во-первых, в украинских кругах меня хорошо знают, во-вторых, я известен в великорусских кругах, и мне легче будет примирить, чем кому-либо другому, эти два полюса. Тяготевшие к Польше правобережные земледельцы-католики ничего, в общемппротив меня тоже иметь не могут. В армии меня знают.
Все это вырисовывалось туманно, но с этого момента я ясно думал, что к этому события приведут сами, так как другого выхода не было. Я помню, тогда думал о Петлюре, но отвергнул эту мысль. Петлюра честолюбив, идеалист без всякого размаха, а главное, — за ним пошли бы только крайние левые круги Украины и галичане, затем он не столько государственный деятель, сколько партийный, а это для создания государства не годится. Кроме того, с ним не считались бы немцы. Хотя якобы под фирмой Петлюры я был спален и должен был бы поэтому иметь зуб против него, я все-таки скажу, из всех социалистических деятелей на Украине это единственный, который в моих глазах в денежном отношении остался чистым человеком; затем он искренен, в нем много рисовки, но это уже черта украинская, я думаю, воспитанная в украинских деятелях всем прошлым украинского движения.
В старой России единственная область, где украинство, и то под сильной цензурой, разрешалось, — это театр. Все поколения нынешних украинских деятелей воспитаны на театре, откуда пошли любовь ко всякой театральности и увлечение не столько сущностью дела, сколько его внешней формой. Например, многие украинцы действительно считали, что с объявлением в Центральной Раде самостийной Украины Украинское государство есть неопровержимый факт. Для них украинская вывеска была уже нечто, что они считали незыблемым. Вся деятельность Центральной Рады, если можно так выразиться, была направлена к внешнему, к усилению украинства для глаза, мало заботясь о его внутреннем, серьезном культурном развитии. Я был очень доволен, хотя мне это ставили в упрек, когда впоследствии я взялся за создание двух университетов, Киевской Академии Наук, за создание действительно хорошего Державного театра. Даже в кругах университета св. Владимира было такое мнение, что теперь нужно подтянуться, так как все то украинство, которое раньше было, — это была оперетка, а теперь оно идет вглубь. Я лично исповедывал и исповедую в этом отношении полную свободу. Пусть будет борьба двух культур, это область, где насилия не нужно. Петлюра, как я говорил, любил эффектные картины, но он слаб и Украины из омута не выведет. Говорю это без желчи, так как, несмотря на то зло, которое он мне сделал, я все же способен рассуждать объективно. Винниченко и другие — это уже совершенно другая марка, о которой говорить не приходится. Возвращаясь к Петлюре, скажу, что главное — это его галицийская закваска, она нам не подходит. Я против галичан ничего не имею и уважаю их за их сильную любовь к родине.
В «Петербургской гостинице» было очень плохо, и я послал Богдановича к генералу Цысовичу с просьбой нас перевеет п. Уже не знаю, какими судьбами, думаю, что закон был не вполне на нашей стороне, во всяком случае, в результате хлопот Богдановича, мы получили прекрасную маленькую квартиру в какого-то еврея на Крещатике.
С переездом туда дела партии пошли хорошо. Мы отпечатали программу, у нас был определенный день заседаний. Обыкновенно собирались у д-ра Любинского{130}, на Владимирской улице, так как он был одним из усерднейших членов партии. Я полагал, что партия разрастется, укрепится, голос ее будет слышен в стране, а затем думал, что можно будет постепенно перейти к идее Гетманства. Никаких переворотов я не хотел в то время и о них не думал.
На заседаниях партии, наряду с такими украинцами, как Шемет, Парчевский, Полтавец и другие, сидели Воронович{131}, присяжный поверенный Дусан{132}, Михаил Васильевич Кочубей и другие, по своим убеждениям резко отличавшиеся от первых, но связанные общей идеей провести те принципы, которые мы положили в основу партии. Меня это успокаивало, и я думал, что пуп, взятый нами, правилен. Гижицкий играл тут большую роль; это удивительно способный человек и большой энергии, совершенно неспособный к постоянной и будничной работе, но в острые минуты бытия человеческих обществ он незаменимый член партии. Я не знал, когда он успевал отдыхать. Осведомленность его была поразительна, и, конечно, он играл одну из первых скрипок в высшем обществе. Но так как я его мало знал и так как он получал у нас все большее значение, я поехал к Андрею Васильевичу Стороженко, который должен был его знать, за справками. А.В. дал о нем самую лестную рекомендацию, и я успокоился.
Моя семья еще с октября месяца, после короткого пребывания моей жены в Меджибужье, переехала в Орел. Затем, со времени большевистского переворота, я о ней почти не имел никаких сведений. Меня это ужасно угнетало; я даже Не знал доподлинно, где мои жена и дети, в Орле, в Москве или в Петрограде, а вести из Большевистии были печальнее одна другой. Я посылал людей, но и от них долгое время не получал никаких сведений. Во время пришествия большевиков в Киев Зеленевский по собственной воле пробрался к жене моей в Орел, сочувствуя мне, и уговорил ее уехать. Это было очень своевременно, так как через несколько дней после ее отьезда в Орле начались большевистские безобразия. За это я всегда с большой благодарностью относился к Зеленевскому, по личному почину помогшему мне в таком дорогом для. меня деле. Теперь снова положение в этом отношении ухудшилось. Со времени возвращения Зеленевского я больше никаких сведений о жене и детях не имел. В поисках о том, что мне делать, мне пришла мысль, что, может быть, немцы, двигавшиеся так быстро на Украину и севернее, подошли или подойдут к Орлу.
Я решил поэтому узнать подробно все, что касается этого дела, и отправился, как мне указали, к полковнику Фрейгер фон Штольценбергу [Frcihcrr von Slolzcnbcrg]. Это было первое мое знакомство с немцами, которое впоследствии, особенно в первое время Гетманства, мне немало испортило крови. Принял полковник меня очень любезно, сообщил, что к Орлу никакого движения нет.
Мы невольно перешли на разговоры о политике, причем Штольценберг, размахивая одной рукой (другую он потерял на войне), сказал мне, что немцы здесь только временно, что они только гости, что никаких намерений для вмешательства во внутренние дела Украины у них нет, что на Украине, кроме социалистических, других партий нет, но что же делать — они в этом не виноваты и т. д.
Я ушел убежденный, что при таких условиях нужно рассчитывать только на себя, так как, может быть, та анархия в краю, которая существовала в то время, на руку немцам. Не пришли же немцы, затрачивая и деньги, и человеческие жизни своих солдат, ради наших прекрасных глаз или для восстановления помещичьих имений, а, вероятно, для других целей.
В главном штабе у меня было одно лицо, которое держало меня в то время в курсе всех тех назначений, которые тогда делались по военному ведомству, даже больше, мною было так организовано, что лица, по моему мнению совершенно неподходящие, назначения не получали. Я повторяю, в то время я не думал непосредственно о перевороте, но полагал, что постепенное значение партии может возрасти только в том случае, если мы фактически во всех учреждениях будем иметь своих агентов. В то же время у меня перебывала масса офицеров на квартире, я с ними поддерживал сношения, но ни в какие организации их не объединял.
В начале апреля 1918 года или, может быть, конце марта, точно я не помню, произошло событие, которое нанесло, с одной стороны, сильный удар тогдашнему Украинскому правительству, с другой, ясно определило то направление, которое необходимо было нам взять в партии.
Из Полтавской губернии от нескольких уездов прибыло [в Киев] несколько сот, хлеборобов, принадлежавших к Украинской Демократической Партии, во главе, кажется, с Шеметом, и решительно требовало изменения Третьего Универсала, в котором, как известно, собственность на землю была уничтожена{133}. Появление неподдельных селян, людей земли, людей убежденных и не стесняющихся ясно высказывать свое мнение относительно всех тех порядков, которые тогда у нас существовали, произвело сильное впечатление на Киев.
С одной стороны, все противники Рады подняли голову и сразу вошли в некоторый контакт с прибывшими, с другой стороны, в кругах Рады появилась еще большая растерянность, ведь уже ей нельзя было говорить, что весь народ санкционирует этот 3-ий Универсал, оказывается, что часть доподлинного народа-труженика на земле совершенно не разделяет это мнение.
Нельзя было также свалить на голову великороссов это появление, так как селяне были самые убежденнейшие украинцы-самостийники школы Михновского. Всевозможные личности из Центральной Рады начали подъезжать к полтавцам с агитаторскими речами. Никакого впечатления все эти речи на них не произвели; они твердо стояли на своем мнении. С другой стороны, на них наседали всевозможные партии, включая и Союз Русского Народа, но эти партии встречали реши тельный шпор. Создание Украины и мелкая земельная собственность были их девизом, все остальное они выбрасывали. Появление этих господ, их смелые требования были настолько неожиданны, что на них в Киеве любители всего нового ходили смотреть, как ходят в театр, в цирк и в другие подобные места.
Я понял, что именно в этом классе народа заложены здоровые гражданские начинания. Свиделся несколько раз с Михновским, Шеметом и другими господами, причастными к этой партии. Союз Земельных Собственников был вначале в восторге от них, предполагалось с ними объединиться; но ту линию, которую поддерживало в политике Союза его главное областное киевское управление, слишком крупно помещичье, ретроградное и нетерпимое к каким бы то ни было уступкам как в аграрном, так и в национальном вопросах, тоже не склонило упрямых полтавцев идти к ним на соединение.
— Селяне, главным образом, боялись того, чтобы Союз Земельных Собственников, богатый и многочисленный, не обезличил их. Тогда, к сожалению, многие из влиятельных лиц Земельного Союза стали в решительно враждебные отношения к хлеборобам-демократам, обвиняя их в крайнем социализме и в том, что Шемет и Михновский ставленники немцев и униата Шептицкого. Я считаю, что все это сплошной вздор, что земельные собственники неправы. Лично повторяю, партия хлеборобов-демократов была, не знаю, как теперь, чрезвычайно полезная партия, которую нужно было поддерживать. Что она была против крупной земельной собственности, это, главным образом, злило членов Союза Земельных Собственников. Я же считаю, это было со стороны Союза Земельных Собственников неразумным, тем более, что хлеборобы-демократы признавали только вполне законные способы парцеляции крупных имений. Я тоже сторонник мелких хозяйств, особенно на Украине, и неоднократно говорил, что мой конечный идеал был видеть Украину, покрытую одними лишь мелкими, высокопроизводительными, собственными хозяйствами, продающими свеклу сахарным заводам, уже все ставшие акционерными, причем заводы должны были иметь и часть капитала в мелких акциях, дабы более зажиточные и культурные хлеборобы-собственники могли их приобретать. Знаю, что этого трудно сразу достичь, да я и не говорил, что это появится росчерком пера, а смотрел на это как на тот идеал, к которому мы должны были стараться дойти, конечно, только законными государственными мерами, елико возможно меньше губя ту культуру, которая безусловно достигнута некоторыми и даже многими, особенно помещичьими имениями правобережных римо-католиков. Но Союз Земельных Собственников, и особенно польская организация «Рада земян», решительно не разделяли этого взгляда. Это выяснилось значительно позже, в то время, когда существовала Центральная Рада со своими земельными универсалами, отменяющими всякую собственность на землю, когда имения были разгромлены, когда наступала весна и было ясно, что если теперь чего-нибудь не предпринять, то дикие порядки, заведенные Центральной Радой, внесут еще большее расстройство в дела имений, а может быть, эти порядки окончательно утвердятся, тем более, что немцы, на которых помещики так рассчитывали, совсем не проявляли склонности ко вмешательству в земельные украинские дела.
В то время Союз Землевладельцев был куда сговорчивее: «Лишь бы выкуп какой-нибудь получить, а то жить нечем» — вот лейтмотив, который тогда, в большинстве случаев, приходилось слышать от них. Селяне, произведя большой эффект, основательно выбранив правительство, уехали, но мысли, которые они бросили, остались.
Помню, как-то приходит ко мне Коношенко и сообщает, что на 12-ое мая, в противовес только что уехавшей полтавской депутации, предложено созвать Украинское Учреди тельное Собрание. Для всякого было ясно, что это было бы за Учредительное Собрание, в такой короткий срок набранное, и насколько, при тогдашних условиях, это собрание отражало бы действительные мнения народонаселения. Вместе с тем, одно название Учредительного Собрания все же, так или иначе, импонировало бы массам и придало бы решениям этого скороспелого учреждения вид законности, освященный в глазах профанов якобы «сознательной волей народа». Откуда Коношенко все это узнал, я уже не помню. Он вообще имел какие-то связи во всех мало-мальски значительных партиях и правительственных учреждениях.
Под влиянием только что закончившегося съезда полтавцев, видя то значение, которое имеет этот хлеборобский элемент, решено было проповедывать большой съезд всех хлеборобческих элементов Украины. Причем, съезд этот должен был произойти обязательно до 12-го мая. Я послал Коношенко к Вишневскому в Союз Земельных Собственников проповедывать идею съезда. Вишневский и другие очень решительно пошли навстречу этому делу. В пашей партии, которая к этому времени была названа «Украинською Народною Громадою»{134}, тоже усиленно работали, завербовывая членов. Главными воротилами там были: Николай Николаевич Устимович, Гижицкий и Мацко{135}; последний человек очень работящий, но уже больно каких-то дореформенных убеждений. Собирались по-прежнему у Любинского.
Официально ничего не говорилось о Гетманстве и о предназначении меня в гетманы, по мысль эта, очевидно, бродила в головах многих. Я никому своего мнения по этому поводу не говорил. В то время официально говорилось лишь о смене министерства и замене тогдашних деятелей более культурными и работоспособными. Списки эти предлагались различными учреждениями и партиями. Очевидно, что это был период, когда немцы уже видели, что дальнейшая работа с Центральной Радой ни к чему не приведет, и; желая разобраться во всей тогдашней каше, обращались к тем, с кем успели познакомиться поближе и кто им казался на высоте задачи.
Относительно списка ко мне, например, обратился Василий Петрович Кочубей. Знаю, что составление такого же списка было предложено Кочубеем, или кем-то другим, на обсуждение земельных собственников. Я видел списки соц[иалистов]-федералистов{136}, одними из первых сумевших вызвать у немцев доверие к себе. Были и другие списки, теперь уже не помню подробностей. Список партии «Украинськой Громады» обсуждался Николаем Николаевичем Устимовичем. Конечно, как водится, все поназначали своих из своей партии. Николай Николаевич Устимович был председателем совета министров, Любинский — министр здоровья. Гижицкий ужасно хотел быть министром, но из-за его нрава и нескольких неминистерских выходок этот помер не проходил. Меня предлагали в военные министры, но я отказался, указывая, что будучи всегда строевым начальником, я предпочел бы какое-нибудь высшее командование, а не должность военного министра, которая требует громадного знакомства с тыловой администрацией, с ученым ведомством, с техническими военными задачами. Бутенко предполагали на должность министра путей сообщения. Каким образом и кто позвал Бутенко{137} к нам в партию; я не помню. В то время он заходил ко мне. Мы с ним познакомились, он произвел на меня хорошее впечатление, на членов партии тоже, таким образом он попал в список на должность министра путей сообщения. Остальных министров партия, если не ошибаюсь, не могла назвать. Все эти списки требовались чрезвычайно спешно.
Одна из главных моих ошибок, вызванная тем, что мое появление на посту гетмана произошло совсем не планомерно, а почти внезапно для меня самого, была та, что перед тем, чтобы взять власть в руки, я не имел людей, с которыми спелся бы, которые разделяли бы мои убеждения, которые доверяли бы мне, а я им вполне. Это случилось потому, что я сам не шел сознательно к Гетманству, к которому меня выдвинули быстро развившиеся события. Я не говорю, что не предполагал, чтобы в Украине в будущем не было гетмана, наоборот, я был убежден, что, это произойдет, но я полагал, что предварительно будет создана партия, видящая в спасении Родины необходимость создания сильной власти в лице диктатора — гетмана, и что этот диктатор проводил бы те принципы, которые легли краеугольными казнями в основу партии; затем эта партия, все расширяясь и увеличиваясь численно, создала бы свои отделы по всей Украине, которые бы, в свою очередь, поддерживали идею Гетманства и его начинаний. Гетман, прежде нежели вступить в исполнение своих обязанностей, по-моему, должен был подыскать себе людей, из. числа наиболее соответствующих, на посты министров, спеться с ними по всем коренным вопросам и тогда уже идти на дело.
На самом же деле вышло не так: партия только что начинала жить и развиваться, мы еще хорошо друг друга не знали, идея сильной власти, хотя бы временно единоличной, для проведения основных принципов партии, как я говорил выше, в лице партии официально не исповедывалась, а лишь чувствовалась. Казалось, что время еще не настало для этого, а тут уже требовались списки министров. Союз Земельных Собственников, который представлял большую силу, в наших глазах в том отношении, что он мог создать, благодаря своей организации, величественный, импонирующий съезд, сразу стремился взять все в. свои руки. Я пользовался ими, но с оговорками. Самое главное было узнать, что думают немцы, а они молчали и только, видимо, разбирались в общественных течениях.
В это время, т. е. приблизительно 10-го апреля 19,18 года, я как-то встретил князя Карла Радзивилла на улице. Мы с ним разговорились.
Между прочим, я сказал ему, что теперь служить нельзя; что скучно без дела. Он мне на это многозначительно ответил: «Oh, voulcz vous paricr que Vous allez dc nouvcau jouer un grand role?»[62] Я ему возразил, что не знаю, каким образом это может произойти.
В тот же день я встретил кого-то, кто мне сказал, что немцы очень мною интересуются и хотели бы со мной познакомиться. Я тогда, зная, что Радзвилл видится у своей матери с немцами, подумал, что из сопоставления этих двух данных, может быть, это сообщение верно. Действительно, через 1–2 дня, ко мне приехал офицер в русской форме, который представился мне служащим в каком-то отделе «Оберкомандо»{138} и сообщил, что начальник разведочного отделения «Оберкомандо», майор Гассе, просит, не может ли он ко мне приехать по важному делу. Я не хотел его принимать у себя и сказал, что лучше зайду к нему сам.
В условленный час, того же дня вечером, я был у Гассе. Он принял меня очень любезно. Разговор вертелся, главным образом, на нашей партии. Я высказал мнение о тогдашней группировке всех интеллигентных классов на Украине. Помню, что меня очень удивило, почему он потом так настоятельно распрашивал меня про Государя и о прежней моей службе. На этом мы простились. Но из разговора я понял, что если что будет нужно, мне можно будете ним сговориться. Я чувствовал, что моя репутация в «Оберкомандо» вселяет им уважение. Меня это свидание очень смутило. Я почувствовал, что ждать нечего, что все обстоятельства складываются так, что нужно действовать решительно, что ждать, пока через партию что-нибудь выйдет, может быть, будет поздно, а главное, меня пугало 12-ое мая.
Офицерства и людей, сочувствующих и решительных, у меня в то время набралось много, лишь бы немцы не помешали. Но тут я чувствовал, что можно их убедить держать негласный нейтралитет. Я целую ночь не спал, но к утру, никому не сказав, я был совершенно готов действовать решительно и немедленно. а, Александру Устимовичу и полковнику Каракуцца я приказал немедленно набрать офицеров, пока не знакомя их с настоящей задачей: разболтают — министерство Голубовича меня арестует, и тогда пропало дело. Гижицкому поручил также набрать офицеров и достать мне список всех министров и особенно видных тогдашних деятелей. Парчевский должен был переговорить с офицерскою школою прапорщиков. Полтавец — призвать побольше, верных казаков, а с Вишневским энергично действовавшим в Союзе, подробно переговорить о съезде, который предполагался к 29-му апреля. Меня очень беспокоило, что во всем деле не было серьезного лица, с которым я бы мог основательно посоветоваться в вопросах военного характера. Я решил обратиться к генералу Абраму Драгомирову, которого немного знал. Драгомирову я изложил свою точку зрения, но он решительно не соглашался со мною. Во-первых, он никакого украинства не признавал, во-вторых, он считал, что немцы будут в скором времени разбиты и что поэтому можно только иметь дело с Entente-ой, которая все восстановит, все спасет.
Я ему доказывал, что и я не верю в победу немцев, но что считаю, что то, что теперь происходит у нас на Украине, мало чем отличается от большевизма; что если ждать победы Entente-ы, пройдет много времени, а спасать нужно немедленно. Он — остался при своем убеждении, я при своем; мы разошлись, и больше я его не видел. Уже, когда я был гетманом, в середине лета мне сообщили, что он. уехал к Деникину. Я очень жалею теперь, что это свидание не привело к хорошим результатам, не потому, чтобы Драгомиров непременно принял участие в моем деле, — я и без него прекрасно обошелся, — но в общем выяснении им той цели, которую я стремился достигнуть и которая, если бы тогда было больше доверия и взаимного понимания, привела бы к хорошим результатам: мы сохранили бы Украину от большевиков, нисколько не затрагивая интересы Entente-ы и не втягиваясь больше в немецкий мешок. Именно сознание, что немцы в мировой войне не могут быть победителями, и диктовало нам возможность с ними говорить для спасения края от гибели. Точка зрения Драгомирова, а затем вся та безобразная травля, которой я подвергся со стороны Деникина, хотя бы в лице издаваемой у него Шульгинской{139} газеты, много повредили делу. Это отталкивало от меня людей, которые, не будь этой травли, помогали бы мне.
13-го и 15-го снова повидался с немцами. На этот раз я уже говорил с Гассе и майором Ярошем. Я им прямо изложил свой план и сказал, что от них я ничего не прошу, кроме нейтралитета, если же они уж очень сочувствуют мне, был бы очень благодарен, если бы они помешали так или иначе сечевикам, которые были тогда частью, главным назначением которой было охранять правительство и Центральную Раду, если бы они помешали бы им выход из казарм. Немцы ничего положительного мне не сказали, но видно было, что они мне сочувствуют. Один из них сообщил мне, что генерал Греннер{140}, начальник штаба армии, вероятно, попросит меня с ним переговорить. Я согласился и продолжал свое дело.
На квартире у меня было полнейшее столпотворение. Я жил с несколькими офицерами, Полтавец и Зеленевский были со мною. С утра до вечера ко мне являлись люди, офицеры, члены партии, различные журналисты, члены Земельного Союза Собственников. У меня голова шла кругом. Каким образом мы тогда на себя не обратили внимания правительства, я не понимаю; видимо, никакой разведки у них не было. Один только австриец, майор Флейшман, что-то пронюхал, а я от него особенно скрывал свои действия. В разгаре суеты вдруг он, совершенно неизвестно почему, прислал ко мне своего адъютанта, который очень долго у меня сидел и, в конце концов, лишь передал мне, что майор мне кланяется и просит сообщить, как мое здоровье. Так как я никогда в жизни не был болен, меня очень удивил этот визит. Очевидно, адъютант хотел что-нибудь разведать, но не знал, как взяться за дело.
Мне прийдется несколько остановиться, прежде нежели идти дальше, в изложении событий, которые содействовали моему появлению на арене политической деятельности.
Я не рассказал, что несколько раньше до того, когда происходили все эти события, я, в поисках за людьми, с которыми мог бы посоветоваться, вспомнил о Петре Яковлевиче Дорошенко, который находился в Чернигове, занимая там (конечно, еще до Центральной Рады) должность директора Дворянского пансиона. Я просил его приехать на несколько дней в Киев, что он и сделал. Петра Яковлевича я очень любил и уважал, как я уже указал в начале моих записок. Петр Яковлевич имел большое влияние на меня в смысле развития во мне любви к историческому прошлому нашего края. Очень умный, прекрасно образованный, обладающий громадной памятью, изучивший с любовью историю страны до мельчайших подробностей, владелец недурной библиотеки. Он был, еще совершенно молодым, городским врачем города Глухова, когда, постоянно встречался со мной в мои наезды в имение Полошки, находящееся в пяти верстах от города. Мы часами просиживали с ним в беседах о прошлом Украины. Он совершенно не принадлежал к типу современных наших «диячей» украинских, очень низко их расценивал, не верил им, но к прошлому страны относился с величайшей любовью. В его устах каждый штрих из истории пашей Полтавщины, или другой подобной области, становился красочным и интересным, но особенно занимательной у него выходила биография всех прошлых деятелей времен гетманов. Я очень любил бывать у него и, со временем, паше знакомство перешло в прочную дружбу, которая за эти 25 лет ничем не была омрачена. Где бы я ни был, я постоянно, насколько это было возможно, поддерживал спим тесную связь. Он не раз приезжал ко мне в мое полтавское имение Тростянец, в Царское Село и в Петроград, когда я живал там. Этот человек мне всегда казался, по. своему уму и способностям, удивительно скромным. Сколько видишь бездарное гей, которые чванятся своими знаниями. Все они норовят попасть на первое место, а здесь человек, действительно выдающийся, прозябал всю свою жизнь в тени, исключительно из-за своей скромности, хотя фактически ему временами приходилось нести чрезвычайно трудные обязанности, хотя бы во время его земской деятельности.
Теперь, когда обстоятельства сложились для меня так, что приходилось, не откладывая, принимать категорические и ответственные решения, я решил его вызвать. Я не изложил ему исчерпывающе своего положения, но все же ясно дал ему понять, к чему шло дело. Петр Яковлевич, привыкший к деревенской и провинциальной жизни, где решение всякого вопроса вынашивается чуть ли не годами, был очень смущен и ясно своего мнения он мне не высказал. Тем не менее, уезжая, он мне сказал: «Ну, дай Вам Бог успеха!»
Решительные действия не в его характере. Но Петр Яковлевич для меня, особенно теперь, представлял большой интерес, так как по своим социальным убеждениям он был лишь немного правее меня, но в основных вопросах со мной соглашался. В вопросах национальных я совершенно разделял его мнение, а это было очень важно, так как он пользовался и в великорусских, и в украинских кругах большим уважением.
Время, однако, шло. Подготовка к съезду тоже двигалась вперед.
Тогда же произошло событие, которое сыграло некоторую роль, далеко для меня не выгодную в дальнейшем. В один прекрасный день богатый банкир Добрый{141} был арестован какими-то новоявленным «Союзом Спасения Украины» и увезен неизвестно куда. Говорили, что он был одним из наиболее видных финансовых деятелей, работавших с немцами, и потому навлек на себя ненависть этого Союза; он с ним и расправился. Я. никогда не интересовался подробностями этого дела. Думаю, что и Добрый такого особенного значения у немцев не имел, он просто-напросто устраивал свои собственные дела. Однако следствие по этому делу взяли на себя немцы. К делу оказались причастными некоторые министры [Рады], между прочим, военный — Жуковский{142}, и внутренних дел — Ткаченко{143}. Их обоих немцы арестовали.
Но что было досадно для меня впоследствии, это то, что одного из них, несмотря на протесты, арестовали во время заседания Центральной
Рады. Немецкие караулы заняли входы, подошла немецкая рога с оружием в руках к Педагогическому музею, где заседала Рада, и офицер с несколькими солдатами зашел в залу заседаний и арестовал министра{144}. Чрезвычайно неудачно, чтобы не сказать больше. Эти аресты положительно никакого отношения к моему перевороту не имели, но так как переворот произошел в скором времени после этого события, о котором много кричали в украинской и в заграничной прессе, его смешали с переворотом. Вышло, как-будто немцы арестовали и министров, и Раду в связи с провозглашением меня гетманом. Были опровержения немцев, но, как годится, опровержения редко достигают результата. Еврей Добрый оказался где-то в Харькове, его разбойники выпустили за выкуп в 100000 рублей. Он тотчас же вернулся в Киев и был. избран, уже во время гетманства, председателем финансовой комиссии.
Я все более и более убеждался, что если я не сделаю переворота теперь, у меня будет всегда сознание, что я человек, который ради своего собственного спокойствия упустил возможность спасти страну, что я трусливый и безвольный человек. Я не сомневался в полезности переворота, даже если бы новое правительство и не могло бы долго удержаться. Я считал, что направление, взятое мной, и ту творческую силу и работу, которую я собирался произвести, само бы по себе дало толчек к порядку, временную передышку, которая, несомненно, восстановила бы порядок и дала бы силы для новой борьбы.
Сомнения у меня были другого рода; может быть, эти сомнения были малодушными. Я жалел себя, я думал… к чему мне идти в этот мир злобы, и недоверия, и зависти. Ведь теперь только тот может быть популярен в политике, кто возмет крайнее направление, а мне для того, чтобы действительно что-нибудь делать для страны, придется идти самому и убеждать других, и убеждать без конца идти путем взаимных уступок. Недостаточно захватить власть, но нужно еще подыскать людей, которые бы всецело шли со мной и проводили бы мои начинания в жизнь, а этих людей я, из-за технических условий переворота, из которых главное было соблюдение конспирации, не мог найти в данный момент.
А немцы? Мне придется с ними работать. Сколько такта, сколько напряжения, сколько самоотречения потребует эта работа! До сих пор я их совсем не знал в мирной обстановке. Когда я путешествовал за границей в Англии, Франции и Германии, во всех этих странах у меня было очень мало знакомств именно в Германии, и меня это новое знакомство несколько пугало. В вопросе украинском меня ожидали компромиссы, как и в социальном. Собственно говоря, тогда было два течения: одно украинское a out range[63], другое — решительно никакого украинства. Была еще партия очень немногочисленная{145}, которую возглавлял Шумейко{146}, умеренного украинства, но это была партия недействия; мягкотелая и ни к какому проявлению себя не способная, особенно в такое острое время, как то, которое мы переживали.
У же. за тремя Гетманства развелось много людей, смотрящих на украинство так, — как я смотрю; но зато эти люди в других вопросах, в большинстве случаев, не были со мной согласны, и я оставался один. Тогда уже мне было ясно, что из-за национальных вопросов мне прийдется перенести большое гонение, и я рискую быть непонятым. Впрочем, скорее людьми, которые будут делать только вид, что меня понимают, так как и великороссы, и руководящие круги украинства на мои компромиссы в этой области несогласны.
Наконец, мне трудно было отрешиться от своих общественных предрассудков. Воспитанный в тепличных условиях кастовой среды, я думал, зачем хорошо обеспеченному, имеющему возможность теперь, с окончанием войны, наконец, жить в семье и более или менее спокойно устроить свою жизнь, нырять в этот омут. Я видел все это, что меня Ожидает, всю ту ненависть и справа и слева, которую я возбужу, и это, сознаюсь, меня смущало.
Но грандиозность задачи меня манила, тем более, что я был уверен, что сделаю дело. Главное же, меня интересовала тогда мысль чисто государственная и социальная. Создать сильное правительство для Восстановления, прежде всего, порядка, для чего необходимо создать административный аппарат, который в то время фактически отсутствовал, и провести действительно здоровые демократические реформы, не социалистические, а демократические. Социализма у нас в народе нет, и потому, если он и есть, то среди маленькой, оторванной от народа кучки интеллигентов, беспочвенных и духовно нездоровых. Я не сомневаюсь, как и не сомневался раньше, что всякие социалистические эксперименты, раз у нас правительство было бы социалистическое, повели бы немедленно к тому, что вся страна в 6 недель стала бы добычей всепожирающего молоха-большевизма. Большевизм, уничтоживши всякую культуру, превратил бы нашу чудную страну в высохшую равнину, где со временем уселся бы капитализм, но какой!.. Не тот слабый, мягкотелый, который тлел у нас до сих пор, а всесильный Бог, в ногах которого будет валяться и пресмыкаться тот же народ. Проведение постепенно самых широких демократических реформ является насущной обязанностью главы государства. Но однако, были ли у меня колебания, или нет, — это мое личное дело. Уже, после 10-го апреля я плыл по течению.
Шла подготовка к съезду. Офицерство собиралось. Большинство не знало, что вопрос идет о перевороте для провозглашения Гетманства, но главные деятели это знали и вели дело к этому сознательно. Как я говорил раньше, с немцами я виделся три раза, и они мне обещали, что генерал Греннер со мной уж окончательно переговорит. В то время моя будущая внешняя политика рисовалась мне туманно. Немецко-австрийские армии заполнили всю страну, на севере были большевики.
Я испытывал по отношению к немцам чрезвычайно сложные чувства. С одной стороны, они нам были чрезвычайно нужны. Без них Украина была бы то, что представляет собой теперь север — пустыню. С другой стороны, я не мог равнодушно видеть их хозяйничания у нас в Киеве. Я им был благодарен и одновременно с этим слышать о них не мот. Что касается Entente-ы, то сообщения с ее представителями, по крайней мере для моего пользования, были решительно прерваны. Но все же я всегда верил, несмотря на военные победы немцев, что последние победителями быть не могли, что рано или поздно с представителями Entente-ы прийдется встретиться. Поэтому я решил, с первого же дня, делать все возможное для сохранения самого действительного нейтралитета. С немцами же необходимо было вести политику так, чтобы не ссориться с ними из-за пустяков, давать решительный отказ во всех серьезных вопросах, поставленных не к нашей выгоде или во вред Entente-ы. Я знал, что это будет трудно. Не имея решительно никаких вооруженных серьезных сил и серьезной поддержки, пока, среди населения страны, я полагался на свой такт.
Около 20-го числа [апреля] у меня появился капитан фон Альвенслебен. Он пришел, кажется, по собственному почину. Очевидно, в немецком штабе говорили про меня, и он пришел со мной познакомиться. Принадлежа к аристократической прусской семье, Альвенслебен играл некоторую роль в «Оберкомандо», где офицерство было попроще, и очень большую в киевском высшем обществе. Он не стеснялся высказывать свои мнения, которые, я думаю, были не очень по душе генералу Греннеру, но которые многим нашим крупным помещикам были очень на руку и очень им нравились. Ею девиз был «тспг пасп тсси18»[64]. Он держал себя так, что думали, что он является действительным выразителем чуть ли не взглядов самого императора. Он пришел ко мне, красивый, статный, решительный, и заявил, что он душою и телом стоит за переворот, и сразу какбы определил себя состоящим при мне. Я первое время, пока его не раскусил, относился к нему с некоторой осторожностью. Впоследствии, узнав его поближе, сообразил, что он просто очень любезный и обязательный человек.
Через день Альвенслебен, ввиду надвигающегося переворота, предложил мне переехать к нему, так как в кругах Рады что-то пронюхали и меня могли арестовать. Но я отказался, не желая поселиться у немцев, а отправился к своему старому полковому товарищу Б.[65], который очень мило согласился мейя принять. Он жил в отдельном доме, невдалеке от «Оберкомандо». Бедный Б., теперь я его очень жалею, что случайно тогда обратился к нему. За свою любезность по отношению ко мне он сильно поплатился. Его после моего падения арестовали и посадили в тюрьму, где он томится и по сие время. Обвиняется он в том, что будто бы он играл какую-то особенную роль за время моего Правления страной. Это неверно. Он положительно никакого политического значения не имел, меня связывали с ним лишь наши старые полковые отношения. В вопросах же политических, я думаю, у нас было очень мало общего. Он принадлежал к разряду крайних правых, был настроен против всякой Украины и большой германофил по своий убеждениям. Мы с ним, вообще, очень мало говорили о государственных делах. Но удивительно было то, что в аграрном вопросе, несмотря на свои крайние правые убеждения, я в разговоре с ним убедился, что он в этом пункте соглашается со мной.
24-го апреля генерал Греннер [Сгоспсг] попросил меня прийти к нему. Вечером я отправился в дом Бродского на Екатерининской улице, гДе помещалось «Оберкомандо». Там я познакомился с Греннером. У нас было нечто вроде заседания. Греннер, Ярош, Гессе, с одной стороны, я — с другой, и так как я говорю плохо по-немецки, то присутствовало Несколько переводчиков. Греннер начал с того, что сказал мне, что немцы не Вмешиваются в наши внутренние дела, но что, ввиду создавшегося положения в стране и невозможности работать с правительством, они тем начинаниям, которые я собираюсь проводить, сочувствуют, но что, прежде нежели высказаться определеннее, просят меня выслушать проект соглашения со мной.
Проект этот состоял из нескольких пунктов. Жаль, что. его нет у меня, впрочем, я содержание его помню. Прежде всего требовалось, это был первый пункт, подтверждение о том, что в случае удачи я: признаю их договор с Центральной Радой; во-вторых, что я предприниму шаги к тому, чтобы в скорейшем времени была урегулирована валюта; в-третьих, — согласен [ли] буду на установление правильного контроля по вывозу съестных припасов. Я просил по этомуповоду объяснений. Мне было сказано, что желательно установить один определенный контрольный пункт по взаимному соглашению, в то время как теперь ото совершенно не систематически происходит; то контролируют на каждой станции один и тот же груз, то совершенно пропускают, товар без всякого осмотра; и то, и другое приводит к недоразумениям. Четвертым пунктом было требование со стороны «Оберкомандо», чтобы я. провел закон о том, что немецкие войска, находящиеся в пределах Украины, имели право получать в районах их стоянки необходимые им продукты, по установленным в каждой местности и по времени года определенным ценам, по примеру закона, который существует в Германии. Пятый акт чтобы сейм был собран лишь в тот срок, когда не будет препятствий на это со стороны немецких властей. Шестой — принятие мною на себя обязательства восстановления судебного аппарата и наблюдение за правильным его функционированием, причем указывалось на то, что необходимо обратить внимание, чтобы в числе лиц судебного персонала все демагогические элементы были изгнаны. Седьмой — восстановление свободной торговли, и восьмой — в случае нахождения, излишков в съестных припасах, подлежащих вывозу за границу, и предоставление Германии преимущественного права на приобретение этих, излишков. Вот и все.
Я попросил перевести все это мне письменно на русский язык и прислать мне этот проект домой на окончательное мое решение. Греннер согласился.
На меня этот генерал произвел очень хорошее впечатление. Спокойный, уравновешенный и честный, без желания воспользоваться и урвать во чтобы-то ни стало. В дальнейшем Греннер указал, что я могу вполне рассчитывать, в случае удачного переворота, дочсодействие немецких войск в деле восстановления порядка и поддержания меня и моего правительства. В день же переворота они будут держаться нейтралитета, но крупных беспорядков они на улицах допустить не могут, и поэтому он советовал мне как можно тщательнее обдумать способ действия для захвата правительственных учреждений и особо важных лиц. Впрочем, он постоянно прибавлял: «Мы в ваши дела не вмешиваемся». На этом мы расстались.
Было поздно ночью. Меня мучало отсутствие около меня подготовленного кадра людей, способных занять министерские посты. Хотя Николая Николаевича Устимовича я любил, он был предан моей идее, но я сознавал, что, он не годится на должность председателя совета министров. Подходящего человека в Киеве я не видел на этот пост. Я решил взять Устимовича с тем, чтобы впоследствии, когда дело получит огласку и можно будет работать открыто, я ему подыщу другое почетное назначение. Кроме того, далеко не все портфели министерские были замещены. Это меня чрезвычайно волновало. У меня не было еще начальника штаба. Я никак, не мог остановиться на каком-нибудь генерале. Военного министра тоже не было, как и министра земледелия. Все это, было очень печально. События так быстро развертывались. Через несколько дней власть переходила ко мне, а людей для ведения дела я еще не нашел. На следующий день я вспомнил о некоем начальнике дивизии, генерал-майоре Дашкевиче-Горбатском{147}. Лично я его почти не знал, но слышал, когда еще командовал корпусом, что в 1-ом корпусе его хвалили как хорошего и решительного командира полка. Он был офицером генерального штаба. Времени на обдумывание не было, я за ним. послал и немедленно назначил его своим начальником штаба.
Затем в тот же день я познакомился с Александром Александровичем Палтовым{148}. Я как-то сказал Гижицкому, что я обдумываю свое обращение к населению, которое необходимо будет в день переворота. Но прежде чем составить его, мне нужно посоветоваться с каким-то юристом. Он мне привел Палтова. Я вызвал его в отдельную комнату, рассказал ему план предстоящих действий и цели, которые я Собирался, преследовать по установлению Гетманства. Указал ему на основные мысли, которые я хотел провести в своем обращении к народу. Он начерно записал, пошел к себе домой и через полтора часа вернулся ко мне с уже совершенно готовой основой моей Грамоты. Оставалось лишь несколько сгладить и заменить некоторые выражения более симпатичными. Меня эта ясность ума и быстрота работы в таком сложном вопросе поразили. Таких помощников у меня до сих пор не было. Я ему немедленно предложил обдумать вопрос, какую бы должность он мечтал занять, в случае удачи переворота. Предполагал назначить его помощником державного секретаря, он согласился. Я решил его приблизить к себе. Александр Александрович был при мне за все время моего Гетманства. Он ушел за месяц до моего падения, но, собственно говоря, этот последний месяц, который я опишу впоследствии, для меня не существует.
Впоследствии из-за Палтова мне пришлось испытать много неприятностей. Мне говорили, что у него были какие-то денежные недоразумения при старом правительстве, что он был под судом. Все это, может быть, и было, — я этого не знаю. Я утверждаю лишь одно, что во время бытности его при мне (он занимал должность товарища министра иностранных дел, с откомандированием ко мне) — это выдающийся по своему уму человек, по своей широкой всесторонней образованности, что он поразительно работоспособен, уравновешен, всегда на месте и что он был предан делу, которому служил, и тем самым мне. Его прошлые денежные дела мне неизвестны. Думаю, что, обладая таким умом, если бы это был действительно нечистый делец, он сумел бы составить себе большое состояние[66] а он был беден. Убежден, что за время Гетманства ни в чем предосудительном в этом отношении он замечен не был. Когда ко мне приходили всякие завистники с инсинуациями по адресу Палтова, ни один из них не мог указать мне на какой-нибудь, порочащий последнего факт. Что он любил иногда покутить, может быть, но когда он успевал это делать — я не знаю. Обыкновенно, до часу ночи он бывал в Совете Министров, заседавшем в Гетманском же доме, а в восемь часов утра являлся уже ко мне с готовыми бумагами. Он действительно работал над созданием Украины не за страх, а за совесть. Никакой задней мысли у него не было, брал вопрос всегда широко и смело, не комкал его и не боялся нового, если это было целесообразно. У него был широкий размах, чего, к сожалению; у большинства наших министров не было. Я его оцепил с первого дня! ношения своего о нем не меняю, хотя знаю, что многие меня в этом может быть, упрекнут. Я им в ответ на это скажу одно» если вы, господа, когда-нибудь будете в тех условиях, в которых был я, желая вам добра, советую: берегите умных, образованных, способных к работе людей, у нас их можно перечесть по пальцам. Не придирайтесь к мелочам. Не копошитесь в прошлом ваших подчиненных, если в данную минуту они ценны своей работой. За этот совет вы мне скажете спасибо.
Уж почему это так, я не знаю, это требует особого исследования, но факт тот, что людей нет не только у нас, но и за границей, как в странах Согласия, так, и в Центральных державах. Самый крупный человек, которого выдвинула наша эпоха, это, к нашему ужасу, — Ленин. Людей нет. Теперь, когда мне нечего делать, я выписал газеты всех оттенков и всех основных стран, имеющих значение. Как все эти различные речи крупных государственных и Общественных деятелей внушительно красивы на столбцах газет, Как они успокоительно действуют на нервы непосвященного в тайны политики и как они безотрадны для человека, вкусившего яд государственного правления. Как мелочны и жалки все эти слова в сравнении с теми событиями, которые мы переживали и, главное, которые будем переживать. Как несвоевременны решения власть имущих. Когда они за что-нибудь, наконец, после Долгих сомнений решаются взяться, жизнь уже ушла вперед, и они снова остаются перед разбитым корытом. Какая фальшь звучит во всем, что говорят эти люди. Нет людей нет! Палтов далеко не был гением, но это был умный и полезный мне работник. Я его теперь потерял из вида и сомневаюсь, буду ли я с ним когда-нибудь работать, но все же должное отдать ему обязан.
Вся толчея, которая была сначала на моей квартире на Крещатике, перешла теперь на квартиру Безака. С утра до вечера толпились офицеры, проходили различные деятели; получившие назначение или ожидавшие его. Насколько трудно было мое положение из-за недостатка людей, очень сказалось во время поисков министра земледелия.
Все лица, к которым я (обращался, не могли принять на себя эту обязанность. Вообще; как впоследствии я не нуждался в людях, которые приходили ко мне с советами взять. такое-то или другое лицо, желая иметь своего ставленника министра, так до переворота все крупные организации и отдельные личности сидели по норам и избегали меня.
Вот почему я благодарен: г-ну Безаку за то, что он принял к себе и не избегал меня в эти минуты. Другие предпочитали выждать и посмотреть, что из этого выйдет.
Итак, я искал всюду министра земледелия и никак не мог его найти.
Безак как-то подошел ко мне в эту минуту. Я его спросил, не может ли он указать кого-нибудь на этот пост и он просил подумать. Наконец, приходит: «Бери Значко-Боровского». — «Давай его!» Значко-Боровский{149}, очень приличный человек, долго упирался, наконец согласился.
Потом я узнаю, что он диаметрально противоположных мнений в аграрном вопросе. Я был поставлен в чрезвычайно неловкое положение, когда пришлось как-нибудь это приглашение отменить. Повторяю, он очень приличный человек, понял мое положение и не показал виду, насколько это ему неприятно.
Вечером того же дня у меня состоялось окончательное заседание, на которое были приглашены люди, без которых обойтись нельзя было, но которые, по своим убеждениям, не вполне подходили и поэтому они ранее в это дело не посвящались. Тот же самый Николай Николаевич Усгимович не знал ясно, что дело идет о провозглашении Гетманства и разгоне Рады; он все еще думал, что дело идет о новом составе министерства. Мы' же ему не говорили, так как несколько боялись, Чтобы он не рассказал кому-нибудь из тех, кому не следует знать, и тем самым не. повредил бы делу. Были и другие, которым не говорили по другим причинам. Смешно было смотреть на то, как быстро Обрабатывали этих господ. Они так и шли. Им говорили, что дело почти уже сделано. После некоторых колебаний они соглашались и становились рьяными сторонниками Гетманства.
Для переворота все было готово. Был сформирован охочий полк, преимущественно из офицеров; были посланы во все украинские части агитаторы. Полковник Глинский, Александр Устимович и подполковник Бенецкий распоряжались отдельными отрядами для захвата лиц и учреждений. Оружие было в достаточном количестве. Я вызвал в соседнюю комнату Альвенслебена и послал его разузнать, насколько немцы могут быть полезными. Они обещали не выпускать сечевиков и поддерживать дружественный нейтралитет. Это было более чем достаточно, тем более, что за правительство никто не стоял. Воронович предлагался председателем съезда, который был назначен в цирке. Народ валил в Киев на съезд со всех сторон. Все чувствовали, что Дело серьезное. Вишневский{150} не знал уже, куда их размещать. В этот период единение между крупными и мелкими собственниками было полнейшее. Все они были связаны идеей отстаивания права собственности и спасения страны. Я сам видел крестьян, имевших по полторы и две десятины, и таких было много. Все эти люди были представителями больших уездов. Все это было делом 3-его Универсала с его бессмысленной социализацией.
26-го или 27-го я поехал вечером на сьезд хлеборобов и был поражен видом людей, заполнивших всю улицу. Это были представители от хлеборобских организаций каких-то уездов, только что прибывшие поездом. Они ждали на улице перед помещением Союза, где их постепенно переписывали.
Социалисты потом говорили, что это было подстроено, — это неправда. Этот съезд был своевременен. Это был естественный протест мелкого собственника против всего того насилия, которое он и принадлежащее ему небольшое имущество, нажитое его же мозолистыми руками, пережили за год революции. Единодушье и подъем духа были поразительны. Предполагалось, что съезд продлится два дня и что провозглашение Гетманства будет на второй день. На самом же деле съехавшимся не пришлось долго решать, все было объяснено в три часа первого дня. Люди сами этого хотели.
В это же время должен был произойти съезд хлеборобов-демократов. Я уже выше говорил, что областной союз хлеборобов-собственников, сначала восхищавшийся ими, потом вождей взял под подозрения и чинил им всякие неприятности. Сьезд хлеборобов-демократов должен был состояться в Купеческом собрании, но из-за неправильной политики областного съезда с ним на заседании 29-го апреля не слился.
В общем, на двух этих собраниях должны были быть представители многих миллионов наших хлеборобов, которые, несомненно, представляют соль Украины. Это самая здоровая часть населения, поэтому так желательно его усилить за счет крупных имений.
28-го апреля мне ничего не приходилось делать, все уже было готово… Я жил в семье Безаков. Супруга его, Елена Николаевна, ярая монархистка, а главное, совершенно не признающая Украины, несмотря на свое гостеприимство, была, вероятно, не особенно обрадована, видя за своим столом такого украинца, как Полтавец, который, в довершение всех своих украинских тенденций, даже остригся так, как у нас стриглись в старину паны, тем не менее Елена Николаевна была очень лкюезна даже спим и лишь поморщилась, когда Полтавец как-то ни с сего, ни с того заявил, что Владимир Святой был тоже украинец и что исторически будто бы доказано, что он никогда бороды не носил, а что бороду ему приделали на его иконах лишь впоследствии из-за великорусского влияния. Конечно, сообщение этого столь авторитетного исторического исследования было совсем несвоевременно, и я постарался переменить разговор.
После обеда я переоделся в штатское платье (в то время я ходил в черкеске). Никому не говоря, вышел из дому, предупредивши ординарца, чтобы меня не искали, что я вернусь часа через два. Я взял извозчика и поехал к памятнику Владимира. Мне хотелось остаться одному и отдать себе ясный отчет во всем том громадном деле, которое я предпринял. Мне хотелось разобраться в своих мыслях и побуждениях. Я понимал, что теперь я переживаю интересное время, что пока все это пахнет каким-то кавалерийским рейдом, что все это мне нравится, но что, захватив власть, начнется совсем другая жизнь. Тогда уже я не буду принадлежать себе. Я подошел к памятнику и сел невдалеке от него на скамейку. Народу почти не было. Тихий, светлый весенний день говорил о нарождающейся новой жизни. Предо мной внизу была дивная картина нашего Днепра, видевшего с тех пор, как здесь осело славянство, и не такие еще перевороты. За Днепром расстилались бесконечная даль родной мне Черниговской губернии. Я долго сидел и любовался этим видом, а затем встал и сказал себе: «Будь что будет, но пойду честно. Сумею помочь стране — буду счастлив, не справлюсь — совесть моя чиста: личных целей у меня нет».
Личных целей у меня не было, или, лучше сказать, я сознавал, что то чувство мелкого, удовлетворенного самолюбия не окупалось бы сознанием той бури, которую я волей или неволей должен вызвать, идя намеченным мной путем.
Когда я вернулся домой, Безаки сообщили мне, что заменяющий митрополита после убийства преосвященного Владимира{151}, архиепископ Никодим приедет вечером. Действительно, Никодим вечером приехал. Я его почти не знал и не имел понятия о его направлении. Впоследствии, имея возможность в начале Гетманства видеть его довольно часто, я жалел, что, при его монашеских, может быть, достоинствах, у нас на Украине во главе церкви был этот архипастырь. Может быть, если бы был другой, более способный разобраться в той тяжелой драме, которая у нас происходила в церковной жизни, мы избежали бы много ошибок. Я с ним долго разговаривал, посвятил его в сущность переворота; он меня благословил.
В тот же вечер в доме Безаков шла напряженная работа. Бедные хозяева сидели в задних комнатах своей квартиры, никакого участия во всей этой суете не принимали и, вероятно, в душе жалели, что пустили к себе такого беспокойного жильца, как я.
Дашкевич-Горбацкий отдавал последние распоряжения офицерам, начальникам отрядов. Тут же лежала моя Грамота жителям и казакам Украины в корректуре, получая свою последнюю огделку. Мы обдумывали вопрос создания кабинета министров. Мне это дело совершенно не давалось. Думали, думали и решили, что мною будет назначен председатель совета министров Николай Николаевич Устимович, остальной же состав кабинета объявлен будет на следующий день. Поздно ночью принесли первые оттиски Грамоты. Я впервые подписался «Павло Скоропадський» по-украински и лег спать.
Наступило 29-ое апреля. Встал я нарочно позднее обыкновенного, чтобы меня оставили в покое. Съезд открылся в 11 часов дня. Предполагалось, что 29-го апреля я еще не поеду туда, так как хотели в течение первого дня убедиться, насколько весь этот, съехавшийся со всей Украины, народ действительно подготовлен к перевороту, который мог окончиться далеко не так сравнительно хорошо, как это произошло на самом деле. Нужно было иметь людей, готовых защищать нашу идею.
Воронович председательствовал. Я; сидя у Безаков, через своих ординарцев знал все, что происходит у хлеборобов. Громадный Киевский цирк был переполнен до галлерей. Все это были простые селяне, сравнительно мало людей, одетых в пиджаки, все более в свитки.
Пошли доклады, рисующие безотрадную картину хаоса, происходившего на местах из-за отсутствия власти. Настроение становилось все более и более повышенным, и критика действий правительства [Рад] все жестче и жестче. Уже в час дня появились ораторы, которые докладывали, что дальше так жить нельзя, что необходимо передать власть одному лицу.
Тогда я решил, что нечего откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня. Того же мнения был и Воронович. Мною был отдан приказ всем отрядам, не ожидая ночи, как это было решено раньше, немедленно приступить к исполнению своих задач. Я же поехал на автомобиле в цирк с Полтавцем, которого назначил генеральным писарем, и Зеленевским, в качестве моего адъютанта. Мы вошли через боковую дверь в коридор. Всюду были расставлены караулы. Стоя в коридоре, я слышал, как какой-то оратор говорил: «Нам нужна для спасения страны сильная власть, нам нужен диктатор, нам, нужен по старому обычаю гетман!» И какой взрыв сочувствия вызвали эти слова!.. Я вошел в зал с адъютантом и сел в маленькую боковую ложу. Следующий оратор говорил то же, что и предыдущий. Когда он назвал мою фамилию и сказал, что предлагает меня провозгласить гетманом, вся масса людей, находящихся в зале, как один человек, встала и громкими криками начала выражать свое сочувствие.
Такрго энтузиазма я не ожидал. Меня эта встреча глубоко взволновала. Я не принадлежу к людям, легко теряющим самообладание, и не сентиментален, но вид плачущих от радости людей, эти взоры, обращенные ко мне, в котором хлеборобы видели будущего защитника от переносимых ими насилий, которым они подвергались в течение такого долгого времени, глубоко запали мне в душу, Я, никогда их не забуду.
Когда шум стих, я встал и сказал несколько слов. Что я сказал, дословно передать не могу{152}. Еще утром я знал, что. мне придется говорить, и подготовил речь, но я не ожидал, что провозглашение меня гетманом произойдет именно так, как это случилось на самом деле. Я почему-то думал, что настроение будет более деловито спокойное, что будет баллотировка, что прийдется выступить с программной речью. На самом же деле это был такой экстаз, где все условности исчезают. Я сказал, что власть принимаю, что мне дорога Украина, что власть беру не ради себя, а для того, чтобы принести пользу измученному народу, и, помню, закончил указанием на то, что в хлеборобах, которые являются солью земли украинской, я буду искать опоры в своих начинаниях. Я, кажется, так сказал. Впрочем, эта речь была, конечно, всюду напечатана, и ее можно найти. По окончании моих слов новые овации. Меня понесли на эстраду и тут начали качать.
Наконец, кто-то крикнул: «Молебен, на Софиевскую площадь!» Бурные возгласы одобрения встретили это предложение. Решено было, что весь съезд немедленно пойдет на площадь, а я через полчаса подъеду туда на автомобиле.
У меня было свободных четверть часа, я поехал к себе на квартиру. Здесь я встретил Елену Николаевну Безак, которая трогательно меня благословила и дала мне кольцо от руки Варвары Великомученницы. Затем я поехал в Софиевский собор, где меня встретило духовенство.
Преосвященный Никодим благословил меня, а затем вместе с крестным ходом я вышел на площадь. Здесь отслужен был молебен{153}.
Это были минуты, которых забыть нельзя. Сколько светлых, чистых надежд, сколько желания работать! Преосвященный Никодим произнес прочувственную речь. Хор грянул: «Многи лета господину нашему, Гетману усей Украины», колокола св. Софии гудели вовсю. Я видимо был спокоен, но в душе переживал многое. По окончании молебствия, приветствуемый толпой, я поехал домой.
В это время мои отряды выступили и захватили учреждения, согласно выработанному уже порядку. В отличие от частей, находящихся на стороне Центральной Рады, у каждого моего сторонника была белая повязка на левом рукаве и малиновая на правом.
Сведения стекались у меня на квартире. Всем руководил Дашкевич-Горбацкий. Я в это время мало вмешивался. Оказывается, что немцы не препятствовали выходу сечевиков и последние заняли здание Рады. Тут произошло несколько стычек, причем три офицера у меня было убито{154}. В некоторых местах дело шло более миролюбию. Не в обиду будет сказано тем лицам, которые руководили этими действиями, я» находил, что Они были вялы.
Наступал вечер 29 апреля 1918 года, а еще далеко не все оказалось в наших руках. Немцы были официально нейтральными, но, как я слышал, эта нейтральность, конечно, была скорее в нашу пользу. Центральная Рада, заседавшая еще в то время, когда я был на площади, с подходом наших частей п. сечевиков разбежалась, так что почти никого не арестовали{155}. Некоторые второстепенные министерства были захвачены, но самых главных у нас еще не было. Вечером дело уже пошло лучше. Я был занят другими вопросами и не проследил все перипетии мелких стычек этого дня.
Помню, что вечером, часов в 8, пришел начальник сечевиков, Коновальцев{156}, и заявил, что хочет меня видеть: Я его принял. Он хотел знать, стою ли я за Украину. Я сказал: «Стою», и потребовал от него немедленного перехода на мою сторону, или же я его арестую. Он ответил, что должен переговорить с частью, лично же он ничего не имеет против того, чтобы служить гетману. Я его отпустил, по потом узнал, что люди его частью разбежались, частью же заперлись в казармах. В этот день и на следующий он больше не принимал участия в бою{157}.
У меня уже ни одной минуты не было свободной. Как я и ожидал, со всех сторон потяглись ко мне уже люди, пока нерешительно, но все же шли. Я всех принимал. Наступила ночь. За мною не было еще ни одного учреждения существенной важности. Между тем, немцы, как мне передавал Альвепслебеп, как-то начали смотреть на дело мрачно.
Они считали, что если я не буду в состоянии лично занять казенное здание (министерство какое-нибудь), если государственный банк не будет взят моими приверженцами, мое дело будет проиграно. Я приказал собрать все, что осталось у меня, и захватить во чтобы-то ни стало участок на Липках, где помещалось военное министерство, министерство внутренних дел и государственный банк. Приблизительно часа в два ночи это было сделано. Но для прочного занятия его было мало сил. Генерал Греков, товарищ военного министра, исчез. Начальник генерального штаба, полковник Сливинский{158}, заявил, что переходит на мою сторону. Дивизион, охранявший Раду, с полковником Аркасом{159}, который лично явился ко мне, был также за меня.
Узнавши о взятии министерства внутренних дел, занимавшего бывший дом генерал-губернатора, я решил немедленно переехать туда. Помню, что переезд из дома Безаков на Институтскую |улицу] представлял довольно смешное зрелище. Я ехал в автомобиле, снабженный одеялом и подушкой (мои вещи где-то затерялись). В этот же автомобиль насела масса народу. Мы смеялись, находя, что торжественный въезд нового правительства не представляет величественного зрелища.
Через пять минут я входил бодрым, полным энергии и сил в дом, где провел восемь мучительных месяцев. Охраны у меня почти не было, человек 10–15, все остальные были высланы подкрепить действующие отряды. Я обошел залы и хотел лечь спать, но уже ко мне явились Демченко с Несколькими Другими членами Протофиса{160} с предложением принять составленный ими список министров. Я так устал, что, не рассмотрев бумагу, лег в какой-то комнате и заснул. Через час Зеленевский меня разбудил, докладывая, что местами наши отряды на Банковской улице оттеснены и что уже вблизи от дома нашего идет перестрелка, что оставаться опасно, так как нас могут захватить. Для охраны меня осталось всего пять человек. Я ни за что не хотел уйти из этого дома, считая, что это было бы признаком неудачи, и ответил Зеленевскому, что пусть он примет какие хочет меры, мне безразлично какие, но из дома я не уйду, и запрещаю меня будить. Я заснул.
Что там дальше происходило, я не знаю доподлинно. Припоминаю, что Василий Устимович собрал несколько офицеров и арестовал караул у банка, чем остановил попытки дальнейшего движения сторонников Рады. В других частях наши противники сдавались. Утром я встал часов в 9, оделся, вышел в столовую и не верил своим глазам!.. Был уже полный штат людей. Чайный стол прекрасно накрыт. Ко мне подошел полковник Богданович и доложил, что все готово, и не имею ли я приказаний по хозяйственной части. Оказывается, что за ночь все должности по гетманскому дому уже были распределены бывшими деятелями переворота, а начальнику штаба пришлось впоследствии лишь запросить меня, утверждаю ли я эти назначения. Залы были битком набиты народом всевозможных депутаций. Просители, журналисты, генералы и офицеры ждали моего появления.
Так начался первый день моего Гетманства
Многие упрекают наш первый совет министров в том, что он мало был деятелен, и в то время, когда нужно было крупными штрихами проводить в жизнь те реформы, которые намечены были, в моей Грамоте, все время как бы топтался на месте. Правые партии обвиняли правительство в том же, по обвинения их падали, главным образом, на министерство внутренних дел. Они находили, что Державная Варта (полиция) не создавалась в достаточном количестве, что на местах люди были слишком неудачно подобраны и т. д. Я сознаю, что и мною, и советом министров было сделано много ошибок. Я совершенно не пишу эти воспоминания для того, чтобы петь себе или правительству панегирики, но я решительно отвергаю неработоспособность совета министров в первые месяцы Гетманства. Необходимо вникнуть в те условия,? в которых мы тогда находились, чтобы понять настоящее положение вещей, как оно было.
В первый день моего Гетманства я спросил Вишневского, который до назначения министра внутренних дел, по моему приказанию, исполнял эти обязанности: «Александр Андреевич, как дела?». «Плохо, — пан Гетман.» — «Почему?» — «Да вот перед Вами здесь все министерство внутренних дел Украины». — «А где же само министерство?» tr. «Да в настоящем смысле слова его никогда и не было, а теперь служащие все разбежались, положительно никого нет. Нужно все создать с самого основания».
В таком положении находились почти все существенные органы управления на Украине в первые дни Гетманства. Господа, которые упрекали министров за вялость их работы, были деятелями старого режима, и поэтому им рисовался ряд работающих департаментов, с массой столоначальников и чиновников. Когда при смене министров новые хозяева, начиная работу в новом направлении, могли сделать это точно по одному мгновению руки. Да, при таких условиях — это было бы легко. Иногда же критиками являлись господа, которые никогда ничего не делали в области государственного управления. Положение дел было в полном смысле tabula rasa[67]. Пришлось все создавать и, главное ни какого материала! Почти все было деморализовано. Приходилось долго выбирать человека, так как один оказывался негодяем, другой — человек совершенно неподходящий по своим политическим убеждениям, третий шел только ради жалования, не собираясь работать.
Каким образом министр внутренних дел мог в стране провести хотя бы мелкую реформу, когда, я помню, в течение полутора месяцев нельзя было заполнить места губерниальных старост, являющихся хозяевами губерний. Рекомендуют одного — он отказывается, телеграфируют другому — он болен, третий как будто бы подходящий и согласен, но в совете министров выяснилось, что он натворил уже раньше всяких бед, и поэтому его забаллотировывают. А время шло и шло. И так во всем. Я лично приходил в совет министров каждый вечер и видел, что зря люди там не сидели. Нужно, наоборот, удивляться, что правительственный аппарат был сравнительно так скоро налажен и даже выдержал такое испытание, хотя бы, например, при уходе австрийских войск, когда во всем юге Украины порядок удержался полностью, пока Винниченко и Петлюра не подняли восстания. Я далеко не хочу сказать, что центральные управления работали хорошо, была масса людей неподходящих по своим знаниям и по своим нравственным качествам, по для дезинфекции всех этих учреждений требовалось время. Сразу сделать это нельзя было. Министерство финансов пребывало в каком-то зачаточном состоянии. Министерство земледелия было, наоборот снабжено многими служащими, но все эти господа занимались исключительно политикой. Кроме того, было еще одно ужасное зло: всякий негодяй, задрапировавшись в тогу украинства, считал себя забронированным. На моей душе есть, вероятно, несколько промахов, так «Как в министерствах находились часто начальники, которые к украинцам, дельным и честным людям, относились с нескрываемой антипатией, а вместе с тем эти начальники были нужны, так как они знали технику дела. Желая быть справедливым, я брал украинцев под свою защиту, но, пока1 не разобрался в. этом вопросе, вероятно, я не всегда был прав.
Первые дни Гетманства были какими-то сумбурными. Поэтому теперь, когда я хочу последовательно их описать, я положительно эатрудняюсв повести плавный рассказ. Прежде всего, нужно было спешно составить совет министров и объявить его для всеобщего сведения. Николай Николаевич Устимович чуть-ли не в первый день заболел, по успел пригласить профессора Василенко на должность министра народного просвещения{161}. Таким образом, ввиду болезни председателя совета министров, обязанности его исполнял тот же Василенко. У меня и министров, уже вошедших в состав кабинета, была тенденция, чтобы кабинет был как можно украинский. Для этого Василенко хотел пригласить министром юстиции Шелухина{162}. Последний согласился, но на следующий день отказался, заявив, что партия социалистов-федералистов не желала, чтобы он шел, и ставила ему условием выход из партии, чего он не захотел. Помню, что речь еще шла о Михновском и о Лыпинском, по обоих не было тогда в Киеве. Были даже переговоры с социалистом-федералистом Никовским{163} для портфеля министра труда, но и он отказался. С последним, кажется, вел еще переговоры Николаи Николаевич Устимович. На должность военного министра мне украинцы все время предлагали Грекова, и немцы первое время его тоже хотели, но я решительно от этого отказался, уж больно он мне казался в нравственном отношении ненадежным.
Первые два-три дня это были бесконечные переговоры то с одним, то с другим предполагаемым кандидатом. Пока же наличное число назначенных министров временно взяли на себя и другие портфели..
В Грамоте моей я указал, что председатель совета министров назначается мной и мне представляет: списки министров на мое утверждение, и уже весь состав совета министров ответствен перед мною. Составляя
Грамоту, первоначально я этого не хотел, и лишь в последнюю минуту перед тем, как подписать Грамоту и сдать ее в печать, я согласился на это. Тут было несколько лиц, мнение которых я уважаю, которые меня убедили это сделать. Фамилий по некоторым причинам я ,не называю. Я лично считаю теперь, что сделал большую ошибку, согласившись на это. Знаю, что вызову этим своим мнением нарекания. Это мне безразлично. Я убежден теперь, что работа шла бы тогда значительно более усиленным темпом, не. было бы отклонений от намеченной мной политики. Это более соответствовало идее диктатора, у которого сосредотачивается вся власть, а так как. я сразу попал в руки (Совета министров, где партийность играла большую роль, та или другая, комбинация числа голосов давала иногда случайное направление по решающим вопросам.
Мне скажут, что я имел же право менять председателя совета министров. Конечно, имел и делал это. Но что за труд составить новое министерство, это я знаю за восьмимесячный срок Гетманства три раза пройдя это испытание. Не надо забывать, что людей у нас вообще мало, а в условиях, в которых я был при создании Украины, этот вопрос стоял еще более остро. Приходилось мириться со всеми этими осложнениями. Надо, конечно, оговориться, что тот первоначальный порядок ответственности каждого из министров перед мной я допускал лишь на короткий срок, а не как явление постоянное.
Не имея парламента или другого аналогичного учреждения, я решил видеть как можно больше народа. В этом отношении я не стеснял никого. В приемной у меня сталкивались люди самых различных направлений. Первые дни почти исключительно приходили на прием различные представители партий и союзов, которые выставляли своих кандидатов на еще не занятые посты министров. Главным образом, областной Союз Земельных Собственников, Протофис и украинские партии делали на меня сильный нажим. Я же их выслушивал, но не поддавался. У тех и у других были невозможные списки. Согласие принять такой список. было бы решением идти по программе крайней партии, чего, как я уже неоднократно говорил, я не хотел.
Вечером, кажется, первого же дня, ко мне явилось несколько полтавцев, фамилии их не помню. Между ними был граф Капнист, бывший член Государственной Думы, и выставил мне целый ряд доказательств, что Николай Николаевич Устимович не годится для должности председателя совета министров. Я не касался тех причин, выставленных этими господами, но хам видел, что добрейший Николай Николаевич, будучи очень полезным во время переворота, не справится с таким сложным делом. Мне было очень неприятно думать о том, что, несмотря на его помощь, мне придется все же устранить его, но я чувствовал, что для пользы дела это сделать необходимо. Когда он поправился, через несколько дней я его вызвал и сообщил ему свое решение. Я ожидал протеста и обиды. Он же мне просто ответил: «Я,Вам, пан Гетман, человек преданный. Бели Вы считаете, что я не гожусь — приказывайте. Я лично ничего не добиваюсь». Он остался со мной в хороших отношениях до последнего дня Гетманства. Я уважаю его и считаю его бесхитростно честным и благородным человеком, что, к. сожалению, встречается в наше время не так уж часто, и с большими затруднениями через день или два у меня были следующие министры] инженер Бутенко — министр путей сообщения, профессор Василенко министр народного просвещения, профессор Чубинский{164} — министр юстиции, профессор Вагнер{165} — министр труда, д-р Любинский — министр здравия, Гутник{166}, еврей, — министр промышленности, Ржепецкий{167} — министр финансов, Соколовский{168} — министр продовольствия, Державным секретарем был Гижицкий. Остальные портфели были распределены временно следующим образом: председателем совета министров Василенко, министр внутренних дел — товарищ министра,».. Вишневский; военный начальник генерального штаба — полковник Сливинский, морское министерство — начальник генерального штаба, капитан Максимов{169}, министерство иностранных дел — Василенко, он же и исповедания. В таком составе состоялось первое заседание. Мне нужен был председатель совета министров. Я давно уже хотел Петра Яковлевича Дорошенко, но он отказывался, отговариваясь болезненным состоянием. Я очень сожалел об его отказе. Наконец, я вспомнил о Федоре Андреевиче Лизогубе{170}, видном земском деятеле, впоследствии начальнике канцелярии наместника на Кавказе, великого князя Николая Николаевича, кажется, товарище министра при Временном правительстве. Лично я его не знал, но его репутация говорила за себя. После некоторой телеграфной проволочки, он приехал и занял предлагаемое ему место. С министром иностранных дел было осложнение: предполагался Дмитрий Дорошенко{171}, но тут внезапно вмешались немцы. Я получил письмо, в котором Греинер меня просил не назначать его. Оказалось, что он получил сведение, что Дорошенко австрийской ориентации. Не знаю, насколько это правда; во всяком случае, Дорошенко самым категорическим образом это отвергал{172}. Он написал письмо, был у немцев, и в конце концов инцидент уладился и он вошел в состав кабинета на правах управляющего министерством, как бы на испытание. Большое осложнение произошло из-за министра исповедания. Замещение этого портфеля, ввиду предстоящего открытия Украинского Церковного Собора, имело большое значение. Наконец, пост этот занял профессор Зиньковский{173}. Военного министра положительно некем было заместить. Пересматривая списки начальствующих в украинской армии лиц, армии, в которой существовали лишь слабые кадры, я вспомнил о генерале Лигнау{174}. В 1917-ом году мой корпус дрался рядом с 7-м Сибирским корпусом, где начальником штаба был генерал Лигнау. Он мне тогда очень понравился своей энергией, спокойствием и толковостью. Я его немедленно вызвал из дивизии, которой он командовал, и назначил его временно на пост товарища военного министра, до утверждения его на этой должности, уже после назначения мной военного министра. Он согласился. На должность министра земледелия назначен был, это уже был личный выбор Лизогуба, Колокольцев{175}, харьковский земский деятель, агроном, пользующийся прекрасной репутацией. Временно исполнял должность морского министра очень долгое время капитан Максимов. Портфель министра внутренних дел взял на себя Ф. А. Лизогуб.
Прежде нежели идти далее, в повествовании, хотя это трудно и легко впасть в ошибку: слишком мало времени прошло с той поры, когда я впервые встретился с составом моих министров, я считаю необходимым сделать характеристику этих действующих лиц. Мне кажется, что весь дальнейший мой рассказ будет от этого рельефнее.
Председатель совета министров, Федор Андреевич Лизогуб, принадлежит к известному в истории Украины роду, члены которого играли у нас далеко не второстепенную роль. Небольшого роста, с седою, довольно коротко остриженной бородкой, благовоспитанный, с мягкими манерами, он производил очень благоприятное впечатление, особенно на иностранцев тем более, что хорошо говорил по-французски и тем самым он легко входил с ними в непосредственный контакт, а не пользовался переводчиками, которые, обыкновенно, комкают мысль говорящего. Я его считал безусловно честным человеком и верил ему, что он сознательно никаких действий, идущих вразрез с моими желаниями, тайно от меня не предпримет. Но у него были недостатки, и главными из них были его большое самомнение и затем обидчивость. Раз он на кого-нибудь обижался, он уже объективно рассуждать не мог, а обижался он часто. Лизогуб был чрезвычайно подвержен лести. Этим его можно было сразу забрать в руки и помыкать, как хотелось. К сожалению, некоторые люди этим пользовались. Лично, происходя из семьи, где с величайшим уважением относились всегда к земской деятельности{176}, я имел некоторое преувеличенное понятие о крупных деятелях этого рода. Мне всегда казалось, что земец почему-то человек широких горизонтов, большого размаха, что переход от большой земской деятельности к государственной легок и естественен. С годами я свое убеждение радикально изменил. Наоборот, сколько я не видел крупных земских деятелей всех калибров ума и политических о пенков, я пи разу не видел, чтобы эти люди действительно преуспевали на государственном поприще. Они привыкли оглядываться на то, что скажет земское собрание, и без него ни шагу. Все это хотя и очень конституционно, но для творческой работы в момент революционного кризиса далеко не так уж хорошо. У Лизогуба тоже размаха, свободного творчества, смелости не было, и в этом отношении он, при всем своем желании быть мне полезным, не был на необходимой высоте. Я не ставлю ему этого в вину, виноват не он, а я, гак как я сам пригласил его. Вообще, лдесь я делаю характеристику уж очень строгую, но, желая быть вполне откровенным, скажу, что это свойство Лизогуба за время совместной работы с ним я неоднократно замечал. Он все хотел сделать сам. Дела же было масса, он не успевал. Важные решения не принимались им своевременно, время уходило даром. Я ему об этом говорил, он обижался. Он был чрезвычайно добросовестей, очень много работал, но с делами не всегда справлялся, так как не имел способности отмечать существенное, широкого государственного значения от второстепенного, что могло обождать. Лично я его уважал и любил, но мы с ним не спелись. Не было той неофициальной взаимности, того обоюдного понимания, которое было бы так желательно для дела между Гетманом и председателем совета министров. Где он был вполне на высоте, это во время заседаний совета министров. Умело вести собрания было его коньком, это была его среда. Но и здесь я позволил бы себе сделать ему некоторый упрек: он давал право слишком долго говорить по данному вопросу, уже вполне разжеванному, и тем самым затягивал без конца непроизводительно заседания совета. Мягкость и излишняя скромность в этом отношении ему вредили. Самомнение его часто выражалось в том, что он в любом, даже второстепенном вопросе, видимо, внутренне очень гордясь своей прошлой земской деятельностью, сейчас же напоминал, что он 25 лет был председателем губернской земской управы, что этот вопрос нужно разрешить так-то, что он научит, как нужно сделать. А в конце концов выходило, что ничего он особенного показать не мог. и несравненно проще было бы, если бы он сразу разрешил дело, не ставя его в связь с его прошлой земской деятельностью. Меня он берег, не подводил, двуличной роли не играл, считал усиление престижа гетманской власти необходимостью. Действительно верил делу, которому служил, без всяких задних мыслей. Политически его убеждения были далеко не правые. Принадлежал од к либеральной семье. Если я не ошибаюсь, брат его был при старом режиме повешен{177}, а сам он раньше находился под надзором полиции. Лизогуб числился раньше кадетом, а затем из-за каких-то разногласий с ними ушел из партии. Он действительно был сторонником, проведения демократических реформ, но проводил их медленно. В этом отношении сказывалась та черта, на которой я настаиваю: он не отличал существенного от несущественного. Я считал, что нужно с первого дня взяться за аграрную реформу, за закон о земских и городских выборах, с одной стороны, и за учреждение Державной Варты{178} с другой. Нужно было рисовать (картину широкими мазками — эскизно, а затем уже вдаваться в детали. А он каждое дело, даже второстепенное обсуждаемое в совете, решал начисто, посвящая ему далеко больше времени, нежели это дело по существу имело значение в ту переходную. эпоху. Нужно было больше проявлять властности в совете министров и не давать уклоняться в сторону и в подробности. В аграрном вопросе он даже был левее меня. — Отчуждение он считал безусловной необходимостью. В земских выборах он был умереннее, он не шел дальше прусского закона о выборах. Во внешней политике с немцами и австрийцами он держал себя прекрасно, с достоинством, с тактом и умел. — в ту тяжелую эпоху настоять на своем. Вместе с этим не останавливался на мелочах и, будучи всегда предпупредителен и любезен, Лизогуб завоевал себе полное уважение среди этих господ. В украинском вопросе он был слаб, он ничего, по-моему, в, нем, не понимал. Я до сих пор удивляюсь, как мало он соображал в этом деле. Это непонимание нежелание понимать повело к тому что украинцы его не любили и даже считали его относящимся враждебно ко всему Украинскому. На самом же деле это далеко было не так. Лизогуб, несмотря на то, что сидел в Полтаве очень долгое время, совершенно проглядел то украинское движение, которое в течение уже многих лет тлело, на, Украине, а в последние годы давало себя, несомненно, все более и более чувствовать. Другое дело, имеют ли украинцы, стоящие во главе движения, почву под ногами или нет, насколько верны сведения субсидирования этого движения извне, но странно то, что он никакого понятия о нем не имел, а нам приходилось действовать именно в обстановке этого Украинства Когда я ему говорил: «Федор Андреевич, Вам необходимо было бы выяснить то-то и то-то в таком вопросе, касающемся Украинства он мне, обыкновенно, отвечал: «Да я сам украинец, почище их, к чему мне с ними. говорить? Мой предок — полковник Лизогуб{179}, а это что за господа?!» Я с ним согласен, что он чистой воды украинец, но я никогда не понимал, как, это, стоя во главе кабинета, он не считал нужным поближе уяснить себе сущность того движения, которое, как там не говорил любишь ли его, или не любишь, все же: с украинской точки зрения, сделало очень много. Сам Лизогуб был украинец, любил Украину и всецело отдался созданию Украины, конечно, без всякой ненависти к России. Если хотите, он был во многих вопросах более украинец, нем я. Помню, как меня удивило, когда он в совете министров высказался за автокефалию, церкви. Кстати, что было еще более удивительно, что все министры, включая и еврея Гутника, высказались по этому вопросу в том же духе. Но об этом вопросе, который дал мне. столько бессонных ночей прийдется мне еще многое сказать. Мне кажется, что, Лизогуб впрочем, как и большинство правительства не уяснял себе того положения, что революция не кончилась, что она еще в полном цвету и что Гетманство явилось, первым сдвигом; в, более умеренную сторону, более естественную и тем самым более, прочную. Он считал, Что с приходом немцев революции конец и теперь «можно спокойно начать с зидгшие Той Украины того социального, уклада, жизни, который был ему более по душе и которому, он ответит. Поэтому он не торопился; и всегда легко обижался, когда я его толкал в сторону более быстрой работы в. жизненно важных вопросах. Он же состоял и министром внутренних дел и здесь он был не на месте. (Впрочем, последующий министр был еще слабее, мне в этом отношении совсем не повезло, Федор Андреевич не успевал справиться, председательством в совете министров II одновременно с этим считал серьезной обидой, если я ему говорил, что хорошо было бы, если бы он. сдал министерство внутренних дел, у нас по этому вопросу было чуть ли не серьезное разногласие, но потом я настоял на своем. Главную вину Федору Андреевичу в. вопросах внутренних дел я ставлю, желание, все делать, самому и медлительность в проведении важных вопросов. Как я уже говорил, критиковать легко, — а работать в тех условиях было чрезвычайно трудно, но все же было необходимо — более быстрое схватывание, данного вопроса и немедленное проведение его ц жизнь. Смелость и быстрота в решении государственных. вопросов не являлись отличительными свойствами характера Федора Андреевича Лизогуба, Профессор Василенко, министр народного просвещения, ученый, историку: кадет. Он обладал всеми качествами и недостатками наших профессоров. Он, кажется, всю жизнь провел на Украине, во всяком случае, в области исторических исследований, — насколько, я знаю, посвятил себя исключительно ей. Работал очень много. С украинским вопросом основательно ознакомлен, но, как всякий честный человек, не мог отрицать значения русской культуры и выбросить из обихода Пушкина, Толстого, Достоевского, другими словами, относился к украинству сознательно, без шовинизма и без всякой нетерпимости. Николай Прокофьевич, повторяю, много работал, но я его обвиняю в том, что он все хотел обновить состав своих ближайших помощников и так и не обновил. Я думаю, что тут играла роль его врожденная мягкость. А из-за этого у него в министерстве было много элементов, которые шли вразрез с его указаниями.
Его область была высшие учебные и научные заведения, по крайней мере, мне казалось, что этому отделу он уделял больше времени и внимания. Я меньше видел в нем стремления поднять и улучшить нашу среднюю и низшую школу, хотя и в этой области, сравнительно, скажем, с работой при старом режиме, было сделано много. Он был кадетом чистейшей воды, и это мне. Не нравилось в нем. В общем же, иметь такого министра народного просвещения все же была находка, так как по своим национальным убеждениям он был, по-моему, вполне подходящим человеком.
Антон Карлович Ржепецкий с первого дня моего Гетманства до последнего занимал должность министра финансов. Прежде был членом Думы, председателем земледельческого синдиката и 5 лет просидел в банках. Я думаю, он польского происхождения, по крайней мере, его фамилия на это указывает, да и тип у него польский, но он православный и по своим убеждениям мало подходит к полякам. Человек он неглупый; но односторонний. Он всю свою жизнь провел в банках и, очевидно; имел дело только с людьми буржуазного склада ума, Поэтому у него так выходило, что кроме так называемых буржуев, никого нет. Все остатное Для него не существовало. В политическом отношении он был слишком правый, например, в вопросе аграрной реформы он был неумолим, никаких реформ не нужно, земля естественно перейдет мелким хлеборобам. Политического значения этой реформы он не признавал. Помню, раз как-то в совете министров, когда были затронуты интересы помещиков при проведении какого-то закона, он встал и хотел проситься в отставку. Он земельного вопроса просто не выносил. Он представлял, так сказать, правое крыло совета министров. Его наши доморощенные и приезжие из России финансисты (а таких было немало) очень критиковали за его финансовую политику. Я думаю, в общем, при всех неотъемлемых качествах Ржепецкого, они были правы. Он был слишком большим провинциалом; чувствовалось, что здесь требовался человек совсем другого размаха. Антон Карлович был бы прекрасным директором даже крупного провинциального банка, но не далее. Прекрасный хозяин. Я верил, да и теперь убежден, что он упорядочил финансы. Был очень бережлив. С немцами и австрийцами, на нас наседавших, он спорил и не сдавался, а когда уж приходилось что-нибудь уступить, так как те становились агрессивными и грозили ему какими-нибудь новыми бедами, нужно было видеть, насколько каждая такая уступка была ему неприятна. Когда посол Мумм{180} или граф Форгач{181} приходили ко мне с какими-нибудь подобными требованиями, я всегда был очень рад призвать Ржепецкого и поговорить с ним, так как знал, что найду в нем энергичного союзника. Но и у него была слабость — это облает ной Союз Землевладельцев и Прогофис. Он их всегда защищал, и думаю, что большого сопротивления эти союзы у министра финансов не находили. Как я уже говорил, он был у меня и умел убеждать, особенно своей настойчивостью, других, благодаря этому в совете министров пользовался значением. Хотя он и обижался, когда его подозревали в искреннем желании создать Украину, я убежден, что, взявшись за дело, он работал честно… Профессор Вагнер — министр труда, к сожалению, не обладал способностью убеждать своих коллег в правоте своих мнений, не пользовался никаким влиянием в совете министров. Говорил длинно, тягуче, в большинстве случаев, не строго к вопросу. Человек он был очень мягкий. Очевидно, ему хотелось провести в жизнь многое, но провести, в силу этого недостатка, он не мог.
Министр продовольствия — Соколовский, знающий свое дело человек, так как много проработал на этом поприще, но совершенно безвольный. В его министерстве же была компания, которой необходим был человек с сильной волей. Соколовского жаль было удалять, так как он был безусловно честный и знающий человек. Но, несмотря на эти качества, я думаю, благодаря его мягкотелости, он принес немало чреда Украине. С первых же дней я видел, что ни он, ни Вагнер, эти два порядочных человека, не соответствуют своему назначению. Мне пришлось много бороться с Федором Андреевичем, причем я достиг того, что они ушли.
Инженер Вл. А. Бутенко был первый, который согласился быть министром еще до переворога. Тогда он много мне помогал. Я ему довольно долгое время верил. Боюсь впасть в заблуждение, но я думаю, что я в нем ошибся. По отношению ко мне он всегда выражал большую преданность и предупредительность, может быть, слишком большую, так что иногда вкрадывалось сомнение, не желает ли он этим самим прикрыть себя от нареканий извне. Но я всегда думал, что эта близость и забота обо мне явились результатом пережитого нами обоими переворота. Как ни как, другие министры явились на готовое, а тут приходилось все создавать. Это обыкновенно сближает людей. Он был умен и хитер, думаю, знал свое дело. Чрезвычайно активно боролся с большевизмом, но вместе с тем впал в другую крайность. Он всецело подпал под влияние группы довольно невысокопробных украинцев, в которой находился знаменитый институт украинских железнодорожных комиссаров, о которых я как-то говорил выше. Он воображал себе, что он ими командует, а они его за «батьку почытають», на самом же деле, как оказалось, они в грош его не ставили и им помыкали. Другого объяснения я не могу дать тем фактам, как, например, такому ярому настаиванию на оставлении железнодорожного полка, состоящего из самого недовольного элемента, который мог, и даже сыграл, некоторую роль при восстании.
То же самое и относительно генерала Осецкого{182}. Все ему доказывали, что этот человек все время мутит и его нужно убрать. Он же настаивал самым категорическим образом на его оставлении. Впрочем, украинцы эти доказали ему свою любовь и преданность: они арестовали его, и он будто сидел в тюрьме. В смысле его деятельности могу в защиту его сказать одно, что действительно условия были дико. трудные и нельзя, конечно, тот увеличивающийся развал транспорта на Украине приписывать деятельности Бутенко. Железнодорожная забастовка, угон паровозов и 80000 вагонов большевиками, отсутствие смазочных веществ, вообще, нежелание рабочих работать — все это смягчает, и очень, его вину. Во время забастовки он даже проявил большую энергию и настойчивость, благодаря чему забастовка была ликвидирована без особых осложнений; но все же эта слабость, которую он проявлял к части своих подчиненных; именно украинцев, когда какой-нибудь совершенно негодный комиссар являлся косвенным начальником какого-нибудь заслуженного инженера и т. д., конечно, не говорило в пользу государственной деятельности министра путей сообщения. Промышленники были очень против него настроены. Находясь в области бесконечных интриг, я боялся впасть в ошибку и поэтому для разбора дела я назначил особую беспристрастную комиссию, во главе которой поставил генерала Кислякова, бывшего товарища министра, кажется, еще при старом режиме. В совете Бутенко тоже не любили и жаловались на него. Он как-то любил решать дела немного уж больно самодержавно. Я потребовал от Федора Андреевича по вопросу о новых железных дорогах, желая в этом отношении быть вполне беспристрастным, обязательного выделения этого вопроса в совершенно самостоятельное учреждение, под председательством председателя совета министров. Бутенко, кажется, это не очень нравилось. Он всегда давал понять, что такое учреждение должно быть при министерстве, которым он управляет. Я на это не согласился. Это не был определенный человек, стойкий в политике. Для меня он до сих пор не вполне выяснился. Врагов у него было очень много. Это был министр, на которого сыпались нарекания, но были ли эти нарекания справедливы, — я так и не узнал, так как комиссия Кислякова до моего падения не дала мне картины того, что происходило в этом министерстве. Немцы его очень хвалили, но ведь, может быть, точка зрения немцев была совершенно иная, чем у меня.
Министр иностранных дел, Дмитрий Дорошенко, был не совсем подходящим. Его никтоле признавал. И украинцы, и великороссы его одинаково не любили. К сожалению, у меня первое время некем было его заменить. Да, впрочем, это и неважно было: почти все время Гетманства внешняя политика находилась в моих руках, руках Палтова и отчасти Лизогуба. Дорошенко вел только галицийскую политику. Он был, там раньше. У него было много друзей во, Львове, и он постоянно возился с этими украинскими делами. Он был ярым украинцем, но несколько смягченного типа, в смысле шовинизма. Собственного мнения он не имел, руководился, главным образом, тем что скажут о нем в украинских кругах, но так как он попал в кабинет, где шире смотрели на вопрос строительства государства, нежели на это смотрели наши украинцы, то он в кругах последних тоже не был правоверным и от него отказывались. Он, так кажется, и сидел, до конца, между двумя, стульями! Барон Штейнгель{183}, наш посланник в Берлине, мне сообщил, что Дорошенко, будучи в Берлине, вел какую-то совсем особую, ничего С. моими указаниями общего не имеющую, политику{184}. Одновременно с этим Дорошенко мне прислал телеграмму, в которой выражал свою преданность мне и считал, что Украина погибла, если погибнет гетманство. Я всегда считал, что на пост министра иностранных дел нужно человека, несравненно более щироко образованного. Один уже факт полнейшего незнания языков сильно вредило ему. Профессор Чубинский — министр юстиции, кадет чистейшей воды. Прекрасно говорил. Знал это и любил себя слушать, что в достаточной степени затягивало заседания совета министров. В обыкновенное время был бы прекрасным министром юстиции, остающимся всегда, на точке зрения закона, но в наше время казался мне ужасным медлителем. Правые неоднократно бегали ко мне, указывая на то, что правосудие тихо налаживается, благодаря Чубинскому. Я его защищал, по в душе я и сам был того же мнения. Чистый украинец, его отец{185} написал гимн, который потом был принят на Украине, «Ще не вмерла Україна», что однако не помешало тому, что Чубинского-сына украинцы не признавали, но я совершенно не соглашался с ними. По их понятиям, необходимо было набрать в министерство юстиции лишь людей их крайнего украинско-галицийского толка, ярых шовинистов, совершенно не считаясь с образованием и стажем, проведенном в судейском ведомстве.
Они все были против Сената, над которым особенно работал Чубинский, считая, что необходимо вернуться к генеральному суду. Вопрос языка тоже играл тут большое значение. Украинцы настаивали на немедленное введение украинского языка в судопроизводство. Чубинский находил, что юридические термины на украинском языке недостаточно твердо установлены. Он, конечно, был прав. Украинцы же становились на дыбы.
Когда настал момент назначить председателя Сената, Чубинскому очень хотелось самому быть на этом месте. Я его не назначил. Сенат в моих глазах являлся высшим государственным учреждением, которое в критический момент жизни государства могло, если бы оно было на высоте, сыграть большую роль. Я искал в председательствующие человека, который пи при каких условиях не уронит эту высоту, хотя бы пришлось идти против гетмана. Я считал, что Чубинский не такой человек, и назначил Василенко. Прав ли я был или нет, это другое дело.
Министр здравия — д-р Любинский, хороший человек, честный. В совете никогда не говорил, дело свое же делал. Он как-то уживался со всеми партиями. И великороссы, и украинцы к нему хорошо относились. Скажу откровенно, что во время Гетманства у меня было столько политических трагедий, столько драм и личных, и государственного порядка что я не берусь судить, как шли дела в этом министерстве.
Министр земледелия — Колокольцев, мне очень нравился. Он не был украинцем, но дело свое делал честно. Не увлекался ни в одну, ни в другую сторону, искренне хотел провести разумную аграрную реформу, не уничтожая сахарной промышленности и те культурные гнезда, которые, я считаю, необходимо было оставить. Он на своем веку мною проработал для народа. При старом правительстве считался в числе неблагонадежных. Ни к какой партии, кажется, он не принадлежал, очень много работал, любил сам обьезжать Украину и лично удостоверяться, как идет дело, причем делал он без всякого шума и треска. Брал билет, садился в вагон и ехал, не предупреждая своих подчиненных. Эта подвижность его совершенно не соответствовала его неимоверной тучности. Конечно, держа среднюю линию, Колокольцев не был популярен. Но что же ему было делать? Оп. я думаю, действительно хотел принести пользу народу, а не снискать аплодисменты какой-нибудь партии. Был очень тверд в своих убеждениях, на первых порах, я скажу, даже слишком: так, он в скором времени после вступления в министерство, видя, как мало у него работают в учреждении, выгнал всех своих чиновников и набрал новых.
Гутник — министр промышленности. Скажу одно: он блестяще умен, по очень мало сделал для Украины.
Министр исповеданий — Зиньковский. Он окончил богословский факультет, был профессором. Он желал провести корабль украинского церковного вопроса через Сциллу и Харибду. Его. положение было чрезвычайно трудное. Очень благожелательный и мягкий человек. Несколько увлекающийся и кадет завзятый. Его партийность мешала несколько его объективному суждению. Я с ним хорошо жил и жалел его, видя, насколько трудно было дело, во главе которого он стоял.
Вот, кажется, все министры. с которыми я начал работать. Я боюсь, что кто-нибудь, прочтя эти краткие характеристики, подумает, что я не был окружен соответствующими людьми. Я сделал, может быть, очень строгую критику министрам. У меня не было, очень крупных личностей, но, за малым исключением, все эти люди были работоспособны, работали честно, и я думаю, что если бы обстановка не сложилась так убийственно трудно, Украина могла бы быть выведена из той пропасти, куда она попала.
В первые дни Гетманства, попутно с вопросом сформирования кабинета, для меня особой заботой было установление определенных отношений как с немецким «Оберкомандо», так и с послом Муммом и австрийским посланником Принцигом[68]. Мне пришлось сделан, визит фельдмаршалу Эйхгорну и двум указанным лицам. Эйхгорн был почтенный старик в полном смысле этого слова, умный, образованный очень, с широким кругозором, благожелательный, недаром он был внуком философа Шеллинга. В нем совершенно не было той заносчивости и самомнения, которые наблюдались, иногда, среди германского офицерства. Мой первый визит был обставлен некоторой торжественностью. Я считал своим долгом обратить на это внимание, конечно, не из тщеславия, но, зная, насколько немцы, особенно военные, придают значение мелочам этикета. Я не хотел, чтобы мое появление было истолковано как поездка на поклонение, а хотел, чтобы это было принято как простой долг вежливости фельдмаршалу. Греннер, его. начальник штаба, в этом отношении бил человек чрезвычайно понятливый и мой престиж среди немцев он никогда не ронял, да и я сам в этом отношении считал своей обязанностью быть щепетильным.
Посол Мумм был дипломат старого закала, у него была какая-то напускная важность, но с первого визига вся эта важность начала постепенно испаряться. Что касается Принцига, то это был уже, очевидно, дипломат второго класса. Впрочем, на него так и смотрели его коллеги. Он вел очень сложную и, по-моему, неудачную политику.
Я с первого визита же заметил, что отношения между немцами и австрийцами далеко не были особенно нежными. Австрийцы все время давали понять, что они во всех вопросах были бы податливее немцев. На самом же деле, говоря беспристрастно, с немцами у меня установились значительно более простые и определенные отношения, нежели с австрийцами. Во всех вопросах «Оберкомандо» шло навстречу, в то время как австрийцы были чрезвычайно любезны на словах, но на деле делали Бог знает что. Это я заметил с первых же дней. Не говоря уже о том, что в немецкой армии было несравненно более порядка и менее грабежа населения, в то время как у австрийцев все это от времени до времени доходило до возмутительных размеров. Как образец австрийского вероломства могу указать на действия знаменитого в то время у нас майора Флейшмана, который, будучи у меня в первые дни Гетманства, сам же предложил переговорить с Коновальцем, начальником сечевиков, с целью привести последних к сознанию необходимости подчиниться мне. Как мне донесла моя разведка, то оказалось совершенно обратное: этот же самый майор восстановил их против меня, почему и пришлось сечевиков обезоружить и совершенно расформировать. Покончив с этими официальными визитами, у нас установились уже определенные отношения.
Народу, как я говорил, у меня ежедневно перебывало очень много. Вначале я установил два раза в неделю общие приемы — по средам и пятницам. Потом необходимость иметь один день совершенно Свободным, чтобы успеть ознакомиться с докладами особой важности, заставила меня сократить приемы до одного дня в неделю. На приемы приходили исключительно просители. О чем только тут не хлопотали! Наряду с жизненными, насущными вопросами, обращались ко мне со всяким вздором. Помню, что один полковник не нашел ничего лучшего, как принести мне громадное дело с просьбой Об утверждении ему графского титула. Он никак не мог понять, что я не считаю себя вправе делать такие утверждения. Но вместе с этим приходилось видеть много горя во всех классах населения Два года революции в корне разбили всю жизнь, но особенно печально было положение офицерства. Во всех городах Украины, и особенно в центрах, было громадное скопление офицеров, слоняющихся без всякой цели. Некоторые организации уже существовали, но они влачили печальное существование и часто также принимали совершенно нежелательное направление для офицерского звания. Раненные и искалеченные оставались со стороны правительства совершенно без всякой помощи.
В первые же дни своего управления я по этому поводу говорил с советом министров. Учета этим офицерским массам не было никакого. Брать их на службу я не мог, так как не выяснил точки зрения немцев по вопросу формирования армии. Тогда я решил вызвать представителей от всех организаций и составить под председательством товарища военного министра нечто вроде временного комитета, который бы все вопросы, связанные с улучшением быта офицерства, разобрал бы и представил бы на мое рассмотрение. К сожалению, из всего этого комитета получился, как мне доложил военный министр, форменный скандал. Оказывается, что на этом съезде направление было принято совсем несогласное с моим желанием и действительным положением вещей. Появилось много представителей, которые не отдавали себе совсем отчета в том, для чего их пригласили. Например: помню, что мне было доложено мнение какого-то полковника, что необходимо всем, принимавшим участие в войне, безотносительно — генерал, офицер или солдат, выдать по 2000 рублей, и делу конец. В результате от все этих заседаний ничего путного не вышло. Конечно, мы не могли удовлетворить такие аппетиты, когда даже на самые насущные нужды у нас в то время денег не было. Дело это пошло, как говорится, криво. Затрачено было военным министром 50 миллионов Грублей], а офицерство не было устроено так, как я этого хотел. Играло тут большую роль и то, что в некоторых организациях были совершенно неподходящие люди. Во главе этих союзов, например, в обществе «Георгиевских кавалеров», столь много говорившем сердцу всякого военного, было невозможное управление, которое занималось неподходящими делами до такой степени, что вся эта грязь появилась в газетах, и я назначил от себя ревизию управления этого союза.
В таком же положении были и раненые. Была масса вдов и сирот. Помню, у меня как-то появились три женщиы, одна старая, две — молодых. Оказывается, что это были жены офицеров, мать и две дочери, причем в один и тот же день трое мужей были убиты большевиками, и они остались без всяких средств с кучей маленьких детей на руках. Пенсий никаких. Таких прошений было очень, очень много. Все это приходило ко мне особенно в первое время.
Вместе с тем я принимал в течение всей недели представителей различных партий. Конечно, украинские партии были на первом месте. Последние были очень недовольны, что среди министров было гак мало так называемых «щырых украинцев». Я им на это говорил: «Почему же вы не пришли, когда мы вас звали? Ведь и такой-то и такой-то был приглашен, но вы сами отказывались, а теперь, когда вы видите, что дело пошло, вы обижаетесь!»{186}
Через несколько дней по провозглашению Гетманства ко мне явились представители объединенных украинских партий и тоже жаловались на это, причем они заявили, что готовы идти со мной и поддерживать меня, если я ясно выскажу, как я смотрю на то, что представляет из себя гетман, т. е. является ли он президентом республики, или чем-нибудь большим; если я им укажу срок созыва Сейма, причем
Сейм в их понятии был Учредительным собранием. Я им на это ответил, что всецело придерживаюсь моей Грамоты{187}, в которой все объявлено, и никогда добровольно с нее не сойду. Согласиться на роль президента республики в то время я считал гибельным для всей страны, лучше было бы не начинать всего дела. Страна, по-моему, может быть спасена только диктаторской властью, только волей одного человека можно возвратить у нас порядок, разрешить аграрный вопрос и провести те демократические реформы, которые так необходимы стране. Я это всегда исповедывал и остаюсь при этом мнении и теперь.
Я прекрасно знаю, что западные люди в большинстве не разделяют моего взгляда; вполне верю, что они правы, когда дело касается их страны, но у нас, в Великороссии и Украине, это положительно не мыслимо иначе. Весь вопрос состоит в том лишь, чтобы человек, стоящий во главе, действительно хотел этого, и потому был убежден в своей правоте, и с этим убеждением сойду, вероятно, в могилу. Теперь, следя за политикой, за действиями правительств различных стран в русском вопросе, я, к сожалению, вижу, насколько мало запад знаком с нашими условиями, с нашей психологией. Я совершенно не проповедую возврата к старому режиму, но для проведения новых, более здоровых начал в нашей жизни это может быть сделано путем единоличной власти, опирающейся хоть на небольшую силу, но все же силу. Другого пути нет у нас и не будет долгое время. Все эти совещания различных общественных групп, все эти разрозненные действия отдельных войсковых начальников, сговаривающихся между собой, никакого положительного результата дать не могут.
Мы пышно отпраздновали пасху 1918 года. Я приказал открыть церковь, которая находилась при Гетманском Доме, и назначить причт. Во время Центральной Рады она была закрыта. На разговеньях у меня была масса народу. Я чувствовал еще себя неловко, не привыкнув к этой обстановке. На пасхальную заутреню я пригласил всех ближайших деятелей в новом правительстве и высших чипов «Оберкомандо». Видимо, благолепие нашего служения понравилось последним.
Жизнь моя установилась сравнительно просто: с первого дня я попросил, чтобы совет министров заседал в Гетманском Доме, и это давало мне возможность постоянно бывать на заседаниях, а министрам, желавшим видеть меня по какому-нибудь делу, приходить ко мне запросто. Обыкновенно вставал я поздно, так как ложился не ранее двух-трех, а то и четырех часов ночи из-за заседаний в совете, или работы над прочитыванием различных спешных докладов, присылаемых министрами. Обыкновенно, особенно в первое время, ко мне приходили часов в девять, когда я еще был в спальне, или Палтов, или начальник штаба, или же комендант для каких-нибудь спешных вопросов. Затем я шел к себе в кабинет, и уже беспрерывно шли доклады министров и других лиц, которых мне нужно было видеть. В час был завтрак, и немедленно после него снова же я шел к себе в кабинет. В 8 часов обед, и тотчас после обеда я отправлялся в совет или же принимал у себя всевозможных лиц. В промежутках же приходилось составлять еще всевозможные черновики для распоряжений, приказов и т. п. В первое время я так много работал, что в течение нескольких педель положительно не выходил из кабинета, покидая его лишь для того, чтобы наскоро пообедать или же перейти на ночь в спальню. Причем, обыкновенно еще лежа в кровати, я брал себе на прочтение какой-нибудь легкий доклад. Когда после этого мне пришлось куда-то поехать и очутиться на свежем воздухе, у меня закружилась голова и заболели глаза от яркого весеннего света Я себя постоянно упрекал в том, что так жить нельзя, что необходимо иметь хоть несколько часов в сутки, свободных для отдыха и прогулки, но в первое время это было положительно невозможно: всякий доклад, всякий прием имел спешное и важное значение, я ничего не мог отложить или как-нибудь скомкать. Это было большим несчастьем, так как не давало мне времени на появление среди публики, что, скучно или нет, но необходимо всякому человеку, занимающему такое ответственное положение.
В правительственном аппарате, где все еще ново, где люди не спелись, я являлся чем-то вроде связывающего цемента, и приходилось поэтому со всеми видеться лично и тратить время на смазывание государственной машины. Чрезвычайно трудно было наладить порядок среди ближайшей моей свиты. Считая это дело второстепенным, я откладывал все это изо дня на день, пока несколько мелких скандалов не указали мне, что и этим делом необходимо лично заняться. Хотя, скажу откровенно, в этом отношении я до конца Гетманства не успел установить тот порядок, который считал необходимым. Просто не было времени.
Помню, через несколько дней после провозглашения Гетманства, Василий Петрович Кочубей мне заявил, что весь съезд хлеборобов ш согрогс[69] хотел явиться ко мне. Я, конечно, охотно согласился принять этих людей. Большая гетманская зала была переполнена народом. Сказано было несколько хороших речей. Я отвечал. Хлеборобы выразили пожелание, чтобы у меня был составлен отряд исключительно из их детей, который бы являлся основой моей военной опоры. Я согласился.
Я тогда же почувствовал, что с Земельным Союзом у меня произойдет размолвка. Виною тому было то, что нигде я ясно ни с областними союзами, ни с отдельными видными представителями землевладения определенно не договаривался. Они как-то считали, что стоит меня избрать, и все пойдет по-старому, и что этому, старому я вполне сочувствую. Поэтому во всех своих обращениях ко мне представители губернских и других союзов землевладельцев высказывались со мною очень определенно и считали, что я всецело призван защищать исключительно их интересы, а что до общего вопроса народа, создания государственного порядка, мне дела нет. На самом, деле они глубоко ошибались. Я с ними сильно расходился во мнениях. Поэтому, когда они увидели, что я не так уж слепо иду согласно их желаниям, стала появляться масса депутаций, потом некоторое будирование, переходившее временами чуть ли не в совершенно определенный разрыв. К этому нужно отнести и выходку Пуришкевича{188}, на которую его толкнули помещики на съезде хлеборобов и которая очень повредила моему делу{189}.
Во время октябрьского съезда хлеборобов образовалась новая партия, отколовшаяся от съезда земельных собственников. Эта партия имела будущность, была вполне лояльной и могла принести большую пользу при разрешении аграрного вопроса. Если все хлеборобы во время, весеннего съезда 29 апреля и собрались воедино, то это было естественно. И помещики, имевшие тысячи десятин земли, и селяне, имевшие всего две, объединились против проведения в жизнь третьего, Универсала Центральной Рады, где указывалось, что земельная собственность отменяется. Но естественно, что за время гетманства, когда собственность на землю была восстановлена, должна была начаться, дифференциация в среде хлеборобов. Это было естественно и законно. Крупные земельные собственники, ведущие за собой всю толпу хлеборобов, решительно восстали против этого и старались не столько проведением, разумных и законных мер к удержанию всех селян в своей среде (из которых, конечно, главная была бы действительное признание, необходимости аграрной реформы), сколько заигрыванием и всякими наветами на отколовшихся заставить их не выходить из союза., Эта новая группа была у меня. Я, повторяю, ничего предосудительного в ней не видел и, даже более, считал нужным ее поддержать. Если бы эта группа разрослась, правительственная власть несравненно более могла бы опереться на нее, нежели на Союз Земельных Собственников, которому и Украина, и реформы были не интересны, и нужно было им одно — сохранить свою землю. Политика этого союза была глубоко ошибочна. Она, главным образом, питалась надеждой, что Entente-а будет их мнения, что она восстановит старые помещичьи землевладения. Я приехал на съезд, где простые хлеборобы меня очень дружно приветствовали, я ушел оттуда довольный и счастливый. Но, видимо. мой приезд не всем понравился, и тогда выступил Пуришкевич, который сказал речь, в которой говорил только об единой России. Ему тоже, как у нас водится, кричали очень дружно. В результате, во всех украинских партиях забили тревогу. К чему, спрашивается, было это делать? Я понимаю, если бы за помещиками была сила, если бы они опирались на кого-нибудь, они же на самом деле дышали на ладан и жили только мною.
Работа в совете министров и в министерствах шла усиленная. Меня очень озадачивал вопрос военного министра, я никак не мог найти подходящего лица. Я хотел генерала Кирея{190}. Он был хотя не генерального штаба{191} (по роду оружия он был артиллеристом), но это был человек, который по всем своим данным был вполне подходящ. Он несколько раз был у меня, но не согласился принять эту должность. Тогда я стал искать вне Украины. Мне указывали на генерала Кильчевского. Он приехал, но тоже не соглашался. Время шло. Нужно было во чтобы-то. ни стало заместить должность военного министра. У меня же положительно никого не было. Пока эту должность исполнял генерал Лигнау, но, конечно, зная, что должность военного министра так или иначе будет замещена и тем самым во главе министерства станет новое лицо, он занимался только неотложными делами. Я решил собрать всех корпусных командиров, назначенных при Центральной Раде{192}. Во время съезда я познакомился со старшим из них; генералом Рогозой{193}, бывшим командующим армией, и переговорил с ним. Он согласился принять портфель военного министра, и немедленно же был мной назначен. Генерал Рогоза, с которым мне пришлось работать, в течение почти восьми месяцев, занимая у нас одну из наиболее ответственных должностей, был во всех отношениях рыцарем без страха и упрека, но это же качество являлось и его большим недостатком. Будучи честным и благороднейшим человеком, он верил, что и его подчиненные таковы, а это было, к сожалению, не всегда так. Его обманывали, а он не допускал возможности этого. Я ему говорил неоднократно о том или другом лице, считая его сомнительным. Он не только защищал его, но и обижался на меня за подобные сомнения. Он верил своим подчиненным не только в смысле честного исполнения служебного долга, но даже и в политическом отношении. Раз генерал или офицер служил при гетманском правительстве, он считал, что у него, на душе только одно желание — принести пользу Украинской армии и гетману. На самом же деле революция внесла ужасную деморализацию в среду армейскую не только среди солдат, не только среди младшего офицерства, но и среди высшего командного состава. Я от природы человек подозрительный и недоверчивый, но и я никогда, до управления Украиной, не мог допустить, чтобы в нравственном отношении какой-нибудь генерал, прослуживший много лет на службе при старом режиме, который, как там ни говори, все же представлял собой серьезную школу, созданную целым поколением людей принципиальных, воспитанных победами, как такой генерал мог так низко пасть в нравственном отношении.
Что Петлюра подымает восстание, я понимаю и ничего против него не имею. Нахожу лишь, что он губит хорошее начало дела и сам себя быстро погубит. Во всяком случае, я рассуждаю о нем спокойно, без всякого пренебрежительного отношения. Но когда я узнаю, что генерал, присягнувший на верность Украине и Гетману, как вождю Украинской Армии, перескакивает в лагерь Петлюры, — меня берет омерзение к этому человеку. Эта продажность в таком лице для меня непонятна. Если не сочувствуешь, не иди в гетманское правительство; наконец, если уж денежные обстоятельства плохи, нечем кормить семью и т. д., иди в гражданскую службу, в хлебное бюро или частную службу, но не иди в армию. Это презрение является во мне отнюдь не результатом того, что эти лица в декабре пошли именно против меня и тем усилили моего противника, это чувство безотносительно должно явиться во всяком честном человеке, когда он видит мерзость. Я никакого чувства злобы и обиды не питаю ни к кому из тех, которые были против меня или содействовали своим поведением падению Гетманства, генералов [же] Грекова, Ярошевича{194}, командира Подольского корпуса, и особенно Осецкого я презираю в полном смысле этого слова. Генерал Рогоза им тоже верил, но в этом отношении он шел в своем доверии слишком далеко. Для него всякий, носящий офицерский мундир, был честным человеком, и мне стоило большого труда, чтобы разубедить его в этом.
Военное министерство того времени было тоже набито неподходящими людьми. Это были авгиевы конюшни, которые нужно было, за малым исключением, основательно очистить. Старый строевик, он жалел своих подчиненных и старался как-нибудь простить, перевоспитать, а те делали свое разлагающее дело. Много времени прошло, прежде нежели я настоял на улучшении состава военного министерства.
В смысле создания армии в первое время дело обстояло очень плохо. Здесь я тоже принимаю большую долю вины на себя. Но, стараясь быть объективным, я все же не вижу своей вины там, где, как я слышал, многие ее находят. Я признаю свою вину и вину военного министерства и всего высшего командного состава в том, что мы предполагали, что немцы будут стоять до поздней весны, и мы успеем сформировать настоящую армию, по последнему слову военного искусства{195}. Мы не учли, что в Германии будет революция, которая изменит все положение.
Я предчувствовал, что немцы не могут быть победителями, что они могут быть разбитыми. Я полагал, что в таком случае все интересы
Антанты поддержать нас, и это восстановит равновесие до того времени, когда я сам буду в состоянии ходить на собственных ногах. Эта неправильная мысль легла в основание всех наших мероприятий. Раз это принято в соображение, все наши действия в военной области будут понятны., При первом моем разговоре о формировании армии, генерал Греннер сказал мне: «К чему Вам армия?.Мы находимся здесь, ничего противного Вашему правительству внутри страны мы не разрешим, а в отношении Ваших северных границ Вы можете быть вполне спокойны: мы не допустим большевиков. Образуйте себе небольшой отряд в две тысячи человек для поддержания порядка в Киеве и для охраны Вас лично».
Меня это очень смутило. Я приказал произвести набор среди хлеборобов и решил сформировать Сердюкскую дивизию{196}, начальником которой немедленно же назначил бывшего у меня начальника дивизии, во всех отношениях выдающегося военного и видного человека, генерала Клименко. Дивизия, конечно, должна была быть доведена До нормального состава. На первое время предполагалась численность в 5000 человек.
В то время у меня с немцами были вполне приличные официальные отношения, но, видимо, доверия было мало. Я твердо решил добиваться разрешения провести программу Центральной Рады о формировании 8 корпусов нормального состава. Немцы долго не соглашались. На все мои запросы я получал уклончивые ответы. Наконец, в конце мая я получил ответу что немецкое «Оберкомандо» ничего не имеет против того, чтобыбыла проведена в жизнь уже разработанная программа еще при Центральной Раде, а именно, сформирование 8 корпусов, командный состав которых уже был наполовину набран. Система была принята территориальная. Восемь корпусов ложились на Украину довольно легким бременем, всего лишь 0,05 % мирного населения призывалось в войска{197}, что, по сравнительной таблице численности армии мирного времени всех европейских государств, ни в одной стране не было такой легкой тяготой для страны. Вместе с тем 8 корпусов, при правильной разработке всей системы мобилизации, могли дать в будущем очень серьезную армию Украине. Я был удовлетворен и думал, что дело Пойдет.
Мне нужно было подумать серьезно об офицерском составе. Как известно, лучшее кадровое офицерство было перебито еще за время войны, а затем во время нашествия большевиков. Большинство теперешнего офицерства производство военного времени. Наши школы прапорщиков во время войны были, в большинстве случаев, из рук вон плохи. Они выпускали молодежь, совершенно не знающую военного дела и, главное, совершенно не восприявшую военного мировоззрения и офицерских понятий. Элемент, который пропускался через эти школы, далеко не всегда был подходящ для того дела, которому предназначался; но все же наши военные школы могли дать несравнимо больше. Им можно было, привить любовь к родине, к армии. Их можно было бы гипнотизировать этими идеями, как делали немцы, а у нас, кроме казенного отношения к делу, ничего не было и им ничего не давали. В результате, по окончании школы мало кто по духу действительно был офицером, и немногие из них потом уже, на позициях, приобрели качества хороших офицеров, особенно во время революции, когда именно нам нагнали большие пополнения и служба этих людей ограничивалась сидением в окопах и ничегонеделанием{198}.
Для будущей армии нужно было создать соответствующие школы. Как это не было трудно, по мы надеялись создать пять школ{199}. План был выработан, несмотря на всевозможные проволочки. На должность главного начальника военно-учебного дела я пригласил профессора Николаевской Военной Академии, генерала Юнакова{200}. В подробности этого дела я вдаваться не буду, тем более, что все это теперь не имеет ровно никакого значения.
Одним из моих первых приказов было восстановление кадетских корпусов. В России у нас критиковали кадетские корпуса. По моему убеждению, это были далеко неплохие воспитательные учреждения, где как-никак воспитательная часть стояла значительно выше, чем в учреждениях министерства народного просвещения. Люди выходили оттуда и физически, и духовно здоровыми, приспособленными к восприятию дальнейших наук, а, главное, с некоторой выдержкой. У нас же одним из первых опытов Временного правительства в начале революции была передача корпусов в министерство народного просвещения. Нужно было видеть, как это отразилось даже внешне на облике кадетов. Раньше это были всегда воспитанные мальчики, военно подтянутые, с открытыми честными лицами. Видно было, что школа сохранит мальчика здоровым и в нравственном опюшении он будет человеком. После передачи корпусов в министерство народного просвещения дети стали просто хулиганами. Немытые, с растрепанными волосами, Бог знает как одетые, они слонялись по улицам, задевая прохожих, и производили ужасное впечатление, а о науках в этих учреждениях за последнее время и говорить не приходится. Я кадетские корпуса вернул в лоно военного министерства, но пришлось выработать более демократические правила для приема мальчиков в эти заведения.
Главное Управление Генерального штаба, начальником Главного управления Генерального штаба был полковник Сливинский. Он был еще при Центральной Раде. В то время я его видел один раз. Этот полковник почему-то вызывал всеобщее недоверие и озлобление среди кругов собственников. Неоднократно ко мне приходили и предупреждали, что Сливинский опаснейшее лицо, что это человек, который стремится сам сделаться гетманом, что он нарочно тормозит создание армии, что он находится в связи со всеми элементами, готовящими восстание и т. д. Дошло дело до того, что Бусло, начальник особого отдела при штабе гетмана, представил мне рапорт, в котором уведомлял, что Сливинский чуть-ли не убежденнейший большевик, что он покушался на убийство генерала Щербачева, главнокомащующего Румынским фронтом, и все в таком духе. Последний рапорт, конечно, мне показался сплошным вздором, тем более, что я знал, что, наоборот, будучи на Румынском фронте, Сливинский умудрился арестовать как-то какого-то крупного большевика, кажется, Рошаля{201}, если не ошибаюсь. Но все же эти разговоры о начальнике Генерального штаба, т. е. человеке, долженствующем явиться одним из ближайших моих помощников, конечно, не могли не отразиться на моем к нему доверии. Я решил предложить ему другое какое-либо место. Вопрос этот был решен, и я его больше к себе не приглашал, ожидая, что со дня на день он получит назначение, а потому мне делиться с ним своими мыслями не приходилось. Беда была в том, что у меня положительно не было кем его заменить. Были, конечно, в Киеве даже, могу сказать, блестящие генералы и штабс-офицеры Генерального штаба, по все они стояли исключительно за добровольческую армию генерала Деникина, против которой я ничего не имел. Но эта ориентация мне совершенно не подходила, так как там тогда проповедывалось полнейшее отрицание Украины. Выбор мой поэтому был очень ограничен, и сколько я не искал себе подходящего начальника Генерального штаба, найти не мог. В это самое время ко мне явился мой начальник штаба и описал мне Сливинского совершенно не в том свете, как его мне очеркивали раньше. Я стал к нему приглядываться, и постепенно у меня складывалось убеждение, что это чрезвычайно честолюбивый, но одновременно с этим умный и работящий человек, что на украинский вопрос он смотрит так же, как и я, а, кроме того, очень работоспособный. Я его тогда оставил на его прежней должности и не раскаялся. По крайней мере, я никогда не слышал потом, чтобы Сливинский был замешан в чем-нибудь предосудительном, с точки зрения нашего правительства. Даже во время восстания Петлюры его имени не упоминалось. Он был молод, конечно, многие из его же товарищей ему завидовали; но лучше, по-моему, иметь молодого помощника, нежели старого путника. И так мы уже сделали крупную ошибку, принимая в военное министерство старых деятелей, которые привыкли работать только в известных условиях организованного государства и армии, а выбираться из трудностей, в которых мы тогда находились, и самим творить заново были не в состоянии.
Я так подробно остановился на этом вопросе для того, чтобы указать условия моей работы, в особенности в смысле подыскания себе помощников. Людей положительно не было. Меня всегда то удивляло, что как-то все смотрели на ту работу, которую творили, как на дело, которое создавалось лично для меня, а не как на широкую государственную творческую работу.
Прошло два месяца с тех пор, как Гетманство пало. Я не успел закончить эти воспоминания, как уже те предсказания, которые я делал на первых страницах моих записей, сбылись.
Петлюра и Винниченко исчезли из Киева, дальше будет хуже, большевизм, зальет всю Украину. Не будет пи Украины, ни России. Неужели украинцам от этого лучше, или великорусские круги выиграли что-нибудь? Неужели моя деятельность носила какой-нибудь личный характер? Я далек был от этого и до сих пор не вижу ни малейшего повода к таким толкованиям. Меня этот вопрос настолько интересует, что я был бы очень благодарен, если бы мне кто-нибудь конкретно указал, на чем же собственно базировалось такое мнение. Такое заявление нисколько не затронуло бы моего самолюбия, так как, несомненно, вина в конце концов моя. Одно из основных достоинств всякого стоящего у власти — уметь убедить людей идти к нему, и для этого необходимо прибегать к, целому ряду действий несколько театрального характера. Я к ним не прибегал. Я настолько был убежден в правоте своего дела, настолько мало думал о себе, имея в виду только одно дело — создание порядка в этой, громадной стране, что верил, что ради этого меня поддержат без всяких демагогических приемов с моей стороны, которые несносны, мне. Мне казалось, что. каковы бы не были у людей. политические убеждения, кроме негодяев, которым в анархии легче ловить рыбу, все пойдут за мной. Украинцы потому, что никогда бы Украина не получила бы такого определенного облика государства, как при мне, никогда их мечты не были бы так близки к осуществлению, как за время Гетманства. Я настолько этим проникся, что и теперь не изменил своего взгляда. Я убежден, что Украина может существовать только в форме Гетманства. Конечно, роль гетмана должна быть существенно урезана в сравнении с теми правами, которые я себе лишь временно присвоил для проведения в жизнь всех тех начинаний, которые иначе проведены быть не могут. Великороссам и вообще лицам, отрицающим Украину, мне казалось, нужно было идти в то время со мной, так как это был единственный крупный оплот против большевизма.
С падением Гетманства последний оплот большевизма рухнул, так как Краснов{202}, взятый большевиками во фланге, тоже должен будет рано или поздно отступить перед большевиками. Что же касается Деникина, я, видя его честность, его преданность России, его организаторские способности, скажу: он ничего крупного сделать не может, Россия им не будет освобождена от большевиков. Скорее Колчак{203}, как человек он подходит, но я боюсь говорить об его Деле, так как мне вся обстановка, в которой он работает, мало известна.
Гетманская Украина представляла громаднейший и богатейший плацдарм, поддерживая здоровое украинство, тем не менее не была враждебна России. Все ее помыслы были обращены на борьбу с большевизмом. Только в направлении из Украины можно было нанести решительный удар большевикам, только Украина могла поддержать и Дон и Деникина, без обращения к Иностранным державам, будь-то немцам или союзникам. С падением Гетманщины будут или Петлюра с Винниченко, с его галицийской ориентацией, совершенно нам, русским украинцам, не свойственной, с униатством, С крайней социалистической программой наших доморощенных демагогов, которая, несомненно, приведет к большевизму, или же настоящий большевизм со всеми его последствиями, окончательным разорением того прекрасного края, с страшным усилением российского большевизма. Так как хлеб из Украины, — именно то, что недоставало большевикам, — польется широкой рекой на север, как результат — окончательный подрыв всякого уважения к небольшевистским начинаниям в бывшей России среди и союзников, и немцев, а затем уж трудно сказать, что будет. Меня даже не удивило бы, если бы на западе родилась теория сближения с нашими насильниками. Ведь не следует забывать, что запад населен людьми реальной политики, а не господами, парящими в облаках, как большинство русских, не говоря уже об украинцах, которые, ничего еще не имея, рисуют себе картину, что вся вселенная у их ног.
Казалось, что моя политика, ясна и для одних и для других, не только приемлема, но и желательна; Оказывается, что это было неясно. Почему, я спрашиваю себя, и не нахожу ответа. Может быть, внутренняя политика виновата. С этим я отчасти согласен. И роль помещиков в вопросе о вознаграждении за убытки, и не всегда подходящие на местах деятели, и, наконец, военная немецкая оккупация сильно раздражила народ, в частности и меня. Об этом мне придется позднее говорить подробно. Скажу пока лишь Одно: наши помещики стояли на точке зрения возвращения к старому. Они хотели не только до копейки получить за все, что было у них взято или уничтожено во время аграрных беспорядков, но, к сожалению, бывали и нередко случаи, когда они суммы своих убытков сильно преувеличивали. Пока власть правительственная не была еще налажена, помещики этим пользовались и всякими неправедными путями выколачивали деньгу из крестьян. Потом, по мере усиления власти правительства, эти факты прекратились.
Особенно в первое время на местах встречались люди, стоящие во главе уездов, совсем не подходящие. Помню, был в Сквирском уезде даже какой-то карательный отряд, который отчаянно бесчинствовал. Дошло дело до драки. Несколько офицеров были зверски убиты, причем отряд этот называл себя гетманским и собирал деньги с крестьян на гетманский паек. Когда я об этом узнал, было снаряжено следствие и виновные отданы под суд, но факт фактом остается. Наконец, немцы, и особенно австрийцы, далеко не вели политику, способную привязать к себе жителей Украины. Я неоднократно говорил с генералом Греннером и просил его совместно выработать систему, при которой немецкие войска оставались бы в стороне от народонаселения, чтобы паши власти поставляли все необходимое немецкой армии. Конечно, это было трудно, так как у нас самих власть еще не была налажена.
Но с немцами дело еще шло, с австрийцами же дело не клеилось, так как там грабеж просто-напросто был узаконен, и всякие мои разговоры с австрийскими представителями ни к чему не вели. Взяточничество и обман были доведены там до колоссальных размеров. Все это было отвратительно, но дело в том, что, несмотря на все эти отдельные факты, народу жилось лучше в общем, нежели раньше и позже, так как все-таки была какая-то власть и намечался порядок. Всякий хозяин знал, что он может выйти на свое поле и что результат работ будет его; он знал, что никакие набеги на его дом разрешены не будут и т. д. И вот почему только бездомная голытьба участвовала в восстаниях Петлюры и Шинкаря, — У первого главную роль сыграли возвращающиеся после краха Австрии пленные, а села мало реагировали на его отчаянные призывы{204}. Не народ, с началом немецкой деорганизацни, поднял мятеж, народ хотел одного лишь спокойствия. Это было. дело украинских социалистических партий, — для которых рисовалась заманчивая картина захватить власть перед предполагающимся приходом Entente-ы. К этому их также подбивали галичане, которым важно было представить Entente-е не настоящую картину той Украины, которая действительно существует, т. е. имеющую резкую грань между галицийскою Украиной и пашей. На самом деле это две различных страны. Вся культура, религия, мировоззрение жителей совершенно у них иные. Галичане же хотели представить Entente-е картину якобы единой Украины, которая вся крайне враждебна к идее России, причем в этой Украине главнейшую роль играли бы сами галичане. Наш народ этого не захочет никогда. Что галичане так поступили, это логично. Они только выигрывали, что наши социалистические партии шли на это; это тоже понятно. Ни я, ни правительство не хотели крайнего социализма, в особенности нашего русского обеспочвенного, немедленно вырождающегося в буйный большевизм. Но почему украинские умеренные партии не понимали, что гибнет их заветная мечта, так как-даже федерация даст полную возможность развития украинского народа. Почему русские всех оттенков считали, что гетманская Украина может погибнуть, не задевая их, мне очень хотелось бы на это получить ответ. Обвинения в недемократичности — ложь. Один уже всеобщий избирательный закон в Сейм{205}, открытие которого должно было состоятся 15-го февраля 1919 г., опровергает это заявление.
Я увлекся. Возвращаюсь к работе шейного министерства в начале Гетманства.
Генерал Рогоза, как я говорил раньше, застал министерство в отвратительном состоянии, там совершенно не было в настоящем смысле военной организации. Какие-то молодые люди носили мундиры различных чинов и покроев, но были ли это военные и офицеры в частности, никому не было известно. Эта компания занималась больше политикой, нежели порученным им делом. Впервые же дни управления министерством Рогозой ему пришлось сменить начальника канцелярии, какого-то полковника, так как оказалось, что появляющиеся от времени до времени прокламации против нового правительства печатались в типографии военного министерства. Этими господами тогда был устроен какой-то сбор в здании военного министерства и провозглашалось… «Смерть Гетману'? при общем сочувствии всех этих маленьких Маратов. Каких трудов мне стоило, чтобы Рогоза от решил от должности командира Киевскою корпуса, который, может быть, был и почтенный генерал, но ровно ничего не делал и, несмотря на безобразия в Охочьем полку, ничего не предпринял для приведения его в порядок.
Несмотря на это, с первого же дня в военном министерстве пошла работа по созиданию армии. Разрабатывались программы школ, вырабатывались уставы новой воинской повинности, особенно дисциплинарный. С последним вышла неприятность: генерал Рогоза, желая быть либеральным, сам взялся разработать устав и внес туда много новшеств, которые дисциплинарную власть, в особенности младших начальников, низводили почти на нет. Конечно, все это было бы хорошо, если бы при этих условиях армия все же могла бы быть боеспособна и дисциплинирована, но, уже проученные опытом, мы знаем, что значит отнимать дисциплинарную власть от начальников. И я, и корпусные командиры, приглашенные мной для личного выяснения многих вопросов, решительно воспротивились этому. Старик обиделся, но подчинился. Вообще, я о генерале Рогозе всегда сохраню память как о хорошем человеке, но в революционное время создавать армию ему было не по плечу.
Дело все же шло. Мы решили, что к весне у нас должна была бы быть армия уже вполне подготовленная, и она была бы. В уставе по воинской повинности решено было сделать некоторые изменения в том смысле, чтобы главная тягота службы ложилась на имущественный класс. Мы считали, что это единственное средство обезопасить себя от большевизма. Хотя, по опыту Сердюцкой дивизии, этот способ комплектования новобранцев у нас в конце концов вряд ли принес бы существенную пользу, как это и оказалось впоследствии. Дело в том, что мало есть людей, в двадцать лет обладающих какой-нибудь собственностью, а если родители их состоятельны, то это еще не значит, что дети не подвергнутся заразе большевизма. По крайней мере, командиры полков Сердюцкой дивизии мне об этом говорили, указывая на целый ряд примеров. Помощниками у Рогозы был генерал Лигнау, о котором я говорил выше, п. генерал Корниенко по хозяйственной части. Этот генерал до сих пор для меня остался энигмой[70]. Работал ли он хорошо или нет, я ничего про него сказать не могу. Рогоза стоял за него горой. И хотя условия хозяйственной части были у нас очень тяжелы, все же я не так уж уверен, что у Корниенко не было злой воли при проведении некоторых мероприятий. Было ли это случайностью, падает ли вина на генерала Корниенко или нет, но факт тот, что, получивши уведомление, что Харьковский корпус не имеет оружия (я за этим следил лично), я неоднократно запрашивал сам у Корниенко, выслано ли оружие, и, наконец, получил лично от него уведомление, что оружие выслано. Потом оказалось, что оружие не посылалось. Наступили тяжелые времена, и я не успел выяснить всего этого.
На Украине остались запасы всевозможного оружия, снарядов и самого разнообразною имущества от наших дейстующих армий. Эти, по своей величине сказочные запасы, были раскинуты по всей Украине. Конечно, главная их масса находилась в ближайшем тылу наших бывших армий, в Подольске-Волынской и части Киевской губерниях. Я не понимаю, чем вызывалась та ничтожная выдача, которая производилась у меня в Украинском корпусе иногда самого необходимого оружия, обмундирования и снаряжения, когда в тылу была полная чаша всего. Как бы то ни было, то, что находилось на Украине, было достаточно для снаряжения не одной, а нескольких крупных армий. Все это имущество еще во времена Центральной Рады было передано в военное министерство, причем заведывал этим делом некий генерал Стойкий, бывший начальник этапно-хозяйственной части Особой армии, человек чрезвычайно оборотистый. Я не хочу его в чем-либо обвинять, но факт тот, что утечка казенного имущества и незаконная его распродажа достигла колоссальных размеров, особенно в имуществе санитарного и обмундировочного отделов. Чувствовалось, что если не принять быстрых мер, имущество, являющееся такой громадной ценностью в паше время, может растаять без всякой пользы для государства. Вопрос этот обсуждался в совете министров, и здесь для меня совершенно неожиданно пришли к новому решению. Все направление министров вообще было против всего военного, и тем самым, против создания армии. Большинство совета не верило в возможность из этого распропагандированного населения выработать настоящих солдат. Не верил особенно Кистяковский{206}, в скором времени сменивший Гженицкого на посту державного секретаря и поэтому заседавший тоже в совете. Так же не верили остальные министры в возможность иметь хороший кадр офицеров и не рассчитывали на бессребрепность наших интендантских органов — в то время общего развала, Гомерической спекуляции и самого наглого и бесстыдного воровства. Исходя из этого взгляда, они решили выделить все имущество, оставшееся после распадения бывших армий, и передать его в ведение особенного уполномоченного по делам имущее гв, оставшихся по демобилизации армий. Этому особо уполномоченному были присвоены громадные права, и на этот пост совет выставил Юрия Кистяковского. Его мне рекомендовали как человека выдающейся воли и энергии. Мотивом для этого выделения имущества из состава военного министерства служило то, что, будучи совершенно обездоленными и лекарственными средствами, и мануфактурой, часть этого материала должна быть передана населению, а потому лучше, чтобы всеми этими делами руководило одно учреждение, не заинтересованное ни в одной, ни в другой стороне. При этом мне сообщили сведения о количестве расхищенного имущества. Картина отвратительная. Военный министр Рогоза в сонете согласился, я утвердил. Эта система, которая имела много оснований, была неправильна в корне, так как при существующем тогда направлении умов среди министров в вопросе О создании армии военное министерство стало как бы неравноправным. Оно было лишено собственного имущества и принуждено было за всем обращаться к особоуполномоченному, что при взаимном недоверии лиц, служащих в военном министерстве и в главном управлении по ликвидации военного имущества, создало лишние трения и проволочки времени, причем эти дела часто доходили для разбора ко мне. Со временем всякими дополнениями к закону об особоуполномоченном кое-что было изменено к лучшему, по все же дело это не было поставлено до конца правильно.
Кадры корпусов всюду набирались, в офицерском составе чувствовался большой недостаток, особенно в хороших кадровых офицерах. Причиной тому было то, что в тот момент, когда подходящих офицеров было много, я не мог добиться, от немцев соглашения на формирование корпусов, как об этом я указывал выше. За это время вербовочные бюро Деникина, о которых немцы не знали, по которые у нас функционировали, набрали очень мпого хороших офицеров. Таким образом, когда я, наконец, добился своего, офицерский вопрос стал довольно остро, но особенно плохо былое унтер-офицерами. Последние являлись, но были совсем неподходящими для настоящей, армии, элементом почти что большевистским. Все же с некоторым выбором их временно набирали, рассчитывая главным образом выработать за зиму своих уже унтер-офицеров, воспитавши их во вновь сформированных школах. Следовательно, для постоянной новой армии создавались все учреждения воспитательного и вспомогательного характера. Кадры восьми корпусов и Сердюцкой дивизии формировались. Оружия и всякого имущества было довольно, но оно было разбросано по всей Украине. Казарм не было, так как старые хорошие были заняты немцами и австрийцами, остались лишь полуразвалившиеся, или же их совсем не хватало. Заготовок по продовольствию и фуражу не было, нужно было заготовлять. Министры относились, особенно первое время, чрезвычайно отрицательно к вопросу формирования армии и урезывали всюду ассигновки, не давая тем самым возможности стать армии в денежном отношении на твердую ногу. С другой стороны, у генерала Корниенко не клеился как-то сметный вопрос, пока это не дошло до меня, Я устроил общее заседание с товарищем министра финансов, Курилло, и тогда как будто дело пошло лучше.
Кроме. кадров постоянной армии, У нас была еще бригада Нагиева{207}. Нагиев, грузин по происхождению, еще при Раде, до большевиков, взялся за формирование отдельной части, которая принимала участие в январских киевских боях, На нее обратила внимание Центральная Рада, и тогдашнее министерство дало Нагиеву возможность усилиться. Направили Натнева, кажется, сначала для приведения в порядок Екатеринослапской губернии, а затем в Таврическую. Нагиев военный человек, ц, я думаю, — хороший, во всяком случае, я знаю, что бригада его дралась недурно. У него был набран, за малым исключением, всякий сброд. Мне говорили, что в национальном отношении это было какое-то смешение языков, но, благодаря появлению там нескольких украинских самостийников, бригада со временем все же приняла некоторый украинский облик. Пока эта бригада была в бою, как я говорил выше, она приносила пользу. Рада платила очень большие деньги, чуть ли не триста рублей солдату, что по тогдашним временам было заманчиво.
Когда же пришли немцы и большевики окончательно скрылись, в бригаде начались, как это всегда бывает с такими частями, набранными с бору да с сосенки и стоящими без боевого дела, скандалы и разложение. Я часто получал предупреждения, что у Нагиева творится что-то неладное, что там подготовляется бунт и восстание против меня, но при посылке туда для расследования всегда все ограничивалось сравнительно несерьезными поступками. Немцы мне предлагали расформировать эти части из-за их неблагонадежности, я же этого не хотел, во-первых, потому, что как-никак, а это единственные части, которые у меня существовали, которые уже на деле доказали свою пригодность; во-вторых, уж почему — я не знаю, По факт тот, что у Нагиева было громадное количество всякого имущества и оружия, которое, в случае расформирования этих частей, могло быть конфисковано немцами.
Ввиду этого, я решил постараться очистить эту бригаду от элементов преступных. Так как Нагиев был хотя и хорошим военным, но человеком слабым в той новой сравнительно мирной обстановке,'в которую ему с бригадой пришлось попасть, я назначил взамен его некоего генерала Бочковского, прекрасного. начальника дивизии. Я его знал еще во время войны, когда я временно командовал 8-м корпусом Деникина.
Бочковский стоял во главе, тоже временно, 14-ой дивизии, и мне он тогда очень понравился как решительный, твердый и знающий свое дело человек. Кроме этой бригады, было еще около 160000 всяких войск, сформированных при Центральной Раде. Все это были наемные солдаты, большинство из которых никак нельзя было разоружить; несмотря на наше желание, так как почти все они несли караульную службу при учреждениях и складах.
Еще Флейшман заявил мне, что Австрия организует части из украинцев-военнопленных. Он показывал мне мундирную их одежду и очень носился с этими формированиями. Я по опыту знал, что из военнопленных, пробывших в большинстве несколько лет в плену, особого толка не выйдет. Немцы весною тоже привели дивизию «Сынежупанников». Все с этой дивизией носились, находили ее вышколенной, потом же пришлось ее спешно расформировать. Это были люди, которым совершенно не хотелось драться против большевиков{208}. Я думаю, что то же самое произошло с дивизией, сформированной австрийцами [«Сирожупанпиками»]. Кроме того, я совершенно не был убежден в том, что она воспитывалась в желательном мне духе. В июле я видел один сводный полк. Люди были, как я и ожидал, негодны. Офицерский же состав мне поиравнлея. Смотр был очень торжественный. Офицерство было потом приглашено ко мне на завтрак, я долго с ними говорил. К сожалению, я не видел остальных полков, между прочим, некоторые из них уже во время восстания тоже стали на сторону Директории, хотя об этом я еще не имею окончательных данных{209}.
Вот и все военные силы, с которыми мне пришлось иметь дело после провозглашения Гетманства.
Я уже неоднократно говорил, что немцы вначале не хотели допускать украинской армии. Это всегда говорилось в очень любезной форме, по ясно было, что тут играют роль какие-то причины, которые мне не были известны. Конечно, тут была боязнь, как бы я, сформировав при их помощи армию, не пошел бы против их самих. Это было бы даже при желании мудрено, имея более 400 тысяч человек немцев и австрийцев на своей территории, но во всяком случае, я думаю, что немаловажную роль в этом отношении сыграл некий полковник, Freilicrr von Slolzenberg, о котором я тоже как-то упоминал. Этот господин вел какую-то особую политику, не столько немецкую, сколько австрийскую, в то время очень ясно вырисовывавшуюся. В общем, это была политика крайнего украинства, галицийского направления. Немцы. же в этом отношении смотрели на дело несравненно разумнее.
И вот я узнал, что в то время, когда я уже был гетманом, у Штольценберга были усиленные переговоры с Голубовичем и со всеми наиболее видными деятелями Центральной Рады. Хотя я знал Штольценберга, но совсем не понимал его действий я решил взять быка за рога и поехал к нему. Как мне говорили потом немцы, это ему очень польстило. В разговоре с ним я увидел, что он действительно стоит за то, чтобы все министры у меня были исключительно украинцы известного шовинистического толка. Он выражал полное сочувствие некоторым из деятелей, от которых мы только что освободились, и, когда я заговорил с ним об армии, он как-то так настойчиво указывал мне, что армии мне не нужно, что я тогда же подумал: не он ли является виновником того, что мне не дают права на формирование желательных мне 8 корпусов. Я тогда же решил, что нужно от него как-нибудь освободиться, и при первом же удобном случае намекнул об этом генералу Греннеру. Штольценбгерга тогда убрали, по он перед отьездом был у меня и сказал мне, что теперь он мою политику понимает и разделяет в главных вопросах мое мнение. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что тут не обходилось без давления того же хитрого Флейшмана, который несомненно имел большое влияние на Штольцепберга. Когда Штольценберга уволили, у меня с немцами установились вполне приличные отношения, которые в общем выражались в том, что я шел навстречу их желаниям, когда это не наносило нам серьезного ущерба или могло быть истолковано впоследствии выходом моим из того состояния полного нейтралитета, в котором мы находились.
Генерал Греннер свою известность, насколько я знаю, приобрел главным образом во время своего военного управления железными дорогами в Германии во время войны. Лично у нас установились хорошие отношения. Я никогда не видел в нем желания что-нибудь урвать, что, к сожалению, широко практиковалось его подчиненными, которые каждый шаг, каждую бумагу истолковывали в пользу Германии, а когда это все не выходило, то не гнушались указывать на то, что сила может дать и право. Этого в Греннере совершенно не было. Поэтому я ему указывал го всех чрезвычайных случаях на то, что так нельзя, и он принимал у себя меры к прекращению этих безобразий. В вопросах политическом и национальном он разделял мое мнение, что создать государство с теми наличными силами украинцев, которые были у нас, совершенно невозможно. Он прекрасно разбирался во всех подвохах австрийцев и парировал немедленно их удары. Вообще, если бы не было Греннера, особенно в первое время, мне было бы значительно труднее. Я видел, что я имею дело хотя и с начальником штаба армии, которая, конечно, не пришла сюда ради наших прекрасных глаз, но во всяком случае с человеком вполне приличным, благожелательным, широких политических взглядов, безусловно честным настолько, что не стеснялся при мне неоднократно критиковать немецкую политику за их заигрывание с большевиками, и когда я ему говорил, что это унизительно для такой страны как Германия, что это не доведет и Германию до добра, он. совершенно откровенно высказывался в том же духе, указывая, что он неоднократно писал об этом в Берлин. При этом он говорил: «Что с ними поделаешь? Они там не видят». Вообще, высшее немецкое командование на Украине в мае. месяце 1918 г. состояло из блестящих людей. И Эйхгорн, и Греннер эти два выдающихся немецких военноначальника и разумных политика.
В мае месяце я дал обед в честь фельдмаршала Эйхгорна, со всем советом министров и старшими чинами «Оберкомандо». Немцы любят хорошую еду. Нужно было видеть, с каким умилением старик фельдмаршал ел приготовления нашего повара. Через несколько дней мне был дан обед в «Оберкомандо» фельдмаршалом.
У нас у всех странная черта (я это особенно часто наблюдал в Киеве, видя массу людей): война и все последующие события как-то разделили у нас всех людей на два лагеря, на антантофилов и германофилов, причем сторонники одной и другой стороны доходят в своей любви к тем или другим странам до крайностей, совершенно забывая, что сип прежде всего русские, украинцы или поляки. Поляки, как это ни странно, тоже подвержены этому и даже в более страстной форме. Я знал в Киеве одного видного поляка, ярого германофила, который явился ко мне для Того, чтобы предупредить о всех планах Entente-ы против немцев, предполагая, вероятно, что это дойдет до немцев. Я этой точки зрения не понимаю. Русский, украинец или поляк (к сожалению, теперь все эти народности находятся в отвратительном положении, некоторые даже гибнут), я понимаю, что в нашем положении, когда не видишь просвета, можно прибегать и к Entente-e, и к немцам, смотря что возможно и что выгоднее для своей страны, но, приходя к ним, все же нужно оставаться тем, чем ты родился, т. е. русским, украинцем или поляком. У нас же этого нет. Если он антантист, то он готов родину продать для торжества Entente-ы и своего земляка для блага Германии. Я не считаю себя лучше других, но у меня этих крайностей нет Я не германофил, не антантист; я готов честно работать и с теми, и с другими, если они дают что-нибудь моей стране. Это не значит идти по ветру и выискывать где лучше, нет. Если бы кто-нибудь задался целью вникнуть в мою политику на Украине, он бы мог видеть, что я честно относился и к немцам, и к союзникам. Когда мы были отрезаны от союзников, я работал с немцами, стараясь извлечь сколько возможно более для нас пользы и дать минимум, но относясь честно к принятым обязательствам. Когда у немцев вспыхнула революция, я им сказал откровенно, что я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы войти в соглашение с Entente-й, и так же честно относился бы к своим обязанностям по отношению к Entente-e, итак же старался бы получить от них максимум при договорах, давая им минимум. Если у. человека всегда на первом плане его родина, другого способа действий быть не может. Когда я имел возможность помочь союзникам или покровительствуемым ими народностям, я Это делал. Помню, сколько неприятных минут я пережил, когда, кажется, генерал Осинский командир польского корпуса, хлопотал о том, чтобы его корпус не расформировали, а затем история с арестованными консулами, являющимися в глазах немцев шпионами, сколько дали беспокойства. Я хочу сказать, что я всегда считал необходимым выделять себя из, числа германофилов и из числа поклонников союзников, оставаясь искренно благожелательным и к тем, и к другим. Я убежден, что мы только таким образом можем внушить другим государствам уважение к себе. Мне эти паши славянские крайности непонятны. Мне скажут на это, что мы вели войну с немцами, имея на своей стороне союзников; и должны оставаться с этими союзниками. Я считаю, что прежде всего мы должны были бы воевать до конца с союзниками против немцев. Это не было сделано, и не по нашей вине, так как у нас разразилась втылу и в армии революция, какой свет еще не видал. В этой революции, так несвоевременно разразившейся, не только виновны руководящие круги России, очень виноваты и немцы, которым на руку была анархия в России. Очень виноваты были и некоторые из наших союзников, которые России не понимали и не думали, что La Revolution Rose[71], как ее называли французы в некоторых из своих газет, окончится лишь свержением государя. Раз воевать было фактически нельзя, нужно было думать лишь о спасении своей страны от все увеличивающейся анархии и рассчитывать на свои собственные силы, а если невозможно было рассчитывать на успех, прибегнуть к силам иностранных государств. Но, прибегая к иноземной поддержке, это, повторяю, не значит становиться французом или Немцем, а это значит оставаться тем, чем ты есть, — русским, украинцем или поляком, и взамен некоторых выговоренных ценностей, требуемых за услуги, эти услуги получать.
Как я уже говорил, — министерство финансов было в зачаточном состоянии. Ржепецкий много сделал для правильной постановки дела Он выработал новую налоговую систему, учредил Державный банк, Земельный банк, перетянул старых служащих из Петербургской экспедиции заготовления бумаг и блестяще поставил это дело… В первый период Гетманства Ржепецкий и я старались как можно скорее отделаться от русских денег. Помню, это предполагалось произвести в середине июня. Операция эта была чрезвычайно сложная, так как требовалось накопить предварительно около миллиарда украинских денег для того, чтобы беспрепятственно произвести обмен русских денег на украинские. Министерство из первых же дней начало к этому готовиться. Из составленной сметы обыкновенных приходов и расходов получилась картина довольно радужная. Единственно, что было очень неприятно, это тот громадный дефицит в 600 миллионов рублей, который очевидно, дали бы железные дороги, хотя Бутенко это отрицая.
Насколько хорошо было иаше финансовое положение еще в октябре, доказывает то, что мы с Ржепецким надеялись, что смета нового года будет проведена без дефицита. Помшатакую подробность:,велись переговоры по валюте с немцами. Мы считали, что заключили ужасно невыгодную сделку с ними, что немцы могли нас только силой заставить согласиться на это. А дело заключалось в том, что пришлось на то, чтобы марки принимались по курсу в 85 коп. На самом же деле их можно было скупать по 65 коп. А теперь карбованец стоит 60 пфеннингов.
Очень обвиняли Ржепецкого за то, что он недостаточно обращал внимание на взимание прежних налогов. Не берусь судить в таком сложном вопросе, насколько Ржепецкий был тут виноват, во всяком случае, им наэтотвопрос обращалось много внимания. Предполагалось учреждение и открытие нескольких банков. В этом деле я не соглашался с политикой Ржепецкого, и мне казалось, что он слишком был пристрастен к одним и недостаточно, требователен к другим. Этот вопрос настолько был для меня важен в смысле выяснений, что я просил Лизогуба обратить на него особое внимание. Идти на какие-либо уступки немцам Ржепецкий считал немыслимым, и не потому, что это были немцы, он просто как хозяин был скуп и берег каждую государственную копейку. Левые партии обвиняли Ржепецкого в том, что он субсидировал сахарную промышленность; я находил, что в этом отношении он был вполне прав. Весь вопрос состоял в том, чтобы в первую голову поднять промышленность. Как же ее было не субсидировать?
Он формировал Корпус пограничной стражи. Командиром его был назначен молодой генерал с Георгием на шее, Васильев. Дело продвигалось туго. Во всяком случае, как плохо это не подвигалось из-за того, что все платные солдаты был тот же распропагандированный элемент, все-таки корпус своими арестами контрабанды себя окупал.
Так как народ спаивался самогонкой, производство которой процветало во всех деревнях, и на эту самогонку тратилось громадное количество зерна, решено было восстановить винную монополию, которая в первый же год давала значительный доход.
Ржепецкий не производил каких-нибудь эффектов новыми финансовыми операциями, не поражал всех своими блестящими комбинациями, этого не было. Он просто налаживал правительственный аппарат, без которого положительно ничего нельзя было провести.
В политике с Великороссией я считал необходимым принять все меры к тому, чтобы освободиться от Петроградских и Московских банков, и входил в соглашение с местными отделениями всех тех банков, чтобы на первых порах сделать их широко автономными. Но с Ржепецкий, как и со всеми остальными министрами и со мной, получалась та же самая история, требовались какие-то экстренные реформы немедленно, а этого, при честном исполнении дела, нельзя было сделать. Прежде'всего необходимо было наладить правительственный аппарат, и тогда лишь можно было подумать об эффектах, если они были необходимы.
У Ржепецкого был действительно образцовый состав высших служащих, все это были выдающиеся люди из Петроградского министерства. Я могу обвинять Ржепецкого только в его удивительной недальновидности в вопросах внутреннем и внешней политики. Обладая даром слова и занимая, благодаря своему характеру, выдающееся положение в совете министров, он, пользуясь своим влиянием, из-за непонимания им общей обстановки, затормозил несколько хороших начинаний. В вопросе армии он тоже был неприятен. Военному министру, не острому на язык, приходилось положительно выколачивать каждую копейку, и время на это тратилось зря.
Читая теперь газеты; я часто встречаю в них указания на реакционную политику нашего правительства. Я с этим, объективно рассуждая, совершенно не согласен. Уж по одному своему составу можно было бы видеть, что там какой-нибудь реакционности нет места. Все министры, которые были в кабинете, были деятелями Временного правительства. Это верно, что министры подвергались атакам справа, что в провинции попадались люди, действовавшие, особенно первое время, реакционно, — не подлежит сомнению, но что все направление и дух правительства этим страдали — это сознательная или бессознательная выдумка. Мы задались целью провести демократические реформы, так же как и аграрную. Я и теперь считаю, что далее идти пока нельзя было в своих начинаниях. Да, впрочем, мы уже видели несколько примеров, из них последний — киевская Директория{210}, просуществовавшая в Киеве не больше трех педель, покатилась в сторону большевизма, не имея возможности удержаться на точке разумного социализма. И так будет у нас впереди еще очень долго. Что бы ни говорили и наши и западные социалисты, занимающиеся благополучием нашей Украины….
Во главе министерства промышленности, стоял председатель Одесского биржевого комитета, Гутник, человек очень умный, очень хорошо мне рекомендованный, на которого я возлагал большие надежды. Фактически он ничего не сделал. У меня был ряд проектов. Я неоднократно говорил о них Гутнику, он все обещал, но ничего не предпринимал. А мог бы сделать, так как и времени, и знаний, и людей у него было достаточно; Не нужно забывать, что; убегая от прелестей коммунистической жизни, к нам на Украину съехалась масса торгового, коммерческого народа, полного энергии и желания работать. Министру следовало только дать толчок, и частная инициатива заработала бы. Но этого я не наблюдал. Люди, приехавшие для того, чтобы заняться здоровым делом, не находя отклика, или ничего не делали, или же пускались в спекуляции и наносили этим колоссальный вред стране. Я просил у Гутника насколько возможно больше демократизировать промышленность, считая, что это у нас теперь один из наиболее важных вопросов, но им ничего не было сделано.
У нас расхищали наш торговый флот, а также часть судов коммерческого типа, принадлежащих морскому ведомству и ему не нужных. Мировая война шла к концу. Был целый ряд проектов составить общество с полуправительственной, получастной инициативой и такими же капиталами для эксплуатации этих судов. Теперь, когда весь мир страдает от недостатка транспортных судов, такое общество приносило бы громадную пользу Украине. Гутник говорил: «Да, да», и ничего не сделал. В результате я был очень доволен, когда его заменил Меринг.
Я думал, что в Гутнике, как в еврее, я найду именно широкого коммерческого человека с инициативой, но ошибся. Он не принес пользы ни Украине, ни своим компатриотам, о которых тоже, видно, не заботился.
В первое время, кроме организационной работы, которая требовала много времени, был церковный вопрос, из-за которого в первые же дни Гетманства я попал в ужасное положение. Я был к нему очень мало подготовлен, а разбирать это сложное дело и вести всю политику этого вопроса пришлось мне. Я шел осторожно, ощупью, среди хора нареканий справа и слева.
Вопрос этот в жизни Украины имеет громадное значение. Обстановка была такова: одновременно с установлением Центральной Рады образовалась Церковная Рада{211}. В эту Церковную Раду вошли разнородные элементы. С одной стороны, туда попало несколько либеральных священников украинцев, находящих, что на Украине духовенство находится под гнетом высшего церковного духовного управления и что необходимо, чтобы впредь все высшее духовенство было назначено из украинцев; чуда же попало несколько расстриженных священников и выборные люди, далеко не всегда представляющие из себя деловой и рассудительный элемент, было также несколько солдат. Церковная Рада в таком составе представляла из себя революционное учреждение, не считающееся ни с церковными канонами, пи правами, сочувствующее всяким переворотам, если нужно, то и насилиям. Это учреждение повело решительную борьбу против существующего тогда высшего духовенства на Украине, почти сплошь великорусского; Оно же. в украинском вопросе стояло за украинизацию Церкви, за то, чтобы богослужения, исправлялись на украинском языке, а главное, за отделение украинской церкви от московской, другими словами, за автокефалию. Последнее, кажется, предполагалось объявить при помощи украинских штыков, а если нужно, то пригласить к себе на Собор Константинопольского и Антиохийского патриархов. Еще при Церковной Раде собрался украинский Церковный Собор, в который целиком вошла Церковная Рада, и она-то там имела главенствующее значение. Но в январе пришли большевики, и Церковному Собору пришлось немедленно разъехаться. Затем, с водворением Центральной Рады в феврале месяце, Церковный Собор был восстановлен и начало его заседаний было назначено Центральной Радой, кажется, на 5-е или 6-ое мая. Но тут произошло следующее: еще зимой митрополит Владимир был зверски убит в Киево-Печерской Лавре. Временно управлял митрополией Киевский преосвященный Никодим. Необходимо было назначение нового митрополига. На последнем особенно настаивал Никодим. Конечно, он не выносил даже имени Церковного Украинского Собора и Церковной Рады, наделавших ему столько хлопот. На место митрополита, он и его сторонники боялись, чтобы не попало Лицо, которому бы симпатизировал Украинский Церковный Собор. Поэтому и большинство архиереев не желали созыва Собора. Они доказывали, что Собор незаконный. Украинцы же, члены Собора и Церковной Рады, большими депутациями являлись ко мне. Одни доказывали, что невозможно и чуть ли не преступление собирать Собор, другие же, наоборот, находили, что не собирать Собора — значит пренебрегать интересами украинского народа. Это значит, что архиерей будут по-прежнему жить и глумиться над маленьким местным духовенством и т. д. Первые с пеною у рта и большим озлоблением выставляли, что Украинский Собор ведет к унии; вторые с пеною у рта доказывали, что СОбор ничего общего с униатством не имеет, что, наоборот, из-за архиереев, действующих только насилием, находящихся очень далеко от сельского духовенства и народа; возможно проникновение униатства. — Я решил, что Собор должен состояться. Исходил я с той точки зрения, что, когда впервые Он собрался в том же составе; считали же его каноничным и даже законным Московский патриарх{212} и архиереи, на каком же основании я теперь должен его запретить? Конечно, я не хотел разрыва с высшим духовенством И поэтому решил, что при удобном случае я с ним переговорю. В то время, не зная еще, какое направление примет общая политика, насколько я сумею удержать ее в Своих руках, я боялся очень, как бы не произошел Церковный раскол, если бы не нашлись пути к легкому разрешению этого вопроса. Я допускал возможным появление у нас двух Церквей: одной — московской, к которой примкнул бы почти целиком Киев, и другой — украинской, вкрапленной почти по всей территории Украины. Первоначально я хотел отложить начало заседаний Собора. Мне Это было паруку, так как я бы Имел время более основателыю ознакомиться с глубокой сущностью этого Вопроса и всеми его тайными пружинами. Но время не ждало, необходимо было Назначение митрополига, да и украинцы особенно настаивали на созыве Собора. Уж почему они настаивали, я этого понять не мог, так как ясно было, что они провалятся. Слишком, в общем, они были слабы, по они этому, видимо, не верили, переоценивая свой силы, и почти ежедневно ко мне являлись депутации с этой настоятельной просьбой. Великорусское духовенство хотело и добилось того, что на епархиальном Киевском соборе был избран харьковский преосвященный Антоний. Несмотря на обращение совета министров к патриарху Тихону, в котором правительство просило войти с ним в соглашение по поводу назначения митрополига, патриарх Ответил уклончиво и все-таки назначил Антония на Киевскую митрополичью кафедру{213}. Я думаю, что патриарх, при всем моем глубоком к нему уважении, был неправ в этом деле. Ну, да дело было сделано, пришлось найти и для этого выход.
Я тогда пригласил всех 13 епископов и решительно потребовал назначения срока созыва Собора. Они согласились. Созыв назначен был, если не ошибаюсь, на 7-ое или 14-ое июля. В совете министров было решено, что ничего не имея против назначения преосвященного Антония митрополитом Киевским, правительство передаст вопрос об окончательном признании его таковым Церковному Собору. Пусть сам народ решит это дело, близкое сердцу всякого православного. Митрополит Антоний был в курсе всех этих осложнений. Он, как человек безусловно большого ума, написал мне с большим достоинством письмо, в котором он признавал мою власть и приехал в Киев. Я его принял с подобающим почетом, но сказал ему определенно, что он принят мной не как митрополит Киевский, а как Харьковский, впредь до решения Собора, который открывал свою деятельность через несколько дней.
Как там уже это произошло, я не вдаюсь в подробности, но через несколько дней было торжественное служение в Софиевском Соборе в моем присутствии. Было сказано несколько прекрасных проповедей, в том числе митрополитом Антонием, и в результате Собор утвердил назначение митрополитом высокопреосвященного Антония. Мне пришлось с ним довольно часто видеться, и я считаю себя обязанным несколько остановиться на этой выдающейся личности. Но прежде этого хотелось бы высказать то мнение, которое я себе составил по поводу церковной распри, которая одно время, казалось, могла сильно разгореться у нас и неизвестно к каким бы она еще привела результатам. Думаю, чрезвычайно плачевным.
Лично я — глубоко верующий православный христианин. Бесконечно привязан к нашему православию, но не могу без искреннего сожаления смотреть на то, во что обратилась наша Церковь, благодаря возмутительной политике, которую вела старая правительственная Россия по отношению к рей. Вера задушена, убито все живое, святое в нашей религии, загублено, а осталась какая-то мертвящая, холодная обрядовая сторона. Во главе Церкви стояли и стоят до сих пор чиновники. Я знаю, что патриарх Тихон выдающийся человек по своему уму и духу, по он далек нам, украинцам, а главное, между нами и им барьер в лице тех же прежних архиереев и всех их присных. Вообще, я верю, что Россия возродится, но что она возродится только на федеративных или широко автономных началах. Точно так же и Церкви нужна децентрализация и децентрализация широкая. Нужно, чтобы положительно все церковные дела решались у нас, связь с Московской церковью должна быть духовная в лице патриарха. Нужно, чтобы высшее духовенство назначалось из местных людей, нужно воскресить православие, разжечь сердца паши любовью к вере, как было у нас в старину, а это только и возможно, когда люди, стоящие во главе, будут сами жить интересами народа и близко к нему стоять. Среди теперешних иерархов много очень почтенных людей, но каким образом человек, родившийся и всю свою жизнь пробывший, скажем, в Калужской губернии, может восприять среду и особенности населения
Подольской губернии? Духовное различие между калужским жителем и волыпским такой иерарх обыкновенно объясняет Стремлением к униатству или тайной работой последнего. А это Далеко не так. Все мировоззрение жителя севера и юга совершенно различны, ему не нравится великорусский архиерей, но это совсем не значит, что он тянет в унию. Последняя делает большие успехи у нас на Украине. Эти успехи временные, они не прочны. Я убежден, что эти успехи только и возможны ввиду того разлада, который существует у нас в Церкви. Сельское духовенство необходимо поднять, перевоспитать его. Но эти пришлые люди, стоящие во главе Церкви, не в состоянии сделать этого. В этом отношении я вполне согласен с украинцами, по они хотят автокефалию; я этого положительно не хочу. Не говоря уже о том, что автокефалия может создать церковную распрю у нас в народе, так как далеко не все даже того мнения, что и я в вопросе церковном, и не только не хотят автокефалии, но даже автономии Украинской Церкви, не говоря уже о том, что у нас в данное время нет людей, вполне подходящих для того, чтобы дать этой, Церкви при автокефалии должное направление. Но опасность является действительно в смысле распространения у нас униатства.
Униатство большая сила. Граф Шептицкий, человек чрезвычайно умный и ловкий, пользуется всяким удобным случаем для добывания себе прозелитов. Я читал распространяемые им листки. Они чрезвычайно ловко составлены. Он умеет захватить украинца и душой, и телом, играя на национальном чувстве и любви к Украине. Недаром он все более и более импонирует нашей украинской молодежи. Вот, если бы наше высшее духовенство брало бы пример в этом отношении с него, я думаю, мы бы все пылали любовью к своей вере. Несчастье также и в том, что и в социальном отношении паше высшее духовенство не подходит к народу, который ему приходится пасти. Ведь оно почти сплошь черносотенное в полном смысле этого слова. Украинцам черносотенство не годится, это не в его натуре. Митрополит Антоний, как я уже говорил выше, безусловно умный человек, не Сумел Привязать к себе свою паству. При всем его уме, он уж слишком самодержавного направления, что снова не годится у нас, так как народ наш действительно убежденный демократ. С митрополитом Антонием я был в видимых хороших отношениях, по я совершенно не разделял его взглядов. Он, собственно говоря, тоже черносотенец старой школы и ничего другого, как посадить в тюрьму, расстрелять, обратиться за содействием к полиции в смысле воздействия на массы и утверждения православия — не умеет. Скажу откровенно, что он создать теплую церковную атмосферу не может. В этом отношении, слава Богу, что на патриарший престол избран преосвященный Тихон. Он десятью головами выше Антония, который, как М1кз передавали, являлся тоже кандидатом на это высокое избрание. Если бы я хотел что-нибудь лично для себя, с митрополитом Антонием я мог бы великолепно сговориться. Помню, как он думал найти во мне слабые струнки и чуть ли не с первого дня намекал на то, что нужно непременно что-нибудь устроить вроде. коронации. Я это отклонил. Он удивился. Среди епископов не было полного единодушия. Преосвященный Евлогнй, митрополит Владимир Одесский — это все люди различного совсем типа. Но в этом отношении митрополит Антоний большой молодец, — он уже всех своих подчиненных умеет держать в руках.
Министр Зиньковский, человек очень мягкий, совершенно не знал, как ему быть с митрополитом Антонием, который все хотел поставить на своем и ненавидел и министерство, и министра. Он говорил мне: «Вы, пан Гетман, остерегайтесь кутейников! Это народ неверный». Иначе, как кутейником, он Зиньковского не называл. Был один вопрос, в котором Антоний, по-моему, был вполне прав. Он был прошв богословских факультетов при наших университетах и считал необходимым лишь сосредоточить все свои усилия, достигнуть более высокого уровня среди студенчества Духовной Академии. Я с ним согласен, что создание этих богословских факультетов при пашей теперешней разрухе в церковной жизни преждевременно, по крайней мере, если не вполне излишне, Василенко тоже был мнения Зиньковского о необходимости этих факультетов, но все это осталось лишь на бумаге.
Совету министров пришлось потратить много времени на урегулирование двух вопросов, не терпящих отлагательства, по министерству земледелия. Первый состоял в том, что еще во время Рады фельдмаршал Эйхгорн издал приказ, в котором указывал, что урожай со всех засеянных полей, захваченных у частных владельцев, является достоянием посеявшего{214}. Этот приказ меня всегда удивлял, указывая на то, как мало немецкое «Оберкомандо» считалось с бывшим правительством Рады, если оно вторгалось в такие дела. Как бы там пи было, теперь, когда собственность была восстановлена, этот вопрос требовал регулировки, но тут произошел целый ряд инцидентов. С одной стороны, занявшие поля заявляли, что есть же приказ и урожай их; с другой, крестьяне собственники говорили, что этот приказ их разоряет, что даже не столько вопрос в соломе для подстилки и семенах для посева. Немцы же, соглашаясь в душе с правильностью взгляда о необходимости пересмотра этого вопроса, тем не менее заявляли торжественно, что приказ германского фельдмаршала не может быть изменен. Много было потрачено на это времени, и в результате все же пришли к заключению, что урожай остается в пользу захватчиков, но выплачивается известная доля деньгами и известное количество семян для посева и соломы для подстилки представляется собственникам земли. Было еще несколько законов Относительно арендных земель. Очень волновавшийся Союз Хлеборобов обратил внимание совета министров главным образом на вопрос о купле и продаже земли. В моей грамоте была восстановлена собственность. Нотариусы со всех мест Украины начали бомбардировать министра юстиции с запросом, можно ли утверждать сделки на землю: Этот вопрос вызвал На свет аграрную реформу.
По существу аграрная реформа считалась уже на очереди к рассмотрению, о ней же также говорилось и в моей грамоте, но на проведение этого вопроса в жизнь требовалось очень много времени и подготовки. Так или иначе, нужно было предварительно наладить Правительственную машину. Сформировать министерства, иметь свои правительственные органы на местах, а для всего этого необходимо было время. Теперь же необходимо было дать немедленный ответ нотариусам; Было бы легко ответить утвердительно и на этом успокоиться, но, с одной стороны. нужно было показать народу, что у правительства не только на словах, но и на деле есть стремление увеличить земельную площадь, принадлежащую мелкий собственникам; С другой Стороны, желание всячески препятствовать увеличению Цен на Землю при распродаже ее селянам заставило правительство издать закон, по которому всякий крупный участок земли может быть продан полностью исключительно лишь в Державный Земельный Банк или селянам, но в последнем случае лишь участком не более как 25 десятин. Многие селяне благодарили. Помещики же находили этот закон стесняющим их. Колокольцев, как я говорил выше, очень много работал, и было над чем. Министерства такого, как он хотел, и в помине не было. Земля вернулась законным собственникам. Принципы, положенные в 3-ем универсале Центральной Рады, касающиеся земли, были отменены. Весь штат служащих, главным образом, состоял из социал-революционеров, которым новое положение вещей совсем не нравилось. Поэтому начался саботаж, что увеличивало еще больше трения между министром и его подчиненными. Также было принято во внимание и то, что Колокольцев, хотя уроженец Харьковской губернии, находящейся в составе Украины, тем не менее не был украинцем, т. е., вернее сказать, не говорил по-украински, потому что в смысле его преданности делу создания Украины он был непогрешим. Служащие министерства, ссылаясь на то, что он якобы не украинец, в то время как они все были таковыми, обвиняли его в преследовании украинцев. Дело зашло очень далеко. Его распоряжения не исполнялись некоторыми чиновниками. У него же в министерстве, как оказалось, печатались возмутительные прокламации с призывом не исполнять его распоряжений и т.и., одним словом, происходил форменный саботаж. Тогда Колокольцев принял самостоятельно решительную меру: он отрешил в Центральном управлении от должности всех своих чиновников и набрал новых. Скандал получился громадный. Принципиально Колокольцев был прав. Конечно, одно из двух: или должен был продолжаться прежний хаос, и тогда положительно нельзя было бы ничего провести, или же нужно было принять крутые меры. Я находил, что в то время можно было бы сделать некоторую дифференциацию между служащими и не так уж огульно удалить всех. Скажем, чем были, например, виноваты барышни, пишущие на машинках, не принимавшие никакого участи я в этом деле, а между прочим, и они остались временно без куска хлеба. Ко мне повалили депутации. Начались в знак протеста забастовки в некоторых других министерствах, впрочем, быстро закончившиеся. В результате Колокольцев не отменил своего распоряжения, но невиновных принял обратно.
Как трудно было что-нибудь двинуть на Украине сразу, доказывает хотя бы такая мелочь, тормозившая дело: когда я хотел усилить, работу министерства по выделению селян на отруба, так как ко мне постоянно приходили люди и просили их скорее разверстать, оказалось, что землемерных инструментов было всего, кажется, 1000 штук на всю Украину, которые и без того были перегружены работой. Мы послали в Германию за новыми, но сколько времени ушло на это! И все в таком духе.
С первых же дней я приказал начать разработку нового аграрного закона, но для этого нужны были какие-нибудь статистические сведения. В министерстве таковых не было, и снова задержка на долгое время. Приходилось добывать новые сведения на местах. Но Колокольцев человек был решительный и энергичный, он за дело взялся рьяно. Кроме того, он был искренне предан идее проведения аграрной реформы. на разумных основаниях. Я верил, что с таким помощником я сумею разрешить этот коренной вопрос пашей политики, несмотря на все противодействия крупных собственников.
Я видел в то время очень мною народу; какие только ко мне не приходили депутации. Однажды ко мне является депутация. Я же не успел рассмотреть подаваемого мне адъютантом с утра списка лиц, назначенных к приему. Приходят человек пять в черных сюртуках и читают адрес, в котором заявляют, что они чиновники бывшего удельного округа{215} и просят «взять под булаву», т. е. для нужд гетманского дома, столько-то миллионов карбованцев, столько-то добра, столько-то тысяч десятин в различных имениях и т. п. Я был удивлен: «Каким образом у вас всего этого не отняли и не разграбили?» — «Да мы все это так устроили, что ни Рада, ни большевики ничего не заметили». Я приказал этого, конечно, «под булаву» не брать, а подчинить временно удельный округ министерству земледелия до окончательного выяснения вопроса. Но все же удивительно, что такое состояние сохранилось целехеньким. И этот факт делает честь управляющему и чиновникам уделов.
Являлись ко мне и все мои старые знакомые железнодорожники, являлся ко мне и Петлюра с депутацией, а затем он же и единолично. В день переворога Петлюра был арестован. Он в то время никакой должности в правительстве не занимал и был председателем Киевской земской управы. Я приказал на следующий день его немедленно выпустить и пригласить к себе. В то время у нас отношения были хорошие. Петлюра, хотя был невозможным военным министром, все же он был значительно лучше, чем его следующий заместитель [Порш]. Нужно сказать, что Петлюра мне всегда рисовался как чрезвычайно честолюбивый человек, демагогического пошиба с большой авантюристической Жилкой, По искренний в своих отношениях к Украине и затем честный в денежном отношении. Это сентиментальничающий идеалист, с очень легким культурным багажем. Его политические убеждения далеко не крайние настолько, что мне приходило даже в голову привлечь его в состав: правительства, и если бы украинцы не отказались на первых порах Пойти в правительство, может быть, это и состоялось бы.'Что сделать потом, когда в'составе Министров не было ни одного человека, который бы к нему относился с доверием, было совершенно немыслимо. Петлюра в первое время приходил ко мне несколько раз, и каждый раз при страшных нареканиях земельных собственников и великорусских кругов. Его посещения вызывались, Обыкновенно, заступничеством за лиц, которые были арестованы за противоправительственную агитацию. Затем, он ходатайствовал о получении ссуд в сто миллионов рублей Для нужд земства. Если бы не бешеное честолюбие Петлюры и не связи его Со всеми крайними социалистическими партиями, которые в моих глазах очень мало отличались по своим приемам от большевиков и в сущности представляли в своем большинстве очень неопределенную в политическом отношении картину, Петлюра мог бы быть Одним из чрезвычайно Полезных деятелей времени Гетманства. Что касается ссуды в сто миллионов рублей для земства, я, не желая обнадеживать какими-либо Обещаниями, неисполнимыми мною, решил переговорить предварительно с Лизогубом, который, как говорится, зубы съел на земских делах. Оказалось, что Петлюра был у него, и было решено, что деньги будут выдаваться земству широко, но для уплаты по определенным счетам, и что Лизогуб по этому поводу внес проект закона об ассигновке на нужды земства 80 миллионов рублей. Ассигнование денег для уплаты земствам по определенным счетам очень не нравилось Петлюре, и он стремился получить деньги просто в распоряжение земства. Не говоря уже о том, что этот способ ассигнования денег в распоряжение земства был бы неправилен и что настойчивые требования Петлюры казались подозрительными, так как деньги могли идти совсем не для надобностей земства, а на подготовку восстания, в котором, если бы Петлюра не был в правительстве, он мог бы играть по свойству своего характера видную роль, не говоря уже об этом, Лизогуб считал, что, вообще, такие крупные деньги давать Земству подобного состава немыслимо. Действительно, деятельность наших, так называемых, земств за год революции показала полную неспособность этих деятелей создать что-нибудь в этом жизненном для страны деле. Цветущие до революции земства, обладавшие громадными капиталами, предприятиями, прекрасно оборудованной местами сетью больниц, теперь представляли какие-то развалины с пустующими кассами, со служащими, не получавшими жалования. Во внутреннем порядке был гомерический грабеж, масса лишних должностей для наиболее крикливых элементов и все в таком роде. Конечно, Лизогуб был крайне недоверчив к этим проектам Петлюры и стоял на своем плане, т. е. чтобы деньги выдавались для уплаты только по прямому назначению.
В то время в совете министров уже подготовлялся законопроект о городских и земских выборах. Были составлены две комиссии: одна под председательством бывшего члена Думы{216}, князя Александра Голицына{217}, по земским выборам; другая, по выработке закона о городских выборах, была назначена под председательством бывшего городского головы Киева, Дьякова{218}, который в течение очень долгого времени занимал эту должность и был принужден ее покинуть только во время революции в связи с введением всеобщего выборного закона. Эти два человека представляли серьезную умственную силу и по своей прошлой деятельности были достаточно вооружены опытом и необходимым знанием для проведения того ответственного дела, которое на них возлагалось. От успеха или неуспеха их работы, в конце концов, зависело, быть или не быть порядку на Украине. С точки зрения деловой, эти два назначения были удачны, так как, как я уже сказал, это были люди умные и знающие. Ло своим убеждениям они были далеко не правые, например, Голицын, имевший значение в Протофисе и в Союзе Земельных Собственников, был человеком, с которым я любил говорить, так как он совсем не стоял на той мертвой точке возвращения к старому, на которой так определенно стояли его коллеги по Прогофису и Союзу Землевладельцев. Но все же это назначение было неудачно потому, что Голицын и Дьяков ничего общего не имели с украинцами, хотя оба были уроженцами нашего края. Конечно, такие назначения не могли быть популярными, но людей не было для их замены. Если не брать их, то пришлось бы уже назначить людей типа
Винниченко, а они создать серьезно продумали закон лично не в состоянии. Я это назначение утвердил. Были, конечно, еще социал-федералисты. Это незначительная украинская партия, причем «социал» у них скорее дань времени, чтобы не казаться отсталыми. На самом же деле это была группа, напоминающая кадетов 3-го сорта с сильной украинской. окраской. Но в этой партии, почему-то желавшей играть роль при Гетманстве, я не видел значительных, действительно подходящих людей. Лучшие, как например Шелухин, были немедленно завербованы мной для работы. — С одной стороны, невыдача 100 миллионов рублей земству, с другой, назначение комиссий для выработки законов городских и земских выборов, состав и председатели которых не нравились Петлюре и украинским социалистическим партиям, затем аресты некоторых украинских мелких деятелей по провинции вызвали в кругах украинских социалистов необходимость послать ко мне депутацию, во главе которой снова был Петлюра. Я их принял и в трехчасовой беседе выяснил их желания, из которых, к сожалению, мне сразу старо ясно, что я почти ни одного из них не мог удовлетворить. Среди этих пожеланий было много совсем второстепенных вопросов, сущности которых у меня теперь улетучилась из памяти, но помню, что главные пункты состояли в следующем:, 1 — получение 100 миллионов рублей, 2 — отмена комиссий по закону о выборах, так как во главе их стоят люди, недостаточно выражающие стремление масс, 3 — назначение срока созыва Сейма, 4 — назначение нового состава министров исключительно из украинцев, 5 — предание суду всех старост, — которые распустили Земства в своих уездах, таковых было несколько, это Верно, и о них я поговорю отдельно. Что касается первых двух пунктов, то я уже указал причины, вследствие которых я не мог согласиться с желанием депутации. Затем, указание срока созыва парламента в то время для меня было совершенно невозможно, это значило — вернуть страну в состояние революции. Не имея налаженного правительственного аппарата, не дав оправиться ни одной здоровой демократической партии, парламент в тот момент представлял бы нечто несуразное.
Мне было ясно, для чего выдвигались эти вопросы. Я не мог согласиться и с переменой только что налаживающегося кабинета и считал с их стороны просто неподходящим об этом говорить. Когда я звал украинцев, они не хотели идти и думали, вероятно, поставить меня этим в безвыходное положение, а когда дело наладилось, появились заявления о желании работать. Что же касается роспуска земских учреждений, я с ними в душе соглашался, что то, что произошло, далеко не удачно и не вызывалось такой уж настойчивостью. Как произошло это, я теперь уже во всех подробностях не помню. Кажется, в Екатеринославе, затем в Глухове и еще в 2–3 уездах Киевской губернии.
Старосты, не видя никакой возможности работать со старыми земствами, составленными из элементов, выбранных во время революции, распустили земские собрания, назначив временно для ведения дел лиц из числа членов управы или восстановляя старые дореволюционные составы земств, добавляя туда еще представителейлот всех классов народонаселения, которые или не участвовали вовсе в земском деле, или же принимали участие в очень ограниченном числе. Конечно, это было превышение прав и требовало расследования.
Впоследствии был проведен временный закон, что в известных случаях губернский староста имел право распустить земство с разрешения министра внутренних дел. Но случайно которых говорил Петлюра, произошли до издания этого закона.
Правительство в то время работало между двух огней. С одной стороны, все эти земские деятели, являющиеся всегда под видом затравленных овечек, на самом же деле устраивали, где могли, отчаянный саботаж; с другой стороны, ненадежный аппарат правительства на местах представлял возможность неподходящим элементам, из числа местных органов, превышать свою власть и сваливать затем все на голову центрального правительства. Лизогуб мне обещал выяснить в скорейшем времени все эти факты. Поднятые Петлюрой вопросы пока пришлось отклонить. Я видел, что уходя, Петлюра был очень расстроен. Мне впоследствии кто-то из моих приближенных говорил, — что именно в этот день Петлюра решил перейти в оппозицию, а если возможно, то работать для свержения правительства. Возможно, что так, — я этим вопросом не занимался. Думаю, что для Петлюры был другой выход, несравненно более подходящий, — помочь работе правительства. После этого свидания он ко мне. больше не приходил.
Мне хочется подробнее остановиться на одном учреждении, которое для всех правительств являлось камнем преткновения. Такой гений, как Наполеон, на нем провалился в конце концов. В первые же дни Гетманства ко мне пришел Гижицкий, который хотя и был только державным секретарем, но все же не мог войти в свою новую роль и постоянно вмешивался в то, что его, собственно говоря, не касалось: «Нам, пан Гетман, необходимо иметь свою разведку, мы ничего не знаем. Нужно, чтобы Вы были постоянно осведомлены, о том, что происходит внутри страны, получая сведения не только из министерства внутренних дел, но и от собственного органа. Кроме того, масса людей, которые не сочувствуют перевороту, могут произвести покушение; наконец, может быть подготовлен переворот, а мы об этом и ничего знать не будем до последней минуты».
При первом же свидании с Лизогубом, я с ним переговорил по этому поводу. Решено было, что вся агентурная часть будет сосредотачиваться в министерстве внутренних дел, но что при штабе Гетмана будет вестись особая агентура в так называемом «особом отделе штаба Гетмана», на обязанности которого будет следить за всеми лицами и партиями, готовящими покушение на меня и, вообще, стремящимися к перевороту. Для того, чтобы не было разногласиями ссор между этими двумя учреждениями, было решено, что все сведения, получаемые в особом отделе, будут также передаваться Лизогубу после доклада в министерстве внутренних дел, но при этом я сказал Лизогубу: «Федор Андреевич, этот отдел мне не нужен. Я Вам доверяю, и, Вы великолепно можете справиться с делрм в Вашем департаменте Державной Варты, нот я настаиваю на создании особого отдела потому; что времена изменчивы. Вы, может быть, впоследствии, не будете министром внутренних дел, и я решительно не хочу быть осведомленным исключительно одним лишь человеком. Может статься, ввиду политических соображений, и прийдется иметь министром внутренних дел лицо, которому я не буду доверять так, как Вам. Поэтому эту связь между особым отделом и Вами я учреждаю лишь временно и удерживаю за собой право прервать ее, когда буду иметь лицо, заменяющее Вас». Так и было решено. Следовательно, департамент полиции, так называемый департамент Державной Варты во главе с бывшим товарищем прокурора Виленского окружного суда; Аккермаиом (в очень недолгий срок эта должность была замещена Шкляревским, но потом, ввиду каких-то недоразумений, теперь не помню, он был назначен на Должность чиновником; особых поручений при министерстве внутренних дел, а на его место Аккерман). Начальником же особого отдела был также бывший товарищ прокурора — Бусло. Оба это были честные люди, но полиция тем не менее далеко не была на высоте. Я думаю, что при тогдашних условиях было почти невозможно ориентироваться в той сложной политической обстановке, которая тогда существовала; уже одно присутствие немцев очень осложняло работу. Нужно было, по крайней мере, я так сам делал и требовал того от других, стараться тонко разбираться, где действительно дело принимало опасный оборот для правительства и для меня, а где это было просто, как у нас всегда полагалось по отношению к власти, — фрондирование, пустая оппозиция, дальше разглагольствований не идущая.
Если взять картину, которая тогда рисовалась полиции, то получится следующее: с одной стороны — большевизм русский, пустивший большие разветвления по всей Украине, главным образом, с легкой руки Раковского{219}, председательствующего мирной комиссии для установления соглашения с большевиками по всем спорным вопросам. Конечно, в теснейшей связи с северными большевиками были наши украинские{220}. Затем уже шли русские социал-революционеры и социал-демократы и их украинские сотоварищи.
Различие программ не мешало тому, что во многих отношениях актика действий этих партий, особенно я указываю на социал-революционеров, нисколько не отличались от действий большевиков. Затем ш свет выступают великорусские партии, особенно беспокойным был союз русского народа. Слабый по численности и по своему влиянию, он брал своим нахальством. Кадетская партия играла в Киеве незначительную роль, но набежавшие со всех сторон из России различные деятели этой партии сразу приподняли ее дух. Конечно, они не пропагандировали вооруженного бунта, но своей разлагающей проповедью и постоянной критикой, не будучи при этом осведомленными в достаточной степени и не желая осведомляться, поддерживали противоправительственные элементы…
Затем, играли немалую роль как великороссы-националисты, так и азличные политические польские парши. Первые были против лозунга «Украина», вторые вели свою собственную линию. Также играла больную роль ненависть к немцам, а попутно и к нам. Войдя в сношение с эмиссарами Entente-ы, которым было крайне желательно, чтобы в то ремя на Украине были беспорядки настолько большие, чтобы немцы не толучили никакого продовольствия из этой страны, агенты Entente-ы тоже стремились восстановить народ.»
Затем существовала агитация против меня, Скоропадского. Эта пропаганда, источником которой были униаты и Венский двор, выставляла кандидатуру в гетманы эрцгерцога Вильгельма{221}, молодого человека, основателыю подготовляющегося к сей роли, так как он изучил украинский язык, ходил в украинской рубашке и своим поведением — привлекал на свою сторону украинцев шовинистического оттенка.
Старая Центральная Рада, разбредшаяся по всей стране, вела усиленную агитацию против Гетманства.
Немцы всячески поддерживали новое правительство, но австрийцы ели политику неопределенную настолько, что мне приходилось лично об этому просить объяснений от графа Форгача [т. Еогдасп], в скором времени сменившего Принцига [Рпш^] и особенно князя Фюрстен-Зерга [К.ГиТ81спЬс^], часто заменявшего Форгача.
Земельные Собственники и особенно Протофне. Последнее учреждение, хотя его название является сокращенными словами «промышленность, торговля, финансы и сельское хозяйство», далеко не представляло из себя такую серьезную силу, каковой оно пыталось себя выставить. Но в смысле своих замашек и желания играть роль, можно было предположить, что они действительно представляли собой всю промышленность, и торговлю, и финансы, и сельское хозяйство на Украине и держат их в руках. Земельные Собственники и Протофис старались всячески заставить меня вести их политику. Кроме того, в Киеве сосредоточилось громадное количество преступных элементов, прикрывающихся всевозможными партиями, на самом деле не состоявших в них. Эти люди пакостили и творили всякую мерзость для личных интересов. Правительственным органам представляло громадную трудность разобраться во всех этих партиях, с одной стороны, с другой, что уже положительно требовало громадного труда и таланта, уметь разобраться, где преступление, а где просто оппозиционная правительству болтовня. Если принять в соображение, что агентов, на которых можно было бы положиться в этом смысле, было очень мало, то не нужно удивляться, что иногда факты получали совершенно не то освещение, которое необходимо было им придать. Всякие мелкие события политической жизни представлялись мне Вартой как заслуживающие особого внимания правительства и моего, хотя в сущности это были пустяки. В других случаях не обращалось достаточно внимания на то, что впоследствии разрасталось в серьезную заботу правительства
Последние годы анархии научили всех людей, занимающихся конспирацией, умело вести свои дела, и так как, несмотря на обвинения в реакционности, и правительство, — да нечего греха таить, — и я, мы были слишком большими законниками и требовали всегда точных фактов в том случае, когда нам представляли лишь косвенные доказательства. Немудрено, что. антиправительственные элементы находили пути для продолжения своей работы. Но и Игорь Кистяковский, и оба начальника полиции были плохими политиками и не разбирались в ней, особенно в украинских вопросах.
После разгона Центральной Рады все ее члены и имеющие к пей отношение не успокоились. Они разъехались на места и сразу воспользовались тяжелыми условиями, в которые было поставлено новое правительство, для того чтобы всячески его дискредитировать. Например: одна немецкая оккупация объяснялась народу как союз великих панов, выбравших Гетмана и приведших немцев для того, чтобы у народа отняли землю. Затем, исполнение договора о предоставлении немцам хлеба объяснялось народу как продажа правительством украинского народного богатства из-за личных выгод министров и Гетмана, и все в таком духе. Делалось, конечно, это очень ловко. Местные власти таких «страдателей за народ» арестовывали. Сейчас же поднимался крик, что невинных сажают. Были факта, но редкие, когда людей арестовывали без достаточной вины. Такие случаи доходили до меня, и я приказывал освобождать; но все эти отдельные случаи капля в море, в сравнении с той массой действительно виновных в стремлении свергнуть Гетманство, которые изощрялись на все лады, как бы снова ввергнуть страну в ту анархию, в которой она находилась и до, и после нас.
Правые, черносотенные парши безобразничали. К ним, к сожалению, примыкала часть офицерства. Правые люди, под предлогом работы в пользу монархии, просто были озлоблены, что они никакой роли не играли. Сюда же присоединилась масса, которая действительно скорбела, глядя на разложение России, и в Гетмане и его правительстве видела лишь изменников русскому народу. Над всеми этими партиями крикливо витали так называемые деятели старой России, всех направлений и оттенков, так или иначе желавшие играть роль. Среди них были очень почтенные деятели, но они терялись в хоре какой-то необъяснимой злобы или равнодушия к нашему делу. Я неоднократно старался с ними сговориться, но это было безрезультатно. Недаром Краснов при свидании сказал мне как-то: «Ох, уж эти общественные деятели, они все погубят!» Я думал тогда, что это не касалось меня, но вижу, ошибся.
Сколько пользы эти люди могли бы принести, если бы, во-первых, они сами сговорились бы и выработали бы у себя внутреннюю дисциплину, во-вторых, если бы они вдумчиво относились к существующим в России силам, которые что-то творили, и не требовали обязательного исключительного проведения их планов, которые, обыкновенно, вырабатывались ими без достаточных оснований, не зная в подробности всех тех условий, в которых протекала жизнь страны. Эти общественные деятели, среди которых, повторяю, были очень известные имена не только у нас, но и за границей, конечно, многим импонировали. Они влияли на министров, на немцев и на представителей Entente-ы, особенно сильно именно среди последних. Общественные деятели имели большие связи в обществе Киева. Если бы они решительно помогли мне и правительству, а не занимали бы положение оппозиции, или же, в лучшем случае, положение критиков, задача моя была бы значительно облегчена. Они совершенно не догадывались, что Украина существует не только среди кучки немецких агентов, но что идея эта возросла за революцию и укрепилась среди народа. Если бы они к вопросу Украины подошли без предвзятой мысли, если бы они на украинских деятелей смотрели не свысока, а, познакомившись с ними, узнавши их домогания, указали бы свои, из этого обмена мнений могла бы получиться большая польза для общего дела. На самом деле этого и в помине не было. «Украины не нужно. Вот прийдет Entente-а, и Гетмана и всей этой опереточной страны не будет», — таково было их мнение. При всем моем уважении к отдельным личностям из этой среды, я должен сказать, что никто из теперешних общественных деятелей из числа тех, которые были на Украине, а также и тех, которые заседают в Париже, никто из них неспособен выдвинуться и создать что-нибудь для России. Это люди, все еще живущие в старых понятиях, люди с предрассудками. Не они выведут Россию из той ямы, куда она попала. Не выведут ее также и наши вожди социалистических партий. Они уже производили свои эксперименты. Это люди тоже конченные. Если и о наших общественных деятелях говорят еще, то это лишь в силу инерции, ввиду их личных стремлений, чтобы о них говорили. Несомненно, должны в конце концов отыскаться новые люди, с новыми мыслями, чувствами и с новой энергией. Где они? Я их не вижу, но они прийдут. Что же касается нынешних общественных деятелей, то для меня нет сомнения, что это люди, которые пройдут для России бесследно. Я внимательно следил за их работой в Киеве.
Чем больше я вникаю в пережитое мной: на Украине, тем более я прихожу к заключению, что народ не виноват во всех ужасах, которые мы пережили. Я совершенно не увлекаюсь народом, и когда мне вчера рассказывали с умилением, как один бедный генерал умирал каком-то лагере для военнопленных и как за ним трогательно ухаживал один солдат, грешный человек, я не пролил слезы, а подумал, что, наверное, солдат рассчитывал получить что-либо или от генерала, или от его родственников. Несмотря на отсутствие всякой сентиментальности по отношению к нашему народу, меня всегда глубоко оскорбляет, когда я слышу, особенно за границей, нелестные отзывы о том самом народе, который в известных условиях способен более, нежели всякий западный европеец, проявить чувство глубокой христианской любви и самоотречения. Я видел, на какие зверства и нерусские люди способны; когда народ сбит с толку, когда анархия всплывает на поверхность общественного моря. В России теперь большевизм, народ попал в руки сумасшедших идеалистов и громадного числа всяких иностранных и всяких уголовных элементов. Но кто в этом виноват? Наш забитый народ безусловно нет. Виновата паша интеллигенция всех оттенков и направлений. Одни без всякого знания народа, без научного организаторского опыта, благодаря зависти ко всему выше их стоящему, или же из-за какого-то пошлого сентиментализма, с громадной ни на чем не основанной самоуверенностью, решивши облагодетельствовать народ, другие, не желающие ни йотой поступиться со своей выгодой, тянут его в другую сторону. В: результате все более мягкое выкидывается из обихода и остаются всего лишь две полосы: большевизм слева, в который переходят все учения наших социал-революционеров и социал-демократов, и большевизм справа, который теперь тоже хотя и в загоне, но при первом же удобном случае воспрянет духом не хуже своего антипода. Все же остальные партии болтаются без всякой поддержки в народе и все более и более отрываются от него. Одна из причин такого явления состоит в незнании народа, его настоящих жизненных, экономических, разумных домогании, в слепом подражании западу и в боязни показаться мало либеральными, все еще выставить себя либерализующими. Если бы эти средние партии левой группы отбросили бы вечное самодовольство, рисование своим либерализмом, если бы они хотели действительно жертвовать собой для народа, а не для приобретения популярности, они нашли бы дорогу, как подойти к народу с программой действительно жизненной. Партиям, кроме того, нужно было бы привить себе еще способность отрешиться хотя бы отчасти своих выгод. Ведь в конце концов все эти кадеты хотя и готовы идти на очень широкую аграрную реформу, потому что у большинства из них нет собственной земли, или она мало их интересует, а, например, уже в промышленности или финансовых вопросах они никаких уступок не признают, находя для этого всегда отговорки. Я на Украине хотел сближения этих рядом стоящих умеренных партий, но в этом мне удалось достигнуть очень малого. Может быть, только со временем я чего-нибудь добился бы.
Сам народ хочет просто улучшения своего быта, однако разбираться во всех этих вопросах он совершенно не может. Раньше, при старом правительстве, ему говорили, что все зло от бунтовщиков. «Лупи их», — он и лупил. Теперь ему говорят: «Все зло от буржуя, лупи его!» — он его лупит, так как думает, что это единственное средство улучшить свое положение. Все эти программы, даже считающихся теперь умеренными партиями вроде социал-революционеров, несравненно левее тех убеждений, которые живут в здоровой массе народа, и только война с развращающей деятельностью революционного правительства довели до того, что большинство народа поверило, что нужно просто-таки выгнать собственников с земли, ничего им за это не уплативши. Но как только народ начинает отходить от угара, который на него напустила левая интеллигенция, он сам приходит к сознанию, что туг какая-то ложь и что так решать вопрос нельзя. На Украине еще при мне и в скором времени после падения Гетманства на сельском сьезде были вынесены постановления, что землю нужно взять, по за плату; и так во всех других вопросах.
Ужасная политика, которую вела Германия по отношению к России, не могла, конечно, не отразиться на нас в Украине. Насколько я мог узнать немцев, далеко не все, т. е. скажу, добрые три четверти из тех, которых я видел, были против сближения Германии с большевиками и находили эту политику пагубной для них самих. Большевиков они били с искренним удовольствием и возмущались ими, может, даже больше, нежели многие из русских». Если во время войны центр сочувствия большевикам был в среде немецкого генерального штаба, несомненно, что во время Гетманства оно перешло в министерство иностранных дел, военные же решительно были против него.
Еще при Центральной Раде велись переговоры с большевиками{222}. В мае немцы заключили временное с ними перемирие и настоятельно требовали ведения с большевиками переговоров по установлению границ между Совдепией и Украиной, а затем по целому ряду вопросов первенствующего значения.
Не помню точно, какого числа, в начале июня приехала [в Киев] мирная делегация во главе с Раковским. Нашим правительством была сделана крупнейшая ошибка, когда оно назначило заседания этой мирной конференции в Киеве, так как это дало возможность большевикам начать свою агитацию{223}. Переговоры ровно ни к чему привести не могли. Это было уже видно с первых же дней. Единственно хорошая сторона заключалась в том, что это дало возможность спасти массу народа от прелестей коммунистической жизни.
Заседания эти продолжались все лето. Представителем с пашей стороны, для ведения переговоров, я назначил Шелухина. Это безусловно выдающийся человек как в умственном, так и в нравственном отношении из числа украинских деятелей. Я его всегда очень ценил и уважал. Он довольно часто приходил ко мне, но паша беседа, обыкновенно, не ограничивалась вопросами мирных переговоров. Очень умеренных политических взглядов, он резко изменялся, когда дело шло о самостоятельности Украины. Туг он часто впадал в крайности. Если бы не это, он был бы чрезвычайно желательным в составе правительства. Я ему верил, и до последнего дня он остался в моих глазах честным, открытым человеком.
Жизнь протекала у меня в какой-то лихорадочной работе, приходилось работать положительно до изнеможения. При всем моем желании показаться публике, я имел возможность делать это очень редко. Это было, конечно, пробелом в моей деятельности, так как ничто так не популяризует, как личное появление. В мае месяце мне пришлось поехать на открытие украинского клуба. Был концерт, после концерта ужни. В это первое мое появление я был удивлен тем теплым приемом, который мне был оказан. Писательница Черняховская{224} сказала очень милое приветствие. Я говорю, что я был удивлен этим приемом, так как там собирались наиболее «щырые» украинские деятели, которые вообще имели повод сомневаться в том, чтобы я был их ориентации.
Пришлось затем поехать на панахиду на место убийства митрополига Владимира. Я тут оказался почти одни среди простого народа, среди которого мне пришлось проталкиваться для того, чтобы дойти до духовенства. Здесь я чувствовал себя совсем хорошо, хотя полиция меня предупреждала этого не делать. После панахиды я поехал в Лавру, где настоятель Лавры отслужил над могилой митрополита краткую литию. Вообще среди простого народа никакого антагонизма по отношению к себе я не чувствовал, наоборот, в толпе я испытывал чувство какого-то нравственного успокоения, точно что-то говорило мне, что путь, выбранный мной, был правилен.
Единственным моим относительным отдыхом, и то разрешаемым мною себе довольно редко, были по праздникам поездки на пароходе по Днепру. Обыкновенно мы выезжали часа в 2–3 пополудни, ужинали на палубе и возвращались к 10-ти часам вечера. Эти поездки были для меня большим наслаждением. Не говоря о красотах Днепра, мне они были приятны тем, что я мог на пароход приглашать тех лишь, кого я хотел. Обыкновенно же я просил проехаться со мной тех, с которыми я мог спокойно обсуждать животрепещущий в то время вопрос. Часто мы останавливались в каком-нибудь удобном месте и Шли купаться. Мне особенно памятно одно такое купание, когда мы остановились на повороте реки верстах в 20-ти от Киева. Течение было очень сильное. Я с моим сыном, мальчиком 14-ти лет, выбрались на середину реки. Нас уносило течение; мне было весело и вместе с тем страшно за мальчика. Среди той безотрадной Жизни, которую приходилось вести, запертым в душной комнате, мне, всю свою жизнь любившему воздух и движение, эти поездки казались особой благодатью, и я о них мечтал задолго до возможности привести свое желание в исполнение. Я мало вникал в жизнь в дрме, положительно не успевая заняться этим делом. Все было передано начальнику штаба, и он мне докладывал о своих предположениях.
Начальником штаба у меня вначале был, как я уже писал, [генерал] Дашкевич-Горбатский, но он совершенно не мог справиться с этим делом. Я его назначил состоять при себе, а начальником штаба назначил генерала Стелецкого, которого я взял, сознаюсь, без особого выбора, просто попался под руку, что, конечно, была большая ошибка.
Комендантом был у меня генерал Присовский{225}, прекрасный человек, о котором я всегда сохраню память как о безукоризненном человеке. До последней минуты он исполнял свой долг, невзирая на то, что рисковал многим. Заведующим всей господарской частью, на котором лежала обязанность вести все списки приглашенных, а также и хозяйственную часть, был Михаил Михайлович Ханенко{226}. Он лично в первый же день после переворота явился ко мне и заявил о своем желании быть на этой должности. Сознаюсь, я несколько тогда удивился этому желанию. Уж больно, по крайней мере с моей точки зрения, эта должность неинтересна. Тем более для него, очень богатого и потому свободного в выборе своей деятельности человека. Конечно, я его с удовольствием взял, тем более что знал его за очень хорошего хозяина и полагал, что он порядок наведет и в доме. Я его очень ценил. К сожалению, на деле я узнал, что, спасая свою шкуру, он после моего падения поспешил написать в Директорию, что моей политики он не разделял и просит потому, чтобы его имения не разграбляли. Мне жалко его, так как таким письмом он вряд-ли сохранил свое имение в целости, а мнению о себе у серьезных людей повредил. Это наверно! Ну, да это неважно.
Полтавец заведывал моей личной канцелярией. Он непременно хотел раздуть свою канцелярию в целое учреждение, но я ее сократил. Это ему не нравилось. К уже сказанному я ничего не прибавлю. Затем шли несколько адъютантов: Василий Васильевич Кочубей, Зеленевский, о котором я уже тоже рассказывал, Данковский, Александр Устимович. Был у меня еще секретарем Лупаков, очень милый молодой человек. Его впоследствии заменил Мокротун. Оба они были порядочные люди, и обоих я ценил, но разница между ними в характерах была очень большая: один был слишком тихий, другой слишком бойкий и из-за этого наживал себе всегда массу врагов. Было еще два ад'ютанта: один щырый украинец, есаул Блаватный. Я его так до последней минуты и не раскусил. Впечатление он производил хорошее, но поведение его в последнее время несколько пошатнуло во мне это убеждение. Другой — морской офицер Дружина, прекраснейший юноша, украинец, но без той невыносимой узости, которая, даже с точки зрения украинцев, губит Украину. Непосредственно всеми служащими в доме заведывал полковник Богданович, смесь очень хорошего со всякими странностями. Он был в середине лета замешен полковником Яценко, назначенным по рекомендации генерала Стелецкого. Яценко в моем присутствии рта не открывал и на мои вопросы отвечал односложными фразами. Положительно не берусь сказать, что это за человек.
Что было скучно — это то, что с первых же дней ко мне являлась всякая публика и считала нужным мне непременно в разговоре доложить, что на меня собираются делать покушение. Это было так несносно, что я через несколько дней приказал перестать докладывать мне обо всех этих поползновениях на мою жизнь, указывая, что это дело начальника штаба, коменданта и начальника Особого Отдела. Было несколько подозрительных случаев, которые указывали якобы на действительное желание сделать на меня покушение, но положительно разобраться в этом деле я не мог, а потому и не стоит об этом писать. Когда увидели, что. я не интересуюсь вопросом покушений, последние как будто стали реже. Состоял при мне еще генерал Либов, старый украинец самого лучшего толка. Он был у меня в корпусе начальником артиллерийской бригады, старый человек, но весьма знающий, работящий и смелый. Он был дома, без места, и я его взял к себе и не пожалел. Были еще две должности у меня по штату, выработанному советом министров. Одну из них я заместил в середине лета Александром Андреевичем Вишневским, когда ему пришлось сдать должность товарища министра внутренних дел. Человек этот был честный, но пользы мало принес делу, на котором стоял. Я его взял для того, чтобы он влиял на Союз Земельных Собственников, с которым мне приходилось считаться, но который вел политику, радикально противоположную той, которую я хотел. Я полагал, что он, зная мои планы и точку зрения, может повлиять на этих господ, но он ничего не соображал, и я последнее время, видя это, никаких поручений ему больше не давал. Видимо, он считал, что та политика, которую хотели господа, заседающие в областном совете земельных собственников, правильная.
Немцы были очень предупредительны, и отношения у нас установились, в общем, вполне сносные. Но я часто удивлялся, как хорошо они наблюдали за мной. Положительно каждый мой шаг был им известен. Кроме немцев, вообще, мой дом представлял узел всевозможных темных организаций. Я иногда для проверки говорил кому-нибудь под страшным секретом какую-нибудь новость и смеялся, когда через некоторое время узнавал, что в такой-то группе были приняты такие-то меры, о чем мне уже доносила моя разведка очевидно было, что этот «страшный секрет» уже донесен куда следует. Военные люди не знают всей этой гнусной закулисной политической игры, всех тех невидимых пружин, которые играют человечеством. Только уже будучи Гетманом, я сумел разбираться во всех этих обыкновенных низменных хитросплетениях, где основной мотив личная нажива, всевозможные интересы самого частного характера, причем обычно эту мерзость всегда облекают в красивые формы, как заботы о народе, стремление провести честные демократические принципы, вопросы свободы и т. п. И это во всех, пересматриваемых от нечего делать газетах, я читаю между строк и смеюсь от души.
Раз как-то в начале июня (жаль, что я не запомнил числа событий, теперь у меня точные даты не остались в памяти){227}, утром я одевался и собирался идти брать ванну. В комнате у меня был лишь мой слуга. Вдруг, сильный шум и звон от разбитых стекол в окнах моей спальни, посыпалась с потолка штукатурка. Мой слуга, бывший кавалерист, всегда спокойный, даже вялый, нисколько не взволновавшись, говорил мне: «Пан Гетман, одевайтесь скорее, а я уложу вещи. Это бросают бомбы в нижний этаж, вероятно, и сюда сейчас попадет''. Для чего он хотел укладывать вещи, я не знаю. Вероятно, вспомнил войну, когда денщикам, обыкновенно в минуту большой опасности, приказывали наскоро уложить вещи и отойти несколько назад, чтобы вещи не пропали. Я наскоро оделся и хотел выйти из комнаты. Когда я, подошел к двери, раздался второй взрыв: дверь с треском распахнулась и ударила меня в голову. Я вышел в столовую и тут встретил полковника Аркаса. Не зная, в чем дело, он первым прибежал ко мне на выручку. Через шесть месяцев он же первым из моего штаба пошел против меня, после моей декларации о федерации с Россией. — «В чем дело?» — «Не знаю, ваша ясновельможності,». В это, время взрывы начали повторяться со страшной силой, и все это перешло в какой-то рев. Я оделся и пошел телефонировать, требуя объяснений. Оказалось, что взрывались пригородные склады взрывчатого материала и снарядов на Зверинце. В первое время люди не могли дать; себе отчета в том, что происходит. Все полагали, что взрывается вблизи от них, и спешили уходить Появилась масса различных объяснений, из которых одним из самых распространенных было, что мой дом взорван. Ко мне начали приезжать и министры, и другие должностные лица. В гетманском доме все перешло в нижний этаж под своды, так как в верхнем этаже очень старые потолки грозили обрушиться. После, первого смятения, все пришло в порядок.
Взрывы еще продолжались, но с меньшей силой.
Я пригласил Лизогуба, который пришел ко мне, поехать со мной на место несчастья. Первоначально мы отправились в офицерскую, школу, которую я осматривал за несколько дней до этого происшествия. Там оказалось много раненых. Их развозили по госпиталям. Из школы мы пошли пешком вперед, непосредственно к месту взрыва. Картина нам представилась действительно ужасная; громадная площадь Зверинца, застроенная небольшими домиками, представляла сплошной пожар, причем, в, различных местах не переставали раздаваться сильные взрывы. Все. что возможно было мобилизовать для оказания помощи, было использовано. Причину взрыва, несмотря на серьезные расследования, установить, це удалось. Официальная версия такова: еще во время, войны в Зверинце складывались без всякой сортировки большие партии взрывчатых веществ и снарядов. Предполагается, что первоначальной причиной несчастья было самовозгорание ракет, находящихся вблизи от партии снарядов. — которые взорвались, а уже потом от детонации начались взрывы, в ближайших складах, все более и более увеличиваясь. Неофициальная версия: это дело большевиков. Очевидно, это вернее, потому что, многие дома погибли из-за того, что рабочие, жившие в них, хранили там растасканные ими же снаряды. Потери и людьми, и имуществом были очень велики., В тот же день совет министров постановил ассигновать крупную Сумму в пользу пострадавших. Немедленно был составлен комитет имени Гетмана, куда стекались пожертвования. Комитет потом долгое время работал над распределением собранных денежных сумм среди неимущего населения.
Погибло тоже несколько немецких солдат, стоявших на часах у складов и не покинувших свои пост. Их торжественно похоронили. Несколько спустя мы хоронили местных погибших жителей, тоже с большой торжественностью. Киев сильно пострадал, была выбита масса стекол. Были немедленно, еще во время взрыва, посланы телеграммы для заблаговременной скупки стекла во всех больших городах. Этот взрыв, не говоря уже о большом количестве погибших людей и материального имущества, имел еще то значение, что указал нам, где находится одна из наших ахиллесовых пят в смысле могущих быть новых несчастий, которыми могли бы воспользоваться всякие неблагонамеренные люди. Оказалось, что на Лысой горе хранится много тысяч пудов динамита, большое количество снарядов на Посту Волынском, и в таком же положении находилось много складов на Украине. В Киеве, благодаря принятым серьезным мерам, удалось предотвратить повторение таких несчастий, по в Одессе через некоторое время стали происходить взрывы такие же, как у нас{228}. Снова масса версий, причем одна из них, что всеми этими делами руководили агенты Entente-ы, желая помешать немцам воспользоваться таким громадным военным имуществом для нужд войны. Я думаю, что официальная версия наиболее правдоподобна: просто наше безобразное отношение к делу, полнейшая деморализация правительственных служащих на всех ступенях государственной иерархии.
Зверинец, огромная площадь земли, находилась вблизи Киевской крепости. Земля вся принадлежит военному ведомству. На часть земли, не знаю, имеется ли достаточное основание, претендует город. Земля эта сдавалась в аренду, но возводить серьезные постройки прежним правительством не разрешалось. Существующая Киевская крепость утратила всякое значение, а между тем Киев не имеет места для дальнейшего расположения, растет же он неимоверно. Я поручил Лизогубу в совете министров разобрать вопрос о ликвидации существующей Киевской крепости и составлении плана новой части города на месте Зверинца, причем предполагалось воспользоваться всеми данными западного и современного опыта для постройки города по последнему слову искусства, так как теперь центром правительственной жизни Украины был бы Киев и необходимо было бы иметь много казенных зданий для высших правительственных учреждении. Предполагалось часть земли продать и на вырученные деньги построить то, что необходимо правительству. Тут же должны были бы быть расположены образцовые рабочие поселки, вообще, план был грандиозный и вполне осуществимый. Совет министров пошел энергично навстречу, и первоначальная работа была поручена инженеру Чубинскому. Дело это за время Гетманства подвигалось очень быстро. Попутно с постройкой этого города, разрабатывался вопрос круговой Киевской железной дороги, которую осуществить очень легко, так как пришлось бы всего построить несколько соединительных веток, а попутно с дорогой вызвать к жизни несколько существующих в очень живописной и здоровой местности поселков и создать из них города-сады. Все это было уже на ходу.
Оборачиваясь назад, я стараюсь быть вполне объективным и не останавливаться перед признанием своих ошибок. Скажу, что наше правительство в одной очень важной отрасли государственного управления было возмутительно слабо и бездарно. Я эту ошибку начал исправлять, но поздно. Я хочу указать на то, что народонаселение совершенно не было осведомлено о нашей работе. Пресса и какая-либо пропаганда совершенно отсутствовали. У меня это дело совершенно не клеилось, несмотря на то, что я с первого же дня Моего управления страной отдавал себе отчет в значении прессы и, вообще, правильной постановки пропаганды наших идей. Я виню в этом очень сильно Федора Андреевича Лизогуба и Ржепецкого. Они это дело все откладывали, жалея денег, а когда начали создавать, то поручили это, видимо, людям неталантливым, и в результате так это дело и заглохло. Хотя в моей Грамоте была объявлена свобода слова и печати тем не менее с первого же дня пришлось ввести цензуру и сильное ограничение этой свободы, главным образом, из-за отделов информации, помещавших постоянно определенно неверные сведения, волновавшие население. Итак, цензура была установлена, но за неимением цензоров, знающих, чего мы добиваемся, знающим местные условия и, наконец, вообще людей подготовленных к этому делу, получалась полнейшая бессмыслица. Статьи, которые действительно необходимо было не пропускать, беспрепятственно появлялись на свет Божий, и наоборот, не только безобидные статьи вычеркивались цензором, но дело дошло до таких случаев, когда речи, произнесенные председателем совета министров, по личному усмотрению какого-то чиновника цензурного отдела, пропускались в печать со всякими пропусками. Дошло дело до того, что я приказал подавать себе все статьи, которые были запрещены цензурой. Мне всегда давали массу всевозможных объяснений по всякому такому случаю особо. Я приказал уволить одного из цензоров за слишком бесцеремонную работу ножниц, но от этого дело мало выиграло. Я призвал к себе министра Кистяковского. Он только размахивал руками и говорил, что у него нет людей. — Я слишком мало знаком с этим делом для того, чтобы авторитетно объяснить, кто тут был виноват, по бессмыслица работы цензоров заставляла меня предполагать, что тут просто злая воля.
Что касается создания прессы, то и туг дело стояло не лучше. В начале вопросы, связанные с прессой, были сосредоточены в министерстве внутренних дел, у товарища министра Вишневского. Я с ним много об этом говорил, и был выработан целый план действий. Директором пресс-бюро был Донцов. На него много жаловались министры. Человек он действительно неважный, но, я думаю, что из него можно было бы выжать пользу, если бы дело пользовалось сочувствием в совете министров. Время проходило, ничего в этой области не делалось. Я настаивал у Федора Андреевича Лизогуба, чтобы он поскорее поставил этот вопрос на повестку в совете. Он все откладывал из-за других, еще более важных и спешных дел. Наконец, целое заседание, или даже несколько, было посвящено прессе. Начались бесконечные прения, каждый из министров высказывал свое мнение, и В результате фактически ничего не было решено. Мне казалось, что тут во многом виноват- Вишневский, в ведении Которого, по должности товарища министра внутренних дел, был весь этот вопрос. Кистяковский, уже сменивший Гижицкого в должности державного секретаря, казалось, судя по его заявлениям, вопрос прессы понимал и придавал ему большое значение. Он, не имея никакого отношения к этому делу, все же им интересовался, указывал путь, как это нужно наладить, вел переговоры. У него была целая стройная система, которая мне правилась. Я тогда решил, что так как вопрос прессы очень важен, а между тем он болтается пока в дебрях министерства внутренних дел и я очень далеко стою от него, то лучше передать его в ведение державного секретаря. Кистяковский рьяно взялся за дело. Было между прочим решено, кроме правильной постановки с повседневной прессой, создать еще особое украинское издательство, где бы печаталась только одна хорошая украинская литература для народа. Были у Кистяковского заседания с целым рядом лиц. Все настаивали на приобретении очень большого дома, который явился бы дворцом прессы. Замашки были очень широкие. Информация должна была бытъ правильно поставлена, кроме прессы, тут должен был сосредоточиться весь отдел пропаганды, и кинематограф, и плакаты и т. п. Началось с того, что дом купили и освободили его. Затем не было ротационных машин. Наконец, и это достали (машину купили, кажется, в Печерской Лавре). Относительно печатных станков дело, вообще, стояло очень остро: их на Украине было очень мало, но потом, не знаю уж, что произошло, но в результате этот станок свалился из вагона железной дороги под откос и там лежал. Затем, пропали какие-то части. В результате машина эта была куплена, кажется, Протофисом, который тоже издавал свою газету. Я об этом узнал поздно. Кистяковский был уже в то время министром внутренних дел, державным секретарем Завадский. Последний, очевидно, не был в курсе дела. Мне доложили в целом ряде неопровержимых доказательств, что тут виноват лишь Господь Бог. Грешный человек — я этому не особенно поверил, но время уже ушло. Нужно сказать, что на Украине не было ни одной хорошей, т. е. действительно серьезной газеты, разбиравшейся в создавшейся обстановке и понимающей свою задачу в такую трудную историческую минуту. Только в последние дни Гетманства появилась прекрасная газета «Мир», сумевшая сразу завоевать внимание общества.
Во главе министерства продовольствия стоял, как я уже говорил, Соколовский. Он совершенно не справлялся с делами. Товарищем же министра у него был Гаврилов, человек чрезвычайно шустрый и ловкий. Он заседал в министерстве продовольствия при всех правительствах, он был там и при Раде, и при большевиках, и, наконец, его пришлось оставить и при новом режиме, так как это был человек наиболее осведомленный и сумевший сделаться крайне необходимым но всех вопросах, связанных с продовольствием. Он разработал и провел в жизнь систему хлебных закупок через хлебное бюро. И Раде, и большевикам, да и нашему правительству система эта очень поправилась, но на самом деле в этом хлебном бюро, куда попала масса всевозможных авантюристов, да и вообще в самом министерстве, как я заметил, с первого же дня дела шли неладно. Соколовского уже в середине лета пришлось сменить. Он сам, как честный и благородный человек, не чувствовал за собой всех качеств, которые необходимы были для очистки министерства от всех тех грабительных элементов, которые или частью заседали в нем, или присосались к нему всякими правдами и неправдами. Был назначен Гербель{229}, который повел дело, как и следовало, к значительному сокращению министерства. Он начал свою деятельность с того, что выгнал около 350 лиц, засевших там без всякого дела, немедленно просил назначения следственной комиссии, которая при первом же беглом обзоре положения в министерстве возбудила около ста дел по мошенничеству, краже и беззастенчивой спекуляции. На попечении министерства продовольствия было также снабжение крупных центров продовольствием. Я считал, что на это дело необходимо обратить особенное внимание. Очень важно было, чтобы в Киеве в этом отношении все было благополучно. Но трудно себе представить, сколько приходилось тут затрачивать энергии. Всюду замечался явный саботаж, нежелание идти навстречу, особенно среди членов городского самоуправления, которые чувствовали, что теперь счатливые дни для них миновали и потому всегда мечтали о создании беспорядков, подрывающих власть нашего правительства. В результате, весной хлеб поднялся в цене. Пришлось разогнать продовольственную комиссию и назначить туда г-на Засядко, человека энергичного, который много помог в этом горе.
Железнодорожники, вероятно, учли затруднительное положение Киева в продовольственном отношении. На Украине, как впрочем почти и всюду, железнодорожные служащие работали во время войны выше всякой похвалы, как я уже говорил, и во время революции, осенью 1917-го года, по крайней мере, когда мне приходилось начальствовать над украинскими частями, стоящими на правом берегу Днепра, и приходилось вблизи видеть работу железнодорожных служащих. Я могу с уверенностью сказать, что большинство этих людей стояло сознательно за порядок. Потом уже, когда за время Центральной Рады у нас образовалось нечто вроде пресловутого российского «Викжеля»{230}, затем, когда украинские комиссары, имеющие безусловные заслуги за собой, по люди без всякого образования, начали вмешиваться в дела, которые им не были по плечу, и, наконец, когда, с одной стороны, ввиду отсутствия работающих в мастерских, почти никакого ремонта подвижного сретства производилось, а последний все больше и больше изнашивался, весь подвижной состав был приведен в невозможное состояние, отчего транспорт в конце расстроился. Когда, несмотря на прибавки жалования, из-за дороговизны жить низшим служащим действительно стало трудно, тогда брожение среди железнодорожных служащих стало определенно чувствоваться. Дороги, вместо прибыли, давали колоссальный убыток. Бутенко подсчитал, что железные дороги Украины должны были давать до 600 тысяч карбованцев убытку. Потом он сделал всевозможные сокращения; между прочим, он провел некоторые сокращения в жаловании низшим служащим при условии прибавки на дороговизну. Мера эта была проведена в совете министров при очень слабом количестве голосов, я же ее утвердил, полагая, что Бутенко лучше видно, возможно ли это сделать или нет. Эта мера, конечно, была непопулярна. Затем состоялось, при благосклонном участии российских большевиков и их единомышленников на Украине, нечто вроде того же Викжел я, и господа эти требовали, чтобы это учреждение было официально признано правительством. И Бутенко, п. совет министров, и я решительно это отвергли. Тогда дело осложнилось, и в середине июня вспыхнула всеобщая забастовка железных дорог{231}. В то трудное время Бутенко действовал разумно и энергично. Немцы же также, где могли, помогали. Очевидно, идеей забастовщиков было прекращение подвоза продовольствия к большим центрам, чтобы вызвать тем осложнения, по этого не произошло. Хотя и плохо, но, продовольствие все же прибывало в Киев и в другие города. Цены в городах все-таки возросли. Забастовка эта не встретила всеобщего сочувствия. Были дороги, которые почти не бастовали. Бутенко, очень увлекавшийся своими украинскими комиссарами, уверял меня, что они в этот раз принесли большую пользу в смысле возобновления движения. Насколько это верно, я сказан, не могу. Во всяком случае, забастовка, длившаяся около двух педель, сошла на нет, и ни одно из незаконных требований исполнено не было. Единственно, на чем я настаивал, это на уплате полностью всего причитающегося жалования.
Еще во время Центральной Рады были некоторые категории служащих, которые, под давлением российских большевистских тенденций, получали жалование, ничем не оправдываемое по своей величине.
Бутенко это законом, о котором я говорил выше, сократил, но за прошлое время я считал необходимым выплатить. Сумма недополученного жалования была очень велика, если не ошибаюсь, 200–300 миллионов. Правительство сразу не могло выплатить этой суммы, поэтому было решено, что этот долг служащим, будет погашаться постепенно. Но это устроилось не под давлением забастовки, а было решено раньше. Порядок среди служащих восстановился, поезда пошли. Убытки, нанесенные забастовкой, тем не менее были очень велики, не говоря уже об отсутствии прихода за время стояния поездов.
Главное, что нанесло большой ущерб, это было отсутствие всяких работ в мастерских, а как я уже раньше говорил, подвижной состав был в ужасном состоянии, и спасти его можно было только усиленной работой. Собственно говоря, что за министр был Бутенко определенно я и до сих пор не мог сказать. На него были сильнейшие нарекания со стороны промышленников, сахарозаводчиков и особенно горнопромышленников, не говоря уже о том, что его обвиняли во всевозможных преступлениях, его выставляли в моих глазах как человека безвольного, который не может справиться с делом. Теперь, ещё все эти события слишком недавнего прошлого, и трудно сказать, кто прав, кто виноват. Лично я его считал человеком во всяком случае неглупым и далеко не безвольным, да это доказало и удивительно легкое прекращение забастовки, затем в смысле его преступлений я положительно ничего сказать не могу. Я так привык, что ко мне приходили люди и доказывали, что все те, которые хоть раз со мной имели разговор, оказывались грабителями и чуть ли не убийцами, что раз навсегда я решил не поддаваться этим наветам и по получении таких заявлений приказывал делать беспристрастное расследование, что было сделано, но не доведено до конца и здесь, как я об этом уже писал.
Часто бывали такие случаи: приходит господин и доказывает мне, что такой-то украл столько-то, причем рассказывает все подробное и, впечатление действительно получается ужасное. Я записываю, по уходе этого господина, обдумываю, кого бы назначить для производства расследования, причем обязательно беру человека, вдали от меня стоящего, не заинтересованного в оправдании предполагаемого преступления. Проходит несколько времени. Расследование вполне обеляет данное лицо. Зову господина, который с такой кажущейся самоотверженностью и сознанием своих гражданских обязанное гей приходил ко мне с этим донесением: «Послушайте, ведь Вы мне говорили о преступлениях, расследование же показало то-то и то-то. Все это неправда!!» — «Ах, так, ну слава Богу, я очень рад за него. А мне передавали, что он сделал то-то». Помню, что несколько раз после таких ответов я стал высказывать довольно горькие истины подобным незваным доносчикам. И что лучше всего — это то, что часто эти же самые доносители и были преступниками, как оказывалось позже.
Виноват ли так Бутенко или не виноват, я не буду судить, но верно то, что наследство он получил очень плохое, а, кроме того, было несколько таких обстоятельств, которые значительно способствовали развалу порученного ему дела. Вот, например, хотя бы вопрос отсутствия смазки. Этот вопрос был неразрешим у нас до моей поездки в Берлин. Бывали случаи, что вышедший поезд в составе 45–50 вагонов доходил до места назначения в составе двух-трех вагонов, все же остальные постепенно выделялись из-за отсутствия смазки. Горнопромышленники обвиняли Бутенко в том, что он якобы нарочно не спешит со смазкой, так как есть заводы для производства искусственной смазки, которую можно было бы при известных затратах от министерства путей сообщения добывать немедленно. Бутенко умел всегда оправдываться, объясняя это просто желанием промышленников наживаться за счет казны, без выгоды для дела. Кто прав, кто виноват, должно было выяснить расследование генералов Кислякова и Герценвейса. Еще во время Центральной Рады из целого ряда служащих-украинцев, оставшихся без работы, был образован полк так называемых железнодорожников. Он был организован для охраны всяких железнодорожных грузов от расхищений. Часть эта не была официальная, она содержалась на какие-то денежные остатки. Полк этот состоял из самостийников. В первые же дни Гетманства полк этот просил разрешения мне представиться. Я произвел ему смогр. Самостийники клялись верно служить. Прошло несколько дней, однажды ко мне утром прибегает Ризниченко, о котором я как-то писал и которого я знал еще с 17-го года, и говорит, что с утра, пришли немцы и обезоружили полк.
Меня это взорвало. Во-первых, я хотел знать, почему они это сделали, во-вторых, я был чрезвычайно неприятно удивлен, что меня не предупредили. Немедленно, я пошел выяснить, в чем дело. Ко мне явился немецкий офицер из «Оберкомандо» и сообщил, что часть эта неофициальная, что они никаких сведений об ее существовании не имели, но что одновременно с этим, по имеющимся у них сведениям, в полку идет пропаганда против меня. Я вызвал Бутенко, он так распинался за свой полк, что в результате, не желая, чтобы мой престиж так подрывался немцами, и с другой стороны, допуская, что немцы были и правы (необходимо заметить, что сведения, которые они получали, были всегда очень точны), я, сговорившись с немцами, послал Туда смешанную комиссию из немецких и украинских офицеров для производства подробного расследования. Через некоторое время выяснилось, что наряду с неподходящим элементом, который немедленно был удален из полка, остальная часть людей представляла из себя хороший материал, но что снаряжение и обмундирование — ниже всякой критики. У меня было малб частей, мне необходимо было увеличить военную мощь всеми возможными средствами. Главным обьектом действий мы имели тогда большевиков, а эта часть для борьбы с ними представляла хороший материал. Решено было, что часть будет приведена в порядок вновь назначаемым командиром, а старого, мало деятельного, уберут. Когда все будет в порядке, я им сделаю смотр, и тогда они присягнут Украине и Гетману и я их переведу в военное министерство. Но время шло, а я все не получал рапорта о приведении части в полный порядок. Наконец, уже в конце октября мне было донесено, что там всего человек 200 пригодны, все остальные не годятся.
Я никак не могу понять, что Бутенко хотел провести. Ятю допускаю мысли, что Бутенко вел двойную игру, думаю, что он был в руках этих щирых украинцев, которые на всякий случай готовили себе камень за пазухой, чтобы в удобный момент выступить против, меня. Я думаю, что это было так, ввиду того, что у Бутенко было еще другое увлечение в том же роде. Он непременно хотел иметь собственную полицию на железной дороге. Совет министров, и в особенности министр внутренних дел, этого ни за что не хотел. Я, не будучи достаточно знаком с этим вопросом, старался изучить его прежде, нежели принять сторону Бутенко или министерства внутренних дел. В результате охрана грузов оставалась за министром путей сообщения, для этого ему нужно было иметь свою охрану, а вся полицейская служба находилась в ведении министра внутренних дел. Бутенко в этом деле был удивительно настойчив, для него этот вопрос был одним из краеугольных камней его министерской политики. Он набрал себе в эти части всевозможных офицеров и генералов, даже таких, которые далеко не славились своей репутацией в смысле подходящих нам политических убеждений. Я, вероятно, виноват в том, что категорически не потребовал их удаления. но Бутенко, с которым я делал переворот, сам далеко не крайний в своих убеждениях, мне казался человеком, не способным замышлять что-либо против Гетманства. Я и до сих пор не имею данных этому поверить, но факт тот, что вся организация Бутенка, действительно, как и предполагалось, пошла против меня в дни восстания Петлюры. Трудно им было и не пойти, так как я резко изменил курс политики, а они все были самостийники. Безусловно, что Бутенко просто поддался лести: все его называли «наш батько — министр», он и решил, что действительно он им батько, а потом ему долго пришлось отказываться от своих же сынков, пока его не схватили.
Я против всех этих господ генералов и офицеров, служивших у Бутенко, ровно не питаю никакой злобы за то, что они выступили против меня. Они своих убеждений не выказывали, но генерал Осецкий принадлежит к разряду того же генерала Грекова, о котором я писал выше и к которому, вероятно, еще придется вернуться. Этот человек был у меня и умолял его оставить, уверял и клялся в своей лояльности и т. д. Если такой способ действий недопустим вообще, то генералу и подавно. Я искренно скорблю, что у нас в армии могли быть такие генералы, которые так низко пали в нравственном отношении. В общем, конечно, верно одно, что и меня, и моих министров судили очень строго.
Но нельзя не признать, что с первых дней вступления нового правительства, хотя бы в железнодорожном вопросе, сразу почувствовалось значительное упорядочение всего дела. Пассажирские поезда были восстановлены и функционировали правильно, товарное движение значительно увеличилось, вопрос со служащими стал на правильный путь. Хотя и плохо, но мастерские начали снова работать, высшее железнодорожное начальство сразу заняло подобающее ему место, хотя оставленные временно Бутенком комиссары, о которых я писал, и мешали работать. Редко какому-нибудь правительству приходилось работать при такой постоянной злой критике, каковая почему-то особенно развилась в Киеве. Главными критиками были приезжие. Картина такая: приезжает измученный человек из коммунистического рая на Украину, обыкновенно о нем предварительно велась большая переписка с датскими или немецкими посланниками в Петрограде или Москве. Он бомбардировал меня письмами, а я с соответствующими приписками с просьбой о том, чтобы помогли его выпуску из Совдепии, посылал эти прошения в министерство иностранных дел для немедленного ходатайствовать о пропуске. Специально для разбора этих просьб у меня были назначены особые часы, так как по многим просьбам мне приходилось писать лично. По приезде человек молчит, спит, пьет и ест — это первая стадия. Вторая — хвалит-, находит, что Украина прелесть, и язык такой благозвучный, и климат хорош, и Киев красив, и правительство хорошее, все разумно — одним словом, рай! За это время он успевает кой-кого повидать из раньше приехавших и вот, так недели через две, входит в третью фазу. Еще весел и любезен, находит, что все хорошо, но вот он ездил на извозчиках, они уж очень плохи, и мостовая местами неважна, почему это держат таких градоначальников. «Да позвольте, говоришь ему, Вы вспомните, что в Совдепии было, мы ведь всего месяца два как работаем, разве можно теперь думать об извозчиках и мостовых, благодарите Бога, что Вы Живы». — «Так-то так, но все же», — уходит и на Довольно долгий срок. Я уже понимал, что для него наступила четвертая фаза. Обыкновенно он уже не приходит на дом, а его встречаешь или на улице, или же где-нибудь } театре. Прекрасно Одетый, сытый, румяный и чрезвычайно важный. — «Знаете Вы, что я Вам Скажу, Ваша Украина вздор, Пе имеет никаких данных для Существования, несомненно, что все это будет уничтожено, нужно творить единую нераздельную Россию, да и украинцев никаких нет, это все выдумка Немцев. Потом, знаете, ну почему это в правительстве держать таких людей», — и пошла критика, и критика без конца. Кончалось обыкновенно тем, что он заявлял, что он очень занят, так как заседает в таком-то и таком-то центральном комитете, где они уже имеют вполне Определенные взгляды держав Согласия о будущей их политике в России и что ему нужно спешить, так как иначе он опоздает. Чтобы — остаться уже в роли беспристрастного наблюдателя, нужно указать ещё на другую категорию приезжих, которые из третьего фазиса Не переходили в четвертый, а находили утешение или в бешеной спекуляции, или же делались постоянными заседателями всяких «Би-ба-бо», «Шато де флер» и других подобных заведений, которые в Киеве, несмотря на периодические гонепия'.'когорым они подвергались министерством внутренних дел, к сожалению, всегда процветали. Но, к сожалению, количество приезжих, посвящающих себя критике или спекуляции, во Много раз превосходило количество безобидных забулдыг, которые старились' наверстать безвозвратно потерянное время для кутежей в Совдепии. Все это для действующих в правительстве лиц было иногда неприятно, так как и без того было трудно, а критиковавшие люди были иногда люди с именами, которые, хотя и наступил новый режим, все-таки имели свой, казалось, удельный вес.
Однако среди великороссов далеко не все были их мнения все-таки были люди, которые хотя и не играли серьезной роли в киевской политике, но воспоминание о них я сохраню на всю жизнь как о благороднейших и честнейших людях. Видно было, что они душой хотели мне помочь в моем трудном положении. Между ними могу назвать Николая Николаевича Шебеко, бывшего посла в Вене, и генерала Головина. Оба они не состояли на службе в Украинской Державе. Головину я предложил одно из высших мест в армии, но он отказался за нездоровием и оставил за собой лишь разбор документов, касающихся войны. Они довольно часто бывали у меня, понимали идею во всей ее широте и совершенно бескорыстно помогали мне, насколько могли.
Если правительство не особенно рьяно боролось со всеми шантанами, то нужно в защиту его сказать, что оно очень много создало для искусства Все вопросы искусства были выделены в отдельное главное управление, во главе которого стоял Петр Яковлевич Дорошенко с подчинением его министру народного просвещения. Министр Василенко был в дружеских отношениях с Дорошенко, поэтому тут недоразумений не было и быть не могло. Я лично очень любил доклады Дорошенка, так как это была единственная область, где я, кроме нравственного удовлетворения, не испытывал ничего другого. Я не имею возможности сделать подробный обзор всего, что было создано в этой области, сделаю лишь краткий перечень. Главное, что мы достигли в этом году, — это создание Державного драматического театра. У Петра Яковлевича были грандиозные планы, он хотел создать и Державный оперный театр, но это, во-первых, стоило бы огромных денег, во-вторых, положительно в данное время это не имело особого значения. Державный же украинский драматический театр, мне казалось, сыграл очень благородную роль в культурной истории Украины. До сих пор украинский театр существовал в России с определенным репертуаром, мало меняющимся вроде Наталки Полтавки и тому подобное, и далее этого не шел. Это было хорошо, но все же театр украинский не выходило из рамок нечто местного и с европейским репертуаром не был знаком. Теперь же Державному драматическому театру было поставлено целью выйти на широкую дорогу мирового искусства, вместе с тем попутно знакомя нашу киевскую публику, столь невежественную во всем что касается Украины и украинского языка. Конечно, этого можно, было достигнуть лишь при действительно хорошем составе артистов и хорошей постановке. К моему великому удивлению, ни в хороших артистах, ни в хорошей постановке затруднений не было. Многие из артистов поселились на Украине, другие приехали из России, точно так же как и режиссер, который был приглашен из Московского Художественного театра, но беда была в отсутствии помещений, так как все театры были законтрактованы. Театр, который мы хотели взять себе, был занят каким-то немецким шантаном. Я, зная, как Ейхгорн всегда шел навстречу, написал ему письмо по этому поводу, и он приказал мне передать, что исполнит мое желание и напишет мне об этом, но на следующий день он был убит. Так это дело и кануло в воду. Новое немецкое начальство находило, что желание мое теперь уж невозможно исполнить. Тогда решено было взять другой театр, по тут пришлось иметь дело с какойто опереткой, которая изобретала всевозможные способы, чтобы остаться. Наконец, после бесконечной волокиты дело уладилось, и со дня открытия театра, уже в октябре, дело у него пошло чрезвычайно удачно, при полном одобрении даже самой взыскательной, великорусской публики, я не говорю уже об украинцах, которые были в восторге. Там был европейский репертуар. Должны были ставиться многие, еще никогда не игранные пьесы, кроме того, Ибсен, Гауптман и даже Шекспир. Мы помогли также молодому Украинскому театру стать на ноги. Петр Яковлевич всегда шел навстречу театру старика Садовского{232}, одного из могиканов старого украинского искусства, и Саксаганского{233}, особенно славишегося своей постановкой.
В области музыки был создан Державный оркестр, который должен был знакомить публику с лучшими произведениями украинской классической музыки. Была основана школа кобзарей. Я придавал этому большое значение. Кобзарей всегда любили у нас, и среди народа они имели успех. Репертуар кобзарей, в свое время чрезвычайно выдержанный и высоко художественный, с годами начал падать. Мы хотели кобзарей поддержать на той художественной высоте, на которой они стояли раньше. В главное управление по делам искусства перешло также все кинематографическое дело. Предполагалось широко распространить кинематограф среди народа с воспитательной и научной целью.
Решили создать национальный музей, его хотели построить на новом участке города на месте бывшего Зверинца, пострадавшего так сильно от взрыва. Пока же все предметы собирались в Киевском городском музее. Музею были сделаны богатые пожертвования.
Отделывалось новое здание Олыинской гимназии, куда думали перевести Академию художеств{234}. Субсидировались различные школы художественного значения; вообще, дело шло хорошо, и я думаю, что эго дело и теперь не может заглохнуть. Наряду с этим, Петр Яковлевич, как человек вполне культурный и образованный, относился любовно ко всем памятникам и учреждениям русского искусства всех эпох, в этом отношении пасынков не было. Также разрабатывался проект памятника Шевченко. Вопрос этот окончательно не был решен, но ставить его думали на площади перед Михайловским монастырем.
Когда я увидел, что проект издания украинской классической литературы пока не мог увидеть света, все что-то мешало, я передал это дело также Петру Яковлевичу, и дело как будто обещало подвинутся, по тут грянули события, которые отодвинули все эти вопросы, столь животрепещущего интереса, столь важные и для народа и для Украины — вообще на задний план. Я искренне жалею, что не успел привести в исполнение всего задуманного в этой области.
Краткий очерк личности Василенко я уже указал, он работал очень много, но встретился почти с непреодолимыми трудностями. Главным недостатком было действительно отсутствие педагогического персонала и необходимых учебников.
Еще в мае месяце у меня было как-то заседание при участии Василенко и директора департамента, ведавшего этим вопросом, и оии тогда ломали себе голову, как сделать так, чтобы к осени успели быть отпечатаны учебники хотя бы для низших школ. Их немедленно заказали за границей, но до начала учебного года их еще не было, помню, как это меня волновало. Василенко очень просвещенный человек, но, к сожалению, его помощники были далеко не из удачных. У него было любовное и деловитое отношение к украинскому языку и громадное уважение ко всей русской культуре, без шовинизма. Это и не нравилось его ближайшим помощникам, и они не шли ему навстречу. Я как-то ему об этом говорил, говорили и другие, он все обещал сделать у себя радикальные перемены среди высшего состава министерства, но время шло, а он их не делал.
Я не стану также входить во все подробности всех наших переживаний в деле народного просвещения на Украине за время Гетманства. Дам лишь краткий перечень всего сделанного, а также укажу те вопросы, которые были в периоде разработки.
Низшие школы были в состоянии полного развала. Главная забота министерства состояла в том, чтобы создать условия, при которых с осени занятия могли бы нормально восстановиться. Не говорю уже о том, что во многих школах не было учителей, здания были, особенно в прифронтовой полосе, в ужасном состоянии. Для подготовки учителей к новым требованиям, предъявленным министром к сельским учителям, было устроено в Киеве несколько учительских съездов. Василенко придавал этим съездам большое значение. Одним из животрепещущих вопросов этого времени было увеличение жалования учителям, как низших, так и средних учебных заведений. Проект этот почему-то очень долго разрабатывался и долго как-то не проходил через совет министров. А между тем, он действительно был из очень спешных, так как при существующих окладах положительно нельзя было жить. Перед роспуском, уже по окончании всех работ одного учительского съезда, желая поближе с этими курсантами познакомиться, я пригласил весь состав съезда (человек около 200) к себе завтракать. Закон о прибавке жалования был уже вырешен, а потому за завтраком я нашел возможным объявить об этой прибавке. Нужно было видеть, какая это действительно была радость. Прибавки в то время мы, как я припоминаю, дали основательные. За этим завтраком я обратился к ним с приветствием и между прочим указал, что прошло то время, когда в течение 250 лет Украина была угнетена Россией. Насколько это нужно было говорить или не говорить, это, конечно, вопрос чрезвычайно спорный, но что меня удивило, это то, что некоторыми великорусскими кругами это было принято прямо-таки как нечто ужасное, ко мне являлись люди, просили объяснений, толкований и т. д. «Все можно было простить Скоропадскому, но этого простить нельзя». А я считаю, что для великорусского дела несравненно разумнее было бы сказать: да, это было, но теперь этого не будет, это прошло.
Василенко в средней школе находил особые затруднения, был резкий антагонизм между русским учительским персоналом и украинским, и та и другая сторона предъявляли непримиримые требования. С одной стороны, украинцы хотели все до последней гимназии украинизировать, с другой, русские делали все, что могли, для того, чтобы ровно ничего украинцы не получили. Как пример, я могу указать на вопрос украинских гимназий в Киеве. В этом городе, если не ошибаюсь, было двенадцать русских гимназий, может быть, больше, но во всяком случае не меньше{235}. Предполагалось открыть четыре украинских. Вначале министр находил возможным уладить все это дело самостоятельно, по потом дело до того обострилось между украинцами и всеми кругами великороссов, которые имели соприкосновение к гимназическому делу, что пришлось уже мне самому постараться как-нибудь уладить этот спор. Ко мне являлись и директора гимназий и родительские комитеты одной и другой стороны. Украинцы были вне себя, не имея помещений под украинские гимназии. Великороссы находили бесконечную массу отговорок всячески тормозить размещение украинских гимназий. Я приказал начальнику своего штаба лично ознакомиться со всеми вариантами для разрешения этого вопроса. На одном из них остановился и чуть ли что не силой передал освобожденные помещения украинским гимназиям. Нужно заметить, что вопрос не шел о том, чтобы сократить число русских [проводить] гимназий, а лишь о том, чтобы потесниться и дать возможность детям украинцев половину учебного дня. Теперь я уже всех подробностей этого дела не помню. Нужно было разместить младшие классы в единственно свободном в Киеве здании одного из женских монастырей, причем, по выяснению начальником штаба дела, оказалось, что монастырю этого помещения не нужно, и оно пустует. Админис фация монастыря, не разобравшись, что это для украинской гимназии, согласилась, а затем, когда узнала, что это для украинских детей, отказала, указывая, что может произойти соблазн для монахинь.
В это дело вмешался митрополит, но я никак не мог согласиться, что малолетние мальчики могли бы соблазнить взрослых монахинь, и отвел это помещение гимназии.
По разработанному проекту, было решено открыть до 50-ти гимназий на Украине, но из-за недостатка учительского персонала это число пришлось несколько сократить{236}. Да я особенно и не жалел об этом. Важно было не столько в начале стремиться к увеличению числа учебных заведений, сколько важно было упорядочить все эти школы. И без того, за время Центральной Рады во многих селах были открыты на бумаге гимназии, а на самом деле их фактически или не было, или же многие из них влачили самое печальное существование. Я лично обращал особое внимание министра Василенко на создание специальных заведений для подготовки более подходящего состава учителей. С этим классом людей я очень хорошо знаком, имея у себя в Корпусе, особенно в украинском, около 60 % офицеров из учителей сельских школ. В общем, я вынес убеждение, что эго прекрасный материал, но подготовка ниже всякой критики. Прежде нежели дать им в руки детей, нужно их самих образовать и воспитать.
Этот вопрос, по-моему, кардинальной важности для народного образования, остался лишь в проекте. Василенко не успевал справиться с начатыми уже делами. Коньком Василенко были высшие учебные заведения. Он за это дело взялся рьяно, почти с юношеским, можно сказать, пылом. Еще в июне месяце прошли законы об открытии двух украинских университетов — одного в Киеве, другого в Каменец-Подольске{237}. При Центральной Раде был создан народный университет, но это была пародия высшего учебного заведения. Кроме того, и украинского там почти не было. Украинцы, которые, не в обиду будет им сказано, любят сразу брать широкий размах, не считаясь ни с какими действительными условиями жизни, еще в мае месяце прислали ко мне депутацию с ходатайством об украинизации университета св. Владимира. Я нашел, откровенно говоря, это абсурдом — расстроить в корень один из старейших университетов, имеющий громадную, мировую заслугу в стране, в которой мы и так страдали от отсутствия достаточного количества высших учебных заведении. Открытие нового, хорошо оборудованного украинского университета я считал чрезвычайно желательным. Переговорил с Василенко, и оказалось, что эта мысль у него уже давно родилась и он уже подготовил материал для ее разработки. Работа закипела, закон прошел, ассигновано деньги. С трудом подыскали украинских профессоров, назначили ректора{238}. Я назначил комиссию во главе с П. Я. Дорошенко для отыскания желательного помещения. Они остановились на строящемся великолепном здании артиллерийского училища, которое теперь, ввиду того, что имелось уже прекрасное подобное же училище в Одессе, было излишне{239}. Дело это тянулось очень долю, прежде нежели отыскали выход, но в конце концов все уладилось. Университет был размещен великолепно, ничем не хуже, если не лучше многих старых. С Каменец-Подольским университетом дело обошлось значительно легче, так как там и город и все общество пошло навстречу. Оба университета были торжественно открыты в сентябре.
Киев, хотя и был главным культурным центром всего юга России, тем не менее всегда был провинциальным городом, теперь же, когда он в некотором роде стал столицей 40 миллионов людей, в нем, особенно первое время, чувствовался ужасающий недостаток в людях науки, а уже в действительно культурных украинцах и подавно. Украинцы все говорят о том, что я пользовался русскими силами для создания Украины. Да потому, что одними украинскими силами нельзя было создать ничего серьезного. Культурный действительно класс украинцев очень малочислен. Это и является бедой украинского народа. Есть много людей, горячо любящих Украину и желающих ей культурного развития, но сами-то эти люди русской культуры, и они, заботясь об украинской культуре, нисколько не изменят русской. Это узкое украинство исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет, Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов 4 польского и немецкого происхождения. Я галичан очень уважаю и ценю за то, что они глубоко преданы своей родине, а также и за то, что они действительно демократы, понимающие, что быть демократом — не значит действовать по-большевистски, как это, к нашему стыду, происходит у нас. У них все-таки есть свой образованный класс, что дает, уверенность, что галичане сумеют сохранить свою народность.
Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так наивно любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо. Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил Украины, но пусть мне галичане или кто-нибудь из наших украинских шовинистов скажет по совести, что, если бы он был теперь жив, отказался бы от русской культуры, от Пушкина, Гоголя и тому подобных и признал бы лишь галицийскую культуру; несомненно, что он, ни минуты не задумываясь, сказал бы, что он никогда от русской культуры отказаться не может и не желает, чтобы украинцы от нее отказались. Но одновременно с этим он бы работал над развитием своей собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это делать. Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении.
При существовании у нас и свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем.
Для того, чтобы пополнить недостаток в научных силах, у нас составлялись списки лиц, которых желательно было бы привлечь для работы на Украине. Мы пользовались для этого так называемыми державными поездами, которые были установлены по соглашению с Совдепией, этими поездами мы привлекли к себе нескольких выдающихся и подходящих нам по своим убеждениям работников из числа людей науки и искусства. Это дало возможность Василенко внести проект о создании Украинской Академии наук.
Я горячо сочувствовал этому начинанию. Была составлена комиссия под председательством профессора Вернадского{240} и внесенный закон об учреждении Академии со всеми необходимыми ассигновками, и он прошел{241}. Уже и помещение для начала работ Академии было подыскано.
Я так по памяти не могу в подробностях указать все отделы Академии, помню лишь, что там был отдел для разработки украинского языка и обращалось большое внимание на создание отдела по естествоведению Украины, причем этому отделу предполагалось придал, значение главным образом практическое. Теперь, конечно, все это рухнуло.
Василенко имел много врагов, его безбожно критиковали во многих вопросах. Может быть, критика была и права, но кто не ошибается раз много работает. Во всяком случае, несомненно, что какие бы впереди Украине не предстояли испытания, след деятельности Василенко останется.
По Брест-Литовскому договору, Германия признала Украину в этнографических границах{242}. Это был основной принцип для будущего, по мнению господ, участвовавших в подписании Брест-Литовского договора, которым нужно будет руководиться при проведении украинских границ. Получался абсурд, но об этом украинские дипломаты мало беспокоились.
С одной стороны оказывалось, что Украина въезжала в самое сердце Области Войска Донского, захватывая при этом Ростов, таким образом, Дон отрезался окончательно от моря. С другой стороны, Крымский полуостров, слабо, сравнительно, населенный украинцами, не входил в состав Украины. Стоит посмотреть на карту, чтобы сразу понять, насколько такое государство не имеет данных для того, чтобы быть жизнеспособным. Причем нужно заметить, что если бы в силу каких-либо условий такие границы могли бы в конце концов установиться, несомненно, Крым сделался бы злейшим врагом Украины, а весь этот богатейший украинский край, имея Крым, который, очевидно, был бы Украине враждебен, так как естественно сознавал бы, что для Украины без торговли он представляет вечную угрозу, этот край был бы обречен на медленное, увядание, так как его порты Одесса и Мариуполь находились бы под непосредственными ударами со стороны Крыма.
Будущее Крыма тоже было неясно. С одной стороны, немцы там утвердились, и им Крым все более и более нравился. Каковы были планы немцев, мне было доподлинно [не] известно, но из разговоров с ними я чувствовал, что получение морской базы на Черном море в
Крымском полуострове было для них чрезвычайно желательным. А так как в Крыму есть много немецких колонистов, то мне казалось, их планы заходили еще дальше. С другой стороны, Турции, имевшая очень многих эмиссаров в Крыму, вела свою политику среди крымских татар.
Были различные слухи. Мои агенты, доносили о планах Турции и татар на создание автономной от Турции области. Насколько все это было серьезно обосновано, я, не знаю. В, мае месяце первой ласточкой с Дона приехал полковник, фамилию его я, забыл, и заявил, что на Дон уесть серьезная партия, стремящаяся к самой тесной связи с Украиной, он указывал, насколько это было б выгодно и донцам, и украинцам, но тут были какие-то неясности относительно того, кого же, собственно говоря, представляют эти лица, о которых он говорил, он просил каких-то денег, Я его отослал к Лизогубу, пусть разберется. Тот переговорил с ним и получил впечатление, что, все это несерьезное; на этом дело и кануло в воду. Через некоторое время приехала уже официальная депутация от Донской области в составе генерала{243} и двух полковников;.насколько припоминаю, один из полковников был инициатором офицерского республиканского союза, который внес столько разлада в. офицерское общество во время революции, Я их видел всего лишь раз. Через день или два ко мне приехал с Дона офицер с собственноручным письмом от Краснова, в котором последний сообщал мне, что он атаман, вся власть у него, что Доц объявил себя самостоятельным до восстановления России{244}, причем Краснов просил спешного выяснения вопроса о границах, надеясь, что, несомненно, Украина поймет законные желания Дона.
Мое положение было чрезвычайно щекотливо. В душе я соглашался с тем, что провести границу по способу Брест-Литовского договора было выгодно, может быть, лишь немцам, которые имели бы вместо соседки России вечно бурлящий поток, где им будет возможно фактически распоряжаться, как им будет угодно. Да и с немецкой стороны, мое личное мнение, что такая политика в конце концов невыгодна и близорука. Для нас же иметь на фланге обозленных до крайности казаков прямо-таки было бы дико. Но украинские круги, с которыми я говорил, и слышать ничего не хотели. Ростов им нужен, это будет связь с Кубанью, которая тоже населена украинцами и поэтому будет принадлежать Украине, и много еще других доводов заставляли их быть в этом вопросе непримиримыми. А Краснов не ждал: вслед за письмом, через несколько дней прибыло в Киев посольство во главе с генералом Свечиным. В составе его был генерал Черячукин, представитель промышленности, железнодорожного дела и другие. Все эти господа возбудили целый ряд вопросов, но самым главным было разрешение вопроса о границах. Тут, при разговоре, выяснилось, что казаки, со своей стороны, запрашивают тоже невозможное.
Свечина я хорошо знаю, он командовал полком в дивизии, которая была под моим начальством, поэтому постоянно являлся, ожидая ответа, я же не мог ему дать такового, так как был убежден, что если передам этот вопрос на разрешение в комиссию, пока мы сами себе не уясним точно, что действительно нам нужно и чем мы можем поступиться во имя мирного соседского сожительства с Доном, такая преждевременная комиссия могла бы до крайности обострить отношения и ни к каким результатам не прийти, что, кстати, было бы очень на руку немцам, так как во всех спорных областях они устанавливали свой контроль, а спорною областью здесь были богатейшие месторождения угля и антрацита.
Свечин, так ничего от меня не добившись, уехал. Я его очень уважаю и ценю, но отъезд его был мне скорее приятен. Лично, будучи не казаком, он хотел быть plus royaliste que le roi,[72] горячился, а тут нужно было лишь время и спокойствие. Заместителем его был генерал Черячукин, очень спокойный, умный и доброжелательный человек. Он по окончании миссии остался представителем Дона при украинском правительстве. Я постоянно с ним встречался и до последнего дня не изменил составившееся у меня о нем мнение, что лучшего представителя от Дона нам не нужно было. Дело о границах тянулось очень долго, у нас требования стали уже не такие повышенные. Тогда, пригласив [к] себе специалистов по угольному району, выяснив себе окончательно наши желания с Федором Андреевичем Лизогубом, я вызвал Черячукина и сказал ему, что ему необходимо убедить своих к таким уступкам, и он согласился. Через несколько дней под моим председательством было заседание, и все разрешилось благополучно.
Соглашение было полное{245}. Комиссиям оставалась лишь разработка деталей, главным образом, по торговым и железнодорожным вопросам. В то время Краснов вел энергичную борьбу с большевиками, ему необходимы были деньги, а главным образом, снаряжение, обмундирование и вооружение снарядами.
Я считал, что наш долг и разумная украинская политика требовала от нас всячески идти ему навстречу. Краснов вел борьбу исключительно с большевиками, которые являлись и нашими врагами. Для Украины иметь Дон добрым соседом было всегда чрезвычайно желательным не только в смысле торговом, где он мог помочь как жировыми веществами и жидким топливом, так как со взятием Царицына ему открывалась возможность их получить, по, что было особенно важно, это то, что Дон из всех областей бывшей Российской империи, конечно, кроме Кубани, которая наполовину заселена украинцами, всегда пойдет навстречу украинским национальным домоганиям, он и сам стоял, не так остро, как мы, но все же стоял на точке децентрализации России. Я теперь смотрю на политику Директории на Украине и полагаю, что та линия, которую Украина повела против Дона, ошибочна во всех отношениях и дорого обойдется Украине и Дону. Впрочем, будущее докажет это яснее всяких слов. Что касается Крыма, то весной и в начале лета у нас пока только положение выяснялось и никаких отношений, ни особенно враждебных, ни дружеских, не наблюдалось. Важно было знать, что думают немцы. Но такое положение, к сожалению, продолжалось недолго.
Приблизительно одновременно с приездом миссии генерала Свечина, явилась и Кубанская депутация во главе с неким Рябовым{246}. Они просили у нас снаряжения, снарядов и оружия. Мы им дали, что могли. Вообще, в этом отношении для борьбы с большевиками я помогал, чем только мог, иногда в ущерб, скажу, себе. Немцы, хотя и относились ко мне хорошо, но, я уже говорил, окружили меня самым тщательным наблюдением, поэтому выдача оружия Алексееву и затем Деникину всегда представляла некоторое затруднение.
С Кубанью и Черноморской областью у нас установились совершенно дружеские отношения{247}. Были предположения о заключении союза и даже больше того, чтобы Кубань вошла в состав Украины на автономных началах. Я этого очень хотел, но считал, что с этим делом спешить не нужно. Для меня, во-первых, неясно было, что делается на Кубани и Черноморьи, какое там действительное настроение умов по отношению к этому вопросу, во-вторых, я думал, что важнее всего, прежде нежели привлечь к себе другие области, добиться порядка у себя. Раз это будет достигнуто, то многие области сами собой к нам придут. Немцы, с которыми мне приходилось говорить об этом и без которых я не мог фактически предпринять серьезных поенных действий, весной и в начале лета не имели определенной линии поведения.
Я хотел отправить дивизию Нагиева на Кубань и формировать еще части для посылки в Черноморье. Тогда же я и начал формирование Черноморского коша в Бердичеве{248}, но немцы мешали; постоянно были какие-то затруднения, которые им препятствовали определенно высказаться поэтому поводу. А Черноморье прислало ко мне очень толковую депутацию, с которой у нас был разработан весь план действий для борьбы с большевиками. Когда же все свои недоразумения немцы выяснили, было уже поздно. Они сами были в периоде разложения. Я их политики понять не мог. С Алексеевым{249} я был в частной, переписке. Писал ему как-то, прося принять кое-какие меры, касающиеся моего личного имущества, он мне очень любезно ответил. Затем он неоднократно обращался ко мне с просьбой просить немцев освободить офицеров его армии, которые были ими заарестованы по подозрению в том, что они являются агентами Антанты на Украине и вербуют себе части. Я ему помогал насколько мог, офицеры были освобождены. Затем, как я уже говорил, в смысле оружия, патронов и снарядов, я шел всегда навстречу его армии. У меня был список всех офицеров его армии, находящихся на территории Украины. Я их не трогал, особенно в первое время, считал, что мы делаем общее дело, каждый в тех условиях, в которых находился, и теми путями, которые ему доступны.
Затем Алексеев умер. Узнавши это, я отслужил торжественную панахиду в своей домовой церкви, о чем приказал объявить в прессе. Его заменил Деникин. Отношения сразу изменились, началась сильнейшая агитация среди офицеров против меня и против формируемых мной частей, чтобы офицеры не поступали в эти части. Появились газетные статьи самого возмутительного содержания, особенно последними занимался Шульгин. Лично меня это не трогало, наоборот, это послужило поводом к тому, что я от многих очень почтенных людей получил их устное и письменное выражение своего негодования по поводу этих статей; но делу это сильно вредило, так как в слабую, несплоченную, распустившуюся офицерскую массу это внесло еще большее разложение. Тогда, видя, какой оборот принимает это дело, я назначил служившего у нас в генеральном штабе полковника Кислова и послал его своим представителем к Деникину. Кислова я лично принял, подробно ему объяснил положение дела. На меня он произвел очень хорошее впечатление, тем более я считал его подходящим, что он был бывший начальник штаба Корнилова. Я ждал присылки ко мне такого представителя, но он ко мне не явился. Хотя я знал, что был неофициальный представитель Деникина в Киеве, по он работал как бы в подполье. Изменение к лучшему в этом деле не последовало до конца Гетманства. Наоборот, как выяснится при дальнейшем изложении, дело приняло совершенно невозможный оборот, насколько все это было полезно России, предоставляю каждому самому решить.
С австрийцами, с легкой руки майора Флейшмана, с первого же дня начавшего какую-то сложнейшую интригу, у меня установились чрезвычайно вежливые отношения, при полном, сознаюсь, моем недоверии к ним, что вскоре и оправдалось.
Ко мне начали поступать донесения наших агентов, что в Александровске австрийским полком, состоящим из украинцев{250}, командует эрцгерцог Вильгельм, который при помощи окружающих лиц, особенно какого-то полковника, ведет усиленную агитацию в свою пользу с целью быть гетманом. Из истории Украины мы знаем, что такой фарс — вещь обыкновенная, но время для этого я считал неподходящим и потому этому сообщению не поверил.
Но, однако, через несколько времени подобные сообщения участились. Это возбудило во мне уже интерес. Я послал проверить, и оказалось, что все это действительно было верно, причем туда стекались все недовольные новым режимом элементы.
Австрийский эрцгерцог Вильгельм выдавал себя за преданнейшего украинца, называл себя Васылько, говорил только по-украински, носил украинскую рубашку. Его эмиссары разъезжали по Украине, уже были некоторые части, с которыми они завели сношения, в дивизии Нагиева без ведома последнего составилось совершенно определенное ядро приверженцев эрцгерцога, были разветвления этой конспирации и в больших городах. Я очень недоверчиво отношусь к сведениям, получаемым агентурным путем, по туг из целого ряда сопоставлений и мелких фактов оказывается, [что] все было согласно с сообщениями. Из всех полученных данных оказалось, что немцы не были в курсе, австрийское же официальное командование и граф Форгач говорили, что они ничего не знают и не сочувствуют этому. В дальнейшем же выяснилось, что все это дело поддерживалось и субсидировалось австрийским двором и другими кругами. Я решительно попросил Гренера и Мумма прийти мне на помощь. Через некоторое время эрцгерцога убрали. Он потом передал через Липинского, нашего представителя в Вене, о своем желании приехать ко мне объясниться. С австрийцами главная беда состояла в том, что на словах мы с ними определенно договаривались об одном, а на деле выходило совсем другое, здесь, нужно сказать, в большой степени виновато было состояние их армии, которая отличалась самыми грабительскими наклонностями. У немцев этого не было. В июне в Киев приехал главнокомандующий австрийской армией{251}. Он был у меня, я ему немедленно отдал официальный визит и больше его не видел. Несколько времени спустя приехал генерал, в ведении которого был район Одессы. Там отношения с нашими властями никак не налаживались. Насколько немцы хотели действительно порядка, настолько там производило впечатление, что этот порядок совсем уже не так желателен австрийцам. Назначенный еще при Центральной Раде генерал-губернатором юга Украины некий бывший деятель Центральной Рады был отстранен от должности; причины его ухода я не помню в точности{252}. Совет министров решил, и я подтвердил, что место генерал-губернатора не будет замещено, но что при австрийском командовании будет назначен представитель совета министров. После долгих поисков остановились на Гербеле. Он согласился, но через некоторое время попросил, чтобы ему были увеличены его полномочия. Совет министров почти что согласился с этим, но прежде нежели вопрос этот был решен в положительном смысле, генерал Гренер в разговоре с одним из министров узнал об этом и решительно стал против подобного разрешения вопроса, считая, что придание таких прав Гербелю, при его нахождении в австрийском «Оберкомандо», является чрезвычайно опасным. Это довольно интересно в смысле того доверия, которое существовало у немцев по отношению к австрийцам. Гербелю не дали просимых им прав, и он через некоторое время ушел, На место его был приглашен генерал Раух, незадолго перед этим приехавший из Совдепии, где ему пришлось долго сидеть в тюрьме у большевиков. Моим представителем при главнокомандующем австрийскими силами на Украине был генерал Семенов, мои товарищ еще по Пажескому Корпусу. Он давал нам совершенно определенные сведения о состоянии армии и о том нарастающем неудовольствии и постепенном развале, которые чувствовались чуть ли не: первых дней прихода на Украину австрийцев. Лучше других частей Зыли венгерцы, по и они были невыносимы по отношению к местным жителям, так что их польза парализовалась тем громадным вредом, который они наносили умиротворению занятой ими страны. Строгости т австрийской армии значительно превышали то, что в этом отношении 5ыло в немецкой, но порядка не было, да, очевидно, и начальство было не на высоте из-за спекулятивных тенденций. Они разрешали себе совершенно недопустимые действия, например, я помню, что возник опрос, на каком основании австрийский генерал сдал в Одессе какой-то компании, наполовину армянской, наполовину еврейской, право рыбной ловли да еще при помощи траления, что запрещено законом.
Подобные превышения власти встречались на каждом шагу. Это было невыносимо. Граф Форгач считался у австрийцев одним из лучних их дипломатов, недаром его прислали в Украину. Он действительно хорошо знает свое дело, чрезвычайно мягкий в обращении, но одновременно с этим решительный и немилосердный. Он сам мне рассказывал, что в Сербии его ненавидели настолько, что всех собак в Белграде называли Форгачами; когда он гулял, то дети, увидев собаку, звали ее таким именем, но, говорил он, «это на меня нисколько не действовало».
У меня с ним отношения были чрезвычайно осторожные. Думаю, что в деле эрцгерцога Васылько он действительно не принимал никакого участия. Россию, это было видно по всему, он ненавидел. К Украине относился с интересом постольку, поскольку она могла войти в орбиту постоя иного влияния Австрии, а может быть, при известных счастливых для Австрии комбинациях, включена четвертой державой в состав Австрийской империи. Теперь это кажется диким, но эта мысль кое у кого была.
Он имел постоянные сношения с нашими украинцами шовинистического толка: всякое назначение на службу в правительстве, несогласное с их желанием, всякий шаг правительственного, лица, в котором чувствовалось подозрение, что это лицо не крайний шовинист, немедленно доносились Форгачу, а он обыкновенно косвенным путем, чрезвычайно мягко, но настойчиво, доводил этот факт до моего сведения. Планы, очевидно, у него были очень большие, но они не удавались, и уже в первых числах сентября он исчез, передав посольство князю Фюрстенбергу, Это тоже показывает его ловкость, что он вовремя убрался и не попал в глупое положение, в котором оказался князь Фюрстенберг, будучи посланником правительства, которое больше не существовало.
С большевиками у нас никакой политики не было — Единственное соглашение, которое состоялось между нами и ими — была посылка «державных поездов» в Москву и Петроград, которые являлись истинным благодеянием для несчастных, которых мы оттуда вывозили, а нам, кроме того, давали возможность добывать себе из Совдепии тех людей, которые нам действительно были необходимы для правительственного аппарата. Ученые, специалисты по различным вопросам, художники, крупные фабриканты, банковские деятели приехали таким образом на Украину. Второе соглашение пришлось иметь по поводу оставления в Совдепии наших консулов{253}. Эти люди принесли много пользы украинцам, жившим в Совдепии, охраняя их от большевистских мерзостей.
Немцы при своем продвижении не дошли до предполагавшихся границ Украины и Совдепии, а провели демаркационную линию несколько раньше. Нужно было видеть то горе, которое испытывали люди, приезжавшие ко мне, когда узнавали, что пока севернее демаркационной линии мы фактически не в состоянии управлять страной. Сколько слез и отчаяния вызывали эти известия, и все это были не помещики, даже не мелкие собственники, которые знали, что все их добро будет сожжено и некому помочь спасти их жен и детей. Я тоже был в отчаянии, но немцы ни за что не соглашались продвигаться, да они с своей точки зрения были правы, так как они и без того слишком разбросались. Немцы вели прямо-таки удивительную политику: насколько на севере они были в самом тесном контакте с большевистским правительством, настолько у нас они противодействовали всяким большевистским начинаниям и разделывались с большевиками без всякого милосердия. В то время в немецких частях никакого указания на могущее быть разложение не было. Киевское «Оберкомандо» не одобряло политики центрального правительства, и постоянно Гренер делал доклады, указывая, что пора идти Германии на разрыв с большевиками на севере, но берлинские дипломаты были совершенно другого мнения.
Большевики встретили мое появление на Украине с негодованием. Большевистская пресса писала про меня с пеной у рта черт знает что. Особенно они изощрялись, когда пришлось принять меры против своих большевиков. Помню, как мы смеялись, когда, уже бросивши терзать меня, пресса этих негодяев начала терзать моих приближенных и когда появился портрет в какой-то газете Ханенко, самого безобидного и трусливого человека, с надписью: «Малюта Скуратов» Скоропадского. И тут же сообщали, что в застенках Ханенко погибли тысячи наших братьев, тогда как Ханенко, кроме хозяйственных распоряжений по дому, фактически ничем другим не занимался. Такое отношение кб мне было мне безразлично, но мне было чрезвычайно тяжело, что жена и дети находились в Петрограде. Сведений от них я не имел, и они Обо мне узнали только из газет, когда на следующий день после Киевского переворота моя Грамота была перепечатана в газетах Петрограда и Москвы. Наконец, в конце мая вернулся офицер поручик Крыга, которого я послал еще в марте месяце, и привез сведения, что у меня в доме все благополучно. Я был бесконечно счастлив и немедленно решил как-нибудь перевести к себе в Киев всю семью. Но как это сделать так, чтобы не обратить внимания большевиков на нее и тем самым подвергнуть ее всяким истязаниям, для меня было положительно неясно. Были всякие предположения, но ничего не выходило. К немцам же первоначально я не обращался, так как думал, что и они не могут мне помочь в таком важном для меня деле после того, как я, судя по совдепской литературе, убедился, какую ненависть я вызываю. Оказалось, что в то время немцы были всесильны. Фон Мумм, к которому я обратился, телеграфировал графу Мирбаху{254}, и через несколько дней я имел возможность не только послать человека в Петроград, по сверх того и целый поезд, который благополучно захватил из Петрограда, кроме моей жены, и других беженцев и по расписанию дореволюционному, т. е. в 48 часов, доставил всех 19 июня по ст. ст. благополучно в Киев, без всяких инцидентов. Конечно, я с грустью отдал себе отчет, что не я и мое правительство сумели так импонировать большевикам, а исключительное влияние германцев.
Моя семья поселилась у меня в доме. Этот дом представлял верх неудобств для житья при самых скромных желаниях, ни семье, ни прислуге нельзя было как-нибудь мало-мальски сносно устроиться. Вообще, жизнь моя личная с семьей во время Гетманства напоминала мне часто французскую поговорку: «Le luxe et la misere»[73]. С одной стороны, большие обеды и завтраки с большим количеством людей, которых приходилось приглашать из той или другой причины, имеющей отношение к их службе, или политике, с другой —.жизнь частная, например, детей в ванной комнате, так как другого помещения не было. Несмотря на эти неудобства и эти помещения, наша жизнь, особенно еда, стоили страшно дорого казне, которая по постановлению совета министров все оплачивала, так что, всякие изменения, в смысле размещения меня стесняли. Мне все говорили, что в этом, доме, приспособленном лишь для жизни генерал-губернатора дореформенного времени, теперь положительно нельзя уместить всех жильцов, вроде части конвоя, ординарцев и некоторых других должностных лиц, которые по своему роду службы должны были тоже размещаться в доме. Кроме того, необходимо было, я всегда этого, очень хотел, разместить совет министров и мою личную канцелярию, для этого мне всегда. указывали на. необходимость переезда во дворец{255}, который я отвел временно для размещения там министерства, внутренних дел. Я.этого, особенно вначале, не хотел, мне в это, мне хотелось уподобиться Керенскому, который, несмотря на многоречивые, демократические уверения, начал с того, что разместился в Зимнем дворце. Осенью же, когда выяснилось, что — люди, особенно крпвойцы прямо-таки задыхаются в маленьких комнатах, него летом, конечно, из-за открытых, настежь окон не замечали, вопрос явился о пристройке, по так как смета, показала, что все это влетит казне в несколько сот тысяч и в результате все же будет плохо, я предложил совету министров обсудить вопрос о переезде моем во дворец, или же об, ассигновании на перестройку, причем просил это дело решить без моего участия, совершенно не считаясь с моими личными удобствами. Совет решил, что, в данное время (и действительно, тогда в министерстве внутренних дел работы было по горло) всякий перевод этого учреждения в другое помещение повлечет за собой перерыв в работах, поэтому решено было, что я останусь в доме, причем произведена будет перестройка. У моей жены и меня жизнь в этом доме оставила самые грустные и тяжелые воспоминания, не говоря уже о всей той тяжелой атмосфере, в которой я находился и которой невольно подвергал всю семью, не говоря о той работе, которая положительно меня изнуряла. Мы еще понесли там тяжелую утрату в лице моего сына, Павла. Должен сказать, что среди горя и забот мне было большим утешением в такую минуту получить некоторые трогательные выражения сочувствия от лиц всех положений и классов. Так протекала паша жизнь.
30 июля по нов. ст. мы только что окончили завтрак в саду, и я с генералом Раухом хотел пройтись по саду, примыкающему к моему дому. Не отошли мы и нескольких шагов, как раздался сильный взрыв невдалеке от дома. Я по звуку понял, что разорвалось что-то вроде сильной ручной гранаты. Были посланы ординарцы, которые через минуту вернулись и сообщили, что вблизи нашего дома брошена бомба в фельдмаршала Эйхгорна, возвращавшегося к себе после завтрака, что он лежит на мостовой, видимо, тяжело раненный{256}. Я и мой адъютант побежали туда. Мы застали действительно тяжелую картину, фельдмаршала перевязывали и укладывали на носилки, рядом с ним лежал на других носилках его адъютант Дресслер, с оторванными ногами, последний, не было сомнения, умирал. Я подошел к фельдмаршалу, он меня узнал, я пожал ему руку, мне было чрезвычайно жаль этого почтенного старика. Это был умный, дальновидный и сердечный человек, в Том чрезвычайно трудном положении, в котором я находился, этот человек, несмотря на то, что был как бы не у дел, а всеми вопросами ведал генерал Тренер, умел умиротворять все страсти. Затем, это был безусловно честный, неподкупный человек. Он явился на Украину с армией и в сущности он мог сильно увеличить требования, которые немцы нам предъявляли, и это многие на его месте сделали бы, так как мы были совершенно бессильны, особенно в первое время, в нем же, наоборот, я находил всегда полное сочувствие и содействие во всех вопросах, когда он видел, что действия некоторых лиц или частей шли в ущерб нам и не вызывались некоторыми другими соображениями, кроме желания сорвать. Он противился этому. Помню, что еще за несколько дней до его смерти, я пошел к нему запросто. Он сам варил кофе, и в разговоре я ему указал на целый ряд беззаконностей, которые себе позволяли кое-кто из его многочисленных подчиненных, и он возмущался этим и обещал принять меры для пресечения подобных действий.
Я чувствовал, что его уход может лишь осложнить еще больше положение на Украине. Вообще я уже указывал как-то выше, что немцев я до их прихода не знал, так как не мог назвать знакомством с немцами мои путешествия в качестве туриста, которые я от времени до времени совершал по Германии. Я, поэтому, войдя с ними в соприкосновение, питал к ним чрезвычайно сложные чувства. С одной стороны, я их в мирной обстановке совершенно не знал. Мне было чрезвычайно тяжело, когда я видел их фактическими хозяевами у нас на Украине, но вместе с этим я сознавал, что они только могут нам в данный момент помочь.
Имея с ними на Украине постоянные сношения по роду своей деятельности, я их разделяю на три класса. (Должен сказать, лучше, разделял, так как теперь, когда они накануне почти такой же катастрофы социальной, как у нас я думаю, что эта классификация может сильно измениться).
Военный класс пришел к нам безусловно честным. Высшее командование ни в какие спекуляции не входило, лично не сочувствовало им, в политическом отношении все эти Эйхгорны, Греннеры и ближайшие, их помощники требовали исполения Брест-Литовского договора, все же новые требования считали излишними. Они на Украину, смотрели доброжелательно и не желали ее экономического падения, наоборот, приходили на помощь, когда видели затруднительное положение. По убеждениям своим, они были демократы, особенно Тренер. Мы с ним говорили про аграрную реформу. Он смотрел на нее разумно, был против всяких демагогических приемов, хотел действительного проведения в жизнь этого вопроса с наименьшими потрясениями. Лично им было трудно разобраться в этом вопросе, так как они хотя и добросовестно прочли всю литературу об Украине, главным образом Львовского изготовления, но видели часто, что наяву получается совершенно не то, что в этих книгах написано. Например, в вопросе украинского министерства вначале, благодаря постоянным к ним паломничествам украинских партий и благодаря личному сочувствию Украине, в разговоре со мной они указывали на желательность назначения министров из состава украинцев. Я им говорил, что и сам того хочу, и в доказательство этого указывал им на то, что после переворота я же приглашал многих украинцев, но они не захотели этого, а кроме этого, я прошу их указать мне, кого бы, собственно, они считали возможным назначить, так как я, при всем моем желании, положительно таких людей не вижу, ведь недостаточно быть украинцем и желать, чтобы на Украине было хорошо, нужно иметь еще некоторые другие данные для того, чтобы быть министром. Если мы при этом составе, который у нас есть, часто ошибаемся, а это все же почти люди, имеющие за собой известный государственный опыт, или по служебному своему бывшему положению, или же по участию в общественных делах, то что же будет, когда у меня будут украинцы. Они соглашались и более, до поры до времени, к этому вопросу не возвращались. Второстепенные же начальники ни в какую политику не вдавались и были очень различного качества, но исполняли свой долг и были честны. Так было до осени. К сожалению, после их революции все изменилось, и пресловутые немецкие исполнительность и честность подвергались иногда сильнейшим потрясениям. Просто невероятно, как быстро у них пошло разложение армии, и это разложение коснулось не только солдат, но и офицеров, особенно было затронуто все, что было не на строевых должностях. Это первый класс.
Дипломаты, вообще, как все дипломаты, приспособлялись, оглядывались сначала на свое министерство иностранных дел, на императора и его кружок, затем все более на рейхстаг и в заключение уже на социалистов. Политика их в зависимости от этого менялась, была нерешительная, но, должен сказать, что с бароном фон Муммом можно было очень хорошо работать. Сам по себе это был добрый человек, уже видимо усталый от службы, очень честолюбивый, подверженный лести, старый холостяк с большой дозой сентиментализма, он видел, что создать Украину украинскими силами нельзя, никакого украинского шовинизма он не поддерживал, делал le stricte nécessaire[74] из того, что требовало его министерство в этом отношении. Его заместитель фон Берхем, более острый человек, очень образованный и умный, но то, что называется, […?] в последнее время играл большую роль. По отношению ко мне он остался до конца честным и порядочным человеком. Главным невидимым воротилой всего дела был у дипломатов генерал-консул Тиль, пробывший консулом 25 лет в Японии, Украины совершенно не знавший, но, благодаря своему уму и умению разбираться в сложных вопросах, довольно быстро к нам приспособившийся. Его упрекали чуть ли не в большевизме; это сплошной вздор!
Все эти господа, несомненно, явились на Украину с широчайшими планами, недаром их сопровождали выдающиеся специалисты по финансам, по промышленности и торговле, создавались всякие проекты создания банков, в Германии составлялись различные общества для экслуатации наших богатств, производилось и давление на министров в вопросах предоставления железнодорожных концессий и т. п. Из таких крупных дельцов помимо Мельхиора и Витфельда, последнего я знал хорошо, он раза два сидел у меня вечером, и я лично поражался, как он был хорошо ориентирован в наших делах. Недаром этот человек был вызван из Украины для назначения его одним из директоров Круппа. Но вся их подготовительная работа так и осталась в области проектов.
Уже с июля месяца чувствовался перелом в военном счастье немцев, и все их мечты об экономическом захвате Украины отошли на задний план. Свою вывозную торговлю с Украиной на первых шагах они очень плохо организовали, почему это так случилось, я не берусь теперь подробно объяснять. Насколько я помню, было ими создано в Берлине общество Ausfuhr Gesellschaft, которое, вероятно, состояло из господ не особенно умных, но обладающих колоссальными аппетитами, по крайней мере, я знаю, что началось с того, что это общество навезло так много всякого неважного товара, причем цены были невозможные даже по нынешним временам, например, плуг, совершенно простой, для селянина стоил 300 рублей. Когда никто не стал у них покупать, они очень удивились. Мумм же надеялся, что это начало крупного товарообмена и торжественно пригласил наших министров поехать с ним на станцию осмотреть только что прибывший поезд с этими товарами. Так это дело и не пошло. Наряду с этими крупными фирмами и дельцами, понаехала из Германии масса всякой сволочи, просто какие-то голодные шакалы, которые наносили громадный вред и нам, и, скажу откровенно, хотя это меня не касается, Германии. К этим людям примазывались и наши многочисленные деятели того же рода. Получалась какая-то колоссальная спекулятивная каша, причем эти немецкие шакалы действовали с невероятной наглостью, злоупотребляя на каждом шагу выражениями, что «паше правительство этого требует» и т. д. Наши спекулянты к ним примазывались, надеясь именно, что, благодаря нахальству их немецких коллег, спекуляция их будет удачна. Я несколько таких типов вывел на чистую воду, так как одно время они стали и ко мне являться. Наконец, я сговорился с «Оберкомандо», что без ведания немецкого начальства я никого не буду принимать. К чести немецкого высшего командования и дипломатов, они не поддерживали этих господ, но, к сожалению, они были бессильны что-нибудь с ними сделать, так, как в конце концов и я, несмотря на все принимаемые мной меры.
Был еще класс ученых, различных исследователей по специальным вопросам и журналистов. Что касается господ ученых, то я, должен сознаться, воспитанный в глубоком уважении к немецкой науке, при более близком знакомстве с этими почтенными господами несколько в них разочаровался. Мне казалось, что раз они считают себя людьми пауки, то можно было бы ожидать от них большей вдумчивости и правильной оценки фактов. На самом же деле, ничего подобного — одна лишь погоня за дешевыми лаврами, демагогические приемы, теоретичность и громадное самомнение. Я далек от желания это обобщать, но у большинства это было. Мне попадались статьи и рефераты некоторых из этих господ, и я могу с уверенностью сказать, что ни одна статья не написана, руководствуясь объективным отношением к делу, все это писалось с предвзятой мыслью и при полном игнорировании действительности. Я не собираюсь входить с ними в полемику, если когда-либо мои воспоминания будут изданы, они сами увидят, насколько их погрешность в истинном изложении фактической подкладки ела была велика.
Адъютант Эйхгорна, поручик Дресслер, в тот же день умер. Бедный Эйхгорн был отвезен в клинику профессора Томашевского, он еще промучился несколько времени и на следующий день вечером, как раз тот момент, как я пришел его навестить, он умер. Через два дня с большой торжественностью его отпевали в одном зале дома Попова, где и жил на Екатерининской улице. Увезли же его тело на вокзал без всякой пышности, так как ждали повторения террористических актов, командировал одного генерала для проводов вплоть до могилы, коонечно, было произведено немедленно следствие. Человека, бросившего бомбу, немцы схватили немедленно, это был какой-то приезжий с Великороссии. Но кто был вдохнови гель убийства Эйхгорна, мне так не было окончательно выяснено. Официальное следствие указывало, го это было дело великорусских левых социал-революционеров, так и это, я не знаю. Почему-то немцы винили в этом деле Савинкова. Сомневаюсь, чтобы Савинков был бы тут при чем-нибудь.
На немцев убийство их фельдмаршала произвело очень сильное впечатление. Довольно долгое время место главнокомандующего было свободно, затем приехал заместитель Эйхгорна, генерал фон Кирбах, человек, про которого трудно что-нибудь сказать, кажется, любил ню, даже наверно, и то я, собственно, повторяю со слов самих немцев, зли он никакой не играл, всем заправлял генерал Тренер и его помощник майор Ярош.
В то время на Украине далеко не было спокойно. Недовольных элементов было очень много. Причины были самые различные: с одной стороны, все бывшие члены Рады, оставшись не у дел, не могли с этим мириться. Земства, зная, что вырабатываются новые законы, были, конечно, против правительства, хотя, например, земские служащие, натерпевшись от порядков при Раде, совершенно не разделяли мнения борных людей. Полки, сформированные немцами из пленных украинцев, так называемые сипежупанники, ввиду того, что они прибыли — в синих жупанах, потом теми же немцами расформированные, ввиду их пригодности, представляли тоже бродящий элемент.
Народонаселение разделялось на две части: все имущие, хоть и много, были спокойны, но сельский пролетариат только и ждал момента для того, чтобы примкнуть к новым грабительским походам, ода же примыкали большевики, не имея возможности действовать в городах, они помогали работе распропагандирования части деревенской массы. Украинские социал-революционеры, мало чем отличающиеся от большевиков, направляли все дело{257}. Нужно сказать, что многие помещики своими действиями много способствовали им в смысле увеличения недовольствия. Главным центром восстания была облюбована Звенигородка{258}. Банды были в Нежинском уезде и других{259}. Ни наша варта, ни даже немцы в течение долгого времени не могли со всеми этими бандами справиться. Тактика повстанцев была чрезвычайно ловкая; когда какой-нибудь правительственный или немецкий отряд подходили, они прятали оружие и превращались в мирных Жителей, затем, по проходе отряда, они снова формировались и бунтовали. Планомерности в их действиях было мало, хотя в общем было стремление к окружению Киева, по крайней мере, во многих небольших центрах вокруг Киева, по радиусу верст в 150, именно и началось сначала брожение, мелкие беспорядки, а затем появились уже банды, недурно вооруженные, некоторые имели даже орудия, и все это начинало с того, что предавало огню и мечу всякую мало-мальски более крупную собственность, не только помещичью, но и хлеборобов-собственников.
При этих налетах много их, к сожалению, погибло. Зверство этих шаек было неимоверное. Помню, что один рапорт, полученный мной от спасшегося чудом из рук этих господ какого-то судебного нашего деятеля, которого бандиты в течении нескольких дней водили с собой, и он имел возможность наблюдать их действия и внутреннюю жизнь, превосходил все, что Мне до сих пор приходилось видеть и слышать из области таких похождений.
У Нас первоначально дело не клеилось, так как наши отряды и варта и губернская администрация, с одной стороны, и немцы, с другой, действовали без всякой связи. Потому я всячески настаивал на том, чтобы наши министерства, военное и внутренних дел, сговорилось бы с немцами. Гренер очень охотно пошел навстречу нашим желаниям, и в результате было решено, что ежедневно у меня будут заседания представителей заинтересованных сторон. Мне кажется, Что эта мера принесла большую пользу, так как у меня скоплялись все сведения и распоряжения уже действующих органов, могли быть полнее. Через некоторое время это движение было ликвидировано{260}.
Серьезные русские и украинские партии в этом деле не участвовали, но отдельные члены их принимали живейшее участие. Я думаю, что и Петлюра и Винниченко, несомненно, работали там.
Как я уже говорил, Федор Андреевич Лизогуб соединял в себе должность председателя совета министров и министра внутренних дел; помощниками у него были Михаил Михайлович Воронович и Александр Андреевич Вишневский. Федор Андреевич положительно не мог справиться со своими этими делами. Одно уже председательствование в совете министров, необходимое направление всей политики должно было занять у него все время, а тут еще самое важное министерство на руках. Несомненно, он не мог вести дела, в особенности в такой трудный момент жизни Украины. Кроме того, Федор Андреевич себе как-то не уяснял, что основные вопросы нашей внутренней политики должны быть проведены немедленно или в самом ближайшем будущем. Наконец, и что самое было главное, это был человек далеко не волевой, качество, которое в это время особенно нужно было министру внутренних дел. Это я заметил сразу и начал говорить Федору Андреевичу, что я считаю желательным разделение должностей председателя совета и министра внутренних дел. Он страшно обиделся, говорил, что, оставаясь лишь председателем, он фактически не может влиять на дела, и в результате дал понять, что он уходит. Не имея положительно никого, кем бы я мог его заменить, пришлось временно отложить этот план. Но внутренне положение не улучшилось, работы было все больше и больше, через некоторое время я снова возобновил разговор. Он, наконец, решился сдаться, что делает ему большую честь, так как, несомненно, это был большой удар его самолюбию.
Но тут явился вопрос, кого назначить министром. Товарищами министров в это время уже были те же Воронович и Савицкий, оба они не подходили, по моим понятиям, для должности министра. Воронович, бывший губернатор, почему-то возбудил к себе большую нелюбовь со стороны многих партий, хотя по своим политическим воззрениям, которые он мне высказывал не раз, он был очень умерен; Савицкий был долгое время председателем земской управы в Чернигове, человек очень либеральных убеждений, но, к сожалению, мне по крайней мере так казалось, он тоже не годился для этого высокого поста. Уж больно он был какой-то неуживчивый. Я ломал себе голову, кого назначить.
Державный секретарь, Игорь Александрович Кистяковский, московский адвокат, вместе с тем украинец, вся его семья принимала участие в украинском движении, вместе с тем бывший друг Муромцева{261}, производил впечатление очень волевого человека, а главное, неустанно желавшего работать. Я и решил его назначить. Конечно, несколько пугало сознание, что Кистяковский никогда не служил по администрации, по я полагал, что для специальных вопросов он может подыскать себе соответственных товарищей министров, с другой же стороны, именно его непричастность к старой администрации даст ему возможность работать без этой заедающей всякое живое дело рутины. Хорошо ли, плохо ли, но тогда я так смотрел на это дело. Некоторые члены совета министров, даже очень многие, косились на это предполагаемое назначение. Но я, переговоривши с Федором Андреевичем Лизогубом, просил ею провести это дело в совете, что и было им исполнено. Кистяковский, с его некоторым цинизмом, и мне не нравился, но я считал, что в такое время нам нужно иметь во что бы то пи стало человека волевого, а такого человека, несмотря на все самые старательные поиски, я найти не мог-. Один Кистяковский в этом отношении, казалось, мог что-нибудь дать. Я его призвал подробно с ним переговорить, он, казалось, смотрел на дело, как я. Когда в совете прошла его кандидатура, я ею назначил. Товарищами министров у него были: бывший председатель Петроградского окружного суда Рейнбот{262} и Варун-Секрет{263}. Кистяковский оказался, к сожалению, далеко не на высоте положения. Он считал, что все движение и недовольство, иногда имеющее глубокое основание, можно остановить и для этого лишь необходимо заарестовать всех оппозиционных деятелей, которые хотя бы немного позволяют себе прибегать к неконституционным деяниям. Я лично смотрю на дело определенно: когда творишь большое дело, сентиментальности не у места, и, конечно, нужно пресекать в корне всю ту деятельность, которая направлена к тому, чтобы поставить вам палки в колеса. Но, во-первых, это нужно делать умело и с разборами, во-вторых, нельзя только ограничиваться этой стороной дела, но нужно еще действительно выяснить, почему эти люди против Ваших начинаний, и создать новые условия, при которых большинство было бы за вас. Этой второй стороны деятельности министра внутренних дел у Кистяковского совсем не было. Все его обещания остались простыми словами. Уж почему он так вел себя, не знаю.
Еще слишком мало времени прошло с тех пор, как все люди, деятельность которых я описываю, сошли со сцены, для того, чтобы им можно было сделать окончательную оценку. Есть факты в их работе, которые для меня совершенно непонятны. Хотя бы то, что человек он был неглупый, чрезвычайно честолюбивый, смелый, работавший в различных партийных и общественных организациях. Оп рассказывал, что, между прочим, в [19] 15 и [19] 16 годах причастен был к революционной деятельности. Попав на пост министра внутренних дел, забывает положительно все свое прошлое и единственное спасение видит в создании полиции. Я считаю, что в этом отношении прежнее министерство слишком мало сделало, считал, что единственное спасение Украины — это одной рукой проявлять твердую власть, не останавливаясь перед самими суровыми мерами, но другой рукой давать. На обязанности министра внутренних дел именно и лежит вести Внутреннюю политику, состоящую в том, чтобы, выяснив настоящее, подвести путем проектированных им общественных реформ к тому, что общество будет удовлетворено в своих разумных требованиях. Повторяю, Кистяковский совершенно в этом отношении не поддавался. Он на словах много обещал, по потом ею нельзя было совершенно в этом отношении сдвинуть — с места. В области же создания полиции и принятия решительных мер в то время среди лиц, которых я знал, он был единственный человек, который способен на это, что в переживаемую эпоху было очень ценно. Кажется, в июле стало ясно, что по всей Украине идет работа левых украинских партий для подготовки восстания в случае, если обстоятельства будут благоприятны. Кистяковский заарестовал многих украинцев левых партий{264}. По правде сказать, все эти партии по-своей тактике мало чем отличались от большевиков. Стоит вспомнить все те грабежи, насилия, убийства самого возмутительного характера, бывшие в течение более полутора лет на Украине, для того, чтобы понять, что министр действительно имел основание принять здесь меры в той степени, в какой он находил их необходимыми. Аккерман, директор департамента державной варты, и начальник особого отдела ему в этом отношении помогали. Было выяснено, что Петлюра играет видную роль, его арестовали{265}. Но дело в том, что арест Петлюры не оказал много влияния на изменение положения. Пока, с одной стороны, в России был большевизм, который нам давал своих агитаторов, пока мы ничего не предпринимали ярко-реального для того, чтобы массы пошли за нами, конечно, подпольная работа продолжалась. Кистяковский думал, вероятно, что он всех недовольных может посадить в тюрьму, и смотрел на дело оптимистически. Я его мнения не разделял и был доволен когда он осенью принужден был уйти со своего поста вместе со своим министерством. Повторяю, я его не понимал, особенно в последней фазе его деятельности, когда пришлось, волей-неволей, его снова назначить, о чем я напишу впоследствии. Я думаю, что на него сильно влияли правые крути. Ох, уж эти правые круги. Но на что только те правые круги не пускались! Я забыл, между прочим, раз уже я снова заговорил о правых кругах, что в тот самый день, когда ко мне пришли украинцы с требованиями, которые для меня были неисполнимы, что в тот самый день у меня был А.Стороженко, о котором я как-то писал. Мы с ним долго говорили, и я все надеялся, что могу его использовать для дела, по напрасно. На следующий день ко мне пришел Котов-Коношенко и представил мне прошение, которое, по его заявлению, было им составлено вместе со Стороженко. Они просили согласиться на составление при мне совета из председателей видных и знатных родов, живущих на Украине. Я отверг это предложение, указывая, что такой звездной палаты я пока при себе иметь не желаю. Коношенко ушел смущенным.
Кистяковский сам не был правым, но он легко подпадал под влияние других, когда видел, что ему аплодируют. В результате, очевидно, он был орудием других людей, иначе я себе не могу объяснить то легкомыслие, которое он проявлял на каждом шагу. Первое время, когда он взялся энергично за создание на местах вооруженной силы, это было не так легко сделать, нужно было подобрать начальников, провести целый ряд штатов, добиться вооружения и обмундирования, это он действительно создал. На территории всей Украины было около ста сотен полицейской варты, которые приносили большую пользу. Состав людей заставлял желать, конечно, много лучшего, так как и среди них было много такого элемента, который, я думаю, мало чем отличался от большевиков. Ведь приходилось брать тех же людей, которые раньше служили в большинстве случаев при Центральной Раде в так называемых комендантских сотнях. Но все же постепенным подбиранием лиц и изгнанием нежелательных элементов в области организации этих частей достигли многого. Не нужно забывать, что фактически в деревнях это была паша единственная сила, мне это нравилось, и я думал, что он одновременно с этим начнет проведение других мер, уже неполицейского характера.
Закон о выборах в земские и городские управления прошел. Я лично думаю, что по состоянию наших культурных сил левее идти было нельзя. По крайней мере, опыт последних двух лет показал, что из себя представляют наши Земства и Городские Думы при всеобщем избирательном законе. Верно, что Кистяковский управлял страной в, так сказать, междуцарствие, когда старые Земства уже отжили свое и показали полнейшую свою нежизнеспособность, а новые выборы еще не прошли. Только тогда бы страна могла зажить нормальной жизнью, когда Земства и Думы заработали бы, а этого по условиям техники выборов нельзя было провести в жизнь ранее ноября месяца. Но все же своими действиями, своей прямолинейностью в смысле полицейского наведения порядка, Кистяковский принес много вреда, в то время как если бы он исполнил свои обещания, т. е., создавши полицию, одновременно уговорил бы партии вести широкую пропаганду наших идей в своей среде, привлекая их к работе, он бы смягчил то настроение недовольства, которое, благодаря работе людей с уязвленным самолюбием, все сгущалось в стране. Нужно тоже сказать, что для министра [Кистяковского] задача была чрезвычайно трудная, и рассчитывать на то, чтобы страна могла успокоиться, когда рядом в Великороссии бушует крайний большевизм, у нас на Украине, народонаселение которой связано тысячами и тысячами нитей, прямо-таки было невозможно. Но можно было смягчить это настроение и недовольство при известной творческой работе.
Помню, мне как-то Дорошенко, Петр Яковлевич, прочел письмо от человека очень образованного, бывшего товарища министра народного просвещения, Рачинского, Он ему пишет, между прочим, говоря о политическом положении страны: «Скоропадский слишком рано произвел переворот, так как все народонаселение еще жаждет большевизма, только тогда, когда оно лично испытает на себе все прелести его практического применения, только тогда можно было бы рассчитывать на успех». Я тогда подумал — может быть, Рачинский и прав, но дожидаться полного разорения всего для того, чтобы наново что-то создать, это уж больно пессимистичная теория, тем более что, если все предоставить естественному течению, то и после большевизма тоже еще не наступит время создавать порядок, так как власть перейдет ко всяким другим социалистическим партиям, которые, благодаря своей теоретичности, с одной стороны, и связи со всякими разрушительными элементами, мало чем отличаются от большевиков. Страна при их режиме воскреснуть не может. Насколько социалистические партии у нас необходимы как корректив для сокращения аппетитов правых партий, настолько они бездарны, когда они стоят во главе правительства. У нас это так. Да, и далеко взять пример: при всех, скажу, ошибках, которые я и правительство сделали на Украине, при прямо-таки катастрофических условиях, прямо-таки стихийных бедствиях (большевизм в России, взрывы, забастовки, внезапное бегство и грабеж австрийцев, быстро прогрессирующее разложение немцев, перерыв связей наших представителей в других государствах с нами, требования немцами хлеба согласно условий мирного соглашения Рады с Центральными Державами, отсутствие людей, силы, на которые можно было бы опереться и т. д.) — Украина была государством со всеми учреждениями, правильно функционирующими, с определенными планами действий, с финансовым бюджетом, с определенной программой создания армии, которая к весне 1919 года должна была быть организована, с восстанавливающейся промышленностью, с определенными международными отношениями.
Мы должны были уйти, явилась Директория, просидела три недели в Киеве и должна была уйти, но за эти три недели исчезло всякое понятие о государственности Украины. Все было разрушено в корне. Большевики уже застали tabula rasa; действия Директории ничем не отличались от действий большевиков. Тина конфискации имущества, как, например, конфискация всех ювелирных магазинов, то же бесправие граждан, то же неуважение к людям знаний, то же легкомысленное брожение в народе неисполнимых обещаний, вроде отдачи земли народу, не объясняя как и т. д. И ведь, если взять всех этих господ Петлюр и Винниченко в отдельности, ведь они совсем не такие левые. Помню, что я как-то говорил с Винниченко, который ко мне зашел. Ведь его социальные теории мало отличалась, скажем, от моих, а я далеко не крайний левый. Но раз они тянут за собой целую партию или, скорее, партия тянет их, для того, чтобы удержаться у власти и на высоте, они должны естествено все катиться левее и левее, пока не доберутся до полнейших абсурдов. Затем у этих господ полнейшая переоценка своих сил. Мы шли постепенно, ощупью, они же ни в чем не советуются и рубят с плеча, все равно — «выйдет — не выйдет». У наших украинских деятелей социалистических партий примешивается еще национальный шовинизм. Это ужасное явление, признающее самое дерзкое насилие над личностью. Для них неважно, что фактически среди народа нациоиалистическое движение хотя и существует, по пока еще в слабой степени. Что наш украинец будет всегда украинцем «русским» в отличие от» галицийских» украинцев, это им безразлично. Они всех в один день перекрещивают в украинцев, нисколько. не заботясь о духовной стороне индивидуумов, над которыми производят опыты. Например, с воцарением Директории, кажется, через три дня, вышел приказ об уничтожении в Киеве всех русских вывесок и замены их украинскими. Ведь это вздор, но это типично как насилие над городом, где украинцев настоящих, если найдется 20 %, то это будет максимум. В результате, вместо привлечения к Украине пеукраннскнх масс, они воспитывают в них ненависть даже среди людей, которые были дотоле скорее приверженцами этой идеи и считали действительно справедливыми и имеющими жизненные основания теории создания Украины. В оправдание украинцев я должен сказать, что в этом их шовинизме очень виноваты русские. Эта мрачная нетерпимость, эта злоба даже [ко] всякому невинному проявлению украинства, это. топтание в грязь все[го], что дорого каждому украинцу, вызывает противодействие, и, что всего оригинальнее, что, казалось бы, культурные классы должны бы от этого отрешиться, на самом же деле этого нет. Наоборот, эти культурные классы именно и являются самыми нетерпимыми в отношении ко всякому украинству. Поляки в этом отношении ведут себя значительно ловчее, они украинцев ненавидят, поляки естественные враги украинцев, по они значительно разумнее веду г свою политику, и этой бессмысленной нетерпимости у них нет, или, по крайней мере, они скрывают ее. Лично я уважаю поляков. Мне приходилось иметь с ними дело, и, я думаю, если бы не их великодержавная замашка, заключающаяся в том, что они в душе до сих пор смотрят на некоторые губернии правобережной Украины как на лакомый кусочек, который при счастливых условиях мог бы достаться Польше, я считал бы [их] с культурной стороны полезными на Украине, но эта черта, особенно у класса землевладельцев, тоже несносна; они тактичнее, они ловко эту замашку скрывают, но она существует. Украинцы же исторически их ненавидят. Эта ненависть питается еще теперь сознанием, что ice крупные землевладельцы на правобережной Украине — поляки, и в этом отношении нужно сказать, что земля находится в цепких руках, так как если в губерниях, где русские землевладельцы, это землевладение быстро тает, и, например, в Кролевецком уезде Черниговской губернии всего в руках помещиков осталось лишь 1,5 % общей площади пахотной земли, находящейся в обработке, то в правобережной Украине, где пануют поляки, почти что нет уменьшения польского помещичьего землевладения, и, например, в Сквирском уезде Киевской губернии до сих пор до 50 % этой пахотной земли находится в обработке польских помещиков. Конечно, что при таких условиях трудно рассчитывать на то, что украинский народ останется к полякам по крайней мере равнодушным.
Почти пи одно учреждение старого правительства не пострадало так от революции, как министерство юстиции. Должен сказать, что персонал хотя бы Киевского судебного округа был при старом режиме очень хорошо подобран, все это были люди, пришедшие с серьезным судебным опытом, и в смысле своей порядочности не оставляющие желать лучшего. С началом революции все было разогнано, фактически судебное ведомство перестало существовать. Начались реформы Центральной Рады, украинцы очень за них стоят и стояли во время Гетманства. Для меня эти реформы, при всем моем желании схватить их смысл, если серьезно рассуждать, были совершенно непонятны. Я по этому поводу говорил со многими беспристрастными юристами, они тоже не смогли дать объяснении. Но что особенно было печально для дела правосудия, это то, что Рада ради национализации судебного ведомства уволила Почти весь прежний состав, считая его недостаточно украинизированным, но так как нужно было заместить должности, освободившиеся от этого «избиения младенцев». Рада назначила туда всех тех, которые высказывали свою приверженность чем-либо Украине, а так как таких не хватало для замещения всех должностей, то брали людей без всякого стажа. Этими людьми заполнили все высшие судебные учреждения на Украине. Если прибавить еще, что украинский язык, как я уже писал, не имеет установленных юридических терминов, а он был введен в судопроизводство, картина получилась совсем уж безотрадная. Дошло дело до того, что люди, например, предпочитали не обращаться в правительственный суд и при гражданских исках старались дела решать каким-нибудь третейским судом. Что же касается некоторых мировых судей, то тут получилась уже во времена Центральной Рады форменная драма: все прежние мировые судьи были уволены, выборные мировые судьи оказались ниже всякой критики. Люди без всякого образования, часто с уголовным прошлым, и все в таком духе. Я сам помню два таких случая: один мировой судья оказался бывшим шофером, прямо с автомобиля перешел на должность мирового судьи, а в другом случае мировой судья, только что избранный, начал с того, что распродал весь инвентарь, находящийся в его камере, и деньги обратил в свою пользу. Конечно, все это оригинально, но далеко не гарантировало правильность функционирования дела правосудия на Украине.
Профессор Чубинский сам был природным украинцем, достаточно сказать, что отец его настолько увлекался этой идеей, что написал украинский народный гимн, который теперь сделался официальным. Министр Чубинский прекрасно говорил на украинском языке, знал прекрасно украинскую литературу, задолго до революции писал по вопросам на украинском языке. Все это доказывало что человек этот действительно любит Украину и работает честно на ее создание, но так как он в качестве просвещенного судебного деятеля не мог примириться со взглядами украинских деятелей на их способы обновить наш судебный аппарат, за это его украинцы не возлюбили и начали против него травлю. Чубинский по убеждениям кадет, старался всегда идти строго законными путями в деле восстановления суда, но этот способ при всем своем достоинстве, к сожалению, в паше революционное время иногда слишком затягивал начало обновления судопроизводства, например, хотя бы для того, чтобы упорядочить институт мировых судей, о котором я только что говорил. Он считал, что отстранение судьи возможно только по суду, или же властью Державного Сената, который предполагалось учредить, но так как Сенат еще не был учрежден и на создание его потребовалось несколько: месяцев, а пока весь институт никуда не годился и жалобы на деятельность этих судей поступали безостановочно, все круги жаловались на его вялую деятельность и отсутствие энергии, — Во время революции хорошие принципы иногда просто мешают делу. Особенно раздражались правые деятели. Они приходили постоянно на него жаловаться, хотя я и теперь затрудняюсь сказать, можно ли было скорее работать, но фактически, по-моему, Чубинский работал хорошо. Относясь совершенно беспристрастно к вопросам национальным; исключительно желал подобрать себе высокий по своим знаниям и нравственным принципам персонал. Шелухин, бывший министр юстиции при Раде, тоже часто приходил ко мне и жаловался на якобы преследование украинцев Чубинским. Это была неправда, и меня удивляет, что Шелухин, человек порядочный, пускался на такие вещи. Объясняю себе это его крайним украинским шовинистическим направлением, которое затуманило у него правильный взгляд на вопросы, связанные с украинством. Он мне дал, я помню, список лиц, которых умолял не убирать из ведомства, а другой с кандидатами для назначения в Сенат. Я об этих списках ничего Чубинскому не сказал, так как мне хотелось самому проверить его отношение к этому вопросу. Когда же мне Чубинский представил кандидатов, то я увидел, между прочим, всех этих украинских деятелей, о которых мне писал Шелухин. Они были также и кандидатами Чубинского. Это показывает на беспристрастность, но конечно, он не мог назначать людей без всякого стажа на высшие судебные должности, и ему приходилось все-таки идти иногда против украинских деятелей, которые хотели какой-то крайней украинизации в ущерб делу правосудия. На Украину в это время съехалось очень мною видных юристов с севера, и потому подобрать действительно подходящий состав было нетрудно. Особенно недовольны были восстановлением прежних судебных палат, я не могу себе объяснить, почему это так волновало украинцев, если не считать узко национальный вопрос дела, а именно, что с восстановлением палат пришлось вернуть на службу прежних судебных деятелей и потому многим революционным деятелям этого ведомства, занимавшим высшие должности во время Рады, пришлось несколько раз уступаться местами, хотя это и пришлось делать очень редко, разве уж какое-нибудь выдающееся несоответствие прежнего стажа с занимаемой должностью.
Ввиду стремления нашего утвердить возможно более государственные начала, было решено создать Державный Сенат{266}. Создание его совершилось приданием его генеральному суду, имевшему два департамента: гражданский и уголовный, и еще третий — административный. Я придавал громадное значение Сенату, стремился его, насколько возможно, более провести в сознании народа. Дал ему большие права с тем, чтобы это учреждение было нечто вроде живой совести правительства. Сенаторы назначались мною с большим выбором, первоначально по представлению совета министров, а затем уже выбирались самим Сенатом и мною утверждались. Тут пришлось много спорить с Шелухиным и с судебными лидерами украинцев. Я, конечно, ничего не имел против них и, как указывал уже, всех подходящих кандидатов украинцев назначал, но они во всех неукраинцах видели каких-то врагов Украины. Врагами они небыли, это были порядочные люди, которые не пошли бы на дело, которому не сочувствовали бы, но что иногда они несколько горячились и не стремились к смягчению национальной розни, это верно. Например, ими был поднят вопрос о языке в Сенате, конечно, не без оснований, но к чему эта спешка, к чему обострения, когда и без того острых вопросов было много. Я лично считал, что державным языком на Украине должен был украинский, но ничего не имел против того, чтобы со временем оба языка, т. е. русский и украинский, были равноправны. К этому шло, и боязнь некоторых украинцев, что русский язык затрет украинский, по-моему, показывает отсутствие веры в Украину. Я этого не боялся, но считал, что теперь, когда изложение с языками так остро, ничего не случится, если украинский язык будет один. Группа неукраинских сенаторов чуть ли не с первых заседаний этот вопрос обострила и добилась того, что вопрос этот был поставлен на обсуждение в общем собрании. Я вызвал председателя к себе и попросил его найти предлог снять этот вопрос с повестки, что и было сделано. Чубинский встречал непреодолимые препятствия; например, прежде всего пришлось прибавить жалование судебному ведомству, при старых окладах оно просто чуть ли не нищенствовало, затем следователи не могли исполнять своих обязанностей из-за неимения перевозочных средств или достаточных разъездных хумм. Пришлось следователям увеличить эти суммы, по были места, где за деньги ничего нельзя было нанять, приходилось думать о снабжении следователей автомобилями, последних не оказалось, с этим опять было много трудностей. Я не согласен, когда Чубинского обвиняют в отсутствии работоспособности, но что он был мягковат и что ему следовало, может быть, больше подталкивать своих подчиненных, всех прокуроров и следователей, в смысле требования от них более активной деятельности, это может быть верно. Но это лишь впечатление, и сказать этого вполне положительно я не могу, зная, сколько препятствий встречалось при всяком начинании, при полнейшем, всеобщем равнодушии, страшнейшей требовательности, придирках и критике.
Весь судебный аппарат был поставлен, оставалось лишь урегулировать его ход. Наш венец, коронующий наш правительственный аппарат, — был Сенат. Он уже начал функционировать, и состав его, целиком укомплектованный из лучших юристов на Украине и Великороссии, безусловно обещал, что работа Сената будет на должной высоте. Ничего не давало наблюдателю такого ясного представления о том, что на Украине создана действительная государственность, как именно учреждение и открытие Сената. Даже если бы и часть его состава, чего не было на самом деле, но что казалось украинцам, и была бы недостаточно проникнута сознанием украинской государственности и смотрела на это как на временное явление, и то нужно было, бы беречь Сенат и стараться всеми силами его поддержать людям, которые хотели блага для Украины. Украинская Директория чуть ли не с первого дня своего появления, как я недавно узнал, раскассировала Сенат. Это непонимание значения нашего Сената украинцами именно с украинской точки зрения меня поразило.
На Украине при Центральной Раде было и Морское министерство, что там происходило в то время, я знаю только случайно, и поэтому особенно распространяться о деятельности этого учреждения до моего появления я не буду{267}. Когда установилось Гетманство, возник, конечно, также и вопрос о флоте. Положение было совершенно невыясненное. Немцы в этом вопросе вели вполне двусмысленную политику. С одной стороны, они весь флот, за исключением двух броненосцев, ушедших в Морё, захватили, но говорили, что это лишь временно, хотя распоряжались им, как если бы вопрос о том, что-он принадлежит им, был бы предрешен. Распоряжения эти далеко не шли к тому, чтобы флот сохранился хотя бы в приблизительной целости. В портах тоже они являлись полными хозяевами, особенно в Севастополе. С другой стороны, по доходящим до меня сведениям, и турки, и болгары очень зарились на это ценное имущество и старались выторговать себе что-нибудь. Офицерство было в полной неизвестности о том, что будет в дальнейшем. В первые же дни у нас было решено, что необходимо, чтобы весь флот был украинским. Не говоря уже о политическом значении этого дела, Украина являлась единственной частью бывшей России, которая могла фактически выдержать те расходы, которые флот предъявлял для приведения его хотя бы в мало-мальски сносный вид. Я был поставлен лично в чрезвычайно трудное положение, так как, стоя далеко от нашего флота, имея очень мало даже знакомых тю флоте и еще меньше специальных знаний в этом сложном деле, я не знал, как, с одной стороны, решить вопрос управления этим флотом, с другой — затруднялся остановиться на программе, которой следовало бы в дальнейших действиях держаться. С немцами дело было ясно, и в письмах и на словах я настаивал о передаче флага нам, но как быть с внутренним управлением — я не знал. В первые же дни явился ко мне моряк Максимов, исполнявший при Раде, кажется, должность начальника Морского штаба. Он был в курсе дел и производил впечатление работящего и знающего свое дело человека. Я приказал ему вызвать из Одессы наиболее опытных и пользующихся во флоте хорошей репутацией адмиралов. Через несколько дней адмиралы явились, я им вкратце рассказал о положении дела, указал им на свою неосведомленность и просил мне выработать штат морского управления. Я теперь не помню всех фамилий адмиралов, но припоминаю, что гам был адмирал Покровский{268}, назначенный мной в скором времени после этого главным начальником портов, затем был адмирал Ненюков{269}, остальных не помню. Я обратился также с просьбой, на кого они могли бы указать мне как на кандидата для замещения должности товарища морского министра. У нас предполагалось тогда не создавать отдельного морского министерства, а соединить военное и морское министерство в один орган, ограничиваясь для морского дела одним лишь товарищем министра, подчиненным военному министру. Адмиралы мне рекомендовали одного адмирала, живущего, кажется, в Таврической губернии, я его вызвал, он был у меня, но не согласился на принятие должности, указывая на свое расстроенное здоровье, но я думаю, что причиной тут была скорее неопределенная для него политическая ориентация. Лично я не настаивал. Я ужасно боюсь генералов и адмиралов. Если с генералами я еще сам, зная дело, могу справиться, несмотря на их важность, то с адмиральским апломбом я чувствую себя совсем неловко. Я продолжал искать морского товарища министра. Максимов же фактически пока исправлял эту должность, наконец, он так долго оставался при исполнении этой должности, что я решил его утвердить. Несмотря на его недостатки, я не жалею, что его назначил. Этот человек был искренне преданный своему делу и выбивался из сил, чтобы как-нибудь собрать остатки того колоссального имущества, которое еще так недавно представлял наш. Черноморский флот. Наша главная деятельность заключалась в том, чтобы добиться передачи флота нам, что и было достигнуто, к сожалению, лишь осенью и то на очень короткий срок. Пока же приходилось заботиться о возможном сохранении офицерских кадров и того имущества, которое так или иначе не перешло в другие руки. Я боюсь, не имея под рукой материала, впасть в какую-нибудь крупную ошибку, и поэтому я не буду подробно говорить о том, что министерством было сделано в общем мало, что является не его виной, а общим положением дела, так как мы не знали, перейдет ли флот к нам или нет, все действия носили характер предварительной работы. Немцы же вели в отношении флота политику захвата и, скажу, захвата самого решительного. С кораблей все вывозилось, некоторые суда уводились в Босфор, в портах все ценное ими утилизировалось. Наконец, дело дошло до того, что в Николаеве были захвачены все наши кораблестроительные верфи с строящимися там судами, между прочим, там было несколько судов небольшого типа, называемого «эльнидифор», немцы особенно хотели им завладеть. Я решительно протестовал, и верфи эти нам вернули. Вообще, все время приходилось шаг за шагом отвоевывать морское добро. На флоте у нас положение было ужасное, так как не было матросов, за малым исключением, все прежние сделались большевиками. Решено было произвести и для флота осенью набор новобранцев. Хотя у нас флота фактически не было, но расходы именно в предвидении, что этот, флот вернется, были очень велики. Наши министры не особенно любили ассигнования на это дело и, скрепя сердце, соглашались обыкновенно только после разговора со мной. Неопределенное положение с флотом еще усугублялось неизвестностью о том, что будет с Крымом и Севастополем, т. е. отойдут ли они к Украине или, по крайней мере, вереду ее влияния. Без разрешения этого вопроса нельзя было разрешить и окончательный вопрос о роде нужного нам флота. Что касается Крыма, как я уже говорил, в Брест-Литовском договоре о нем не упоминается. Положение Крыма было самое неопределенное, хозяйничали там немцы, чего они хотели достигнуть, нам было неизвестно, турки же вели пропаганду среди татар. Вместе с этим, несмотря на то, что Крым не принадлежал Украине, последняя несла целый ряд расходов и по эксплуатации железных дорог, и по содержанию почт и телеграфа, и даже такие подробности, как содержание конских депо, падало на нее. Там. было какое-то правительство, которое фактически не давало себя чувствовать, наше же министерство иностранных дел повело за свой риск и страх довольно наивную украинскую агитацию, какие-то молодые люди в украинских костюмах в Ялте и в окрестных городках убеждали публику сделаться украинцами. Это не имело, конечно, успеха, но и никому не вредило. Так продолжалось до конца июня месяца, когда в одни прекрасный день ко мне зашел Федор Андреевич Лизогуб и заявил, что он получил телеграмму от генерала Сулькевича, объявляющего, что он стоит во главе правительства{270}, и вместе с указанием, в очень дерзкой форме, что он украинского языка не понимает и впредь настаивает на том, чтобы к его правительству обращались на русском языке. Начало было плохое. Вся переписка и вообще все официальные сношения как с немцами, австрийцами, так и со всеми другими государствами и обывателями, с которыми в то время Украина имела сношения, происходили на украинском языке. Нам отвечали на своем языке, это было так принято. На Украине официальным языком был украинский, и не генералу Сулькевичу было менять заведенный порядок. Через некоторое время мы узнали, что новое Крымское правительство повело новую политику, далеко не дружественную Украине, и преследовало цель образования самостоятельного государства, причем, все направление, как я только что сказал, ясно дышало каким-то антагонизмом. Я рассуждал так: планы немцев мне неизвестны, во всяком случае, при известной комбинации немцы не прочь там утвердиться. Турция с татарами тоже протягивает к Крыму руки, Украина же не может жить, не владея Крымом, это будет какое-то туловище без ног. Крым должен принадлежать Украине, на каких условиях, это безразлично, будет ли это полное слияние или широкая автономия, последнее должно зависеть от желания самих крымцев, но нам надо быть вполне обеспеченными от враждебных действий со стороны Крыма. В смысле же экономическом Крым фактически не может существовать без нас. Я решительно настаивал перед немцами о передаче Крыма на каких угодно условиях, конечно, принимая во внимание все экономические, национальные и религиозные интересы народонаселения. Немцы колебались, я настаивал самым решительным образом.
Отношения с новым Крымским правительством обострялись все больше и больше. Меня это сильно волновало, тем более, что, по крайней мере, часть народонаселения Крыма посылала ко мне целый ряд депутаций, искренно выражала желание самой тесной связи с Украиной, считая, что всякая другая комбинация гибельна и для Крыма, и для нас. Наконец, — дело дошло до того, что наш совет министров постановил прекратить сношения с этим новым правительством. и до выяснения обоюдных отношений между Крымом и Украиной прервать экономические сношения. Это была мера, может быть, и слишком решительная, но она по крайней мере приводила Крымское правительство к сознанию, что то направление, которое оно приняло, не может дать счастья Крыму. Тут в это же самое время, между прочим, я узнал от немцев же, кажется, от офицера «Оберкомандо», майора Гассе, что в Киев проездом в Берлин приехал граф Татищев, один из видных министров нового крымского правительства. Гассе мне сказал, что Татищев хотел бы меня видеть. Я, узнавши о его желании со мной повидаться, был рад неофициально с ним переговорить, так как я думал, что этот разговор с глазу на глаз мог бы привести к хорошим примиряющим результатам, но я хотел, чтобы наше свидание осталось в тайне от публики. Я прямо сказал Гассе, что хочу видеть графа Татищева, буду очень рад его принять, но так как теперь отношения между правительствами обострились, то, не имея возможности принять его официально, я прошу графа приехать ко мне не под своей фамилией, а под фамилией, «ну, скажем, Селивачева». Я сказал первую попавшуюся мне на язык фамилию. Я много принимал всякого народа, и фамилия Селивачева не говорила ни сердцу, ни уму всех тех, кто в то время следил за мной. Таким образом, Татищев прошел бы незамеченным. Татищев действительно в условленный час под фамилией Селивачева явился ко мне, но в сопровождении германского офицера. Я начал с того, что'сказал ему, что очень рад его видеть, по не могу его принять официально, а принимаю как частное лицо, как графа Татищева, и хотел перейти к дальнейшему разговору, хотя присутствие немецкого офицера меня стесняло. Граф Татищев принял официальный вид и ответил мне, что он здесь как министр крымского правительства, что он на этом стоит, почему-то добавил, что он человек русский. Я его вежливо перебил и сказал ему, что в таком случае я не знаю, почему он хотел меня видеть, раз он знает, что я не могу его принять официально. Встал и с графом простился. Я никогда не'мог понять, что хотел Татищев. Он потом говорил, что его ввели в заблуждение, но тогда, каким же образом, приходя ко мне как официальное лицо, он назвал себя «Селивачевым». Странный способ официально являться и соглашаться именовать себя другим именем. Я остановился на этом факте, так как полагал, что если бы граф Татищев пожелал бы говорить со мной просто, а не как министр не признаваемого Украиной правительства, которого я совсем не мог принять, многое можно было бы выяснить и устраниться от неприятного для обеих сторон. С генералом Черячукиным мы же так переговорили, и сразу же у нас установились самые искренние и хорошие отношения, не прекращавшиеся между Доном и Украиной вплоть до моего ухода.
Однако, этот приезд Татищева навел меня на мысль, что едет же он в Берлин неспроста и что необходимо для противодействия но начинаниям немедленно же послать туда кого-нибудь и от нашего правительства для того, чтобы выяснить, чего будет добиваться там Татищев, и решительно настаивать на том, что Украина без Крыма существовать не может. Кстати же, нужно было выяснить в Берлине вопрос о флоте. Я об этом сообщил Лизогубу и решил, что он с Палтовым и, в качестве секретаря, Кочубеем поедут в Берлин. По окончании официальных сношений по этому вопросу, они выехали в Берлин 17 августа нов. ст. Поездка эта в Берлин дала хорошие результаты, и вопросы Крыма и флота, казалось, разрешены в нашу пользу. К первому немцы высказались в смысле поддержки наших домоганий, по вопросу флота дело тоже как будто налаживалось, но немцы, как выяснилось посланным нами представителем министерства финансов, связывали это с рассчетом наших денежных обязательств с Германией, причем они сюда также включали и рассчеты с Великороссней, другими словами, все денежные обязательства Российской империи процентами делили между Украиной и Совдепией, флот же принимался как имущество общее российское, за которое Украине приходилось тоже заплатить в пропорциональном размере большую сумму, кажется, 200 миллионов рублей. Несмотря на величину этой суммы, в разговорах с министром я считал, что флот составлял значительно большую стоимость по нынешним временам и заслуживает того, чтобы мы эту сумму выплатили, раз другого способа им завладеть не было, тем более, что каждый день замедления способствовал разграблению флага. Но министр финансов в совете министров решительно высказался против этого и тем спас громадную сумму, ответственность за потерю которой падала бы на меня и правительство. Я признаю свое ошибочное мнение и считаю, что меня удержал от ее проведения в жизнь министр Ржепецкий. Итак, поездка Лизогуба в Берлин принесла много пользы, но дело было не окончательно выяснено, флот все еще был в неопределенном положении, и с Крымом только налаживалось дело, но когда все это окончательно решится, было неизвестно. Лизогуб и его спутники были очень хорошо приняты в Берлине, вместе с тем им никаких новых требований не предъявили, чего я, отпуская их туда, особенно боялся.
К августу месяцу наша политика сделала большие успехи, конечно, люди, участвовавшие в этом, чувствовали, на каком зыбком песке строилось все наше здание, так как прекрасно понимали, что о каком-нибудь серьезном успехе можно будет говорить тогда, когда достигнутое будет признано державами Согласия, т. е. в зависимости от окончания мировой войны и отношений, которые установятся между нами и представителями Антанты. Но все же тогда казалось, что все нами творимое созидалось для достижения порядка, а порядок этот и нашу предстоящую борьбу с большевиками может только приветствовать и Франция, и ее союзники. Ко мне постоянно приходили люди, одни из-за несочувствия Украине, другие, наоборот, из-за моего, якобы, слишком руссофильского кабинета, говорили со мной, настаивая на проведении той или другой меры или отклонении ее. Часто разговор кончался тем, что они высказывали мне свои предположения, что, когда война закончится и я буду в состоянии войти в сношения с Антантой, последняя не признает сделанного нами. Я на это стереотипно отвечал: Антанте нужно иметь правительство, с которым она могла бы говорит ь, Антанте нужно убеждение, что мы творили и достигли порядка, которого нет в остальной России. Антанте нужно иметь убеждение, что наша политика не есть политика Германии, а паша личная для блага страны. Наконец, Антанте нужно иметь убеждение, что мы можем представить ей коммерческие выгоды и уплатить наши долги. Мы этим всем данным отвечаем, поэтому я ни минуты не сомневаюсь, что Антанта признает дело, которое мы сделали, и оно не пропадет. Но Вы и Ваше правительство работаете с немцами.
— Трудно было бы работать с американцами или другими союзниками, когда страна занята немецкими и австрийскими войсками, когда я не имею никакой возможности не только с ними снестись лично, но послать своего агента. По окончании войны придут; союзники, мы так же будем работать с союзниками, как до сих пор работали с немцами. Я не германофил, не «антантист», я хочу блага своей стране, но я признаю, что в нашем печальном положении приходится идти на жертву, ввиду того, что немцы, явившиеся со своими армиями, не пришли сюда для того, чтобы ничего от нас не взять, ни Антанта не пожелает нам помочь, если мы ей ничего давать не будем. Это ясно.
Обыкновенно, всякий приходивший ко мне всегда считал, что он знает все намерения Антанты до мельчайших подробностей и что Антанта, конечно, в этом отношении придерживается образа мыслей говорящего или его партии. Особенно в этом отношении великолепны были великороссы. Они не сомневались, что Антанта всецело, несмотря ни на какие затраты, поддерживает их точку зрения. Помещики всегда доказывали, что Антанта действительно против отчуждения, украинцы, что Антанта стоит за их крайнюю ориентацию. Это было все смешно, но вместе с тем страшно мешало делу, так как несомненно, что политика Антанты ясно мне не представлялась и доводы этих господ сбивали меня с принятого мной пути.
К августу месяну правительство Украины было признано Гермаиней, так как ратификация мира, заключенного Радой, состоялась 24.7.1918 года{271}. Представители Германии и Австрии передали, мне торжественно сообщения своих правительств о признании моего правительства на Украине. Состоялось тоже признание нас Турцией и Болгарией, Доном, Кубанской областью, Грузией и Финляндией, которыя прислали своих представителей. Польша несколько позже тоже прислала своего посланника. С некоторыми нейтральными государствами мы также обменялись представителями, хотя очевидно было, что в данном случае вопрос окончательного признания выжидался до той развязки, которая разыграется на Западе. Масса всевозможных агентов не только Центральных Государств, но главным образом нейтральных, ежедневно прибывали в Киев со всевозможными предложениями. Как я ни хотел простоты, но пришлось выработать небольшой церемониал Для торжественного приема в этих случаях посланников. Происходило это обыкновенно в большой зале, причем там ставился караул в парадной форме от конвоя. С своей стороны, мы во все эти государства послали свои миссии. В Берлин поехал барон Штейнгайль, честнейший и благороднейший украинец, носивший только немецкую фамилию, но даже не говоривший по-немецки, что, конечно, являлось для его деятельности большим пробелом. В Вену поехал Липинский, украинец и щырый, но без той узости, которая отличает этих господ от остальных смертных. Мне он очень нравился. В Болгарию поехал Шульгин, человек, которого я очень уважаю, в высшей степени порядочный, служил министром иностранных дел при Раде, но совершенно не принадлежит и по образованию и по духу к людям того правительства. В Турцию послан был Суковкин; о нем Я ничего не могу сказать ни хорошего, пи плохого, это выбор министра Дорошенко. Суковкипа я не знаю. В Швецию командировали генерала Баженова, в Швейцарию д-р Лукашевич, в Финляндию — Лосский и т. д.{272} Вообще, наше дипломатическое представительство налаживалось. В Берлине куплен был для миссии прелестный дом, где Штейнгайль устроил несколько официальных приемов за время своего пребывания в Берлине. Я останавливаюсь на всех этих мелочах, так как считаю, что после всего того развала, который у нас существовал, в одной части, и самой крупной, Российской империи заводились международные отношения уже на европейских основаниях. Внешнюю политику, собственно говоря, вел я вместе с Дорошенко и Палтовым. Кстати, с Галицией, еще тогда входившей в состав Австрийской империи, у нас были самые дружественные, братские отношения. Постоянные приезды всяких политических деятелей Галиции содействовали укреплению этих отношений, хотя, конечно, большинство из этих деятелей были сторонниками Рады, так как им казалось, что Рада была более радикально украински настроена. Несомненно, что многие из них работали против меня. Теперь, когда нашей Украины фактически нет, можно подвести итог, какое из правительств сделало больше для создания украинской государственности: Рада ли со своими многообещающими заявлениями или же мое правительство, которое считалось «щырыми» украинцами, враждебным украинству. Пусть подсчитают беспристрастно: никогда пи до, ни, конечно, после Украина не подходила так близко под понятие государства, никогда с ней, несмотря на то, что она была наводнена чужеземными армиями, с ней так не считались, как во время Гетманства, а в деле народного образования и искусства, то, что, главным образом, воспитывает национальность, сделано, я утверждаю, во сто крат больше без всякого дикого насилия, нежели сделали Рада, а затем Директория. Одно создание двух университетов уже говорит за себя, но в ту пору дело народного образования было на втором плане, главное — это было налаживающееся во всех отраслях жизни народа понятие о государственности. Самые ярые враги украинства должны были это признать. Мы были, как казалось, единственной здоровой частью бывшей России, и к нам друг и недруг проникался уважением. Антанта, если бы продолжался режим Гетманства, не могла бы нас не признать, слишком много было создано. Мы становились уже на собственные ноги и стали бы крепко, дотяни мы только до весны, когда бы у нас была бы. готова армия. Великороссия, пойми она нашу работу, не могла бы относиться к нам враждебно, тот курс политики, который я принял с первого дня управления страной, ясно доказывал, что, созидая Украину, я не борюсь, а помогаю Великороссии. Денежная и другая поддержка военным снаряжением, сани гарным имуществом и т. д. всем, кто боролся за восстановление России, наш союз с Доном, готовящийся союз с Кубанью, переговоры с Грузией все это ясно доказывают. Я глубоко убежден, что, моя политика была правильная и в отношении Великороссии, и в отношении Украины. Только идя тем путем, которым я шел, можно было создать Украину, и тем же путем можно было легче во сто крат восстановить Россию. Я глубоко презираю всех тех русских, которые, забывая, кто они, с пеной у рта одни защищают Германию, другие политику Антанты. Я не скрываю, что я хочу лишь широко децентрализованную Россию, я хочу, чтобы жила Украина и украинская национальность, — я хочу, чтобы в этом теснейшем союзе отдельных областей и государств Украина занимала достойное место и чтобы все эти области и государства сливались бы в одном могучем организме, названном Великая Россия, как равные с равным. Я не сомневаюсь, что, чтобы там ни было, так в конце концов и будет, по это могло быть теперь, или, по крайней мере, значительно скорее, нежели может быть достигнуто теперь, при создавшихся условиях. А к этому дело шло. v нас уже вполне ясно намечалась эта связь, куда примыкали к Украине Дои, Кубань, Грузия. Я уже имел несколько заседаний по этому поводу с представителями этих стран, вырабатывалась определенная программа работы и предложено было всем представителям этих областей обратиться к своим правительствам за соответственными разрешениями действовать в этом отношении. Предполагалось в Киеве для начала установить совет из представителей заинтересованных правительств для разрешения всех общих вопросов. Но последнее мое министерство, о котором я буду говорить позже, и особенно почтеннейший господни Афанасьев{273}, министр иностранных дел, не поняли этого, и потому из этого ничего не вышло. С поляками в то время был у нас один вопрос, и притом неразрешимый, к удовлетворению обеих сторон. Это вопрос о Холмщине{274}. Поляки настаивали на том, что этот край должен быть всецело их, украинцы, наоборот, что Холмщина должна принадлежать Украине. Если смагреть на это дело с точки зрения этнографической, то казалось бы, что северную часть следовало бы уступить Польше, но зато вся средняя и южная часть, население которой украинское, должны были принадлежать нам. Поляки хотели, чтобы наша граница была на Буге. Я решительно высказался против этого. Австрия, из-за своей внутренней политики, принуждена была поддерживать поляков, в последнее время она стояла за поляков при разрешении этого вопроса. Граф Форгач на этом у меня настаивал, по я не шел навстречу его домоганиям. Вообще, уже с вопросом о Kronlande[75] (лат.), который предполагалось создать из Галиции, но который при министерстве Бурьяна{275} не был создан, о чем мне было сообщено как fait accompli[76], я понял, что с Форгачем лучше ни в какие сношения не входить, он был явно против Украины.
С созданием армии у меня, не шло гладко, устав о воинской повинности прошел, в ноябре ожидался набор, некоторые части уже формировались, как, например, Сердюцкая дивизия, причем, несмотря на все то недоброжелательство, которое чувствовалось в русских кругах, формирование это шло великолепно, подбор офицеров был прекрасный, а новобранцы молодец к молодцу, большинство из них были дети зажиточных крестьян. Размещены были некоторые полки неважно, но все-таки терпимо. Некоторые части я осмотрел, и должен сказать, мое сердце радовалось, глядя на то, как быстро, при правильной постановке дела, наша молодежь воспринимает поенную дисциплину. Части, которые я осмотрел, ничем, и смысле подготовки новобранцев, не отличались от частей старой императорской гвардии. Но далеко дело не стояло так хорошо в остальных частях украинской армии, и это меня приводило в отчаяние. Как я уже говорил, немцы ничего не имели против сформирования 8 корпусов, но ничего не иметь против в то время, когда псе, что нужно было для сформирования армии., находилось в руках немцев, мне было далеко недостаточно. Мне необходимо было как можно скорее сформировать эти корпусы, для этого мне нужны были казармы, их немцы не давали, все было занято их войсками, а то, что они согласны были выделить, нам никуда не годилось. Я же считал, что при существующей тогда большевистской и всякой другой, мало от нее отличающейся, пропаганде можно формировать надежную армию только тогда, когда все условия для создания этой армии будут хороши. Продовольствия тоже не было в достаточном количестве, и это при начале дела, когда еще новобранцы в корпус не являлись. Что же будет потом, думал я, когда у нас будет полное число рядов? Происходило это из-за того, что немцы перехватывали поезда с продовольствием, направляющиеся в наши часта. Особенно этим делом занимались австрийцы. Генерал Тренер, которому я об этом говорил, принимал кой-какие меры, но этого было недостаточно. Я заметил, что в немецкой армии далеко не все распоряжения высшего начальства воспринимались так, как этого можно было ожидать. То же самое с оружием. Одним словом, со всех сторон Украины, со всех корпусных штабов шли самые тревожные сведения, и я видел ясно, что если так будет продолжаться, армии не будет к песне. Лично же мне рисовалась картина, что именно к весне эта армия нам будет особенно нужна для активного противодействия большевикам с севера и для удержания порядка у нас в стране. Я считал, что единственная возможность достичь желаемого — это, чтобы немцам было официально свыше приказано мне пойти навстречу и этом деле, чтобы во всех вопросах интересы украинской армии соблюдались так же, как и интересы немецкой и австрийской армий. Как этого достичь, я еще не знал, но уже, когда я посылал депутацию в Берлин, у меня мелькнула мысль, что если бы я поехал туда сам, то я сумел бы достчь несравненно большего, нежели Лизогуб.
Уже в августе месяце среди немцев шли толки о том, что, может быть, прийдется значительно сократить немецкую и австрийскую армии на Украине. Между тем, с севера приходили недобрые вести. На севере Черниговской губернии и в некоторых уездах Курской губернии формировались большевистские части, другая группа, и несравненно многочисленнее, предполагала, как нам казалось, идти на Белгород. Приходилось задуматься над тем, что мы будем делать, если немцы уйдут. У нас являлось единственной возможностью пока, до сформирования постоянной армии, создать армию, делящуюся на резко националистические части украинские, а затем на части, подобные Деникинской армии, сформированные преимущественно из офицеров бывшей российской армии. По поводу первых частей у нас было несколько заседаний с военным министром. и его помощниками, и мы пришли к заключению, что для борьбы с большевиками на севере единственно подходящим элеметом были галичане, бывшие Сичевики, что же касается других формирований, то из наших украинцев вряд ли такие вольнонаемные импровизированные части были бы на высоте подовження. Лигнау был решительно против этих формирований, Рогоза допускал формирование одного коша, названного Черноморским, потому что мы решили направить его в Черноморскую область, по просьбе тамошних представителей, неоднократно обращавшися к нам за помощью. Сечевиков решено было восстановить{276}. Ко мне явился Коновалов, их глава, и дал формальное обещание верно служить Украине и мне. Он привел с собой депутацию из своих офицеров, которая подтвердила его слова. Я верил, что против большевиков они будут хорошо драться. Что же касается внутренней поли гики, то я несколько опасался их за их наклонности, по, с другой стороны, их обещание и, главное, приказ формироваться не в Киеве, где было до 15 тысяч офицеров, а в Белой Церкви давал мне уверенность; что ничего опасного этот элемент Для существующего правительства сделать не может, тем более, что их было не более 1800 человек. Кроме этого, у меня была бригада, бывшая Иатиева, которого я теперь уволил и назначил вместо него генерала Бочковского, очень надежного начальника дивизии, служившего раньше в 8-м корпусе, которым я временно командовал в отсутствие генерала Деникина. Ему было приказано удалить все неподходящие элементы из бригады и привести в должный вид, не стесняясь средствами. Что, же касается других формирований, то здесь я встречался с целым рядом затруднений.
Прежде всего нужно было выяснить действительную политику Германии по отношению к большевикам. — Несомненно, что Германия во время войны всеми средствами поддерживала их для своих целей, несомненно, что и после заключения Брест-Литовского договора она продолжала на севере ту же политику, но для меня было также ясно, что в официальных немецких кругах в данное, время далеко не все разделяли эту политику центрального правительства в Берлине, особенно в военных кругах. Я, например, знал, что в главной квартире восточного фронта было все подготовлено чуть ли не в мае месяце для наступления на Петербург и Москву. «Оберкомандо» на Украине, во главе с генералом Тренером, совершенно не соглашалось с большевистской политикой, они считали, что Германии уже давно пора порвать с большевиками, такое же мнение наблюдалось и среди дипломатов. Я считал необходимым напрячь все силы, чтобы выяснить немцам, насколько гибельна эта политика, и, достигнувши этого, открыто приняться за формирование русских частей, как я уже говорил, по образцу Деннкинской армии, для наступления на север совместно с Доном, а может быть, войдя в контакт и совместно с Деникиным, причем я не упускал из виду, что и немцы с запада готовы наступить, и полагал, что можно было бы все эти действия при некотором счастьи согласовать для нанесения решительного удара красным армиям. К тому же, я не сомневался, впрочем, и до сих поршне изменил своего мнения, что при движении вперед, в особенности, если у нас будет хлеб, мы в состоянии будем значительно пополнять свои армии местным населением. Все эти острые вопросы убеждали меня в необходимости ехать в Берлин, и я сказал барону Мумму, что хочу ехать в Берлин, Был еще один вопрос, который, мне казалось, также требовал моей поездки. За последнее время, в августе месяце, когда уже Эйхгорна не было и на его место назначили генерала графа Кирбаха, который все время сидел в Вилыю, оккупированной стране; и привык распоряжаться; не считаясь ни с каким местным правительством, я заметил, что в некоторых вопросах немцы как будто хотели наложить свои руки в той области, в которую они раньше не вторгались, например, я вдруг получил бумагу, и подобное же заявление подучили все министры, что генерал Гренер, по приказанию графа Кирбаха, (предлагает вое проекты законов, имеющих Существенное значение, предварительно присылать ему на одобрение. Это была вещь недопустимая, я решительно протестовал, В этом отношении Мумм меня Поддержал, да и Тренер легко сдался, по все же мне казалось, что раз я побываю в центре, то это не повторится, со мной уже так свободно действовать не станут. Они будут считаться с тем, что в центре я могу всегда найти поддержку. Это тоже меня убеждало в необходимости поездки, Наконец, в последних числах августа я получил уведомление по секрету От Мумма, что император приглашает меня 5-го на свидание с ним в Вильгельмсауэ. Как я уже говорил раньше, — я чувствовал, что ехать в Берлин нужно, так как целый ряд вопросов мог быть разрешен мной только там. Из них, конечно, самым главным было ясное определение нашей политики по отношению к большевикам и, в зависимости от этого, подготовка украинской армии, главным образом, из офицерского состава, на подобие Деникинской, для направления на наши границы и оттуда, при первой возможности, для вторжения в Великороссию. Ни перепиской; ни разговорами с «Оберкомандо», ни посылкой кого-нибудь Из наших министров этого достигнуть было нельзя. Обстановка, казалось мне, складывалась хорошо в том смысле, что в Берлине я не мог бояться, что от меня потребуют каких-либо условий, невыгодных для Украины, так как я был
Более или менее хорошо ориентирован о положении немцев на западном фронте, так как после 15 июля, а особенно после 8 августа, когда с поражением их двух армий (11-ой, а другой не помню) весь их западный фронт в корне был подорван{277}. С другой же стороны, я получил еще раньше известие, что в Болгарии для немцев далеко не все обстоит благополучно, так как в Швейцарии агенты короля Фердинанда ведут переговоры с представителями Антанты. Помню, что это последнее известие вызвало у нас недоумение и сомнение в его достоверности, но, зная короля Фердинанда как очень ловкого и умного дипломата, сопоставляя эти сведения с теми, которые я получил о состоянии немецкого западного фронта, я охотно верил, что первое сведение о новой ориентировке Болгарии вполне возможно. Говорят, что король был ни при чем, что все сделано Малиновым{278}, это подробности, которые для меня не имели значения. Итак, я знал, что в Германии нет речи о победе. Мне казалось, что этот, момент может быть благоприятен для того, чтобы выдвинуть мои вопросы в Берлине. Если бы, наоборот, победа на стороне немцев была бы полная, я думаю, они в состоянии были бы меня сильно прижать.
Но чего я положительно не предвидел — это их революции. У нас не было или, по крайней мере, до меня не доходило никаких сведений об этом. Конечно, потом, когда все уже разразилось, всякий считал своим долгом уверять, что он давно это предвидел, но это вздор. Я постоянно интересовался этим вопросом и никогда не получал сведений, дававших повод думать о возможности чего-нибудь подобного.
Предстоящее мое путешествие было известно очень небольшому кругу лиц. Я предупредил лишь Ф. А. Лизогуба и еще двух-трех человек. После убийства Эйхгорна меня полиция предупреждала неоднократно, что нужно теперь ожидать, что произойдет покушение на меня. Не желая, чтобы с моей смертью погибло дело, ради которого я столько пережил, я предложил Совету министров обсудить временную форму управления на Украине в случае моей смерти, серьезной болезни или временного отъезда за пределы Украины, впредь до избрания нового гетмана. Дело это было поручено сенатору Завадскому, он выработал особый закон, который затем прошел все инстанции и был мной утвержден. По этому закону, в случае смерти, болезни или отъезда гетмана за пределы Украины гетманская власть переходит временно, до избрания нового гетмана, в случае его смерти, иди до возвращения его из-:за границы, в случае его отъезда — к Верховной Коллегии, состоящей из трех лиц: первого — по избранию совета министров, второго — по избранию Сената и третьего — по избранию предшествующего гетмана, причем третье лицо является председательствующим в Коллегии, но голоса лишнего не иметь, гетман заблаговременно назначает его и имя его занесено в особые листы, хранящиеся в запечатанных конвертах. Первый в Софиевском Соборе, второй — в Сенате и третий у председателя совета министров. Остальные два члена Верховной Коллегии избираются уже в момент необходимости. Я торжественно в первых числах августа устроил передачу этих конвертов, пригласивши Митрополита, Сенат и Совет министров к себе. Предварительно я обратился с речью к собравшимся, в которой указал идею, которую я этим хочу провести. Старая история Украины вся наполнена всевозможными осложнениями именно из-за того, что со смертью гетмана власти не было и начинались партийные раздоры из-за выбора нового гетмана, выборы которого обычно приводили к анархии.
В день своего отьезда, 2 сентября, я сообщил об этом Совету Министров уже во время заседания и, указавши, что лично назначаю Ф. А. Лизогуба, прошу Совет и Сенат назначить от себя лиц в Верховную Коллегию. Был избран Рогоза и сенатор Носенко. Я же с собой взял лишь Палтова, в качестве товарища министра иностранных дел, уже побывавшего в Берлине, и двух адъютантов — Зеленевского, говорящего по-немецки, и Абдул Захидова, туркмена. Во время путешествия До Голоб меня сопровождал Кирилович, начальник Юго-Западных железных дорог. Я довольно долго беседовал с ним и узнал от него многое, что для меня не доходило раньше. Но что мне было и раньше известно и на что Кирилович особенно указывал, это на ту катастрофу в вопросе о. транспорте, которая несомненно наступила бы в очень непродолжительном времени, если бы мы не достали смазки. Я лично мог убедиться, проезжая по линии, что передвижение почти прекратилось из-за недостатка смазочных веществ. Это было у меня записано как один из особенно важных вопросов, о которых нужно было особенно хлопотать в Германии. У нас на Украине смазочных веществ не было совершенно, мы могли получить их только из Германии. В Голобах я пересел в специальный поезд, и на следующий день в 7 часов вечера я был уже в Берлине. На вокзале я был встречен директором департамента иностранных Дел и чиновником того же министерства, Надольным, который был назначен состоять при мне адъютантом канцлера, приветствовавшим меня от имени последнего. Всех нас поместили в отеле «Адлон». Из Украины одновременно со мной приехали граф Берхгем и капитан Альвенслебен. На следующий день я сделал визит в министерство иностранных дел Гинце и Буше. Гинце{279} на меня произвел странное впечатление. Человек этот, я его знал уже давно, еще во время пребывания его в Петрограде, казался мне человеком очень уравновешенным, говорящим мало, по когда говорил, то для того, чтобы высказать уже нечто определенное и положительное. Здесь же он говорил много, и вместе с тем я видел, что он не в курсе дела. Я с ним потом, еще за свое пребывание в Берлине имел возможность несколько раз говорить и совсем разочаровался в нем, я понял, что этот человек один из главнейших сторонников той отвратительной политики, которую в то время Германия вела с большевиками. Я понял, что если во время войны большевиков поддерживала военная каста, то теперь это дело все перешло в министерство иностранных дел, по крайней мере, они поддерживали и настаивали на продолжении принятого курса, заигрывания с большевиками. Ведь достаточно сказать, что этот самый «эксцеленц Гинце» ездил с красной гвоздикой в петлице обедать к Иоффе{280} в российское посольство. На все мои заявления он говорил одно:
Nous avons besom de la paix avecla Russie, que voulez vous le seul parti gui la vent ce sont les bolcheviks et puis en Russie il n'y a pas d'autres partis pour le moment donne, avec laquels au aurait pu parler serieusement[77].
С Буше, товарищем министра иностранных дел, я сразу переговорил и добился положительных результатов в вопросе получения смазочных веществ. На следующий день я был днем у канцлера. Он был немедленно же после у меня, и вечером у него был обед, после чего состоялся раут. Было очень много народа, мне всех их представили, по теперь я не могу определенно всех назвать. Думаю, что большинство правительственного, финансового и промышленного Берлина там было. В общем, особенно интересного ничего не было. Канцлер, граф Гертиг, был очень любезен, пил за мое здоровье во время обеда, я ответил. Никаких речей не было, разговор шел на различные темы, но ни о чем, имевшем значение, не было сказано. Тут я видел некоего эксцеленц Крите (Kriege), одного из важных чиновников министерства иностранных дел. Мне говорили, что этот господин именно тот, который особенно настаивал на всей этой большевистской политике. В отрицательном смысле это единственная интересная личность, которая там присутствовала, в положительном же я не могу никого выделить, по все были очень любезны.
В 11.50 прямо с раута мы поехали на вокзал, и на следующий день утром, т. е. 5 сентября, мы были в Касселе. На вокзале я был встречен молодым флигель-ад'ютантом императора. Нам назначено было прекрасное помещение водной из местных гостиниц, откуда, после завтрака, мне было предложено командиром X корпуса, который меня сопровождал, осмотреть Кассельскую картинную галлерею. Я очень много о ней слышал и никогда там не бывал, тем более мне приятно было попасть туда при тех условиях, в которых я был, уверенный, что мне покажут все, что там есть интересного. Действительно, встретил меня оберпрезидент Касселя и директор музея. Здесь я провел прелестнейших подпора часа, которые были лишь испорчены чем, что при самом уже выходе мне директор музея заявил: «Мы надеемся значительно увеличить свою коллекцию голландских мастеров получением из Петроградского Эрмитажа целой серии этих картин, которые когда-то принадлежали Касселю». Это меня очень покоробило. Меня очень удивил наивно добродушный тон при этих словах. Оттуда мы поехали к императору. Прелестный дворец Вильгельмцрере с его чудными произведениями искусства и видом на Кассель, бывшее местопребывание Наполеона III. Меня встретил залмаршал [?] и провел к императору. Мои адъютанты и Палтов остались в соседней комнате. Император встретил меня стоя, невдалеке от дверей. Разговор, о котором потом много говорили в газетах впоследствии, совершенно не касался настоящей политики.
Я был предупрежден, что с императором не стоит говорить о делах, так как в данное время это никакого значения не будет иметь. Я это намотал себе на ус и совершенно не старался говорить о тех вопросах, которые меня в то время интересовали. Разговор вначале вертелся на вопросе о здоровье императрицы, которая была больна и только что поправилась, затем перешли на темы о моей бывшей деятельности и войне, причём он вспоминал несколько генералов и начальствующих лиц, которых он знал в России во время своего тамошнего пребывания. В это время пришел адъютант и принес футляр с орденом. Император дал мне Большой крест Красного Орла и с большой серьезностью сам мце надевал на плечо, для чего был призван, как специалист, камердинер императора, по одному приглашались лица моей свиты, их представляли, и каждый из них получал орден. После этого мы пошли завтракать, было очень мало народа, лишь несколько человек из свиты императора. За завтраком я сидел против императора, по его же бокам с одной стороны Палтов, с другой Зеленевский. Император очень много говорил о лошадях и охоте. А потом прочел речь на немецком языке, эта речь, также как и моя ответная, были всюду напечатаны. Я ему ответил на украинском языке. Собственно, новое в этой речи было то, что он величал меня «Дурхляухт»{281} и говорил о самостоятельной Украине, в ответной речи я благодарил за прием и пил здоровье его и немецкого народа, не упоминая армии. — Палтов мне передавал, что почему-то немцы непременно настаивали, чтобы я выпил за победу немецких армий, я счел это лишним и пил за германский народ. После завтрака мы вышли на террасу, где, конечно, сейчас же появился кинематограф и нас снимали во всех видах. Здесь разговор с императором вертелся, главным образом, об императоре Николае II. Я вынес впечатление, что он положительно не имел сведений о том, где находится царь и его семья. Меня это очень удивило, так как я был убежден, что именно здесь я могу узнать о судьбе государя, так волновавшей многих в Киеве. Хотя сейчас же после 16 июня в Киеве во многих церквях и у меня были отслужены по всем панахиды, но все же казалось, что смерть бывших царя и царицы далеко еще не констатированный факт. Здесь император был в таком же неведении, как и мы. Помню, что как-то в разговоре я высказал мысль, что, может быть, император рано отказался от власти, раз почти все войска были нетронуты, причем говорил, что я считаю, что царь может лишь тогда отказаться от власти, когда все средства уж исчерпаны, а что до этого он не имеет права этого делать. Странно, что эта моя фраза как-то врезалась в голову императора, потому что, как мне передавали в Киеве, уже в ноябре месяце император в течение нескольких дней указывал на то, что он как император не имеет права отрекаться и что на этом также настаивал гетман. Как странно складывается жизнь. Мог ли я подумать, что когда-нибудь сыграю роль в жизни императора германского, я, который никогда никакого отношения не имел не только к императору Германии, но и вообще к Германии, кроме того, что воевал с ней. Он был в разговоре очень высокого мнения почему-то о бывшем министре Дурново{282}, находил, что большой ошибкой было то, что не было своевременных реформ в России, особенно аграрной. Я ему, помню, ответил, что у нас на Украине в полном ходу разработка аграрной реформы, несмотря на то, что это представляет большие трудности. Он находил, что мы на правильном пути. Затем он отошел говорить с адъютантом и Палтовым, а также с графом Берхемом. Я же вел самую неинтересную беседу с ближайшей свитой императора. Через час после завтрака император со мной очень любезно простился, и мы уехали к себе в гостиницу. А в 5 часов уже снова были в поезде. Часов в 8 вечера мы обедали в Ганновере. Нам подали обед в императорских комнатах вокзала, при этом там всем распоряжался комендант станции. В разговоре с ним он как-то сказал, что теперь ему очень трудно справляться с солдатами, возвращающимися с фронта, что они потеряли всякую дисциплину и что уже было несколько случаев явного сопротивления. Помню, это меня заинтересовало и я подумал, не начинается ли то, через что мы так еще недавно прошли.
На следующий день вечером я был приглашен в оперу в императорскую ложу. Меня внизу в коридоре встретил директор Королевских Прусских театров, граф Гильзнер, человек чрезвычайно любезный. Я ко всему этому не привык и чувствовал себя несколько неловко. Он меня встретил у входа с тростью и шляпой с перьями, все люди его вышколены были великолепно, по малейшему его жесту дверь открывалась и закрывалась. Он ввел нас в маленькую гостиную, затем через некоторое время началось торжественное шествие, впереди два капельдинера, затем он, затем я, затем мои украинские спутники, и шествие заканчивалось моими же немецкими спутниками гр. Берхемом, Альвенслебепом и Майером. Нас подвели, кажется, к какой-то занавеси, по жесту графа Гильзнера занавесь раздвинулась, и мы оказались в ложе. Гильзнер с большим поклоном указал мне на место в первом ряду, но всем остальным предложено было сесть во втором, положение для меня было невеселое. По какому-то знаку графа Гильзнера немедленно при моем входе взвилась занавесь, и спектакль начался. Я с ужасом думал об антрактах, так как, видимо, представлял для немцев большой интерес и чувствовал себя неловко. Гильзнер, добросовестный царедворец, вероятно, тосковал по отсутствию императора и на мне проделывал за отсутствием его величества все свои привычные эксперименты. Несмотря на прелестный спектакль, я был рад, когда мог спокойно добраться домой.
Через день я поехал в той же компании в Спа. Несмотря на те сведения, которые я имел о поражении на фронте, в тылу порядок был полнейший, поезда шли без всякого опоздания, на дорогах никаких загромождений не было, картина, резко отличающаяся от всего того, что, к нашему горю, происходило во всех тождественных случаях у нас, когда при отходе творилось в самых глубоких тылах что-то невероятное. Фельдмаршал Гинденбург{283} встретил меня на вокзале, в Спа, посадил с правой стороны и повез к себе, где собрался весь штаб и состоялся завтрак. Особенно интересного об этом завтраке я ничего не могу сказать. Помню, что Гинденбург высказался почти что с отвращением о некоторых берлинских кругах, которые вечно в панике, по вместе с тем всю войну упорно старались отделаться от всякой повинности. После завтрака Гинденбург пригласил меня, Людендорфа{284} и Берхема в отдельную комнату, и здесь в течение одного часа мы беседовали. Разговор вел я с Людендорфом, Гинденбург больше молчал и только по выяснению вопроса уже в окончательной форме давал заключение. Берхем же, ввиду моего плохого знания немецкого языка, в некоторых случаях переводил с французского мои слова Людендорфу, который на последнем языке не говорил. Речь шла вначале о большевиках. Людендорф и в особенности Гинденбург высказывались против большевистской политики. Я доказывал необходимость правильного формирования Особого корпуса армии. Они с этим соглашались. Целью этой армии было бы движение на север. Затем, что касается украинской постоянной армии, они поняли, что я прав и что при тех условиях, в которых мы теперь находились, ничего серьезного создать к весне не могли. Они обещали полное содействие. Вопрос коснулся также других формирований, которые делались за счет немцев, главным образом, Южной и Астраханской армий. Эти армии имели целью поддержку, главным образом, Дона, но контингент добровольцев набирался бы у нас на Украине. В данном случае видно было, что Людендорф за, Гинденбург же считал, что было бы лучше, если бы мы, т. е. Украина, взяли их на свое попечение. Я полностью с этим согласился. Про положение их дел я не спрашивал, так как прямого делового значения это не имело. Я просил возвращения пленных по моему выбору, для сформирования из них частей в Южной армии и в украинской, и на это последовало их согласие. Вообще, по всем пунктам, возбужденным мной, я получил ответ в положительном смысле. Общее впечатление было, что дела у них неважны, но спокойствие полное. О положении Германии или армии не было проронено пи одного слова. После разговора я, провожаемый фельдмаршалом и штабом, поехал в отведенное мне помещение в одной из дач, находящихся вблизи железной дороги. Через час туда приехал фельдмаршал. Мы пили, около часа разговор вертелся исключительно на общих вопросах, не имеющих никакого политического значения. Я даже не припомню, о чем говорил Гинденбург, больше рассказывал о своей службе, после чего я с ним поехал на вокзал, где мы и простились.
В тот же вечер мы прибыли в Кельн, где переночевали в гостинице около Собора. На следующий день; имея свободное время до отхода поезда, я пошел с Берхемом, ярым католиком, осмотрен, Собор. Я и раньше его осматривал, но не в таких деталях. Мог это сделать теперь. Нас сопровождал кюстер, говоривший по-французски как француз, оказалось, что он всю свою жизнь провел во Франции. Кончилось тем, что мы взобрались на самую высшую, доступную точку В башне Собора.
В 2 часа выехали в виллу Кугель к господину Болену Круппу. Еще в Берлине меня спросили, желаю ли я побывать в Эссене, и я ответил, что с большой охотой. Меня не столько в данном случае интересовали заводы, которые требовали значительно больше времени для изучения их, специальной подготовки, которой у меня не было, сколько вопрос постановки рабочего вопроса на этих заводах и, особенно, разрешение квартирного вопроса, рабочие городки, о которых мне приходилось столько читать и слышать. Последнее имело особый интерес для меня в связи с тем новым Киевом, который мы предполагали строить в будущем и при котором хотелось использовать весь опыт Запада. Все, что я видел в Эссене, превзошло все мои ожидания. В вилле Кугель нас встретили очень радушно господин Болен и его жена, единственная дочь и наследница старого Круппа, еще молодая и красивая женщина. Не говоря уже о царской роскоши дворца, в котором усилиями двух поколений собраны многие цепные произведения искусства, чувствовалось во всех мелочах, что деньги туг не имеют значения. Там же и картинная галлерея, предоставляющая из себя собрание очень дорогих картин, по видно, что они покупались просто потому, что денег было много, почему же не купить, если это возможно. Не было того любительского подбора, той классификации, которые отличают действительных знатоков искусства. Тут было всего понемногу. Зато простота самих хозяев, их скромность меня очаровали, в особенности личность хозяйки. Я получил впечатление, что вопросами производства она совершенно не занимается, предоставив это своему мужу и многочисленным директорам, сама же интересуется лишь улучшением быта рабочих. На следующий день с раннего утра мы поехали на завод. Это громадный город, 170 тысяч рабочих, находящих себе там ежедневный труд. Я не собираюсь давать описание всего виденного мной, достаточно сказать, что до войны заводы Круппа уделяли производству военного материала всего 13 % своей общей производительности, весь же мир об этом приготовлении пушек говорил как о чем-то колоссальном. Во сколько же раз больше, можно себе представить, является общее производство. На заводах, когда я был, все было вполне спокойно. Как плохо было осведомлено управление заводов о том состоянии умов рабочих, которое, несомненно, уже тогда было далеко не спокойное, показывает заявление, сделанное мне одним из директоров, сопровождавших нас при осмотре. Он мне сказал: 3/4 рабочих не социалисты, почти вся остальная же часть принадлежит к партии христианских социалистов, и только незначительная часть, 3 %, являются независимые. О спартаковцах{285} тогда еще даже не говорили. Рабочие кассы, всевозможные потребительские лавки, больничные кассы и т.и., видимо, поставлены образцово, но что является уже совершенно из ряда вон выходящим — это именно рабочие городки, поместительность квартир, продуманность, гигиена и красота зданий поразительна. Из колоссов в области пушечного производства я ничего такого не видел из того, что ранее мне не было известно. Знаменитых пушек дальнобойных, висящих на цепях, я не видел. Их приготовляли на совершенно другом заводе, тоже принадлежащем фирме Круппа.
Вечером состоялся обед с директорами. Насколько я заметил, к Круппу поступали наиболее выдающиеся люди Германии в области технических и коммерческих знаний. Я тогда узнал, что во главе с Круппом составлялось общество, целью которого было завязать сношения с Украиной, но далее разговоров это не пошло. На следующий день мы вернулись в Берлин.
Палтова со мной во время этой поездки не было, я его специально просил остаться для выяснения целого ряда вопросов, между прочим, о Крыме, а, кроме того, для того, чтобы выяснить вопрос внутреннего состояния Германии, т. е. я хотел, чтобы он перезнакомился со всеми социалистическими вождями и мне сообщил свои впечатления. Палтов в этом отношении очень плохо исполнил свою задачу: я хотел, чтобы он повидал различных господ и указал бы мне, с кем из них желательно было бы свидеться. Это было очень легко, все эти господа были очень откровенны, я еще на Украине встречал, некоторых из среды профессоров и журналистов. Палтов был где-то с ними, но что они ему говорили по этому делу, он, видимо, не придавал значения. А я, с утра до вечера занятый и усталый, не позаботился настоять на этом. Это была моя крупная ошибка. Может быть, я из этих разговоров мог бы вынести что-нибудь полезное для того, чтобы предвидеть грядущие события в этой стране.
Что касается Крыма, то знаменитый граф Татищев оказался все еще в Берлине, к тому же тут еще находился и Саидамет, сторонник турецкой ориентации, сам крымский татарин. Последнего я не видел, с графом же Татищевым у меня было свидание. Я ему оставил карточку, как бы отдал неудачный визит, который он мне сделал в Киеве. Он пришел ко мне. В силу каких обстоятельств, я уже не знаю, но граф Татищев, видимо, совершенно изменил свои взгляды на крымский вопрос. Он находил, что слияние его с Украиной вполне возможно, но считал, что это слияние должно лишь произойти после того, как мы отменим тот бойкот, который был нами объявлен крымскому правительству. На каких условиях Украина должна была соединиться с Крымом, у графа Татищева выходило неясно, во всяком случае, моя власть признавалась. Ввиду такой неопределенности было решено, что он сейчас же протелеграфирует в Крым, предлагая выслать депутатов в Киев для выяснения всех условий, на которых Крым соединился бы с Украиной. От нас он просил немедленно послать телеграмму в Киев с требованием о прекращении того перерыва сношений, который уже продолжался довольно долго и, видимо, наносил большой ущерб Крыму. Такую телеграмму я немедленно послал в Киев Лизогубу.
В Берлин приехала тогда же промышленная, торговая и сельскохозяйственная делегация под председательством Василия Петровича Кочубея. Эта делегация, кажется, объехала некоторые промышленные центры Германии и повела энергичную и успешную борьбу с «Аусфур Гезельшафт», о которой я говорил выше и действия которой сильно тормозили товарообмен. Во время моею пребывания в Берлине я видел и Василия Петровича Кочубея и всех членов делегаций, которые во время моего посещения театра там представились мне.
Мне предложили поехать в Киль. Надобности не было никакой, но раз это было предложено, я решил, что отказываться не стоит, тем более, что там был принц Генрих Прусский, брат императора, и мне казалось, что неудобно, раз мне предложили это, отказаться от свидания с ним. На следующий день я поехал в Киль в сопровождении своих адъютантов и графа БерхеМа. В Киле я был очень торжественно встречен, на станции был выставлен караул, меня встретило главное начальство. Я поехал немедленно к принцу Генриху, который ждал меня в своем дворце. После представления я вместе с принцем поехал в Морское Собрание, где состоялся обед. Офицеры моряки были очень любезны, принц пил мое здоровье, я его. После обеда перешли в курительную комнату, где беседа продолжалась. Все носило отпечаток официальный. Разговоры были самые общие. Вернувшись домой, Зеленевский меня спросил, поправился ли мне прием, я ему ответил утвердительно, но сказал, что одна вещь меня удивила. «У них во флоте неладно может быть». — «Я тоже того же мнения. Вы заметили матросов?» — «Именно об этом я и хотел сказать». Действительно, видимо, я не ошибся, и Зеленевский тоже это заметил. У всех матросов были угрюмые, озлобленные лица; точь-в-точь как у наших большевиков-солдат, которых я достаточно насмотрелся. События, разразившиеся потом в скором времени в Киле, указали, что наш печальный опыт нас не обманул. На следующий день нам показывали казенные мастерские, затем мы обошли часть порта. Я ездил на подводной лодке, причем она маневрировала и погружалась на глубину. Мне, никогда не видевшего этого, все казалось очень интересным. В час состоялся завтрак в офицерской школе, на котором присутствовал также принц. Тут было все, как обыкновенно бывает в офицерских собраниях. После этого под звуки «Ще не вмерла Украина» я перешел на пароход, и меря познакомили с Кильским каналом. Проехав довольно значительное расстояние, мы причалили, пересели на автомобиль и вернулись домой, откуда. я вечером поехал к другу, куда был приглашен для представления принцессе Ирене. Бедная женщина была в большом волнении и думала, что я могу сообщить ей что-либо о ее сестре императрице Александре Федоровне. Меня удивляет, на чем, собственно говоря, было основано это мнение у них. Мне значительно труднее, чем кому-либо из них, было узнать о том, что сталось вообще со всеми высочайшими лицами в России. Мы пили чай, и разговор шел исключительно о царской семье. Для этого разговора с принцессой меня принц предупредил приехать лично одному, без адъютантов, присутствие которых могло стеснить принцессу. После чая я, простившись с принцем, уехал. Через час я уже, провожаемый тем же начальством Киля, возвращался со своими спутниками в Берлин.
На следующий день в гостинице «Адлон» я дал обед Тренеру и Мумму, которые приехали в Берлин. После этого мы поехали в театр, где давали «Дер флигенде голлендер»[78]. Снова та же церемония любезнего графа Гильзнера, затем я распрощался со своими гостями, с Муммом окончательно, так как он на Украину не вернулся, как оказалось впоследствии, его заменил потом граф Берхем. Прямо с театра мы поехали на вокзал. Тем же порядком, каким приехали, мы вернулись обратно.
Путешествие мое очень критиковалось многими кругами, другие, наоборот, его одобряли. Я думаю, что оно ни одобрения, ни порицания у деловых людей не должно было вызвать. Я поехал потому, что иначе не мог сделать многого из того, что было необходимо немедленно сделать по возвращении. Разрешение на это я мог получить только в Берлине, и я его там получил. Украинцы были очень довольны, они это путешествие тоже переоценили и считали, что теперь уже Украина стала прочным государством. В то время все партии сходились на гетманстве, некоторые же русские круги видели в моей поездке тяжкое преступление. Шульгин написал в издаваемой им, кажется, в Таганроге, газете статью, которая начиналась так: «Скоропадский обещал повергнуть к ногам его величества Украину, мы знаем теперь, к ногам какого величества он поверг страну». Я только это и прочел, но далее, мне говорили, псе было в том же духе с самой дикой руганью по моему адресу. Меня это мало тронуло. Я только подумал, что с такими политическими деятелями Россия далеко не уедет. В Киеве по моем возвращении работа закипела. С одной стороны, мы сейчас же принялись за создание добровольческих частей. Прошел закон, в котором указывалось, что формируется Особый корпус. В то время открыто нельзя было говорить официально, для какой цели он создавался, но неофициально офицеры ставились в известность о назначении корпуса. Я назначил командиром корпуса генерала князя Эристова, человека, которого я знал раньше по совместной службе. Одновременно для удержания большевиков от активной деятельности эти формирования производились в больших городах из офицеров. Наконец, что самое главное, это то, что немецкое «Оберкомандо» энергично пошло навстречу нам в деле формирования и снабжения назначенных нами частей. Это был большой плюс, которого я достиг своей поездкой в Берлин.
Я занялся главным образом аграрной реформой. У меня состоялся целый ряд заседаний из людей различных партий для освещения мне лично этого вопроса. Одновременно в различных комиссиях самостоятельно вырабатывались проекты по этому вопросу. Мне лично более всего был по душе проект, выработанный Колокольцевым совместно с бывшим директором департамента министерства земледелия Афанасенко (?), который неоднократно бывал у меня по этому вопросу. Он же [проект] потом и прошел при министерстве Леонтовича через Совет Министров II был передан на обсуждение большой комиссии. Украинские партии приписывали этот закон Леонтовичу; это неправда. Закон был выработан Колокольцевым. Я очень уважал и того, и другого, но для восстановления истины Должен сказать, кто действительный автор этого сложного закона, который, дай украинцы его провести, Сдвинул бы наконец с места этот проклятый земельный вопрос.
В Великороссии земельный вопрос легче, по-моему, разрешить, нежели у нас. Там крик о земле, комбинируя отчуждение частновладельческих пахотных земель с переселением на свободные земли, может получить более или менее возможное разрешение. На Украине дело стоит иначе. Вопрос этот при всех комбинациях, с серьезной пользой для народа, в общем, разрешен быть не может. Тем не менее, как я уже писал выше, я лично убежденный сторонник проведения аграрной реформы с точки зрения политической.
Все подготовительные работы в течение нескольких месяцев в министерстве земледелия дали следующие данные: я, не имея вполне точного материала под рукой, буду цитировать из памяти и пользоваться теми скудными заметками, которые как-то сохранились у меня по этому вопросу здесь, на чужбине. Все эти данные так примелькались у меня в глазах за время Гетманства, что я думаю, мне здесь не прийдется отклоняться от истины.
Факт неоспоримый, что наше украинское селянство нуждается в земле и страдает в этом отношении несравненно больше, нежели Великороссия. Если в общем в европейской России на одну квадратную версту приходится 26,4 жителей, занимающихся сельским хозяйством, то на Украине по имеющимся у меня данным будет в Подольской губернии г- 101, Киевской — 90, Холмской, — 49, Полтавской — 78, Харьковской — 61, Екатеринославской — 53,4, Черниговской — 50,4, Херсонской — 42,9, а лишь в одной Таврической — 20 на десятину жителей.
По другим данным, на 100 десятин посевной площади приходится в Полтавской губернии — 112, Черниговской — 142, Харьковской — 124, Волынской — 137, Подольской — 144, Киевской -150 и Херсонской — 61. В Англии же на 100 десятин посевной площади — 79, во Франции — 84, Германии -104 душ сельского населения. Цифры, поражающие самого закоренелого противника аграрной реформы.
Но ведь вопрос еще осложняется тем, что при этой густоте населения, с одной стороны, промышленность в стране очень слабо развита, с другой, способы обработки земли, доступные селянству ввиду форм землевладения и культурной отсталости, — чрезвычайно примитивны, несмотря на все ценные [мероприятия] некоторых земств старого времени.
У меня есть таблица, которая дает более или менее определенное понятие об этом усугубляющем тяжелое положение земледельца на Украине факте:
На 100 десятин Урожай пшеницы 1 сельский житель посевн. площади с 1 дсс. в среднем производит в сельск. жителей за годы 1908–1912 пулах в пулах Франция 84 88,0 104,8 Германия 107 138,6 124,5 Англия 79 148,2 184,6 На Украине: Киевская губ. 150 67 44,4 Подольская 147 64 43,5 Волынская 137 64 48,9 Харьковская 124 54 45,9 Черниговская 142 57 40,1 Полтавская 112 64 54,1 Екатеринославская 19 50 53,4 Херсонская 44 47 74,1Все селянское землевладение на Украине в 1915 году выражалось в цифрах 29,4 миллионов десятин. При этом необходимо заметить, что селянское землевладение по губерниям сильно разнится. Так, на одно селянСкое хозяйство приходится в губернии Таврической — 15,8, в Волынской — 9,86, в Екатеринославской — 9,37, в Харьковской — 9,23, в Херсонской — 9,8, в ЧерииговскОй — 8,1, в Полтавской — 8,22, в Киевской — 4,5, в Подольской — 3,51. В среднем 7,46 десятин. Здесь интересно обратить внимание на то, что именно в тех губерниях, где помещичьий класс польский, селяне особенно страдают от безземелья.
Если взять сельскохозяйственное население по количеству земли, находящейся во владении каждого отдельного хозяйства, то получится следующая картина:
Без земли 700 000 хозяйств 20 % общего числа меньше, чем 3 десятины 840 000 20% от 3–5 десятин 100 000, 22% от 5–8 950 000 21% от 8 — 10 " 600 000 13% от 10–12 " 300 000 8% больше 20 десятин 80 000 1%Теперь возьмем сторону помещичью в 1914 году. Дворянское землевладение выражалось приблизительно в сумме 8–8,5 миллионов десятин. Купцы и мещане около 3 млн. десятин. Духовенство 155 000 десятин. К этому нужно прибавить еще 2,5 млн. десятин удельных, церковных и монастырских земель.
Всего земли, находящейся не во владении селянства, было около 14,5 миллионов десятин. Формы ведения хозяйств преимущественно капиталистические. Убыль этого хозяйства с 61 года выражается приблизительно в 25 % бывшей земельной площади, но при этом по губерниям эти потери чрезвычайно различны. Так, например, в период времени с 1900 по 1910 н.: в то время в Екатеринославской губернии потеря земли выражалась в 3,51 %, между тем как на Правобережной Украине эта потеря выражалась в 1,55 %.
Если выделить леса, которые бессомнителыю были бы немедленно истреблены при передаче их селянству, если сохранить сахарную промышленность, конские заводы и семенные хозяйства, то передаче могло бы подлежать всего лишь 4 или 4,5 миллионов десятин. И это все, что можно было сделать теперь, пока селянская обработка земли не подымется на ту ступень развития, когда она способна будет поставлять в достаточном количестве свеклу сахарному производству.
Я здесь остановился на этом ряде цифр для того, чтобы указать, насколько, с одной стороны, несбыточны все те демагогические обещания, даваемые и Радой и Директорией, обещавшими наделение землей всех неимущих. С другой стороны, для того, чтобы указать катастрофичность действительного положения, когда ясно, что положение нашего селянина при всей его отсталости и при обычной чересполоснице значительно хуже в смысле количества владеемой им земли, чем на Западе, где все побочные условия значительно лучше.
II здесь я считал, что не демагогическими приемами левых партий и не стоя на точке зрения наших русских и польских панов, точке зрения, отрицающей всякую необходимость в какой бы то пи было уступке в аграрном вопросе, нужно идти, если хочешь действительно принести пользу народу, а только путем известного компромисса, в основание которого должны лечь следующие положения:
Передача всей земли, кроме сахарных плантаций, лесов, земли, необходимой для конских заводов и семенных хозяйств.
Передача за плату. Бесплатная передача не имеет в данном случае никаких серьезных оснований и просто в высшей степени вредна.
Уплата селянских денег за покупаемую ими землю, наконец, заставит их пустить эти деньги в оборот, что значительно облегчит правительство, давая ему возможность значительно сократить печатание новых знаков.
Передача земли не безземельным, а малоземельным селянам. В этом отношении нужно иметь в виду цель — государство, а не жалкую сентиментальность. Только земля, переданная безземельному селянству, может помочь сразу делу, легко поставить его на твердые ноги{286}.
Попутно с аграрными вопросами передачи земли необходимо, по-моему, было произвести ряд реформ в промышленности, в школьной системе и обязательно продолжать дело Столыпина, в смысле выделения селян на отруба и уничтожение, чересполосицы.
В этом духе шли все наши работы. Мной была составлена большая комиссия, которая должна была быть под моим председательством. К сожалению, события, переживаемые мной в то время, лишили меня возможности быть на ней. Лишь когда я узнал, что там идет некоторыми приглашенными членами форменный саботаж, я пригласил комиссию к себе. Членами этой комиссии мы пригласили людей различных партий и оттенков. Землевладельцы были ею очень недовольны и в последнее время, находя, что все же их мало, обратились с просьбой о добавлении их членов, ввиду желательности иметь представителей от каждой губернии. Я им решительно в этом отказал.
С другой стороны, украинцы во главе с Шеметом выкинули совершенно непонятную штуку, не говорящую в пользу их серьезного понимания вопроса. Когда мной была издана Грамота о необходимости федерации с Россией{287}, они вышли из состава комиссии, указав что доколе Украина не будет самостоятельной, аграрный вопрос не может быть благополучно разрешен, а поэтому они не желают быть в комиссии. Лично, видя, что все же, несмотря на тщательный подбор членов, в комиссии дела идут вяло, я вызвал министра земледелия и приказал дополнить еще 8 членами из демократического списка.
Помещики, особенно поляки, просто саботировали всем, чем могли. Председатель Рады Земян, господин Горват, очень почтенный человек, в течение более часа говорил речи, все перемалывая один и тот же аргумент. Когда после заседания я попросил объяснить мне его точку зрения, он просто сказал: я против подобной аграрной реформы. Если мы затянем прения, вопрос в комиссии не успеет быть разрешен до прихода Entente-ы, а я глубоко убежден, что Державы Согласия против всякой реформы, все останется по-старому, что и требовалось доказать.
Это происходило на заседании в то время, когда Эно{288} обещал бесчисленными полчищами Entente-ы наводнить Украину. На чем Горват основывал свое подобное мнение об Entente-е, я не понимаю, но должен сказать, что как у великорусских кругов было убеждение, что Entente-а, особенно Франция, должны немедленно лично уничтожить большевиков и восстановить демократическую, именно демократическую, а не какую другую, монархию, гак у всех помещиков было убеждение, что в земельном вопросе с приходом Держав Согласия все должно остаться по-старому.
Я им говорил много раз, что они ошибаются, по они не верили. Точно так же они почему-то считали, что Entente-а не допустит никакого украинского вопроса: «Прийдет Entente-а и все сметет», — был их обычный аргумент.
На этом заседании, видя, что таким путем дело может еще действительно надолго затянуться, я приказал министру земледелия объявить, что прения закопчены, и перейти к голосованию. Но судьба не привела меня к разрешению столь острого и важного вопроса в народной жизни.
Через несколько дней после начала заключительных заседаний — я был свержен. Горват и его единомышленники должны были ликовать. Впрочем, теперь, при создавшихся обстоятельствах, — не знаю. Я с тех пор никого из них не видел. Но в общем они, со своей точки зрения, были правы.
Никогда еще аграрный вопрос не был так близок к своему разумному разрешению, как в ноябре 1918 года на Украине.
Сменившая меня Директория, гоняющаяся за дешевыми лаврами, подделываясь под желание толпы, обещала всю землю неимущим. Из этого ничего, кроме анархии и окончательного разорения страны, — не выйдет. Что будет впереди, мы не знаем. Если прийдет реакция, что возможно, Горват прав.
Что касается вопроса промышленности, то моей заветной мечтой было всячески способствовать ее развитию. Только развитие на Украине промышленности в связи с той аграрной реформой, о которой я говорил выше, способны были водворить порядок в народных массах, требующих права на лучшую жизнь. Я считал, что всякое содействие привлечению отечественных капиталов для развития этой отрасли государства необходимо.
Это был заколдованный круг. С одной стороны, только промышленность могла бы реально помочь нашему беднейшему населению улучшить свой быт, и до этого трудно ждать прочного порядка, с другой — промышленность может начать только лишь тогда серьезно развиваться, когда в стране существуют хотя бы примитивные формы личной и имущественной безопасности, симптомы которой начали только проявляться.
На Украине есть еще одно существенное затруднение, состоящее в том, что украинец по своей природе, по традициям, совершенно не склонен идти на фабрику, на завод. Во всех существующих серьезных промышленностях рабочий народ преимущественно пришлый. И пройдет еще много лет, прежде нежели на Украине выработается рабочий класс из своего народа. Помню, что я глазам своим не верил, когда министр труда представил мне сведения о числе рабочих, кроме временно пришлого элемента, по различным категориям. Я теперь боюсь точно назвать цифру, но могу с уверенностью сказать, что она была менее полмиллиона на всю Украину. На всех шахтах и железнодорожных заводах преимущественно великороссы, являющиеся с севера. Мы поощряли капиталистов и промышленность севера перенести свою деятельность на юг. Они серьезно увлекались этим делом. Украина казалась им обетованной землей, на которой промышленность могла бы свободно развиться. С нашей стороны, мы всячески шли навстречу этим стремлениям. При старом режиме не только не были приняты меры, содействующие развитию промышленности на Украине, но, наоборот, все делалось, главным образом, с расчетом поддерживать исключительно промышленные районы Москвы в ущерб Украине.
И на самом деле, в отношении промышленного развития Украина, кроме угольного района, влачит самое жалкое существование, если не считать сахарного и винокурного производства, в которых она получила мировую известность, которые являются источником ее богатства и будущего благоденствия и которые так бессмысленно и бесполезно изводятся до пуля всякими демагогами, мыслящими себя способными осчастливить народ.
Что касается угольного района, то по договору между Доном и Украиной большинство антрацита лежит в Донской области, а большая же часть углей в Украине.
Производительность угольной и железнодорожной, этой богатой промышленности, из-за целого ряда причин во время революции особенно падала с неимоверной быстротой. В мое время на ухудшение положения в угольном районе особенно действовало расстройство транспорта, о котором я говорил выше. Нужно сказать, что за время войны, когда многие фабрики и заводы эвакуировались из Польши и Литвы и возобновили свою деятельность в Мариуполе, Николаеве, Харькове, Екатеринославе, Полтаве и других местах Украины, промышленность получила некоторый толчок для своего созидания. Но это капля в море из того, что нужно было бы действительно сделать в этой области. В Подолии имеет некоторое значение кожевенное и суконное производство. Последнее производство процветало раньше на севере Черниговской губернии в Клнпцах, но за время гетманства эти заводы, находящиеся в непосредственной близости от демаркационной линии с большевиками, почти бездействовали. В Подолии существует фабрика суперфосфата, там же есть значительное число мукомолен. Харьковская губерния имеет нефть и несколько машинных заводов. В Одессе имеется одна действительно превосходная мукомольня. Вообще, относительно мукомольного дела нужно сказать, что оно во всей Украине стоит на довольно высокой точке развития и совершенства.
Чем особенно страдает Украина, это ничтожным развитием химической, электрической, бумажной и текстильной промышленности. Все это лишь в зачаточном состоянии. Отсталость химической промышленности, особенно скудность в серной кислоте, задерживало до сих пор на Украине употребление фосфоритов, которые имеются в значительном количестве в Волынской губернии. Украина очень богата всевозможными сортами каолина, особенно в Екатеринославской и Черниговской губернии, последние копи принадлежат, главным образом, мне и находятся в Глуховском уезде, но, кажется, на Украине работает лишь одни фарфоровый завод Кузнецова. В Харькове и Киеве вырабатываются на одной фабрике флороформ, там же находится фабрика для выработки саланцилокислого натрия, кофеина, аспирина и перекиси водорода. В Екатеринославской губернии есть завод для выработки сулемы, там же вырабатывается из водорослей Черного моря йод. В Полтавской губернии добывается где-то кустарным способом мятное масло. На Украине около 50000 десятйн земли занято под табачную культуру, но это производство из года В Год падает, вырабатываются лишь преимущественно низшие сорта табака, да и табачных и папиросных фабрик на Украине далеко недостаточно. Текстильной промышленности на Украине нет, и народ от этого Очень страдает. С Гутником я часто об этом говорил, кое-что налаживалось; верно, что создание таких предприятий не делается со дня на'день. Я уже не говорю, что более' Тонкие промышленности, вроде Оптической, на Украине никогда не существовали. В этом отношении страйФИрийдется еще долгие, долгие годы пользоваться иностранным ввозом; в первую очередь, необходимого. Мы считали, что один из главных вопросов — использойать наши реки, особенно Днепр и Днестр. Одни эти две реки заключают себе колоссальный источник энергий. Совет Министров еще в июне месяце для продолжения приискании в этой области на Днепре ассигновал 8 миллионов карбованцев. Я думаю, что разрешение этих вопросов дало бы могущественный толчек развитию нашей промышленности, и я вполне был согласен с теми, кто говорил о необходимости монополизации всех подобных источников энергии. Немцы явились на Украину, видимо, с колоссальными планами. Но потом в середине лета все это замерло. Товарообмен, начавшийся чрезвычайно неудачно по вине «Аусфур Гезельшафг», был раскритикован впоследствии самими же немцами. Но этот первый шаг многих удивил и несколько уменьшил то преувеличенное мнение о немецком коммерческом таланте, которое было распространено у нас. Было несомненно, что товарообмен при всех условиях войны будет с немцами очень оживлен, так как соседские условия давали Германии такие преимущества, которые никакими другими условиями не могут быть изменены. Я думаю, что даже и теперь, с созданием всех этих новых государств, условия мало в этом отношении изменятся. Entente-е же, мы считали, Украина представляется как широкое поле деятельности для ее капиталистических начинаний. Планов всевозможных проектов было очень много, но в этом отношении, я должен сказать, министр Гутник был очень пассивен. Несмотря ни на какие условия, можно было многое провести в жизнь. Затем, когда, его сменил Меринг, он, видимо, был полон желаний скорее начать дело, но ему требовалось время для того, чтобы разобраться в своем министерстве, а потом грянула катастрофа, и все рухнуло.
Одной из коренных ошибок немцев, я не могу сказать, кто здесь является главным виновником, генерал Тренер, посол ли Мумм или кто-либо другой, несмотря на то, что все деятели правительства их предупреждали, а многие частные лица умоляли этого не делать, — было самое настоятельное и категоричное требование немцев о введении у нас хлебной монополии, для исполнения им по договору своих обязательств о вывозе 60 миллионов пудов хлеба. Я лично неоднократно им доказывал те печальные результаты, которые получатся от этой меры. Немцы настаивали на своем в течение всего лета. Монополия была введена. Немцы ни одного пуда от этого больше не получили, но страшно возбудили против себя селянство и весь помещичий класс. Австрийцы же под шумок покупали хлеб из-под полы, что внесло еще большую неразбериху во все это дело. Министр Гербель, который сменил безвольного Соколовского, был особенно против монополии. Он неоднократно доказывал это немцам и перетянул на свою сторону весь Совет Министров, за исключением Гутника, который остался при своем мнении в необходимости этой монополии. Чем он при этом руководствовался, я не понимаю. Немецкая хлебная политика, также как и торговля на Украине, даже с их точки зрения была неудачна, по. то упрямство, которое они проявляли в деле хлебной монополии, окончательно подорвало их престиж в глазах многих. Я на них за эту монополию был страшно зол, так как это дело было блестяще использовано врагами нашего режима.
Ничто так не раздражало селянство, как неразрешенне свободной продажи хлеба. Гербель был мнения, что хлеб при свободной продаже свободно притекал бы и в общем не вздорожал бы. За от мену монополии с ослаблением немецкого влияния ухватились, но было поздно; восстание уже началось, а немцам было безразлично, так как все равно они хлеба не могли уже требовать. По моем возвращении из Германии все эти вопросы, и земельный, и промышленный, и эта проклятая монополия, занимали все мое время. С начала сентября я начал думать, что действительно дело пойдет на лад. Помню, что 24 октября я праздновал 6 месяцев Гетманства, помню, в каком радужном настроении я был, и казалось, дела складывались хорошо. У меня был ужин, на который были приглашены все участники апрельского переворота. После ужина мы фотографировались. Я потом разглядывал фотографии. Кто только не участвовал в перевороте, люди самых различных политических партий, самых разнообразных профессий и социального положения.
Во внешнем политическом отношении дела Украины были блестящими. Мы готовили миссии для посылки их в нейтральные страны, и если можно, то и к Entente-е для того, чтобы указать этим державам на нашу деятельность и работу. Я действительно в то время верил, что освобождение России произойдет при помощи Entente-ы и из Украины. Мы представляли из себя, несмотря ни на какие существующие у нас дрязги и раздоры, изо дня в день теряющие свою остроту — вполне обоснованное государство с налаживающимся правительственным аппаратом. Наши друзья и наши враги смотрели на нас как на серьезный фактор в мировых событиях. Да это и не было преувеличением. Несомненно, что в новейшей истории человечества, после поражения Германии и начала ее революции, событием является крушение Гетманства, которое, с одной стороны, убило на многие годы, если не навсегда, Украину, но, с другой стороны, уничтожило у самых больших оптимистов надежду на спасение России от большевистского ига на долгое время. Я очень хотел бы видеть теперь тех русских патриотов, которые с таким остервенением терзали мое имя на всех перекрестках за ту идею Украины, которую я проповедывал, теперь вымаливающих крохи всяких подачек от иностранцев, когда раньше Украина широко раскрывала дверь всем несчастным, давала денежные субсидии всем, кто хотел помочь в борьбе с большевизмом, когда Южная, Астраханская и Северная армии и Дон требовали миллионы и миллионы и Украина никому в них не отказывала, когда Украина была накануне выступления и уже формировала свои армии из великорусских элементов для той же борьбы. Все эти жалкие люди, погубишие большое дело, забыли, что они русские, они трепетали перед Entente-ой, большинство же из них за несколько месяцев до этого раболепствовали перед немцами. Я хотел, чтобы мы спаслись, пользуясь иностранцами постольку, поскольку это было бы нам выгодно. Но я никогда не отождествлял наши интересы с интересами немцев, а они, эти люди, всецело воспрняли точку зрения Entente-ы. Я понимаю, что представители гордых наций-победителей теперь их презирают. Я их тоже презираю.
И почему это у русских сложилось мнение, что кто-то должен их спасать. На чем это все основано? Но нужно было видеть, как они были в этом убеждены, сколько копий они из-за этого ломали. Я их теперь не видел, интересно было бы знать их мнение. Наверно, нашли других спасителей.
Что касается украинцев, поднявших народ всякими демагогическими приемами. я их психологию понимаю. Вождям украинского движения я не мог дать места, они слишком левые. Их неудовлетворенное самолюбие, с одной стороны, и чрезвычайно удобная почва для всяких восстаний — с другой. Озлобление на немцев, водворявших порядок, хлебная монополия, невозможность быстрого разрешения земельного вопроса, северный большевизм, манивший деморализированные толпы своей проповедью, грабежи и насилия, бегство австрийцев, возвращение из плена сотен тысяч всякого озлобленного, бесшабашного люда из Австрии, вздорожание цен на предметы первой необходимости. Я понимаю, что наши украинские демагоги воспользовались этим моментом, но они же, свергая Гетманство, уничтожили и Украину как уже определившуюся единицу. Теперь украинцам прийдется начинать сначала. Я глубоко убежден, что северный большевизм к нам бы не проник, если бы весь государственный аппарат был бы цел и украинские партии не приняли бы участия в восстании. Обоюдными усилиями всех тех формирований, которые у нас были, можно было не дать Украину на большевистскую погибель. Но ни руководящие русские круги этого не поняли, а украинцы не могли, хотя бы временно, отказаться от своих мелких честолюбивых расчетов ради большого дела.
В сентябре и октябре месяце я был превосходно осведомлен, что делалось, в левых украинских партиях. Должен сказать, что народ. в своей большей части оставался совершенно спокоен, и, несмотря на полное отсутствие стремления укрепить гетманскую власть в Совете Министров, власть эта укрепилась в сознании народа. У меня был небольшой, но прекрасно функционирующий аппарат, который мне давал вполне точные сведения о том, что делалось в самых низах народа, и там в общем было, совершенно ясно, обыкновенное недовольствие некоторыми местными органами управления, но в общем, повторяю, ни озлобления, ни недовольства не было, лично я становился там популярным. Это достигалось именно тем порядком, который начал проникать и в деревню. Все те бесчинства, как со стороны деморализированной массы на селе, так и со стороны карательных отрядов, действующих вначале за свой страх, постепенно прекращались.
В середине сентября состоялось с большим торжеством открытие украинского университета. В то время была раскрыта масса заговоров, по одному из них должны были убить меня. В день открытия университета с утра я получил из двух источников определенное предупреждение, что покушение на меня состоится обязательно сегодня. Подобные предупреждения я получал постоянно, и я потом уж просил их мне не сообщать, а передавать все эти сведения начальнику штаба, находя, что при условиях ежедневного покушения трудно работать, а дело начальника штаба меня охранять. Но в день открытия университета дело было как будто бы серьезное. Мне говорили, что положительно ехать нельзя. Я тем не менее поехал и не пожалел. Вся церемония была очень хорошо задумана и проведена. Тот самый господин Швец (между прочим, сидящий теперь в Директории) говорил мне при входе приветственную речь. Вначале было молебствие. Я передал универсал об открытии первого украинского университета ректору. Начались речи. После слова ректора, по выработанному церемониалу, я уехал. Тут было два штриха, которых я не могу не упомянуть. В моих словах была нотка примирения Украины с Россией. Обдумывая мою речь дома, я именно хотел оттенить, что в науке, особенно, пег места узкому шовинизму, с другой стороны, я указал, что старая высшая власть на Украине всегда заботилась о просвещении народа и в числе гетманов указал, между прочим, Мазепу. Все у нас знают его любовь к просвещению, искусству и религии. Я это сказал без всякой политической тенденции, но нужно было бы потом слышать, как зашипели со всех сторон в некоторых кругах, для того, чтобы понять, какой дух непримиримости живет в отношении ко всякому неказенному проявлению мысли. Я терпеть не могу украинского шовинизма, по должен сказать, что этот шовинизм искусственно поддерживается многими дикими выходками с противной стороны.
После моего ухода из университета, я пошел осмотреть батареи Сердюцкой дивизии, и тут мое сердце радовалось тому порядку, который уже совершенно налаживался в этих частях.
В то же время в университете продолжались речи, между прочим, таковую сказал Винниченко, которая была особенно приветствуема студенчеством. Это было лишь оттепью, потому что все приветствия встречались очень шумными овациями. Тем не менее, сидевший в числе гостей генеральный консул Тилле, исполнявший в то время обязанности посланника за отъездом Мумма и болезнью графа Берхгейма, это заметил, и, видимо, его это поразило настолько, что он счел долгом при встрече со мной, в скором времени, об этом сказать. Вообще, видно было по этому разговору, что Винниченко вырос в глазах немцев. Последние в течение всего Гетманства имели сношения со всеми партиями, но они не считали эти партии достаточно подготовленными для государственной деятельности. Осенью же эти сношения особенно усилились, и
Винниченко положительно завоевал их сердца. Они были особенно приятно поражены тем, что Винниченко выставлял себя чрезвычайно умеренным социалистом и жаловался лишь постоянно на то, что гетманский режим является угнетателем национального украинского элемента.
На самом деле это было совершенно не так, яко же Винниченко человек очень левых и совершенно не государственных убеждений. Но это еще ничего, а главное то, что это демагог, находящийся во власти элементов уже прямо-таки антигосударственных. Ясно было, что этот человек никогда не в состоянии будет удержаться хотя бы и на левой ступени, а несомненно покатится все ниже и ниже, пока не докатится до полного большевизма, что, впрочем, уже и факты это показали. Нo немцы ему верили, и он у них приобретал все большее и большее влияние, главным образом, у дипломатов, военные в этом отношении были туги на подъем и оставались больше при прежних убеждениях.
11 вот уже в начале октября на меня началось давление о большем национализировании кабинета. Лично я очень хотел частичных изменений в кабинете, и изменений в более национальном духе, для того, чтобы удовлетворить те стремления украинства в большей степени, нежели я это мог сделать при существующем кабинете, и тем самым успокоить и сблизиться с ними и смягчить то настроение, которое начинало все более ярко выражаться, главным образом, из-за политики Кнстяксвского среди украинства, но, как я говорил, лишь частичного изменения и не среди главных деятелей. Я так смотрел на решение этого вопроса потому, что положительно не видел действительно государственных людей среди украинцев, а только партийных деятелей, которые уже, я знал по опыту, в большинстве случаев не годятся для высших государственных должностей. Лизогуб был того же мнения. У нас уже намечалось несколько освобождающихся по различным причинам портфелей. Нужно было это сразу сделать, и все были бы удовлетворены, но быстрые решения не в духе Лизогуба, он ежедневно оттягивал, а я настаивал. Он никак, например, не мог покончить с министром труда Вагнером, который при всех своих достоинствах положительно не в состоянии был при существующих комбинациях что-либо провести в своем министерстве и т. д.
Время шло. В то же самое время произошел целый ряд событий, которые значительно усилили значение наших социалистических партий. Во-первых, внутри страны направление политики было нереакционно, как принято называть теперь все то, что сделало правительство, хотя на самом деле оно проводило в жизнь разумные либеральные начала. Но на местах оно слишком мало считалось с тем, что революция еще не кончилась, что люди еще возбуждены и что все те элементы, которые за время революции выплыли на поверхность, не принимались в расчет министром внутренних дел Кистяковским. Это бросало людей в явную оппозицию.
Затем во внешней политике обстановка резко переменилась. Австрия в октябре уже распалась. Австрийские войска бежали по всем дорогам на запад в полнейшем беспорядке, продавая и бросая свое имущество. Добрая половина Украины была освобождена от всякого чужеземного влияния, с одной стороны, с другой — уход австрийских войск давал возможность всем нашим элементам сильно поднять головы. Кистяковский все же недурно сорганизовал «Державну варту», потому что, несмотря на уход австрийцев, страна оставалась в порядке и всякие поползновения идти ему наперекор сразу прекращались силами варты.
В Германии военная партия больше не играла никакой роли, а все дело перешло в руки социалистического министерства Шейдемана. Таким образом, хотя курс, который у нас был взят раньше, и те люди, которые до тех пор находились в правительстве, больше не подходили к моменту. Дипломаты немецкие это понимали, там они же и получали соответственные инструкции из Берлина влиять на меня в том же духе. У нас мало кто это понимал, помню, сколько ко мне приходило депутаций, особенно от Протофиса и от Союза землевладельцев, просить стоять на том же, как до сих пор. и не менять кабинета. Я и сам того не хотел в такой мере, как это пришлось сделать, но затяжки Лизогуба в принятии решительных действий создали то, что между министрами пошли трения. В результате я попросил Лизогуба и тех министров, которых я положительно не мог заменить, прийти ко мне, и на этом заседании было решено, что они останутся и в новом кабинете, а этот кабинет — распустить, что я в тот же вечер и сделал.
Переговоры о новом министерстве, сформирование которого я поручил тому же Лизргубу, тянулись,0 дней, в это время я правил страной единолично. Осложнения с составлением министерства были чрезвычайны. Я хотел, чтобы украинские элементы были представлены в достаточном числе, но одновременно чтобы не было значительного уклона влево, который мог бы повести к крушению всей нашей работы. Украинский национальный союз{289}, в котором объединились все украинские партии с Винниченко во главе, с одной стороны, с другой Протофис и Союз землевладельцев и прочие, мучили меня с утра до вечера. Немцы стояли за более яркую украинизацию и в этом отношении производили на меня давление, давая намеки, что при более русском и правом кабинете центральное немецкое правительство может вывести свои войска, что поставит меня в очень трудное положение. Был момент, когда Лизогуб отказался совершенно от формирования кабинета. Наконец, на десятый день кабинет был сформирован в следующем составе:
министр внутренних дел Рейнбот министр юстиции Вязлов{290} министр земледелия Леонтович{291} министр промышленности Меринг{292} министр финансов Ржепецкий военный министр Рогоза морской министр Максимов министр труда Сливинский{293} министр народного просвещения Стебницкий{294} министр вероисповедания Лотоцкий{295} министр путей сообщения Бутенко контролер Петров министр продовольствия Гербель министр иностранных дел Дорошенко министр здравия Любинский. Председателем в конце концов остался Лизогуб.Новый кабинет был буржуазный, по с сильной украинской окраской. Украинцы страшно хотели, чтобы министром внутренних дел был кто-нибудь из них, но сами же они не могли мне указать подходящего кандидата, так на Рейнботе временно и остановились. Министры нового кабинета имели желание совместно дружно работать. Мне думалось, что дело может пойти, и в первое время действительно псе шло хорошо. Но события шли споим чередом, все более и более давая пищу левым партиям предъявлять большие требования. Они не дремали. В это время на севере усиленно шевелились большевики и собрали значительные силы на наших северных границах. Немцев было недостаточно, я послал туда один полк из бригады генерала Бочковского, бывшей Нагиева, и, по свидетельству самих же немцев, этот полк дрался очень недурно под командой Болбочана, того самого, который впоследствии поднял восстание в Харькове{296}, где украинские партии уже давно готовили восстание. Мы об этом были осведомлены. Они не столько имели что-либо против меня, сколько считали, что кабинет был слишком не украинский. Это сплошной вздор и доказывает их политическую неподготовленность, потому что в смысле действительного государственного строительства прежний кабинет был на высоте. Верно, что все условия внутренней политики были против нас и несколько министров, задавшиеся целью действительно восстановить порядок, не могли бы этого сделать без принятия сильных мер. Но честолюбивые вожди партий хотели сами играть роль, а Кистяковский с ними не считался. Неудовлетворенность их честолюбия и заставила пользоваться всеми условиями для того, чтобы восстановить народ против Гетманства, не считаясь с тем, что они сами разрушат все то, что было уже сделано для Украины. Дело дошло до того, что Винниченко входил в переговоры с большевиками.
Кистяковский заарестовал многих украинцев, но он арестовал также и русских, принадлежащих к большевикам и левым социал-революционерам, занимающихся у нас пропагандой. Украинцы подняли страшный крик, доказывая всем, что это гонение на украинцев. Министры украинцы в совете взяли сторону, конечно, арестованных, начались трения. Рейнбот мягкий человек, по здесь он не поддавался. Вязлов же, украинец, стоял на точке зрения, что без суда никого нельзя держать под арестом. Он был прав, но что делать министру внутренних дел, который имел массу лишь косвенных данных о противозаконной деятельности того или другого лица, но не имел еще возможности доказать на суде его виновность. Левые украинские партии всюду по Украине образовывали ячейки для будущею восстания, народу говорилось все, что на ум взбредет: что я привел немцев, что я не хочу дать земли народу, что я устроил монополию хлеба и т. д. и т. п. Многие из небольших служащих в правительстве возмутительно своими самочинными действиями играли на руку господам, готовившим восстание. Немцы проявляли мало интереса ко всему тому, что у нас творилось, они сами были под гипнозом украинских левых партий. К тому же, симпатии их далеко не были в сторону некоторых членов правительства, которые, сообразив, что дело немцев проиграно, сразу стали относиться к ним с пренебрежением и все свои симпатии перенесли на Entente-у. Эта черта многих, живших в Киеве и имевших дела с немцами, сослужила плохую службу нашему делу. Я постоянно говорил: «Господа, нужно помнить, что единственной серьезной силой являются пока немцы. Когда прийдет Entente-а, вы можете всем высказать вашу радость по поводу того, что Entente-а является победительницей в мировой войне, по сдерживайте ваши порывы, время еще не наступило». Это мало имело значения. А немцы, оскорбленные таким отношением, предоставляли событиям развиваться. Новые министры в специальных своих вопросах вели политику старого кабинета, в общем ничего не изменилось. Как я уже говорил, один лишь Вязлов проявлял особую энергию в смысле желания освободить всех заарестованных украинцев или предать их суду. С другой стороны, русское общество, все те союзы, которые под прикрытием Украины образовались у нас, особенно в этот период, проявляли свою деятельность. Лейтмотив был «Entente-а победила», она немедленно прийдет и восстановит Россию, единую, нераздельную, великую, направление будет буржуазное, восстановление монархии. Когда им задавался вопрос, почему это будет, они отвечали: Entente-а хочет возвращения миллиардов, выданных взаимообразно России. Никакие доводы противника их мнения не принимались ими в расчет. Милая Украина, которую они еще так недавно любили и куда стремились, как в обетованную землю, стала им ненавистна: «Она будет сметена без остатка». Это мне лично сказал один очень безобидный человек, приходившийся мне даже немного родственником, далеко не правый. Главное, что они ненавидели, — это язык, хотя язык частному человеку приходилось, если он его избегал, слышать лишь в официальных канцеляриях и читать на нем лишь Державный Вестник. Они совершенно упускали все те колоссальные положительные стороны Украины даже с чисто великорусской стороны, о которых я, кажется, уже мною раз писал в своих записках и каковые, повторяю, являлись единственными главными факторами для спасения России от большевизма. Только национальное чувство можно противопоставить большевизму, и я даже теперь, когда на Украине все идет как нельзя хуже, в силу аyтигосударственности правящего элемента, все же скажу: если на Украине будет большевизм, то, во-первых, он так долго не продолжится, как в Великороссии, во-вторых, он будет мягче, он уже будет в форме вырождения. Кроме того, я убежден, что само селянство будет его вытеснять. Но у нас в Киеве этого не понимали, сразу началось пренебрежительное к нам отношение.
Мне прийдется тут коснуться очень болезненной для меня стороны вопроса. Это вопрос сформирования офицерских отрядов. Как я говорил, по моему возвращению из Берлина началось формирование Особого корпуса, целью которого было дальнейшее разворачивание с тем, чтобы, когда наступит подходящий момент, наступать на Совдепию. План был вступить в соглашение с Красновым, с одной стороны, и так как немцы выражали намерение с запада тоже перейти в наступление, общими усилиями всех трех армий сжать большевиков. С другой стороны, мы хотели, чтобы все наши центры были обезопасены от всяких случайностей, и для этого формировали в больших городах, особенно в Киеве, офицерские дружины, в Киеве начальником дружины был генерал Кирпичев. Условием поступления в эти отряды была анонимность. Единственное назначение этих отрядов — поддержание порядка и борьба со всякой формой большевизма. Кроме того, так как в формируемых корпусах украинской армии были одни лишь кадры, новобранцы должны были прибыть лишь в ноябре месяце, мной было приказано на совещании с корпусными командирами сформировать немедленно в каждом из 48 полков по одной сильной офицерской роте, обильно снабженной пулеметами, главное назначение этих рот было поддержание порядка в провинции. Офицерам, не сочувствующим Украине, разрешалось поступать в Особый корпус, чины которого сохранили русскую форму с погонами, так же было и в городских дружинах, остальные же офицеры могли поступать в украинские корпуса. Следовательно, казалось, никакого насилия над убеждениями не было, цель же для всех общая — поддержание порядка.
Тем не менее с первого же дня начались всевозможные осложнения. Во-первых, появились, не знаю, самозванные или же действительно назначенные, представители армии Деникина, которые проповедывали, что все эти части должны признать власть Деникина. Это вносило в офицерскую среду раскол. Затем появились длиннейшие статьи в газетах, особенно в знаменитом «Голосе России», не будь добром он помянут, внесшим столько разногласий в ряды защитников Киева. В этих статьях комментировался снова, не знаю, апокрифический приказ Деникина или настоящий о том, что Деникин назначает себя главнокомандующим всех сил, оперирующих против большевиков{297}. Потом шли толки о том, что Деникин заявил, что будто все те офицеры, которые не признают власти Деникина, будут преданы полковым офицерским судам и т. д. В результате, одни части объявили себя приверженцами Деникина, другие остались на моей точке зрения. Из-за всех бестактностей не берусь здесь определенно сказать, отчего в простое, ясное для всех дело внесен был разлагающий яд. Среди частей, признавших Деникина, пошла агитация против существующего правительства. Вообще, в такую трудную минуту все, что я старался всячески избежать, соображая положение таким образом, чтобы все имели возможности принять участие в этой столь благородной и важной работе, все, что я старался избежать, как назло, искусственно провоцировалось. Я звал к себе начальников, но они твердо стояли на своем.
Впрочем, нечего забегать вперед, цветки еще будут впереди. Одновременно с этим, далеко не все офицерство отозвалось на призыв идти на защиту городов или в Особый корпус. Большинство настоящих офицеров пало в боях с немцами или стало инвалидами. Теперешняя офицерская масса — это люди, призванные во время войны, самых различных профессий. Держава не могла, как я уже указывал, взять их всех на свое попечение, хотя было на них истрачено до 50 миллионов карбованцев. Но это капля в море с тем, что стоила бы действительная основательная помощь. Поэтому многие офицеры устроились, и так как особенно Киев был городом спекуляции самой злостной, несмотря на все меры, которые мы принимали, вплоть до значительного увеличения числа следователей, имевших специальное назначение ловить спекулянтов, ничего не помогало. Деньги в Киеве наживались и тратились бешеные, очень много офицеров, не пристроенных на службе, бросались во всякие прибыльные места, иногда совершенно не подходящие офицерскому званию, где наживали большие деньги. Эти офицеры уже не годились как элемент боевой и вместе с тем, сознавая в душе, что они уже не на офицерском правильном пути, изобретали всевозможные отговорки для того, чтобы, с одной стороны, не откликнуться на призыв, с другой, для того, чтобы убаюкивать свою совесть. Они много, много принесли вреда. Вначале я всех этих осложнений не знали, зная, что в Киеве до 15 тысяч офицеров, был вполне спокоен, что со всякими враждебными силами, даже в случае ухода немцев, я справлюсь. Кроме всех этих формирований, еще в июле месяце мы начали формирование отрядов из хлеборобов и лучших элементов по усмотрению губернских старост в Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской губерниях. В некоторых местах эти формирования очень удались. Конечно, все зависело от энергии и заботливости местного начальства. Сердюцкая дивизия, прекрасно сформированная, подавала большие надежды, и я, несмотря на сомнения со всех сторон, знал, что на нее я могу положиться. Командный и офицерский состав был прекрасен, жаль, что казаки были сплошь новобранцы.
Таково было положение до начала ноября в вопросе обороны. Среди нашего Генерального штаба я заметил то же раздвоение, вероятно, в силу тех же причин, что и среди офицерских формирований. Я поехал в главное управление, где они собрались, и переговорил с ними, думаю, что они меня поняли. Во всяком случае, про шатание в образе их мыслей я больше уже не слышал. Они в подавляющем большинстве честно исполняли свое дело, а как я уже говорил, в Киеве, благодаря очень сложным причинам, из которых главная, конечно, расстройство нормальной коммерческой жизни, страшно росла спекуляция, по одни вид этих спекуляций был особенно отвратителен — это спекуляция квартирами. Вначале так было и при Раде, комендант города ведал вопросом распределения квартир тем, кому они полагались. По этому поводу был выработан специальный закон, затем за мое время, когда положение значительно осложнялось развитием правительственного аппарата, служащим которого необходимо было жить в городе, приездом всевозможных немцев и наводнением бежавших из Совдепии, квартирный вопрос принял дикие формы. Спекуляция ими и злоупотребление на каждом шагу превзошли всякие вероятия. После всестороннего обсуждения был проведен целый ряд законов для урегулирования этого вопроса, по злоупотребления продолжались и вносили массу недовольства в среду мирных обывателей. Я не хочу, не имея ясных доказательств, обвинять определенные лица, но мне кажется, что тут были замешаны лица, на которых я имел право положиться и не сомневаться в их честности. Наша бесчестность — это несчастье для человека, стоящего у власти, и как трудно с ними бороться законными путями.
В деле внешней политики нам представлялось необходимым выслать новые делегации. Дело это делалось, но делалось совершенно не с тем масштабом и не с той быстротой, которые требовались данным моментом. Совет Министров обсуждал каждую ассигновку» бесконечно долго и безбожно ее урезывал. Я неоднократно принужден был, по просьбе Дорошенко или Палтова, лично вмешиваться в это дело и настаивать на увеличении ассигнования. Из намеченных лиц в посылке был Коростовец, бывший посол в Пекине при старом режиме. Мы его направляли в Америку, но предварительно он был послан в Яссы.
Бывшего начальника штаба Дашкевича-Горбацкого направили в Румынию, где он был очень любезно принят королем и королевой, но я думаю, что это назначение было ire вполне удачно по многим причинам. Затем в Париж должна была быть послана целая миссия. Кроме того, предполагалось, да многие потом и поехали из сочувствующих нашему делу и имеющих влияние у Entente-ы. Эти люди не были на службе у Украины и не являлись даже частными агентами за плату, так сказать, а делали ЭТО просто, понимая, что то, что мы делали, с точки зрения и России и Украины заслуживало всякой поддержки. Вместе с тем они вполне правильно предвидели, что всякие недоброжелательные нам элементы, главным образом, из-за недомыслия начнут губить паше дело.
В октябре месяце в Яссы были вызваны многие из русских общественных деятелей, и там состоялся целый ряд заседаний совместно с представителями Entente-ы{298}. В Общем, настроение этого съезда было очень не в нашу пользу. Каким образом русские представители не понимали, что они губили дело, которое могло спасти Россию, я совершенно не понимаю. Entente-a очень неохотно входила в сношения с нашими представителями. Коростовец, благодаря своим прежним связям в Румынии, все же виделся и говорил неоднократно с представителями Держав Согласия: Маркиз de Saint Olaire и вся французская миссия, видимо, была радикально настроена против нас, и потребовалось много времени, прежде нежели эти господа уразумели, что в интересах же Франции и Союзников иначе смотреть на нас.
Я был довольно хорошо осведомлен о всем том, что делалось в Яссах, по до сих пор не могу понять, почему Entente-a, повторяю, особенно французы, которые более всех были заинтересованы в поддержании порядка у нас на Украине, а этот порядок мог быть поддержан лишь Гетманством, не прислали немедленно своего представителя ко мне. Совершенно не было мне важно, признали ли меня Союзники официально или нет. Мне важно было, чтобы в Киеве было посланное определенное лицо Entente-ы, с которым я мог бы лично говорить.
Здесь, по-моему, много повлияло то освещение, которое было дано Союзникам теми русскими кругами, которым Entente-а верила, но которые фактически ничего не понимали.
Всякому французу или бельгийцу, которого я видел, а таковые у меня бывали (по все это были маленькие люди), я говорил перед их отъездом во Францию: «Вы видите, что творится, и Вы видите, что делает Ваше правительство». — «Да, Вы правы, правительство наше будет- потом жалеть, по будет поздно». Они, живя на Украине, прекрасно видели ошибку своих соотечественников.
Сведения о недовольствии среди крайних левых украинских партий все более и более ясно вырисовывали картину готовящегося восстания.
В это же самое время Раковский со своими делегатами, прибывшими в Киев для заключения мирных переговоров, вел самую энергичную большевистскую агитацию. В течение целого лета я говорил немцам неоднократно о том, что из этих мирных переговоров ничего путного выйти не может-, что вопрос вовсе для всей этой компании не в том, чтобы придти к какому-нибудь окончательному разрешению всех этих вопросов между Украиной и Советским правительством, а исключительно для того, чтобы, пользуясь в Киеве правом некоторой экстерриториальности, развивать всевозможным способом большевисткую пропаганду в стране. Немцы считали, что переговоры должны вестись, что перерыв переговоров поведет к прекращению перемирия, что этим будут втянуты их войска, стоящие на Украине, вновь в боевые действия.
Мы неоднократно ловили большевиков с поличным, указывали на это немцам, но последние, хотя и входили с большевистскими представителями в пререкания, все же продолжали настаивать на продолжении переговоров., В этих условиях мы дожили до начала ноября, когда у немцев уже появились ясные признаки некоторого разложения в армии. Пока это еще было только заметно по отдельным мелким фактам. Помню, что как-то в это время приехал принц Леопольд Баварский, генерал-фельдмаршал и главнокомандующий всеми войсками восточного фронта. Приехал он со своим сыном и был у меня, а на следующий день он делал смотр немецким войскам, находящимся в Киеве. Я как-то, будучи у себя, услыхал военную музыку и увидел проходящие мимо меня несколько немецких гусарских эскадронов. Я видел эти части весной, когда тоже за ними наблюдал из окна, но это было небо и земля. Теперь они уже проходили без того внутреннего порядка, который сразу бросается в глаза всякому профессионалу в военном деле. Лошади были плохо чищены, и выправка всей амуниции, и людской, и конской, была уже далеко не та. Значение «Оберкомандо» окончательно пало, все перешло в руки дипломатов.
Наконец, наступило девятое ноября, день, который я всегда считал последним днем моего Гетманства. Через четыре дня после этого обстоятельства так трагически сложились, что фактически власть была вырвана у меня из рук. Я надеялся хотя бы временно спасти положение, по вышло иначе.
В этот день я, во-первых, получил подробное извещение от барона Штейнгеля из Берлина, в котором он давал подробный отчет о том, что в Германии произошла революция и что императорская власть свержена. С другой стороны, некоторые украинцы принесли мне прокламацию Украинского Национального Союза, в которой они созывали на 17-ое ноября Украинский Национальный Конгресс{299}, причем из рассмотрения программы и предстоящих прений и из состава самого Конгресса я понял, что дело ясно и определенно идет о свержении Гетманства. Учитывая, что, с одной стороны, наша армия имеет лишь одни кадры, и потому мало на нее можно рассчитывать, что, с другой стороны, эти объединенные украинские партии представляют громадный аппарат для распропагандировать своих идей среди населения, третье, что от немцев, теперь во всяком случае, максимум что можно ожидать, это нейтралитета, во всяком случае, не активных действий против врагов Гетманства, я пришел к заключению, что мне оставалось принять одно из двух решений. Или стать самому во главе украинского движения, постаравшись захватить все в свои руки. Исполнение рисовалось таким образом, что я сам бы объявил о созыве Национального Конгресса, причем состав членов изменил бы, дополнив его членами не одних только левых партий. Тогда я, так сказать, мог бы изменить все те решения, на которые рассчитывали Винниченко и компания, и хотя, если можно так выразиться, общипаний, мог удержаться у власти. Помню, Палтов, с которым я говорил по этому поводу, был сторонником этого решения. Он находил это целесообразным и красивым, хотя рискованным. Я лично мало верил в успех при этом решении, так как еще утром я получил уведомление, что был раскрыт весь заговор восстания при аресте начальника части моей охраны, полковника Аркаса. Из его сообщения выяснялось, что конгресс конгрессом, а восстание все равно вспыхнет. Ясно, что тут никакие изменения в составе конгресса не изменили бы положения, а вместе с тем я боялся, что, став на путь уступок, мне прийдется сделать их целый ряд, причем я буду в руках людей, которые (для меня не было никакого сомнения) поведут Украину к гибели. Другое решение было — решительно закрыть Конгресс и опереться в Киеве на все те офицерские формирования, о которых я говорил выше, а если надо, то объявить всеобщую офицерскую мобилизацию. В одном Киеве у нас было до 15 тысяч офицеров. А затем по минованию надобности я твердо решил вновь выправит ь государстве ли корабль по тому пути, которого я придерживался всегда и от которого я никогда не отказывался. Я считал это проще, и это сулило лучшее разрешение конфликта. На следующий день я видел много украинцев. Лично я не был вообще против выявления украинцами своих пожеланий, по находил лишь момент совершенно несвоевременным. Я понимал, что весь этот Конгресс не явится собранием, которое сможет остановиться, вырешив определенные вопросы, а что начнется анархия. В этом духе я и говорил украинцам, и многие, не только отдельные личности, но и целые партии, вполне с этим соглашались. Немцы стояли за Конгресс. Они вообще смотрели на этот вопрос чрезвычайно мрачно, они усматривали в этом стремлении его созыва не попытку к свержению Гетманской власти определенными партиями, а считали это желание народным. Винниченко, нужно отдать ему честь, ловко сумел их обработать.
В этих переговорах прошло несколько дней. В это самое время ко мне пришло несколько лиц, к которым я питал безусловное доверие и называть которых теперь я считаю преждевременным, причем одно из них привезло ко мне тоже лицо, занимавшее вполне определенное положение. Это лицо мне заявило (причем, все это было подтверждено многими вескими аргументами), что Entente-a, и в особенности Франция, которая является главным деятельным государством из числа держав Согласия на Украине, не. желает решительно говорить с украинским правительством, пока оно стоит на точке зрения «самостийности», и что только федеративная Украина может иметь успех у них; что на днях приезжает уполномоченный представитель держав Согласия, который войдет в переговоры только при ясно выраженном новом курсе украинского правительства.
10 или 11 числа из Ясс прибыло целый ряд лиц, между ними и украинцы, а также мои личные агенты, и все подтвердили то же самое. Они же мне сообщили, что представитель Украинского Национального Союза совершенно не был принят представителями Entente-ы. Причем, в случае федеративного жеста с моей стороны немедленно же обещалось прибытие войск держав Согласия. Этому я не поверил, во всяком случае, рассмотревши карту, решил, что если войска и придут, то придут слишком поздно. Да они в то время мне и не особенно были нужны, если бы, я думал, приехал хот я этот самый Эно и категорически заявил бы немцам требование Entente-ы защищать мое правительство, дело было бы выиграно.
В Совете Министров украинские министры настаивали на созыве Национального Конгресса. В этом отношении они или кривили душой, или были очень наивны. Они все ссылались на то, что допущен же был еврейский конгресс, забывая или делая вид, что они не знают, что программа украинского конгресса совершенно не та, что еврейского. У последнего не стояла на повестке фраза «порядок правления Украиной» и все в том же духе. Наконец, у евреев не было подготовлено восстания, а здесь оно было.
13 числа ноября в Совете Министров обсуждался вопрос, допустить или не допустить Конгресс. Восемью голосами против семи допущение Конгресса в данное время было решено отрицательно. Я согласился с этим решением, но так как ясно было, что при недопущении Конгресса немедленно же левые украинские партии примут агрессивные меры, мне необходимо было создать более решительный кабинет и более подходящие для этого военные силы, на которые я решил опереться, на русский офицерский состав и на свою Сердюцкую дивизию, на которую я при всех условиях рассчитывал. Для офицерства русскою состава я должен был немедленно объявить федерацию, так как мне уши прожужжали, что если это будет сделано, то весь офицерский состав станет горой, ради России, за гетманскую Украину. 13 числа я распустил кабинет и туг же с Палтовым написал грамоту, в которой я, твердо стоя на почве политического, культурною и экономического развития Украины, объявил, что отныне мы должны работать для будущей федерации с Россией.
На следующий день отдельные люди, очень многочисленные и различных политических взглядов, приходили ко мне и поздравляли с таким решением, но вся пресса, конечно, не говоря об украинской, приняла это решение холодно. А вечером 14 числа я узнал, что Петлюра, освобожденный за несколько дней до того из-под ареста{300}, уехал в Белую Церковь к сечевикам, которые тою же дня начали наступление на Фастов, но были остановлены частями Киевскою корпусного командира. Я и до сих пор считаю, что единственной причиной такого подъема среди повстанцев в первое время была, как гром среди белого дня, появившаяся моя грамота о федерации. Если бы ее не было, я убежден, что сечевики из-за социальных вопросов не пошли бы против меня, да и многие украинские партии не сдвинулись бы с места. Социалисты-федералисты, партия демократических хлеборобов и Шеметовская даже при этих условиях не пошли, но они более понимали обстановку, большинство же украинцев считали, что я предал Украину. Я думаю, время покажет, кто предал Украину, я или Директория. Не говоря уже о том, что только враг мог желать вообще беспорядков такого рода для Украины, даже если бы многие народные домогания не находили себе отклика в сердце правительства, время для его начала уничтожало все плоды нашей работы, этотак же относится к Украине, как и к Великороссии.
Что касается последней, я в своих воспоминаниях не указал на то сближение, которое установилось за последнее время между Украиной и Доном и которое вызвало настоятельную потребность в свидании с Красновым, которое и состоялось в середине октября. Чтобы никто нам не мешал, мы решили съехаться в Скороходове, небольшой станции между Полтавой и Харьковом.
В течение нескольких дней до поездки я себя чувствовал больным, по все надеялся поправиться, а тут вышло так, что накануне выезда меня хватила сильная инфлуэнца. Было поздно откладывать свидание, так как мне дали знать, что Краснов уже выехал. Я дошел до вагона и сел и только к моменту свидания поднялся для встречи Краснова. Во время завтрака я провозгласил тост за здоровье Краснова, он же, увлекшись, ответил мне очень красивой речью, которая, к сожалению, совсем не совпадала с тем внутренним и внешним политическим официальным курсом, которого придерживалась Украина. Мы решили энергично друг другу помогать в борьбе с большевиками, Украина шла на широкую помощь и деньгами, и военным снаряжением. Я забыл с ним частным образом поговорить об его речи, что я приписываю исключительно своей болезни. Расставшись с ним, я вспомнил и приказал телеграфировать, но было поздно, он речь свою передал во все харьковские газеты.
Началась страшная кутерьма. Я в то время, совершенно на находя нужным менять свою политику, на обеде новому кабинету министров для прекращения всех этих кривотолков (слухов) произнес речь, в которой положения восстановляли наши прежние взгляды на все вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой. Так этот инцидент и закончился. Но результат поездки был громадный как для Дона, так и для Украины. Тогда не понимали, что Россия могла легко быть восстановленной именно только при условии, что гетманская Украина будет укрепляться и проводить в исполнение свой план спасения России, который ясно намечался. Украинцы, привыкшие работать в подпольи, совершенно не понимали нашей политики. Я же сознавал, что для того, чтобы Украина имела право на существование, чтобы она имела действительно мировое значение, недостаточно было стараться защищаться в своих границах, а всякое стремление более широкой политики считать чуть ли не изменой Украине. Украинцы были против помощи Дону, против идеи вытеснения большевиков из Великороссии, когда единственное, что могло действительно заинтересовать все страны Entente-ы к идее Украины, именно была бы борьба с Советской Россией далеко за пределами Украины. Только это и могло в глазах мира и в глазах великороссов примирить их с новой нарождающейся украинской государственностью. У украинцев удивительно узкие взгляды на вопросы, какова должна быть политика отдельного государства, они как-то не считаются ни с действительностью, ни с историей, они только знают твердить: «Хочемо самостійну Україну» — забывая, что для того, чтобы достигнуть, я уже не говорю полной самостийности, но простого права в глазах всех стран на государственное существование, это право должно быть завоевано и мечем, и политикой такой, которая заставила бы большинство стран, имеющих значение при решении этого вопроса, самим желать, чтобы это государство существовало. Украина, в смысле географическом, занимает несчастное положение, лишающее проявления ее самостоятельности; та самостоятельность должна быть завоевана с значительно большим трудом, нежели это было бы необходимо при более счастливых географических условиях. Украинцы этого совершенно не берут в расчет, и если и теперь новое правительство не поймет этого, оно доведет идею Украины до полнейшего краха. К этому пока дело идет с быстротой, превышающей все мои ожидания. Но великороссы должны понять, что старого не вернуть, и что как бы ни была ошибочна политика украинцев, Украина не погибнет, а снова и снова будет-добиваться того, чего ей не дают.
В данное время мы вернулись к временам старых гетманов. Снова Украине предстоит решить жгучий вопрос: «3 москалями, чы з ляхами?»
Другого решения вопроса нет. Flo, наученная горьким опытом Украина будет осторожнее писать договор, с одним и иди с другими. Это, вопрос, главным. образом, того правительства, которое будет у власти на Украине, и тех течений, среди, народа, которые, будут в то, вредя господствовать в его среде. Лично я-думаю, что народ на комбинации с поляками не пойдет ни при каких условиях, но Переяславский договор должен быть и обдуман и проведен в жизнь украинцами с большей осторожностью. Знаю, что если мои заметки, попадут, в, руки великороссов и «щырых» украинцев, я не оберусь всевозможных. обвинений.
Одни будут гововорить: изменник русскому делу, а еще русский генерал и т. д., другие будут упрекать меня в «зраде» украинства. Мне это безразлично. у, Россия может возродиться только. на федеративных началах, а Украина может существовать, только будучи равноправным членом федеративного государства. У русских кругов до сих пор живет сознание, что с Украиной это только оперетка, что теперь можно дать хоть и «самостийность», а потом все это пойдет на смарку. Это колоссальная ошибка русских кругов, унаследованная, старой системой политики. Эта система и повела к тому озлоблению и тому недоверию, которые многие питают к идее великой России. Все окраины думают: окрепнет Великороссия и снова примется за старый гнет всякое национальности, входящей в состав Российского государства. Я видел много украинцев, которые высказывали подобные опасения, да нечего далеко искать, тот же самый Винниченко, сидя у меня в кабинете, говорил при мне одному украинцу-федералисту, что он и сам ничего не имеет против федерации, но когда теперь говорить о федерации, то тогда русские ничего не дадут впоследствии, поэтому нужно стоять за «самостийнисть» до конца, которая и приведет к федерации. То, что тогда было сказано Винниченко, я вскоре проверил на практике. Как только я объявил федерацию с Россией, я сразу понял, что Винниченко был прав. Через несколько дней после появления грамоты великорусские круги уже никакой Украины совершенно не признавали.
Когда выяснилось, что сечевики начали наступление на Фастов и генерал Волховский их остановил, я решил, что восстание начинается и что объектом для повстанцев является Киев. Я был спокоен, у нас в Киеве было 15 тысяч офицеров, но в то же самое время появились прокламации за подписью Директории{301}, куда входили Винниченко, Петлюра и Швець, тот же самый, который за несколько дней до этого как-то завтракал у меня и еще ранее этого встречал меня с приветственной речью при открытии университета. В этой прокламации эти господа объявляли, что власть переходит к Директории, создается Украинская Народная Республика, что я узурпатор, русский генерал, захвативший власть для уничтожения украинства. Прохаживались на мой счет и на счет русских офицеров. Одним словом, все как полагается.
Это меня мало тронуло, по неприятно поразило, что тот самый Болбочан, который только что был произведен в полковники за действительно хорошие действия против большевиков, теперь со своим полком восстал й захватил Харьков. Подробности этого захвата и роль, которую при этом сыграл генерал Лигнау, для меня совершенно неясны, во всяком случае сведения, что он будто бы перешел на сторону большевиков, я думаю, не верны. Но что тут было что-то нечисто в его деятельности, с грустью признаю, для меня это не подлежит сомнению. Впрочем, желая быть осторожным в своих обвинениях, я жду и разъяснений этого дела, которое, несомненно, когда-нибудь выяснится. Это известие показало серьезность положения. Нужно было собрать всех офицеров и организовать население, сочувствующее порядку, для отражения всех воможностей. Какую роль играли во всем этом немцы, в Киеве мнение в этом отношении разделилось. В это время введены были солдатские комитеты почти во всех немецких частях, и, конечно, началось разложение по тому же шаблону, по которому все это раньше происходило в русской армии.
Нужно принять во внимание, что генерал Гренер, безусловно умный и доброжелательный нам человек, по телеграмме, полученной им утром, через несколько часов после ее получения выехал в Спа. Мы едва успели с ним проститься.
Раз уж мне приходилось терпеть власть чужеземцев, то отъезд этого человека меня озадачивал. Я понимал, что без него будет хуже. Итак, мнения разделились; одни говорили: немецкое командование не заинтересовано в беспорядках, для них существенно важно сохранение порядка для предстоящего вывода их войск из Украины; всякий беспорядок только осложнит это дело; они больше верят в способность нашего правительства удержать порядок, нежели способностям Петлюры и Винниченко, несомненно, при них начнется хаос, анархия, и большая часть уже деморализованных немецких частей погибнет. Другие говорили: немцы побеждены Entente-й, немцам несомненно нет расчета передать в порядке Украину Франции, так как это может служить ее обогащению, напротив того, они будут делать все возможное для превращения этой страны в большевистскую пустыню. — «Вот посмотрите, они уже стягивают войска свои с северной границы и собирают их в компактные массы около железных дорог, а большевики наступают с севера». Большевики с севера действительно наступали, и немцы оттягивали свои войска к железной дороге, по для этого имелось тоже другое объяснение, что это делалось для того, чтобы ускорить их посадку и отправку в Германию. С другой стороны, меры эти принимались ввиду того, что само немецкое Командование, собирая свои части в крупные единицы, считало это необходимым для спасения своих частей от большевизма, так как за ними легче было наблюдать. Факты были противоречивы. С одной стороны, можно было предположить, что мнение о их нежелании мне помогать имеет основание, но наряду с этим резкий отпор, иногда стоивший много жизней немцам, особенно на северном фронте, доказывал противное. Все зависело от местного начальства..
В Киеве, вначале, и дипломаты и «Оберкомандо» были ясно резко против повстанцев. Как я уже говорил, с объявлением федерации русские круги повели резкую политику ко всему украинству. Особенно правые партии и часть русского офицерства в этом отношении были невозможны. Я не понимаю, на чем они базировали свое поведение. Фактически офицерство, будь оно сплоченное и понимай оно политическую обстановку, могло сыграть большую роль, по на самом же деле видно было уже с первых дней, что эта сила большого отпора не даст. Что же касается правых организаций, то их поведение было ниже всякой критики. В течение всего Гетманства правые организации сидели довольно смирно, центром их, кажется, был негласно митрополит Антоний. Они несколько раз присылали свои депутации ко мне, у них всегда была масса самых широких программ и заявлений, что они представляют из себя громаднейшие организации, соединяющие сотни тысяч людей, и всегда эти заявления заканчивались тем, что они просили денег, причем и здесь у них масштаб был очень большой. На самом деле я знал, что за ними никто не стоит, никакой силы они фактически не представляют, и поэтому даже в тех случаях, когда можно было их использовать с пользой для нашего дела, как, например, в пропаганде среди офицерства идеи поступления в Особый корпус, я ими не пользовался и денег им не давал. Но тогда и они давали себя знать. Да не только эти господа, но, думаю, не ошибусь, если скажу, положительно все русское население, не имея фактически никакой силы, как будто спелись ругать все украинское и всячески провоцировать, где только возможно. Я неоднократно некоторым влиятельным лицам указывал на всю ошибочность такого поведения, просил прекратить эти нападки, но ничего не помогало. Все они считали, что украинства вообще не существует, что это кучка лишь подкупленных немцами людей. Раз немцы ослабели, больше незачем считаться и с украинцами.
Однако генерал Волховский, несмотря на то, что полагал в скором времени взять Белую Церковь, ее не взял. Так длилось два-три дня. А известия из губерний приходили довольно тревожного порядка. Главная неприятная новость была измена командира Подольского корпуса, генерала Ярошевича, который перешел на сторону Директории.
Как я говорил, основа обороны Киева были русские офицеры и добровольцы. С другой стороны, по всем тем данным, которые я имел, представитель Entente-ы должен был в самом ближайшем сроке приехать в Киев. Ясно было, что Петлюра с сечевиками в связи с тем заговором, который был открыт после ареста полковника Аркаса, состоял в том, чтобы захватить меня и правительство, так сказать, невзначай и сразу же повести свои порядки. Это не удалось и, конечно, вызвало среди. Директории некоторый упадок сил. Приехал бы в это время представитель Entente-ы, положение резко бы изменилось в пашу пользу, так как масса населения совершенно не была склонна идти под Директорию, но он не приезжал, несмотря на то, что я ежедневно лично говорил подолгу с Одессой, которая держала связь с Яссами. Наконец, приехал в Одессу г. Эно, бывший офицер французской службы, хорошо знакомый с Киевом, где он был во время пребывания французской миссии в Киеве чем-то, если не ошибаюсь, офицером, служившим в тайной разведке. Называл он себя уполномоченным всех держав Согласия. В Одессе его приняли с большой помпой. Я получал все эти сведения по аппарату в переговорах с различными личностями, как служащими в Украинской Державе, так и заинтересованными в ее поддержке, по так мне и не пришлось потом ни с кем из них свидеться, и потому для меня очень неясно, каким образом такие опытные дипломаты, скажем, хотя бы как Коростовец, не могли также разобраться, кем же в конце концов является Эно и насколько его полномочия действительно санкционированы державами Согласия.
Господин Эно начал хорошо, он издал два объявления, в которых он, как представитель держав Согласия, заявляет, что державы эти будут поддерживать гетманское правительство и порядок, что всякая попытка идти против этих желаний Entente-ы будет подавляться оружием. Он лично говорил со многими из Киевского Центрального правительства, и я сам читал его ленту, где он сообщал: «Courage la resurrection l'approche»[79] и указывал на то, что военные силы подходят. В таком же духе приходили все известия и из Одессы и из Ясс. Мы получили сообщение, что к первому декабря прибудут крупные французские части в Одессу, румыны же должны были двигаться к Жмеринке. Потом было официальное сообщение о движении на Украину 8 корпусов войск Entente-ы различных национальностей.
Все это меня убеждало, что я взял правильный путь удержаться во что бы то ни стало, а по прибытии представителя Entente-ы, если он с силой, то хорошо, если же он без силы, то хуже, но совершенно не безнадежно, так как немцы, и дипломаты, и офицеры «Оберкомандо», мне сами говорили и просили настаивать на приезде представителя Entente-ы, говоря, что если таковой приедет и в решительной форме заявит Немецким частям, что на них возлагается ответственность за прекращение беспорядка и междуусобной войны, немецкие части, боясь, чтобы в противном случае их не интернировали, были еще в достаточных силах для того, чтобы прекратить всякую попытку к свержению правительства.
Я ждал Эно, но он не приезжал, отговариваясь тем, что он должен встречать то генерала Вертело, то прибывающие войска, наконец, он объявил, что едет, но на следующий день заболел.
Тем временем по Украине при помощи тех ячеек повстання, исправно заложенных по провинции, восстание разгорелось. Петлюра не имел успеха среди крестьянства, но вся голытьба, пленные, возвращающиеся из Австрии, и весь тот распропагандированный люд, который с роспуском армии не хотел или не мог найти себе работы, приставал к нему.
Главной опорой Петлюры были галицийские Сечевики и тот самый Черноморский кош, куда теперь пристала масса всякой голытьбы и который раньше предполагалось сформировать для посылки на Черноморье [Кубань]. Движение на Киев особенно привлекало массу народа большевистского направления, так как Петлюра им обещал, а может быть, лично этого он и не сделал (по распространялись в его частях сведения), — дать Киев, в случае удачи, на три дня на разграбление. Положение становилось серьезным.
А туг офицерство и все русские круги находили, что генерал Волховский в данный момент не на высоте своего положения, что нужно назначить человека, пользующегося доверием офицерства, и что таковым пользуется граф Келлер{302} и князь Долгоруков{303}. Я был и против первого, и против второго. Долгоруков мой товарищ, но по некоторым причинам, хотя я знал, что он был согласен, я даже не назначил его командиром Особого корпуса. Что же касается графа Келлера, то я думал назначить его командиром Особого корпуса и специально просил его приехать ко мне. У нас было свидание, по после разговора с ним я увидел, что такое назначение приведет к большим осложнениям. Это был человек очень большой храбрости и решительности, крайний правый монархист, так что даже для Особого корпуса такое назначение встретило бы затруднение, а тут его нужно было назначить главнокомандующим всеми частями с широчайшими правами. Я долго не решался, но. несмотря на все мои поиски, положительно ни одного генерала, имеющего популярность среди офицеров, не было, а это тем более нужно было, что представители Деникина, повторяю, не знаю, назначенные ли или самозванные, вместо того, чтобы соединить все свои усилия с нашими для объединения офицерства, отвлекали их в Добровольческую армию и своими разговорами и даже прокламациями все делали для того, чтобы офицерство не шло в гетманскую армию. Наконец, ко мне приехал Гербель и Кистяковский и долго меня уговаривали взять Келлера. Я так и сделал. Назначил его с громадными полномочиями главнокомандующим всеми вооруженными силами на Украине.
Меня часто спрашивали, почему я не стал во главе войск лично, так как я обладал тем же командным цензом, что и Келлер. Я этого не сделал потому, что, во-первых, в междуусобной войне глава государства не должен лично стать во главе одной стороны, во-вторых, потому, что, к сожалению, я уже с первых дней заметил те интриги, которые велись против украинского правительства и меня среди офицерства, и офицерство этому верило. Я боялся, что будь я во главе войска, это могло бы ослабить офицерское единение, столь необходимое в тот момент. Наконец, я думал вначале, что еще можно прекратить все эти повстания уговорами одной и другой стороны, а для этого я был связывающим звеном двух лагерей. Теперь, впрочем, я сознаюсь, что сделал ошибку. Может быть, если бы я стоял во главе офицерских организаций и переубедил бы те наветы моих врагов, которые сыпались со всех сторон, я многое мог бы устранить из того печального, что произошло впоследствии.
Как бы там ни было, я назначил Келлера. Вечером я поехал к нему, и мы долго с ним говорили. Я ему указал всю обстановку и просил его заниматься войсками, по не менять своими распоряжениями основы той внутренней политики, которой мы придерживались. Его правые убеждения, ненавистничество ко всему украинскому меня пугали. Я знал, что он горяч и что он поведет свою политику, а она до добра не поведет. Он мне обещал, и я успокоился. Но действительность показала другое.
С первого же дня, не имея на то даже права, он отменил все положения, выработанные нами для армии, он вернул все старые уставы императорской армии. Он окружил себя громадным штабом крайних правых деятелей, которые повели политику архиправую. Он издал приказ, которым даже возмутил умеренные правые круги. Слава Богу, что Он не издал того приказа, который им был написан самолично. Там он уже совершенно выходил из всяких рамок благоразумия. Его удержали его же помощники. Началось неистовство, гонение на все украинское. Могу указать на закрытие Национального Клуба, на бесчисленный арест украинцев, иногда вполне умеренных, дело дошло до того, что начали выбрасывать бюсты Шевченка и разбивать их. В эти дни люди совершенно спокойные, еле-еле признающие себя украинцами, приходили ко мне и возмущались, и все это, конечно, падало на меня и наше правительство.
В смысле работы, он работал много, но нужно отдать справедливость, что, несмотря уже на объявление федерации, несмотря на назначение Келлера, несмотря на то, что для всех была цель ясна — нужно спасать Киев, — офицерство отозвалось слабо. Была объявлена мобилизация всем офицерам, они мобилизировались, но на фронте считалось по спискам 9000 человек, а на самом деле было всего 800. Штабы и различные военные организации разрослись до колоссальных размеров. Кроме того, что было ужаснейшее зло — это допуск всяких контрразведок. Келлер обещал, что уничтожит их, оставив лишь одну при своем штабе, по этого не сделал. Эти контрразведки — учреждение, куда я лично советую офицерам не поступать. Эта решимость офицеров поступать в контрразведку — грустнейший факт нашего времени. Я с отвращением узнал, что у Entente-ы и немцев служат много наших офицеров. Теперь же появились, кроме специальной разведки нашей полиции, еще контрразведочное учреждение при штабе Келлера и, кроме того, что, как я говорил, совершенно не были, допустимым, контрразведки в каждой организации, в каждой маленькой дружине.
Ничто не развращает так офицерство, как эта служба, ничто не толкает на такие преступные действия, как эти учреждения, и ничто так не способствовало пашей неудаче, а также усилению самого жесткого, подчас бессмысленного украинского шовинизма, — как бессмысленные, не считающиеся ни с какими законами действия этих знаменитых контрразведчиков. Никакие указания о бедственном положении офицеров и что там хорошо платили — не оправдывает тех офицеров, которые шли на это. Для этой службы есть специальная правительственная организация, находящаяся все же в руках людей опыта и под контролем, а допуск этих частных контрразведчиков — возмутительное явление, которое я никогда не мог понять, и не знаю, почему Келлер сразу не уничтожил их, несмотря на свое обещание мне. Не говорю уже, что служба в контрразведке другой национальности прямо презрение; я, по крайней мере, отношусь так к этим офицерам, там служащим.
Все эти данные повели к тому, что я, дня через четыре после назначения Келлера, попросил его сдать должность. Между тем Келлер так импонировал оказавшемуся очень слабым в смысле характера Гербелю и большинству из министров, что они долго не решались дать ему об этом знать. Наконец, во время заседания я вызвал Ржепецкого, председательствующего в Совете Министров вместо заболевшего Гербеля, и поставил ему ребром вопрос об удалении Келлера. Оказывается, что уже ходили слухи, что при Келлере образовалась какая-то дружина, которая должна была сделать переворот. Я думаю, что это вздор, во всяком случае, это было бы бесконечно глупо, так как решительно никакие организации и партии, кроме самых правых, Келлеру не сочувствовали.
Келлер ушел, по мне нельзя было уже резко изменять курс. Приходилось взять человека пока из того же лагеря. Я пригласил моего товарища и по корпусу, и по полку{304}, князя Долгорукова. Долгоруков тоже очень правых убеждений, чуть ли не член какой-то правой организации, тем не менее был человек, которого я знал и с которым можно было договориться. Я смотрел на него как на временного деятеля и полагал при первой же возможности уничтожить главнокомандование, сведя это на должность просто командующего армией. А то вышло так.
Кистяковский, благодаря настояниям которого я предоставил графу Келлеру такие широкие полномочия, как смещение должностных лиц министерства внутренних дел, остался со всем своим аппаратом за флангом и не имел возможности работать. Он приходил ко мне через несколько дней после этого плакаться. Я ему указал, что он же сам виноват, и напомнил ему о том, сколько усилий он должен. был потратить, пока я согласился с его доводами. По словам Кистяковского, сам граф Келлер приходил к нему и просил повлиять, чтобы его назначили. К чему Келлер так хотел впутаться в это дело? При всех его неудачных действиях и совершенно неправильных по отношению ко мне, его трагическая смерть (через некоторое время после свержения Гетманства он был расстрелян) глубоко меня опечалила. Будущее русской армии лишилось храброго генерала, который мог еще принести пользу в таком деле, где не требовалось политики.
Новый кабинет, который так неожиданно стал у власти, состоял из следующих лиц:
Гербель, председатель Министров и министр земледелия, человек большого служебного опыта, бывший член Государственного Совета. Я рассчитывал на него как на человека большой силы воли, по он устарел, к политике моей относился сочувственно, очень хорошо смотрел на земельный вопрос, по в последнее время подпал под влияние Протофиса, особенно Демченко, что делало его действия какими-то расплывчатыми, половинчатыми. Кстати, я не могу сказать, чтобы он поддерживал мою власть, настолько, что я несколько раз упоминал ему, что я глава правительства и прошу со мной считаться. Помню, что как-то в одной бумаге, обращенной к немцам, он совершенно упустил упоминание обо мне, в то время как дело было в моей компетенции. Я ему на это указал. Вообще, под давлением русских кругов, все делалось для умаления моей власти, и новый кабинет, т. е. некоторые члены его, совершенно не считали нужным бороться с этим, приходилось самому защищаться. Да ясно, что нужно было в это время быть очень принципиальным человеком для того, чтобы решительно стоять на моей стороне. С одной стороны, немцы вели неопределенную линию, все более и более клонящуюся к тому, что они согласны иметь дело с Директорией. Мне даже думалось, что они могут стать против меня. С другой стороны, Entente-a еще не высказывалась за меня, а многие русские говорили, что никогда и не выскажется. Украинцы были против меня за грамоту о федерации. Нужно было быть очень сильным человеком, чтобы в такую минуту не устроить себе путь отступления к Entente-e в великорусскую сторону, точно так же, как украинцы из предыдущего министерства устраивали себе отступление в сторону украинских кругов, а я шел средним путем и потому не мог и не хотел стать на одну сторону, так как считал, что это было бы решительно против всей той линии поведения, которую я себе наметил с первого же дня Гетманства. Она в тот острый, катастрофический момент была непригодна, но она в широком масштабе времени единственно верна для Украины и России. Это путь компромисса, и компромисса честного, как с одной, гак и с другой стороны. Мне легко было стоять на этом пути, потому что я совсем не притворялся, говоря, что я люблю Россию и хочу Украину и т. д., что для некоторых других могло быть лично не по их характеру. Я на министров не сердился, так как понимал это человеческое чувство и не требовал от них быть какими-то столпами силы воли и гражданского мужества.
Министром финансов был тот же Ржепецкий. Он в последнем министерстве часто играл роль председателя Совета Министров, и это было далеко не в пользу дела.
Любниский остался как министр здравия.
Кистяковский — был снова министром внутренних дел. Меня спрашивали, почему я его снова взял, хотя сам же знал все его недостатки и сам же содействовал его уходу. Да потому, что положительно никого другого не было, кроме него, который в данную минуту взялся бы за это дело, тем более, что все же Кистяковский был знаком со всем нашим аппаратом министерства внутренних дел, был подвижен, а главное, очень хотел играть снова роль, и этим его можно было держать в руках. В последнем министерстве Кистяковский никакой деятельности не проявлял, он фактически был съеден главнокомандующим [Келлером].
Министр путей сообщения — Лансберг{305}, человек, которого я давно уже искал и очень жалел потом, что познакомился с ним так поздно, на целую голову выше всех бывших членов последнего кабинета, энергичный, знающий дело, спокойный в критическую минуту, прекрасно разбирающийся в обстановке, он был бы мной давно назначен министром путей сообщения, если бы я его знал раньше.
Новым министром иностранных дел был Афанасьев, профессор, самый популярный в Киеве человек, с громадной эрудицией, он имел одни громадный недостаток — он был очень стар. Я помню такую сцену: я видел, что дело идет плохо, и чувствовал, что Entente-a даже в лице Эно не прийдет к нам в Киев. Я вызвал к себе товарища министра иностранных дел и указал ему на положение дел, говоря ему, что Entente-а не прийдет потому-то, потому-то и потому-то, но Афанасьев на реальную обстановку мало обращал внимания и самым решительным образом доказывал, ссылаясь на аргументы, на которые настоящий реальный политик не должен был ссылаться, что я ошибаюсь, так каждый и остался при своем мнении. У него была какая-то слепая вера в то, что Entente-a должна нас всех спасти и спасти Украину от развала, но он не считался со всеми предвходящими условиями. Ему было очень трудно в министерстве. Дорошенко был украинец и набрал всех служащих среди украинцев. Последние ему не доверяли, а он им, выходило qui pro quo. Его уверенность в немедленном приходе Entente-ы отражалась на отношении его к немцам, которые до прихода держав Согласия являлись силой. Оп всюду, где только и когда мог, катал им заносчивые поты и телеграммы, что далеко не содействовало стремлению немцев нам помогать. Я воевал с Гербелем и Афанасьевым за эти ноты, находя их неполитичными. Каждый день он мне сообщал, что Эно приезжает. Бедный старик часами выстукивал по телеграфу, ведя свои разговоры с Одессой.
Рогозу, очень почтенного человека, я с удовольствием сменил на молодого и решительного человека, генерала Шуцкого{306}. Рогозу нужно было давно сменить, по всегда я встречал противодействие у председателя министров, находящего, что голос Рогозы в Совете Министров ему очень нужен. Рогоза, повторяю, был действительно благороднейший человек, далеко неглупый, но слишком доверчивый. Меня предупреждали об этом, я долго не верил, и в этом моя большая ошибка. Конечно, все обвинения в том, что будто бы Рогоза не должен был формировать армии, а обратить главное внимание на хлеборобов, неправильны. Мы должны были именно формировать армию по всем правилам искусства, а не заниматься случайными организациями, которые, кстати, тоже делались министерством внутренних дел, но которые в плохой обстановке не могли принести пользы, они годились только для защиты места их жительства, а не для выступления и борьбы в любом направлении. Все же главные помощники Рогозы, которых он горячо защищал, оказались не на высоте положения в последнюю минуту. Конечно, новый громадный штаб главнокомандующего [Келлера] тоже всячески старался доказать, что раньше было плохо, а теперь вот будет хорошо.
Остальные министры частью были из старых, частью вновь назначены, но они никакой роли не играли в это время в общей политике. Разве что новый министр просвещения был особо выдающимся лицом в новом кабинете. Человек очень культурный, известный педагог умеренных взглядов и любивший Украину. Только шовинизм наших украинцев заставил не узнать Шумейко должным образом и пренебрегать таким человеком, в деятельности которого Украина так нуждалась, ибо педагогов вообще, и в России хороших не было. А Науменко действительно выдающийся человек в своей специальности. Оп с большой энергией взялся за некоторые реформы, оздоровляющие нашу учебную деятельность. Кроме того, он хотел создать образцовую украинскую гимназию. Я всегда очень любил его доклады, так как видел в нем светлую идейную личность, что так редко встречается в наше время.
Но, к сожалению, мне в ноябре месяце было уже не до министерства народного образования. В Киеве все считали, что Петлюра будет разбит, по я с каждым днем чувствовал, что дело более и более осложняется и почва уходит из-под ног. Все русское шло наперекор мне, все те деятели, которые еще так недавно обсуждали со мной все дела и теснились в приемной, перекочевали или к Петлюре, или к Долгорукову. В моем штабе, за исключением моей ближайшей свиты, ближайших офицеров и казаков охраны, уже чувствовалось раздвоение. С одной стороны, Директория и сочувствующие ей успешно распространяли сведения, что я изменил Украине, с другой стороны, среди русского офицерства распространялись толки, что я вхожу в тайные переговоры с Петлюрой для того, чтобы предать офицерство. Долгоруков, который как честный человек, поняв мою задачу, договорившись со мной, действовал вполне лояльно, не нашел в себе силы воли для того, чтобы избавиться от всей той атмосферы, которую он получил от Келлера. Все господа, игравшие далеко не красивую роль при старом режиме, снова начали выплывать. Каждый день меня предупреждали о всевозможных каверзах против меня, наконец, дело дошло до того, что ко мне уже пришел один близкий мне человек и совершенно откровенно мне рассказал о плане моего ареста какой-то группой офицеров. Будучи своевременно извещен, я принял заблаговременно меры для противодействия.
Немцы уже открыто говорили, что это не авантюра кучки людей, а что это всеобщее народное восстание. Кстати, их солдатский совет все более и более левел и становился во враждебное к нам отношение. Но с солдатскими советами мы кое-как уладились, главное, что «Оберкомандо», где уже не было прежних выдающихся людей, совсем не понимало обстановки, а может быть, и не хотело ее понять ради целей «высшей» политики. Положение становилось тяжелым, а мне все пели, что Эно едет. Додумались уже до того; что для того чтобы обезопасить путь Эно, впереди его поезда пойдет поезд отборных немцев, вооруженных с головы до йог, а на коротком расстоянии сзади пойдет его поезд с французской охраной. Он согласился, а потом мне сообщили, что он не едет. Тут уже начали приходить сведения, что Эно совсем не имеет тех полномочий, о которых он заявлял игЫ сі отЫ[80]
На фронте шли бои{307}. Наши части отступили до Волынского поста, что уже под самым Киевом, и окапывались. Шла ежедневная артиллерийская стрельба. В один прекрасный день какая-то незначительная часть петлюровцев со стороны Подола ворвалась в юрод, но была остановлена немцами и отошла. Это мне доказало, насколько непрочно наше положение, когда, имея такую массу, казалось, своих бойцов, пришлось обратиться к немцам. Долгоруков же верил своим войскам, я же им не верил. Только действительно выдающееся офицерство было на фронте, но в незначительном количестве, да и там была рознь. Кроме Киева, приходилось отражать еще наступление полка украинцев, сформированных австрийцами{308}, и Болбочана, шедшего с Харькова. Сердюцкая дивизия почему-то была еще Келлером разбросана, по держалась хорошо, и кроме небольших случаев перехода на сторону Директории, как оказалось, из-за нескольких негодных подпрапорщиков, остальная молодежь, когда приспособилась к артиллерийской стрельбе, держалась хорошо. Не надо забывать, что все это были новобранцы. На фронте выдающимся командующим был генерал Копцеров, исполнивший свой долг до конца. Вот человек, который, я убежден, еще себя когда-нибудь блестяще проявит для пользы Родины. Все остальное офицерство заседало в штабах, разведках и в кафе всякого разбора.
Было неважно. Немцы находили мое положение плохим и предложили мне улететь на аэроплане в Одессу, так как пути все были отрезаны окончательно, и Воронович, которою Совет Министров послал в Яссы, был перехвачен где-то на пути. Я отклонил это предложение, считая, что я должен досидеть до конца здесь, где правительство и войско, несмотря на их отношение ко мне. Наконец, видя, что войско Директории наступает, немцы решили их остановить, и перешли в энергичное наступление одним полком с сильной артиллерией. Кавалерия же их должна была зайти глубоко им в тыл. Наши же части должны были наступать с фронта. Наступление немцев велось севернее Житомирского шоссе в обход Жулян. Это. — происходило в последних числах ноября. Вначале наступление шло хорошо, казалось, что дело вот-вот завершится блестяще, по перед самым нанесением решительного удара во фланг я получил сведение, что немцы наступление приостановили.
В чем дело? Немецкие солдаты решили добиться разрешения вопроса переговорами, Я понял, что дело проиграно. Так и случилось. Дальше уже бои прекратились, и завершилось все это тем, что немцы заключили перемирие и отошли в город. Долгоруков отошел снова к Волынскому посту, а войска Директории отошли значительно на запад. Это перемирие дало только возможность Директории всякими правдами и неправдами значительно усиливаться за счет военнопленных и обещаниями даровой раздачи земли, грабежа Киева — набрать себе массу всякого народа. Долгоруков все считал, что немцы хотят его предать, и совершенно им не верил. На самом деле, это перемирие было результатом комитетских порядков в немецкой армии.
Перемирие было заключено. Долгоруков считал снова его нежелательным, я же его считал далеко невыгодным при условии, что немцы наступали бы, но так как немцы не хотели драться, считал его спасительным. В это время, нельзя забывать, что ежедневно я получал и прямо, и косвенно, и официально, и неофициально извещения, что войска Entente-ы вот-вот придут, и всякая затяжка нас окрыляла надеждой, а не будь перемирия, я понимал, что через два часа после перемирия, если немцы не поддержат, Киев будет взят.
В дни наступления немцев я считал, что все дело может быть еще налажено. Ведь; повторяю, простой народ и весь интеллигентный класс совсем не хотели этой Директории. Я уже говорил, что буржуазные украинские партии, даже несмотря на федерацию, участия в этом деле не принимали. Газеты были на пашей стороне все время. В это же время я узнал, что к Одессе и Крыму начали подходить броненосцы Entente-ы. Видимо, и у Директории не было уверенности.
Приехал парламентером начальник Сечевиков Коновалец и хотел меня видеть. Я не согласился, и, может быть, напрасно, и послал его к Петру Яковлевичу Дорошенко, по, видимо, у них ничего не вышло. Была большая ошибка с моей стороны, что я его не принял{309}.
Время перемирия плохо было использовано нашими войсками. Хотя была объявлена общая мобилизация, по эта мобилизация дала мало действительно убежденного элемента, который бы дрался. Уже по началу было видно, что вся буржуазия относилась индифферентно и как-то выжидательно. Интересно бы знать, не жалеет ли она теперь свою тогдашнюю точку зрения, когда ее основательно пограбили, сначала войска Директории, а затем и сама Директория некоторыми распоряжениями, мало чем отличающимися от большевистских, как, например, конфискацией всего серебра и золота во всех ювелирных магазинах, наложением запрещений на все текущие счета и т. д., а потом пришли большевики. Если бы не было восстания, северный большевизм к нам никогда бы не проник, а с внутренним можно было бы справиться средствами министерства внутренних дел. Ну, да теперь поздно об Этом говорить, ошибки были со всех сторон. Приблизительно в первых числах декабря всякое телеграфное сообщение с Одессой было прервано, оставалось только радио, которое очень ненадежно действовало. Мы были окончательно отрезаны со всех сторон.
В доме у меня все было совершенно спокойно, у всех было убеждение, что дела наладятся. Я по-прежнему принимал доклады и просителей, вечером заседал, в Совете Министров. В это время министры жили и прислушивались к тем людям, которые заявляли, что они в связи с деятелями Entente-ы. Сначала курс поэтому был направо, так как обыкновению люди, которые больше всего, казалось, имели связь с Entente-й, это были принадлежащие к правым партиям, по потом как-то прорвался, я забыл, как его фамилия, какой-то инженер, который приехал из Одессы и видел там участников, бывших на совещании в Яссах. Он доложил Совету Министров, что Entente-а и даже французы совсем не так уж льнут к правым и совсем не собираются спасать и восстанавливать помещиков. Тут уж, я вижу, и у министров курс совсем переменился. Несчастье было, что все хотели схватить топ камертона Entente-и, а не шли своей дорогой. Спокойствие в доме было чрезвычайное, я старался виду не подавать, что считал дни Гетманства сосчитанными.
Наконец, кажется 8-го, [приехал] новый начальник штаба немцев, полковник Netche, оставивший у всех нас по себе очень скверную память, скажу в скобках, уехал на переговоры с Директорией, туда же поехал немецкий майор, заведующий передвижением войск. Они были в Виннице и там сговорились с членами Директории. В результате оказалось, что они заключили условия с Директорией, по которым немцы обязались быть нейтральными, были там еще какие-то второстепенные условия, но они значения не имели, да я их и не помню. 10-го декабря я это узнал, Я понимал, что наступил конец и что нашими войсками Киев не мог быть удержан.
Нужно было как-нибудь ликвидировать дело. Я начал с того, что послал в Одессу Рауху, кажется, последнюю радиотелеграмму, в которой указывал, что неприезд Эно влечет за собой гибель Украины и предание ее анархии и большевизму. Как я узнал уже много позже, читая газеты Директории, эту телеграмму перехватили, и генерал Греков. которому я поверил как георгиевскому кавалеру и назначил начальником Главного штаба, около 10-го числа декабря перебежал к Петлюре, где стал во главе войск. Оп же в самой пошлой форме Ответил мне на эту, перехваченную телеграмму, и я понял, что это за личность. Затем я позвал Долгорукова и спросил его, может ли он удержать Киев. 10-го числа он сказал, что может, но уже 14-го числа я видел, что он колеблется и начал заговаривать о том, как быть с офицерами, что нужно. выговаривать им разрешение ехать на Дон с оружием в. руках. Я и сам так думал уже давно и лишь ради этого не имел еще права отказаться от власти. Явился тут майор Ярош. Долгоруков, горячий человек, с ним страшно поругался, и это лишь осложнило дело, а пользы не принесло. — Видя нерешительность Долгорукова, решил уже самостоятельно послать пока Удовиченка, преданного мне человека, по вместе с тем щирого украинца, повести переговоры с Директорией о том, чтобы офицерам дано было право на выход с оружием. Когда я отдал приказание, Долгоруков со мной согласился. Долгоруков ни в каком случае не хотел какого бы то ни было условия о том, чтобы офицеры сдал» оружие, и я его понимал, это было бы рискованно и недопустимо с точки зрения этики. Между тем немцы предупредили, что войска Директории перейдут в наступление 14-го. Долгоруков принял всевозможные меры, артиллерия была значительно усилена, по с чем он не хотел согласиться — это с тем, что и произошло, что взрыв-восстания одновременно начнется и в самом городе.
Ко мне явилась депутация немецких зольдатенратов[81] во главе с их представителем Кирхнэром, который просил, чтобы не было кровопролития зря, что необходимо, чтобы офицеры сдались. Я призвал Долгорукова, он повторил, и я взял его сторону, что это отвращение кровопролития возможно при условии разрешения офицерам ехать с оружием в руках на Дон. Удовиченко не вернулся, кстати, ему на помощь был послан помощник французского консула Monlain, единственный представитель Франции в Киеве. Он часто бывал у меня и прекрасно понимал всю обстановку и никак не мог понять, почему его компатриоты так относятся к моим просьбам, которые, казалось, шли в полном согласии с выгодами французов. Он был прекраснейшая личность и далеко не глуп. Жаль, что его компатриоты мало оценили его и не воспользовались его знаниями местных условий этой громадной страны. Он тоже поехал с Удовиченко вырабатывать условия перемирия.
Тринадцатого декабря я спросил Долгорукова: «Сколько Ты можешь выдержать?» — «Два дня». — «Ну, — сказал я, — за это время мы успеем выторговать все, что нужно для офицеров». На фронте было тихо, и в Киеве не слышно было, как обыкновенно в дни боев, грохота пушек. Того же числа вечером Долгоруков хотел послать от себя парламентеров, а Совет Министров вызвал Шелухипа и других украинцев, имевших связь с Директорией, также для переговоров с пей, но из всего этого ничего не вышло. Помню, я потом вызвал их к себе и говорил с ними. О Шелухине я до конца остался мнения, что это цельная, убежденная и хорошая личность. О некоторых других я думал, как это люди не понимают, что гибнет то, что, казалось, им хотелось, чтобы существовало. Ведь они прекрасно знали мою точку зрения, они знали, что я не изменил Украине, они знали, что у меня было решено с Гербелем, что с первым появлением Entente-ы и существующий кабинет уходит и что я поручил Петру Яковлевичу Дорошенко с ними же вести переговоры о составлении нового украинского кабинета, конечно, не крайнего, по поддерживающего интересы Украины. Они же должны были понять уже по примеру Центральной Рады, к какому развалу поведет Директория. Я предупредил кое-кого из них: «Директории тут меры останется шесть недель, потом тут и духом ее пахнуть не будет, туг будет большевизм». Я ошибся: Директория в Киеве сидела всего лишь три педели, но с первого же дня готовилась к бегству.
Вечером я еще занимался делами. Впоследствии я узнал, многие люди думали, что у меня было что-то готово к бегству, по это неверно. У меня ничего не было приготовлено, и с немцами никакого сговора не было. Я просто верил в свою судьбу и знал, что так или иначе — выскочу. Единственное мое распоряжение было то, что я свою жену просил уехать ночевать из дома к знакомым, так как ходили слухи, что у меня же в доме есть люди, которые злоумышляют на меня. Зная, что еще два дня Киев может держаться, я думал, что успею впоследствии о себе позаботиться. Единственно, что я приказал, это чтобы проходной двор в доме № 14 по Левашевской улице, недалеко от моего дома, был открыт, дабы я имел возможность внутренним двором, в случае надобности, пройти в штаб Долгорукова, а кроме того, на всякий случай, в одну знакомую квартиру, невдалеке от этого двора, приказал снести доху. Вечером я все же сказал некоторым близким, чтобы они позаботились о том, куда им в случае надобности можно будет спрятаться. Между прочим, сказал это и генералу Аккерману, который мало понимал положение вещей и часто видел опасность там, где ее на самом деле не было, и, наоборот, не остерегался того, что в сущности могло явиться большой угрозой нашему существованию. Я узнал, что бедного Аккермана потом арестовали на третий день после того, как я уже сошел со сцены, причем он был в претензии на меня. Меня это очень удивило. Что же еще я должен был сказать кроме того, что я ему сказал, когда спросил его: «Имеете ли Вы, Александр Федорович, куда спрятаться в случае нужды, ведь дело, между нами сказать, плохо?» Я считаю, что я сказал и больше того, что был обязан сказать, и сделал это лишь потому, что видел, что он недостаточно отдает себе отчет в общем положении.
Вечером я лег спать как обыкновенно. Ночью я получил часа в три телеграмму, в которой Винниченко тоном Наполеона требовал полной ликвидации Гетманства. Прочтя, я снова заснул и в 7 часов встал. Слышался сильный гул орудий, я вызвал дежурного офицера, который мне доложил, что части, защищающие Киев, «отходят на вторые позиции». Я понял, что это за вторая позиция, и подумал себе: «Вот тебе и два дня удержания Киева, и трех часов не удержат!»
Оделся. Ко мне явился комендант Прессовский и просил разрешения отпустить небольшую часть отдельного дивизиона, охранявшего меня, для выручки самого дивизиона, который ночью обезоружили. Я вышел на подьезд, поговорил с этим взводом и отпустил его. Мне было ясно, что дело идет к развязке. Отдельный дивизион считался лучшей частью, которую я приберег для последнего удара. Она состояла из великорусских офицеров, ее всегда мне хвалили. Я оставил этот дивизион в своем распоряжении и давал его только для специальных задач на фронте, а тут его обезоружили. Скандал! У меня больше никого не оставалось. Сведения становились псе тревожнее. Наконец, я получил уведомление, что арсенал взят, что военное министерство занято, следовательно, повстанцы были уже недалеко от нашего квартала.
Я пошел к себе, собрал свои бумаги, которым придавал значение, и в это время мне доложили, что меня зовет к телефону министр иностранных дел. Я подошел. — «Пап Гетман, пан Гетман, Эно приехал, я послал за ним автомобиль», — прокричал мне радостный голос Афанасьева. Вот, подумал я себе, бедный старик рехнулся, наверно, какой там к черту Эно, тут все уже рушится, и захлопнул телефон. Больше я голоса не слышал. Но этот знаменитый Эно прямо-таки опереточная личность.
В это время пришел ко мне Берхем. — «Чего же Вы ждете, ведь Вы погибнете!» — «Да мне некуда идти». — «Идите ко мне». Я решительно не хотел идти к нему. и отказался. Мне еще хотелось пойти к Долгорукову, и я вспомнил о проходном дворе на Левашевской. Выйдя из дому, я был в твердой уверенности, что туда еще вернусь, по, подойдя к воротам, я увидел, что они заколочены. Мое распоряжение о том, чтобы они были открыты, не было по халатности исполнено. Тогда мне ничего не оставалось другого, как, взявши адъютанта Данковского, зайти за дохою, надеть ее, взять извозчика и проехать кругом к Долгорукову на Банковую улицу через Институтскую. Меня никто не узнал. Приехав к Долгорукову, я увидел, что у самого дома стоит пушка, которую заряжают, и стоят несколько офицеров его штаба, который, сознаюсь, был мне ненавистен. Я не хотел с этими господами вступать в необходимый для пропуска разговор и приказал Данковскому взять меня к себе на квартиру. Приехавши туда, он мне заявил, что долго тут оставаться нельзя, так как хозяева его меня, наверно, выдадут.
Думали, думали, куда поехать, и я решил, что лучше всего, к турецкому посланнику. Я поехал к последнему, а Данковскому приказал поехать к Долгорукову и передать ему, что если нужно, я сейчас приеду.
Ахмед Мухтар-бей жил в гостинице «Паласт», в двух комнатах. Сама гостиница была набита всякими людьми, которые сновались по коридору. Меня в дохе никто не узнал. В это время приехали, узнав мое местопребывание, несколько верных офицеров, которые мне сообщили совершенно безотрадную картину, что в сущности все уже копчено, но что местами еще дерутся. Данковский вернулся и сообщил, что Долгорукову обо мне доложил, по что Долгоруков ничего ему не ответил. Данковский тоже подтвердил, что всякое сопротивление сломано. Я сознавал, что все пропало. У меня была на душе тяжесть. Я думал, должен ли я все-таки отказаться от власти, или не следует этого делать. На меня повлияла раздающаяся где-то вдали пулеметная трескотня, и я подумал… вероятно, есть честные люди, которые дерутся до тех пор, пока они не получат сведения, что они освобождены от своих обязанностей и от присяги, и написал тут же на месте свое отречение от власти{310}. А затем приказал начальнику штаба сдать таковой полковнику Удовиченко. Офицер повез эти две бумаги в штаб Долгорукова. Это приблизительно было около двух часов дня, но штаба
Долгорукова уже не было, он рассеялся, и там уже примащивался штаб Директории. У моего офицера отняли бумаги, и он еле-еле сумел избежать ареста, только благодаря случайности он спасся.
Мне очень тяжело было сознание, что вся работа, все те переживания, через которые пришлось пройти в течение этих долгих восьми месяцев, такого непонимания меня, столько злобы, которая меня окружала, и быть так близко от того, чтобы выйти на плодотворную работу для спасения Родины, и все это рухнуло, и так бессмысленно.
… «Эно приехал», — вспомнил я старческий голос Афанасева и расхохотался.
Я вспомнил также, как восемь месяцев тому назад я, прожив 44 года на свете, еще мало знал жизнь, когда у памятника Владимира с такой доверчивостью пошел на эту каторгу, веря, что меня поймут. За мной не пошли, по я остался глубоко убежденным, что Великая Россия восстановится на федеративных началах, где все народности войдут в состав великого государства, как равное к равному, где измученная Украина может лишь свободно расцвести, где жизнь не будет пронизана насилием и справа, и слева, как до сих пор, что только тогда наступит покой, только тогда мы дойдем до периода нового, совместного, народного творчества, и нам не страшны будут ни Центральные Государства, ни Entente-ы того времени.
Додатки
Павел Скоропадский Мое детство на Украине
Одно из первых впечатлений: большая белая комната, детская кроватка, в ней я, мальчишка S лет. Неподалеку от кроватки столик, на столике свеча, и меня забавляет, что пламя свечи, на которую я пристально и долго смотрю, oт движения людей по комнате колышется. К кроватке подходит сморщенная старушка в белом чепчике, долго рассматривает меня и затем нежно целует. Это первая моя ночь, в Тростянце, имении моего деда Ивана Михайловича Скоропадского.
Моя мать привезла брата и меня прямо в Тростянец из Wiesbaden где я родился 3-го мая (ст, стиль) 1873 года и где моя семья часто проживала. Старушка, рассматривающая меня, была Софья Петровна Тарнавская, дальняя родственница моей бабушки, тоже рожденной Тарнавской.
Прожив первые 5 лет моей жизни за границей, имея гувернанткой англичанку Miss Ems, я имел очень смутное представление о своей Родине и населяющих ее людях, скорее, благодаря, очевидно, англичанке, не особенно лестное; представление о людях, потому что, вспоминаю, на следующий день, сидя в экипаже на козлах у моего деда, я спросил кучера на ломанном русском языке: «Скажи, пожалуйста, Ты не кушаешь человека?» Помню, как мой дед возмутился моим вопросом и незнанием мной русского языка, результатом чего было полное запрещение говорить по-немецки, приглашением для обучения русскому языку и Закону Божьему нашего приходского священника отца Митрофана Ладышевского. Причем, запрещение говорить по-немецки было настолько строго проведено в жизнь, что я язык этот окончательно забыл, а потом никогда ему не выучился.
Одно из первых тяжелых впечатлений: меня по английской привычке почему-то ещё в пять лет одевали девочкой. Помню, что когда мне захотели на плечо нацепить какой-то большой башу то Я страшно разозлился и учинил невероятный скандал, ударив изо всей силы по щеке Miss Ems, которую я, кстати сказать, очень любил. Результатом этого было какое-то серьезное наказание, причем весть Об учиненном мной преступлении и понесенном мной наказании дошла до деда. Он пожелал со мной говорить, помню, как меня вели к нему по коридорам большого Тростянецкого дома и как я боялся этого свидания. Дед спросил меня серьезно, почему я такой злой. Я, защищая свою мужскую честь, сказал, что я не злой, но что больше не хочу быть девочкой, и помню, что, к моему удивлению и радости, дед сразу смягчился и стал решительно на моей стороне, объявив мне, что меня сделают мальчиком и что я получу штаны. И действительно, через несколько дней появились какие-то серые суконные штанишки, сшитые местным портным ближайшего села, Васковцы. День награждения меня штанами был одним из самых радостных дней моего раннего детства, благодарность моя к деду была безгранична, и я его стал обожать. Должен сказать, что Он мне отвечал тем же.
Мой дед, Иван Михайлович Скоропадский, — бывший полтавский губернский предводитель дворянства. По выходе в отставку он поселился в своем имении Тростянец, где и жил почти безвыездно. Это был очень умный и образованный человек. Несмотря на постоянную жизнь в деревне, он следил за литературой нескольких языков, интересовался политикой, был прекрасным хозяином, принимал очень большое участие в местной жизни Полтавщины. Особенно интересовался всякими культурными начинаниями, щедро наделяя школы и некоторые вновь создающиеся гимназии денежными средствами. Вообще, совершенно объективно рассуждая, я нахожу, что личность моего деда и его деятельность заслуживали бы специального исследования.
У Ивана Михайловича была одна страсть: это любовь к природе. Живя, как я уже сказал выше, постоянно в Тростянце и обладая крупными средствами, он создал Тростянецкий парк, который к концу его жизни представлял крупную достопримечательность Украины. Не говоря уже о художественной стороне последнего, удивлявшей всех, кому приходилось в нем побывать, парк этот по количеству собранных в нем редких экземпляров деревьев мог конкурировать с первокласными ботаническими садами Европы. В этом парке мы обыкновенно проводили летние месяцы, а часто и осень, первые годы просто предавались всяким детским играм, но когда стукнуло моему брату 10 лет, а мне было 8, дед нас позвал к себе в кабинет и серьезно нам заявил, что играть — это мы всегда успеем, но что нам нужно знать, как люди добывают себе хлеб, что он нам поможет это узнать. Он сказал, что он от нас требует к этому делу такое же серьезное отношение, как к нашим урокам, и действительно, мы через несколько дней увидели, что на одной из лужаек невдалеке от одного из флигелей начали рабочие сваливать бревна. Нам объявили, что здесь будут строить нам крестьянскую хату и что мы все свободное от уроков время должны помогать рабочим. Был к нам приставлен дядькой Явло, фамилию его забыл. Он нас учил с маленькими топорами в руках обтесывать бревна, делать зарубы и т. д. Через месяц хата была уже под соломенной крышей, тут, в кладовке, находилось все, что необходимо для крестьянского хозяйства. Затем нас вывели на поле невдалке от гумна и заявили, что это поле дедушка нам уступил, что мы должны подготовить его под пшеницу, засеять его, а осенью, если хлеб уродит, то дедушка урожай у нас купит. Нас начал тот же Явло учить пахать и погонять быков; через несколько дней и брат, и я — мы уже освоились с главными трудностями, научились, как вести плуга, чтобы не было «огрехов», и очень важно покрикивали на быков «цоб», «цобе». Науки эти не прошли даром, помню, как лет 30 спустя я с управляющим в моем имении Дунайцы поспорил о каких-то подробностях пахоты, и на вопрос его «да откуда же Вы это знаете» я ему спокойно сказал, что «напрасно Вы думаете, что я не умею пахать», и тут же на поле стал за первым же приблизившимся к нам плугом, и к моей радости увидел — что не забыл еще сноровок для того, чтобы плуг шел правильно.
Конечно, потом от руки пришлось засеять вспаханное нами поле. И тут начались мучения, пойдет ли дождь или нет. Дождик пошел, и радость была великая, когда появились первые ряды. Хлеб уродил. Мы молотили его цепами, а затем свезли на волах урожай к дедушке, причем торговались с ним за цену, что его очень забавляло.
Дед нас обожал и очень баловал. Но все его подарки имели всегда определенную воспитательную цель. Конечно, для нас одним из самых приятных подарков было, когда в один прекрасный день, мне было тогда 6 лет, к крыльцу дома подвели две оседланные лошадки, одна для моего брата, другая для меня, и вот начались уроки верховой езды под руководством старого кавалериста татарина Маргишана. Мой Щеглик был прекрасный поїти. Он жил неимоверно долго и умер на пенсии в Тростянце, когда я уже был офицером. Жизнь в Тростянце того времени оставила во мне воспоминания и другого характера, тогда еще не был изъят старый патриархальный уклад жизни, крепостное право было уже давно уничтожено, но весь уклад жизни и взаимоотношения людей были еще старые. Лет десять спустя и следа не осталось от всего этого. Основной чертой этих взаимоотношений, особенно между помещиком и окружающим народонаселением, была удивительная простота и какая-то близость друг другу. В этом отношении я часто вспоминал впоследствии манеру деда моего говорить с простыми людьми и ответы последних. В смысле простоты жизни могу указать на факт, который впоследствии меня удивлял: на всю громадную Тростянецкую усадьбу был один сторож Иван Коршун, старый солдат, участник Крымской войны. Наружные двери в домах на ночь вряд ли запирались, и я никогда не слыхал, чтобы что-либо произошло вроде всех тех безобразий, которые были впоследствии, с одной стороны, присутствие в имениях стражников в лице каких-нибудь кавказцев, с другой, воровство и поджоги и т. п…
Тростянец, благодаря деду, являлся центром местной жизни. Каждый четверг к обеду в 2 часа дня съезжались все окрестные помещики, и крупные, и малые. Мы, дети, на этих обедах тоже присутствовали и всей душой ненавидели их, так как сидение за столом затягивалось на долгое время, а мы скучали. Но теперь, вспоминая типы помещиков, которые появлялись на; эти собрания, мне все это кажется занятным. После обеда садились в гостиной и решали все местные дела; тогда земское дело было еще что-то новым, и все с увлечением спорили, некоторые сочувствуя земским начинаниям, другие находя, что раньше было лучше.
Из важных панов вспоминаю Григория Павловича Галагана, члена Государственного Совета, обладателя громадных имений и величественной усадьбы в 12 верстах от Тростянца — Сокиренец.
Другого соседа; тоже в 12 верстах от нас — Василия Васильевича Тартовского, известного собирателя украинской старины, впоследствии перешедшей в Черниговский Музей. Усадьба его и парк в Качановке занимали площадь в 600 десятин. Старинный дом-дворец, построенный Румянцевым по рисункам Расстрелли, сохранил всю типичность стиля расстреллевских строений. Очень жаль, что в 1900-х годах, когда Василий Васильевич продал это имение Харитоненкам, последние своими перестройками дома сильно изменили первоначальный стиль.
Но эти соседи, из крупных панов, приезжали не так часто, обыкновенные заседатели были ближайшие соседи, и тут встречались пре-курьезные типы: чего стоил, например, Павел Петрович Зоц, говоривший исключительно по-украински, или, как тот/та говорили, по-малороссийски, остриженный так; как в старину стриглась украинская старшина, неизменно с громадным чубуком в руках, или во рту, подобный же ему тип Сен-Лоран, очевидно, потомок какого-то французского эмигранта, которого звали, уже искалечив его фамилию, Селегран; братья Орловские-Барановские, бесконечная масса различных Милорадовичей, Иполит Михайлович Маркевич, ближайший сосед, бывший гусар, крутила, хороший ездок и охотник, но из ряда вон плохой хозяин, за последнее он поплатился, так как детям его достались лишь объедки из его когда-то довольно крупного состояния.
Вся эта компания. спорила, шумела, а затем рассаживалась за карточными столами. Играли в яролаш. Мой дед тоже любил играть в карты. Так длилось до вечера, когда часов в 7–8 подавался ужин. К 10 часам гости разъезжались, а дед шел спать.
Помню, что вставал он всегда очень рано, не позже 5 часов утра. Поэтому позже 10 часов вечера все никогда не засиживались.
Кроме приезжих гостей, дед любил, чтобы у него всегда было много приезжих на долгий срок. Поэтому вся усадьба всегда была населена всякими приезжими. Усадьба состояла из большого деревяного дома, довольно оригинального стиля: одноэтажный, с приклеенными к нему двумя большими, скорее готического стиля, башнями. Этот дом был старый, построенный из прекрасных дубовых балок. Дед собирался всегда его срыть и построить новый каменный, цо так ни он, ни моя мать, ни я не исполнили этого. В этом старом доме были парадные комнаты и одна лишь спальня, в которой жил дед.
К этому дому примыкала большая пристройка, двухэтажная, скорее наподобие шотландских замков, тоже с большой башней; была система коридоров в каждом этаже, к которым примыкали отдельные апартаменты. Затем вокруг большой pclou.sc[82], перед старым домом располагались очень красивые каменные флигеля различных стилей, таких было четыре, один был кухонный, два для гостей и один большой для служащих, прачечной и т. п. В пристройке жила наша семья, гувернеры, гувернантки, а вот в гостевых флигелях было полно, как в яйце. Тут были приезжие гости. Большинство были различные артисты и художники, приезжающие на долгие месяцы. Были среди них и выдающиеся люди, достаточно сказать, что у деда подолгу живал Николай Николаевич Ге, один из очень крупных художников того времени, в музее императора Александра III находятся несколько из его картин. Николай Николаевич Ге, кроме художества, был толстовец или чем-то в этом роде. Помню его бесконечные споры об писаниях Толстого, в то время только что перестраивавшегося с беллетристики на духовно нравственное свое учение. Ге переписал всю нашу семью. Большинство этих портретов, кажется, сохранились, так как попали в Киевский Музей теперь, во время революции.
Помню также выдающихся музыкантов, братьев Зарембо. В Тростянце и дед, и все остальные жители страшно любили музыку. Вообще, все пребывание в Тростянце мое связано с миром звуков: постоянная игра на фортепиано, трио и квартеты струнные чередовались изо дня в день. Я очень любил музыку и старался всегда не упустить случая послушать музыкантов. В смысле общего музыкального развития это Тростянецкое пребывание, несомненно, имело для меня в жизни большое значение, могу сказать, что после уже в жизни не приходилось больше находиться в такой постоянной музыкальной обстановке.
Во все большие летние праздники нас возили для слушания литургии в церкви окрестных сел. Обыкновенно для этого запрягалась большая линейка, которая вмещала до 21 человека, кроме кучера: по 8 с каждого боку, 2 человека на передних козлах, около кучера, и 3 человека на задних козлах. Впрягался для этого шестерик с форейтором. Мы обыкновенно ездили или в Васковцы, или Бережовку, редко в Ярошовку, отстоявшую от Тростянца уже более 8 верст. С вопросом церкви при моем деде было неладно. Дело в том, что в парке, невдалеке от дома, была построена дедом прелестная каменная церковь, в особенности внутренность церкви всегда прельщала всех посещавших ее. Церковь внутри была отделана в выдержанном стиле Людовика XV, голубая, с вызолоченным резным деревом. Все было готово до мельчайших подробностей для ее освящения. Прекрасный посеребренный металлический престол украшал алтарь. Для выяснения подробностей освящения был приглашен священник одного из окрестных сел. Он по приезде был запрошен к деду в кабинет. Иван Михайлович вел с ним беседу несколько часов. О чем говорилось — неизвестно. Священник уехал. Немедленно дедушка приказал все разложенные в церкви священные предметы убрать, церковь запереть и больше не возбуждать вопрос об ее освящении. Церковь простояла неосвященной 35 лет, и лишь тогда, когда после смерти деда Тростянец перешел к моему брату и ко мне, моя мать, наша опекунша, торжественно освятила ее. Церковь была построена в 60-х годах и освящена в 1891 г. Что побудило деда так сделать — осталось тайной. Из моих расспросов ближайших свидетелей я вынес впечатление, может быть, ошибочное, что священник произвел на деда очень неприятное впечатление и ввиду того, что дед вообще не был склонен любить духовенство, он не захотел с ним связываться. Его нелюбовь к лицам духовного звания не мешала ему вообще быть религиозным человеком. Я помню, как он поражал многих из своих собеседников темп глубокими познаниями о вопросах теологических и длиннейшими цитатами из священных книг наизусть, к которым он иногда прибегал во время споров на религиозные темы. Но, очевидно, религиозные убеждения деда не вполне укладывались в рамках того православия, которое предписывалось Российским Священным Правительственным Синодом.
Дед мой скончался в феврале 1887 года, 83 лет от роду, т. е. тогда, когда мне было 13 лет; конечно, я по собственным воспоминаниям не могу дать себе отчет об личности деда, но, насколько мне память не изменила и насколько я вспоминаю обрывки некоторых разговоров с ним и о нем с людьми, которые близко его знали, дед мой представлялся всегда как очень образованный и очень волевой […] свои, которые не совпадали с правительственным курсом, но это отнюдь не значит, что он принадлежал к столь известному типу русского интеллигента; если можно так выразиться, это был тип просвещенного консерватора в английском духе. У деда была прекрасная манера говорить с детьми. Он говорил с нами на понятные нам темы, но как со взрослыми, и старался внедрить нам желаемые им понятия не в форме менторских нравоучений, а в форме простого обмена мыслями, причем, очевидно, он считал, что одним из главных воспитательных достижений по отношению к ребенку должно быть развитие в нем волевых способностей, а затем выработка сознательного отношения ко всем явлениям. В первом случае делал дед так: например, помню, мы с ним идем по фруктовому саду. Садовник дает мне несколько прекрасных груш. Я, конечно, собираюсь одну съесть. Дед обращается ко мне и говорит: «Если ты хочешь впоследствии, когда ты будешь большой, быть человеком, которого другие будут уважать, ты должен не делать то, что тебе подсказывает твой живот, а то, что подсказывает тебе твой ум, и постоянно себя в этом упражнять различными способами. Вот у тебя груша, тебе приятно ее съесть, а ты скажи себе — нет, я ее теперь не съем, а съем сегодня вечером или совсем не съем, а подарю ее брату. Если ты постоянно будешь в мелочах так делать, ты себе разовьешь волю, и тебе это в жизни очень пригодится. Человек, у которого нет воли, не человек, а тряпка, он никогда ни на что способен не будет, хотя, может быть, будет и образованный и добрый».
Второй принцип. Я деду что-то рассказываю, идет дело о лошади и собаке, дед меня останавливает вопросом: «Скажи, пожалуйста, какая разница между собакой и лошадью?». Я смущен, постепенно, путем навождения с его стороны я устанавливаю разницу между лошадью и собакой. Так как такие вопросы очень часто при разговорах с ним повторяются, я начинаю и сам себе ставить подобные вопросы. Думаю, что этот прием далеко не глупый для развития в ребенке известной точности в процессе думанья. Первые украинские впечатления мне навеяны в доме моего деда. Но тут нужно ясно установить, каковы они были. Украина понималась как славное родное прошлое, но отнюдь не связывалась с настоящим, другими словами, никаких политических соображений, связанных с восстановлением Украины, не было. Моя вся семья была глубоко предана российским царям, но во всем подчеркивалось как-то, что мы не великороссы, а малороссияне, как тогда говорилось, знатного происхождения. В доме всюду висели старые портреты гетманов и различных политических и культурных деятелей на Украине, было несколько изображений старинных «Мамая». Украинские песни постоянно пелись в доме. Очень уважались бандуристы, певшие свои думы, причем дед их всегда щедро награждал. В доме получалась «Киевская Старина», читались и обсуждались книги Костомарова и других украинских писателей. Висел между гетманами портрет Мазепы, столь ненавистный всякому русскому, в доме ему не преклонялись, как это делают теперь украинцы, видя в нем символ украинской самостийности, а молчаливо относились с симпатиями, причем только возмущались, что до сих пор в соборах Великим постом Мазепу предавали анафеме, и смеялись над нелогичностью, что в Киеве одновременно в Софийском соборе Мазепу предают анафеме, а в Михайловском монастыре за него, как за создателя храма, возносят молитвы об упокоении его души. Строго держались старых украинских обычаев не только в домашнем обиходе, но старались придерживаться и в религиозных обрядах, там, где старые украинские разнились с новыми русскими. Как пример, могу указать следующее: при крещении по старому украинскому обряду младенца священник не окунает, как полагается по русскому обряду, а лишь обливает святой водой. При рождении моей сестры Елизаветы 9 июня 78 г. в Тростянце, дед с полного согласия моих родителей просил священика новорожденную не окунать, а обливать, что и было исполнено. Помню потом, в Тростянецком доме в одной из гостиных стояла большая плоская мраморная ваза, и на ней серебряная дощечка с надписью по-славянски: «В этой чаше была крещена тогда-то (даты не помню) Елизавета Скоропадская, Обливанка».
Дед хорошо говорил по-украински, а нас украинскому языку не учили специально, но украинские книги читать давались.
Одним словом, политики не было, по все украинское было нам дорого, и за него держались. Помню, когда наступала осень, мы переезжали в ранние годы моего детства сначала в Брезгуновку, имение моего отца под Стародубом, а потом, к зиме, и в самый Стародуб, где оставались до весны. Позднее в Стародуб мы не ездили, а на зиму переезжали в другое имение моего отца Сафоновку. Но бывало и так, что мы только весну проводили в Тростянце, а на лето и осень оседали в Волокитине, имении моего деда Андрея Михайловича Миклашевского. Для того, чтобы дать понятие, полную картину моего раннего детства и различных влияний мест, где мы с семьей пребывали, а также влияний на меня, мальчишку в возрасте от 5 до 12 лет, моих родителей-родственников и других людей, я принужден остановиться несколько на описании нашей жизни и в этих имениях. Вообще, все мое детство протекало в переездах со всей семьей и домочадцами из одного имения в другое. С 5 до 12 лет я никогда, кроме Стародуба, где был 2 раза всего лишь несколько дней, никакого другого города не видел. В те годы, когда семья заживалась в Тростянце до самой весны и переезжала в Брезгуновку, обыкновенно переезд совершался таким образом. Вся обстановка переезда нас, детей, очень занимала. Начиналось с того, что задолго до отьезда приносилось бесчисленное множество сундуков всяких покроев и величин. Начиналась укладка; чего только не брали с собой. Гувернеры, гувернантки, учителя, лакеи, горничные суетились целыми днями. Казалось, что переезжала не семья, а целый большой пансион. Мы, конечно, всему этому были очень рады, так как уроки прекращались на это время. Накануне отьезда служился дома молебен, а на следующий [день] рано утром подавались экипажи и при трогательном прощании деда и всех обитателей Тростянца трогались в путь. Нас, детей, сажали в дормезу. Настроение с этого момента до приезда на станцию Дмитровка (потом переименована в Рубанку) Либаво-Роменской жел. дор. у меня портилось; во-первых, в этом дормезе набивалось так много народу, что там дышать было нечем, кроме того, внутри он был отделан кожею, которая, как все старые кожи, издавала, по крайней мере для меня, отвратительный запах, наконец, дороги в конце октября месяца и в ноябре на Полтавщине отвратительны, и если была гололедица, что обыкновенно И бывало, то в дормезе с его большими рессорами получалось укачивание подобие качки лодки, а это давало некоторым из обывателей дормеза морскую болезнь. Проехавши эти всего 18 верст до Дмитровки, мы радостные выскакивали из экипажа, зная, что временно конец нашим мучениям. В Дмитровке садились в поезд. Туг, конечно, всегда не обходилось без инцидентов: или терялся чемодан кого-нибудь из едущих, или кто-нибудь из воспитателей ссорился с гувернанткою и моей бедной матери приходилось много нервов тратить для приведения в спокойное состояние всей этой компании. Поездом ехали до станции Городки. Здесь снова подавались экипажи вроде Тростянецких, высланных отцом из Брезгуновки. Снова нас законопачивают в карету вроде Тростянецкого дормеза, лошади были почтовые в пашу карету допотопную. Впрягали шестерик, от Городка до Брезгуновки 130 с чем-то верст. Ехали два дня с ночевкою на одной из почтовых станций. Еду всю везли с собой, мы же, дети, ели целую дорогу, так как Тростянец на дорогу снабжал нас бесконечным разнообразием всяких пирожков, мариновок, фруктов и т. п. Все это везлось в карете и отравляло еще больше воздух. Типичные в России были эти почтовые станции с их смотрителями и всем бытом. Вот уже поистине учреждение, которое на протяжении, я думаю, сотен лет не подвергалось никаким новшествам времени. Особенно типична была комната для приезжих. Диван и несколько стульев, обитых клеенкой, большой стол. Неизменные олеографии, изображающие какие-то неизвестные виды, также олеографические портреты на стене, посередине царствующего императора и неизменно на степе, на видном месте, в раме, расписание блюд, которые можно получить на станции, с указанием цен. Конечно, что в случае, если бы кому-либо пришла в голову мысль заказать что-либо, вероятно, кроме чайника с горячей водой, он бы не получил, но в расписании всегда на всех станциях российской империи стояли, например, такие блюда, как «почки в мадере». Много лет спустя, едучи по большому почтовому тракту в Восточной Сибири от станции Раздольной до Новокиевска, я на одной почтовой станции вспомнил про почки в мадере, указанные в расписании блюд, конечно, и там висевшем на стене, обратился к смотрителю с предложением дать мне на закуску эти почки. Старик прямо рассердился и в довольно невежливом тоне заявил мне, что он уже тридцать лет смотрителем, но что ему никто не позволит себе подобных блюд заказывать.
К вечеру мы все приезжали в Брезгуновку. Кроме нашей пресловутой кареты, была другая, маленькая, в которой ехала обыкновенно моя мать с кем-либо из взрослых. Она ненавидела так же, как и мы, дети, наш рыдван, а затем уже сзади катил большой фургон с лакеями и большим багажом, не вмещавшимся в передних экипажах.
Брезгуновка принадлежала моему отцу. Это было преимущественно лесное имение, был значительный винокуренный завод. Имение в те времена только обстраивалось. Одноэтажный небольшой каменный дом, с какими-то немецкими готическими прибавлениями, в виде башенок, небольшой сад, окруженный сплошной каменной стеной. Единственно, что мне правилось в Брезгуновке, это конюшня, тем более, что у отца было несколько хороших верховых лошадей. Я в Брезгуновке все свободное время проводил на конюшне, завевши большую дружбу с наездником отца моего поляком Михайлою. Из брезгуновских впечатлений, врезывавшихся в мою память, особенно сильным был ночной вой волков. Леса подходили совсем близко к усадьбе, и с наступающим вечером ежедневно начинался волчий концерт, который продолжался до рассвета. Нас, детей, эта музыка волновала. В Брезгуновке мы оставались недели две и перезжали в Стародуб, где мой отец в то время был уездным предводителем дворянства.
От брака моего деда Ивана Михайловича Скоропадского с Елизаветою Петровною Тарновскою у него было трое детей: Елизавета Ивановна, вышедшая замуж за Милорадовича, известная своей деятельностью на украинском культурном поприще, Наталья Ивановна, оставшаяся в девицах, жившая большую часть своей жизни в Париже, где и умерла, и мой отец, Петр Иванович, родившийся в 35-м году прошлого столетия. Воспитание он получил сначала домашнее, затем, окончивши школу Гвардейских Юнкеров, был выпущен корнетом в Кавалергард-полк 7 августа 1857 г., еще в царствование императора Николая Павловича. Служил несколько лет в полку, затем в феврале 1863 года был по высочайшему повелению назначен состоять в распоряжении командующего Кавказкой армией великого князя Михаила Николаевича. На Кавказе он принимал деятельное участие в военных действиях по замирению Кавказа. В 1864 году, будучи в составе Даховского отряда, сформированного для действий против горцев племени абадцехов и убыхов, командуя бригадой, отличился и был награжден уже в чине полковника золотым палашем. Но в 65-ом году он вышел в отставку и всецело отдался службе по выборам. Занимал различные должности в земстве, а с 69-го года неизменно состоял стародубским уездным предводителем дворянства до самой своей смерти 28 июня 1885 года. Военная служба улыбалась моему отцу, он любил ее и, собственно говоря, я убежден, что он поступил бы правильнее, если бы продолжал свою военную карьеру. Военное дело было его призванием. Но он женился тогда, в эпоху великих реформ императора Александра П. Конечно, всеобщее настроение нашло живой отзвук в душе моего отца. Он, еще будучи на службе в Кавалергардском полку, был временно откомандирован для участия в межевых комиссиях и для участия в различных трудах по освобождению крестьян. С уходом же из военной службы он всецело отдался службе по выборам, и отдался ей совершенно бескорыстно, исключительно из-за принципа, забывая все свои служебные выгоды. Это было красиво, но думаю, что ему это не дало счастья. Я помню, что он неоднократно в разговорах выражал сожаление о брошенной им военной службе.
Кроме того, нужно сказать, что он не был подготовлен предыдущей своей жизнью к жизни в деревне и непосредственному хозяйничанью. Тогда сельское хозяйство в России переживало переходную эпоху, и нужно было быть хозяевами, как мои деды, для того, чтобы уразуметь, какие необходимы реформы в хозяйстве, для того, чтобы хоть частично сберегти свое имущество. Отец того не понял. У него были все какие-то широкие планы, требующие траты непосильных сумм, в результате был полный крах всего его состояния.
Лично отец был в полном смысле блестящим человеком, причем внешность его соответствовала его умственным и духовным качествам. Он был очень красив, прекрасный оратор, он всегда увлекал дворян на всех губернских собраниях своими речами. Его любили и в Петербурге, к нему относились с большим уважением, предлагая ему различные высокие посты, от которых он неизменно отказывался. Может быть, предпочитая быть «первым в деревне, нежели вторым в Риме».
Он был женат на Марии Андреевне Миклашевской. От этого брака у него было трое детей: Михаил, родился 5 мая 1871 года, я, Павел, родился 3 мая 1873 года, и Елизавета, родившаяся 9 июня 1879 года. Жизнь между супругами была дружная, по отец в большинстве случаев был не со своей семьей. Постоянные разъезды привели к тому, что мы, дети, мало его видели, и фактически он не много влиял на наше воспитание. Единственно, в чем, может быть, я ему немного обязан, — это в предопределении себя для военной службы. В редкие свои приезды к семье я слышал многое о его прежней военной службе, он с увлечением рассказывал о своей службе в полку, очень увлекательно описывал свои походы на Кавказе, конечно, все это не могло не отразиться на мне, и после каждого его приезда я все более подумывал о том, что когда вырасту, то буду военным.
В Стародубе отец занимал большой каменный дом купца Гусева, старообрядца. Во дворе были казармы, и там помещались какие-то военные команды. Я, конечно, в скором времени познакомился с некоторыми солдатами, с восторгом слушая их рассказы обо всем военном. Моей радости не было конца, когда один из унтер-офицеров на приглашение моей матери начал мне давать уроки гимнастики. Мои родители ввиду должности, занимаемой моим отцом, приглашали к себе все уездное общество, поэтому естественно, что и нас знакомили с детьми нашего возраста, принадлежавшим к тому же обществу. Дети председателя окружного суда Мальте, воинского начальника Маслова, а также окрестных помещиков приезжали к нам, а мы к ним. Странная вещь, что потом за всю жизнь я, кроме графов Гудовичей, никого из этих детских знакомств более не встречал и не слыхал, что со всеми ими стало. В Стародубе собственно началось уже более или менее серьезное обучение мое. До приезда в Стародуб у меня все были учителя дилетанты, вроде васьковецкого батюшки, о кагором говорилось выше, а затем семинарист Николай Павлович Барановский, здесь же нам давали уже серьезные уроки учительница по призванию и с хорошей; подготовкой Анастасия Кирилловна Ольденборгер. Одновременно с этим меня передали из рук англичанки мисс Эмс в руки гувернера, Viconte Reboul de la Rocheblanc. Мисс Эмс осталась при моей недавно родившейся сестре, причем у меня связано с ней воспоминание о довольно странной, по для меня постыдной истории. Я мисс Эмс страшно любил, и вот в один прекрасный день она получает известие от своих родственников, что ее брат очень болен и что поэтому почему-то отец ее требует ее возвращения. В то время не так легко было даже для иностранной подданной добыть выездную из России визу. Начались хлопоты, я, хотя всего мне было лет 8, сообразил, что без визы уехать от нас мисс Эмс не сможет. Созрел один план — так или иначе уничтожить визу, так как отъезд ее для меня, так ее любившего, представлялся совершенно недопустимым. Помню, что был все время хлопот ее об отъезде совершенно болен, исхудал и вечно плакал, все окружающие не знали, что со мной делается, и предполагали свезти меня в Киеве показать какому-нибудь знаменитому доктору. Я все время упорно молчал. Наконец, пришел паспорт с визой. Мисс Эмс начала укладывать свои вещи. Я грустно наблюдал за ее работой. Я уже знал, что паспорт вроде книжечки, по фактически никогда не видел паспорта, поэтому в длинном разговоре с ней так, чтобы не обратить ее внимания и не возбудить подозрения, я добился, чтобы она мне показала паспорт, а затем безустанно следил за тем, куда этот паспорт будет положен. Наконец, накануне дня ее отьезда я заметил, что она положила паспорт в сундук, причем прихлопнула крышу, но сундук не заперла, а затем вышла из комнаты. Я счел этот момент удачным для действия, поднял крышку, захватил паспорт, положил в карман и продолжал спокойно сидеть в комнате. Тут я пережил очень тяжелые минуты, будет ли мисс Эмс снова перекладывать куда-нибудь паспорт или нет. Она вернулась в комнату, долго говорила со мной о посторонних вещах, подошла к сундуку и, не поднимая крышку, заперла сундук. Я был спасен. Посидевши еще несколько в комнате, тихонько вышел и запрятал паспорт в темном коридоре под массивным шкапом. На следующий день встал на рассвете, как тать, выбрался вон из дому, привязал к. паспорту веревку с одного конца, с другого большой камень; спустился к реке Сейму, который протекал около самого Сафоновского дома, и бросил все с размаху в реку, а затем тихонько вернулся домой и лег в кровать. Днем мисс Эмс должна была уехать, все ее провожали у крыльца, вдруг мать моя ее спросила: «Где ваш паспорт», — «В сундуке». — «Держите его лучше при себе». Открывают тут же стоящий сундук. Нет паспорта. Без паспорта ехать нельзя. Расследование. Я в слезах сознался во всем. Из-за этого мисс Эмс еще три года осталась в нашем доме, так как через несколько дней пришло письмо, что брат ее поправляется и что отец в ней не нуждается. Через три года уже я спокойнее вынес разлуку с ней, так как надо мной уже властвовал Reboul.
Его стоит вспомнить. Мне было 7 лет, когда он появился в нашем доме. Подробностей его приглашения к нам не знаю. Кажется, что с ним договорился мой дед Андрей Михайлович в бытность свою в Париже. Его появление в доме, произошло при довольно курьезных обстоятельствах. В Тростянце как-то летом приходит к дому крестьянина и заявляет, что привез со станции не то сумасшедшего, не то немца и что он сидит на возу у него, который он остановил у ограды парка. Кто-то отправился посмотреть на сумасшедшего и к удивлению застал там элегантного господина, который, очевидно, был вне себя, выкрикивал какие-то отдельные слова, французские ругательные слова, и, видимо, совсем потерял всякое самообладание. После долгих распросов выяснилось, что он Reboul, ездит уже два дня по разным местам и что он не знает, что ему делать, так как фамилию забыл, чьих детей он должен воспитывать, что он ни слова не говорит en cclte sacrec langue, qu'on nommc le russc[83] и что он хочет вернуться в Париж, но что у него нет достаточно для этого денег. Его успокоили, объяснив, что он приехал к месту назначения, и объяснили, что он сам виноват, что не знает фамилии, к кому он был приглашен.
Он сразу успокоился, стал очень любезен, а когда вошел в дом, сразу в очень умной тираде на прекрасном французском языке заявил моей матери, что «Vous vricz commcaurait du vricz mon pauvrc roi que ccs sacrds republicains nc vculcnt pas avoir»[84]. Monsieur Reboul, как его попросту у нас звали, оказался очень порядочным человеком и прекрасным преподавателем французского языка. Он был француз старой школы, по убеждениям заядлый Orlcanislc. Ненавидел Gamlеlta, имени которого слышать не мог, что всем и всюду заявлял при всяком удобном и неудобном случае. Сразу поставил дело изучения нами французского языка на правильную дорогу. Надоедал нам тем, что ко всякому празднику писал на соответственную тему стихи, которые потом заставлял нас учить наизусть и публично декламировать. Помню, что одно стихотворение начиналось так:
Jc suis Popaul qui commence son 6colc[85]Отбросив стихотворные упражнения и связанные с ними неприятности для выучения их нами наизусть, мы, дети, Monsieur Reboul очень любили. Через некоторое время приехала «ma femme ador5c та pauvrc Cladi»[86]. Это была очень милая женщина, по с наружностью, которая, несмотря на то, что муж ее заявил, что он ее adore, несколько нас, детей, поразила, особенно тем, что у нее были большие усы и баки. Они оба остались у нас очень долго. Было время, когда они от нас уходили, но потом снова воцарились. Последний раз была уже Madame Reboul одна для моей сестры. В конце концов, пробывши у нас лет 6, они ушли и поселились в Москве, где эта чета пропустила через свои руки целый ряд поколений, всеми ими очень уважаемая. Последний раз я встретил Reboul'а в Москве, только что поженившись, и представил ему мою жену. Помню, какое впечатление он произвел на Алину своим Приветствием, обращенным к ней. Я забыл ее предупредить, что Reboul не говорит просто, как все люди, а всегда декламирует, и вот когда он ее впервые увидел, то приветствие его длилось по крайней мере четверть часа и развивалось по всем правилам ораторского искусства, с повышением и понижением голоса, со всякими сравнениями, метафорами и тому подобное. В конце концов, мы еле сдерживали смех свой, слушая всю эту белиберду, высказанную в очень изящной форме на прекрасном французском языке.
С приездом в Стародуб у Reboul'a, кроме прямых обязанностей, еще была и косвенная — это заняться пополнением вином погреба de Monsicus lc Marechal[87], как он торжественно переводил служебное звание моего отца. Винное занятие доставляло Reboul'y большое удовольствие, он выписал красное вино из Франции и объяснил нам разницу их качеств. Уже 8 лет я мог благодаря этому легко отличить бордо от бургундского. В особенности серьёзным делом он считал разливку из бочек в бутылки. Он тогда священнодействовал, и все это делалось вперемежку с цитатами из СогпсШс и Racine.
Все время пребывания в Стародубе нас обучали столярному ремеслу. Мы очень этим увлекались, кроме этого, давало нам возможность вести бесконечные разговоры со сторожем Тарасом, жившим рядом с помещением, где у нас стоял столярный станок. Тарас был старый солдат Крымской кампании. Несмотря на изуродованную снарядом руку, он любил без конца рассказывать нам свою жизнь на Малаховом кургане, и все это только способствовало моему с ним сближению.
Из крупных событий, которые врезались в мою память, — это было известие о смерти Александра II. Отец его очень любил и был взволнован этим известием, но на кого смерть императора произвела удручающее впечатление — это на Тараса. Он рыдал целый день, глядя на него, и я стал плакать, после долгих разговоров я выяснил причины рыданий Тараса: он себе вообразил, что со смертью Александра II будет снова введено крепостное право. Я хотя имел лишь смутное понятие, что такое крепостное право, на слово поверил ему и благодаря этому заплаканным явился на обед и на вопрос, почему я имею такой грустный и заплаканный вид, заявил, что это ужасно — снова будет крепостное право. После обеда отец и мать Тараса и меня долго убеждали, что все это страхи, сплошной вздор, с грехом пополам мы оба успокоились, и жизнь наша вошла в нормальную колею.
В детстве я провел всего 2 зимы в Стародубе, а затем нас с братом отправляли в Стародуб лишь недели на три весною или осенью для держания экзаменов при Стародубской прогимназии. Наш приезд совпал с целым рядом там празднеств. К открытию конской выставки был дан моим отцом целый ряд обедов по случаю приезда губернатора князя Шаховского и губернского предводителя дворянства князя Долгорукова, кажется, старшего брата князей Долгоруковых, сыгравших такую видную роль в российском кадетском движении. Все это меня очень интересовало, в особенности конская выставка.
Самое лучше время нашего детства, провел я в Волокитные Глуховского уезда Черниговской губернии, принадлежавшем деду моему с материнской стороны Андрею Михайловичу Миклашевскому. Имение это было универсалом Мазепы признано за предком моего деда стародубским полковником Михаилом Андреевичем Миклашевским. Я много ездил по Украине, и нахожу, что в смысле месторасположения это было одно из наикрасивейших имений. Прекрасный просторный деревяный дом в стиле Александровского Empire, с одной стороны лужайка, у лужайки знаменитая Волокитинская церковь, вся внутренность которой была отделана Волокитинским фарфором, и чудный вид на реку, пластичную реку Клевень, являющейся границей между Украиной и Великороссией, на целый ряд сел и вдалеке на город Путивль. С другой стороны тоже очень большая лужайка, на которой росли несколько прекрасных экземпляров дубов, тополей и каштанов и 2 прелестных флигеля для гостей. В одном жила моя мать, в другом — во время своих редких приездов — мой дядя граф Алексей Олсуфьев.
За лужайкой против дома начиналась длинная липовая аллея, у конца которой дед выстроил прекрасные каменные ворота с большим [въездом], что-то вроде средневекового стиля. Мы, дети, любили приезжать в Волокитино, так как встречались там с нашими двоюродными братьями Андреем и Василием Олсуфьевыми.
Владелец Волокитина мой дед Андрей Михайлович Миклашевский родился еще в конце 18 века, был женат на Дарье Васильевне Олсуфьевой и умер 97 лет от роду в 1895 году. У него были две дочери: моя мать Мария, родилась в 1839 году 15 мая, умерла в Петербурге ноября 1900 года, и Александра, вышедшая замуж за генерала графа Алексея Васильевича Олсуфьева. Она была статс-дама государыне императриц, умерла в Сан-Ремо в 1929 году. У Олсуфьевых было два сына, Андрей и Василий.
Андрей Михайлович был прямая противоположность моему деду Скоропадскому. Последний жил всегда у себя в имении, был человеком, интересующимся местными условиями жизни и местными людьми. Первый проводил в своем имении всего несколько месяцев, ведя чрезвычайно замкнутую жизнь. Все остальное время он проводил за границей, зимой обыкновенно в Ницце. Скоропадский был очень прост в своих привычках, очень неразборчив в своих знакомствах. Миклашевский, наоборот, будучи изысканно вежлив, одновременно был сух, с окружающими, знался только с людьми определенного круга. общества, ел только изысканные блюда, всегда безупречно одевался. В чем он был схож — это в том, что оба они были умными, образованными людьми и прекрасными хозяевами. Миклашевский получил образование в императорском Царскосельском лицее, поступил в лейб-гусары, дослужился лишь до чина штаба ротмистра. Затем, живя за границей и в Волокитине, занимался исключительно своими делами. Между прочим, создал еще при крепостном праве Волокитинскую фарфоровую мануфактуру, произведения которой были известны по всей России. Андрей Михайлович был чрезвычайно осторожен со своим здоровьем, мало ел, мало пил, постоянно посещал за границей выдающихся врачей для исследования состояния своего здоровья. Следил больше за тем, что делается в политической жизни Франции, нежели за тем, что происходило в России. Был западным человеком в полном объеме этого слова. Мы, дети, конечно, более любили деда Скоропадского, в детстве нас сухость Андрея Михаиловича пугала и отталкивала, к этому прибавлялось еще то, что, будучи сам умеренного образа жизни во всем, он требовал этого и от нас, например, Боже сохрани сорвать где-нибудь яблоко или грушу, а у Скоропадского деда было наоборот: кушай фрукты, сколько и когда хочешь. Нам, детям, конечно, это больше нравилось, а отсюда уже определялись все наши отношения по-разному к каждому из этих столь почтенных дедов. Не могу без волнения писать о моей матери. Идеальная жена и идеальная мать, с полным самоотвержением посвятившая всю свою жизнь родной семье. Жизнь ее, как будет видно далее, далеко не была счастливая, особенно во вторую половину ее жизни. Но мать всегда стойко переносила все несчастья, которые сыпались на ее голову, и сумела вырастить своих детей. Благородная добрая, энергичная, она боролась со всеми несчастьями с редкой для женщины мужественностью.
Моя мать получила прекрасное домашнее воспитание. Будучи еще девушкой, провела несколько зим в Париже, где и начала свои светские выезды. Вышла замуж за моего отца довольно поздно, 28 лет, и с этого времени, как я говорил выше, всецело жила в заботах, о своей семье.
Ее сестра гр. Олсуфьева была женщина другого склада души. И она была хорошей матерью, но свет и придворная жизнь ее сильно прельщали. Она была очень честолюбива и далеко не такой доброй, как моя мать. Сестры были дружны, но в то время как моя мать была всегда искренна в отношении к своей сестре, последняя на словах была воплощенным ангелом доброты, что часто в своих действиях по отношению к моей матери не вполне оправдывалось. Ее муж Алексей Васильевич был удивительным человеком в смысле умения разумно пользоваться жизнью. Он себе никогда ни в чем не отказывал, но все делал в меру. Я думаю, что в этом и был секрет, доставивший ему возможность счастливо прожить до 84 лет. Ему повезло даже со смертью. Он умер в 15-ом году, не видав ни поражения России, ни большевизма. Воспитание он получил в Пажеском корпусе, вышел в лейб-гусары. Командовал лейбгвардии Гродненским гусарским полком, дослужился до генерала от кавалерии. При этом был одновременно одним из лучших знатоков своего времени латинского языка. Его немецкие ученые цитировали как выдающегося латиниста за его комментарии к Ювеналу. Всегда веселый, жизнерадостный, остроумный. Я его очень любил, и думаю, что в жизни он имел на меня очень большое влияние. Его любовь к порядку, его работоспособность, а главное, умение распределять правильно свое время, черты, которые так не свойственны нам, украинцам и великороссам, у него были развиты в высшей степени. Поэтому он был так всесторонне образован, находя время для пополнения своих знаний, поэтому он занимался спортом, сохранил бодрость духа и тела до глубокой старости. В Волокитино он приезжал не часто, но когда бывал, мы, дети, всегда этому очень радовались. Его дети, наши двоюродные братья, были одних лет с нами. Четырем сорванцам было вместе очень весело; постоянные прогулки верхом, ежедневные купанья в Клевени, пикники в чудные дубовые окрестные Волокитинские леса до сих пор мне вспоминаются, как что-то заманчивое и радостное.
В Тростянце была простота, в Волокитине было все торжественнее и с известным этикетом. Самым торжественным днем в Волокитине считался день именин моего деда, 5-го поля, день св. Андрея Критского. За несколько дней садовник Т. одел гирлянды. В самый день торжества, еще лежа в кровати, я слышал гул от толпы крестьян, собравшихся около церкви в ожидании начала литургии. Затем начинался торжетсвенный выход. Из большого дома против церкви выходил дед под руку с одной из дочерей, за ним шли попарно обе семьи, воспитатели, тут же были и управляющие все дедовских хуторов и редкие гости. Обедня служилась очень торжественно, с сослужением всех окрестных сел, к которым примыкали имения деда. По окончании литургии, после многолетия деду, пропетого прекрасным Волокитинским хором, в таком же порядке, как туда шли, возвращались обратно. На дворе против церкви нас встречали звуками марша оркестра Костромского пехотного полка, специально для праздника выписываемого ежегодно из города Глухова, где полк стоял. Вся толпа Волокитинских крестьян, так же, как и соседних сел, были приглашены в сад, где начиналось угощение и разные увеселения. Лазание на столбы за призами, качели и тому подобное. Всюду немедленно составлялись группы для танцев под звуки то оркестра, то сельских скрипок. Все дети получали конфеты, работники и работницы — подарки. Праздневство длилось до вечера и заканчивалось большим фейерверком на лужайке со стороны сада. Хотя гостям давалось в изобилии вино, водка и мед, я в те времена никогда не видел каких-либо безобразий. Для нас, конечно, главный интерес представлял военный окрестр и затем вечерний фейерверк, в пускании которого мы в позднейшие годы и сами принимали живое участие.
Жили мы до весны, когда ездили сдавать экзамены в Стародуб. Путешествие это тоже делалось на лошадях (160 верст), или же в позднейшее время мы перезжали в Сафоновку, имение моего отца, подаренное ему Иваном Михайловичем в год рождения моей сестры Елизаветы. Имение было куплено в страшно запущенном виде. Мы проводили там же зимы в далеко еще не отстроенном доме. При имении был винокуренный большой завод. Единственно, что было очень красиво и приятно в Сафоновке, это то, что дом находился у самой реки Сейм, из дому спускалась к воде каменная широкая лестница.
Сафоновка оставила во мне печальное воспоминание. На этом имении лежала печать проклятия. Оно все переходило из рук в руки. Уверяют, что когда-то оно принадлежало какому-то помещику, который, умирая, сказал, что если его могила не будет содержаться в порядке, то никто из следующих владельцев имением не будет счастливым. Никто из прежних помещиков не занимался могилой покойного, не занимался и мой отец. И вот действительно, в 85-ом году, вечером, мы приехали в июне месяце на короткий срок из Волокитина погостить в Сафоновку. Помню день моих именин 29 июня, в то время, как мы купались в Сейме, нам принесли телеграмму от матери, которая была в Киеве при больном отце, с известием, что последний скончался 28 июня. Мы все, дети, немедленно были снаряжены в Киев под предводительством бывшего у нас тогда уже учителя Иосифа Игнатьевича Цехановича.
Цеханович был у нас учителем в течение нескольких лет. Как учитель он был неважный, но, будучи юристом по образованию, в период, который наступил после смерти моего отца, когда определилось, что дела отца остались в хаотическом состоянии, он в качестве представителя наших интересов проявил много энергии, конечно, уже с делом нашего образования не имел никакого соприкосновения.
Мой отец умер в Гранд-Отеле, как написано в свидетельстве о смерти, от болезни печенки. Умер 50-ти лет от роду в полном расцвете сил. Отпевание было в Георгиевской церкви в Киеве, а затем в сопровождении военной части, назначенной для дачи последних почестей покойному как кавалеру золотого оружия, траурный кортеж тронулся через весь Киев на вокзал. Помню, что была страшная жара и что с несколькими из сопровождающих знакомых сделалось дурно.
Перевозка тела покойного на железную дорогу, а затем по маршруту Сафоновка, Волокитино, Полошки, в 20 верстах от Волокитииа, имение моего деда Ивана Михайловича, Глухов и, наконец, Гамалеевский монастырь длилось несколько дней. Во всех имениях служились панахиды, и мы ночевали. От Глухова до Гамалеевского монастыря кортеж с телом покойного отца шел той же дорогой, как то было более чем 250 лет тому назад, с телом покойного гетмана Ивана Скоропадского, описанного в Диариуше Ханенко.
Гамалеевский монастырь построен гетманшей Анастасией Скоропадской и я с ужасом думаю о том, что делается теперь в этой тихой обители.
К вечеру мы прибыли в Гамалеевку, навстречу нам в лесу сосновом вышел весь монастырь: монашки впереди, послушницы позади, попарно, с зажженной свечей в руках. Был тихий вечер, вся обстановка и прекрасное пение клирошанок производило очень торжественное и художественное впечатление. Священники отслужили туг же, в лесу, литию, а затем весь кортеж, уже с телом отца, которое везли на катафалке, потянулся к монастырю под заунывный звон монастырских колоколов. На следующий день было отпевание. После отпевания отец был похоронен в Харлампиевской церкви.
Мне грустно все это вспоминать. Таким порядком я свез, кроме отца, свою сестру, мать и брата. Все они похоронены рядом в Харлампиевской церкви, там же, где похоронены гетман Иван и гетманша Анастасия.
На похоронах присутствовало много народу. Был и дядя Алексей Олсуфьев.
После смерти отца наша жизнь резко изменилась. Эти постоянные разъезды круглый год по различным имениям прекратились.
Осенью приехал государь Александр III в Киев. Мать с нами, детьми, поехала туда. Я впервые видел тогда государя. Меня, «не в пример другим», как было сказано в приказе, пожаловал государь пажем высочайшего двора». «Не в пример другим» в пожаловании было сказано потому, что в пажи зачислялись лишь дети или внуки генерал-лейтенантов, ни отец, ни дед мой не были ни генерал-лейтенантами, ни тайными советниками. Затем мы поехали всей семьей в Москву, где поселились вместе с Олсуфьевыми в доме Выробовых на Тверском бульваре. Решено было по моим знаниям подготовить меня в 5-ый класс классической гимназии. Учителем у меня был Сергей Васильевич Зенченко, имевший на меня очень большое влияние, не только хорошее, но, к сожалению, и в большой степени отрицательное, так как он первый дал мне ясно понять, что в жизни прекраснословие далеко не всегда вяжется с хорошими делами. Человек это был очень культурный и умевший всецело овладеть душой своих воспитанников. По убеждениям очень передовой, признававший в религии лишь нравственную сторону христианского учения и решительно отрицающий божественность Христа. Все его убеждения вкачивались в меня. Помню: 3 часа ночи, он лежит в постеле, я сижу около него, и он мне доказывает, что Бога нет. Слабо для воспитателя убивать в мальчике 12-ти лет веру в Бога, это, между прочим, впоследствии была одна из причин, почему я его перестал уважать. Но должен сказать, что наряду с этим все его поучения были глубоко нравственны, проникнутые любовью к ближнему, открывавшие широкие духовные горизонты и преисполненные моральной красотой. Я страшно им увлекался, он со мной мог делать, что хотел, я старался следовать его поучениям. Он мне казался недосягаемо высоким и чистым. Пробыл я в заведовании около года и потом уже мало с ним виделся. Каково же было мое удивление и разочарование, когда впоследствии я убедился, что все это лишь слова, на самом деле он оказался отчаянным карьеристом, чиновником-педагогом. Через дядю Олсуфьева он устроился преподавателем в женском институте. Страшно интриговал, чтобы добиться должности инспектора, вообще мало лестного с нравственной стороны я слышал от дяди, который за деятельностью Зенченко следил. Но чем я был особенно поражен лично, это его отношением с низшей братией, как он называл народ. Много лет спустя я случайно узнал, что Зенченко купил себе усадьбу в Путивле; так как Путивль был недалеко от наших имений, я заехал к нему. Застал вместо Зенченко-идеалиста сухого чиновника, бессомненно умного и образованного, но без всякой тени того идеализма, который так меня увлекал в детстве, и особенно меня поразило грубое и надменное обращение со своей прислугой. Ну, подумал я себе, вот они, слова. К сожалению, сколько таких типов было в старой России. Весь идеализм, вся прововедь любви и т. п. испарялись при получении первого гражданского чина; оставался бездушный формализм и принцип «что прикажете». Итак, мы в Москве.
Москва того времени еще имела свою старую дворянскую физиономию. Все эти Поварские, Никитские, Девичье поле были сплошь во владении дворянских семей. Центром был генерал-губернатор князь Долгорукий, гр. Олсуфьевы и его жена.
[Написано між 1935 — серпнем 1939 рр. — Ред.]
Олена Отт-Скоропадська Спогади мого дитинства
Коли 1936 р., отже, уже в часи нацизму, я пішла до останього класу Потсдамської гімназії, ми мусили написати твір на уроці німецької мови за назвою «Люди, яких я шаную». Мені пригадується, як багато моїх однокласниць добре таки злякалися цієї теми й довго сиділи, жуючи ручку, над своїми зошитами, щоб написати про якого-небудь поета або «великого фюрера». Для мене справа була цілком ясною, я лише виразила словами свої почуття до батьків. Твір писався майже сам собою. Я одержала за нього оцінку «дуже добре». Це була не моя заслуга, а мабуть, моїх прототипів.
Тепер мої українські друзі Попросили мене написати спогади про батьків, братів і сестер і, головним чином, про наше життя у Ванзеє, бо я тепер єдина це можу зробити, та ще, власне, про це так мало відомо. Пишу охоче тому, що я тепер у такому віці, коли частіше думаєш про минуле, своє дитинство і юність. Це не значить, що не сприймаю сучасності чи боюся майбутнього, просто все більше усвідомлюю, що моє життєве коло наближається до свого завершення. А потім, наше життя у Ванзеє я справді бачу як щось таке, що різко вирізняється на загальному фоні.
Минулого літа я знову кілька днів перебувала у Ванзеє і зустрічалася зі своїми давніми німецькими подругами, які протягом тривалого часу знали мій батьківський дім. Одна з них — моя найдавніша, у першу зустріч їй було чотири, а мені два роки, — сказала, що найважливішою подією її дитинства була наша сім'я, добра стара подружка, постійна супутниця мого дитинства. Інша, яка моїх батьків бачила лише кілька разів, згадувала про них як про коштовні, шановані ікони. Звичайно, для мене батьки не були іконами, а людьми з плоті і крові, дуже близькими мені. Я й сьогодні глибоко їх поважаю, точно так, як про це написала у своєму творі майже 50 років тому. То не лише любов і ніжність, які, природньо, має дитина до своїх батьків, а ще й справжнє почуття глибокої поваги. При цьому мої батьки не стоять на недосяжному для мене п'єдесталі, перед яким я, сліпо схиляючись, стою на колінах. Ні, цілком тверезо й навіть також критично поважаю в них велику людяність, яку вони собою втілювали для мене. Про це я спробую розповісти далі, але перш маю розказати про наше життя у Ванзеє.
Коли я тепер багато думаю про наше життя у Ванзеє, сягаючи найраніших своїх спогадів, у моїй пам'яті постають картини, епізоди, обличчя, що протягом років частково або повністю щезли. Я хочу дати не прикрашену оповідь про доброчинність моєї сім'ї, а чесно описати наше життя. Але це зможу зробити лише тоді, коли опишу так, як це знову оживатиме у моїх спогадах, що відчувала я, як мізинка роду, і як оцінюю тепер, досить немолода жінка, озираючись на прожите життя. Отже, це буде дуже особиста оповідь, і так чи інакше мова йтиме про мене. Про політику майже не говоритиму. Я її не терпіла, так як ще малою дитиною помітила, що клопоти батьків були переважно пов'язані з нею.
Мені було два роки, коли наша сім'я 1921 р. переселилася з Лозанни (Швейцарія) до Ванзеє. Уявіть: величезний сад, великий старий будинок з 15 жилих кімнат, просторими підсобними приміщеннями, наповнений членами сім'ї, якимись тимчасово проживаючими родичами, секретарями, нянею, прислугою. Всі дорослі люди. Данило, «лише» на 15 років старший від мене, був тоді ще в Лозанні у гімназії — і між ними мала дитина, яка між тим повзала поміж ніг.
Перші два роки у Ванзеє основною людиною для мене була няня Анна Василівна Шабуніна. Спершу няня була годувальницею моєї старшої на 21 рік сестри Марії. З того часу вона назавжди була пов'язана з нашою сім'єю. Як няня померлого брата Павла, вона разом з мамою, іншими братами і сестрами прибула в часи гетьманату до Києва й потім, пізніше, пережила авантюрну втечу звідти моїх братів і сестер. Тепер вона була моєю нянею й самовіддано турбувалась про мене. Але під її опікою знаходився великий пташник і дві свині, яких ми тримали. Мої батьки це «сільське господарство», власне, розвели саме для няні, оскільки вона на початку нашого життя у Ванзеє дуже сумувала за батьківщиною.
Я не була розпещеною. Ні в якому разі не була також основною постаттю в сім'ї, як, ймовірно, можна подумати, виходячи з сьогоднішньої манери виховання дітей. Я була нібито попутником у справжньому значенні цього слова, в'язла до того чи до іншого мешканця дому, бо жахливо цікаво, що роблять усі дорослі люди. Часом мене відправляли, тоді я шукала інше товариство або йшла до няні. Я росла цілком вільно. Залишена в спокої багатьма дорослими, гралася сама чи з найщирішою подругою в саду або просторій дитячій кімнаті.
При погляді в минуле у мене виникає таке відчуття, що часом забували про Моє там перебування, особливо тоді, коли няня постійно вже мною не опікувалася. Коли звучав великий дзвоник і всі домашні збиралися до столу в їдальні, мене часто зустрічали словами: «Де це ти, власне, була весь час?» Але насправді мене ніхто не шукав, тому в більшості випадків гралась з ляльками, або з подругою нишком сиділи десь за смородиновими кущами в саду.
Очевидно, це було особливістю нашої сім'ї. Кожен слідував своїм власним заняттям та інтересам. Я усвідомила це пізніше, вже школяркою і молодою дівчиною. Пригадується, що своїх братів і сестер ледве чи коли бачила в інтимній розмові між собою. До того ж, сфери їхніх інтересів також були різні. У перші роки життя у Ванзеє Данило і Маріка перебували ще в Лозанні. Данило ходив до гімназії, а Маріка вивчала медицину. Коли вони переїхали до Ванзеє, Данило навчався у вищій технічній школі і працював інженером у фірмі Сіменса. Маріка працювала асистенткою в університетській клініці в Берліні й погім вийшла заміж у Варшаву. Єлізабет переважно жила дома й з-поміж моїх братів і сестер найбільше про мене турбувалась. Вона читала мені українською мовою «Мауглі» Кіплінга. Єлисавета також працювала, правда, не постійно, на замовлення як скульптор-портретист. Обов'язки секретарки батька Єлісавета почала виконувати значно пізніше, після від'їзду 1937 р. Данила в Канаду і Америку. Сестра надовго залишилася у своїй кімнаті на верхньому поверсі будинку, яка також служила їй майстернею. Коли не моделювала, то писала чи займалася рукоділлям.
За обідом збиралися всі члени сім'ї. Але такого інтимного сімейного обіду, за яким кожен розповідав би про свої успіхи, у нас не було. Про особисті справи у нас не говорили. Майже постійно за столом були чужі люди. За довгим столом поруч мами справа і зліва сиділи мій хворий брат Петро і я, на перших порах няня, потім Єлисавета і стара англійка міс Стіффель, колишня гувернантка сестер мого батька, яку мої батьки у двадцятих роках викупили з Петербурга. На цьому кінці столу було тихо, тут мало розмовляли. На іншому, біля батька, трохи жвавіше. Там сиділи тості і постійний секретар батька — Сергій Михайлович Шемет. Про все, що б не дискутувалося, — тогочасні події, мистецтво, історія, говорили жваво і голосно. Часом бувало так, що батько вставав під час обіду, щоб щось уточнити у великому словнику Ларуса. Основною темою була політика, особливо українська. При цьому говорили гак темпераментно, що мама часто змушена була закликати: «Павлику, не так голосно». Секретар батька Шемет, який жив у нас роками майже як член сім'ї, своїми обмеженими поглядами постійно доводив його до білого кипіння. Вони завжди сперечалися, але попри все дружелюбно. Батько його дуже цінував, і Шемет був відданий йому. Батько часто казав мамі: «Шемет часом і справді нестерпний, але він чесний». Це для нього було найважливішим. Щодо дискусій, то вони відкрито і щиро висловлювали такі протилежні один одному погляди.
Мені ці вічні дискусії навколо української проблеми здавалися нудними. Такі слова, як більшовики, Петлюра, Грушевський, Липинський, Рада, Шептицький і тому подібне, були відомі мені з раннього дитинства, але я, звичайно, не знала їх взаємозв'язку. Коли мені сподобалось слово на слух, то я охрестила свого нового ведмедика «Петлюра», але за порадою мами перехрестила його у «Петрушку».
Для розмов з батьком постійно приходили люди, переважно українці, вони піднімалися у так званий кабінет. Часто ці розмови були такими довгими, що людей треба було запрошувати до столу. Тоді батько, десь за 10 хвилин до обіду, йшов до мами й казав: «Аліна, тут прийшов ще один» (у більшості випадків — двоє чи троє). Мама лише запитувала: «Скатертину?». Коли відповідь була ствердна, стіл швидко накривали, оскільки сім'я, як правило, обідала за столом, покритим білою клейонкою. Залежно від того, наскільки гості були добре знайомими, мій хворий брат обідав за столом, чи його годувала няня на кухні. В таких випадках з їжі не робили проблем, просто давали менші порції. Але, звичайно, ми давали справжні звані обіди.
Нижні приміщення нашого будинку були добре пристосовані для великих прийомів. З великого передпокою двері вели в кабінет батька і в продовгувату залу — ми назвали її кишкою. Помилково це приміщення під час термінового ремонту було обклеєне шпалерами кольору канарки. Власне, колір мав бути ніжно-жовтим, але недорогий ванзеєрський шпалерник одержав неякісні рулони шпалер і працював так швидко, що коли мама повернулася з покупками, весь яскраво-жовтий мотлох був наклеєний уже безповоротно. У залі було багато місця для сидіння. Оббивка меблів була добре зношена, але завдяки старовинним шафам і столам, багатьом картинам на стінах приміщення виглядало досить затишним. їдальня, обклеєна темноголубими шпалерами, з жовтими фіранками, гетьманськими портретами на стінах, була такою просторою, що за розсувним столом у середині кімнати вільно могли сісти аж 30 чоловік, або ж їли за маленькими столами, а посередині стояв великий буфет. Так чи інакше, великі звані обіди на 50–60 чолоиік відбувалися влітку й погім, якщо дозволяла погода, у саду.
При цих нагодах будинок гетьмана сяяв від блиску. Столи покривалися красивими камчатимг: скатертинами (я ще й сьогодні на свята користуюсь ними), був хороший посуд, тобто збережені, небиті тарілки, гарні бокали і фамільне срібло з гербом Скоропадських. Переважно стіл накривала Єлисавета, мама на перших порах прикрашала його квітами, але досить скоро ця справа була доручена мені. Я перейняла її у мами й робила з великим натхненням.
Звичайно, дитиною я не була присутня на цілком офіційних так званих «політичних» обідах. Не вважала їх цікавими, бо там майже завжди були присутні нудні чоловіки. Але на обідах з дамами, вже як школярці, мені було дозволено бувати, і це мені дуже подобалось. Подобалась смачна їжа, а особливо цікаві люди. Втім, під час званих обідів обслуговувались у нас всі інші мешканці дому, які не обідали за столом, включаючи й домашню прислугу. В меню завжди були ті ж блюда як для запрошених, так і для домашніх.
До нас приходили німці, росіяни, англійці, американці, французи. Часто за нашим столом упереміш звучали різні мови.
Звичайно, приїздило також багато українців з-за кордону й професори, які перебували в Берліні. Багато дипломатів, науковців, журналістів приходили постійно, деякі впродовж років, і ставали справжніми друзями. Інші з'являлися ненадовго й знову зникали. Ці, по суті менш офіційні, запрошення мали також переважно політичне підґрунтя. Коли після смачного обіду гості перебували в доброму настрої, батько запрошував людей, які його цікавили, до кабінету, щоб там обговорити з ними українські проблеми, що його хвилювали. Очевидно, саме так неформально і вирішувалось багато біжучих українських справ. Або ж присутні як гості іноземні журналісти зацікавлювалися українськими питаннями й потім публікували у своїх країнах відповідні статті. Гості, які залишалися в залі, доручалися моїй мамі. Зала була пожвавлюючим доповненням. Мама дуже вміло розпочинала розмову. Вона ставила здебільшого кілька цілеспрямованих питань, і потім розмова текла сама собою. Я в цьому плані багато від неї навчилась. Але то не завжди була «світська розмова». Згадую, наприклад, подружжя Казпакових, єгиптологів, які часто приходили до нас на так званий «стаффаж», тому що вони чудово володіли всіма мовами. Оповідання про бальзамування мумій зачаровували мене. Кожного разу, коли вони бували в нас, мене важко було змусити йти спати. Моїм великим другом був дядя Гігі, герцог Ліхтенберзький, давній приятель моїх батьків.
Він часто, до самої смерті (помер від пухлини горгані), приїздив до нас з Мюнхена. Йому завдячую своїм першим шоколадом, що, звичайно, не забувається.
Я добре пам'ятаю про відвідини генерала Гренера. Він був уже тоді зміщений з посади міністра оборони й повернувся разом з дочкою жити у Потсдам. Він приходив не на «політичні» обіди, а цілком приватно, як друг сім'ї. У більшості випадків приходив на чай і залишався до вечері, гуляючи між тим у саду з моїм батьком. Він пристрасно любив мариновані гриби, які чудово готувала наша няня. На цьому грунті ми і здружилися. Крім того, мама подарувала йому кошеня нашої ангорської кішки Муллі. Кожного разу я питала його про самопочуття кошеняти й розповідала йому про інших кошенят. Старший пан (він не був набагато старший за мого батька, але вигляд мав старішого) ласкаво погоджувався слухати мої історії. Батько щиро ставився до Гренера. їх ще пов'язував спільно проведений час на Україні. Я думаю, що Гренер багато допоміг батькові після його приїзду до Німеччини. Пригадую, як обурився батько тим, що генералу, котрий помер уже в часи нацизму, так мало було віддано почестей під час похорону.
Щоб не відхилитись від теми — у нас на «політичному» обіді незадовго до його вбивства був генерал Шлейхер. Це було весною 1934 р., мені тоді було майже 15 років.
Багато разів відвідувала моїх батьків спадкоємниця німецького престолу Цецілія. Її перші відвідини мене глибоко розчарували. Я чекала на казкову принцесу з короною і вуаллю, подібно як і моя дочка через 40 років у Оберстдорфі, коли сестра Єлисавета показала їй проживаючу там принцесу Рюс. Кронпринцеса була привітною, повною дамою з чорними круглими очима і буклями. Між нею і моєю мамою виникла особлива симпатія. Обидві жінки мали хвору неповноцінну дитину. Це об'єднує.
Наші тимчасові гості були дуже різними. Деякі з них завдавали моїм батькам великих клопогів. Я пригадую, наприклад, що наш далекий родич граф Мітя Олсуф'єв, ледве прибувши, зазнав такого гострого нападу апендициту, що його мусили оперувати у нас в домі. Один українець, що прибув з Америки, впав у шаленство й кинувся з ножем на бідного Шемета. Щоб його заспокоїти, мама всю ніч просиділа біля його ліжка, поки його наступного ранку не відвезли до клініки. Втім, він знову став цілком здоровим.
Незабутнє враження в моїй пам'яті залишив В'ячеслав Липинський. Він часто тижнями жив у нас, один або ж зі своїм секретарем Ципріяновичем, званим Ципочка. Липинського я трохи боялась. Від його худорлявого обличчя з палаючими темними очима мені було трохи не по собі.
Коли він бував у нас, домашнім наказувалося ходити навшпиньки, щоб не заважати гостеві. Багато годин батько дискутував з ним у кабінеті. У Липинського був монотонний, дещо високий голос (можливо, то був голос Ципріяновича). Батько часто гуляв з Лнпинським у саду. Коли під вечір ставало прохолодно, бувало так, що мама наполегливо кликала їх у дім. Липинський уже тоді був нездоровий, і прохолодне вологе вечірнє повітря не було для нього добрим. Я знаю, що батько пізніше часто відвідував його в Австрії. Мені здаегься, що Липинський до цього часу живе в маєтку Малому Вартенштейні, який належав нашій родичці Марії Василівні Васильчиковій. Я добре пам'ятаю, як батько, повернувшись з одних таких відвідин, сказав мамі: «Яке нещастя, цю геніальну людину не можна врятувати». Розрив з Липинським дуже засмутив батьків, а також братів і сестер. Такий на початку плідний політичний діалог був переведений ним в нераціональну, сповнену ненависті площину. Липинський писав листи з жахливими випадами, що дуже хвилювало мого батька. Батьки були глибоко вражені духовним розпадом цієї так важливої для них людини. Незважаючи на все те, що Липинський зробив моєму батькові, його ім'я і його твори високо цінувалися в нашій сім'ї. Але я хочу писати не про це, а про наше життя у Ванзеє.
Найбільше я любила великі прийоми, які ми давали досить регулярно, двічі-тричі на рік. Вони були для мене найвеселішими, і, звичайно, ніхто на мене не звертав уваги. 29 квітня (в пам'ять про день відновлення у Києві 29 квітня 1918 р. гетьманату) приходили українці — професори Дорошенко, Мірчук, Кузеля зі своїми дамами, студенти і ті, хто був ще в Берліні. Чоловіки переважали, і це мені було нецікаво. Правда, інколи приходили мала українська дівчина, дочка Мірчука, Ганеля [Іванна] і син Скоропис-Йолтуховських Василь — єдині українські діти, яких я знала. Але, на жаль, обоє були на кілька років молодші за мене, так що по відношенню до них я почувалась дуже дорослою. На день народження або ангела мого батька давали так званий «вінегрет», тобто званий обід для цілком мішаної публіки — німецьких і російських сусідів у Ванзеє, батькових полкових товаришів. Завжди були присутні українські професори Мірчук і Дорошенко, якщо він перебував у Берліні, а також Скоропис, Кужім і Коростовець. Крім цього — фінська журналістка Анна Норпа, велика шанувальниця моїх батьків і генерала Маннергейма, якого добре знала. Генерал був однополчанином мого батька.
Мені дуже подобалося, коли на цих званих обідах співали. Взагалі, музика в нашому домі відігравала велику роль. Батько був дуже музикальним. Молодим офіцером він навіть одного разу в аматорській постановці при царському дворі змушений був на короткий час замінити тенора. Коли було весело, він співав ще й тепер. Брат- Данило теж був всебічно музично обдарованим. Він одержав добру освіту й був непоганим скрипалем. Ще зовсім юним він навіть мав намір стати музикантом. Кожного дня перед обідом брат віртуозно фантазував за фортепіано і насвистував. На слух він міг грати все, хоча й не вчився грі на фортепіано. Крім того, у нього був чудовий баритон, але, на жаль, він не знав жодного тексту всіх тих арій, які співав. Розповідав, як з великим успіхом своїм німецьким друзям, які охоче слухали його спів, але були не дуже освіченими, проспівав довгу італійську арію на текст «Не плюйте у вагонах», що було написано у всіх італійських залізничих вагонах. Віц грав першу скрипку в академічному оркестрі і багатьох постійних струпних квартетах, які час від часу грали також і в нас. Приємні спогади дитинства — засипати в дитячій кімнаті під звуки камерної музики, які долинали здалеку.
Але найбільше я любила, коли українці співали хором. Якщо при цьому був заспівувач з глибоким басом, то це для мене було, паче рай на землі. Я завжди раділа задовго до настання Різдва і Паски, тому що тоді приходили так звані студенти, тобто просто молоді українці з колядою, на масляну, до розговіння, співали «Христос Воскресе». Це відбувалося спонтанно, без офіційного запрошення (але все ж попередньо повідомлялось по телефону, щоб ми могли все приготувати до зустрічі), і всі ми раділи з цього приходу.
Уже в останні роки війни, коли я була дорослою, незабутнє враження справило несподіване відвідання мого батька групою співаків київської опери, які прибули в Німеччину як «переміщені особи». Це були майже всі молоді люди з чудовими голосами. Вони співали годину й дуже зворушили нас.
Приблизно в цей час нас також відвідала київська капела бандуристів, але я їх сама не слухала, бо тоді вже працювала в Берліні, а з весни 1943 р. й жила там.
Завжди, коли в нас бували гості, я дуже захоплювалася мамою. її звичайний зовнішній вигляд був досить простим, майже убогим і недбалим, але в таких випадках вона ставала справжьою «гранддамою». Мама була здатна, якщо навіть за кілька годин перед приходом гостей працювала в саду як поденниця, за допомогою простих засобів перетворитися на блискучу красуню. Я любила співпереживати це чудо. Спітніла і втомлена, вона приходила з саду, заходила за ширму в спальні, милася холодною водою і знову одягала пеніоар. Втома зникала. Потім розпускала своє досить безладно заколоте волосся, закидала його назад і наперед і розчісувала такою жорсткою щіткою, якою можна було б чесати гриву коня. Іноді, коли було трохи часу, мені дозволялося, на моє велике задоволення, розчісувати волосся. Я відчувала, як волосся знову оживає. Потім пишні пасма зачісувалися назад й стягалися на потилиці великим вузлом. У скромній, власними руками пошитій сукні (ми тоді всі наші сукні шили самі), з перлами на шиї, які мама носила постійно, свіжою, рожевою шкірою обличчя, що досягалося лише холодною водою і дешевим милом, з сяючими темними очима і чарівною посмішкою мама головувала за столом. Я дуже гордилася нею й бачила, як наші гості, також і жінки, завжди захоплено дивилися на неї. Моя мама! Вона була дуже спокійною жінкою. Я пригадую, що за всі роки, від мого дитинства до смерті мами, я не чула, щоб вона розмовляла підвищеним тоном. Сторонній людині може здатися, що, мама була в тіні мого такого блискучого і натхненного батька. Насправді це було не так. Вона була цілком сильною і впевненою у собі особистістю. Незадовго до завершення нашого життя у Ванзеє, коли мама з Петром і Марікою переїхали жити уже в Оберстдорф, батько сказав мені: «Знаєш, без мами мене лише половина». І це правда, без упевненості, що мама знаходиться близько нього, він почував себе неспокійно. З часів мого раннього дитинства пригадую, як батько, коли повергався додому, відразу голосно гукав «Аліна, Аліна». Я чітко чую це ще й сьогодні. Коли мами, як виняток, не було вдома, на всіх мовах звучало: «Де моя дружина? Чому її тут немає?»
Між батьками було те справжнє партнерство, яке сьогодні так пропагується у шлюбі. Кожен залишав іншому навіть свій життєвий простір, не втручався, і, незважаючи на всі мінливості і складності життєвих умов, вони стійко утримували єдність протягом 48 років подружнього житгя. Вони були один для одного найважливішими людьми. Звичайно, їх шлюб також переживав кризи, переважно на грунті різних точок зору. Батько не був безпроблемним чоловіком. Він був запальним, часом нетерпимим, а тому несправедливим. Але глибина розуміння одне одного, взаємна толерантність і обов'язкова довіра були настільки сильними, що до серйозних суперечок не могло дійти. У повсякденному житті кожному допомагало почуття гумору, його було достатньо в обох. І потім, звичайно ж, найважливіше — непохитна віра в Бога, віра в те, що всі мінливості долі треба зносити, як послані Богом. Вони були глибоко віруючими, але не відданими церкві.
Звичайно, визначальною ознакою нашого життя у Ванзеє була українська політика. Благу української справи постійно підпорядковувалося все інше, а також наше приватне життя. Для мого батька це була річ само собою зрозуміла. З часу гетьманату він присвятив себе українській ідеї у всіх галузях.
Для мами це було дещо інакше. Коли я вже виросла, вона розповідала мені, що їй нелегко було пристосуватись. Можна лише уявити, що могло означати майже 40-річній жінці довідатись без будь-якої підготовки з газет, що її чоловік, з яким вона 20 років тому одружилася як з царським офіцером, став гетьманом України. Добре, що рід Дурново мав володіння на Україні, де вони інколи жили влітку. Після одруження батьки влітку постійно жили з дітьми у батьківських маєтках Тростянці і Полошках. Мама дуже любила ці перебування на Україні. Як і батько, вона завжди цікавилася історією і культурою України. Та за своєю сімейною традицією і вихованням вона почувала себе тоді ще росіянкою. Під час перебування в Києві мама з абсолютною лояльністю стала на бік чоловіка й чим тільки могла, допомагала у його справах. Вона повністю зі справжнім переконанням сприйняла його ідею новоствореної України, але саме його ідею, а не ідеї шовіністично настроєних українців, яких чимало було в її найближчому оточенні в Києві. Вона потерпала через нетактовність і обмеженість цих людей і продовжувала страждати через це також і у Ванзеє. До цього долучилася ще й проблема мови. Мама мені казала, що пізніше вона вважала упущенням свого життя те, що не вивчала систематично українську мову. Та й коли, власне, вона могла б це зробити? Важко уявити, яким виснажливим було життя в Києві. Через свої різноманітні обов'язки вона була повністю без претензій. І потім життя в еміграції, що майже все тяжіло над нею! Так, її українська мова завжди була досить мішаною, як, на жаль, і моя, причому в мене мішана і російська. Я навіть вивчала обидві мови, але шкода — без особливого успіху. Крім німецької, я розмовляю іншими мовами, також англійською і німецькою вільно, але з акцентом.
За столом, тобто там, де сидів батько, у нас переважно розмовляли українською мовою. Батько дуже добре писав і розмовляв українською мовою, коли йшлося про політичні або абстрактні теми. Щоденною мовою спілкування, або ж коли батько розпалювався у дискусіях з Шеметом, була російська. В сім'ї розмовляли переважно російською. Дивно, що мої брати і сестри (всі троє досконало володіли українською) розмовляли у Ванзеє між собою російською мовою. Можливо, це була звичка дитинства, а оскільки вони не мали між собою тісних контактів, то їхні розмови ледве чи виходили за межі справ повсякденного життя.
Як Маріка, так і Данило звичайно ж повністю відчували себе українцями, але їх національна свідомість не була такою обмеженою, як у моєї сестри Ліллі, для якої все, що не було українським, з самого початку вважалося малоцінним. А як це було і є в мене? Я мислю себе українкою, яка належить до швейцарської держави. Дитиною і молодою дівчиною по відношенню до всього українського я перебувала в певній опозиції, оскільки відчувала, що всі складнощі нашого життя пов'язані з українською політикою. Я не бажала, щоб ця політика з'їла мене. Намагалася претензії, коли становище мого батька в суспільстві зміцнилося, привести у відповідність з реаліями нашого повсякденного життя. Хотіла бути цілком незалежною від батька, якомога швидше стати на власні ноги. В принципі я ніколи не питаю про національність і з людьми всіх національностей почуваю себе добре, коли я їх сприймаю просто як людей, або ж перебуваю в опозиції до всіх сторін і завжди симпатизую тим національностям, які зазнають нападу, чи то українці, чи росіяни, чи німці. Дитя всесвіту, чи можливий стан людини без батьківщини? Це проблема, над якою я, звичайно, за настроєм, буду битися до кінця своїх днів. Все ж здебільшого мені цілком добре у своєму всесвіті.
Я думаю, що багато українців, з якими мій батько співпрацював, не усвідомлювали, як багато вже там, у Ванзеє, зробила моя мама для української справи. Вона не втручалася в деталі організаційних, плинних політичних справ мого батька. Але з огляду на те, що мама переважно створювала ту атмосферу, в якій батько міг працювати, вона була тією людиною, яка найкраще знала його хід думок. Опосередковано, протягом усіх цих десятиліть з часу гатьмапату вона надавала батькові в українській справі велику підтримку і допомогу. Мама мислила дуже чітко. Вона не піддавалася емоціям, при яких легко забути всі реалії української справи. Крім того, інтуїтивно відчувала людей. Ще дитиною і молодою дівчиною я часто чула запитання батька: «Аліна, що ти думаєш про цю людину? Чи можна йому довіряти?» Інколи мама відповідала: «Почекай ще, ти його пильно роздивись», або недвозначно застерігала і, на жаль, завжди була права. Як часто я була свідком того, коли мій змучений, млявий батько, дійсно старий чоловік, повертався з міста й відразу йшов до матері. їй достатньо було лише на нього глянути, щоб зрозуміти, що батько засмучений новим розчаруванням у людях, або ж, крім того, невдачами. Коли була хороша погода, вона казала: «Переодягайся і йди в сад.» Мама знала, що добре для натури мого батька. Або це називалось: «Я прийду зараз до тебе». Потім вона часто мені казала: «Бідний папа, йому так важко». Я знала, що потім обоє сиділи на лавочці в саду або за письмовим столом у кабінеті. Майже завжди чула схвильований голос батька, він скаржився на нові клопоти і розчарування. Зрідка промовляла мама. Потім поступово голос батька ставав усе спокійнішим, наприкінці розмови навіть інколи було чути сміх. Я тоді знала, що все знову добре. Коли батько з'являвся, погляд його був світлим, а рухи жвавими. Біля дружини він черпав нові сили.
Справжньою душею нашого дому була, безумовно, мама. Вона давала йому таке необхідне для життя тепло, була центром, до якого сходилися всі нитки. Твердою рукою, але непомітно, вона вела велике домашнє господарство. Я, власне, не бачила маму без роботи. Вона завжди шкодувала, що так мало може читати, одну годинку перед сном. Коли в нас не було гостей, мама йшла спати о пів на одинадцяту. Правда, вона вставала досить пізно, десь о пів на десяту. Майже кожну ніч її будили епілептичні напади мого хворого брата, у випадках загострення до десяти разів за ніч. Як правило, вона раз чи два вставала вночі, щоб допомогти братові. Тому мама була на межі своїх сил. На щастя, в останні роки нашого життя у Ванзеє з'явилися нові препарати для епілептиків, які суттєво знижували частоту нападів. Це було велике щастя для всіх. Батько спав завжди міцно. Йому потрібно було небагато сну. Він вставав уже о сьомій годині ранку, незважаючи на те, що допізна читав чи писав за столом у кабінеті.
Рівно о пів на дев'яту батько приносив мамі сніданок у ліжко, дві густо намазані маслом булки, любима їжа моєї мами, і велику чашку кави. Поки мама снідала, батько сидів коло неї. Мабуть, це була година, яка повністю їм належала. Інколи я стояла під спальнею і чекала, коли вийде батько. Я чула, як вони розмовляли і сміялись. У сусідній кімнаті спав хворий брат. Коли батько виходив, я шмигала у спальню, й тоді починався мій інтим з мамою, яка в цей час вмивалася і одягалася за ширмою. До школи і пізніше під час канікул це було постійним ритуалом.
Ледве няня змінила свої обов'язки на інші — всемогутньої суховарки — і стала заправляти нижнім поверхом дому, я визнала маму за головну для мене людину. З роками нормальні відносини між мамою і дитиною розвинулись у повну довіри дружбу. Я могла прийти до неї з усіма своїми дитячими, а потім дівочими проблемами. Вона все розуміла і всім цікавилася, але поводилася зі мною не як з дитиною, а як з дорослою людиною й говорила зі мною також про все, що її стосувалося. У мене не було так званої проблеми поколінь, тобто агресивного почуття як по відношенню до матері, так, між іншим, і до батька, незважаючи на те, що ми обоє пізніше мали різні точки зору. Між мамою і мною встановилися тісні взаємно довірливі відносини, які тривали до її смерті. Мамі було 72 роки, коли вона померла. Сьогодні це ще не старість, але після смерті батька мама раптово стала старою жінкою. ї у своїй глибокій старості вона залишалася гнучкою і, власне, набагато молодшою за своєю суттю, ігіж обидві мої сестри. До останнього вона мала живий інтерес до свого оточення. Мама виявляла дивовижне розуміння молодих, людей, які виросли цілком іншими, ніж її покоління. Це відчували мої юні друзі, вони всі захоплювалися нею.
Незважаючи на велику вікову різницю між нами (мама мала вже майже 42 роки, коли народила мене) з усіх її дітей я була до неї найближчою. І це не мій домисел. Очевидно, гвз було. наслідком того, що мама відчувала себе ще так молодою. Крім того, я була єдиною дитиною, яка не мала гувернантів і домашніх учителів. Вони можуть вбити клин між батьками і дітьми. Коли я вже виросла і ми всі жили у Оберстдорфі, сестри розповідали мені, що вони не могли мати таких близьких стосунків з батьками, як це було природпьо для мене. Між ними завжди стояли якісь люди. Я вірю, що для мене було великим щастям, що наша добра няня, яку я дуже любила, змушена була мене віддати так рано, десь у чотири роки. Можливо, без цього я також не знайшла б у батьків відповідних почуттів. Няня також пробувала, наскільки це можливо, перетягти мене на свій бік і трохи настроїти проти мами. Але я була хитрою, незважаючи навіть іга її доброзичливість і пов'язану з ним користь, наприклад, таємно підсунуті чудові ласощі, у своїх почуттях до мами залишалася незмінною. Ми були дуже близькі одна до одної.
Можливо, свою роль відіграло те, що тоді в колі моїх батьків звичним було інше виховання, тому моїм сестрам так важко було пристосуватися в еміграції до цілком інших відносин. Тепер, з погляду старшої жінки, я думаю, що обидві мої сестри з усієї нашої сім'ї найбільше постраждали внаслідок революції та падіння гетьманату на Україні. Мама на той час була дуже прогресивною, вона наполягла на тому, щоб обидві дочки відвідували останні класи державних гімназій. Але внаслідок безладдя революційного часу мої сестри спочатку в Петербурзі, потім у Орлі, а тоді знову в Петербурзі не мали часу по-справжньому здружитися з ровесниками. До того ж, мої сестри, незважаючи на невелику різницю у віці, з дитинства не були близькі між собою. Характери також мали різні. Обидві замкиугі, навіть Маріка, яка на вигляд здавалася жвавою. Обидві не могли відверто розмовляти одна з одною, і цим їх взаємне відчуження поглиблювалося. Не дивно, що між ними постійно мали місце непорозуміння і розбіжності в думках, але до повного розриву і відчуження справа не доходила.
Для моєї сестри Єлисавети, яка фанатично любила батька і всім серцем сприйняла українську справу, крах гетьманату залишився незабутньою катастрофою на все її життя. Маріка також, незважаючи на всі свої очевидні ділові якості, які прислужилися їй під час життя у Варшаві, не знаходила задоволення у своєму житті. Мені здається, що обидві сестри, відірвані від власного коріння, були зраджені своєю молодістю. Навколо них завжди витало відчуття суму. Це спостереження підтверджували мої давні друзі, які тоді добре знали сестер. Батьки також це відчували. Якось батько, під кінець нашого життя у Ванзеє, сказав мені: «Як добре, що найменша моя дочка має талант бути щасливою». Мої сестри замкнулися в собі й через це також зовні залишалися самотніми. Сестра Ліллі в часи нашого життя у Ванзеє мала досить багато знайомих, українців і німців, але жодного справжнього близького друга. А Маріка вперше у Варшаві зустріла людину з того кола, яке їй пасувало. Очевидно, тут зіграла роль соціальна ситуація, в якій перебувала наша сім'я. До певної міри навіть я це відчувала, коли, наприклад, для багатьох молодих українців, котрі приходили до нас, я була не просто милою, веселою молодою дівчиною, а «гетьмаиівпою». А мої старші сестри відчували це ще більшою мірою, що усамітнювало їх. Оскільки характер у мене був зовсім інший, ніж у моїх сестер, мені не важко було створити власне, живе і справжнє коло друзів. Але, звичайно, моя ситуація була набагато простішою, оскільки на мене не вплинув цей розрив з минулим.
У нові часи мої сестри на грунті внутрішніх переживань переважно не могли правильно зорієнтуватися. Внутрішньо вони жили у світі, якого вже не існувало. Після війни склалася дивна ситуація, коли мені, незважаючи на те, що була молодшою на 20 років, здавалося все набагато давнішим. Я мусила сприймати його як таке, хоча до реального життя була набагато ближча, ніж мої сестри.
Зовсім іншими були мої батьки, особливо мама. Вона цілком змирилася з умовами життя, що змінилися, і була реалісткою. Незважаючи на всі труднощі і численні клопоти, що випали на її долю, мама випромінювала спокій і доброзичливість. Від неї йшло внутрішнє тепло, яке відчували всі, хто знаходився поблизу, а також звірі, яких мама дуже любила. У неї були лагідні, зцілюючі руки. Вона опікувалася кожною хворою дитиною, кожною хворою чи пораненою твариною, яку підбирала. Я могла б довго розповідати історії про тварин, яких ми з мамою мали у Ванзеє.
Протягом дня мама невтомно трудилася. Вона була неймовірно обдарованою людиною. Дуже цікавилася історією й мала яскраво виражений мистецький інтелект. Не кажучи вже про те, що вона добре малювала, зокрема акварельні портрети. Мама все могла. Вона шила як професійна швачка, чудово вишивала, заново оббивала наші старі крісла, фарбувала садові меблі.-Крім цього, мама добре грала на фортепіано. Коли я, маючи вісім років, почала вчитися грі на фортепіано, мама знову захопилася грою, проводячи за фортепіано кілька годин. Найулюбленіші спогади мого дитинства: я лежу в залі, згорнувшись калачиком у великому білому фотелі, й читаю, а мама грає Шопена. Коли батько дома, він стиха відчиняв двері у своєму кабінеті, щоб краще чути.
З весни до пізньої осені більшість часу моєї мами забирав наш великий сад. Для нас мало велике значення, що самі забезпечували себе овочами і фруктами. Батько також часто працював у саду, але для нього це був вид спорту і засіб зняти напруження. Він копав і розпушував землю, возив тачкою. Купа гумусу в кінці саду була його турботою. Для мами, навпаки, робота в саду була суворим обов'язком. Звичайно, вона також мала задоволення, особливо весною, коли самостійно вирощені нею в теплицях рослини або посаджена вздовж довгих грядок квасоля добре розвивалися. її гордістю були самостійно виведені томати і чудові яскраві цинії. Але потім, улітку, коли великі грядки заростали бур'янами й протягом годин треба було поливати весь сад, ця праця ставала підневільною. Тепер я думаю, чому сестра Ліллі і я так мало допомагали мамі. На наше виправдання мушу сказати, що вона цього від нас навіть не чекала.
Можливо, у багатьох виникне питання, чому мамі було не перепрофілювати сад і не купувати овочі та фрукти. На це проста відповідь — у нас не було фінансових можливостей. Ми вживали наші оіючі і фрукти, що, законсервовані на зиму в незліченних банках, стояли у кладовій. Для харчування нашого великого дому нам необхідні були м'ясо наших курей і яйця. Скільки «політичних обідів» відбувалися під чудовий «курник», який няня так добре вміла приготувати. На перший погляд, могло здатися, що ми заможні, маємо великий будинок, але це в більшій мірі — гіпотетично. Звичайно, ми не були бідними, але наші фінансові можливості були дуже обмежені. На почесне грошове утримання, яке батько одержував з Державної канцелярії німецького президента, завжди через одного й того ж непохитного секретаря Мейспера (спочатку за часів Еберта, потім Гінденбурга, а потім і Гітлера), утримувалася не одна наша сім'я, а й велика кількість інших осіб. Крім того, звідти великою мірою бралися також кошти на українські справи. Зі сіорони неможливо навіть уявити, які обмежені ми були в грошах. Наше так зване відповідне до звання життя й звичні для нашого дому дуже великі дружні гостини були можливі завдяки праці моєї мами і точному розподілу інших домашніх обов'язків. Наприклад, всі без винятку тканини для гардеробу жінок нашого дому купувалися в кредит, який потім виплачували протягом місяців. Одноразовий великий видаток міг зірвати весь наш бюджет. Резервів просто не було. Під кінець місяця наші фінанси знаходилися на нулі. Коли, незважаючи на всю економію, були необхідні непередбачені видатки, для сім'ї не залишалося нічого іншого, як заставити так зване «велике срібло». Тоді добрий Шемет відносив величезний ящик з великим срібним чайним і кавовим сервізом у ломбард. Мама одержала його у Петербурзі від свого брата 1897 р., коли виходила заміж. Сервіз вивезли разом з моїми братами і сестрами під час втечі з України. Одержані за нього гроші допомагали нам протягом багатьох місяців переживати фінансові утруднення. Тепер срібло мирно стоїть у ларці у нас у Цюріху. Інколи, згадуючи минуле, я дивлюся на нього як на доброго старого приятеля, який не раз допомагав нам у складних ситуаціях.
Для мене, коли оглядаюсь назад, є загадкою, як мама з усім справлялася, коли ще до всього іншого долучалася турбога про хворого брата. Мама безпосередньо мусила пильнувати за ним удень і віючі. Дуже рідко на якусь годину її заміняли батько чи няня. Але всі ці обставини не могли стримати маму. Вона сприймала їх як дапнісгь. Я не чула від неї ні слова скарги. Мама також не сумувала за минулим, вона просто робила те, що вважала своїм обов'язком. В останні роки життя у Ванзеє мама відкрила нове поле діяльності, яке додало їй не тільки ще більше роботи, але й принесло нових друзів і справжнє задоволення. Вона розпочала серйозно займатися сімейною генеалогією. Протягом багатьох років мама проробила величезну роботу.
Без сумніву, на Україні е лише кілька сімей, походження яких вивчене так грунтовно, як це зробила мама для нашого роду. Мова йшла не лише про генеалогічне дерево родів Скоропадських і Дурново, але також про всі' інші роди; кров яких перемішалася з нашою. Кожну хвилину свого так обмеженого, порівняно з обов'язками по дому і роботою в саду, часу мама працювала над історією роду. Як вона раділа, коли одного разу кілька днів підряд ішов дощ! Тоді їй не треба було поливати. Приблизно 14 днів після обіду, коли батько доглядав мого хворого брата, мама їздила у Прусську державну бібліогеку й знаходила нові дані. Вона вибирала там з генеалогічних книг усе, що стосувалося відповідних родів, з трудом друкувала (двома пальцями) з необхідними, цілком професійними коментарями. Виникла колосальна праця. Кращий екземпляр з усіма фамільними гербами знаходиться тепер в інституті Липинського у Філадельфії. Моїх знайомих, які цікавляться генеалогією й дивляться на мій екземпляр, вражає обсяг матеріалу і груїновінсть праці. Для генеалогів та істориків, які цікавляться цією темою, це справді невичерпне джерело.
Мої батьки мали чітко виражені соціальні почуття. Вони допомагали, як лише могли, кожному, хто до них звертався. Переважно з проханням допомогти спочатку зверталися до батька. Потім він тут же йшов до мами, й вони радилися, як найкраще діяти. Я часто цьому співпереживала. Обоє не шкодували сил, щоб допомогти людині в біді, Чи мова йшла про напівбожевільну далеку родичку, стару графиню, яку необхідно було влаштувати у притулок для старих людей, чи про хворого на туберкульоз українського студента, якого треба було помістити в сайаторій, або ж бурлаку, який спився і після протверезіння знаходився в'нас. Час від часу батьки діяльно допомагали в різних випадках людського горя, печалі, пороків; але нікОлп тільки втішали, або вели тривалу розмову, яка заспокоювала людину. В часи нацизму доводилося часто рятувати людей з лап нацистів, для звільнення яких батько послуговувався своїм авторитетом, усіма зв'язками, що були в нього у розпорядженні. Інколи, щоб урятувати людину від концентраційного табору, він мусив смиренно взяти на себе відвідини тодішньої влади. Його не обтяжували ніякі клопоти. Батько робив це без огляду на людину чи національність.
Зрозуміло, що більшості тих, хто шукав допомоги, чи то українців чи росіян, не беручи вже до уваги німецьких жебраків у часи безробіття, — було відомо, що в домі Скоропадських вони завжди можуть одержати принаймні їжу. Інколи справді дивні типи сиділи в нас за столом на кухні, де няня мирно бурчала й годувала їх. Коли я чула, що хтось з таких там був, звичайно ж, тут же бігла на кухню, звідки мене з трудом випроваджували. Подібним гостем був Вільгельм. Про нього я хогіла б розповісти в подробицях, тому що цим буде описана й ментальність моїх батьків. Вільгельм (я називала його «мій» Вільгельм, оскільки першою його побачила) вперше з'явився у нас, коли мені було рівно шість років. Знову наче бачу його перед собою, хоча десятиліттями про нього не думала. Ще коли була жива мама, ми часто, згадуючи його, сміялися. Він був високий і худий, з великим носом, рудим волоссям, яке в нього росло також і у вухах, що мені було дуже цікаво, густими сірорижими вусами. Я знайшла його серед білого дня поблизу хліва для кіз, де шукала свій м'яч. Відразу ж, схвильована, побігла до батька, який працював у кінці саду. Там спить чужий чоловік, він жахливо смердить і хропе. Батько тут же пішов зі мною, очевидно, не сприймаючи всерйоз цю звістку, але з цікавості, що я придумала. Але це справді було так, лише чоловік тепер сидів і намагався встати. Батько допоміг йому стати на ноги й запитав, що він, власне, від нас хоче. На наше велике здивування, чоловік звернувся до батька німецькою мовою «пане гетьман» і розповів довгу історію. Він назвався Вільгельмом, ми так ніколи і не взнали, чи це було його прізвище, чи ім'я. Раніше, в часи мого батька, він був солдатом на Україні й випадково довідався у Ванзеє, що тут живе «старий» гетьман. Безробітний протягом тривалого часу випивав (в останньому можна було не сумніватися, від Вільгельма за три милі проти вітру смерділо шнапсом). І хоча ми не мали для нього ніякої роботи, він залишився спочатку на кілька місяців, потім надовго, тому що ніби добре знав Україну. Батько явно ним зацікавився. Перше, що він запитав, чи той геть п'яний, що Вільгельм підтвердив. У наступні шість тижнів Вільгельм, коли діставав, випивав щоденно не більше шклянки горілки. Між тим прийшла моя мама, вона дозволила прийняти нашого нового гостя. Було вирішено, що Вільгельм спочатку повинен вимитись у пральні, подивил ись, чи є у нього воші, й потім дати йому чисті речі. Про воші я дещо знала на початку мого шкільного віку від шкільної подруги. На щастя, у Вільгельма їх не було, і йому дозволили залишитися, бо нам дійсно була потрібна людина для того, щоб перекопати сад. Вільгельм залишився на багато тижнів, невтомно, старанно скопав усю велику площу під овочі, заново пофарбував комору і хлів для кіз, згрібав вугілля, білив кухню. Він справді був. знахідкою. Продовжував спати у коморі у спальному мішку Данила, мама дала йому ще чудову подушку. «Справжній пух, пані, як у матері». Вільгельм мав манеру називати нашу няню «мама Анна», хоча вона ставилася до нього дещо недовірливо. Мама була «пані», незважаючи на те, що вона стояла поруч з ним без панчіх і в старих черевиках, одягаючи на шию низку перлів; батько був «пан гетьман», а я «маленька», яка, ледве повернувшись зі школи додому, ходила за ним назирці. Коли я йому добре набридала, він садовив мене на дах комори, що мені дуже подобалось. Вільгельма добре годували на кухні. Мама після тривалого Опору з його боку подивилася його кульгаву йогу і встановила, що в нього на п'яті великий абсцес. Вона спочатку наклала мазь і чисту пов'язку, а коли це не допомогло, батьки покликали нашого домашнього лікаря, який розрізав нарив і цим вилікував Вільгельма. Вільгельм явно насолоджувався турботою. Маму він надзвичайно поважав. Батько стверджував, що він дивиться на неї «відданими очима», а з ним розмовляв лише як з «маминим поклонником». Але він також добре ставився до Вільгельма. Я часто бачила, як вони за стаканом горілки, яку так любив Вільгельм, закушуючи цибулиною і курячи, затишно сиділи на садовій лаві. Очевидно, Вільгельм розважав мого батька оповіданнями з часів свого перебування на Україні. Батько казав, що йому дуже потрібною може бути інформація такого Вільгельма. Мама, незважаючи на Цибулю, бо Вільгельм відволікав мого батька від багатьох його клопотів, прихильно ставилася до їхніх сидінь.
Але одного дня Вільгельм, не попрощавшись і не одержавши розрахунку, щез. Можливо, він відчував, що знову починається запій.
«Вельмишановній пані» він залишив записку: «Дякую за все, я ще повернуся». І він справді прийшов восени, цього разу цілком тверезим.
Батько і я зраділи, навіть няня поставилася до нього доброзичливо. Так тривало майже три роки. У Вільгельма був точний інстинкт — з'являтися тоді, коли в ньому дійсно була потреба. Батьки здогадувалися, що він за професією має бути або ж садівником, або ж агрономом. Він про це не говорив. Потім він щез уже назавжди. Я чула, як батько багато разів говорив мамі: «Де тепер твій шанувальник». Обоє жаліти бідного бурлаку, вони вважали, що одного дня він таки нап'ється до смерті.
Можливо, декому здаєтьсядивним, що батьки при мені, малій дівчинці, так відверто говорилігпро цього оригінала. Так було завжди. Мої «ніжні» вуха, по суті, не бралися до уваги. Я виросла серед дорослих, які під час своїх розмов, Очевидно, цілком забували, що там сиділа мала дитина, яка наставила вуха. Без сумніву, я так багато знала про життя і житейські історії, що явно не відповідало моєму вікові. Правда мені це не зашкодило. Таким чином, я ніколи не жила у замку із слонової кості, як мої дорослі сестри.
У ранні часи, про які я згадую, батько був для мене дещо далеким, великим паном, який привітно на мене дивився, коли я попадалася йому на очі, але розмовляв зі мною трохи розгублено, нібито він мусив спочатку згадати, що тут ще дехто крутиться, що також належить до сім'ї. Часто бувало так, що, гукаючи мене», батько починав звати: «Маріка, Ліллі, Альонка». Але чим старшою я ставала, тим більше сприймалася батьком як особистість. Певно, я ледве чи була такою, яку просто не помічали, чи більше того — не слухали. Я вже тоді могла, коли дозволялося, говорити не зупиняючись. Моє справжнє, цілком усвідомлене й переконливе розуміння суті батька відбулося восени мого першого шкільного року. Це пов'язане з одітим малим епізодом, який глибоко запав у мою пам'ять і власне став визначальним у моєму ставленні до батька. Після цього випадку він був для мене не просто «папа», а щось особливе. Це почуття я завжди пом'ятала (що не перешкоджало нам при взаємній любові часто сперечатися між собою). Тому на закінчення хочу розповісти про цей епізод, оскільки він був таким типовим для мого батька.
Батько вирощував дві молоді грушки, і цієї осені на них дозрівали перші величезні плоди. На обох деревах сім штук. Батько оглядав їх кожного вечора, коли повертався додому. Одного разу я випадково була при цьому. Певно, йому спала на думку подія власного дитинства, тому він сказав мені ті слова, які десятиліттями раніше говорив у Тростянці глибоко шанований ним дід Іван Скоропадський. Вже дорослою я прочитала цю історію у його спогадах про дитинство, і мені спало на думку, шо. очевидно, подібний експеримент батько хотів провести й зі мною. Він, сміючись, признався: «Так, але це прийшло несподівано». Отже, стоячи перед грушами, батько сказав десь так: «Бачиш, ці груші особливо гарні. Ти можеш їх з'їсти, але я не радив би тобі це робити, перш ніж вони ще трохи дозріють, та головним чином тому, щоб загартувати свою волю». Проте груші мене не схвилювали. Я з більшим задоволенням їла огірки з парника, але манірно кивнула й побігла звідти.
Наступного ранку батько побачив, що груш немає. Він покликав мене до себе в кабінет і сказав: «Я справді розчарований тим, що ти не витримала і груші з'їла. У тебе ще дуже слабка воля, але з часом вона стане сильнішою». Тут я тупнула ногою і закричала: «Ти зі своїми дурними грушами, я їх це їла і навіть не хочу їх їсти». — «Не бреши!» Це вже було занадто, я ледь не луснула зі злості, але стрималась і глибоко ображена, швидко вибігла.
За обідом батько мене нібито не помічав, але я за ним спостерігала. Він дивився у мій бік і поглядав на мене, як мені здавалося, дещо з докором. Я не стримала себе, на мій власний жах, показала батьку язик і, голосно плачучи, вибігла з кімнати. На моє щастя, за столом були лише домашні Батько, правда, розповів усю історію, й потім з'ясувалося, що мама, яка нічого не знала про виховний експеримент свого чоловіка, як на зло, ще увечері зняла ці груші й подарувала одній дамі, яка була в нас з візитом і зачарувалася грушами. Туг проявилися велика справедливість, благородство, людські якості мого батька: він тут же прийшов до мене в дитячу кімнату. Я лежала на ліжку, ревла й чекала прочухана за моє безстидство. Але він сказав: «Йди сюди, ти мале чудисько. Перестань плакати. Ми обоє не праві й мусимо попросити одне в одного вибачення. Я — тому що несправедливо тебе звинуватив, а ти — тому що дуже безсоромна дівчинка». Я виСачилась і кинулась йому на шию. Тримаючись за руки, ми разом пішли в сад і їли інші груші, з приємністю розділяючи їх кишеньковим ножиком. Вони мені дуже подобались.
Ванзеє — західне передмістя Берліна. Будинок на Альзенштрасе 19 був проданий після війни і через кілька років знесений. Тепер на цьому місці тенісні корти.
Люди:
Павло Скоропадський (Павлик) народився 3 травня 1873 р. у Вісбадені, помер 26 квітня 1945 р. у Меттен, Баварія.
Олександра Скоропадська (Аліна), вроджена Дурново. Народилася 23 травня 1878 р. у Санкт-Петербурзі, померла 29 грудня 1951 р. в Оберстдорфі, Баварія.
Марія Скоропадська (Маріка), у заміжжі графиня Монтрезор. Народилася 25 листопада 1898 р. у Санкт-Петербурзі, померла 12 лютого 1959 р. у Оберстдорфі, Баварія.
Єлисавета Скоропадська (Ліллі), у заміжжі Кужім. Народилася 13 грудня 1899 р. у Санкт-Петербурзі, померла 26 лютого 1976 р, у Оберстдорфі, Баварія.
Петро Скоропадський народився 20 листопада 1900 р. у Санкт-Петербурзі, помер 13 березня 1956 р. у Оберстдорфі, Баварія.
Данило Скоропадський народився 13 лютого 1904 р. у Санкт-Петербурзі, помер 23 лютого 1957 р. у Лондоні.
Олена Скоропадська (Оленка), в заміжжі Хіндер, Отт. Народилася 5 липня 1919 р. у Берліні.
Березень 1985
Переклад з німецької Олени Дзюби.
Єлисавета Кужім-Скоропадська від 8 до 28 квітня 1945 року (З Меллінгена до Меттена) [Уривок зі споминів]
Моїй Матері й всім тим, хто мого Батька любив.
З Меллінгена ми виїхали 8 квітня. До того було багато всякого клопоту й турбот, про які я тут писати не буду. Спочатку Думали їхати потягом, але потяги з Меллінгена вже не йшли, а треба було б іти пішки до Рени або до якогось ще іншого міста.
В суботу 7 квітня Батько зустрінув на вулиці випадково якогось вояка коло авта. Він з ним розпочав розмову й запитав, чи не міг би він повезти нас автом до того дворця, з якого тепер ідуть потяги.
Вояк сказав, що то не від нього залежить, а щоб Батько звернувся до його шефа, Гауптмана X. Гауптман поставився до мого Батька надзвичайно прихильно й обіцяв допомогти, чим тільки може. Були надії, що й ще повезуть грузовиком аж до Регенсбурга. З'ясувалося лише в неділю пополудні, але не дуже для нас сприятливо. Перш за все могли везти. нас лише до одного села Якота, поблизу Плауена, а крім того, брали нас не всіх вісім (Батько, я, няня, Грищинський, Плечко, Королишин з дружиною та Гаврусевич, якого в той момент хоч і не було, але на нього все ще чекали), а лише чотирьох, та й дуже обмежену, кількість речей. Вирішили майже все залишити в Меллінгені й взяти з собою лише стільки, скільки кожний сам міг би підняти й нести, хоча б і недалеко, а принаймні перенести з одного перону на другий. Дуже мало змогли взяти особистих речей, бо мали з собою досить тяжкий архів, канцелярію, машинку й т.ін. Мали з собою досить важкі пакунки з харчами, бо не знали, скільки часу будемо їхати, й приготовилися до довгої і тяжкої подорожі. Плечко й Королишин хотіли на другий день взяти дещо з залишених нами речей, бо їм нібито було обіцяно, що їх повезуть так само, як і нас, автом до Якоти на слідуючий день.
Третього мали їхати мій Батько зі мною, нянею та Грищинським. Плечко й Королишин мали зголоситися у бурмистра села Якота й нас там розшукати.
Перед виходом з дому (виходили з барака, де жили няня і я) ми по старому українському звичаю всі сіли, й мій Батько прочитав «Отче Наш» і помолився. Він сказав: «Цей раз мусимо особливо помолитися Богові, бо подорож буде надзвичайно небезпечна й довга».
Речі, які ми залишили в Меллінгені, мав одвезти п. Добровольский і п. Горобців до пастора, а частину до пекаря Блумгарта, де мешкав п. Горобців з дружиною.
В шостій годиш мали бути перед гастгаузом Бургкаллер. Звідти виїздив грузовик. Спочатку повезли маленьким возиком наші речі. Перша пішла няня, щоб за речами доглядати. Нас проводжали п. Добровольський, Королишин, Плечко, Горобців, Ключковський. Хоч нам сказали бути на місті в шість годин, але довелось довго чекати, поки виїхали. Грузове авто було невеличке, та було вже навантажене всяким військовим майном та скринями. Моєму Батькові дали місце спереду між шофером і одним вояком. Вечір був холодний та вогкий. Я була рада, що Батькові спереду буде зручніше й тепліше сидіти. Він дуже кашляв. Няня, Грищинський та я улаштувалися ззаду. Мені неприємно було, що Батько буде їхати не з нами, а з чужими людьми. Якось страшно було не бачити його весь час перед собою.
Прощаючися п. Плечко заспокоював, що завтра з канцелярією буде з нами: «Щоб я Вашу Світлість не розшукав, щоб я не був пунктуальний!» Найпізніше мали вони бути з Якоти у вівторок.
Перед від'їздом Батько сказав Горобцеву і начальникові місцевої організації: «Що буде, я не знаю, але пильнуйте за тим, щоб все було в нашій організації гаразд і щоб не погрібно було нам за наших людей соромитися. Вам треба буде мати енергію і такт. Я та Вас покладаюся».
Звичайно, подорож з Меллінгена до Плауена триває не більше, як три години. Думали, що обов'язково вже до дванадцятої ночі будемо в Якогі, але вийшло в дійсності зовсім не так, їхали більш 12 годин. Грузовик наш ішов, як черепаха. Був такий старий, що, здавалося, ось-ось розвалиться. В кожному селі й містечку стояли без кінця.
Як доїхали до [..?], почався справжній алярм. Грищинський залишився з шоферами коло грузовика, а мій Батько, няня і я пішли шукати бомбосховища. Бункера не було. Перечекали алярм в льоху маленької приватної вілли. Стрілянини майже не було, хоч алярм тривав довго й чути було, що літало багато літаків.
В грузовику крім нас їхало ще кілька жовнірів. По дорозі забрали ще якогось старенького панка. Сиділи на своїх речах. Було дуже тісно й незручно, під ранок стало холодно й пороху було стільки, що коли ми вийшли з грузовика — були чорні, як сажотруси. Батько хоч і не мерз, але сидячи спереду страждав від повітря, що було попсоване всякими моторовими газами. Батько казав, що шофер мав великі здібності паправлятн машину. Вона на кожному кроці псувалась, і Пого помічник не міг собі дати з нею ради. Через те серед ночі наш шофер так втомився, що потребував кілька годин, щоб переспати.
Вранці виявилося, що нас привезли не в Якоту, як було умовлено, а в місто Пель, у двох кілометрах від Якоти. Далі грузовик не йшов.
Там ми довідалися, що начальство наших жовнірів, яке мало бути в Якоті й мало дати нам можливість їхати далі, вже з Якоти евакуювалося і знаходиться на п'ятнадцять кілометрів далі від нас, у місті Рупертсгрюн.
Батько вирішив почекати в Пелі приїзду Плечка й Королишиних. Сподівалися, що й Гаврусевич приїде з ними.
Грузовик наш спинився перед величезним будинком, так званим замком. Власником маєтку був молодий чоловік, який тепер був на фронті, а тут жила його родичка, старенька панна Йоганна фон Боденгаузен, якій було 86 років. Спочатку пішов з нею і з кастеляншею говорити наш шофер, а потім пішов познайомитися: з ними й мій Батько.
Кастелянша, фрау Глазер, яка все мала в своїх руках, так сердечно прийняла мого Батька й всіх нас як приналежних до нього, що немає й слів, щоб висловити їй нашу вдячність.
Будинок був величезний, побудований ще в X віці якимсь, мабуть, малоосвічепим архітектором, бо вигляд мав, чудернацький,'хоч і був побудований міцно. Ми одержали дві великі кімнати в другому поверсі.
За день перед тим виїхали старшини, які там мешкали. Це нам пощастило, бо в іншому разі, незважаючи на розміри будинку,'не знайшлося б для нас кімнати.
Фрау Глазер попрохала нас тим часом піти випити каву до гастгаузу, аби вона сама встигла прибрати для нас кімнати.
Мій Батько й Грищинський оселилися в кімнаті, яка була влаштована як спальня, а няня і я в колишній їдальні, куди були поставлені походні ліжка. Фрау Глазерзі своїх скриньвитягла для нас найкращу полотняну білизну, принесла всім чудові пуховики й подушки. Вона пропонувала нам годувати нас, якби ми задовольнилися тим, що вона нам буде давати. Вона витягла з шаф срібло, найкращі свої чашки й посуд. Була так зворушливо добра, незважаючи на те, шо її буквально розривали на части. Вона сама була вже немолода, дочка місцевого коваля, вдова по ковалеві, й племінника також мала в ковалях. Вона виросла й зрослася з маєтком Пелем і з родиною фон Боденгаузен. Незважаючи на скрутні часи, вона доглядала дбайливо й зворушливо за старою панною фон Боденгаузен, яка була вже цілком безпомічна й майже сліпа. Старенька всі свої 86 років нікуди майже з маєтку не виїздила. Лише в молодости кожні два роки їздила юна з сестрою до Саксонського двору.
Мала Патріотизм саксонський, не любила пруссаків. Родила її була дуже бідна. Маєток був невеликий. Належав він її братові, а той передав; його своєму родичеві в спадщину з тим, щоб його сестра мала право тут дожити свій вік. Було дуже сумно дивитися на цю стареньку панну, яка була пережитком з старих, цілком інших часів і зовсім не можна було її умістити в нову теперішню, жахливу добу.
В будинку в третьому поверсі вміщалася школа Гітлерівської молоді. Фрау Глазер сказала, що то все будучі розбишаки й злочинці] Учителі їх казна-що. Їх було там 75 чоловік і на них косо дивилася місцева влада й старалася їх особистов усьому обмежувати. Власникам видавали харчі по картках, лише трохи більше їм перепадало масла, молока і яєць; Коли фрау Глазер настодувала й не брала з нас карток, то лише завдяки своєму доброму серцеві, а це тому, що у неї було багато зайвого. Вигоди вона від нас не мала ніякої, лише мала турботи] бо мусила навіть ховати від інших все те, що носила нам їсти, аби не заздрили. Вона казала моєму Батькові: «Я знаю, що я роблю не так, як слід було б для Вас зробити, нетак, як хотіла б, але тому винні часи, й обставини. Приїздіть до нас пожити після війни. Й ми обіцяли.
В Пель ми приїхали дев'ятого. Позаяк ми не спали цю ніч і були стомлені — лягли вдень спати. В шість годин вечора нам принесла вечерю фрау Глазер. Це було для нас добродійство, бо виявилося, що ніде в містечку ми не могли б одержати їсти, і в крамницях вже кілька днів рішуче нічого не продавали. Хліба не було ніде. Мій Батько почував себе досить зле був дуже перестуджений, мав гарячку й страшенно кашляв. Незважаючи на те, він під час нашого побуту в Пелі писав багато листів. Знаю, що написав довгі й важливіші листи до деяких чільних гетьманців а організаційних справах.
На вечерю в перший день мій Батько не вставав. У кімнатах було дуже холодно, й мила фрау Глазер принесла для мого Батька цілий кош дров, гарячого молока й грілку для ніг.
Таке зворушливе й привітне відношення в наші так жорстокі й хамські часи було, як проміння сонця серед хмарного дня. Фрау Глазер казала: «Мені чоловік залишив досить грошей, я не потребувала б працювати, але робота дає мені радість, і я завше стараюся робити добро» її очі дійсно світилися ласкою й Добротою. А ми ж були для неї цілком чужі. Я гіишу так багато пргУДіо жінку, бо воиа була так добра до мого Батька, і я цього ніколи не забуду.
Хоч ми трохи й поспали вдень, але були ще перетомлені й рано лягли. Мій Батько казав: «Як добре, що ми маємо тут дві кімнати рядом, не так як в Меллінгені, де ми жили в різних місцях і далеко один від другого. Коли ми будемо мати Центр в Аугсбургу, або Мюнхені, обов'язково хочу, щоб було дві кімнати у мене, щоб ти й там була зі мною».
Годин в одинадцять ночі почався алярм. Почали бомбардувати Плауен. В домі всі побігли до пивниці. А ми міцно спали. Я прокинулася й думаю: треба сказати Батькові й Грищинському, що літаки близько, бо вони, може, не чують. Я пішла до них і кажу: «Ви знаєте, що гатять Плауен?» А мій Батько спросоння відповідає: «Хай собі бомбують, це далеко.» І ми не вставали, хоч бомбували так, що весь будинок трясся.
Наліт тривав якусь годину, не довше, але збомбували Плауен так грунтовно, що я особисто ніде в Берліні за всі ці роки нічого подібного не бачила. Місто стало мертве.
Ми чекали на Плечка й Королишиних, а їх все не було. Боялися, чи не попали вони в алярм. Мій Батько страшенно хотів їхати далі, проте казав: «Ми ж не можемо їхати без наших, ми ж не можемо їх так кинути, вони напевно незабаром зголосяться».
На другий день Батько й Грищинський ходили до Якоти й всюди, у бурмистра й […?], залишили нашу адресу на той випадок, що наші нас там будуть шукати. Ще на слідуючий деіп, Батько послав Грищинського до Плауена, щоб побував у поліції та довідався, чи не зголосилися там наші, та взагалі які є відомості про потяги — чи не розбомбували часом потягів і т.ін. Батько думав, що, може, наші поїхали не автом, а залізницею, та попали в наліт. В його голові не могло уміститися, що, може, вони і не поїхали зовсім за ним, як то обіцяли.
Вісти, які приніс Грищинський, були це потішаючі. Міста більше не існувало. Тисячі людей загинуло. Всі установи були розбомбовані, потяги не ходили. Шукати там наших було б неможливо. Всюди горить, усюди самі руїни.
Батько вирішив, що чекати більше немає рації, і треба їхати далі без Королишиних і без Плечка, який власне мав організувати подорож і про все дбати. Допомога нам була б дуже потрібна, бо багато було всяких справ, що їх треба було б полагодити, а своїх сил не вистачало. Моєму Батькові, наприклад, відомо було, що зовсім недалеко від Пеля живе п. О. Губчак, і з ним він дуже хотів бачитися, але не було можливості його повідомити, що мій Батько поблизу. Не було кого туди послати. Всюди треба було ходити пішки, залізниці були зруйновані, телефони не функціонували.
Мій Батько дуже боявся, як би нам не застряти в Пелі. Хоч до нас ставилися добре, але мій Батько прохав притулку на два дні, а ми вже залишалися довше.
Панна фон Боденгаузен пропонувала Батькові приходити до неї слухати радіо. Наступ американців йшов таким швидким темпом, що мій Батько дуже боявся, що не встигнемо проскочити до Оберстдорфа. Його провідна думка була — за всяку ціну їхати далі.
Він мені постійно казав: «Я так мріяв попасти до Оберстдорфа, я так мрію побачити Маму. Я мушу з нею все обговорити, як нам далі бути. Я страшенно втомився, я мрію відпочити в Оберстдорфі один лише тиждень, а потім знову з подвоєною енергією працювати далі для української справи».
В Пелі кашель Батька майже припинався завдяки дбайливости фрау Глазер і всіх нас. Він був майже знову здоровий. Виглядав зовсім добре. Сил було багато. Завзяття також.
Одного вечора Батько багато говорив про Данила. Казав, як тяжко було не бачити його всі ці шість років. Сказав: «Я так мрію його побачити в скорому часі. Я так хотів передати йому ведення всіх справ Гетьманського Руху. Він має багато якостей, яких я не маю. Він буде кращим організатором. Я хотів би стояти в стороні й йому лише помагати порадами й досвідом».
Балакав про ті плани, які мав для дальшої роботи. Турбувало його дуже, як будуть наступати більшовики. Мав надію, що Берлін буде занятий не більшовиками, а американцями. Взагалі, увесь час і тепер, і раніш казав: «Треба, щоб українці ніколи не забули, що найгірший їх ворог — то є більшовики, і що на жадні компроміси з ними іти не можна; їх можна лише поборювати або від них тікати. Співпраці з ними бути не може».
Розпорошений стан українства і брак серед більшості людей справжньої жертвенності, лицарскості, справжньої ідейності і патріотизму — все це страшенно гнітило мого Батька.
Плани надалі мав широкі. Він забував, що сили одної людини, та ще тої, що несе на своїх плечах такий страшний тягар, обмежені, забував, що має вже немолодий вік. Мав завзяття й незламний дух більше кожіюї молодої людини.
Гнітило його, що мало серед українців людей з широким розмахом, з державницькою думкою, людей чину, людей, на яких можна було б при всіх обставинах покластися. Ми маємо багато прекрасних людей, але у багатьох з них замало внутрішньої дисциплінованості, замало витриманості й витривалості. Ми маємо прекрасну молодь, але вона замало визнає авторитет старших, досвідчених людей. Багато з наших теперішніх політиків не вміють стати вище дрібних особистих амбіцій.
Незважаючи на багато тяжких розчарувань, які переживав за останні роки, міцно вірив у кращу долю українського народу, вірив у самий український народ і хотів йому служити до кінця, не жалкуючи власних сил.
Під час нашого побуту в Меллінгені кілька разів, і тепер знову в Пелі, Батько казав мені: 'Ти знаєш, у мене почуття, що я не доїду до Оберстдорфа, у мене почуття, що я своїх більше не побачу. Передай їм, що я їх всіх там і мою дорогу Оленку, про яку я тепер теж нічого не знаю й за яку я дуже турбуюся, бо вона там сама, страшенно-страшенно люблю, і якби зі мною щось трапилося, скажи їм, що я за них буду молитися. Данило мусить продовжувати моє діло. Я вірю, що він це буде робити. Він буде більш щасливий, ніж я. Я переконаний, що Данило міг би багато для України зробити, але лише в тому випадку, що й українці його будуть підтримувати всіма своїми силами. Коли мене не буде, хай Данило дбає про Мама, але я переконаний, ндо й Гетьманці її не залишать».
Коли я прохала Батька нє казати таких речей, бо ми, хоч може й не скоро, а до Оберстдорфа таки доїдемо, то він, як і в Меллінгені, сказав мені: «Ні, я це почуваю; коли я був перед Різдвом в Оберстдорфі, Мама й Марійка так зі мною прощалися, що, вже тоді відчув, що я їх востаннє бачу. Вони мені дали на дорогу іконку, і я завше маю її з собою».
Але такі сумні думки під час нашої подорожі Батько виказував не часто. Настрій взагалі був бадьорий. Він казав: «Ми будемо їхати етапами, й може, — з перешкодами, але то нічого. Час ію зв'язує нас. Я мушу тільки перебалакати з Мама про пекучі справи до того, як нас відріжуть. Є багато питань, які мусімо спільно вирішити. Ми будемо мати багато всяких труднощів, але Бог'поможе нам все перемогти».
В середу Грищинський та я ходили до Якоти довідуватися, як ходять потяги. По дорозі п. Грищинський балакав з жовнірами, й ми довідалися від них, що всі моторові частини вже виїхали й що сполучитися тепер з кимсь з вищого начальства неможливо. Самі вони нічим нам допомогти не могли б. На залізниці нічого не знали. З Якоти, принаймні ніяких потягів не виходило. Думали урядовці, що П з Плауена також виїхати не можна. Врешті-решт вони сказали, що, на їх думку, єдиною можливістю виїхати в напрямку на південь — то було б через місто Сірау. їм відомо було, що звідти потяги ходять більш-менш регулярно. Сірау від Пеля було в 18 кілометрах віддалі. В цій місцевості ніколи ні від кого не можна було щось довідатися прямо й одержати більш-менш розумної відповіді. Люди всі здавалися неймовірно дурні й нерозвинепі. Так само ніколи не можна було дізнатися, скільки куди кілометрів. Так, наприклад від Пеля до Якоти рахують три кілометри. На стовпі дійсно стоїть три километри, але йдеш, йдеш без кінця — знову стовп і знову стоїть, що до Якоти три кілометри. Або що від Пеля до Якоти три кілометри, а з Якоти до Пеля щось зовсім інше. І так усюди. Місцевість коло Пеля надзвичайно тарна — ліси, горбки, великі лани. Усюди гарнесенькі чистенькі будинки, все було так гарно, чепурно, назовні війна взнаки не далася. Не порівняти з краєвидом коло Меллінгена, де було все так одноманітно, село було таке бідне, брудне й непривітне.
Батько сказав: «Ми мусимо дістатися до залізниці, бо в іншому разі ми ніколи звідси не виїдемо».
В замку Пеля стало страшенно неспокійно. Після того, як розбомбували Плауен, всіх хлопців з їх учителями виселили в якусь стодолу, а на їх місце улаштували військовий шпиталь. Хлопців було 75, а тепер понаїхало більш од 350 людей. Гармидер був великий. Фрау Глазер ще більш розривалася, бо за всім треба було доглядати. Замкова кухня була величезна. Нагадувала собою щось середньовічне. Стіни мали холи метру глибини, стеля підпиралася стовпами й всюди були якісь таємничі закутки. Серед кухні стояла грубка, яка мала такий розмір, що в жодну звичайну кімнату не влізла би взагалі: мабудь, мала метрів три-чотири довжини. В цю кухню умістилося людей би сто. В ній тепер зранку до вечора був натовп. Верховодила там фрау Глазер разом з червонохресними сестрами. Весь дім був повний ранених. Ніде не можна було пройти. Серед всього цього чужого нам люду ми почували себе недобре. Крім того настрій у всіх був дуже нервовий. Ніхто не знав, чим все скінчиться, і як пройдуть над Пелем ті чорні хмари, що всюди збиралися. Серед цього натовпу людей найбільше почувалося, що влада німецька похитнулася. Порядку було мало, і люди вже не боялися кари за вчинки, які раніш були б строго покарані, особливо у військові часи. Майже не ховаючися, люди розкрадали чуже майно. Бідна фрау Глазер, певно, з розпукою дивилася на все те, що робилося в її володіннях. Жовніри господарювали в її шарах майже як у Себе вдома.
Вечір середи й весь четвер пішли на розшуки можливостей перевезти наші речі й самим дістатися до Сірау. Треба сказати, що ми досі не дуже поспішали, бо все ще сподівалися, що приїдуть Плечко й Королишини. Мій Батько і я зробили візиту панні фон Боденгаузен, щоб подякувати їй за її гостинність. О п'ятій юдині прослухали у неї радіо. Американці наближалися швидким темпом; Батько боявся, що не встигаємо вибратися з Пеля, на якій він дивився, як на мишоловку. Він був би тут, цілком відрізаний від усіх своїх людей і не міг би продовжувати своєї роботи.
Через фрау Глазер Батько познайомився з одним 3 військових лікарів, якого вона вже й раніш знала. Він поставився до мого Батька з великою повагою і прихильністю, і обіцяв допомогти. Думали спочатку, що до Сірау буде їхати грузовик, але в останню хвилину він не пішов. Єдиною можливістю було йти нам усім. пішки; а для речей наших дістати візок. Лікар дав нам двох своїх людей, які за гроші й за цигарки погодилися на візочку везти наші речі до Сірау.
На другий день вранці попрощалися з Пелем і весело рушили в путь.
То була пятниця 18 квітня.
До Сірау путь ішла долинами й горбками. Хоч візок був невеличкий, але добре нагружений, і часом нашим двом німцям було тяжко. Допомагав увесь час Грищинський, а також, д мій Батько. Ми йшли, йшли без кінця, а все залишалася до Сірау та сама кількість кілометрів, як і спочатку. Дороговкази були чудернацькі. По всіх шляхах був великий рух, якесь переселення народів. Плауенці шукали собі нових притулків. Везли свої речі, як і ми, несли на собі. Перевозили і старих та хворих. Ішли цілі родини з дітьми, з кошами, з клунками, вели худобу. Багато проїздило авт з людьми й речами. То не тільки були плауенці, то тікали деякі німці перед приходом американців. Підходячи до Сірау, зустрічали багато чужинців, найбільше французів. У чоловіків і жінок був вигляд веселий і дуже нахабний. Почувалося, що радіють, що американці близько. У німців був вигляд розгублений.
По дорозі усюди лежали розбиті авта, іноді над ними кружляли американські літаки. Кілька разів ховалися ми в лісі.
В Сірау на нас чекала несподіванка. Потяги з сьогоднішнього дня не йшли. Треба було б іти на Плауен-Вест. Звідтам нібито ще йшли потяги. Ми були вже стомлені, бо від Пеля до Сірау було, мабуть, кілометрів 18. Але не було що робити, рішили іти далі. Не хотіли вертатися до Пеля, бо звідти нікуди не можна було б дістатися. Нам за всяку ціну потрібно було на залізницю. До Плауен-Вест знову було кілометрів 10–12. Умовити наших німців везти туди наші речі було досить тяжко, але за подвійну ціну й за подвійну кількість цигарок вопиврешті-решт погодилися, хоч і лаялися всю дорогу.
Марш почався знову. «Лес іллюстр вояжер»[88] піщли далі, сміялися ми. Настрій у всіх був войовничий. Духом не падали, хоч дорога здавалася безконечною, іне було певності, що потяги дійсно звідти підуть. Няня бідна ледве-ледве ворушила ногами, але трималася добре, незважаючи на свої 76 років.
Кілька кілометрів перед Плауеном мій Батько спинив авто, в якому їхав якийсь старшина. У нього було одне вільне місце спереду. Всі інші місця були завалені речами. Мій Батько запитав його: «Чи можете Ви взяти стару паню до Плауен-Вест?» Той сказав, що може. Але няня в останню хвилину побоялася їхати сама, і тоді мій Батько сказав мені: «Швидче, швидче, сідай і чекай на нас у Плауен-Вест». Я хотіла відмовитися, але мій Батько розсердився, і я сіла.
Старшина кудись дуже поспішав. Не знав дороги. Не доїжджаючи до Плауена, він довідався, що їде не так, як йому було треба, і що йому треба назад до Сірау. Він мене висадив на великій дорозі й сказав: «Ідіть собі прямо-прямо й скоро дійдете». Коли я прохожих почала розпиг тувати, то довідалася, що він мене привіз не до того боку Плауена, де мав бути наш двірець. Мені прийшлося йти через все місто і через такі зруйновані місця, що тяжко було пішки й пробратися. Всі вулиці були перокопапі воронками. Воропка на воронці. В центрі міста ні одного цілого будинку. Самі руїни. В багатьох місцях ще горіло. Щось було неймовірне. В найгіршому місці почався алярм, і з'явилися американські літаки. Я подумала: «В такі часи не можна розлучатися. Щось може легко трапитися, і ніколи більше один другого не знайдеш». Я перейшла через все мертве місто й прийшла до Плауена-Вест якихось чверть години до наших. Няня ледве-ледве допленталася. Батько робив вигляд, що не втомився.
Довідалися, що з цього дворця потяги ідуть до Франценсбада, однієї станції до Егера. До самого Егера потяги не йшли. їхати, як нам раніш радили, через Гоф більше вже не можна було. Шляхи всі були зруйновані.
Чекали до вечора на дворці. Сиділи на своїх речах на пероні; літали над нами американські літаки, але цього разу не обстрілювали потяги. Лише здалека десь було чути іноді вибухи.
Було вже темно, як прийшов потяг. Спочатку ми четверо лавою пішли наступом в середину потяга, але людей було сгільки й потяг вже був так переповнений, що ми не змогли влізти. В останню хвилину Грищинський знайшов в кінці потяга вільні місця, і ми чвалом почали переносити туди речі. Нелегко було, але спільними зусиллями ми самі й речі в потяг таки попали. Сиділи в коридорі на своїх куфрах. Це було щастя, бо взагалі люди причеплювалися всюди, їхали на буферах, стояли на сходах. Вікна були виламані. Ніч була холодна. Віяв вітер. Але ми були задоволені. Ми перемогли багато труднощів, не піддалися. Ми їхали.
В суботу вранці-рано приїхали до Франценсбада. Було ще зовсім темно.
Розпочинати які небудь заходи для дальшого переїзду до Егера було б зарано. Всі установи були ще зачинені. Ми влаштувалися спати на пероні. На дворці було дуже брудно. Всюди сновигали люди. Нас постійно штовхали, нас лаяли, але нам все те було байдуже. Ми добре-таки відпочили кілька годин. Потім помилися й почистилися дуже примітивно.
Від Франценсбада до Егера яких-небудь 10 кілометрів. Залізниця була попсована. Треба знову було шукати можливості переїхати туди. Мій Батько проявив багато енергії. Він враз зорієнтувався в місті — де поліція, де Червоний Хрест, всякі урядові установи, де знаходяться всі візники, авта й т.ін…
Франценсбад дуже гарне місто, але всі люди були непривітні. Почувалося, що всі розгублені. Усе всім було байдуже. Деякі урядовці чекали й приготовлялися на вступ американців. Витко було, що дехто збирався тікати.
В Червоному Хресті обіцяли спочатку авто для старенької няні, але коли пішли туди вдруге — відмовили. Поліція могла б дати наказ візникам перевезти нас, але поліцаї вже більше нікого не слухали й не хотіли нічого робити, всі метушилися, нервувалися, немов всі сказилися.
Спочатку ходив мій Батько сам, а потім я ходила з ним. Мені страшенно хотілося випити чогось горячого, і я все поглядала на кав'ярні, але Батько, якому, певно, теж хотілося б випити кави, сказав: «Ні, спочатку мусимо зробити діло, а потім вже відпочивати».
Ми були знову в ріжних урядових установах, були у бурмистра, але той вже кудись зник. Його заступник був якийсь дурень. Всі заходи були невдалі. Рішив Батько робити інакше. Сказали нам, що треба стояти з речами на вулиці, й напевно якийсь грузовик врешті-решт підвезе, але нас попередили, що це може статися швидко, а, може, доведеться простояти й два дні.
Зустрілися потім з православігим священиком на вулиці й завдяки йому знайшовся молодий українець з товаришем, який збирався з порожнім візком до Егера, щоб забирати звідти якесь церковне майно. Він охоче взявся одвезти наші речі до Егера. Так і зробили.
Няня за той час стерегла речі на дворці, а Грищинський, як і ми, бігав у ріжні місця й шукав можливостей для нашого переїзду.іВипитц кави так і не встигли. Треба було негайно ж вирушити в путь.
Був один момент, коли я ходила з Батьком, що він сказав мені: «Чи не залишитися нам у Франценсбаді й перечекати приходу американців?»
Але потім він сказав: «Ні, це неможливо, бо я мушу їхати до своїх. Сюди прийдуть американці, а туди невідомо ще, хто прийде. Не дай Боже, прийдуть більшовики, а я буду відрізаний від них і не зможу їм допомогти. Крім того, я мушу бути серед своїх людей. Я їх не покину. Я вже всім казав, що буду їхати в напрямку Аугсбург — Мюнхен. Там має бути наш Центр».
Мій Батько не думав, що наступ американців буде йти так швидко. Він сподівався, що встигне побути тиждень в Оберстдорфі, а потім переїхати самому до Мюнхена або Аугсбурга чи їх околиць і туди потроху збирати своїх людей. Він взагалі хотів жити в такому місці, де були б більш видатні наші українці, де можна було б провадити доцільну роботу. Не в його дусі було б десь ховатися. Він завше казав, що якби настав такий момент, що в Німеччині не можна було б працювати (мав головним чином більшовицьку небезпеку на думці), він постарався б забезпечити свою родину, старався б помагати своїм людям виїхати, а сам ніколи не виїхав би перший. Якби він взагалі увесь час не думав про українські справи, він давно міг би поїхати до Оберстдорфа й сидіти там спокійно і чекати подій.
Він мені в Меллінгені постійно казав: «Я Тебе пошлю до Оберстдорфа, Тобі небезпечно зі мною залишатися. Я нё можу покидати своїх людей. Я виїду в останню хвилину, коли тут буде вже все налагоджене».
Я йому відповідала: «Найгірше, що Ти можеш мені заподіяти — це відіслати мене від себе, але, звичайно, коли я Тобі буду в чомусь на перешкоді, я поїду мовчки. Але май на увазі, що кому ж як не мені бути з Тобою — я нічим не зв'язана, я цілком вільна, і якби зі мною щось сталося, втрата була б невелика, бо я в Гетьманському Русі ролі не граю, я належу до Тебе».
«Я щасливий, що Ти зі мною, без Тебе мені було б дуже самотньо, але я боюся за Тебе», Я постійно думала, чи я е йому в чомусь на перешкоді, чи змінилося б щось в його рішеннях, в його долі, якби я не була з ним, і мені хочеться вірити, що не через мою присугність виникали Труднощі, Для мене було дуже боляче, що якраз у Франценсбаді, кош наші речі були вже покладені на візок і ми збиралися рушати в дорогу, до дворця під'їхав військовий грузовик… Виявилося, що він їде до Егера. Шофер погодився взяти няню, але вона боялася їхати сама, і Батько наказав Мені їхати з нею. Мені боляче було, що й він не поїхав з нами, бо я знада, шоу нього болять ноги і що йти ще 10–12 кілометрів, а мбже й більше піщки йому було б нелегко.
Але моєму Батькові ніколи не можна було навіть і натякнути, що він міг би стомитися, що йому треба берегтися — не все одно не помогло б.
Няня і я від'їхали, ми місцевості не знали й не помітили, що нас повезли зовсім не туди, куди слід. Виїхали за місто. Під'їхали до якогось дворця. Думали, що вже приїхали, але виявилося, що наші шофери мади, яише забрати звідти шість монашок з їх речами й тоді лише везти нас усіх до тої залізниці, звідки мав відходити паш потяг. Ми знову повернули до Франценсбада й поїхали в напрямку Егера, По дорозі ми перегнали наших, які чимчикували з візком. Повторюю, що мені було дуже боляче, що Батько був не з нами, а йшов пішки, але я переконана, що він сам без Грищинського не сів би, а Грищинський не міг залишити речей.
Наш грузовик підвіз нас до тої залізниці, звідки мали йти потяги.
Ми проїхали через все місто… Двірець був досигь далеко за Егером.
Нас висадили кілометрів півтора до дворця, і ми з нянею мусили йти пішки й нести деякі досить тяжкі куфри. — Години півтори-дві ми чекали на наших. Двірець був малесенький, якийсь полустаночок.'Мабуть, раніш потяги тут і не спилялися ніколи. Місце було відкрите. Лише десь вдалечині видко було лісок. Людей збиралося все, більше й більше. З одного боку йшли потяги на Пільзен, а з другого боку на Візау. Прямого сполучення з Мюнхеном або с Аугсбургом не було. Треба було їхати етапами.
Перший прийшов Батько. Я його все виглядала й ще здалека побачила його на дорозі, як він спускався з горбка (він мав на шиї червоний шалик, який кидався в очі), й побігла йому назусіріч.
Він сказав: «Ми неправильно робимо, в такі часи не можна розлучатися, я страшенно турбувався, боявся, що не знайду Вас тут, що Вас ненароком одвезли в якесь інше місце.»
І воно дійсно легко могло б так бути, бо піхто докладно нічого не знав, всі казали щось інше, ніхто нікого уважно не вислуховував.
Було вже 12 годин, а потяг наш мав би іти в четвергій годині. Треба було багато терпцю й доброго гумору, але настрій у нас у всіх був бадьорий. Всі ми жалкували, що не було з нами Гаврусевича. Мій Батько постійно казав: «Якби він був тут, мій милий Гаврусевич!»
(Днів за 10 до нашого від'їзду з Меллінгена мій Батько вислав Гаврусевича до Праги з ріжними дорученнями. Ми виїхали раніш, ніж було передбачено, й події взагалі розвинулися швидче, ніж думали).
В Пелі ми ще мали надію, Що Гаврусевич з'явиться з Плечком і Королишииими, а тут вже це було виключено, бо ніхто не міг знати, де ми, — і ніхто вже тепер не знав би, де за нами шукати.
Ми сиділи або лежали весь день на повітрі. Сховатися не було де. Тут, так само як і в Плауен-Вест почався алярм, і літали над нами цілими годинами американські літаки, та й то дуже низько. В людей, одначе, безпосередньо не стріляли. Чули ми вибухи далі, в місті. Чули гуркіт кулеметів. Все ж таки шукали ми місця, де б сховатися, лягали від часу до часу вздовж схилів. Дехто тікав у поля, багато людей бігло до ліска, який був у кількох кілометрах від нас. Але ми не знали, де було б найкраще, бо видко було воронки від бомб і в полі і вздовж залізниці, і в самому. ліску в кількох місцях дерева були повалені.
День був гарний, їли ми хліб з ковбасою, яйця, пили воду. Кави так і не вдалося знайти.
Потяг наш мав би йти години в чотири, але завдяки алярмові прийшов зі страшенним запізненням.
Так минула субота 14 квітня. Вночі приїхали до Візау й там пересіли на Регепсбург. Як не було тяжко, але спільними зусиллями попали всі в один вагон і так-сяк їхали далі. А це було головне. Як ми взагалі попадали р потяги, я тепер не розумію, бо сотки й сотки людей залишалися. Ті шість монашок, які їхали з Егера до Регенсбурга зі своїми манатками так десь і застряли.
Сполучення прямого далі знову не було. Мій Батько хотів їхати через Мюнхен. Пересісти мали ми ще в Платтлінгу й Мюльсдорфі, або можна було б їхати ще через Платтлінг і Розенгейм.
Потяг на Платтлінг ішов у неділю вранці. Ми дуже добре попали в потяг і сподівалися через короткий час доїхати, аде сталося не так. На кожній маленькій станції стояли без кінця, чекали на потяги, що мали з нами роз'їхатися. Лінія була одна. Казали, що то винятково взагалі, що наш потяг їде. Ці потяги йшли лише вночі. Крім того, годинами стояли й ховалися, могли, і під вагонами, і за будинками, бо цей раз літаки обстрілювали нас., Лежачи під вагонами, мій Батько усміхався й казав: 0сь дурне заняття, дай Боже, доїдемо добре до Оберстдорфа, будемо весело розказувати нашим, чим ми тут займалися».
Ми вже так довго їхали, що хліба більше не мали. В одному місці, незважаючи на те, що була неділя, вдалося здобути ковалок. Мали ми ще трохи консервів. Пили воду, яка смакувала нам дуже добре. День був дуже гарігий, сопяшний. Ми раділи, що хоч і етапами й не дуже зручно, але більшість дороги вже за нами. Ми наближаємося до Мюнхена. Вже було зовсім ясно, як ми маємо їхати далі. Ми вже немов вирвалися з зачарованого кола, і прямий шлях був перед нами. В неділю вечером приїхали до Платтлінга. І тут ми мали невдачу, бо не попали на потяг, який мав іти вранці. Натовп був завеликий. Слідуючий потяг мав іти о четвертій годині дня в понеділок., Мій Батько не дуже журився, бо мали нагоду відпочити трохи.
Вранці трапилася несподіванка. Ходячи між потягами, побачив Батько у вікні вагона Гаврусевича. Це було випадково, бо менш усього сподівалися його тут бачити. Мій Батько дуже зрадів і сказав: «Слава Богові, ми тепер поїдемо разом!» Але Мефодій Степанович віз з собою свою дружину й донечку і не міг їх покинути.
Мій Батько умовився з Гаврусевичем, що після того, як він улаштує свою родину в безпечному місці, приїде до Мюнхена й там довідається, де ми, й у залежності від вказівок, які будуть йому там залишені, поїде до Оберстдорфа, або туди, де буде мій Батько. Нам було дуже сумно, що Мефодій Степанович не міг їхати з нами. Вже багато скрутних моментів переживали ми вкупі. Він нам тоді оповів, що всі доручення, які мав від Батька, виконав і з огляду на події, які розвивалися більш швидким темпом, вертав до Меллінгена раніш, ніж було передбачено, але як він не старався дістатися до Веймара, йому це не вдалося, бо шляхи були вже перерізані. Він тоді повернув знову до Праги й забрав свою родину, щоб врятувати від більшовиків.
Мій Батько Гаврусевича любив і кілька раз казав: «Як добре, що Мефодій Степанович побачився з нами. Принаймні він тепер буде знати, де нас шукати, якби з нами щось сталося. Я не знаю, з одного боку, я дуже хотів би, щоб Гаврусевич був при мені, а з другого боку — я так хотів би, щоб він був при Мама, коли мене не буде в Оберстдорфі. Я так боюся за своїх, і що не буде там чоловіка, на якого я міг би покластися. Вони там будуть переживати тяжкі часи, особливо якби мене там не було. Гаврусевич розумно зробив, що вивіз свою родину з Праги, Хай спочатку добре її улаштує, а потім їде до нас. Я йочуваю, що Гаврусевич щиро й сердечно ставиться до мене. Я це бачив на його лиці, коли він прощався зі мною в Меллінгені. Він вірний чоловік. На нього, на Грищинського й на Добровольського я в Меллінгені цілком покладався. Жаль, що їх тепер немає зі мною.» (Добровольський хотів їхатші моїм Батьком, але при від'їзді прохав дозволу взяти з собою свого малеїнького сина. Мій Батько на це не погодився, бо не вважав себе в праві наражати хлопчика на такі великі небезпеки.)
Потяг Гаврусевича скоро відійшов. їхав він до Розенгейма, а звідти до Гарміш-Партенкірхена. Як вони доїхали, мені Це невідомо.
Дружину Мефодія Степановича я так і не побачила, бо вона це могла підійти до вікна. Вони сиділи тісно-тісно у вагоні й не 'могли ворушитися.
Весь ранок понеділка минув у тому, щб ми ходили шукати в місті, де б нам купити хліба, — ковбаси, де б нам взагалі поїсти, бо не мали вже нічого і були голодні.
Перед кількома днями упало в Платтлінгу кілька бомб серед самого міста, але великої шкоди не було зроблено.
В одинадцять годин Батько, няня і я пішли до одного гастгауза обідати. Нам дуже хотілося поїсти чогось гарячого, але нам нічого не дали. Дістали лише якийсь салат з бичачого писку. Щось дуже погане.
В Платтлїнгу зустрінув Батько знайомого п. Арсецьева — Раковича чи Рочовича. Він мав щось спільного з Власовим. На дворці стояв цілий потяг з козаками, які мали, здається, їхати до Камптена. Були там козаки з жінками, дітьми і всіма своїми манатками.
Коли ми повернулися до дворця, пішов шукати обіду Грищинський.
Няня залишилася з речами, а Я з Батьком взяла ковдри й пішла собі поспати на лузі перед дворцем. Всюди було багато людей, особливо військових. Всі сиділи, або лежали, де не попало, й чекали на потяги.
Наш потяг мав іти о чегвергій годині. Ще вранці Батько ходив до залізничного інспектора, й той обіцяв у випадку яких-небудь труднощів допомогти з місцями в потягу.
Ми лежали собі піддеревом і відпочивали, бо, звичайно, були стомлені. Батько негайно ж заснув. При всіх обставинах міг засипать. Недалеко нас стояв вагон з зенітками й кулеметами. Я бачила, як коло нього сновигало багато хлопців. Їх так і тягнуло до жовнірів і до гармат.
Невдовзі почався «форалярм», але ніхто на нього не зварнув уваги, бо «форалярми» бували по кілька разів на день. Ми їх багато переживали. Цього разу літаків було мало й вони не стріляли.
Під час «форалярму»- подали потяг і сказали люд ям, щоб займали місця. Почалася страшенна метушня, бо всі.посунули до вагонів з клунками, куфрами і всяким майном.
Батько і я поспішили до потяга. Тимчасом Грищинський завоював вже місця й переносив речі до вагона. Людей було дуже багато, але ми всі речі впакували й зібралися вже остаточно влаштуватися. Було приблизно три з-чвертю години. В чотиримали виїхати.
Батько сказав: «Слава Богові, всі труднощі переможені, завтра будемо в Оберстдорфі. Казав, що дуже, добре себе почуває, бо встиг відпочити… І ось тут загула сирена. То був не відклик, а повний алярм.
Замість того, щоб відвезти наш потяг далі від двірця, залишили і його, і багато інших на місці, що було цілком проти всіх приписів і розпоряджень всправах охорони людей під час нальотів.
Забігали залізничники й виганяли людей з вагонів і з перону, і кричали, щоб люди ховалися в будинки, в пивниці, в бункер і т. ін. Казали, одначе, що то лише невеликий, що на великий наліт не чекають.
Люди бігли й штовхалися(їх були тисячі) бо стояло в той час по всіх залїзничих шляхах багато потягів, повно людей. Був той потяг з козаками. Недалеко настачили ми велику кількість українських дівчат. Ще вранці ми з кількома познайомилися, і Батько помагав їм щось перекладати о німецької мови. Люди не дуже охоче відходили від своїх речей, бо страшенно крали за останні часи.
Грищинський хотів залишитися коло речей, але переходячи через «шперре» мій Батько повернувся й досить гостро йому сказав: «Я Вам забороняю це роби ти, як тільки побачите небезпеку — ховайтеся». Няня зауважила: «Чому Ви так гукаєте на бідного Дмитра Івановича?»
Батько сказав: «Не гинути ж йому з-за речей, і не можу ж я його тут залишити, а сам ховатися».
Батько, няня і я пішли за натовпом через «шперре». Батько взяв з собою куфер з документами й архівом. Я несла його портфель.
Люди з'переляку не'зпали; що робити, бо сховищ справжніх, власне кажучи, не було. — Дехто біг до пивниці під дворцем, дехто до маленького бункера на площі (туди уміщалося лише 140 людей), дехто залишався в будинку. Взявши всё на увагу, здавалося, що в будинку буде ще найкраще; особливо коли, як нам сказали, летіли переважно легкі літаки. Сподівалися, що вони полетять кудись в інше місце.
Багато людей залишалося ще на площі й по всіх усюдах.
Коли ми підходили до вихідних Дверей, чувся вже великий гуркіт літаків.
Батько сказав: «До бункера ми не попадемо, він замалеиький, перечекаємо цю першу хвилю тут, переходити площу небезпечно».
Гуркіт збільшувався. Батько йшов перший, я за ним. Він виглянув на двір і, побачивши натовп і метушню, обернувся до мене й сказав: «Ось ти будеш тут зі мною!» Лице у нього було серйозне. Він передбачав велику небезпеку.
Ми троє встали коло зовнішньої стіни. Як дивитися на площу перед дворцем, то праворуч від дверей, між дверима й вікном.
Батько сказав: «Тут найкраще, бо зможемо з будинку вискочити, а в пивниці може засипати (воно так і сталося, всі люди там загинули). Батько був ближче до дверей, може, півметра від них. Я стояла праворуч і трималася за нього. За нами, трохи ліворуч, няня.
Тільки встигли ми так встати, як почалися вибухи. Було щось страшного. Все злилося в один великий вибух, хоч, напевно, їх було сотки, тай дуже близько від нас. Після цього першого вибуху почали валитися стіни (треба зазначити, що двірець був великий, кількаповерховий, кам'яний, високий, стіни міцні). Тріск був страшний. На нас летіло каміння. Ми стояли перед тим у півтемному залі. Після вибуху опинилися, немов надворі. Даху над нами більше не було, кілька поверхів будинку було зруйновано. Наша стіна ще стояла, ми за нею. Я встигла ще з лівого боку побачити кілька зруйнованих обрисів.
У мене страху не було. У мене була лише одна думка: «Батько».
Я запитала: «Чи Ти живий, Батьку?» Але після нього першого вибуху нам нічого особливого ще не сталося. Нас лише присипало.
Мій Батько простягнув мені руку, трохи назад, і я тримала її.
Я йому сказала: «Ховай свою голову», але я бачила, що він був цілий. Ми обидвоє ще встигли заспокоїти один другого, що нам нічого не сталося. Няня теж була ціла. Чути було, як вона промовляла: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!»
Через мент стався другий вибух, страшніший від першого, я встигла лише подумати: «Хіба такий буває кінець?» Але ні, ми були ще живі. Стіни валилися далі. Нас засипало ще більше. Руки були ще вільні. Я старалася знімати каміння з Батька, а він з мене. З цього моменту, одначе, я пам'ятаю мало й не все знаю, що було. Я була майже весь час непритомна. Лише окремі моменти залишилися в пам'яти.
Я знала, що мій Батько живий, я чула ще його голос. Я чула, як він прохав пити. Нас хтось витягнув з-під каміння й поклав десь в іншому місці. Я нічого не бачила, бо очі були поранені. Я мало розуміла, була оглушена, але я відчепила мою червонохресну пляшку, в якій я мала кон'як, і повзла з нею до того місця, де був мій Батько, звідки я чула його голос. Приходили якісь німці, і я прохала їх передати моєму Батькові пляшку. Няня, очі якої не постраждали, сказала мені потім, що вона бачила, що у мене взяли ту пляшку, але Батькові не дали. Просто її вкрали.
Потім я пам'ятаю, що якісь пані дали мені пити. Хтось торкав мене за ніс і казав: «Зламаїшй», хтось торкав мої очі. Я нічого не бачила, майже нічого не чула, була приголомшена, але я почувала, що житгя ще ворушиться в мені. Пам'ятаю той мент, як мене кудись понесли, один мент мені здавалося, що ми кудись їдемо. Я прохала, щоб мене не розлучали з Батьком, і я була переконана, що мого Батька везуть разом зі мною.
Взагалі, скільки часу тривав алярм і скільки часу минуло після того, як нас відкопали й до того часу, як я опинилася в лікарні в Денендорфі, що знаходиться від Платтлінга в 12 кілометрах, і як мене взагалі везли — я не знаю.
Пам'ятаю пізніше, що мене понесли по сходах, кудись поклали, але де і як — я не розуміла. Скільки часу минуло після того, як я зрозуміла, що я в католицькій лікарні — я не знаю. Зробили мені якийсь шприц. Потім я довідалася, що і мені, і Батькові зробили ін'єкцію тетануса.
Через деякий час я чула, як якийсь мужеський голос питав мене, чи я вірю в Бога й Мати Божу. То католицький священик хотів мене приготовити до смерті і дати причастя, але коли він мене запитав, чи я католичка, і я йому сказала, що ні, він мені причастя не дав. «Я ще не вмираю», — сказала я йому, а він мені: «Я знаю, але Ви ранені в голову й це небезпечно».
Мені здавалося, що я весь час питала, де мій Батько, я була певна, що той священик сказав мені: «Ваш Батько тут, він має на шиї на золотому ціпочку ікону Матері Божої. Йому добре, але він тільки страшенно нервовий». І я була спокійна.
Але мого Батька в ту ніч не було тут, і я не знала, чи має він ікону на шиї, чи ні. Це мені лише так уявлялося. Лише пізніше Грищинський мені сказав, що мій Батько дійсно мав у ту першу ніч ікону на шиї, але що ту ікону він поклав під подушку, а коли він виходив з кімнати, ту ікону йому вкрали. Вона зникла.
Перші дні я почувала себе дуже погано. Я була хвора, як ще ніколи в житті. У мене були такі болі в голові, що я хотіла лізти на стінку. Біль до божевілля. Перші дні я була майже весь час непритомна.
На другий день увечері я почула, що сестра мене тягне за руку й каже: «Ваш Батько прийшов». Я думала, що він прийшов з сусідньої кімнати і страшенно зраділа. Через щілинку правого ока я його бачила, але неясно. Я бачила, що у нього голова була зав'язана. Я чула його голос. Він мене запитав: «Як Ти себе почуваєш?» Я сказала: «Ти не турбуйся, мені цілком добре, я тепер так щаслива, що бачу Тебе», і я тримала його за руку. Він запитав: «Який у Тебе настрій?» Я сказала: «Дуже добрий, дух козацький не вмирає!»
«Це добре! — Сказав він, — бо через кілька днів ми поїдемо далі». Мені тепер здається, що він мене не бачив ясно, лише чув мій голос, бо не зробив жодних зауважень щодо мого вигляду, а, як казали мені потім мої сусідки і Грищинський, вигляд мій був страшний.
Мій Батько вийшов, і кілька днів я його більше не бачила, бо сама не могла йти до нього, а він до мене чомусь більше не приходив, хоч усі, кого я питала, мені казали, що йому добре. І сестри, й лікарі, дівчата, що розносили їжу. Молодший Лікар запевняв мене, що я муситиму лежати ще тижні й тижні, а що мій Батько одужає вже скоро, що його рани не є загрожуючі для життя. І я була спокійна перші дні.
На третій день прийшов Грищинський і також заспокоював мене. Я взагалі майже не розуміла, що він говорить, але я була щаслива, що він бачив Батька. Взагалі, все мені тоді уявлялося радісно. Ми всі немов чудом вийшли живими з-під руїн. Все інше було неважливе.
Спочатку я не знала, що з Грищинський, і мені чомусь здавалося, що сестри мені сказали, що він тяжко ранений. Але на другий день, коли Батько прийшов до мене, він радісно мені сказав, що Грищинський не постраждав, та ще й всі наші речі відкопав. Головне, врятував куфер з усіма документами.
У няні були спалені руки, нога, лице, але рани були поверхові.
Від плаща мого Батька залишилися шмаття. Мені сказав Грищинський, що мій Батько ще жартував з ним з приводу цього плаща й сказав: «Ви мусите цей плащ зберегти, як музейну річ. Хай дивляться Гетьманці, як виглядав плащ у їх Гетьмана». Мій плащ так і залишився під каміннями. Мене витягнули з нього.
Лікарі встановили у мене зламаний ніс, а через кілька днів, коли зробили знімок, виявилося, що в кількох місцях тріснув череп. Волосся, брови, вії обгоріли, лице було розпухле, обшарпане, синє. Очей не було видко. Мої сусідки боялися на мене дивитися, дихала я з трудом. Надзвичайно швидко, одначе, я стала поправлятися, себто мій зовнішній вигляд ставав хоч і не нормальний, але не був уже таким страшним. Мої сусідки були здивовані, коли врешті-решт очі мої одчинилися. Голова моя боліла ще страшенно, і я по ночах не знала, як і витримати. Яких-небудь ліків мені не давали, бо казали, що нічого не мають.
Я думала, хай мій Батько не знає, що у мене тріснув череп, скажу йому, коли він поправиться.
Через кілька днів почалися нальоти на Денендорф. Мене носили на носилках в долину. Розбомбували в двох кілометрах велику фабрику, а я майже нічого не чула, бо була ще оглушена.
На пятий або на шостий день голова моя почала прояснюватися моментами. Разом з тим збільшувалося занепокоєння, чому не йде до мене Батько, коли всі кажуть, що йому добре ведеться. На шостий день я більше не витримала, і коли сестри не дивилися, я встала й, тримаючися за стіни мов п'яна, пішла до Батька. Він лежав у тому же поверсі, як і я, але в протилежному кінці коридору. У великій кімнаті стояло 10 ліжок.
Я побачила Батька, й у мене серце стало. Половина голови була забинтована, але по тій стороні, що була вільна, особливо по виразу ока я побачила, що він дуже тяжко хорий. З таблички на ліжку я вичитала, що він має гарячку, щодня 39 і більше. А це в його віці було небезпечно. Сестри казали, що то нічого, що то від опалення на лиці, що його рани загоюються добре…
Але після того, як я його в той перший раз знову побачила, я вже більше не мала спокою. Він мене пізнав, але йому тяжко було говорити. Вій сказав: «Для мене так тяжко, що я втягнув Тебе в що історію. Я так цього не хотів»: Я йому відповіла: «Ти не турбуйся, мені цілком добре, я майже здорова». Він зауважив: «У мене зараз момент безсилля. Ти мусиш тепер сама організувати пашу дальшу подорож і взагалі перебрати на себе листування з нашими людьми. Хай приїдуть нам тут допомоги». Я обіцяла, але сама з трудом повернулася до своєї кімнати.
Пан Грищинський балакав з головним лікарем. Він добре поставився до мого Батька й був до нього більш уважний, ніж до багатьох інших. Він був страшенно переобтяжений роботою. Я особисто його майже й не бачила. Він, як метеор, пролітав через кімнату. Дві ночі ще мій Батько провів у кімнаті, де був, один молодий німець, хорий на апендицит. Я прохала його доглядати за моїм Батьком і кликати сестер, коли йому щось було б потрібно. Я сама часто всгавала вночі і ходила до Батька й старалася йому бути в пригоді, але я дуже мало що могла зробити.
Я бачила рани мого Батька лише тоді.коли його перев'язували. То був, мабуть, вже шостий день після катастрофи. Рани всі були від опалення, не від осколків бомб.
Постраждала ліва сторона лиця. Головна, найглибша рана була над лівим оком, але окуліст сказав, що з оком буде все гаразд, хоч воно тепер було зачинене й опухле. Опалена була також ліва сторона носа й були рани між носом і ротом. На голові й на шиї були ще поверхові пошкодження шкіри. Коли я бачила рани мого Батька, то вони вже добре загоювалися, й самі рани мене не так злякали, як загальний стан його здоров'я. Найбільш лякала мене гарячка, яка мусила впливати на серце.
На тілі було багато синяків, особливо на руках, але зламано нічого не було. Батько скаржився, що болять груди, особливо при кашлі, але лікар запевняв, що в легенях все в порядку і що біль лише в м'язах.
Взагалі Батько на якісь великі болі не скаржився. Коли я його питала: «Чи в Тебе болить голова?», він кожний раз відповідав: «Ні, зовсім не болить, тільки настрій тяжкий». Я сама бачила, як йому було тяжко, й мені здавалося, що він страждає не стільки від болю в одному якому-небудь місці, скільки від страшного загального потрясіння всього організму й від гарячки.
Не міг спокійно лежати, бо мав багато турбот і все думав про наші українські справи; іноді він марив і прохав мене не пускати до нього так багато людей, бо він дуже стомлений. Я йому сказала: «Ти не турбуйся, я буду тепер усім займатися і нікого до Тебе не пущу». Він тоді заспокоювався.
Були моменти, коли він і мене не добре пізнавав. Одного разу він сказав: «Аліно, Аліно, Ти прийшла до мене! І Ви всі, мої дорогі діти, як то Ви так таємничо всі прийшли до мене!» А мені було так страшно за нього, лікар мене вже більше не заспокоював, а казав: «Зер беденкліх», серце дуже слабе. Останні дні робили шприци камфори.
У мене серце рвалося на части, і я все думала: якби тільки моя Мати була тут, якби тільки був тут хто-небудь з наших українських лікарів, які б з любов'ю приложили все своє знання, щоб йому помогти і його вилікувати.
Я вставала і вдень, і вночі й ходила до нього. Давала йому пити, робила, що вміла для нього, бо сестри не дуже добре розуміли, що він хогів.
В ніч з 23 на 24 я спала рядом з моїм Батьком. На третьому ліжку в кімнаті була няня. Головний лікар сказав, що лікарня переповнена, що кімнати в два ліжка він нам дати не може, але коли ми зуміємо перевезти няню з Платтлінга, то кімнату в три ліжка він нам дасть. З великими труднощами і я не знаю, яким чином, але Грищинський дістав авто й няню таки перевіз. У такий спосіб ми всі були вкупі і в кімнаті не було чужих людей. Ліжка були чудові, або мені так здавалося, бо досі я лежала на короткому диванчику, до якого був приставлений стілець.
Я весь час питала сестер: «Як з серцем?» І вони мені казали: «Сьогодні нібито краще». І знову без надії починала сподіватися.
В лікарні я мало що чула про зовнішні події, та й голова моя була в такому стані, що мені тяжко було з ким-небудь говорити й думати. Одна лише думка про Батька тримала мене на ногах. Коли ж я починала думати про щось інше, стіни починали колихатися, і я мала почуття, що я сгою не на підлозі, а на човні, що його по хвилях вітер гойдає.
Хоч я й не могла ні за чим слідкувати, але за останні дні з усіх вістей, що доходили до мене, стало ясно, що ми нікуди більше виїхати не зможемо, та й Батька не можна було б вивозити.
Відомості були дуже занепокоюючі, бо наступали не тільки американці, але наближалися й більшівики. Увечері 3 квітня була чутка, що більшовики зробили прорив і що вони на однаковій віддалі від нас, що й американці. Батькові ми нічого не казали, але він сам був чомусь неспокійний і вночі кілька разів кликав мене й питав: «Скажи, чи не прийдуть сюди більшовики». Він був уже такий слабий, що я боялася сказати йому правду і відповідала: «Не турбуйся, вони сюди не прийдуть!» Але в серці у мене був жах, бо я не була певна. І що ми могли б зробити?
Головний лікар уважно ставився до мого Батька. Сестрі був даний наказ витягнути для нього пляшку вина й підливати до води. У Батька була страшна спрага. Він майже нічого не їв, але Пив дуже багато, і лікар сказав, що це так потрібно й що це Від опалення.
Грищинський жив у Платтлінгу, бо не хотів'Кинути всі речі напризволяще, але він приходив кожні два дні, а іноді й щодня, роблячи по грязюці кілометрів 15. Як він жив, що їв — мені досі невідомо, бо майже всі крамниці були зачинені, і по картках нічого не давали. Потім довідалася, що він і в лісі ночував і мав всякі пригоди.
З боку літаків була постійна небезпека і в Денендорфі, і в Платтлінгу.
Що торкається мого Батька й мене, то було великим щастям, що ми попали в лікарню. Вона була першорядна, чиста й з усіма наймодернішими приладами, а скільки в той час ранених лежало по стодолах і залишалося край дороги.
Одно мене тільки дивувало — це те, що сестри були такі непривітні, їх було багато, були й дівчата, що прибирали кімнати, такщо вони не були так переобтяжені працею, як в інших лікарнях… Християнської любові деякі з них в серці не мали, хоч і були монашки. Під час одного досить великого нальоту прийшов у кімнату помічник лікаря, і я чула, як він казав сестрам: «Ось ту жінку з зламаним черепом (це я тоді лише довідалася, що у мене череп тріснув, бо до того я не розуміла, що зі мною сталося) мусите понести на носилках долину, бо їй ходити не можна». Я лежала на диванчику без сорочки, бо те, що було на мені, стало після нальоту таким чорним і подертим, що сестри зняли, а іншого не дали. Вони мене так без сорочки, в одному плащі, понесли в долину, причім бігли по сходах з носилками з моїми ногами догори, а назад вони мене вже більше не понесли. Я мусила сама піднятися нагору. Коли сестри мене носили, щоб робити рентгенівський знимок, то я була ще так слаба, що не могла стояти на ногах. Вони все на мене гукали, а сестра, що робила знимок, мені ні в чому не помагала: «Ви, нахабна персона, швидче, швидче сходьте з носилок, я не маю часу з Вами тут займатися». Коли я прохала їх дати для мене й для Батька борної води для промивання очей, бо і в мене, і у Батька очі були хорі, сестра мені довго вичитувала, щоб я не забувала, що тепер війна, щоб я не вимагала таких речей. Через кілька днів вона мені все ж таки принесла і борної води, і вати. Пізніше я випадково бачила, що в них у шафах було повно всяких ліків і перев'язочного матеріялу.
Найболючіше мені було те, що тут, у чужій лікарні, та ще й тому, що я сама була так хвора, я не могла перебрати на себе догляд з Батьком, а мусила залишити його на руках чужих людей. В ці переходові, жахливі військові часи не було жодної можливості взяти для мого Батька окрему сестру. Одну лише ніч я була з Батьком і могла йому допомагати. ч-,-Він постійно мене кликав, часто казав: «Мені так соромно, що Ти все для мене робиш, бо ж Ти сама ще нездорова», але йому було приємно, що я була з ним. Він нарікав, що сестри йому не дають спокою і все не так роблять, як він хоче. Спав він у цю ніч погано, тяжко дихав і постійно стогнав… Іноді починав пригадувати, що в організаційних справах треба зробити те-то й те-то. Хотів диктувати листи. Йому було тяжко говорити, а я з моєю головою не могла писати. До того ані залізниці, ані пошта не ходили.
Я йому казала, що все це можу зробити сама, і він заспокоювався…
Він балакав взагалі дуже мало й дуже часто й мене не пізнавав.
Гарячку мав ще велику. Мені було страшно самотньо, і я все думала, чи я роблю все, що зробила б для нього Мати, чи я взагалі роблю все, що потрібно? Що скажу я моїй Матері? Я майже нічого не могла для нього зробити.
24 квітня вранці в лікарні була страшенна метушня. Коли я вглянула у вікно, то побачила великі натовпи людей, які йшли з візками, з речами, з дітьми. В лікарні кружляли страшні чутки: казали, що наближаються більшовики. Правди ніхто не знав, але занепокоєння у всіх було страшне. Прибіг молодший лікар і звернувся до мене: «Ви мусите увезти Вашого Батька, Ви ж не можете залишити його тут при більшовиках!?» Грищинського не було, а що я сама могла в цих обставинах зробити. Батько був такий слабий, що його не можна було б далеко везти. Він і стояти не міг. Змарнів страшенно…
За ніч вся ситуація змінилася. Відомо було вже давно, що американці наближаються, але тепер сталося так, що не було певності, чи прийдуть сюди американці, бо могли дуже легко прийти сюди й більшовики. Бажали всі приходу американців, але не знали, хто прийде раніш.
Денендорф був об'явлений кріпостю. Всі чоловіки мали захищати місто. Жінки, діти, старі мали негайно ж покинути місто, бо воно напевно буде розбомбоване. Наш шпиталь евакуювали. Військові авта вивозили своїх військових, своє майно. Приватні люди мали самі якось зникнути.
Знову прийшов лікар і сказав: «Ви мусите вивезти свого Батька, Ви взагалі мусите покинути шпиталь!» Але куди я його вивезу і як? У мене було почуття, що в моїй голові велика фабрика, так я була ще оглушена. Звуків, що приходили ззовні, я майже не чула, бо вухо одне було цілком пошкоджене. Я ще ледве-ледве ходила… А Грищинського все ще не було.
Хоч мені,и тяжко було, але я кілька разів ходила до фельдфебеля, який урядував в долині. З ним балакав також і головний лікар. Той весь час кудись дзвонив, старався роздобути для нас авто, прохав почекати, обіцяв це забути за нас, але нічого не робив.
Сестри метушилися. Ніхто не заглядав до нашої кімнати, на дзвони не відповідали, а мій Батько увесь час потребував допомоги. Я не хотіла його покидати ані на хвилину. Він був напівпритомний і не звертав більше ні на що уваги. Я йому ще нічого не казала. А мені було так самотньо й страшно.
Я мусила помагати й няні, бо хоч вона тоді була менш хвора, як я, але руки й ноги у неї були не в порядку й вона, сама нічого не могла робити. Я мусила зібрати всі наші речі й все зв'язати в клунки. Майна ми мали небагато, але, навіть і ця робота була для мене затяжка.
Коло 12 години врешті-решт прийшов Грищинський. Я боялася вже, що його не пропустять в Денендорф і що доведеться кудись виїхати без нього. Це дуже легко могло б статися.
До того ще весь ранок тривав алярм. Кружляли спочатку. над самою головою; літаки і стріляли з кулеметів. Потім кидали великі бомби поблизу. До лікарні принесли багато ранених, і вони лежали в коридорі. Я бачила їх криваві обличчя й чула їх стогін.
Хто міг, пішов до пивниці. Мого Батька сестри не захотіли нести, бо він мав понос. Я стояла коло мого Батька й дивилася у вікно. Бачила, як кидали в місті бомби її зруйновано було кілька будинків.
З лікарні великими скринями виносили всяке майно. Всіх військових вивезли на грузовиках. На носилках принесли в долину всіх старших цивільних тяжко хворих; і вони лежали по коридорах і чекали, щоб їх кудись вивезли. (Пізніше я довідалася, що багато людей опинилося прямо в лісі. Я потім бачила одну дівчину, яку сестри випустили з лікарні в одній сорочці. Добра сусідка позичила їй плащ, добрі люди дали їй у себе притулок).
Батько ще був у ліжку. Ми не хотіли його турбувати зарано.
Грищинський знову балакав з фельдфебелем, і той знову обіцяв, але нічого не робив, бо, мабуть, не міг. Грищинський знову говорив і з головним лікарем. Було вже досить пізно пополудні, і ми могли б залишитися на вулиці. Батька ми могли б везти лише туди, де він мав би лікарську допомогу.
Лікар сказав, що нам треба перш за все виїхати за всяку ціну з Денендорфа, бо не сьогодні-завтра його можуть цілком розбомбувати, бо влада вирішила міста не здавати ворогам. Радив нам їхати до Меттена, бо там є лікарня, а крім того вирішено, що Меттен захищати не будуть. Чи прийдуть американці, чи більшовики — ще невідомо. Більш правдоподібно, що прийдуть перші. Обіцяв, що й далі нам допоможе.
І дійсно, коли він побачив, що фельдфебель для нас нічого не зробив, він Дав йому наказ одвезти нас у його приватному авто До Меттена й передати нас в меттенську католицьку лікарню.
Коли я запитала лікаря, як він дивиться на стан мого Батька, він захитав головою. Замість того, щоб мені прямо відповісти, він мене запитав: «А як Ви самі думаєте?» Я відповіла: «Мені здається, що йому дуже й дуже зле». Він нібито погодився зі мною, але діагнозу не хотів ставити.
Монашка, яка бачила, як Грищинський та я були стурбовані, сказала: «Моліться Богові, щоб Ваш Батько швидче помер. Він уже старий. Вам буде легше. Що Ви будете возитися з таким хворим?»
Священик, монах-бенедиктинець, також зауважив: «Дай Боже Вашому Батькові спокійної смерті. Я Дав йому благословення. Не міг його причастити, бо він православний». Я сказала: «Мій Батько дуже хворий, але з Божою поміччю він одужає». «Так, але рани голови небезпечні». Я подумала: він і мене хотів уже поховати, але я жива й буду жити.
Прийшов час повідомити Батькові, що нам треба їхати далі. Він лише запитав: «Куди?» Ми сказали: «До Меттена, там нам буде краще й спокійніше». Він більше нічого не сказав. Був у півсні. Ми його одяглії й поклали на носилки, покрили теплим плащем.
Деякий час треба було ще чекати в долині. Нас вивозили, так сказати, не в чергу, завдяки головному лікареві. Батько лежав на носилках, няня і я сиділи на стільцях. Коридори лікарні були ще повні людей, які зовсім ще не знали, що з ними буде.
Було так страшно за Батька, але ми іншого виходу не мали й мусили бути щасливі, що так добре вийшло для нас з переїздом. Авто було невелике. Мого Батька улаштували півлежачи на задньому місці. Няня сіла з шофером. Грищинський та я навколишках умістилися в ногах у Батька на підлозі. Я тримала голову Батька на своїх руках, щоб не так трясло. Покрили Батька ковдрою, хоч день і не був холодний. Їхали чудовою дорогою. Фельдфебель прохав, щоб ми слідкували за американськими літаками И попередили його, коли б вони почали до нас наближатися і знижуватися. Але нам пощастило. їх поблизу не було. Переїхали ми через доплив Дунаю.
Підвезли нас до лікарні в Менена й передали нас монашкам. Винесли Батька й поклали на носилки. Ми подякували фельдфебелеві й розпрощалися з ним. Нас так швидко евакуювали з Денендорфа, що ані за побут в лікарні, ані за лікування ми нічого не заплатили.
Меттенська лікарня була простіша від Денендорфської, але дуже чиста.
І тут, і там деякі монашки були непривітні. Мабуть, через те, що вони тут були так перепрацьовані, душі їх висохли, вони справляли враження автоматів.
Я мушу, одначе, тут сказати одне, щоб не вийшло непорозуміння: я завше з великою повагою ставилася до католиків, зокрема, до католицьких монашок, бо я часто бувала в католицьких лікарнях і бачила часто дуже привітних монашок з суто християнським підходом до всіх людей. Мене розчарували монашки в Денендорфі і в Меттені, але це не значить, що я змінила свій погляд на католицьких монашок взагалі. Монашки в Меттені були малоінтелігентні жінки, вони були надзвичайно працьовиті, вони сумлінно виконували свої обов'язки, але вони самостійно думати не могли й зовсім вже не знали, що їм треба думати й робити в ті жахливі, виняткові часи, часи війни, в яких ми опинилися у них. Може, це їх оправдує.
Грищинський та я умовляли головну сестру, щоб вона дала нам маленьку кімнату для нас окремо (коли б вона захотіла, вона могла б це зробити), але вона не погодилася. Сказала, що мого Батька умістять ще з одним паном в маленькій кімнаті, а мене з нянею у великій кімнаті з багатьома іншими жінками. Скільки я їй не доводила, що мій Батько дуже тяжко хворий і постійно потребує помочі, вона не зм'ягчилася.
Сказала, що сестра буде за ним добре доглядати, що той інший пан буде дзвонити, коли що буде потрібно, а що я сама можу Батька вдень відвідувати. Віючі є в лікарні дежурпа сестра. Монашка була така уперта, що нічого не вдалося зробиш.
Батька поклали до ліжка, і він нібито почував себе не гірше.
Коли поміряли температуру, то вона була далеко нижчою, ніж в той самий час напередодні. Сестра сказала, що пульс добрий. Грищинського та мене Батько пізнавав. Просив нас дещо сказати сестрам. Дихав якось спокійніше, менше кашляв. У мене знову з'являлася надія безнадійна.
Я попрохала Грищинського, щоб він не уходив сьогодні до Платтлінга, бо я боялася, як пройде ця ніч після переїзду. І бідний Дмитро Іванович просидів всю ніч в коридорі, бо не було де йому уміститися. Він часто входив до Батька й помагав, чим міг. Я бігала віючі у другий поверх до Батька, але кожний раз натрапляла на пічну сестру й вона мені забороняла в кімнату входити, щоб я хворим не заважала. Сказала, щоб Батько спокійно спить і що йому непогано. Температура й пульс нібито були задовольняючі.
Ми хотіли, щоб Батька негайно ж по приїзді оглянув лікар, але головний лікар і його два асистенти були в роз'їздах. Настрій в Меттені був далеко спокійніший, ніж в Денендорфі, але багато людей на селі приготовлялися до втечі. Лікарі, як нам казали, десь мусили допомагати. Грищинський увечері знайшов таки головного лікаря, але він не зміг прийти, бо був, мовляв, переобтяжений працею. Обіцяв на другий день вранці уважно Батька оглянути.
Ходив Грищинський також і до священика й прохав його, щоб він вплинув на монашок, щоб вони уважніше ставилися до мого Батька. Старенький священик обіцяв охоче, але сказав, що його вплив на сестер в лікарні невеликий.
26 вранці Грищииському й мені здалося, що Батькові наче краще. Він був більш бадьорий, більше балакав, нарікав на сестру.
Вночі зняв сам пов'язку з голови, що мене дуже збантежило, але коли прийшов лікар, то сказав, що то нічого й що рани тепер в такому стані, що краще й без пов'язки. Я боялася, щоб Батько ненароком не роздер знову свіжозагоєпих рай, які йому чесалися.
Температура була майже нормальна. Батько з'їв шматок хліба й випив кави.
Лікар сказав, що, на його думку, небезпеки для життя тепер немає.
Батько балакав і зі мною, і з Грищинським. Запитав мене: «Чи довго ми тут залишимося?» Я відповіла: «Як тільки Тобі буде краще, при першій можливості поїдемо далі». «Добре, але я хочу швидше виїхати».
Він послав Дмитра Івановича до Платтлінга, щоб він подивився, чи не розкрали там всі речі, а також тому, що потребував чистої білизни, хусток і т.ін. Грищинський мав прийти знову на другий день. До Платтлінга від Меттена було 15 кілометрів.
В Меттені чекали на американців, а не на більшовиків. Почувалося велике напруження й непевність щодо найближчих днів.
Взагалі ж жили в лікарні місцеві люди й монашки своїм, цілком відокремленим життям. Тут ані разу не бомбили за всі шість років війни. Ніхто собі не уявляв, як може виглядати розбомбовапе місто, та, по правді сказати, вони нічим і не цікавилися. Навіть цілком байдуже ставилися до того, що був розбомбований Платтлінг і Денендорф, хоч це було від них дуже близько. Були певні, що їм нічого не станеться, а що в інших місцях люди зазнавали страшних нещасть — їх не обходило. Помітила, що тут люди були назагал дуже егоїстичні.
В Меттені великий старий бенедиктинський монастир, велика гарна церква, стилю барокко, перебудована в першій половині минулого століття баварським королем Людовиком І. Меттен існує аж з VIII століття, там в ті часи оселилися перші монахи. Протягом століть він відігравав велику роль в культурному житті. Колись монастир мав величезні маєтності, навіть і тепер багато що збереглося. До останніх часів була в Меттенівелика мужеська гімназія, яку гримало католицьке духовенство. Мав монастир цінну бібліотеку. В помешканнях гімназії був тепер табір, де уміщалося кілька соток угорців з родинами.
Грищинський перед полуднем пішов до Платтлінга в повній надії, що Батькові краще й що життя не загрожене.
Моє власне здоров'я було дуже погане. Останні дні я не мала спокою ані вдень, ані вночі, я майже не лежала. Як я тоді ще ходила, я не розумію: мабуть, тому, що я почувала, що за всяку ціну я мушу витримати. Я з'їла всі ті ліки від болю, які я у себе мала, бо з головою було педобре, а також і з вухом і носом. Мені тяжко було дихати, а в голові було почуття, що море бушує. Я майже не чула, в голові паморочилося. Була гарячка. Сестрам і лікареві я нічого майже не сказала, щоб вопи не заборонили мені ходити до Батька.
Вдень я кілька разів бігала до нього й сиділа з ним. Йому все було холодно, і я укривала його, бо він лежав неспокійно й все скидав покривала й пуховик. Я прохала сестру дати мені для Батька грілку, але вона відповіла: «Ми нічого не маємо, тепер війна». Я сказала: «Дайте мені для Батька тоді просто пляшку з гарячою водою», вона відмовила: «Не дам, бо він пляшку розіб'є». Я була безпорадна. А пізніше, коли було вже запізно, я бачила, що воші мали і металеві грілки й електричні й давали їх хворим. Я потім помітила, що сестри і в Денендорфі й тут, що б їх не попрохати, у всьому спочатку відмовляли. Через деякий час, одначе, все майже у них знаходилося й вони приносили. Але вони й тут були вкрай непривітні й безсердечні. В ті часи так хотілося б почути добре слово. Для себе я нічого не вимагала, а для Батька прохала лише те, що вони легко могли б сповнити. Що мене страшенно вразило, так це те, що коли я одного разу була у Батька, то побачила, що він лежить лише в сорочці, що з нього знятий теплий светер, який він завше одягав, коли йому було холодно, И у ньому постійно спав. Я запитала сестру: «Що це значить?» А вона мені: «Ми мусили цей светер зняти, бо він темний, ми не дозволяємо носити такі темні светери, бо це псує нашу білизну». Я взяла цей светер і покрила ним Батька, одягла йому ще на ноги теплі панчохи, покрила його добре не тільки пуховиком, але поклала на ліжко ще й його теплий плащ, а монашкам цим бажала, щоб вони сказилися.
Під вечір 26 квітня в лікарні у всіх настрій був дуже неспокійний, бо американці були дуже близько. Кожної хвилини могли б бути в селі. Наперекір тому, що було сказано раніш, вирішили, що Меттен будуть військові й населення захищати. З вікон лікарні видна була велика панцирна барикада.
В кімнаті, де я лежала, була ще одна дівчина, яку відвідували її брати, хлопці років 14–15. Вони розказували, що їм дали ручні гранати. Настрій у них був, одначе, зовсім не войовничий. Вони, здається, вже наперед вирішили, що опору американцям робити не будуть. Всім хворим наказано було одягнутися й винятково дозволили одягнутими лежати на ліжках, аби бути готовими йти до пивниці. Американські літаки літали увесь час над нами. Іноді далі, іноді ближче чути було вибухи. Зі свого вікна я бачила, як ще раз бомбували Платтлінг, здіймалися до гори великі чорні клуби диму.
Нянине здоров'я було в той час непогане, але вона до всього була цілком байдужа. Я мусила і її одягати, і їй в усьому помагати. Сестри ні до чого не мали часу. Їх взагалі було в цій лікарні дуже мало, і вони були страшенно переобтяжені працею, що, на жаль, відбивалося на їх відношенні до хворих.
Я в ті дні думала: «Яке щастя, що у мене руки й ноги в порядку, краще мати пошкодження, де б то не було, ніж не мати можливості рухатися. Що б я робила, коли б я мала хоча б найменшу рану на нозі й позбавлена була б можливості ходити до Батька?»
В лікарні всі були дуже перелякані, бо ж ніхто не знав, як переживемо наступ американців. Все в той день було з великим запізненням. Вечерю дали замість шостої в 7. Я пішла до Батька, щоб йому помогти з їжею.
Короткий час минув, що я не була в нього, але зміна сталася страшна. Він мене більше цілком не пізнавав і не розумів того, що я йому казала. Більше не балакав. Супу він по ложечках з'їв, що дуже здивувало сестру. Потім я його добре укрила. Він дихав цілком спокійно, не ворушився.
Прийшла сестра, сказала: «Ваш Батько тепер буде спати, ідіть до себе, коли буде якась зміна, я Вам скажу». Я пішла до себе, але кілька разів ще ходила до нього и другий поверх. Він лежав, не ворушившися. Що він мене більше не пізнавав і був непритомний, було жахливо. Мені тяжко було збагнути, що з моїм Батьком сталося, бо ж вранці лікар сказав, що йому майже нічого не бракує, що він одужає. Я мала іншу думку, я була перекопана, що моєму Батькові дуже зле, але і я не сподівалася, що така страшна зміна на гірше прийде так скоро. До останнього я не губила надії.
Дійсно, багато чого тяжко мені було збагнути, бо ж після катастрофи мій Батько ще ходив. Грищинський мені розказував, що він бачив мого Батька в лікарні в Платтлінгу, бо лише на другий день Батька перевезли до Денендорфа, до тієї лікарні, де була я. В Платтлінгу мій Батько знав, що я жива, бо бачив мене після нальоту й говорив зі мною. Він був у доброму настрої. Коли подали йому в лікарні вечерю, то вона дуже добре йому смакувала, і Грищинський. навіть ходив діставати для нього ще другу порцію. Коли на другий день його перевезли до Денендорфа і він увечері прийшов до мене, він був дуже бадьорий, хоч, може, й підсвідомо у мене залишилося тоді почуття, що він страшенно має нервовий голос і якийсь-то неспокійний. Потрясіння від вибухів мусило в Платтлінгу бути таке страшне, що не могло не відбитися на всьому організмі. Мені потім казали люди, які пережили багато нальотів і бачили баї ато ранених, що то відома річ, що реакція наступає не враз, а дуже часто лише через кілька днів. Мені в Денендорфі дівчина Лена, україночка з Дніпропетровська, яка прибирала кімнати й дуже була до мене мила, розказувала про мого Батька, що вона бачила його в пивниці під час нальоту, що він сам туди ходив. То було, мабуть, на третій день після катастрофи. Я тому й думала тоді, що йому добре. Кілька днів пізніше Грищинський мені сказав: «Пан Гетьман не розуміє, чому він такий стомлений, він сьогодні з трудом дійшов до шафи, де висів його одяг». Він і до мене не міг приходити. Коли ж, його після того побачила, то йому було вже, на мою думку, зовсім зле. Повторюю, не стільки рани його мене злякали, скільки його загальний стаи. В його віці потрясіння особливо було небезпечне. Адже ж кілька тижнів йому лише бракувало до 78-го року. 16 травня він має день народження.
Від лікарів тяжко було щось вимагати, вони були чужі, вони розривалися на части — ми попали до лікарень у самі тяжкі часи.
Сестра мені сказала, щоб я у Батька не сиділа весь час, бо заважаю другому палові спати. Я нічим не можу допомогти, і я знову пішла до себе й одягнена лежала на ліжку.
Вдалечині чулися великі вибухи й стрілянина. Я була серед чужих людей, ані близької душі. Від няні жодної підтримки. В лікарні всі зайняті своїми справами, своїми страхами. Занепокоєння велике. Тут тяжко хворий мій Батько. Все інше мені здавалося таким дрібним.
Я пішла нагору й запитала сестру: «Як моєму Батькові?» Вона відповіла: «Йому недобре». Я знову запитала: «Скажіть, сестро, чи є ще надія?» Вона сказала: «Ні, надії більше немає». Другого пана в кімнаті вже більше не було; Батько був сам. Лежав самісіпько так, як коли я його покинула, але дихав тяжко. Очі мав заплющені. Був непритомний. Я сиділа рядом з ним і тримала його руку. Вонабулахолодна. Через деякий час дихання стало цілком спокійне, рівне. Минуло так кілька годИн. В кімнаті було дуже холодно, бо було одчинене вікно. Сестра сказала, що Батькові легше, коли в кімнаті холодно, і я мусила їй вірити.
Приблизно в три годині прийшла сестра й сказала мені: «Хоч надії вже немає, але такий стан може тривати дуже довго, може, ще й кілька днів. Ви так не витримаєте. Ідіть до себе. Коли буде якась зміна, я вас покличу».
Я ледве-ледве трималася на ногах і тому її послухала, але спати, звичайно, я не могла. Через деякий час я знову пішла до Батька. Він спокійно лежав, ледве було чути його дихания. Через кілька хвилин почав дихати міцніше, тяжко, так як дихав перед кількома годинами раніш. Це тривало кілька хвилин. Потім затих. Нічого більше не було чути. Я думала, що він заснув.
Прийшла сестра і сказала мені: «Ваш Батько помер». Я не розуміла довго, що вона каже.
Це було о четвертій годині ночі 26 квітня.
Я не мала сил дивитися, як його через деякий час винесли з кімнати й поклали в капличку, де ставлять тих людей, що помирають в лікарні. Ця капличка знаходиться в кінці двора в окремому будинку. Там є кілька кімнат для заразнохворих.
Трохи пізніше я пішла до Батька. Лежав на чорних носилках, в сорочці, без подушки. Він був покритий простирадлом. Все було таке непривітне, холодне, чуже. Тільки я сама була з Батьком. Я сиділа з ним і гаряче молилася, але слова молитов не приходили до голови. Була в ній пустка. Навіть і «Отче Наш» ледве-ледве змогла прочитати.
Вранці прийшла одна стара баба, щоб допомогти мені одягти мого Батька. Це була добра жінка. Вона обережно і з повагою помагала мені й навіть сльози текли у неї з очей. Певно і сама мала горе.
Одягли Батька в його чорний костюм. Я зложила йому руки й поклала на груди ту іконку срібну, якою моя Мати й Марійка богословили його на прощання в Оберстдорфі. (В грудні 1944 року мій Батько на кілька днів туди їздив).
Потім прийшов один чоловік, щоб сконстатувати смерть і видати відповідний папір. Я мусила подати йому персонали і дати. Лікар також дав посвідку. Коли я його запитала: «Як же так сталося, що Ви учора вранці сказали, що Батькове життя не загрожене?» він сказав: «Не питайте мене, тут такі речі робляться, що у мене голова йде кругом, я вже й сам не знаю, що говорю». На посвідці, яку ми подали до бурмистра, стояло, що Батько помер не тільки від ран опалення, але й від запалення легенів. Коли на другий день я запитала головного лікаря: «Хіба мій Батько помер від запалення легенів?» він сказав: «Я мусив щось написати, а тепер вже більше не знаю, від чого помер Ваш Батько». Він махнув рукою: «Нас тут було три лікарі, тепер я тут один».
Е селі було заворушення, бо ніхто ще не знав, коли вступлять американці й чим скінчиться день. Військові тікали й вивозили майно.
В лікарні також всі мали свого клопоту багато. Що б я не питала, ніхго нічого не знав і знати не хогів.
Старша сестра сказала мені: «Ви мусите подбати тепер про труну, підіть за нашим робітником, і він Вам покаже, де можна замовити». Я пішла за тим робітником, але то був якийсь дурень. Він щось мені сказав, чого я не зрозуміла, й зник серед села.
Я ледве ішла. Кілька разів мене питали люди: «Що з Вами, чи не треба Вам допомогти?» Лице моє було сіре, з великими синяками, все розпухле, волосся обрізане нерівно, бо обгоріло. Я йшла, мов п'яна.
Я все питала людей: «Скажіть, де я можу тут знайти труну?» Але всі були зайняті, ніхто нічого не знав, крамниці були зачинені, й ніхто мені не допоміг. Я блукала довго й так і повернулася до лікарні.
Я сказала сестрі, що труни я не знайшла, а вона на те: «Так, тепер війна, тут фронт, можна поховати Вашого Батька й без труни».
Коли я питала в лікарні про священика, то виявилося, що про православного священика тут ніхто ніколи й не чув. Меттен був від усіх інших сіл і міст одрізаний, всяке сполучення було припинене.
Сказали, що в Денендорфі є лютеранський священик, але що звідти тепер ніхто сюди прийти не зможе.
Що ж торкається католицького священика, то сестри сказали, що то цілком виключена справа, щоб вони могли поховати православного.
В четвер пополудні так і не вдалося нічого зробити, але я сказала, що без труни й без священика я свого Батька ховати не буду. Я тільки молилася, щоб Бог дав мені сил втримати до кінця й все зробити як слід.
Пополудні американці почали брати Метген. Сіріляли з рушниць, з кулеметів, кидали гранати. Всім заборонено було виходити на вулицю. Няня і я кілька годин сиділи в пивниці. Було там переповнено, було холодно, незручно й дуже тяжко. А мій Батько лежав сам. Всі мої думки були у нього.
Вечером Меттен був зайнятий американцями. В'їхала в село величезна кількість танків і авто. Повно було американців. На вулицю не можна було виходити. Хоч стрілянини було багато, Метген порівняно швидко й без особливих втрат перейшов до американців. Припинилися всякі повітряні бомбардування і наступила тиша. Буває іноді, що людина має постійний великий біль і до цього болю звикає, і враз цей біль припиняється. Таке було почуття тепер, коли враз припинилися нальоти.
Так минуло 26 квітня. Вранці помер мій Батько, а вдень у Метген увійшли американці. Я була сама, Грищинський так і не зміг прийти.
В п'ятницю 27 квітня вранці я сиділа з Батьком. Коли я йшла через двір до каплиці, то кругом мене свистіли кулі. То стріляли американці, але чому вони стріляли й звідки — мені було неясно, та й досить байдуже. Так само було й на другий день, коли я йшла до церкви.
В каплицю поклали ще одну померлу жінку, й це мені було неприємно, бо я хотіла бути сама з Батьком. Вона тепер лежала на посилках, а мого Батька переложили на окрему підставку зі сходами до неї.
Я все думала: «Чому так сталося, що мій Батько помер, а я залишилася? Ми ж увесь час були вкупі, і я стояла рядом з ним, коли коло нас Розривалися бомби. Що я скажу тепер моїй матері? Що я скажу теперь тим, хто мого Батька любив? Як я появлюся без мого Батька? Як то ми всі не зберегли його? На нас усіх лежала велика відповідальність».
Люди будуть питати, які були останні слова Батька, який був його заповіт?
За останні кілька днів і безпосередньо перед смертю мій Батько майже нічого не говорив, і мені здасться, що він був настільки хворий і мав таку гарячку, що його думки носилися вже в цілком іншій площині. Він був часто непритомний. Чи він думав про смерть, я не знаю. Останніми днями він про неї не говорив. Навпаки, він увесь час балакав про те, щоб їхати далі, що він мусить працювати.
Але до того, що йому стало так зле, особливо ще до катастрофи, під час нашої подорожі, Багько багато балакав, і з цих розмов я запам'ятала деякі його слова, які можна вважати за його останні думки й бажання.
Як я вже раніш писала, він кілька разів казав про те, що почуває, що з ним в скорому часі щось сгапегься. В такі моменти він мені казав: «Якби зі мною щось сталося — бережіть Маму й помагайте всі їй. Вона найбільше підтримувала мене в моїй роботі, коли б не вона, я, може, наробив би багато-багато дурниць. їй було зі мною нелегко, але я не знаю другої людини, яка б без скарг так виконувала те, що за свій обов'язок вважала і яка б ніколи не йшла на які-небудь компроміси зі своїм сумлінням. З усіх моїх співробітників вона мені, так сказати, за кулісами найбільше помагала в моїй роботі для України. Вона робила часто багато-багато такого, про що ніхто не знав і знати не буде, а коли б вона всього того не робила, мені було б дуже тяжко. Мама й вас, усіх моїх дітей, дуже й дуже любить. Коли мене не буде, мусите Мама берегти і її захищати, бо вона про себе дбати не вміє, вона така скромна й така готова цілком все віддати, що її дуже легко образити й заклювати, крім того, вона має таку вдачу, що допомоги прохати не буде, а буде сама працювати понад свої сили. Після моєї смерті на її плечі ляже великий тягар. Вона тримає нас — родину — вкупі».
Мій Батько був переконаний, що як тільки частина Німеччини буде зайнята англійцями і американцями […?]. Він […?] і своїм прихильникам залишав Заповіт за […?].
На Гетьманський Рух мій Батько дивився як на рух, який ніколи припинитися не зможе, бо це не є який-небудь кон'юнктурний рух, але він виростає на природному грунті, випливає з найглибших потреб українського народу. Бувало іноді, що на мого Батька з усіх сторін сипалися тяжкі удари, він, одначе, залишався завше спокійний і особисто не почував себе ображеним. Він казав: «Я так вірю в правоту свого діла і що воно не загине, що я цілком спокійний. Я особистих амбіцій не маю. Я вважаю за свій обов'язок робити те, що я роблю. Я покликаний це робити для України».
Мій Батько говорив: «Пам'ятайте, що Гетьманський Рух не є якою-небудь партійною організацією, він, завше мусить стояти понад усіма партіями».
Мій Батько вірив, що самостійна Україна зможе бути лише тоді, коли вона буде гетьманською, і вдержатися вона зможе лише тоді, коли Гетьманство буде дідичне, але він усвідомлював собі, що можуть бути такі часи, коли невчасно буде висовувати Гетьманство в першу чергу. Все, треба робити своєчасно. В першу чергу і треба завше дбати про інтереси загальноукраїнські й висовувати Гетьманство лише тоді, коли воно зливалося б з інтересами загальноукраїнськими, ніколи, одначе, не сходити з засад і принципів Гетьманської ідеології.
Мій Батько усвідомлював собі, що становище Українства в дані часи надзвичайно тяжке, таке тяжке, як ще ніколи, може, й не було досі.
Він вважав, що не стільки винці в тому обставини, скільки внутрішній стан самого Українства. Українці мусять в першу чергу працювати над своїм внутрішнім об'єднанням.
Дуже велику вагу мій Батько надавав церкві. Він вважав, що коли не буде у нас своєї власної української церкви, то не буде й України. Треба, щоб українці не ставилися байдуже до своєї української церкви, а всіма силами під гримували її. Духовенство мусить бути не стільки з українців по походженню, скільки з українців свідомих. На Україні завше грала й мусить грати велику ролю Церковна справа. Украй щі мусять дбати про те, щоб богослужіння проводилося на українській мові.
Українська мова, одначе, це мусить буги накинута силоміць. Якде в парафії більшість віруючих захоче мати богослужіння на церковнослов'янській мові — треба це дозволити. Українська церква мусить бути строго-канонічна.
До греко-католицької церкви мій Бат ько ст авився з великою повагою і вважав, що було б страшним нещастям, якби постала яка-небудь боротьба релігійна між православними й греко-католиками. Кожний українець мусить триматися своєї батьківської віри, інші ж віри поважати. Всі християнські релігії на Україні рівноправні.
Мій Батько дуже великі надії покладав на українців, зокрема гетьманців, за океаном. Він гадав, що вони зможуть відіграти велику ролю в українській справі. Взагалі його великим бажанням було, щоб всі українці незалежно від того, де вони народилися, чи то на Східній Україні, чи то в Галичині, чи то в Америці й Канаді або десь інде, тісно об'єдналися. Українці з Східної України й українці з Західної України є дітьми одного народу, було б великим нещастям, якби ворогам українського народу вдалося поширити й поглибити деякі непорозуміння, які виникають між українцями ріжних гілок головним чином тому, що люди виростали й виховувалися в інших обставинах. Істотних, суттєвих непорозумінь буги не може, і коли непорозуміння є, то вони виникають завдяки завеликій амбітності й замалій жертвенності людей, завдяки браку такту й справжньої любові до свого Рідного Краю, завдяки браку Державної Ідеї.
Українську молодь треба виховувати на принципах християнської моралі. Гетьманці мусять дбати про те, щоб в їх рядах царювала чесність і порядність.
Мій Батько хотів би бачити в кожному члені Союзу Гетьманців Державників людину, на яку можна було б покластися як в малому, так і в великому, щоб всі члени були так просякнуті одною ідеєю, щоб вся їх діяльність проводилася в одному напрямку, щоб навіть і тоді, коли ріжні члени СГД сидять в ріжних місцях і відрізані один від другого збігом обставин, не робили кардинальних помилок і не сходили б з великого шляху, накресленого Липинським.
Члени СГД є люди, які добровільно, з великого патріотизму й з глибокого вігутрішнього переконання, що СГД, в своїй програмі вказує шлях до Національно-Державного Ідеалу, стали членами організації і взяли на себе обов'язки, які та організація від них вимагає. В організації вони не мусять шукати для себе якихось вигод та пільг, навпаки — вони мусять бути найбільш жертвенні, найбільш діяльні. Виконання їх обов'язків є потребою їх сумління.
СГД не є масовою організацією. В СГД можна приймати людей лише з великим розбором, бо це є люди, яким будуть ставитися найбільші вимоги. Вони мусять бути свідомі своєї відповідальності.
Хочу тут ще особливо підкреслити, що мій Батько мав незламну віру в те, що шлях яким він ішов, був […?] правильним шляхом, він вірив глибоко в усе те, що він сам проповідував. Він був чесішм супроти свого народу. Він ішов шляхом лицарським, гідним великого народу. Нарід український в нещасті, але потенціальні сили його незмірні. Треба зуміти спрямувати всі його сили в одно річище. В цьому СГД мало б відіграти велику ролю. Мій Батько до останнього вірив міцно в можливість здійснення великої Мети. Перед його духовними очима завше стояла велика Українська Держава.
Багато-багато давав Батько загальних вказівок. Що торкається того, що треба було б робити в найближчі часи, то цілком конкретних наказів він не давав, бо знав добре, що в теперішні часи обставини настільки складні, що в більшості випадків кожний член організації, взагалі кожний Гетьманець і українець вимушений буде сам вирішувати, що йому робити, вимушений буде сам проявляти найбільшу ініціативу. Всі мусять, одначе, дотримуватися однієї загальної лінії і від неї не відступати. Так, наприклад, боротьба з більшовизмом і всіма його проявами йде далі й до кінця.
Батько передбачав, що обставини зможуть скластися так, що не тільки гетьманці зокрема, а українці взагалі примушені будуть працювати дуже обережно. Він передбачав, що прийдуть, мабуть, часи, коли на довший час не можна буде провадити активно хоча б найменшої політичної роботи. Він не безнадійно на це дивився. Коли б не можна було одверто провадити політичної роботи, треба перш за все дбати про збереження кожної окремої одиниці, яка чи то в скорому часі, чи то в більш далекій будуччині зможе принести користь загальній українській справі. При всіх обставинах треба дбати про збереження життя кожного українця і дбати про те, щоб не підупадали вони духом і щоб мораль їх залишалася на належній висоті.
Треба буде звернути особливу увагу на врятування Й на полегшення становища українців зі Сходу, бо їх доля буде найтяжча, і вони будуть знаходитися з найбільш безправному положенні.
Мій Батько дуже велике значення надавав тому, щоб при всіх обставинах провадити виховання людей в Гетьманському дусі. Щоб був хоча б невеличкий штат людей, які всі б думали, як одна людина, щоб Гетьманці свою ідеологію добре знали. Він завше казав, що було б дуже бажано створити спеціальну комісію для вивчення і розробки дальшої Гетьманської ідеології. Жодний рух без своєї ясно окресленої, скристалізованої ідеології не може бути дійсно життєздатним. Наші ідеї, наші прагнення він вважав за єдино здорові й природні, бо не з повітря вони були взяті, не з голів яких-иебудь аваїгтюрігиків вони вискочили, а вигворилися вони людьми, які історію свою знали і народ український і свою рідну землю понад усе любили.
Мій Батько дуже страждав від того, що завдяки багатьом обставинам Рух Гетьманський не міг розвинутися так, як було б потрібно, і як він міг би розвинутися, коли б вільїю було і на чужині, і на Рідних Землях працювати без перешкод, але мій Батько серцем своїм відчував, що він має серед українців усіх верств багато-багато прихильників, він почував, що його праця, його думки ніколи не пропадуть, а знайдуть відгук в серцях усіх справжніх українських патріотів, хоч до якої б вони партії належали. Він знав, що його роботу вони будуть продовжувати.
Для мене мій Батько був не тільки Батьком, він був для мене тим, чим був для багатьох українців, чим був для кожного справжнього Гетьманця. Він персоніфікував Велику Ідею. А що є життя людини, коли не підпорядковує вона його Ідеї, коли не живе для здійснення цієї Ідеї? Мій Батько працював кілька десятиліть над вибореііням України для Українців.
І як це сталося, що він тепер лежав тут сам, що, крім мене, нікого тут більше не було з усіх тих, хто його любив?
Американці дозволили населенню виходити тільки між четвертою та шестою годиною. Скільки я не питала сестер щодо труни й священика, вони нічого не знали й казали, що нічого не можуть зробити і не мають часу такими справами займатися.
Я сказала старшій сестрі, що вона мусить мені допомогти. Вона тоді погодилася піти сама до знайомих столярів. Я пішла з нею, бо був на душі завеликий неспокій і страх, що вона не буде досить енергійна.
Вона не йшла, а бігла, швидше котилася, як маленька куля, бо була повна і мала до того ще носила дуже широкий одяг. Я не встигала за нею, юна все оберталася до мене й казала: «Швидше, швидше!»
Ми обійшли все село. Одного столяра американці виселили з його дому, другого не було вдома, у третього не було дерева. Але була надія, що четвертий візьметься зробити труну.
Що ж до священика, то й 27 квітня нічого ще не з'ясувалося. Увечері я також була у Батька. На другий день мав бути вже похорон.
28 квітня. Сестра мені обіцяла, що коли принесуть труну, вона мені скаже, бо я хотіла бути присутньою, коли Батька будуть у труну класти й переносити до цвинтаря. О 8-й годині ранку Батько був ще у каплиці, де й до того лежав, а коли через певний час я знову туди пішла, його вже там не було. Взяли від мене мого Батька і я не знала, де він. Я боялася, що його поховають без мене, бо похорон був призначений на дев'яту годину, а американці не дозволяли виходити до 4-ї години. Сестри сказали: «То Вашого Батька вже винесли!» А коли я питала, де він, вони відповіли: «Та ж на цвинтарі, скоро має бути похорон. Де був той цвинтар і де була та церква, вони мені добре не пояснили, а я тут нічого не знала.
Незважаючи на всі заборони, я вийшла з лікарні на вулицю. Всюди було повно американців, всюди танки, авто, кулемети. Треба було крізь них пробиратися. Мене багато разів спиняли, але я балакала по-англійськи, давала пояснення, і мене пропускали. Я одного американця запитала, чи є у них священик, бо тутешні католики не хочуть ховати мого Батька. Він сказав, що коли в мене нічого не вийде, щоб я звернулася до них, і вони мені допоможуть. Так само, якби я не знайшла труни. Але я хотіла б звернутися до них лише в разі крайньої потреби.
Спочатку я пішла до цвинтаря і там на носилках знайшла Батька без труни. Він був загорнутий в сіре церковне покривало. Грабарі рили могилу. Ані труни, ані священика.
Я сказала грабарям, що буде труна й буде священик, що я за ними піду і щоб вони на мене чекали.
Я пішла до католицького «Пфаррамту». Урядова кімната була зачинена. Якась жінка мені сказала, що священик пішов до американців і невідомо, коли повернеться, не раніше другої години, а може й пізніше. Я вирішила, що буду тут чекати, поки не побачу сама якого-небудь священика. Коли я тепер нічого не вдію, мій Батько не буде мати християнського погребения. А мій Батько, хоч і був православний, завше так добре ставився і до католиків, і до греко-католиків. А тут його католики не хотіли ховати.
Минула 10-та година, 11-та, і ніхто ще не приходив. Я сиділа в коридорі й страшенно мерзла, бо не мала теплого плаща. Я чула, як хтось порався в кухні. Пройшла жінка, і я попрохала, щоб вона дала мені гарячої води напитися.
Через деякий час прийшов один з грабарів і сказав: «Чекайте, скоро прийде священик!» Він це мені сказав дуже радісно. Я була йому за ці слова вдячна, в мене з'явилася надія.
І дійсно, об 11-ій годині прийшло аж два священики, і яке ж було моє здивування, коли один з них звернувся до мене по-українськи. Він сказав: «Мені одна жінка сповістила, що на мене чекає українка''.
«Та ж я нікому тут не казала, що я українка, і на Вас я не чекала, бо не знала, що Ви тут є, але то мені велика втіха, що Ви прийшли, то Вас Бог послав!»
Я прохала його поховати мого Батька. Спочатку він сказав, що не знає, чи можна буде це зробити запитав: «А хто Ваш Батько?» Я відповіла: «Гетьман Павло Скоропадський, я його дочка.» Він був дуже вражений трагічною смертю Батька і вирішив: «Я його поховаю, це для мене велика честь».
Ми пішли до каплиці, він подивився на мого Батька. Я сказала, що труни ще немає. Він запевнив, що труну дістане». Але в той самий мент трупу принесли. Вона була зроблена в монастирській столярні. Простенька дерев'яна труна, пофарбована чорною фарбою.
В той невимовно тяжкий час мені все ж таки стало радісно, що знайшовся тут українець, син Галицької землі. Серед всіх чужих людей він єдиний був свій. Пана Грищинського все ще не було, і чекати на нього було б неможливо.
Отець Григорій Онуфрів, який цілком випадкою перед кількома днями опинився в Меттені, дуже сердечно поставився до мого Батька. В труні були лише стружки, а я не мала нічого, чим покрита мого Батька, ані подушки, ані покривала. Отець Онуфрів сказав: «Я сам майже нічого не маю, але я можу принести сорочку, щоб нею покрити стружки». Погім він згадав: «Ні, я маю щось краще!» Він побіг до себе й через кілька хвилин приніс чудовий згорток сірого українського полотна і ще менший згорток білого. Ми поклали це в труну й обережно переложили в неї мого Батька.
Грабарі сказали, що похорон мусить відбутися о 2-ій годині, бо потім вони матимуть іншу роботу.
Отець Онуфрів сказав, що прийде в 2-й годині.
Я не хотіла йти назад до лікарні, бо хоч і дуже холодно було тут чекати, але я боялася, що коли б я тепер пішла додому, мене могли б американці більше не пустити на вулицю. Крім того, то були останні хвилини в моєму житті, коли я ще могла дивитися на свого Батька.
І я дивилася на нього. Вираз його лиця був дуже спокійний. Мені здавалося, що він мені усміхається.
Дві години я так і стояла коло нього. Кругом стріляли. Одна куля попала в лампу, що висіла над труною, і скло посипалося мені на ноги.
Така вже судилася моєму Батькові й мені тяжка доля, що не було тут в цей мент близьких людей, що не було тут моєї матері, ані жодного з нашої родини, не було тут Данила, якого мій Батько так дуже любив і так хотів ще раз побачити.
То була воля Божа!
Я чекала біля труни. Я покрила Батькове лице тим білим українським полотном, що його приніс отець Онуфрів. І мені здавалося, що це полотно його зв'язує з Рідною Землею.
О 2-й годині отець Онуфрів прийшов зі двома своїми служками.
Почалася служба Божа ще в каплиці, потім зачиїгали труну й грабарі понесли її на цвинтар. Я несла хрест. Було холодно, йшов дощ.
Отець Онуфрів служив гарно, гарно співав. Наступив страшний мент, коли труну Батька покрила земля. Прощавай, Батьку, але для мене Ти будеш завше живий! З нами буде завше Твій дух великий!
Я ховала Батька в самій першій лінії фронту. Поблизу чути було вибухи гранат і гуркіт кулеметів. Ні одної квіточки не могла я в ті часи дістати для Батька. Лише зелену гілочку поклала йому в труну.
Чи могло б бути бідніш і більш самотньо? Ми були відрізані від усіх, бо ані з села, ані в село не можна було ходити.
Чи міг хто подумати, що будуть так ховати мого Батька, одного з найбільших українських патріотів? Все було таке непривітне, чуже, безнадійне.
А проте й у ті суворі часи я мала втіху, і на душі стало легше. В останню хвилину принесли трупу і знайшовся священик. У мене було почуття, що то сам Господь Бог його послав. Хоч і не православний був священик, але свій українець. У мене було почуття, що мій Батько і я все ж таки не відірвалися від України, і що б не сталося, ніколи не відірвемося. Отець Онуфрів немов висловлював жаль і співчуття українського народу.
Я вже не знаю, як я після похорону вернулася в лікарню. Після страшного перенапруження всіх сил настала реакція. Я була дуже хвора. Але мій Батько був похований, і я тепер могла лежати, і я лежала, як колода. Біль серця був більший від болю фізичного. Мій Батько помер.
Ні, він не помер, він Живе в наших серцях і спонукає нас до чину!
[1945–1946]
Ілюстрації
Примітки
1
Грушевський М. Спомини // Київ. -1989. - № 8. — С. 102–154; № 9. — С. 108–149; № 10.-С. 122–158; № И.-С. 113–155.
(обратно)2
Скоропадский П. Воспоминания: конец 1917 года по декабрь 1918 года. Цитую за другою редакцією «Спогадів», надрукованих у цьому томі (далі ССДР-3; пор. с. 47).
(обратно)3
Von Hindenburg P. Aus mcincm Lcbcn. - Ixipzig, 1920; Horlliy M. Memoirs. - New York, 1957; Mannerheim C.G.E. The Memoirs of Marshall Manncrheim. - New York, 1954.
При цій нагоді треба згадати «Спогади» генерала Вільгельма Гренера, шефа штабу армійської групи Лйхгорна, найважливішого німецького представника в Україні в 1918 році, який тісно співпрацював з П. Скоропадським: Groener W. I.cbcnscrinncrungcn // Von Brest-Litovsk zur deutschen Novcmbcrrcvolution / Baumgart W. (red.). — Gottingcn, 1971. -C. 259–451. Спогади Гренера є цінним джерелом для зрозуміння німецько-українських взаємин у 1918 році.
(обратно)4
Дневніки П. П. Скоропадского (далі Дневники) — Т. 1. -Тетрадь І. — С. 3, 1 січня 1919 — 6 травня 1919. Хочу висловити ншру подяку Пані Олені Отт-Скоропадській, наймолодшій дочці гетьмана Павла Скоропадського, за дозвіл використати неопубліковані «Дневники» для наукової мсти.
(обратно)5
Дневники — T. 2. — Тетрадь 1. — С. 15 (запис датований б травня 1919 p.). Треба зазначити, що в 1919 році Скоропадський користувався поперемінно поняттями «воспоминания», «дневник» і «записки» для окреслення своїх «Спогадів». Л. Малярсвський, який був шефом Пресового бюро у головній квартирі гетьмана Скоропадського, співпрацював із ним певний час в еміграції у Берліні.
(обратно)6
Інформацію про те, що машинописна копія перших дванадцяти зошитів (тетрадей) першої редакції «Спогадів» П. Скоропадського (тобто ССПР-2) була надрукована на машинці дружиною П. Скоропадського Олсександрою, завдячую Пані Олені Отт-Скоропадській.
(обратно)7
Дневніки. — T. 1. — Тетрадь 1. — С. 14.
(обратно)8
Український переклад «Уривка зі 'Споминів' Гетьмана Павла Скоропадського» був перевиданий нещодавно під заголовком «Гетьман Павло Скоропадський. Спомини». — Київ, 1992.
(обратно)9
Скоропадский П. Мое детство на Украине (див. Додаток цього тому. С. 388).
(обратно)10
Прикладами такого підходу є: Скляренко Є. М. Боротьба трудящих України проти німецько-австрійських окупантів і гетьманщини. — Київ, 1960; Hunczak Т. The Ukraine under Hctman Pavlo Skoropadskyi // The Ukraine, 1917–1921: Л Study in Revolution. - Cambridge; Mass, 1977. - C. 61–81.
(обратно)11
ССДР-3.-С. 145.
(обратно)12
Скоропадський П. Уривок зі «Споминів» Гетьмана П. Скоропадського // Хліборобська Україна. — 1924/1925. — Кн. V. — С. 78.
(обратно)13
ССДР-3. — С. 245–246 (зокрема, С. 244, 245 про Гренера).
(обратно)14
ССДР-3. — С. 246. Німецький посол у Києві барон Мумм був одним з найвизначніших професійних дипломатів Рейху. До Першої світової війни викоігував обов'язки представішка вТокіо і Вашингтоні. Фон Бсрхсм був асистентом Мумма в Україні у 1918 році. Коли Мумм пішов у відставку, фон Бсрхсм виконував обов'язки посла від вересня 1918 року.
(обратно)15
ССДР-3.-С247.
(обратно)16
ССДР-3.-С. 141.
(обратно)17
ССДР-3.-С. 146.
(обратно)18
ССДР-3. — С. 178–179.
(обратно)19
ССДР-3. — С. 273–282.
(обратно)20
ССДР-3.-С. 275.
(обратно)21
ССДР-3. — С. 276.
(обратно)22
ССДР-3. — С. 206, 239, 241.
(обратно)23
ССДР-3. — С. 208. Ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург (Василь Вишиваний) залишився українофілом до кінця життя, навіть писав вірші українською мовою. Схоплений радянськими розвідувальними органами 1947 (?) року у Відні, помер за підозрілих обставин у київській тюрмі у 1948 (?) році.
(обратно)24
ССДР-3. — С. 162. Дмитро Дорошенко не згадує застереження німецьких представників про його призначення міністром закордонних справ. Він лише ствердив, що від 20 травня до 2 вересня 1918 року вважався управителем міністерства, а від 2 вересня до 14 листопада 1918 року — міністром закордонних справ. Див.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1922 рр. — Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р. — Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954.-С. 148.
(обратно)25
ССДР-3.-С.51.
(обратно)26
ССДР-3.-С. 132.
(обратно)27
ССДР-3. — С. 275.
(обратно)28
ССДР-3.-С. 103.
(обратно)29
ССДР-3.-С. 106.
(обратно)30
ССДР-3. — С. 295.
(обратно)31
ССДР-З.-С. 304.
(обратно)32
Процитована фраза невиразно перекреслена Скоропадським у машинописній копії «Спогадів» (ССДР-1. — С. 563/298).
(обратно)33
ССДР-3. — С. 304. Абзац, який іде за процитованою фразою, тобто «Я находил, что проведение этого нового курса преждевременно, так как понятие о федерации требует двух контрагентов, была же одна Украина, а другого не было, я себе это требование Аитант принял к сведению», невиразно перекреслений Скоропадським у машинописній копії «Спогадів» (ССДР-1. — С. 563/298).
(обратно)34
Цитую за кн.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. 2. — С. 414–415.
(обратно)35
ССДР-3. — С. 267.
(обратно)36
ССДР-3. — С. 254.
(обратно)37
Цитую за кн.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. 1: Доба Центральної ради. — Ужгород, 1932; Нью-Йорк, 1954. — С. 168.
(обратно)38
38 Тексти названих документів надруковані у кн.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. 2. — С. 49–53.
(обратно)39
ССДР-З.-С. 139–140.
(обратно)40
ССДР-3. — С. 160.
(обратно)41
ССДР-З.-С. 173–174.
(обратно)42
ССДР-3. — С. 273.
(обратно)43
Пріцак О. Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія) // Останній Гетьман. — Київ, 1993. — С. 191.
(обратно)44
Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. — Т. 2: Українська гетьманська держава 1918 року. — Ужгород, 1930. — С. 22.
(обратно)45
Пріцак О. Назв, праця. — С. 186.
(обратно)46
Дорошенко Д. Єлизавета Іванівна з Скоропадських-Милорадовичів // Хліборобська Україна. — Відень, 1922–1923. -Кн. IV, зб. УІІ/УШ. — С. 284–288.
(обратно)47
Пріцак О. Назв, праця. — С. 191–192.
(обратно)48
ЦДІА України. — Ф. 1219. — Оп. 2. — Сир. 1119. — Арк. 16.
(обратно)49
Горєлов В. Військова діяльність П. П. Скоропадського // Останній Гетьман. — Київ, 1993.-С. 39.
(обратно)50
Полонська-Василенко II. Історія України. — Київ, 1992. — Т. 2. — С. 474.
(обратно)51
Борис В. Вільне Козацтво. Ідея узброєного народу в 1917 р. на Україні. — Львів, 1934. — С. 20.
(обратно)52
Василия Петровича Кочубея
(обратно)53
Василия Петровича Кочубея
(обратно)54
Абалещев
(обратно)55
Абалещев
(обратно)56
Петин
(обратно)57
Петин
(обратно)58
Моркотун Лидия Романовна
(обратно)59
Лунакова
(обратно)60
Долговою
(обратно)61
Лізогубом
(обратно)62
Хочете об заклад, що Ви будете відігравати велику роль, в Україні?» (фр.)
(обратно)63
«крайнього напрямку» (фр.)
(обратно)64
«Бишшс прапоруч» (/иле.)
(обратно)65
Безаку
(обратно)66
«повні виклади» (фр.)
(обратно)67
«чиста дошка» (лат.)
(обратно)68
Рппсц>, Кшсг топ НсгигаН
(обратно)69
у цілому (лат.)
(обратно)70
загадкою (грец.)
(обратно)71
«Рожева революція» (фр.)
(обратно)72
«більшим роялістом, ніж король» (фр.)
(обратно)73
'Блиск і злиденність» (фр.)
(обратно)74
«найбільш необхідне» (фр.)
(обратно)75
«коронная земля» (іт.)
(обратно)76
«доконаний факт» (фр.)
(обратно)77
Прізідію не зазначено
(обратно)78
«Летючий голландець» (нім.)
(обратно)79
«Хоробрість наближуе одужання» (фр.)
(обратно)80
«місту і світу» (лат.)
(обратно)81
«солдатських комітетів» (цім.)
(обратно)82
«газон» (фр.)
(обратно)83
«цією проклятою мовою, яка називається російською» (фр.)
(обратно)84
Ви маєте рацію, як і мій бідний король, [якого не хочуть прокляті республіканці] (фр.)
(обратно)85
Я — Поноль, який починає своє навчання (фр.)
(обратно)86
Моя чарівна дружина, моя бідна Клоди (фр.)
(обратно)87
«монсеньйор марніші» (фр.)
(обратно)88
Ясновельможні мандрівники (прим, ред.)
(обратно)Коментарі
1
Антанта (від французького Entente Cordiale — «Сердечна згода») — блок держав-переможниць у Першій Світовій війні. Почала оформлюватися у 1904–1907 pp. як блок Великобританії, Франції та Росії. 1914–1918 pp. об'єднувала проти Четверного союзу (або «Центральних держав») 25 країн.
(обратно)2
Дорошенко Петро Якович (1858–1919) — походив із старовинного гетьманського роду. Закінчив Університет Св. Володимира и Києві. Чернігівський земський діяч, співробітник архівної комісії, знавець української старовини. Працював директором Дворянського пансіону в Чернігові, за Центральної Ради — директором Чернігівської української гімназії. За гетьманату йому пропонувалася посада прем'єр-міністра.
15 літня 1918 р. був призначений головою Управління в справах мистецтва і національної культури Міністерства народної освіти та мистецтва з правами товариша (заступника) міністра; зберіг цю посаду й за Директорії. Був головою організаційного комітету по створенню Київського державного українського університету. У серпні 1918 р. був призначений гетьманом П. Скоропадським членом Колегії верховних правителів на випадок своєї хвороби або смерті. Евакуювався з урядом Директорії у Вінницю і Кам'янець-Подільський. У липні 1919 р. розстріляїшй в Одесі «в порядку червоного терору», нібито сплутаний зі своїм племінником — Д. І. Дорошенком.
(обратно)3
Горленко Василь (1853–1907) — літературний критик і мистецтвознавець. Походив із давнього козацького роду. Освіту отримав у Парижі. Активно співпрацював з «Киевской стариной», збирав етнографічні та архівні матеріали. Автор праці, про українських митців, статей на історико-побутову та етнографічну тематику.
(обратно)4
Мається на увазі Новицький Яків (1847–1925) — етнограф і педагог.
(обратно)5
«Рада» — щоденна українська газета ліберального напрямку. Виходила з 15 (28) жовні я 1906 р. до 20 липня (2 серпня) 1914 р. Редагував газету А. Псковський. У ній друкувалися М. Коцюбинський, О. Маковей, П. Миріпій, А. Тесленко, співпрацювали Б. Грінченко, П. Тичина, С. Васильченко.
(обратно)6
Центральна Рада протягом 1917 р. у питаннях державного устрою відстоювала автономію України в рамках федеративної Росії. Ухвала про державну самостійність України була прийняіа лише після більшовицького перепороту на початку 1918 р. П. Скоропадський офіційно висунув ідею федерації з Росією в листопаді 1918 р.
(обратно)7
Союз російського народу — масова організація, що виникла в жовтні 1905 р. для боротьби з революцією в Росії. Основними програмними положеннями були єдність та неподільність Російської імперії, збереження самодержавства, войовниче православ'я. Організація мала — яскраво виражене шовіністичне та антисемітське спрямування. Найбільші відділи її були, зокрема, в Києві, Одесі, Почаївській лаврі на Волині.
Після 1907 р. організація переживала занепад, розпалася на «Союз російського народу» на чолі з М. Марковим, «Союз Михаїла Архангела» В. Пуришкевича і «Всеросійський (дубровінський) союз російського народу а Петербурзі». Протягом Першої світової війни активність деяких провінційних організацій «союзу», зокрема, київської, посилилася; після Лютневої революції всі чорносотенні організації були розпущені.
(обратно)8
Винниченко Володимир Кирилович (1880–1951) — письменник, державний діяч, один з провідних діячів українського національного руху.
Навчаючись на юридичному факультеті Київського університету, вступив до Революційної української партії (з 1905 р. — УСДРП). 1903 р. був виключений з університету, тричі тікав з ув'язнення, був змушений емігрувати.
1917 р. — член ЦК УСДРП, головний редактор «Робітничої газети», з червня — Голова Генерального Секретаріату і генеральний секретар внутрішніх справ УНР.
Співавтор майже всіх декларацій і законодавчих актів УНР.
Після встановлення гетьманської влади провадив активну діяльність, спрямовану на реставрацію демократично-республіканських засад. 3 18 вересня 1918 р. — голова опозиційного Українського Національного Союзу. Організатор антигетьманського повстання. У листопаді 1918- січні 1919 рр. — голова Директорії. У лютому 1919 р. емігрував.
1920 р. створив зарубіжну групу Української Комуністичної партії, видавав газету «Нова доба»,Влітку 1920 р. приїздив в Україну; був призначений заступником голови РНК УСРР, але не зіцйшоішш остаточного порозуміння з більшовицьким керівництвом, знову виїхав за кордон., За окупації фашистами Франції ув'язнювався у концтаборі.
Автор багатьох художніх творів і публіцистичних праць.
(обратно)9
«Киевская мысль» — щоденна газета ліберального напрямку. Видавалася в Києві з 30 грудня 1906 р. до приходу більшовицьких військ 26 січня 1918 р. Протягом Першої світової війци дотримувалася засад «оборонців».
1917 р. вона вмістила матеріали про українську маніфестацію в Петрограді 12 березня, Свято свободи в Києві 16 березня, українську маніфестацію в Києві 19 березня.
(обратно)10
«Киевлянин» — газета, що виходила в Києві з 1869 р.; у січні 1917 р. була закрита більшовиками, поновлювала видання у вересні — г грудні 1919 р. за дснікінської окупації. З 1911 р. її видавав і редагува В. В. Шульгін, син засновника. Газета пропагувала ідеї російського великодержавного шовінізму. Негативні відгуки на ідею «автономності» та самостійності України, знайшли, зокрема, відображення в її публікаціях № 89 (6 квітня) і № 135 (6 червня) 1917 р. В № 75 (16 березня) газета протестувала проти знищення пам'ятника Столиніну під час «Свята свободи».
(обратно)11
Кінна гвардія — неофіційна назва Лейб-Гвардії Кінного полку, однієї з найпривілейованіших частин гвардійських кірасирів. П. Скоропадський командував цим полком з квітня 1911 р. до жовтня 1914 р.
(обратно)12
Перший український військовий з'їзд був скликаний Українським військовим організаційним комітетом за підтримкою Центральної Ради 5 (18) — 9 (22) травня 1917 р. У роботі взяли участь понад 900 делегатів від 1,5 млн українців-вояків з усіх фронтів, Балтійського і Чорноморського флотів округів і окремих гарнізонів.
З'їзд підтвердив ухвали Національного конгресу щодо національно-територіальної автономії України, призначення при Тимчасовому уряді міністра для справ України і створення на Україні крайового виконавчого органу, визнай Центральну Раду єдиним компетентним органом у справах всієї України, заявив про підтримку гасла миру без анексій і контрибуцій, на підставі самовизначення націй. Делегати визнали негайно необхідною націоналізацію армії за національно територіальним приіщипом, зокрема, виділення українців — офіцерів і солдатів — в окремі частини (але уникаючи дезорганізації фронту). Було ухвалено добиватися укомплектування українцями деяких кораблів Балтійського флоту і всього Чорноморського флоту.
Окремі ухвали стосувалися розвитку освіти в Україні і українізації військової освіти, земельної снрави, тощо. З'їзд обрав Український генеральний військовий комітет.
(обратно)13
Скрипчінський Петро — військовослужбовець, поручник російської служби. У червні 1917 р. на II Всеукраїнському військовому з'їзді обранний членом Українського Генерального Військового комітету, був призначений представником УГВК при штабі Південно-Західного фронту.
(обратно)14
Гутор Олексій Євгенович (1869–1938) — генерал-лейтенант російської служби. 1917 р. командував ІІ-ою армією, 21 травня (3 червня) — 10 (23) липня 1917 р. був головнокомандуючим арміями Південно-Західного фронту. Перейшов на бік радянської влади, викладав у Військовій академії РСЧЛ.
(обратно)15
Селиванов Володимир Іванович (1869–1919) — генерал-лейтенант російської служби. З 26 червня (9 липня) до 9 (22) вересня 1917 р. — командуючий 7-ою армією Південно-Західного фронту. Разом з учасниками корніловського виступу був ув'язнений у Бердичівській тюрмі, потім зарахований до резерву штабу Київського військового округу. Із грудня 1918 р. — в Червоній Армії. В серпні-вересні 1919 р. — командуючий групою військ і помічник командуючого Південним фронтом. Помер від тифу.
(обратно)16
Останній наступ російської армії в Першій світовій війні мав на меті захоплення Львова військами Південно-Західного фронту. 18 червня після дводенної артпідготовки розпочалася атака на позиції супротивника. Частини 34-го армійського корпусу витримали три контратаки; 19-та дівізія залишила другу лінію австро-німецьких шанців, а 23-тя відійшла у вихідне положення. Війська 7-ої та 11-ої армій лише за перший день узяли в полон 192 офіцери і 10471 солдатів противника, зазнавши тяжких втрат. 23 червня 11-а армія захопила кілька ліній ворожих укріплень і перейшла до оборони. Глибокого прориву досягти не вдалося. Цього ж дня в наступ перейшла 8-а армія, її корпуси 27 червня зайняли Галич і Калуш, просунулися загалом на 25–30 км. Подальші дії російських військ припинилися, головним чином, внаслідок відмови солдатів продовжувати наступ.
(обратно)17
Тобто Головнокомандуючому арміями Південно-Західного фронту О. Гутору.
(обратно)18
Савінков Борис Вікторович (1879–1925) — політичний діяч, один з лідерів партії соціалістів-революціонерів, літератор (псевдонім — В. Рошнин). До 1906 р. — керівник «Бойової організації» есерів, організатор терористичних актів (убивства міністра В. К. Плеве, великого князя Сергія Олександровича). Під час Першої світової війни — доброволець у французькій армії, повернувся в Росію після Лютневої революції.
1917 р. — комісар Тимчасового уряду у 7-й армії, на Південно-Західному фронті, при Ставці Верховного головнокомандуючого, керуючий Військовим міністерством, військовий губернатор Петрограда. Член Ради «Союзу козачих військ». Підтримував генерала Л. Г. Корнілова у його намірах «оздоровити» армію. Виступав посередником між О. Ф. Керенським та Корніловим під час підготовки останнім заколоту. У вересні 1917 р. виключений з партії есерів «за подвійну гру».
Після жовтня — учасник протибільшовицьких заходів Корейського і Краснова, брав участь у створенні «Союзу захисту Батьківщини і свободи» в Москві, білої Добровольчої армії. З 1919 р. — на еміграції, організатор розвідувально-диверсійної антирадянської діяльності, загонів, що брали участі, у спільних бойових діях з арміями Польщі та УНР.
1924 р. заарештований ДПУ після нелегального переходу кордону, засуджений до 10-річного ув'язнення. Наклав на себе руки.
(обратно)19
Центральна Рада — вищий представницький орган України, утворений 4 березня 1917 р. з ініціативи Товариства українських поступовців, українських політичних партій. З 15 березня її очолював М. Грушевський. Новий склад Центральної Ради було обрано 14 (27) квітня на Українському національному конгресі. Складалася з 300 членів (21 з них входив до Виконавчого Комітету Центральної Ради, або Малої Ради). Заступниками М. Грушевського в Раді були обрані В. Винниченко і С. Єфрємов, у виконкомі — Ф. Крижанівський та Д. Антонович. 28 червня було утворено Генеральний Секретаріат Центральної Ради, як майбутній український уряд… У листопаді 1917 р. Центральна Рада проголосила утворення Української Народної Республіки в складі федеративної Російської республіки, у січці 1918 р. — самостійної Української держаки. Діяла до квітня 1918 р…
(обратно)20
Правильно: Раттель Микола Йосипович (1875–1938) — генерал-майор російської служби. 1917 р. — генерал-квартирмейстер штабу Південно-Західного фронту, з листопада — начальник військових сполучень Ставки Верховного Головнокомандуючого. Один з перших воєначальників старої армії, перейшов на бік радянської влади; з червня 1918 р. до 1921 р. очолював головні штабні установи Червоної Армії.
(обратно)21
Духонін Микола Миколайович (1876–1917) — генерал-лейтенант російської служби. Обіймав різні командні і Штабні посади, у т. ч. генерал-квартирмейстера і начальника штабу Південно-Західного фронту. З вересня 1917 р. — начальшик штабу Верховного Головнокомандуючого, 3 (16) Листопада прийняв на себе обов'язки Верховного Головнокомандуючого.
Відмовився виконати розпорядження РНК 9 (22) листопада про негайні переговори з австро-німецьким командуванням про перемир'я і був усунутий з посади. 19 листопада (2 грудня) віддав наказ про звільнення Л.Корнілова, А. Денікіна та інших заколотників з Биховської тюрми. 20 листопада (3 грудня) 1917 р. при зайнятті Ставки загоном М. Криленка вбитий натовпом солдатів на вокзалі в Могильові.
Виявлена в архіві копія згаданого в тексті листа на ім'я генерал-квартирмейстера штабу Південно-Західного фронту М. Й. Раттеля дозволяє стверджувати, що проукраїнська позиція генерала П. П. Скоропадського була, насправді більш відчутною, ніж він подає в описі подій того часу в тексті мемуарів:
Копія 26.6.1914
Дорогой Николай Осипович
Извиняюсь за безпокойство, ію с приходом в VII армию у меня все так осложняется, что обойтись без Вас я положительно не могу, поэтому не сердитесь на меня, что отнимаю у Вас время на прочтсішс этого письма.
У меня к Вам два вопроса:
1) Вчера я был в армии її застал там Главнокомандующего. Генерал Гутор без всякого с моей стороны наведения его на эту мысль сказал мне, что он хочет украинизировать мой корпус и что он предлагает мне энергично за это дело взяться. По этому поводу, между прочим, он уже прислал ко мне члена Исполнительного Комитета Центральной Украинской Рады некоего поручика Скрнпчинского, с которым я и говорил по этому поводу.
Лично и генералу Гутору, и поручику Скрипчинскому я говорил, что, конечно, ничего не имею против украинизации, но что для меня важно, если украинизировать, то чтобы действительно была украинизация, т. е. чтобы ко мне пришли люди, которые нроникнугы идеей украинства, были бы хорошими бойцами, а не всякая шваль (дезертиры и т. и.), которые, прикрываясь всякими вывесками, думают лишь о том, как бы не попасть под огонь противника — немца. Генерал Гутор сказал мне, чтобы я в этом деле разобрался, и даже была речь о поездке моей в Киев.
Здесь дело вот в чем. Я полагаю, что генерал Гутор, может быть, не совсем ясно для себя представляет дело. Если он понимает украинизацию корпуса как влитие пополнения только из украинцев, то я думаю, из этого кроме взбудоражения корпуса ничего не будет. Украинцы под предоодигсльством каких-нибудь прапорщиков начнут ігредіявлять всевозможные требования, коренное население корпуса будет этому противиться, несмотря на свою малочисленность, начальство, начиная с начальника дивизии, которое не украинцы, будут поддерживать меньшинство — получится вздор.
Напр., в VI корпусе я знаю, что Нотбек имел массу из-за этого неприятностей, в других же корпусах, которые собирались украинизировал., были еще большие скандалы, поэтому я считаю, чтобы перед тем, как украинизировать корпус, нужно выясни гь, желательна ли вообще украинизация с точки зрения политики Российского Государства или, но крайней мерс, допустима ли она, если да, то украинизировать нужно основательно: 1) я поехал бы в Киев и переговорил бы с Центральной Радой, указал бы им, что если они хотят иметь украинский корпус, то необходимо получить не дезертиров, а настоящие пополнения, обратив внимание, чтобы всю калечь они оставили при себе. Офицеров я сам перещупал бы, чтобы не посылалась всякая дрянь; так как это дело новое, то я считаю, желательно было бы оздоровить корпус, в этом отношении можно поставить условием Раде, чтобы в украинском корпусе комитеты ограничились бы совершенно определенной хозяйственной функцией. Начальство пришлось бы постепенно изменить, замещая неукраинцев украинцами или симпатизирующими им. 2) Для украинизирования необходимо было бы мне в корпусс вернуть мои дивизии и артиллерию или же включить какие-нибудь малочисленные дивизии для скорейшего и более удобного их пополнения; разрешить хотя бы в армии выбрать украинцев из других неукраинских корпусов с моего согласия. Для украинизации не отводить далеко в тыл, а произнести все это недалеко от фронта, так как в тылу у нас все разлагается. При этих условиях, если за дело взяться спергично, мог бы получиться действительно хороший корпус в военном отношении, но, конечно, в политическом он вероятно потом в Украине сыграл бы громадную роль — это нужно учесть. Теперь что касается меня, то я лично, нося фамилию украинца, довольно известную в стране, для такой украинизации гожусь, но я пи в какие авантюры пускаться не собираюсь и охотно и энергично буду проводить этЪ, если получу определенные указания Главнокомандующего, а не расплывчатые, а то получшея большой конфуз, если я по приказанию, скорее но указанию Главнокомандующего, даїлюму мне вчера, обращусь за пополнениями в Центральну Раду, не выяснивши весь вопрос, несомненно у меня в корпусе начнутся скандалы, и я же буду виноват, если же я начну настоящую украинизацию корпуса, как я указал выше, не имея на это совершенно ясного приказания, меня могут обвинить в политической ангажированности, что мне совершенно не к лицу, поэтому первый мой вопрос к Вам и большая моя просьба, — это как-нибудь выясним, это дело и дать мне точные указания.
В общих чертах я об этом генералу Гутору говорил, украинизации он, видимо. сочувствует, говорил мне даже, что Гучков считает, что это хорошее дело, лично я пошел бы на это, если не охотно, то во всяком случае без отвращения, так как считаю, что там, где примешивается национальное чувство, там, в особенности для военного дела, основы всегда здоровые, но все же хочу знать ясно, что от меня хотят, дабы не попасть в грязную историю ввиду обвинения меня, украинца, в проведении явочным порядком украинизации частей русской армии.
Російський державний военно-історичний архів. — Ф. 2067. — Он. 1. — Сир. 2986. -Лрк. 1–2. Незасвідчена копія, машинопис.
(обратно)22
Кочубей Василь Васильович — військовослужбовець. Походив з давнього козацького роду, спорідненого із Скоропадськими. На Всеукраїнському з'їзді Вільного Козацтва (16–20 жовтня 1917 р.) був обраний генеральним писарем (тобто начальником штабу організації). 1918 р. — діяльний член «Української народної громади», учасник гетьманського перевороту. Осавул (особистий ад'ютант) гетьмана П. Скоропадського в ранзі сотника.
(обратно)23
Після Лютневої революції на фронті і в тилу широко розгорнулася самодіяльна українізація. 26 травня військовий міністр видав наказ про термінове формування української та естонської дивізій. Саме М. Духонін, який тимчасово виконував обов'язки Верховного Головнокомандуючого, 6 (19) листопада підписав угоду між штабом і Центральною Радою щодо розгортання українізації з'єднань російської армії. Особливе враження на командування Південно-Західного фронту справили маршові роти поповнення, сформовані за переважно українським принципом.
(обратно)24
Хутори — ділянкові селянські господарства, що набули значного поширення протягом Столипінської аграрної реформи в Російській імперії. Доти хутори були характерні лише в «малоросійських» губерніях та в Прибалтиці. Указом від 9 листопада 1906 р. та законом від 14 липня 1910 р. хутори насаджувалися примусово на надільних землях громад. Найбільше нових хуторів було утворено в Україні.
(обратно)25
Відруби — землі, відокремлені в користування селянських родин від загально-общинних володінь протягом Столипінської реформи.
(обратно)26
Грушевський Михайло Сергійович (1866–1934) — український історик, літературознавець, письменик, соціолог, політичний, державний діяч.
Закінчив Університет Св. Володимира в Києві, очолював кафедру Львівського університету. У 1897–1913 рр. — голова Наукового товариства ім Шевченка у Львові. 1899 р. — один з організаторів Національно-демократичної партії в Галичині. Член Товариства українських поступовців, засновник і голова Українського наукового товариства у Києві (1908 р.). Наприкінці 1914 р. засланий до Симбірська.
1917 р. повернувся до Києва, очолив Центральну Раду. Перший Президент УНР.
Після гетьманського перевороту переховувався в Києві, згодом переїхав до Кам'янця-Подільського. З початку 1919 р. — на еміграції.
У Парижі очолював «Комітет незалежної України», у Відні — Український соціологічний інститут, комітет «Голодним України».
У березні 1924 р. повернувся в Україну, очолив Історичну секцію ВУАН, займався науково-організаційною працею. Дійсний член ВУАН (з 1923 р.), АН СРСР (з 1929 р.). 1931 р. заарештований у справі «Українського національного центру», по звільненні був вимушений виїхати до Москви. Помер у Кисловодську, похований у Києві.
Основна історична праця — «'Історія України-Руси» (10 т., 13 кн. — 1898–1936).
(обратно)27
Шептицький Андрій (1865–1944) — видатний український релігійний та громадський діяч. Походив з графського роду, за молодих років служив офіцером в австро-угорській армії.
З 1899 р. — єіпіскоп Станіславівський, з 1900 — митрополит Галицький та архієпіскоп Львівський, глава греко-католицької церкви.
Член Палати панів Австро-Угорщини, у 1917–1920 рр. — посол до Галицького сейму. Член Української Національної Ради у Відні.
Під час російської окупації Галичини 2 вересня 1914 р. заарештований з наказу головнокомандуючого Південно-Західним фронтом генерала О. Брусилова за антиросійську пропаганду і вивезений до монастирської тюрми у Суздалі; звільнений після Лютневої революції 1917 р.
(обратно)28
Тут йдеться про утворений І Всеукраїнським військовим з'їздом Український Генеральний військовий комітет. Після проголошення Центральною Радою III Універсалу він був реорганізований у Генеральне Секретарство військових справ. Генеральним секретарем було призначено С. Петлюру, його товаришем (заступником) — поручника В. Кедровського. У лютому 1918 р. Генеральне Секретарство військових справ перетворене на Міністерство військових справ.
(обратно)29
Оберучко К.М. (1865–1929) — військовий і політичний діяч. Полковник російської служби; член партії соціалістів-революціонерів.
За участь у революційному русі військовослужбовців Київського гарнізону рід час революції 1905–1906 рр. відданий під суд, позбавлений чину і висланий з Росії, повернувся після Лютневої революції.
1917 р. обраний уповноваженим Комітету Союзу міст, призначений спочатку комісаром, потім командуючим пінськими Київського військового округу.
Свого часу мав певні українські симпатії, співробітничав у «Киевской старине», але на посту командуючого округом завзято виступав проти створення національних частин — українських і чехословацьких, користувався репутацією «хворобливо-роздратованого, істерично лютого ворога українства» (В. Винниченко), У вересні 1917 р. входив у Комітет охорони революції. Па початку жовтня подав у відставку з приводу чергового конфлікту з Українським Військовим Генеральним комітетом. Після жовтневого перевороту емігрував.
Автор спогадів.
(обратно)30
Петлюра Симон Васильович (1879–1926) — політичний та державний діяч.
Навчався в Полтавській духовній семінарії, вчителював і працював в «Експедиції з дослідження степових областей» на Кубані, з 1905 р. — в редакції газети «Рада» і органу УСДРП «Слово». Співробітничав у журналах «Вільна Україна» (СПб.), у 1912 р. — «Украинская жизнь» (Москва). Член УСДРП.
Під час Першої світової війни — заступник уповноваженого і голова Головної контрольної комісії Всеросійського Земського Союзу на Західному фронті, голова Української ради Західного фронту.
5 (18) травня 1917 р. на І Всеукраїнському військовому з'їзді обраний головою Українського Генерального Військового Комітету. Член Центральної Ради. З 12 липня до грудня 1917 р. — Генеральний Секретар військових справ. У січні — лютому 1918 р. — отаман Гайдамацького коша Слобідської України. У квітні 1918 р. обраний головою Київської губерніальної земської управи та Всеукраїнського Союзу земств. Один з організаторів Українського Національного Союзу.
З листопада 1918 р. — член Директорії, з 9 травня 1919 офіційно — голова Директорії УНР; Головний Отаман Республіканських військ УНР. З 1921 р. — на еміграції. Загинув у Парижі внаслідок замаху.
(обратно)31
Кондратович Лука — генерал-майор генерального штабу російської служби. 1917 р. на II Всеукраїнському з'їзді обраний до Українського Генерального Військового комітету, де відав комісією спеціальних служб. Брав участь у ліквідації виступу Полуботківців.
(обратно)32
Після ІІ Всеукраїнського військового з'їзду (червень 1917 р.) до складу Українського генерального військового комітету входили С. Петлюра (голова), В. Винниченко, генерал-майори: М. Іванов, Л. Кондратович, полковник: І. Луценко, підполковники: О. Жуковський, Ю. Капкан, Матяшевич, В. Павленко, О. Пилькевич, В. Погоіаако, О. Слившіський, капітани: С. Білецький, Г. Глібовський, В. Кедровський (заступник голови, завідуючий відділом мобілізації і військових комунікацій), поручники: М. Левицький, П. Скріпчинський, 'підпоручики: М. Міхновський, А. Чернявський, прапорщики: А. Певний, М. Полозов, В. Потішко, Ф. Селецький, військовий урядовець І. Горемика-Крунчинський, солдати: С. Граждан, С. Колос, Д. Ровинський, матрос С. Письменний.
(обратно)33
Па київському штатно-розподільному пункті зібралося 5 000 чол. поповнення, призваних в українських губерніях. За прикладом богданівіцв, солдати заявили, що не підуть на фронт інакше, ніж в якості 2-го Українського полку, якому було обрано ім'я П. Полуботка. Він почав — організовуватися в казармах на Брест-Литовському шосе, в Грушках. Зв'язана угодою з Тимчасовим урядом. Центральна Рада і Український генеральний військовий комітет не підтримали створення полку і закликали полуботківців виконати вимоги національно-громадської дисципліни, перейти до українського запасного полку.
Під впливом звісток про липневі події в Петрограді та агітації частини членів Клубу ім. П. Полуботка — М. Міхновськбго, Г. Лук'янова і В. Павелка — полуботківці вирішили добитися визнання Тимчасовим урядом Центральної РаДй верховною владою в Україні ще до скликання Установчих зборів і водночас визнання свого полку. У ніч з 4(17) на 5 (18) липня полуботківці захопили арсенал та інтендантський склад, озброїлися, заарештували коменданта Києва і начальника міліції, розгромили помешкання К. Обсручева і виставили варту до державних установ, вступили в перестрілку з висланими проти них юнкерами і понтонерами.
Після наради в Центральній Раді із звільненим комендантом і заступником командуючого військами округу заспокоєння полуботківців було покладено на члена УГВК Л. Кондратовича. Богдапівський полк Ю. Капкана. Представники УГВК і богданівці заарештовували полуботківців і збирали їх у приміщення Педагогічного музею. Полк ім. П. Полуботка зосередився в своїх казармах. За наказом К. Обсручева він був роззброєний, 3 чол. при ііьому загинулб. Частіша повстанців була заарештована. військовою владою і ув'язнена в Косому капонірі, де перебувала до листопадових подій у Києві.
Після полагодження конфлікту 14–16 липня полк чисельністю 2462 чол. відбув на фронт, влився у 621-й Нсмирівський полк 3-ої піхотної дивізії 6-го армійського корпусу, добре себе зарекомсіигував. З листопада перебував у Києві, в складі 1-ї Сердюцької дивізії. Під час більшовицького наступу на Київ не дістав своєчасно наказу про відступ.
(обратно)34
Капкан Георгій Євгенович (1875-7) — військовий діяч, підполковник російської армії. Викладав у Оранієнбаумській офіцерській стрілецькій школі, автор «Статуту кулеметної служби»; служив у 193-му піхотному Свіязькому полку.
1917 р. був викликаний Українським Генеральним Військовим Комітетом з Симбірська в Київ, дістав призначення у 4-й кулеметний полк, а згодом — командиром 1-го Українського козацького полку ім. Богдана Хмельницького, увійшов до УГВК. Восени
1917 p. - командир 1-ї Сердюці.кої динізії в Києві, з 20 грудня 1917 р. — командуючий військами України. З квітня 1918 р. — губернський комендант Таврії. 1919 р. — інспектор піхоти Дієвої армії УНР.
(обратно)35
Після перекинення з Македонського, Італійського та Західного фронтів на Східний 9 свіжих дивізій, ударне угруповання німецьких військ 6 липня перейшло в наступ, широко застосовуючи хімічну зброю. 11 російська армія почала відходити. Локалізувати прорив не вдалося; 7-а армія також відступила. 10 липня австро-німецькі війська форсували річку Серет. Російські війська розкладалися, не викопували наказів. 21 липня супротивник захопив Чернівці, але на цьому контрнаступ вичерпався.
(обратно)36
Корнілов Лавр Георгійович (1870–1918) — військовий і політичний діяч, генерал від інфантерії російської служби. Під час Першої світової війни командував 48-ю піхотною дивізією, 25-м армійським корпусом, з 28 лютого (13 березня) 1917 р. — головнокомандуючий військами Петроградського військового округу. 29 квітня (12 травня) -10 (23) липня 1917 р. — командуючий 8-ю армією, 10–18 (23–31) липня — головнокомандуючий військами Південно-Західного фронту. З 19 липня (1 серпня) до 27 серпня (9 вересня) 1917 р. — Верховний Головнокомандуючий.
Наприкінці серпня зробив спробу встановити в Росії військову диктатуру. Після придушення заколочу утримувався в Биховській тюрмі, 19 листопада (2 грудня) з рештою прибічників утік до Новочеркаська, де створив і по смерті генерала М. В. Алексеева очолив білогвардійську Добровольчу армію. 13 квітня 1918 р. загинув у бою.
(обратно)37
25-й і 34-й армійські корпуси тривалий час входили в Особливу армію Західного фронту. У червні 1917 р. 34-й армійський корпус П. Скоропадського переведено на Південно-Західний фронт у склад 7-ї армії.
(обратно)38
Генерал В. Й. Ромейко-Гурко командував Особливою армією з кінця лютого до 18(31) березня 1917 p., коли дістав призначення головнокомандуючим арміями Західного фронту.
(обратно)39
Мається на увазі 1-а гвардійська кавалерійська дивізія.
(обратно)40
Черемісов И. Л. - генерал-лейтенант російської служби. 11 (24) липня змінив Л. Г. Корнілова на посаді командуючого 8-ю армією на Південно-Західному фронті; з 25 липня (7 серпня) — командуючий 9-ю армією на Західному фронті; 9 (22) вересня — 14 (27) листопада — головнокомандуючий військами Північного фронту.
Вкрай різка оцінка, дана йому П. Скоропадським, цілком збігається з відгуками інших генералів, причому із протилежних таборів — М. В. Алєксєєва та А. І. Денікіна, М. Д. Бонч-Бруєвича. Наприкінці 1915 р. В. Черемісов, тоді ще полковник, був урятований покровителями від суду в справі шпигунства. Коли Л. Корнілов як Верховний головнокомандуючий не погодився на його призначення головнокомандуючим військами Південно-Західного фронту, Черемісов погрожував установити свої права «з бомбами в руках». Будучи головнокомандуючим військами Північного фронту, він субсидував більшовицьку газету «Наш путь», скасував наказ О. Керенського про відправку військ з фронту на Петроград, оскільки на це не погодилися армійські комітети.
(обратно)41
Після призначення Б. В. Саиінкова комісаром Південно-Західного фронту комісаром 7-ї армії став есер І. Д. Сургучов.
(обратно)42
16–17 липня австро-німецькі війська форсували Збруч в районі Гусятина, але тут російські з'єднання змогли відкинути їх за річку.
(обратно)43
Гандзюк Яків (1863–1918) — військовослужбовець, генерал-майор російської служби. Під час Першої світової війни командував 104-ю піхотною (потім 1-ю Українською) дивізією у складі 34-го армійського корпусу. Після відставки П. Скоропадського, 23 грудня 1917 р. обійняв посаду командира І Українського корпусу.
Разом з начальником штабу корпусу генералом Я. Сафоновим наприкінці січня 1918 р. прибув до Києва, щоб дістати вказівки Генерального Секретарства; тут вони були схоплені більшовиками і розстріляні.
(обратно)44
Тобто 4-й полк 104-ої дивізії — 416-й піхотний Верхньодніпровський.
(обратно)45
Фон Потбек В. В. - генерал-лейтенант російської служби. Командував 6-м армійським корпусом, у вересні-листопаді 1917 — 1-ю армією Північного фронту.
4 травня 1918 р. Раднарком призначив його військовим керівником Приволзького окружного військкомісаріату.
(обратно)46
У складі російських військ діяв союзницький Британський автобронедивізіон.
(обратно)47
Мається на увазі Петроградська Рада робітничих і солдатських депутатів, яка утворилася 27 лютого (12 березня) 1917 р. як Рада робітничих депутатів. 1 березня до неї обрано було представників від армії та флоту.
До вересня 1917 р. більшість в Раді належала есерам і соціал-демократам (меншовикам). Головою виконкому Ради було обрано лідера меншовицької фракції Державної Думи М. С. Чхеїдзе, його товаришами (заступниками) — есера О. Ф. Керенського і меншовика М. І. Скобєлєва. Рада діяла як орган революційної влади, зокрема видала т. зв. ''Наказ № 1», який запроваджував в армії та на флоті виборні солдатські комітети.
2 (15) березня Петроградська Рада передала владу Тимчасовому урядові. Після придушення Корніловського заколоту Рада більшовизувалася; її головою було обрано Л.Д. Троцького. Здобуття більшості в Петроградській і Московській Радах дало підстави більшовикам сподіватися на захоплення влади в країні.
(обратно)48
У дійсності указ Тимчасового уряду про відновлення смертної кари на фронті, застосування якої було в компетенції «військово-революційініх» дивізійних судів (зокрема, за опір виконанню бойових наказів і розпоряджень начальників, явні повстання і підбурювання до них), було видано 12(25) лииня 1917 р., тобто іде за Верховного головнокомандуючого О. Брусилова.
(обратно)49
Аккерман Петро — генерал-майор російської служби. 1917 р. був інспектором артилерії 34-го (1-го Українського) корпусу. За гетьманату — генеральний значковий армії Української Держави, у серпні 1918 р. змінив генерала Стелецького на посаді начальника Штабу Гетьмана.
(обратно)50
Зеленевський Гнат — 1918 р. осавул (особистий ад'ютант) гетьмана в ранзі полковника.
(обратно)51
Марков Сергій Леонідович (1878–1918) — військовий діяч, генерал-лейтенант російської служби. Перед війною викладав у Миколаївській військовій академії.
3 серпня 1917 р. виконував обов'язки начальника штабу головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту. Разом з Л. Корніловим заарештований при придушенні заколоту, утримувався у Биховській тюрмі, втік на Дон.
У Добровольчій армії командував 1-м Офіцерським полком, 1-ю піхотною діоіізією. Помер від ран.
(обратно)52
Денікін Антон Іванович (1872–1947) — військовий і політичний діяч, генерал-лейтенант російсмеої служби, один з лідерів білого руху.
1917 p. - командуючий 8-м армійським корпусом й 4-й армії генерала О. Рогози, з 5 квітня — начальник Штабу Верховного Головнокомандуючого, 31 травня (13 червня) — 30 липня (12 серпня) головнокомандуючий арміями Західного фронту, 2-29 серпня (15 серпня — 11 вересня) — головнокомандуючий арміями Південно-Західного фронту.
За підтримку Корніловського заколоту усунутий з посади і заарештований, 19 листопада втік з Биховської норми на Дон.
Один з організаторів Добровольчої армії. З 31 серпня 1918 р. — 1-й заступник голови «Особливої наради», з 8 жовтня — головнокомандуючий Добрармії, з 8 січня 1919 р. — головнокомандуючий «Збройними Силами Півдня Росії», заступник «Верховного правителя Росії» О. В. Колчака, з 4 січня 1920 р. — «Верховний правитель». 23 березня 1920 р. передав командування П. М. Врангелю, після чаго емігрував.
Автор 5-томного опрацювання «Очерки русской смуты» (Париж, 1921–1926).
(обратно)53
Про ці події сам Л. І. Денікін нисан так:
«У розвиток настанов уряду Ставка призначила на всіх фронтах пеані дивізії для українізації, а на Південно-Західному фронті крім того 34-й корпус, на чолі якого стояв генерал Скоропадський. У ці частини, що стояли звичайно в глибокому резерві, рушили явочним порядком солдати з усього фронту…
… У серпні, коли я командував Південно-Західним фронтом, з 34-го корпусу мені почали надходити погані звістки. Корпус якось став виходити з прямого підпорядкування, одержуючи безпосередньо від «генерального секретаря Петлюри» і вказівки, і вкомшісктування. Комісар його знаходився при штабі корпусу, над приміщенням якого повівав «жовто-блакитний прапор»… Я викликав до себе генерала Скоропадського і запропонував йому притамувати різкий перебіг українізації і, зокрема, відновити права командного складу або відігустити його з корпусу. Майбупіій гетьман заявив, що про його діяльність склалася хибна думка, ймовірно, через історичне миігулс фамілії Скоропадських, що він щиро російська людина, гвардійський офіцер і зовсім чужий самостійності; викопує лише покладене на нього керівництвом доручення, якому сам не співчуває… Ллє по тому Скоропадський поїхав у Ставку, звідки моєму штабові наказано було… сприяти українізації 34-го корпусу»
(Деникин Л.И. Очерки русской смуты. — Т. 1, вып. 2 // Вопр. истории. — 1990. - 10. — С. 109).
(обратно)54
Удовиченко Микола (1885–1937) — військовослужбовець, капітан російської військово топографічної служби. Кооптований член Українського генерального військового комітету, призначений представником УГВК при штабі Південно-Західного фронту замість П. Скрипчинського. За Гетьманату — полковник, служив у Головному ннабі. За Директорії — начальник Персональної управи Військового міністерства УНР, генерал-хорунжнй Армії УНР. на еміграції у Франції.
(обратно)55
Клименко — військовий діяч, полковник російської служби. 1917 р. — командор 153-ї піхотної дивізії 34-го армійського корпусу (потім 2-ї дивізії І Українського корпусу). 17 квітня 1918 р. призначений командуючим Подільським корпусом. З червня 1918 р. — командир Сердюцької дивізії з правами командира корпусу, генеральний хорунжий армії Української Держави. 1919 р. перейшов до Добровольчої армії.
(обратно)56
Крамаренко- полковник; у серпні 1917 р. був призначений начальником штабу 153-ої піхотної дивізії.
(обратно)57
Генерал від інфантерії С. М. Шейдеман здійснював за дорученням Ставки всебічне інспектування 34-го і 6-го українізованих армійських корпусів для з'ясування їхньої бойової готовності.
(обратно)58
Л. Корнілов розіслав телеграму по лініях залізниці, видав два накази по армії та флоту, «Звернення до народу» і «Відозву до козаків». Він звинуватив Тимчасовий уряд у діях, узгоджених з німецьким генштабом, клявся «довести народ шляхом перемоги над ворогом до Устаповчих зборів».
(обратно)59
Для підтримки фронту і продовження бойових дій за умов занепаду дисципліни і втрати командуванням авторитету було вжито надзвичайних заходів. Зокрема, 19 червня 1917 р. розпочалося формування 34 ударних батальйонів з добровольців, а згодом — чотирьох Георгіївських піхотних полків, які складалися виключно з георгіївських кавалерів. У безпосереднє розпорядження Л. Корнілова були викликані ударний полк з Південно-Західного фронту (2,5 тис. солдатів і 200 офіцерів), який дістав назву «Корниловського», та Могилівський Георгіївський батальйон (1 тис. солдатів).
(обратно)60
Лукомський Олександр Сергійович (186.8 -1939) — генерал-лейтенант російської служби. 1917 р..- генерал-квартирмейстер Ставки, з червня — начальник Штабу Верховного Головнокомандуючого; 1 (14) вересня за участь у заколоті заарештований разом з Л. Корніловим, разом з ним утік з Бнховської тюрми. З 15 серпня 1918 р. — помічник командуючого армією, у жовтні 1918 р. — вересні 1919 р. — начальник військового і морського управління при А. Денікіні і помічник головнокомандуючого. З вересня до грудня 1919 р. — голова «Особливої паради». До березня 1920 р. — голова'«Уряду при головнокомандуючому Збройними Силами Півдня Росії». Емігрував.
(обратно)61
Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1956) — генерал від кавалерії російської служби. Під час Першої світової війни командував 19-м армійським корпусом, 5-ю армією, — з 1916 р. — в розпорядженні військового міністра, 29 квітня (12 травня) — 1 (14) червня 1917 р. — головнокомандуючий арміями Північного фронту; звільнений за опір демократизації армії.
Деякий час жив в Україні. З 31 серпня 1918 р. — перший голова «Особливої наради», під час білогвардійської окупації — головноначальствуючий Київської області. На еміграції очолював спілку офіцерів Генерального штабу.
Його сестра була заміжня за вінницьким повітовим предводителем дворянства Д. Ф. Гейдспом, який за гетьманату очолював «Союз хліборобів».
Одночасно в російській армії служив його брат, генерал В. Драгомиров.
(обратно)62
24 серпня Л. Корнілов призначив генерала О. М. Кримова головнокомандуючим спеціально створюваною Окремою Петроградською армією, в яку було включено 3-й кавалерійський корпус (його командиром замість О. Кримова було призначено П. Краснова), Кавказький Тубільний кінний корпус (т. зв. «Дику» дивізію), 1-у Донську козачу, 5-у Кавказьку кавалерійську і Уссурійську козацьку дивізії. Ядро цих військ, корпус П. Краснова, 28 серпня мав зосередитися в околицях Петрограда.
Увечері 27 серпня ешелони 1-ї Донської дивізії, при яких буй сам О. Кримов, почали прибувати на станцію Луга, де їх Подальший рух було паралізовано залізничниками. Серед козаків було розгорнуто бурхливу агітацію. 29 серпня Л. Корнілов наказав Кримову зайняти Петроград раптовим ударом. Дорогу перекрили солдати Лузького гарнізону, і полкові комітети козаків відмовилися викопати наказ. Голова Тимчасового уряду О. Керенський викликав Кримова в столицю; після розмови, що відбулася між ними, генерал застрелився.
Решта підійшедших для наступу на Петроград військ Л. Корнілова також не пройшла через заслони революційних солдатів та робітничих загонів і була розпропагована проти корніловського заколоту.
(обратно)63
«Кадети» — скорочена назва Конституційно-демократичної партії (Партії «народної свободи»), — заснованої в жовтні 1905 р. провідної ліберально-монархічної партії Росії. Складалася переважно з представників інтелігенції і ліберальних поміщиків. Відстоювала перетворення Росії на конституційну парламентарну монархію, громадянські свободи, а з березня 1917 р. — республіканські засади. Лідери кадетів входили до складу Тимчасового уряду. Партія активно боролася проти більшовицького уряду.
Лідер кадетів П. Мілюков улітку 1918 р. перебував у Києві. Кадети входили до гетьманського уряду. Самостійність України вони розглядали як тимчасове явище на шляху до оновленої неподільної Росії.
(обратно)64
Володченко М. Г. — генерал-лейтенант російської служби. 1917 р. командував 46-м армійським корпусом. 9 (22) вересня 1917 р. призначений головнокомандуючим арміями Південно-Західного фронту. Визнав цивільну владу Центральної Ради.
(обратно)65
Київська Рада робітничих депутатів була обрана 3 (16) березня 1917 p., з квітня перебувала в Марийському палаці. Значним виливом в ній користувалися більшовики, але більшість до листопада 1917 р. належала есерам та меншовикам. Рада організувала робітничу міліцію, запроваджувала 8-годишшй робочий день тощо. 8 (21) вересня вона однією з перших в Росії прийняла більшовицьку резолюцію про перехід усієї влади до Рад. Підтримала більшовицький переворот в Петрограді і утворила ревком, який очолив у Києві збройне повстання проти військ округу, вірного Тимчасовому урядові.
З листопада існувала як об'єднана Київська Рада робітничих і солдатських депутатів.
(обратно)66
У тексті видання «Уривок зі 'Споминів' Гстьмаш Павла Скоропадського» у «Хліборобській Україні» (IV, 7 і 8 [1922–1923], С. 3–40; V [1924-19251, С. 31–92) цей епізод викладено так:
«6 жовтня, коли я ще був у себе в номері, до мене зайшов капітал Удовиченко і заявив, що в Бердичеві (курсив наш. — Авт.) засідає Український військовий з'їзд, що сьогодні має буги доповідь представників мого корпусу…» (див. перевидання «Уривка зі 'Споминів'» н. з. «Гетьман Павло Скоропадський. Спомини». — К., 1992. — С. 33).
Йдеться про з'їзд українців-вояків Південно-Західного фронту.
(обратно)67
Шинкар Микола Ларіонович (? - 1920) — військовий діяч. Штабс-капітан російської служби (служив в 11-му Фінляндському стрілецькому полку), член Української партії соціалістів-революціонерів.
З 3 липня 1917 р. — член Всеукраїнської Ради військових депутатів. Центральної Ради. З 18 грудня 1917 р. — начальник Київського військового округу. У січні 1918 р. — командуючий протибільшовичьким фронтом.
Влітку 1918 р. очолив 15-тисячний повстанський загін на Звенигородщині. 30 листопада 1918 р. на чолі повстанців захопив Полтаву, де розгромив гетьманську адміністрацію.
1919 р. підняв на Полтавщині повстання проти Директорії. Захоплений військами П. Болбочана, чудом утік з-під розстрілу. Загинув у бою проти Армії УНР під Уманню.
(обратно)68
Всеукраїнський з'їзд Вільного Козацтва відбувся в Чигирині 3 (16) — 7 (20) жовтня 1917 р. 200 делегатів представляли 60 тис. організованих Вільних козаків Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Катеринославщики, Херсонщини, Кубані. З'їзд обрав генеральну Раду Вільного Козацтва з 12 членів.
Отаманом усього Вільного козацтва було обрано П. Скоропадського, генеральним писарем — В. Кочубея, наказним отаманом — І. Полтавця-Остряницю, генеральним обозним — Тонковида, генеральним суддею — М. Левицького, генеральними хорунжими — І. Луценка, С. Гризла і Шановала, генеральними осавулами — Шомовського, Шендрика і Кіщанського. Організаційним осередком козацтва було визначено Білу Церкву.
(обратно)69
Гайдамаки — учасники народно-визвольного руху проти феодально-кріпосницького та національно-релігійного гніту на Правобережній Україні, яка до кінця XVIII ст. перебувала під владою Польщі. Назва походить під тюркського «гайда» («гнати, турбувати, свавільничати») — так називала повстанців польська шляхта. Гайдамаки діяли на зразок партизанських загонів. Найзначніші події, пов'язані з ними — повстання 1734,1750,1768 («Коліївщина») pp. Серед гайдамацьких ватажків найбільше відзначилися в різний час Верлань, Г. Голий, Таран, М. Залізняк, І. Гонга та iн.
Одна з перших українських військових частина утворювалися 1917 p., склалася в Умані і прибрала назву «куреня гайдамаків». Інший курінь виник в Олександрівську; в Одесі та Катеринославі було утворено гайдамацькі коші. З часом ця назва закріпилася як власна за Гайдамацьким кошем Слобідської України (потім 3-м Гайдамацьким полком Запорізької дивізії) та Гайдамацьким кінним полком ім. кошового Костя Гордієнка (потім 1-м Запорізьким ім. кошового К. Гордієнка полком кінних гайдамаків), але поширилася як загальна назва українських вояків, особливо серед їхніх супротивників.
(обратно)70
Полтавець-Остряниця Іван Васильович — військовослужбовець, громадський діяч. Походив з давнього козацького роду. В жовтні 1917 р. на Загальному з'їзді Вільного Козацтва обраний наказним отаманом, членом Генеральної Ради. 1918 р. — Генеральний писар Гетьмана України. З 1919 р. — на еміграції в Мюнхені. Виступив як розкольник гетьманського руху; створив Українське національне козаче товариство (УНАКОР) і проголосив себе «Гетьманом і національним вождем всієї України обох боків Дніпра та військ козачих і запорозьких», диктатором «Української народної козацької республіки». Розробляв проекти створення груп Вільного Козаціва у складі вермахту.
(обратно)71
Фон Бісмарк Отто (1815–1898) — німецький політичний і державний діяч, міністр-президент та міністр закордонних справ Пруссії (1862–1871), рейхсканцлер Німецької імперії (1871–1890). З його ім'ям пов'язане об'єднання численних німецьких держав під зверхністю Пруссії і перетворення Німеччини на одну з наймогутніших німецьких держав.
(обратно)72
Всеросійський союз земельних власників, що мав на меті захист приватної власності на землю, був утворений навесні 1917 р. В Україні ж з цією метою виник «Союз хліборобів-власників», спочатку як Полтавська губернська організація. Обидві організації перебували в опозиції до Центральної Ради та її аграрної політики, діяли в порозумінні, скликаючи хліборобський конгрес 29 квітня 1918 р. в Києві.
(обратно)73
Установчі збори — представницький орган, обраний населенням Росії для вирішення питания про державний устрій держави. Підготовка скликання зборів провадилася Тимчасовим урядом. Вибори були призначені на 12 (25) листопада 1917 р.
Захопивши владу, більшовики не наважилися скасувати інститут Установчих зборів і змушені були погодитися на проведення виборів. Результати виборів виявилися вкрай несприятливими для більшовиків, котрі видавали себе за виразників інтересів трудового населення Росії: вони отримали лише 25 % голосів, есери та меншовики -62 %, кадета та інші демократичні партії — 13 %.
Установчі збори працювали тільки один день, після чого були розігнані більшовицькою владою.
(обратно)74
Після жовтневого перевороту в Петрограді на боці скинутого Тимчасового уряду залишилося командування Київського військового округу на чолі з генерал-лейтенантом М. Ф. Квецінським та комісаром І. Кирієнком. Центральна Рада створила Крайовий комітет для охорони революції, в який входили й представники Київського комітету РСДРП(б). Після засудження Центральною Радою збройного повстання в Петрограді більшовики вийшли з комітету і організували збройне повстання.
Військам округу вдалося 23 жовтня заарештувати членів ревкому, але новий ревком оголосив, що перебирає владу в місті. О 17-й годині 29 жовтня збройні занони ревкому атакували військові об'єкти; завод «Арсенал», який став центром повстання, відбив кілька атак. Повстання було підтримане страйком. Протягом триденних боїв війська округу були розгромлені. У ніч на 1 (14) листопада його командування залишило Київ.
У боях з військами округу взяли участь козаки 1-го Українського полку ім. Богдана Хмельницького. Для оборони Києва від вірних Тимчасовому урядові фронтових частин київські формування були підпорядковані одночвсно голові ревкому і. призначеному Центральною Радою командуючому Київським військовим округом В. Павленку. Урядові установи були зайняті українськими частинами.
Центральна Рада 30 жовтня (12 листопада) доповнила склад уряду Генерального Секретаріату необхідними секретарствами, 31 жовтня поширила його владу на відмежовані Тимчасовим урядом під українського керівництва губернії. 7 (20) листопада було оголошено III Універсал Центральної Ради про утворення Української
Народної Республіки. У ніч на 1 (13) грудня частини Сердюцької дивізії роззброїли більшовицькі формації і вислали їх залізницею до Росії.
(обратно)75
25 жовтня (7 листопада) 1917 р. під впливом петроградських подій Центральна Рада утворила Крайовий революційний комітет для охорони революції на Україні. На території України йому підпорядковувалися «всі сили революційної демократії» і підлягали всі органи влади. До комітету ввійшли: від Центральної Ради — М. Ткаченко, М. Порш, О. Севрюк, М. Шаповал, М. Ковалевський, А. Піковський, Ф. Матушевський, Г. П'ягаков (більшовик), С. Гольдсльман, від УГТЗК — С. Петлюра, а також представники від партій, організацій, Залізничного комітету, Всеукраїнської ради військових депутатів, Київських рад робітничих і солдатських депутатів, рад Харкова, Катеринослава і Одеси. Комітет було розпущено 28 жовтня (10 листопада) 1917 р.
(обратно)76
У травні 1917 р. на Південно-Західному фронті для українізації були спочатку призначені 6-й, 17-й і 41-й армійські корпуси. Після призначення Верховним Головнокомандуючим, Л. Корнілов віддав наказ про українізацію 6-го і 34-го армійських корпусів і передбачав такі заходи щодо певних дивізій із складу 5-го Сибірського, 12-го, 31-го, 33-го, 46-го армійських корпусів. На Румунському фронті українізувалися X і XXVI корпуси.
(обратно)77
Відозву про формування «охочекомонного» (тобто добровольчого) полку ім. Богдана Хмельницького видав Український військовий клуб ім. П. Полуботка. Про своє бажання утворити такий полк заявили солдати-українці, що неребували в Києві на етапно-розподільному пункті. Незважаючи на опір створенню цієї частини з боку командування Південно-Західного фронту і Київського військового округу, вона була організована «самочинно», про що було оголошено 18 квітня (1 травня) 1917 р. на святі «перших квітів» у Києві. Полк складався з 16 сотень чисельністю 3574 чол. Створення 1-го Українського козачого ім. гетьмана Богдана Хмслмтцького полку зрештою було затверджено головнокомандуючим військами фронту О. Брусиловим (21 квітня 1917 р.) і 1 Всеукраїнським військовим з'їздом. З серпня 1917 р. полк перебував на фронті у складі 8-ї армії, у листопаді повернувся до Киева, де був включений до складу 1 — ї Сердюцької дивізії. Цей найстарший полк новітнього війська УНР існував до кінця Визвольних змагань у Запорізькій дивізії та корпусі.
(обратно)78
Криленко Микола Васильович (1885–1938) — більшовицисий партійний, військовий і державний діяч. Закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького університету, юридичний факультет Харківського університету. Учасник революції 1905–1907 ПРт У. квітні 1916 р. мобілізований як прапорщик запасу до російської армії.
1917 р. — голова полкового, дівізійного, армійського (11 армія) комітетів. Представник ЦК РСДРП(б) на з'їзді Південно-Західного фронту; член ВЦВК, Всеросійського бюро військових організацій при ЦК РСДРП(б). Активний учасник жовтневого перевороту в Петрограді.
У першому складі РИК, — член комітету з військових і морськцх справ. 9 (22) листопада призначений Раднаркомом Верховним Головнокомандуючим, виконував ці обов'язки до березня 1918 р.
З січня 1918 р. — член Всеросійської комісії а організації і формування Червоної Армії.
З травня 1918 р. — голова Ревтрибуналу, з грудня 1922 р. — заступник наркома юстиції і старший помічник прокурора РРФСР, з 1931 — нарком юстиції РРФСР, а з 1936 — СРСР. Виступав державним — обвинувачем на найбільших політичних Процесах, доки не був репресований сам та. Генерал Н. II, Стогов змінив II, Г. Володченка на посаді головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту 24 листопада.(7 грудня) 1917 р.
(обратно)79
(обратно)80
Бош Євгенія Богданівна (Готлібівна) (1879–1925) — член Російської соціал-демократичної партії з 1900 р. У грудні 1911р. обрана секретарем Київського комітету партії. Вислана на поселення, втекла за кордон, повернулася по Лютневій революції.
У квітні 1917 р. обрана секретарем окружного комітету РСДРП(б) Південно-Західного краю, у липні — головою обласного комітету Південно-Західного краю. Провадила енергійну діяльність по підготовці повстання як проти Тимчасового уряду, так і проти Центральної Ради; розпропагувала солдатів 2-го гвардійського корпусу, дислокованого в районі Бара-Жмерінки, і домоглася походу цього з'єднання на Київ. Просування більшовизованого корпусу було зупинене військами П. Скоропадського.
З грудня 1917 р. — член Головного комітету РСДРП(б) — соціал-демократії України. Член ЦВК Рад України, народний секретар внутрішніх справ в українському радянському уряді тощо.
Будучи важко хворою, наклала на себе руки.
Автор історико-мемуарних праць.
(обратно)81
Українізація 6-го армійського корпусу відбувалася шляхом виділення з нього українців в новий позаштатний 51-й корпус, перейменований на початку листопада в 2-й Січовий Запорозький корпус
(обратно)82
Кавалергардський полк — одна з найпривелийованіших частин гвардійських кірасирів. Становив одну бригаду з Лейб-Гвардії Кінним полком і суперничав з ним. П. Скоропадський служив у цьому полку після закінчення Пажеського корпусу.
(обратно)83
Має бути: 5-ю кавалерійською дивізією.
(обратно)84
Орановський В. Л. - генерал від кавалерії російської служби. 1915 р. командував кінною групою, в яку входили його 1-й кавалерійський корпус, загін Казнакова (1-ша гвардійська кавалерійська, 5-та кавалерійська дивізії. Уссурійська козача бригада), зведений кінний корпус Туманова, загін Білосельського-Білозерського.
1917 р., командуючи 42-им окремим армійським корпусом Північного фронту, відмовився визнати прибулого комісара ревкому, був заарештований Виборзьким ревкомом. 29 серпня 1917 р. солдати вдерлися на гауптвахту, де утримувався В. Орановський, схопили його, разом з десятьма іншими генералами і офіцерами штабу корпусу кинули іх в Морський канал у Виборзі і розстріляли з берега.
(обратно)85
Бутейко Борис Аполонович (? — 1926) — громадський і державний діяч. За фахом — інженер шляхів сполучення, працював керуючим справами Подільської залізниці. Належав до «Української народної громади».
Міжпартійна нарада соціал-демократів, соціалістів-революціонерів і самостійників уважала його кандидатуру небажаною в уряді як нібито настроєного вороже до української державності, але своєю діяльністю на посаді міністра шляхів (3 травня -14 листопада 1918 р.) він зкористувався репутації найпалкішого прихильника українізації (м.і., створив особливу комісію з вироблення української технічної термінології для залізниці) — Під його керівництвом до середини 1918 р. було відновлено нормальне функціонування шляхів сполучення а державі.
Помер на еміграції.
(обратно)86
Певний Аполон (1888 —?) — громадський і військовий діяч. За фахом — агроном. Під час Першої світової війни мобілізований як прапоріцик запасу, служив у 39-му запасному полку. 1917 р. — член УГВК, а якому відав комендатурою і відділом з організації Вільного Козацтва. З квітня 1918 р. — помічник Харківського губернського коменданта. 1919 р. — заступник Головного Державного інспектора Армії УНР. За радянської влади репресований, засланий на Соловки.
(обратно)87
Йдеться про- 1-й Український полк у складі корпусу П.Скоропадського — колишній 413-й піхотний Порховський.
(обратно)88
4 (17) грудня 1917 р. Рада Народних Комісарів РРФСР оголосила лсиінів «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради».
Він містив як офіційне визнання Української Республіки (!), так і ряд вимог: не пропускати на Дон та Урал контрреволюційні частини (що на практиці означало б перетворення України на театр воєнних дій руками Центральної Ради), припинити «дезорганізацію фронту «(тобто зупинити формування українських збройних сил), припинити роззброєння збільшовизованих і полка Червоної Гвардії (тобто допустити існування на своїй території ворожих українській державності збройних формувань). Під прикриттям рішень т. зв. І Всеукраїнського з'їзду Рад, в який «конституювався» III з'їзд Рад Донецького і Криворізького басейнів (зокрема, утворенням Народного Секретаріату як уряду радянської України), в Україну були направлені 1-й Московський, 1-й Мінський революційні загони, інші військові та червоногвардійські формування. На Харківщині виник зав'язок полку Червоних козаків (названого так на протиставлення Вільному Козацтву). 4 січня 1918 р. ці збройні сили, очолені В. Антоновим-Овсієнком та його начальником штабу М. Муравйовим, почали наступ проти Центральної Ради.
Українські частини змушені були вести боротьбу одночасно на основних напрямках просування ворожих затонів і в самому Києві, де 16 (29) січня вибухнуло більшовицьке повстання з центром на заводі «Арсенал». Становище погіршувалося й тим, що деякі українські полки під впливом більшовицької агітації оголосили в її критичний момент- «нейтралітет». Після кількаденного обстрілу Києва ненрицільним артвогнем, від якого постраждало чимало мирних мешканців, війська Муравйова захопили Київ 26 січня (8 лютого) 1918 р.
(обратно)89
Водяний Яків — член партії соціалістів-революціонерів. З 1906 до 1917 pp. - на еміграції. Після повернення організовував Вільне Козацтво в Черкаському повіті. На з'їзді Вільного Козацтва в Чигирині подав єдиний голос проти обрання П. Скоропадського отаманом. Як курінний отаман, брав участь у бойових діях козацтва проти збільшовизоваїшх частин російської армії.
(обратно)90
Порш Микола (1879–1944) — політичний і державний діяч. За фахом — економіст. Член Революційної Української партії, УСДРП.
1917 р. — член Центральної Ради і Малої Ради. З листопада — генеральний секретар праці, з 18 грудня — також і військових справ; з січня 1918 р. — міністр праці і військових справ УНР.
1919–1920 pp. - посол УНР в Німеччині.
(обратно)91
У тексті видання «Уривок зі 'Сномина' Гетьмана Павла Скоропадського» у «Хліборобській Україні» (IV 7 і 8 [1922–1923], С. 3–40; V [1924–1925]. С. 31–92) ця фраза має такий вигляд: «Чув, що на цей пост намічається генерал Кирей, талановитий гарматний інспектор 6-го корпусу…» (див. перевидання «Уривка зі 'Споминів» і. з. «Гетьман Павло Скоропадський. Спомини». — К., 1992. — С. 48). Інспектором артилерії 51-го (українського) корпусу був призначений командир 6-го мортирного дивізіону полковник Афанас'їв.
(обратно)92
Луценко Іван Митрофаіювич (1864–1919) — лікар, громадський, політичний і військовий діяч. Під час Першої світової війни — полковник медичної служби російської армії. У 1917 р. — член Центральної Ради та Українського Генерального військового комітету. Лідер Української народної партії (Української партії соціалістів-самостійників). Організатор і голова Одеської української військової ради, Одеського українського військового коша, член Одеського повітового громадського комітету. У жовтні 1917 р. на З'їзді Вільного Козацтва обраний генеральним хорунжим. Під час антигетьманського повстання — голова цивільного управління Таврійської області, за Директорії — командир військового загону. Загинув у бою під містечком Кузьмін.
(обратно)93
Секрет — військовослужбовець, штабс-капітан російської служби. У жовтні 1917 р. командував 1-м куренем 1-го Українського Георгіївського запасного полку, з листопада 1917 р. — обраний командиром полку, перейменованого згодом на Сердюцький Георгіївський полк ім. полковника І. Богуна.
(обратно)94
Сахно-Устимович Олександр Олександрович — військовослужбовець; навесні 1917 р. — ротмістр. Служив ад'ютантом командуючого військами Київського військового окруїу.
29 березня 1917 р. обирався заступником голови наради вояків Київського гарнізону. Член Українського організаційного військового комітету. Організатор Вільного Козацтва на Полтавщині.
1918 р. — осаул (особистий ад'ютант) гетьмана в ранзі військового старшини.
1920 р. — полковник білої армії, був приділений до Цивільного управління штабу генерала П. М. Врангсля; розробив проект відновлення Запорізького козацького війська (коша) на'засадах автономії України у складі загальноросійської федерації.
(обратно)95
Макаренко Леонід Гаврилович (1885–1965) — громадський та державний діяч. Походить з селян. Служив в Управлінні Південно-Західної залізниці. У 1917 р. — голова Всеукраїнської спілки залізничників. 1918 р. — директор департаменту в Міністерстві шляхів Української Держави. Один з організаторів ігротигетьмаїїеького повстання, член Директорії УНР. З 1919 р. — на еміграції в Австрії, Чехо-Словаччині, США.
(обратно)96
Греков Олександр Петрович (1875–1958) — військовий діяч, Генерального штабу генерал-майор російської служби. Під час Першої світової війні — начальник штабу 74-ої піхотної дивізії, командир Лейб-Гвардії Єгерського полку, начальник штабу 6-го армійського корпусу; дістав призначення генерал-квартирмейстером штабу І армії Північного фронту.
У листопаді — грудні 1917 р. — командир 2-ої Сердюцької дивізії війська Центральної Ради, начальник штабу Київського військового округу. З березня до травня 1918 р. — товариш військового міністра УНР.
За гетьманату очолював таємну організацію українських старшин. У листопаді 1918 р. призначений начальником Головного штабу. Перейшов на бік Директорії.
З грудня 1918 р. — головнокомандуючий групи військ УНР у Херсонщині, Катернііославщнні та Таврії, військовий міністр УНР, Наказний Отаман Народної Республіканської Армії. З 9 червня до 5 липня 1919 р. — Начальний комендант Галицької армії, генерал-поручник УГА. З липня 1919 р. — у відставці.
30 вересня 1948 р. у Відні заарештований радянською контррозвідкою, засуджений до 25-річиого ув'язнення. 1956 р. звільнений, помер у Відні.
(обратно)97
Болбочан Петро (1883–1919) — військовий діяч. Під час Першої світової війни — офіцер 38-го Тобольського полку, після поранення — інтендантської служби 5-го армійського корпусу; капітан, потім підполковник.
Восени 1917 р. організував з українців 5-го армійського корпусу полк Української Республіки, який увійшов до складу 2-ї Сердюцької дивізії в Києві. У 19,18 р. — командир куреня Окремого. Запорізького загону і заступник його командира А. Прігсонсілсого, командир групи, яка здійснила похід, у Крим. З березня — командир 2-го Запорізького (Республіканського) пішого полку в Запорізькій дивізії і бригаді. 5 листопада 1918 р. дістав ранг полковника армії Української Держави.
Під час протигетьманського повстання очолив Запорізьку дивізію, яка розгорнулася в корпус, командував Лівобережною групою армії УНР.
Після відступу з Лівобережжя усунутий від командування корпусом. У червні 1919 р. у Проскурові зробив спробу самовільно обійнято команду над цим з'єднанням.
За вироком військово-польового суду розстріляний.
(обратно)98
Табуї (ТаЬоиів) Жорж (1867–1958) — генерал французької служби. У роки Першої світової війни був представником французької армії при штабі російського Південно-Західного фронту (з лютого 1917 р. — у Кам'янці-Подільському). Виконував обов'язки особистого зв'язкового керівника французької військової місії генерала Бертело в Україні. 19 грудня 1917 р. Франція встановила дипломатичні стосунки з Україною, і 28 грудня 1917 р. генерал Ж.Табуї був призначений комісаром Французької Республіки при уряді УНР. Після укладення УНР Брест-Литовського миру з країнами Четвірного союзу місія Ж.Табуї 23 лютого 1918 р. залишила Україну.
(обратно)99
За згодою Тимчасового уряду і Верховного Головнокомандуючого Л. Корнілова з серпня 1917 р. створювалися два Польські корпуси легіонерів.
(обратно)100
формування з військовополонених чехів і словаків здійснювалося за угодою між Тимчасовим урядом і Чехо-Словацьким національним комітетом на чолі з Т. Масариком. 13 червня 1917 р. було віддано наказ про розгортання корпусу.
(обратно)101
С. Петлюра після відставки з поста Генерального секретаря військових справ сформував Гайдамацький кіш Слобідської України, був призначений його отаманом. Кіш складався з двох куренів, з них перший (червоних гайдамаків) був сформований з фронтовиків, другий (чорних гайдамаків) — з юнкерів та студентів. Формація разом з Січовими Стрільцями взяла на себе головний тягар боїв за Київ у січні 1918 p., зокрема здобула штурмом фортечні приміщення заводу «Арсенал» — центру більшовицького повстання.
(обратно)102
Ковенко Михайло — військовий і політичний діяч. За фахом — інженер. Член УСДРП, згодом — УПСР.
Під час оборони Києва в січні 1918 р. був комендантом міста, здійснив арешт кількох членів Центральної Ради, які вступили в змову з ворогом. Створив у Києві 16 куренів Вільного Козацтва з робітників заводів Грстера, «Арсеналу», залізничних вокзалів, окремих районів міста — до 400 багнетів. Ці курені першими вступили в бій з повсталими проти Центральної Ради арсенальцями, а згодом влилися в Гайдамацький кіш Слобідської України.
1919 p. М. Ковенко був Головою Верховної слідчої комісії Директорії для боротьби з контрреволюцією, редактором газети «Україна». З 1920 р. — на еміграції
(обратно)103
П. С. Балуев командував Західним фронтом з 15 (18) серпня до 12 (25) листопада 1917р.
(обратно)104
У тексті видання ''Уривок зі «Споминів» Гетьмана Павла Скоропадського» у «Хліборобській Україні» (IV 7 і 8 [1922–1923], С. 3–40; V [1924–1925], С. 31–92) цей епізод викладено так: «У той, час князь Віктор Сергійович Кочубей прислав до мене з рекомендаційною карткою Котова-Коношенка (курсив наш.,-Лет.), який розповів мені,що він українець, дідич з Харківщини, організував там вільних козаків, був десь українським комісаром. Пізніше я довідався, що до революції він належав до якоїсь крайньої правої організації» (див. перевидання «Уринка. зі 'Споминів'» п. з. «Гетьман Павло Скоропадський. Спомини». — К., 1992.-С. 55).
(обратно)105
Гіжицький Т. М. — активний діяч «Української народної громади», державний секретар в кабінеті Ф. А. Лизогуба. 1919 р. входив у крайньо правий політичний блок в Одесі.
(обратно)106
Моркотун Сергій Костянтинович. — Поліцейський чиновник, після Лютневої революції — начальник залізничної міліції Південно-Західних залізниць.
1918 р. — особистий секретар гетьмана П.Скоропадського. У жовтні 1919 р. оголосив у паризькій газеті «Cause Commune'', що очолював у Києві масонську ложу, рядовим членом якої нібито був С: Петлюра.
Батько С. Моркотуна був прийняти у домі дядька П. Скоропадського, О. Олсуф'єва, як особистий лікар великого князя Георгія Олександровича.
(обратно)107
Ластовчеико Юрій — штабс-капітан російської служби, підосаул війська УНР. Член корпусного комітету 34-го корпусу. З листопада 1917 p., після призначення Ю. Катана командиром дивізії — тимчасовий командир 1-го Сердюцького полку Гетьмана Богдаца Хмельницького. В грудні 1917 р. очолив підрозділ полку, відправлений до Полтави, де був позрадницьки вбитий під час переговорів з місцевими більшовиками.
(обратно)108
Голубович Всеволод Олександрович (1890 —?) — політичний і державний діяч, журналіст. За фахом — шляховий інженер. Член УПСР.
Член Центральної Ради, Малої Ради. З липня 1917 р. — генеральний секретар шляхів, згодом генеральний секретар торгівлі і промисловості. Очолював делегацію УНР на мирних переговорах у Брест-Литовському. З 30 січня до 29 квітня 1918 р. — голова Ради народних міністрів, міністр закордонних справ УНР.
У 1919–1920 рр. редагував газету «Трудова громада», що виходила в Кам'янці-Подільському й Вінниці. 1921 р. за радянської влади засуджений разом з іншими членами ЦК УПСР. Після амністії очолював Раду народного господарства УСРР. 1931 р. репресований у справі т. зв. «Українського національного центру».
(обратно)109
9 (22) січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила IV Універсал, у якому проголошувалася повна незалежність України: «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу».
(обратно)110
О. П. Греков походив з села Санич Глухівського повіту, де його батько мав маєток. Інший батьків маєток містився у Рильському повіті Курської губернії. Сам генерал поблизу Курська придбав свого часу масток Олсександрівку.
(обратно)111
Скоропис-Йолтуховський Олександр Філаретович (1880–1950) — політнчний та громадський діяч. Член Радикальної Української партії, організатор Української соціал-демократичної спілки. 1906 р. засланий до Сибіру, втік за кордон.
Під час Першої світової війни — провідний діяч Спілки Визволення України (голова берлінського відділу), заступник голови Загальної Української Ради. Працюючи в Німеччині, добився зосередження українців-військовополонених в окремих таборах й опікування ними з боку СВУ. У січні 1918 р. — уповноважений Центральної Ради по формуванню українських військових частин з військовополонених в Німеччині та Австро-Угорщині.
З 1 березня 1918 р. — губернський комісар, за гетьманату — губернський староста Холмщини й Підляшшя. На початку грудня 1918 р. заарештований у Бресті польськими військами, що окупували області Західної України.
З 1920 р. — на еміграції. Член Ради присяжних монархічного «Українського союзу хліборобів-державників», співзасновник Українського наукового інституту в Берліні, автор праць з політичних та економічних питань. Один з провідних ідеологів українського монархізму.
1945 р. репресований НКВС СРСР.
(обратно)112
У Києві наприкінці 1917 р. зосередилася значна кількість військовополонених — вихідців із Західної України. 13 листопада Тимчасова головна рада західних, буковинських і угорських українців закликала їх вступати в ряди Січових Стрільців; відозву підписали Р. Дашкевич, Є. Коновалець, І. Лизанівський, Г. Лисенко, М. Низкоклон, Ф. Черпик, І. Чмола. У січні 1918 р. до новосформованого куреня прибули колишні військовополонені старшини Легіону Українських Січових Стрільців. Спочатку формація мала назву «Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців», далі — 1-й курінь Січових Стрільців. У березні 1918 р. курінь розгорнувся в 1-й полк Січових Стрільців. Був однією з найбоєздатніших і дисциплінованих частин українського війська. Охороняв уряд, брав участь в обороні Києва від військ Муравйова.
(обратно)113
«Боротьба» — нейтральний орган Української партії соціалістів-революціонерів. У числі 2 (жовтень) за 1918 р. був опублікований «Одвертий лист до Пана Гетьмана Скоропадського». Його автор М. Шинкар, зокрема, писав: «Як сталося, що ви з переконаного прихильника Антанти зробилися германофілом?»
(обратно)114
У тексті видання «Уривок зі 'Споминів' Гетьмана Павла Скоропадського» у «Хліборобській Україні» (IV, 7 і 8 [1922–1923], С. 3–40; V [1924–1925], С. 31–92): «…я послав Маргиновича довідатись, чи тут ще полковник Петін» (див. перевидання «Уривка зі 'Споминів'» н. з. «Гетьман Павло Скоропадський. Спомини». — К., 1992. — С. 67). Полковник Петін певний час очолював штаб 34-го корпусу.
(обратно)115
Після вступу більшовицьких військ до Києва обстановку там визначали насильство і свавілля. Доповіді, ЦК Російського Червоного Хреста Міжнародному комітету Червоного Хреста в Женеві 14 лютого 1920 р. зазначала, що в Києві в цей час було вбито понад 2 тисячі офіцерів колишньої російської армії. «Боронили Київ українці, вся злоба була звернена на українців, а окотилася майже виключно на російських офіцерах і взагалі на російському панстві і буржуазії» (Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914–1920). 2-е вид. — Мюнхен, 1969 — С. 223).
(обратно)116
Чехословацькі частини були викликані з фронту до Києва штабом округу, але не втрутилися у внутрішні справи України. Після Брестської угоди вони відходили, витримуючи ар'єргардні сутички з австро-німецькими частинами.
(обратно)117
Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) — з 3 грудня 1905 р. назва утвореної 1902 р. Революційної української партії. Лідерами партії були В. Виїшичспко, М. Порти, Д. Антонович, С. Петлюра, М. Ткаченко. В основу її програми було покладено Прфуртську програму німецьких соціал-демократів. В національному питанні мала на меті автономію України. Спиралася на студенстство, службовців, ремісничих робітників і селян. Під час Першої світової війни в партії були три основні напрямки: оборонців, борців за незалежну Україну під австро-угорським протекторатом, прихильників більшовицької тактики перетворення війни на громадянську. Брала участь в роботі Української Центральної Ради, уряді УНР. Після жовтня 1917 р. відстоювала самостійність України. За гетьманату перебувала в опозиції до гетьманського уряду, входила до Українського національного союзу, взяла участь у створенні Директорії.
(обратно)118
Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) була створена 1906 р. народницькими групами, але процес формування було завершено лише у квітні 1917 р. Спиралася на селянство та національну інтелігенцію. Лідерами партії були М. Грушевський, П. Хрнстюк, М. Залізняк та інші.
В основу програми було покладено програму загальноросійської партії соціалістів-революціонерів (есерів), яку члени УПСР намагалися пристосувати до конкретних форм життя української демократії. До повної соціальної революції вони ставили мсту часткових соціальних реформ. Першорядне значення надавалося національному питанню, обстоювалася екстериторіальна автономія України. Після жовтня 1917 р. партія боролася за незалежність України. Мала більшість в Центральній Раді, своїх представників в уряді УНР.
З установленням гетьманату партія розпалася на прихильників легальної опозиційної діяльності та адептів підпільної боротьби і повстання. Праві УПСР приєдналися до Українського національного союзу і ввели своїх представників до складу Директорії, ліві ж у березні 1919 р. утворили партію УПСР комуністів-боротьбістів.
(обратно)119
Начальником Українського Генерального Штабу О. Сливинським був розроблений план створення української армії з кадрів частий, що залишилися на терені України із складу Південно-Західного і Румунського фронтів: з 10-го армійського корпусу — Київський, з 25-го — Волинський, з 26-го — Полтавський, з 31-го — Чернігівський, з 32-го і 3-го — Подільський, з 9-го і 11-го — Харківський, з 8-го і 40-го — Одеський, 3 5-го Кавказького корпусу — Катеринославський.
(обратно)120
Йдеться про Інструкторську школу старшин, створену за наказом міністра військових справ 14 березня 1918 р. Школа складалася з 4 піших, кінної, кулеметної, інженерної учбових сотень і гарматної батареї, призначалася для підвищення підготовки старшин воєнного часу. За гетьманату курс навчання було продовжено до 4 місяців.
(обратно)121
Брестський мирний договір передбачав відновлення не лише політичних, але й господарських зв'язків між УНР та країнами Четвірного союзу. Україна зобов'язувалася надати Німеччині та Австро-Угорщині до 31 літня 1918 р. І мли. т хліба, 400 млн штук яєць, до 50 тис. т живої ваги великої рогатої худоби, сало, цукор, льон, пеньку, марганцеву руду.
(обратно)122
План організації університету був розробленій комісією з представників товариства «Праця», Українського иауковбго товариства і товариства «Просвіта». Український народний університет було відкрито 5 жовтня 1917 р. у складі історико-філологічного, правничого і фізико-математичного факультетів. Лекції відбувалися в приміщенні Університету Св. Володимира.
(обратно)123
Міхновський Микола Іванович (1873–1924) — визначний громадський і політичний діяч, публіцист. Родом з Прилуччини.'За студентських років належав до
«Братства Тарасівців». Працював адвокатом у Харкові. Автор праці «Самостійна' Україна», ідеолог державної самостійності Украйні. Однії із засновників «Революційної Української партії» (1889). 1902 р. створив Українську Народну партію. У 1912–1913 рр. — редактор Харківського тижневика «Сніп».
Під час Першої світової війни — підпоручик юстиції, служив у Київському окружному військовому суді.
29 березня 1917 р. заіпіціюнав у Києві нараду українських вояків гарнізону. Організатор і автор статуту Українського військового клубу ім. гетьмана Павла Полуботка, член Українського військового організаційного комітету і Українського Генерального Військового Комітету, прихильник створення регулярної української армії.
Член Центральної Ради; суперник С.Пет люрн в боротьбі за лідерство у військовій сфері, внаслідок якої вийшов з УГВК. Зробив спробу проголосити самостійність України, спираючись на Полуботківський полк. До осені 1917 р. перебував при штабі однієї з армій Румунського фронту.
У 1918 р. — Один з засновників Української Демократичної Хліборобської партії. Згодом працював у шкільництві й кооперації на Кубані. Переслідуваний радянською владою, наклав на себе руки в Києві.
(обратно)124
Павелко Віктор Гаврилович. — прапорщик російської армії, служив у 39-й пішій запасній бригаді. Член Українського військового клубу ім. П. Полуботка і секретар Українського Військового Організаційного Комітету, молодший офіцер полку ім. Богдана Хмельницького. Лук'янов ГригорШ Степанович — прапорщик російської армії. Учасник наради вояків Київського гарнізону 29 березня 1918 р., член Українського військового клубу ім. П. Полуботка, секретар Українського Військового Організаційного Комітету, молодший офіцер полку ім. Богдана Хмельницького.
(обратно)125
Брати Шемети походили з Полтавщини із старовинного шляхетського роду, землевласники.
Шемет Володимир Михайлович (1873–1933) — громадський і політичний діяч, публіцист. Член І Державної Ради (1905). 1906 р. очолював разом з М.Міхиовським Українську Народну партію. Редактор першої в Росії газет тижневика українською мовою «Хлібороб» (Лубни, 1906). Один із засновників львівської газети «Рада».
Активний діяч Революційної Української партії, згодом — Української народної партії М.Міхновського
1917 р. — член Центральної Ради. Один з організаторів Української Демократичної-Хліборобської партії.
З 1919 р. — працівник ВУАИ. Репресований.
Шемет Сергій Михайлович (1875–1957) — громадський і політичний діяч. Закінчив Технологічний інститут у Санкт-Петербурзі, інженер. Заснував культурне товариство «Родина» (1900–1904).
Один з організаторів Української Народної партії та Української Демократично-Хліборобської партії. Очолював делегацію Лубенського хліборобського з'їзду до Центральної Ради в березні Л918 р., один з ініціаторів скликання і учасник всеукраїнського конгресу хліборобів.
З 1919 р. — на еміграції (Австрія, Німеччина, Франція, Австралія). Член Ради присяжних монархічного Українського Союзу Хліборобів-Державників, особистий секретар П. Скоропадського, провідна постать ге індіанського руху. Один з фундаторів «Союзу Українських організацій Австралії».
(обратно)126
Липинський В'ячеслав Казимирович (1892–1931) — історик, філософ політичний діяч. Освіту здобув у Краківському та Женевському університетах. Служив офіцером у драгунському полку. 1912 р. брав участь у створенні у Львові Українського інформаційного комітету. Був членом Української демократично-хліборобської партії та автором її програми.
У червні 1918 р. призначений послом Української Держави в Австро-Угорщині. З 1919р. — на еміграції в Німеччині. Один із засновників політичної організації «Український союз хліборобів-державників», був головою його Ради присяжних. 1926–1927 рр. очолював кафедру історії української державності в Українському науковому інституті в Берліні.
Основоположник державницького напрямку в українській історіографії і консервативного напрямку в українській політології. Керував виданням збірників «Хліборобська Україна», де вперше було надруковано частину спогадів П. Скоропадського. Автор багатьох історичних, соціологічних і політичних праць.
Наприкінці 20-х років перейшов у опозицію до т. зв. «реальної політики», яку проводив за кордоном П. Скоропадський, і створив «Братство класократів-монархістів».
(обратно)127
Донцов Дмитро Іванович (1883–1973) — публіцист і літературний критик.
У 1902–1907 рр. вчився у Петербурзькому університеті. Від 1909–1913 рр. студіював у Віденському, Львівському університетах, доктор права. З 1905 р. — член Української соціал-демократичної робітничої партії. Однії із засновників Союзу визволення України (1914 р.) і партії хліборобів-демократів (1918 р.).
З 24 травня 1918 р. — директор Бюро преси й Українського телеграфного агентства (УТЛ). Член політичної комісії на переговорах з РРФСР.
З 1919 р. — займався за дорученням українського уряду політично інформаційною діяльністю в Австрії, Пімсчцині, Швеції, Швейцарії, брав участь у Мировій конференції в Парижу. У 1922–1929 рр. — редактор «Літературно-наукового вісника», з 1932 — «Вісника» у Львові. Автор багатьох пращ, публіцистичного, історичного, літературознапчого характеру. В своїйl праці «Націоналізм» (1926) обгрунтував теорію інтегрального націоналізму.
З 1939 р. — на еміграції.
(обратно)128
Устимович (Сахно-Устимович) Микола Миколайович (1863–1918) — громадський діяч, за фахом — інженер-технолог. Діяльний член «Української народної громади». 29–30 квітня 1918 р. — отаман (голова) Ради міністрів Української Держави. Загинув під час антигетьманського повстання.
(обратно)129
Фон Гінденбург (von Hindcnburg) Пауль (1847–1934) — військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал німецької служби. Під час Першої світової війни з листопада 1914 р. командуючий військами Східного фронту, з серпня 1916 р. — начальник Генерального Штабу, фактичний головнокомандуючий.
Президент Веймарської республіки (1925–1934).
(обратно)130
Любинський Всеволод Юрійович (1840–1920) — лікар-фармаколог. Діяльний член «Української народної громади», яка організувала гетьманський переворот.
З травня 1918 р. до кінця гетьманського врядування міністр народного здоров'я й опіки Української Держави.
(обратно)131
Воронович Михайло Михайлович (? - 1918) — землевласник, державний діяч. За часів Російської імперії — губернатор Бесарабії. Діяльний член «Української народної громади». Головував на хліборобському конгресі, що обрав гетьмана. У кабінеті Ф. Л. Лизогуба — товариш міністра внутрішніх справ, у кабінеті С. П. Гербеля — міністр віровизнань. Розстріляний повстанцями Директорії під час виконання дипломатичного доручення.
(обратно)132
Мається на увазі Дусан Іван Вікторович, адвокат за фахом. Як член секретаріату конгресу хліборобів, 29 квітня 1918 р. виступив на ньому з привітанням від Союзу земельних власників і доповіддю «Українські Установчі Збори». Надалі був представником течії в «Союзі хліборобів-власників», яка розуміла самостійність України як тимчасову переходову форму до федерації з оновленою Росією, увійшов до складу особливої делегації представників великого землеволодіння до гетьмана з цього приводу.
(обратно)133
Йдеться про ухвалу ІІІ Універсалу Центральної Ради від 7(20) листопада 1917 p.: «Віднині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі й інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі — касується.
Признаючи, що землі ті є власність усього трудового народу й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає генеральному секретареві земельних справ негайно виробити закон про те, як порядкувати земельним комітетам, обраним народом, тими землями до Українських Установчих Зборів».
(обратно)134
«Українська народна громада» (1918) була, власне, не партією, а організацією, яка заради досягнення компромісу в соціальних питаннях, поміркованої демократизації державного ладу та поступової українізації розпочала підготовку до встановлення в Україні сильної особистої влади і, зрештою, конкретно до встановлення гетьманської влади П. Скоропадського. Серед її членів була значна кількість офіцерів І Українського корпусу, діячів Вільного козацтва.
(обратно)135
Мацько — член Центральної Ради, потім активний діяч «Української народної громади», член Союзу хліборобів.
(обратно)136
Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ) — назва, яку з 25 червня 1917 р. дістала утворена наприкінці 1905 р. внаслідок об'єднання Української демократичної партії та Української радикальної партії Українська радикально-демократична партія. Ставила завданням знищити експлуатацію, передати землю і засоби виробництва в загальнонародну власність, обстоювала автономію України. У 1907–1917 рр. вела в основному культурно-просвітницьку роботу, входила до міжнартійного Товариства українських поступовців. До Тимчасової партійної ради увійшли Д. Дорошенко, С. Єфремов, Л. Ніковський, О. Шульгін та ін. Політична стратегія партії полягала в гаслі «через федералізм до соціалізму». Після жовтневого перевороту в Петрограді партія виступила за створення незалежної української держави. УПСФ брала якнайактивнішу участь у створенні Центральної Ради; її представники входили до складу уряду УНР і Української Держави. У листопаді 1918 р. партія взяла участь у формуванні Директорії.
(обратно)137
Див. примітку 85:
Бутейко Борис Аполонович (? — 1926) — громадський і державний діяч. За фахом — інженер шляхів сполучення, працював керуючим справами Подільської залізниці. Належав до «Української народної громади».
Міжпартійна нарада соціал-демократів, соціалістів-революціонерів і самостійників уважала його кандидатуру небажаною в уряді як нібито настроєного вороже до української державності, але своєю діяльністю на посаді міністра шляхів (3 травня -14 листопада 1918 р.) він зкористувався репутації найпалкішого прихильника українізації (м.і., створив особливу комісію з вироблення української технічної термінології для залізниці) — Під його керівництвом до середини 1918 р. було відновлено нормальне функціонування шляхів сполучення а державі.
Помер на еміграції.
(обратно)138
Німецьке Верховне командування.
(обратно)139
Шульгін Василь Віталійович (1878–1976) — громадський і політичний діяч монархічного напряму, публіцист. Волинський поміщик, закінчив юридичний факультет Університету Св. Володимира в Києві.
Член II та IV Державних Дум від Волинської губернії. Провідний журналіст великоросійської орієнтації, з 1913–1918 і 1919 років — видавець і редактор газети «Киевлянин».
Під час Першої світової війни добровільно пішов на фронт, прапорщик інженерної служби російської армії. Після поранення — начальник передового перев'язочно-харчувального загону. Член т. зв. «Прогресивного блоку», разом з Гучковим прийняв зречення Миколи II.
1918 р. — член шовіністичної о «Київського Національного центру», ворожого до гетьмана і української самостійності взагалі. Створив розвідувальну мережу «Азбука», що діяла, зокрема, в Українській Державі на користь денікінців Один із засновників білої Добровольчої армії. У листопаді 1918 р. — видавець газети «Росія» монархічно-націоналістичіюго спрямування.
Його племінник, О. Я. Шульгин, професор Московського університету, член УПСФ, був міністром іноземних справ УНР і послом Української Держави в Болгарії. Старший з синів В. В. Шульгіна, студент, був у т. зв. «Орденській» дружині й загинув у боях за Київ 1 грудня 1918 р.
(обратно)140
Гренер (Сігоспег) Вільгельм (1867–1939) — військовий і державний діяч, генерал-лейтенант німецької служби. Під час Першої світової війни — начальник польового управління залізницями, керуючий військовою промисловістю, заступник військового міністра. З серпня 1917 р. — командирі дивізії, корпусу на Західному, потім Східному фронтах.
З березня 1918 р. — начальник штабу групи армій «Київ». У жовтні 1918 р. змінив Е. Людендорфа на посаді Першого генерал-квартирмейстера Штабу Верховного командування. Керував відступом німецької армії.
Після Версальського миру — у відставці. У 20-30-і роки — міністр шляхів сполучення, потім міністр рейхсверу (збройних сил) Німеччини. Був головою Ради Українського наукового інституту в Берліні.
(обратно)141
Добрий Л. Ю. - київский фінансист, директор Російського для зовнішньої торгівлі банку. Входив у фінансову комісію, що провадила переговори з Німеччиною і про торговельну угоду.
За розпорядженням міністра внутрішніх справ УНР М. Ткаченка і військового міністра О. Жуковського та з відома прем'єр-міністра В. Голубовича був таємно заарештований і вивезений до Харкова. Причиною арешту була пронімецька діяльність фінансиста. «Викрадення» Доброго стало приводом для німецьких військових властей запровадити в Україні німецькі польові суди з перебиранням ними судівництва щодо вчинків проти громадського порядку і карних злочинів проти німецьких та австро-угорських військ, брутально втрутиися в діяльність Центральної Ради і українського уряду. В. Голубович, М. Ткаченко та О. Жуковський були віддані під німецький військовий суд.
(обратно)142
Жуковський Олександр (1884–1925) — військовий і громадський діяч, підполковник російської служби. Член УПСР. 1917 р. — член Українського Генерального Військового комітету і Центральної Ради, представник УГВК при Генеральному штабі в Петрограді. З 8 листопада 1917 р. — міністр військових справ, міністр праці, з 14 березня до 1 квітня 1918 р. — міністр військових і морських справ УНР. Заарештований німцями у зв'язку із справою банкіра Доброго. 1919 р. — командувач Окремим корпусом кордонної охорони і начальник залоги в Кам'янці-Подільському. Увійшов у створений там «Комітет порятунку республіки», який робив ставку на порозуміння з радянською владою і узурпував владу у Кам'янецькій окрузі. Після невдачі заколоту емігрував.
(обратно)143
Ткаченко Михайло Степанович (1879–1920) — громадський і політичний діяч.
Член Української революційної партії, Української соціал-демократнчної робітничої партії.
1917 р. — член Центральної Ради, Малої Ради, Краевого комітету для охорони революції на Україні. Генеральний секретар судових справ, міністр судових справ, з лютого 1918 р — міністр внутрішніх справ УНР.
За часів Директорії входив у «ліву» опозицію стосовно С. Петлюри, шукав шляхи угоди з радянською владою.
(обратно)144
28 квітня 1918 р. до залу засідань Центральної Ради брутально вдерся німецький підрозділ і заарештував керуючого Міністерством закордонних справ Любинського та директора департаменту Міністерства внутрішніх справ Гаєвського. Членів Центральної Ради обшукали, намагаючись знайти зброю.
(обратно)145
Ідеться про Українську федеративно-демократичну партію (УФДП), створену в Києві 1918 р. Проіснувавши кілька місяців, вона не відіграла істотної політичної ролі. До оргкомітету входили В. П. Науменко, І. Лучицький, Г. Квітконський, Є. Кивлицький. Партія відстоювала перспективність федерації України з Росією, пріоритет загальнолюдських цінностей над національними тощо.
(обратно)146
Науменко Володимир Павлович (1852–1919) — філолог, історик літератури, педагог, журналіст, громадський діяч. У 1873–1903 рр. викладав російську мову і словесність у київських 2-й чоловічій та Міністерській і Фундуклсївській жіночих гімназіях. Колегії Павла Ґалаґана, Київському Володимирському Кадетському корпусі.
З 1905 до 1914 р. — директор приватних гімназій.
У 1890–1907 рр. — редактор «Киевской старіни». Член товариства «Стара громада». Під час Першої світової війни — голова Українського наукового товариства. Член Української федеративно-демократичної партії.
З березня 1917 р. — заступник голови Центральної Ради; помічник попечителя, попечитель Київського шкільного округу. Відстоюючи поступовість українізації навчання, конфліктував з Генеральним Секретаріатом і вийшов у відставку.
У 1918 р. — член ради Міністерства народної освіти, а з 15 листопада до 14 грудня — міністр народної освіти Української Держави.
Будучи науковим співробітником ВУАН, заарештований і страчений ВУЧК як «бувший міністр гетьманський».
(обратно)147
Дашкевич-Горбацький Волфислав — військовослужбовець, педагог. Генерального штабу генерал-майор російської служби. Викладав тактику в Пажеському корпусі. Під час Першої світової війни командував полком, потім 24-ю піхотною дивізією. Активний учасник гетьманського перевороту і його фактичний керівник. У квітні — липні 1918 р. — начальник особистого Штабу Гетьмана. В жовтні — голова надзвичайної місії Української Держави до Румунії.
(обратно)148
Палтов Олександр Олександрович — державний діяч. Камергер, директор канцелярії міністра шляхів сполучення, під час Першої світопоі війни — юрисконсульт управління Галицько-Буковинської залізниці.
Активний діяч «Української народної громади». Автор проекту «Грамоти до всього українського народу» і «Законів про тимчасовий державний устрій України».
Державний радник у гетьманському кабінеті, довірена особа гетьмана і керівник його канцелярії.
З 3 травня до початку листопада 1918 р. — товариш міністра закордонних справ Української Держави. Був відомий пронімецькою орієнтацією.
(обратно)149
Мається на увазі Значко-Боровський А.Л, — член узгоджувальної комісії ца хліборобському конгресі в квітні 1918 p., керуючий справами Союзу хліборобів. Евакуювався з білогвардійцями; помер від тифу.
(обратно)150
Вишневський Олександр Андрійович — поміщик з Київщини, діяч Київського губернського земства, голова Союзу земельних власників. У квітні 1918 р. — голова Спілки дрібних землевласників України. У кабінеті Ф. А. Лизогуба — товариш міністра внутрішніх справ.
(обратно)151
Тіло митрополита Київського Володимира було знайдене неподалік Києво-Печерської лаври після здобуття міста більшовицькими військами М. Муравйова 26 січня 1918 р. і страшної вакханалії самосудів, розв'язаної «завойовниками». Після цього Київською єпархією керував єпископ Чигиринський Никодим.
(обратно)152
Гетьман звернувся до учасників з'їзду з такою промовою: «Панове! Я дякую вам за те, що ви довірили мені власть, і задля власної користі беру на себе тягар тимчасової влади. Ви самі знаєте, що всюди шириться анархія і що тільки тверда влада може завести лад. На вас, хлібороби, і нестатечних кругах населення буду спиратися і молю Бога, щоб дав нам сили й твердості врятувати Україну» (Дорошенко Д.І. Історія України 1917–1923 pp. — Ужгород, 1930.-Т. 2-С. 37).
(обратно)153
Січові Стрільці дістали наказ командування набути бойової готовності і вступати в бій лише якщо їх атакують. Дві піших сотні і скорострільна сотня (12 кулеметів) були висунуті для оборони будинку Центральної Ради. Скорострільна сотня рухалася Софіївською площею саме під час молебня; її командир, сотник Ф. Черник вагався, чи не заарештувати гетьмана і його прибічників, але виконав попередній наказ.
(обратно)154
Двое (за іншими даними — трое) офіцерів-гетьманців загинули, обстрілявши скорострільну сотню Січових Стрільців на Бібіковському бульварі (убивши одного стрільця, кількох поранивши). Близько 40 гетьманців були заарештовані патрулями січовиків на вулицях, що прилягали до приміщення Ради. Наприкінці дня мала місце перестрілка захисників приміщення Ради з гетьманцями, які вели вогонь з навколишніх будинків. При цьому січовики обстріляли й німецький підрозділ на Фундуклеївській вулиці, австрійський автомобіль. Опівночі з 29 на 30 квітня на пропозицію німецького командування стрілецькі сотні (а разом з ними — Президент УНР М. С. Грушевський) відійшли з Центру міста в Луцькі казарми, після чого казарма Січових Стрільців на Терещенківській вулиці й будівля Ради були зайняті гетьманськими загонами.
(обратно)155
Засідання Центральної Ради 29 квітня було перерване звісткою про державний переворот. Члени Центральної Ради розійшлися. М. Грушевський перебував у казармах Січових Стрільців. Згодом були заарештовані О. Жуковський та П. Багацький.
(обратно)156
Правильно: Коновалець Євген (1891–1938) — військовий і політичний діяч.
Навчався у Львівському університеті, активно працював в «Академічній громаді», «Просвіті», Студентському союзі. Представляв студентську молодь в ЦК Української національно-демократичної партії. 1910 р. був під судом за участь у боротьбі за створення українського університету., Під час Першої світнної війни — лейтенант австро-угорської служби. Служив у 19-му полку ландверу, паприкінці квітня 1915 р. потрапив у російський полой.
1917 р. таємно прибув з Царицина до Києва. Співорганізатор Галицько-Буковинського куреня Січових Стрільців, з січня 1918 р. — беззмінний командир формації Січових Стрільців.
Під час антигетьманського повстання начальник Осадного корпусу, що боровся за Київ. В армії УНР — командир дивізії, корпусу, армійської групи; полковник армії УНР.
Після самороспуску Січових Стрільців 6 грудня 1919 р. перебував у польському таборі для інтернованих. В серпні 1920 р. створив у Празі Українську Військову Організацію…
Голова Проводу Українських Націоналістів, з 29 січня 1929 р. — вождь Організації Українських націоналістів.
Убитий агентом НКВС СРСР в Роттердамі.
(обратно)157
Як згадував пізніше сам Євген Коновалець,
«..коло 6 год. вечора (того ж самого історичного дня) заїхав перед нашу касарню один добродій… легітимуючись як делегат Скоропадського та питаючи про мене. Він заявив мені, що приходить просто від гетьмана й що гетьман, бажаючи порозумітись зі мною у різних справах, просить мене навідати його у його ставці, причому ручається за мою недоторканість. Стрілецька Рада вирішила, щоб я їхав; зі мною поїхав Андрій Мельник. Ставку гетьмана, що знаходилася у Липках, берегли німці. До Скоропадського провів мене (одного) полковник Зеленовський. Гетьман заявив мені, що багато, мовляв, доброго чув про січових стрільців, що вже давію хотів бачитися зі мною і т. д., і запропонував мені, щоб січові стрільці перейшли в його службу, причому наступного дня мали б урочисто продефілювати перед його палатою, що рівнятиметься офіціальному визнанню нової влади цілим стрілецтвом. На це я відповів, що стрілецтво є здисітиплінованим військом, яке зробить так, як йому скаже його командування; що січові стрільці не втручаються до політики і їхнім завданням є служити рідному краєві, підкоряючись його правовому урядові; що для січових стрільців тим правовим проводом України була досі Центральна Рада і що стрілецьке військо не може через ніч переходити з табору до табору лише тому, що хтось ставить нас перед доконаним силою фактом; крім того, стрілецтво є до краю схвильованим методом переведення перевороту й засобами, якими він, гетьман Скоропадський, скористався для перевороту; далі заявив я гетьманові, що сам я вважаю його виступ початком великих лих для України та що це є також погляд цілої стрілецької ради.
… Ми вирішили говорити радше безпосередньо з німцями. Німецьке командування визначило для переговорів полковника Генерального штабу Пзе. Він вислухав пильно всі наші уваги (це було ще того самого дня пізнім вечором) і заявив, що нічого вдіяти не можна, бо справа, є вже вирішена, та поставив нам ультиматум: або беззастережне визнання гетьмана Скоропадського з боку січових стрільців, або їхнє обеззброєння»
(Коновалець. Причинки до історії української реадлюції // Історія Січових стрільців. — К., 1992. — С. 291–292).
Після цих переговорів Січові Стрільці перейшли до Луцьких казарм, де 30 квітня були блоковані німецькими військами. Нарада стрілецьких старшин об 11 годині вирішила роззброїтися, однак на почесних умовах, зокрема, без присутності німецьких вояків. Це було здійснено між. 15-ю і16-ю годинами…
(обратно)158
Сливинський Олександр — військовий діяч, Генерального штабу підполковник російської служби. Наприкінці Першої світової війни обіймав посаду начальника штабу кавалерійського корпусу.
У червні 1917 р. на II Всеукраїнському Військовому з'їзді обраний членом Українського генерального військового комітету, 3 листопада 1917 полковник, заступник начальника Українського Генерального військового штабу., З січня, 1918 р. — начальник штабу Гайдамацького коша Слобідської України, з березня,1918 р. — начальник Українського Генерального військового штабу. Основний автор проекту розгортання української армії на базі залишених в українському реєстрі російських з'єднань і частин.
За гетьманату з червня 1918р. — начальник Генерального штабу. Був військовим експертом делегації Української Держави на переговорах з РРФСР..
Після повалення гетьманату — на еміграції в Німеччині й Каналі. «Що ж торкається полковника Сливінського, то він, як скомпрометваний активною участю у федеративнім акті гетьмана, ніякої участи у складі військ Директорії не брав»
(Історія українського війська. — 4-е вид. — і Львів, 1992; — С. 580–581).
(обратно)159
Аркас Микола Миколайович (1889–1939) — військовослужбовець… Син видатного українського історика, М. Аркаса. 1918 р. командував кінним відділом охорони Центральної Ради, потім Начальник конвою (особистої охорони) гетьмана,П. Скоропадського.
1919 р. — командир кінно-гонецького полку, 2-го кінного Переяславського полку армії УНР. У листопаді з полком приєднався до 2-го корпусу Української Галицької Армії, яка в цей час уклала союз із Добровольчою армією Денікіна; оголошений владою УНР поза законом.
Керував театром в Ужгороді.
(обратно)160
Протофіс — скорочена назва Всеукраїнської спілки представників промислу, торгу, фінансів, сільського господарства. 15–18 травня 1918 р. у Києві за участю представників уряду відбувся, з'їзд підприємців, комерсантів, фінансистів та землевласників. Він офіційно прийняв статут «Протофісу» і затвердив склад постійного представницького органу — Ради.
Організація прагнула закріпити приватну власність на землю, добитися державних кредитів для відновлення продуктивності поміщицьких маєтків, скасувати свободу страйків, запобігти можливості втручання робітників у функції адміністрації підприємств тощо. У подальшій діяльності Протофіс тяжів до відновлення федерації з Росією.
(обратно)161
Василенко Микола Прокопович (1866–1935) — науковець, громадський і політичний діяч. Закінчив філологічний факультет університету в Дерпті, історик права, публіцист. Співробітничав у часописі «Киевская старина». 1905 р. як редактор прогресивної українофільської газети «Киевские отклики» був засуджений до однорічного ув'язнення, після якого склав іспити за юридичний факультет Одеського університету.
Співробітник Українського наукового товариства в Києві і редактор його «Записок». З 1909 р. — приват-доцент Університету Св. Володимира в Києві, з 1911 р. — дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. — По Лютневій революції — попечитель Київського шкільного округу, з травня 1917 р. — товариш (заступник) міністра освіти Тимчасового уряду. Член Партії конституційних демократів.
З 2 травня 1918 р. — міністр народної освіти, з 3 до 20 травня — одночасно т. в. о. міністра закордонних справ і віровизнань, з 21 червня до жовтня 1918 р. — міністр народної освіт та мистецтва Української Держави. Президент Державного Сенату, За радянської влади — академік ВУАН і її другий президент (1921–1922). Переслідувався за свою колишню політичну діяльність.
(обратно)162
Шелухін Сергій (1864–1938) — громадський, політичний та державний діяч, правник, поет (псевдонім — С. Павленко). Закінчив Університет Св. Володимира в Києві, служив слідчим, прокурором, членом окружного суду.
1917 р. — голова ревкому в Одесі. Член ЦК Української партії соціалістів-федералістів, член Центральної Ради. З 15 січня 1918 р. — член Генерального Суду УНР. У лютому — квітні 1918 р. — міністр судових справ УНР (відкликаний з кабінету за партійною ухвалою).
Голова делегації Української Держави на переговорах з РРФСР.
З грудня 1918 р. — виконуючий обов'язки міністра судівництва УНР; член мирної делегації в Парижі. З 1921 р. — на еміграції. Професор права Українського університету у Відні, з 1922 р. — у Празі.
(обратно)163
Ніковський Андрій Васильович (1895–1942) — громадський і політичний діяч, вчений, літературний критик. Учасник нелегального видання «Боротьба», редактор газети «Рада» (1915). Працював у Комітеті Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст.
По Лютневій революції — секретар Київського виконавчого комітету, член Ради Товариства українських поступовців, заступник голови ради Союзу українських автономістів-федералістів. Член Центральної Ради, Малої Ради, «Крайового комітету для охорони революції на Україні». Редактор органу Української партії соціалістів-федералістів «Нова Рада» (1917–1919). У 1918 р. — перший голова, член президії Українського Національного Союзу.
Міністр закордонних справ уряду УНР На еміграції. Повернувся в Україну 1924 p., науковий співробітник ВУАН. У 1930 р. репресований ДПУ УСРР у сфабрикованій справі «Спілки визволення України».
(обратно)164
Кубинський Михайло Павлович — ординарний професор Харківського університету, сенатор по карному департаменту, автор праць в галузі криміналістики. Співробітничав з часописом «Украинская» жизнь», який 1912–1917 pp. редагував у Москві С.Петлюра.
З 3 травня 1918 р. — міністр судових справ Української Держави, з липня — сенатор, голова Карного Генерального Суду.
З 1919 р. — у таборі білих (оберпрокурор).
(обратно)165
Ватер Юлій Михайлович (1865 —?) — відомий вчений-біолог, державний діяч, працював професором Політехнічного інституту в Києві. У 1917 р. — голова секції праці в Київському військово-промисловому комітеті, член Київського виконавчого комітету. Належав до партії народних соціалістів. З 3 травня 1918 p. - міністр праці Української Держави. Намагався працювати в контакті з профспілками.
(обратно)166
Гутник Сергій Михайлович — голова Одеського біржового комітету, член партії конституційних демократів. З 3 травня до 18 жовтня 1918 р. — міністр торгівлі та промислу Української держави.
(обратно)167
Ржепецький Антон Карлович — громадський та державний діяч. Був головою Товариства взаємного кредиту, радником Київської міської думи, очолював виборчу комісію по виборах до Державної Думи. Під час Першої світової війни — голова «Тетянинського комітету», що опікувався біженцями. Член партії кадетів. З травня 1918 р. — беззмінний міністр фінансів Української Держави. Відзначився на цьому посту створенням стабільної української грошової системи з високим курсом національної валюти.
(обратно)168
Соколовський Юрій Юрійович (? - 1922) — державний діяч. До революції — завідувач агрономічним відділом Полтавського земства. Член партії кадетів. У травні-липні 1918 р. — міністр харчових справ і тимчасово виконуючий обов'язки міністра хліборобства Української Держави. Наприкінці 1918 р. виїхав з дипломатичною місією до Румунії.
(обратно)169
Максимів Микола Лаврентійович — військовослужбовець, капітан II рангу російської служби. З квітня 1918 р. — завідуючий оперативними справами при міністерстві, з 3 травня — виноуючий обов'язки морського міністра і начальник Головного морського штабу, з 13 травня — товариш військового міністра Української Держави і до 12 листопада 1918 р. — керуючий Міністерством морських справ. З 3 червня 1918 р. — капітан І рангу, з 20 жовтня 1918 р. — контр-адмірал Української Держави.
(обратно)170
Лизогуб Федір Андрійович (1862–1928) — громадський і державний діяч. Його батько, власник маєтку в Седнові поблизу Чернігова, приятелював з Т. Г. Шевченком.
У 1901–1905 pp. - голова Полтавської губернської земської управи, зарекомендував себе як покровитель розвитку української культури й мистецтва. З 1915 р. — член Ради для заведення земського самоврядування при наміснику Кавказа. У 1917 р. — завідувач відділом закордонних підданих Міністерства закордонних справ Росії.
З травня до 14 листопада 1918 р. — голова Ради Міністрів Української Держави і до липня водночас — міністр внутрішніх справ. Сенатор Загального Зібрання Державного Сенату.
Помер на еміграції у Белграді.
(обратно)171
Дорошенко Дмитро Іванович (1882–1951) — політичний та громадський діяч, історик, публіцист. Навчався у Варшавському, Петербурзькому та Київському університетах. Член Радикальної української партії, УСДРП, Товариства українських поступовців.
Під час Першої світової війни — уповноважений Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст. 1917 р. — член Київського виконавчого комітету, член Центральної Ради, помічник губернського комісара Київщини, губернський комісар Чернігівщини.
20 червня — 2 вересня 1918 р. — керуючий Міністерством закордонних справ, 2 вересня — 14 листопада 1918 р. — міністр закордонних справ Української Держави.
1919 р. — приват-доцент Кам'янець-Подільського університету. Па еміграції — професор Карлового університету і Українського Вільного університету (Прага), викладав у Віденському, Берлінському і Женевському університетах історію України. У 1945–1951 pp. - президент Української Академії мистецтва і наук у Мюнхені. Активно співробітничав з Союзом гетьманців-державників. Після Другої світової війні — професор Колегії Св. Андрія у Вінніпезі.
Автор змістовних спогадів («Мої спомини про давнє-минуле» за 1901–1914 pp. і «Мої спомини про давнє-минуле» за 1914–1920 pp.), цінного для вивчення доби української революції курсу «Історія України 1917–1923 pp.» (Ужгород,1932. — Т. 1; 1930. -Т. 2).
(обратно)172
Сам Д. І. Дорошенко згадував про ці обставини так: «Мушу зазначити, що моє призначення на посаду керуючого міністерством дуже стурбувало німців… Певна річ, що тут грала ролю пущена кимось чутка про моє ніби «австрофільство»: очевидно, моя діяльність в Галичині в певних колах оцінювалася як прояв «австрофільства», тоді як «Новое Время» пояснювало цю саму діяльність моїм начебто «германофільством». Це свідчить про те, як взагалі легко і без усякої підстави чіпляють людям етиксти різного «фільства» або «фобства». Але, що моя робота в Галичині розумілася самими австрійцями як результат моїх нібито'австрійських симпатій (!), я побачив, між іншим, з того, що на першій порі, ще в квітні, перед перепоротом, до мене заїхав перший з візитою військовий агент майор Флейшман, наговорив мені купу компліментів, і потім якийсь час австріяки робили мені дуже приємні міни, поки не побачили, що в своїх відносинах я керуюся зовсім не якимись симпатіями до них, але інтересами української справи, котрі аж ніяк не сходилися з австрійськими» (Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле [1914–1920]. 2-е вид. — Мюнхен, 1969. — С. 268–269).
(обратно)173
Зіньківський Василь Васильович (1881–1962) — учений-психолог, екстраординарний професор філософії Університету Св. Володимира в Києві, в. о. екстраординарного професора Українського народного (згодом — державного) університету. Українського педагогічного інституту.
Популярний церковно-громадський діяч, відомий обстоюванням оновлення церковного життя на засадах ідеального християнства, невтручання влади у справи церкви, автокефалії української церкви.
У травні — жовтні 1918 р. — міністр культів (сповідань) Української Держави. 1919 р. емігрував до Югославії.
(обратно)174
Лігнау Олександр Олександрович (1859–1923) — Генерального штабу генерал-майор російської служби. Походив з німецьких колоністів Херсонщини.
1917 р. — начальник штабу 7-го Сибірського корпусу. За Центральної Ради — отаман 11-ї пішої дивізії.
За гетьманату — з 15 травня 1918 p.- товариш військового міністра, з 27 жовтня 1918 р. — командуючий 7-м (Харківським) корпусом. Генеральний хорунжий армії Української Держави. Користувався повагою у війську за чесну працю для розбудови української держави й армії.
Після повалення гетьманату виїхав на Дон у Добровольчу армію. Помер на еміграції.
(обратно)175
Колокольцев Василь Васильович — землевласник Харківської губернії, вчений-агроном. Працював головою Вовчанського повітового земства, зарекомендував себе як популярний організатор земського господарства в галузях агрономії, медицини, шкільництва та ін. У травні — жовтні 1918 р. — міністр земельних справ Української Держави. Прихильник приватної власності на землю, що поряд із здійсненим ним скороченням штатів міністерства призвело до конфлікту із співробітниками і кількадеінного страйку апарату ряду міністерств наприкінці травня 1918 р.
(обратно)176
Земства — установи місцевого самоврядування в царській Росії, запроваджені реформою 1864 р. Земські установи складалися з повітових і губерніальних земських зборів та обраних ними виконавчих органів — управ. Гласних повітових земств окремо обирав кожен стан — дворяни, міщани й селяни. Гласних для губернських зборів обирали з-поміж себе члени повітових земських зборів.
Земства займалися місцевими справами — господарськими питаннями, народною освітою, охороною здоров'я, шляхами сполучення тощо. Догляд за земствами належав губернаторові, який міг скасовувати рішення земської управи. Кошти на свої потреби земства отримували з податків (т. зв. земельних) і підприємств. Перед Першою світовою війною земства Лівобережної України об'єдналися в окремий союз. На Правобережжі інститут земств було утворено лише 1911 р. За часів Центральної Ради земські установи були демократизовані і перетворилися на «народні».
Значна кількість громадських, політичних і державних діячів доби революції на Україні пройшли школу земської діяльності.
(обратно)177
Лизогуб Дмитро Андрійович був активним діячем організації «Народна воля». Входив в «Основний гурток» М. А. Натансона в Петербурзі, матеріально утримував гурток І. Ф. Фесенка в Києві. Коли члени гуртка С. Я. Віттенберга готували терористичний акт під час приїзду в Миколаїв у червні 1878 р. царя Олександра II, провокатор видав їх жандармам. За вироком військового суду 10 серпня 1879 р. Д. А. Лизогуб і двоє інших звинувачених були страчені в Одесі, ще двоє — у Миколаєві; решті двадцяти трьом страту замінили каторгою або висилкою у Східний Сибір.
(обратно)178
Заходам від 18 травня 1918 р. міську і повітову міліцію було передано під владу губерніальних і повітових старост та перейменовано на Державну Варту. Статут цієї служби як підставу для кардинальної реорганізації було затверджено 9 серпня.
Очолював Варту особливий Департамент, що складався із загального, карно-розвідчого та освідомлювального відділів. У губерніях місцеві відділи очолювали інспектори, у великих містах — отамани, в міських районах та повітах — начальники. У містах один вартовий мав припадати на 400 чол. населення (у Києві — 1933 вартових, 18 приказних).
У кожному повіті створювалася резервова сотня кінних вартових, а в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві — резервові дивізіони. Створювався також окремий корпус Залізничної Варти.
(обратно)179
Мається на увазі Лизогуб Яків (1675–1749), один з предків прем'єр-міністра Української Держави. 1662–1674 pp. обіймав посаду Канівського, згодом — Чернігівського полковника, а за гетьманування І. Мазепи був наказним гетьманом.
(обратно)180
Мумм (Mumm von Schwar/cnslcin) Альфонс, барон-міністр. Дипломат. Після повернення уряду Центральної Ради до Києва у березні 1918 р. був призначений послом в Україні, залишив цей пост після Листопадової революції 1918 р. в Німеччині.
(обратно)181
Форгач (Forgach vou Thymes und Gacz) Иоганн (Янош), граф — австро-угорський дипломат. До Першої світової війни — австро-угорський посланник у Белграді. Після повернення уряду Центральної Ради до Киева у березні 1918 р. був призначений послом в Україні, перебував на цій посаді до вересня.
(обратно)182
Осецький Олександр (1873–1936) — військовий діяч. Генерального штабу генерал-майор російської служби. За Центральної Ради — отаман Полтавського корпусу. За гетьманату — начальник Корпусу залізничної охорони. Діяльний учасник антигетьманського повстання. З 30 жовтня 1918р. — начальник оперативного штабу повстанців. За Директорії — командуючий Холмською армійською групою, Наказний отаман війська УНР, в. о. військового міністра. 1920 р. — голова військової місії в Белый, генерал-хорунжий армії УНР.
(обратно)183
Штейнгель Федір (Теодор) Рудольфович, барон (1870–1946) — громадський і державний діяч. Поміщик Рівненського повіту. У своєму, маєтку Городок заснував археологічно-етнографічний музей Волині. Скінчив природничий факультет Університету Св. Володимира в Києві. Член української парламентської фракції у І Державній Думі. Член Товариства українських поступовців і водночас кадетської партії, потім — Української партії соціалістів федералістів. 1915 р. — голова Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст. У 1917 р. — голова виконавчого комітету в Києві. У 1918 р. — посол Української Держави в Німеччині.
(обратно)184
Коли у жовтні 7 листопаді 1918 р. міністр, закордонних справ Української Держави Д. Дорошенко перебував у Німеччині з офіційним візитом, він та працівники україисьхого посольства Ф. Штейнгель, В. Козловський, В. Єрмолов були запрошені на приватний обід, який фактично був зустріччю з німецькими громадськими діячами та іноземними послами. Під час розмови один з німецьких діячів запитав думку Д. Дорошенка, стосовно перспектив самостійності і федерації для України та обставини україно-німецьких взаємин — попри домовленість, що ці питання порушуватися не будуть. Д. Дорошенко відповів, що «ідея федерації не чужа в українській історії, тільки спроби федерації досі не були для України щасливі… Тепер для нас питання про федерацію не є актуальним. А що буде далі — побачимо», У донесеннях до Києва, які складав проросійський апарат посольства, а далі у проросійських газетах «Киевская мысль» та «Голос Києва» висловлювання Д. Дорошенка були цілковито перекручені. Стверджувалося, що за Дорошенком, нібито, російський царизм, а згодом російський більшовизм створили вічну прірву між двома народами. Д. Дорошенко дізнався одночасно і про ці газетні матеріали, і про спою відставку.
(обратно)185
Чубинський Павло Платонович (1839–1884), юрист, вчений-етнограф — автор слів національного українського гімну «Ще не вмерла Україна».
(обратно)186
Питання, чому українські партії і діячі не взяли участь, у формуванні гетьманського уряду, має численну літературу. Див. спогади О.Саліковського в додатку даного видання.
(обратно)187
Текст грамоти «До всього українського народу» надрукований у кн.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр: — Ужгород, 1930. -Т. 2. — С. 49–50.
(обратно)188
Пуришкевич Володимир Митрофанович (1870–1920) — політичний діяч-монрахіст. Крупний бесарабський поміщик, до лютого 1907 р. — чиновник, дійсний статський радник. Один із засновників «Союзу російського народу», після розколу якого очолив «Союз Михаїла Архангела» (1908 p.). Лідер крайніх і правих у ІІ-IV Державній Думі. 1917 р. голова Тимчасового комітету Державної Думи. Створив кількв монархічних організацій, зокрема «Російську державну карту».
З 1919 р. перебував у зоні білої окупації, де вів монархічну агітацію проти А. І. Денікіна і лівого напрямку в «Уряді Півдня Росії» (Особливій нараді при Верховному керівникові Добрармії). Помер від тифу
(обратно)189
1 листопада 1918 р. в Києві відбувся Всеукраїнський з'їзд хліборобів. Усупереч запевненням ініціаторів скликання з'їзду гетьманській владі, В. Пуришкевич виголосив на ньому промову про «неподільність Росії».
(обратно)190
Кирей Василь Тадейович (1879–1942) — військовий діяч, генерал-майор російської служби. Під час Першої світової війни виявив себе як видатний артилерійський фахівець. Наприкінці війни командував 23-м армійським. корпусом.
1917 р, — член, Українського Генерального Військового, комітету, на початку 1918 р. — начальник щтабу оборони Києва, потім — в штабі Гайдамацького коша Слобідської України.
З 1919 р. — в Добровольчій армії, начальник артилерійського постачання. 1920 р. здійснював у штабі П. М. Врангеля зв'язок з керівниками повстанчих загонів на Україні, потім очолював Військово-технічне управління.
3 1924 р. т командир артилерійської бригади Чехо-Словацької армії.
(обратно)191
Генерал Кирей закінчив Михайлівську артилерійську академію і два класи Миколаївської військової академії, але не Належав до Корпусу офіцерів Генерального Штабу
(обратно)192
13–17 квітня 1917 р. отаманами створюваних, корпусів було призцачено генералів колишньої російської армії: Київського корпусу — І. Мартинюка, Волинського — генерал-майора Дядюшу, Одеського — Колоді, Чернігівського — Дорошкевича, Полтавського — генерал-майора О. Осецького, Харківського Генерал-лейтенанта Волкобоя, Катеринославського — генерал-майора Васильченка. Отаманом Подільського корпусу був призначений Климонсо, але всі обов'язки фактично безперервно, виконував генерал-майор П. Єрошевич.
Рогоза Олександр Федорович — військовий діяч. Походив із старовинного роду української шляхти. Генерального штабу генерал-лейтенант російської служби. Під час Першої світової війні командував 25-м армійським корпусом, 4-ою армією на Західному і Румунському фронтах.
(обратно)193
За гетьманату — генеральши бунчужний, Військовий міністр Української Держави. Убитий більшовиками 1919 р
(обратно)194
Правильна: Єрошевич Петро (1870 —?) — військовий діяч Генерального штабу, генерал-лейтенант російської служби, 1917 р. командував 12-ю піхотною дивізією, з вересня -11-м армійським корпусом на Південно-Західному фронті; За Центральної Ради в лютому 1918 р. призначений командиром З'єднаного, потім 2-го Подільського корпусу, зберіг цю посаду за Гетьманату.
При перших звістках про антигетьманське повстання 18 листопада 1918 р віддав корпусу наказ про перехід наг бік Директорії. Відрядив для боротьби за Київ 6 батальйонів з 16 гарматами.
За доби Директорії — командуючий 1-м Волинським корпусом, 1-ю Північною дивізією, Групою військ.
(обратно)195
Призови новобранців були призначені на 15 листоттада (потім перенесено на 1 грудня) 1918 р. і 1 березня 1919 р.
(обратно)196
Сердюцька дивізія почала формуватися в червні 1918 р. Вона мала піші полки, легкий гарматний полк, Сердюцький Лубенський кінний полк та інженерну сотню. Командир дивізії мав права командира корпусу.
14 серпня 1918 р. було затверджено «Статут про комплектування війська Сердюків Української Держави й відбування служби в ньому». Згідно з статутом, старшинами в дивізії могли служити лише особи з відповідною освітою, стажем бойової служби, «належні до української нації» або ж такі, що особливо відзначилися у попередній службі.
Призовниками дивізія комплектувалася на загальних підставах, але з особливою умовою: «козаки повинні бути набрані з селян-хліборобів, які мають велике земельне господарство, причім, діти хліборобів, які належать до призиву, обов'язково повинні відповідати умові безвідлучного життя біля своїх сімей і ні в якому разі не пробувати на цей час на заробітках в місті, чи містечках; всі вони повинні бути українцями, православними»
(обратно)197
Армія мирного часу мала нараховувати 175 генералів, 14930 старший, 2975 військових урядовців, 291221 підстаршин і козаків.
(обратно)198
15 липня 1918 р. з приводу переводу армії на склад мирного часу було здійснено звільнення всіх старшин, які попередньо не складали іспит в обсязі повного довоєнного курсу військових училищ. Цей захід на практиці позбавив армію значної кількості національно свідомих кадрів і викликав гостру критику гетьманського уряду.
Спроба вирішити проблему дозволом таким старшинам обіймати підстаршинскі посади, зберігаючи рангові відзнаки, не зняла напруження.
(обратно)199
За гетьманату створювалися дві Київські, Одеська і Чугуївська спільні юнацькі школи, Єлисаветградська кінна. Одеська гарматна та Київська інженерна юнацькі школи.
(обратно)200
Юнаків (Юнаков) Микола Леонтійович (1871–1931) — військовий діяч. Генерального штабу генерал-лейтенант російської служби. Професор, начальник кафедри імператорської Миколаївської військової академії, відомий воєнний історик і педагог.
Під час Першої світової війни — начальник штабу 4-ої армії, командуючий 8-ою армією Румунського фронту. З грудня 1917 р. — в армії УНР.
За гетьманату — начальник Головної шкільної управи Військового міністерства.
За Директорії з серпня 1919 р. — начальник Штабу Головного Отамана (об'єднаного штабу Дієвої Армії УНР та Галицької Армії). 1920 р. — голова Вищої Військової Ради УНР, Генерального штабу генерал-полковник Армії УНР.
З 1920 р. — на еміграції.
(обратно)201
Рошаль Семен Григорович (1896–1917) — більшовицький діяч, члеп РСДРП(б) з 1914 р. Учасник Жовтневого повсталая 1917 р. в Петрограді.
У листопаді 1917 р. призначений Радою народних комісарів комісаром Румунського фронту, став одним з організаторів і членом Військово-революційного комітету фронту. 8 груддя 1917 р. за звинуваченням у підготовці замаху на головнокомандуючого військами Румунського фронту генерала Д. Г. Щербачова члени ВРК фронту і виконавчого комітету VIII армії були заарештовані силами національного комісаріату на станції Соколи; 20 грудня було знайдено тіло С. Рошаля.
(обратно)202
Краснов Петро Миколайович (1869–1947) — військовий і політичний діяч, один з керівників козацького білого руху, генерал-лейтенант російської служби.
1917 р. брав активну участь у заходах генерала Л. Корнілова. Був призначений О. Ф. Корейським командувати військами, направленими з фронту на Петроград для спроби придушення жовтневого повстання; після цих подій втік на Дон, у травні 1918 р. обраний отаманом Донського козацтва. Створив козачу армію, яка ліквідувала на Дону радянську владу.
У другій половині 1918 — поч. 1919 р. вчинив кілька невдалих наступів проти червоних військ. У січні 1919 р. підпорядкувався А. Денікіну. З лютого 1919 р. — на еміграції.
Під час Другої світової війни співробітничав з гітлерівським режимом, створював козацькі формування у складі вермахту. Був захоплений радянськими військами і страчений.
(обратно)203
Колчак Олександр Васильович (1873–1920) — військовий і політичний діяч, один з головішх лідерів білого руху, адмірал російської служби.
Під час Першої світової війни з 1916 до липня 1917 р. командував Чорноморським флотом. Внаслідок відвертої контрреволюційної позиції на вимогу матроських мас був відкликаний в Петроград. Був відряджений до Великобританії та США.
У жовтні 1918 р. прибув в Омськ, в листопаді увійшов до складу Ділової Ради Міністрів Уфімської директорії (військовий і морський міністр). 18 листопада встановив у Сибіру, на Уралі та на Далекому Сході військову диктатуру, прийняв титул «Верховного правителя Російської держави» і посаду головнокомандуючого.
Схоплений у січні 1920 р. Іркутським ВРК і за постановою останнього страчений.
(обратно)204
Тут П. Скоропадський помиляється в оцінці ситуації. Загін Січових Стрільців (на 15 листопада 1918 р. — 46 старшин і 816 рядовиків і підстарший) став лише зав'язкою широкого збройного руху проти гетьманської влади. Після здобуття Січовими Стрільцями Фастова військо Директорії швидко поповнювалося селянами-добровольцями, що дало змогу створити Осадчий корпус.
(обратно)205
Восени 1918 р. спеціальна комісія при Міністерстві внутрішніх справ розробила правила виборів до Державного Сейму України, за якими держава поділялася на 251 округ. Але вибори не відбулися.
(обратно)206
Кістяківський Ігор Олександрович (І876-1957) — юрист, державний діяч. Син відомого українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяківського, племінник П. П. Чубинського. Вивчав юриспруденцію в Києві та Німеччині, був доцентом Університету Св. Володимира в Києві.
З 1903 р. — адвокат і приват-доцент у Московському університеті, лектор Московського комерційного інституту. Живучи в Москві, матеріально підтримував видання часопису «Украінская жизнь».
З травня 1918 р. — державний секретар в уряді Ф. А. Лизогуба. З липня — міністр внутрішніх справ у кабінетах Ф. А. Лизогуба і С. П. Гербеля. У травні-серпні — заступник голови української делегації на переговорах з РРФСР. Сенатор Загального зібрання Державного Сенату. Емігрував.
(обратно)207
Після відступу з Києва в січні 1918 р. українські частини були реорганізовані і зведені 9 лютого в Окремий Запорізький Загін. Навесні 1918 р. його переформовано в Запорізьку дивізію, командування якою 3 березня було доручене О.Нагієву (генерал-майор російської служби, осетин за національністю. У серпні 1918 р. відбув у Грузію, де створював добровольчі формування.1919 р. захоплений червоними в Батумі і страчений).
8 квітня 1918 р. дивізію було згорнуто в бригаду, за Гетьманату в серпні — знову поширено в дивізію, командування якою обійняв непопулярний серед козаків генеральний хорунжий Бочковський.
Після антигетьманського повстання з'єднання увійшло в Резервну групу Наказного Отамана, якій 27 травня 1919 р. присвоєна назва Запорізької групи. Як 1-а Запорізька стрілецька дивізія, формація існувала до кінця Визвольних Змагань, була поряд із Січовими Стрільцями найбоєздатнішим з'єднанням української армії.
(обратно)208
За угодою між урядами УНР і Німеччини на початку березня 1918 р. в таборах військовополонених Раштат, Вецляр і Зальцведсль було сформовано 1-у Українську дивізію чотириполкового складу, яка згодом за свою оригінальну уніформу дістала популярну назву «Синьожупанішків». Дивізія прибула до Києва, але напередодні гетьманського перевороту була роззброєна німецьким командуванням за погодженням з військовим міністром УНР О. Жуковським.
Справа полягала не а «непридатності» з'єднання (тут автор спогадів виявляє явіну упередженість). Німецьке сторона усувала таким чином можливу протидію гетьманському перевороту, а уряд УНР побоювався, що дивізія може бути використана для перевороту на користь її командира П. Золінського.
(обратно)209
За угодою між урядами УНР і Австро-Угорщини в таборі військовополонених Фрайштадт було сформовано полк, який у травні 1918 р. розгорнувся у 1-у Козацько-стрілецьку дивізію. З'єднання прибуло в Україну 27 серпня 1918 р., за свою специфічну уніформу дістало популярні назви «Сірих» або «Сірожупанників». Не довіряючи формації, уряд гетьмана вживат заходів до її скорочення. В листопаді дивізія у Складі кадрів чотирьох піших і гарматного полку приєдналася до антигетьманського повстання, у січні-квітні 1919 р. брала активну участь у бойових діях. З липня 1919 р. назва «Сірожупанноі» була присвоєна 4-й Холмській дивізії Дієвої Армії УНР
(обратно)210
Директорія — особливий орган протигетьмансьокго повстання, а надалі — влади в УНР. Була утворена 13 листопада 1918 р. на таємному засіданні представників українських політичних партій у приміщенні Міністерства шляхів. Головою Директорії було обрано В. Винниченка, членами — С. Петлюру, Ф. ІЦвсіиі, А. Макарсіпса й П. Андрієвського (двох. останніх тимчасово, але їхнє членство в Директорії не припинялося), які представляли партії УСДРП, УПСР, УПСС.
(обратно)211
6 грудня 1917 р. Організаційний комітет по скликанню Всеукраїнського церковного собору перейменував себе на Тимчасову Всеукраїнську Православну Церковну раду. До її складу ввійшли як священики, так і миряни. Почесним головою Ради був обраний архієпископ Олексій, голового — священик Маричів. Рада стала своєрідним «тимчасовим урядом» української православної церкви до Собору. Собор був скликаний 7 січня 1918 p.,-відбув 9 пленарних засідань, але 19 січня перервав роботу внаслідок наближення воєнних дій. Відновив свою діяльність вже за гетьманату.
(обратно)212
Після більшовицького перевороту в Росії Всеросійський церковний собор відновив, скасоване за Петра патріаршество; патріархом було обрано архієпископа Тихона
(обратно)213
Вибори київського митрополита були здійснені до собору. Уряд вживав заходів до відкладення виборів, оскільки з його точки зору йшлося не про заміщення звичайного митрополита, а голови Української церкви. За наполяганням Московської патріархії вибори відбулися 19 травня 1918 р. на Київському єпархіальному з'їзді. Креатура патріархії та проросійськи настроєних священників — митроіполит Харківський Антоній (Храповицький) — не набрав належних 2/3 голосів, але, не зважаючи на протести українського уряду, патріарх затвердив вибори Антонія.
(обратно)214
Навесні 29.18 р. в Україні створилася загроза зриву посівної кампанії. У зв'язку з цим командуючий німецькою групою армій «Київ» генерал-фельдмаршал Герман фоп Эйхгорн видав опублікований 6 квітня наказ, який під загрозою «заслуженої кари» забороняв селянам перешкоджати поміщикам здійснювати польові роботи. Наказ був виданий без узгодження з українським урядом і призвів до ускладнень у стосунках Центральної Ради і командування окупаційних військ.
(обратно)215
Відомство уділів до Лютневої революції в Росії опікувалося маєтками династії.
(обратно)216
Державна Дума — обмежений у законодавчих правах парламент Росії 1906–1917 р. Мала чотири скликання, У складі І та II Дум були численні українські репрезентації (Громади). Остання, IV Дума обрала у лютому 1917 р. «Тимчасовий комітет Державної Думи», який приєднався до організаторів перевороту у Петербурзі і призначив Тимчасовий уряд.
(обратно)217
Голіцин Олександр Дмитрович, князь — землевласник на Харківщині, відомий земський діяч, депутат Державної Думи. Уновноважений (делегат) і Член президії на хліборобському конгресі 29 квітня 1918 p., голова Спілки промисловості, торгівлі й фінансів (Прогофісу).
Наприкінці травня 1918 p. призначений головою комісії для перегляду закону про організацію земського самоврядування при Міністерстві внутрішніх справ. Комісія виробила новий закон про вибори до земства, прийнятий Радою міністрів і затверджений гетьманом 5 вересня 1918 р.
Брат остаїшього голови Ради міністрів царської Pocіi М. Д. Голіцина.
(обратно)218
Дяков Іполіт Миколайович — тривалий час обіймав посаду голови київської міської думи. У середині травня 1918 р. очолив комісію діячів міського самоврядування, яка виробила «Тимчасові правила про вибори в міські думи'', затверджені Радою міністрів в серпні, гетьманом у вересні 1918 р.
(обратно)219
Раковський Християн Георгійович (1883–1941) — активний участие болгарського, румунського і російського революційного руху. За освітою медик.
Звільнений з румунського ув'язнення російським гарнізоном у Яссах 1 травня 1917 p., перебрався до Петрограду і вступив до РКП(б). У 1918 р. — голова «Верховної автономної колегії по боротьбі з контрреволюцією в Румунії та на Україні», член Румчероду (Виконкому Румунського фронту і Чорноморського флоту), керівник делегації РРФСР на переговорах з Українською Державою.
З січня 1919 р. — голова Тимчасового робітничо-селянського Уряду України (з 29 січня 1919 р. — Раднаркому УСРР) і Надзвичайної комісії по боротьбі з «бандитизмом». У 1920 р. — член Реввійськради Південно-Західного фронту Червоної Армії, голова Економічної Ради України. У 1926–1937 pp. - активний діяч тзв. ''троцькістсько-зинов'євського блоку». Репресований 1938р., розстріляний 1941 р.
(обратно)220
Влітку 1918 р. в Україні нараховувалося менш ніж 14,5 тис. більшовиків, але за умов зростаючого незадоволення населення окупаційним режимом чисельність і активність осередків зростала. Більшовики в Україні діяли до літа 1918 р. як члени місцевих організацій Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків).
Лише в липні 1918 р. в Москві відбувся І з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України, який оформив її створення, але «партія» була Складовою частиною РКП(б) і мала права звичайної обласної організації Росії, її «незалежність» декларувалася лише з тактичних міркувань; правляча партія РРФСР несла відповідальність за дотримання Брестського миру, а українські більшовики, ніби-то вели боротьбу проти гетьманату від власного імені.
(обратно)221
Фон Габсбург-Лотрінген Вільгельм (Василь Вишиваний) (1896–1948). — Військовий діяч, полковник австро-угорської служби. Син ерцгерцога Карла Стефана Габсбурга — адмірала австро-угорського флоту. З 12-річного віку проживав з батьками в маєтку у м. Живець на Західній Галичині, де пройнявся українофільскими настроями.
У лютому 1915 р. скінчив військову академію. Командував ротою 13-го полку уланів Золочівського формування, з 1 квітня 1918 р. — командир групи, в яку входили Легіон Українських Січових Стрільців, 3-й батальйон 5-го полку, 2 роти 203-го полку, рота угорських стрільців і саперна рота. 6 жовтня 1918 р. Легіон УСС під командуванням В.Габсбурга був виведений на Буковину.
З жовтня 1919 р. — полковник Української Галицької Армії, співробітник Військового міністерства. Автор збірки поезій українською мовою. 1948 р. заарештований у Відні радянськими органами, помер у Київській тюрмі.
(обратно)222
За умовами Брестського договору радянська Росія мусила укласти мир з УНР. 30 березня 1918 р. Рада Народних Міністрів УНР звернулася до РНК РРФСР з пропозицією скликати мирну конференцію. 3 квітня 1918 р. Москва відповіла згодою, проте до самих переговорів справа не дійшла.
(обратно)223
Радянська делегація в Києві навмисно затягувала переговори, відверто проводила комуністичну агітацію. У Києві московські дипломати не пропускали нагоди зав'язати контакти з політичними силами, опозиційними до гетьманського уряду. Вони встановили зв'язок з представниками Українського Національного Союзу, з якими погодився співпрацювати В.Винниченко, який мав особисті зустрічі з Д.Мануїльським. За цих умов не могло йтися про справжнє укладення мирного договору.
(обратно)224
Правильно: Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна (1868–1941) — українська письменниця, громадська діячка. Дочка М. П. Старицького. Очолювала літературно-мистецький клуб «Родина», була членом Товариства українських поступопців. Української партії націоналістів-федералістів.
1917 р. — член Центральної Ради, фундаторка Спілки українок, Працювала у ВУАП., 1930 р. звинувачувалася в належності до так званої «Спілки визволення України» на сфабрикованому ДПУ УСРР процесі. Вдруге репресована 1941 р.
Під час описуваної в спогадах П. Скоропадського події Людмила Михайлівна як голова клубу «Родина» вітала гетьмана 19 травня 1918 р. в приміщенні клубу, висловила надію, що він «укріпить, самостійність України, спираючись на українських патріотів» (Полонська-Василенко II. Людмила М. Старицька-Черняхівська // Спілка Визволення України й Спілка Української Молоді: Спогади, документи, й матеріяли. про діяльність. — Нью-Йорк; Мюнхен, 1964. — Ч. 2. — С- 104).
(обратно)225
Прісовський Костянтин Адамович — військовий діяч. 1917 р. — полковник, командир 278-го піхотного Кримського полку… У січні-лютому 1918 р. — отаман Окремого Запорізького загону, після повернення Центральної Ради до Києва — губерніяльний комендант Київщини. За доби Української Держави — генеральний хорунжий, комендант Гетьманського Буднику. Після повалення гетьманату перейшов до білої армії і перевів до Криму з Києва Костянтинівське військове училище.
(обратно)226
Ханенко Михайло Михайлович — крупний землевласник. Був делегатом хліборобського конгресу. З 29 квітня до листопада 1919 р. — господар Гетьманського Будинку; ця посада за статусом була близькою до царського гофмаршала.
(обратно)227
Вибух військових складів у Києві стався 6 червня 1918 р. після 10-ої години ранку.
(обратно)228
Вибухи на патронному складі на Дальницькій вулиці в Одесі почалися 31 липня і тривали три дні.
(обратно)229
Гербель Сергій Миколайович — державний діяч. Гофмейстер, херсонський землевласник. У 1903–1904 pp. — Харківський губернатор, у 1904–1912 pp. - начальник Головного управління у справах місцевого господарства Міністерства внутрішніх справ Росії; член Державної Ради.
Під час Першої світової війні — головноуповноважений з постачання продовольством діючої армії, здобув репутацію визначного організатора продовольчої справи. З 29 травня 1918 р. був представником Голови Ради міністрів при Головній квартирі командування австро-угорських військ В Одесі.
В липні 1918 р. призначений міністром, продовольчих справ після відставки Ю. Ю. Соколовського. 14 листопада дістав доручення сформувати новий кабінет, де обіймав посади прем'єра і міністра земельних справ.
(обратно)230
«Викжель» — скорочена назва Всеросійського виконавчого комітету спілки залізничників, утвореного влітку 1917 р. у Москві. Він не підтримав більшовицький переворот. П. Скоропадський тут має на увазі утворення в управлінні українських залізниць угруповання, опозиційного до уряду.
(обратно)231
Загальний страйк залізничників України тривав з середини липня до кінця серпня 1918 р. Роботу припинили близько 200 тис. працівників залізниць. Причинами стали несплата заробітної плати, зниження посадових окладів тощо. Згодом були висунуті й політичні вимоги. Керувало страйком Тимчасове організаційне, залізничне бюро ЦК КП(б)У. Страйк істотно перешкодив вивезенню з України продовольства і промислової сировини до Німеччини та Австро-Угорщини.
(обратно)232
Садовський (Тобілевич) Микола Карпович (1856–1933) — український актор, режисер. 1906 р. заснував Театр М.Садовського, 1921–1923 pp. очолював Руський театр товариства «Просвіта» в Ужгороді. Зробив визначний внесок у розвиток українського оперного театру.
(обратно)233
Саксаганський (Тобілевич) Панас, Карпович — український актор і режисер. 1918 р. заснував Народний театр у Києві. Утвердив на українській сцені соціально-психологічну драму.
(обратно)234
Українська Академія мистецтв відкрилася в Києві 22 листопада 1917 р. Президентом Академії став Ф. Кричевський, професорами — М. Бойчук, Ф. Бурачок, М. Жук, В. Кричевський, Л. Манович, О. Мурашки, Ю. Нарбут.
(обратно)235
1915 р. в Києві налічувалося 8 державішх чоловічих гімназій, 2 державні жіночі гімназії, 2 громадські (чоловіча і жіноча) гімназії. Крім того, працювали ще 4 приватні чоловічі, понад 20 приватних жіночих гімназій.
(обратно)236
Влітку 1918 р. було відкрито 54 українські гімназії, на початку 1918–1919 навчального р. — 40 гімназій і 10 реальних шкіл. Усього за період гетьманату відкрито близько 150 українських гімназій.
(обратно)237
Закон про перетворення Українського народного університету в Києві на Державний український університет було ухвалено Радою міністрів 17 вересня 1918 p. реорганізація проводилася з 1 липня. До попереднно існуючих факультетів було додано медичний.
Закон про заснування Кам'янець-Подільського Державного українського університету затверджений 17 серпня 1918 р, датою заснування оголошувалося 1 липня. Відкрився університет 6 жовтня 1918 р.
(обратно)238
Ректором університету був обраний профссор Ф. Сушицький, проректором — Ф. Швець. Професорами (ординарними, екстраординарними, в.о. тих та інших) були затверджені: по історико-філологічному факультету — архієпископ Олексій, Г. Павлуцький, Л. Лобода, М. Грунський, О. Лук'яненко, І. Огієнко, В. Зіньківський, Ф. Сушицький, О. Грушевський, М. Пахаревський; по правничому факультету — М. Тугай-Барановський, Б. Кістяківський, Ф. Міценко, С. Веселовський; по фізико-математичному факультету — Д. Граве, І. Ганіцький, В. Лучицький, С. Кушакевич, Й. Косоногов, В. Плотников, В. Дубянський, Ф. Швець, М. Кравчук. Багато з них суміщували викладання в обох київських університетах.
(обратно)239
Мається на увазі комплекс будівель сучасної Академії Збройних Сил України (Солом'янська площа).
(обратно)240
Вернадський Володимир Іванович (1863–1945). - видатний учений-природознавець, доктор геології, академік. Був професором Московського університету, директором Геологічного та мінералогічного музею Петербурзької Академії Наук; член Чехо-Словацької, Паризької Академій наук, багатьох інших наукових товариств. Уславився як основоположник геохімії, біогеології та радіогеології. З червня 1917 р. жив в Україні. Очолив комісію по створению Української Академії Наук і став її першим президентом (1918–1921).
(обратно)241
Опрацьований спеціальною комісією законопроект про утворення Академії наук був прийнятий Радою Міністрів, затверджений гетьманом 14 листопада 1918 р. і опублікований у «Державному віснику» № 73,22 листопада. 26 листопада («Державний вісник» № 75) був оголошений Статут Української Академії Наук. Па своє утримання Академія діставала крім забезпечення посадових окладів 1,5 млн. крб. щорічно на «експедиції, спеціальні досліди, витворення приборів, належне поставлення дослідів та спостережень, підготовку наукових видань і т.ін.»
(обратно)242
Ст. 2 Брестського договору визначала кордони України«…які існували між Австро-Угорською монархією і Росією перед вибухом війни», а далі на північ «від Тарнограду загально по лінії Білгорай — Щебрешин — Красностав — Пугачів — Радин — Межирічче — Сарнаки — Мельник — Високо-Литовськ — Камянець-Литовськ — Пружани — Вигоповське Озеро. Подрібно установлюватиме гряницю мішана комісія після (згідно. — Авт.) етнографічних відносин із углядуванням і бажанням населення» (Дорошенко Д. І. Історія України 1917–1923 рр. — Ужгород, 1932. — Т. 1 — С. 424).
(обратно)243
11 травня 1918р. до Києва прибули передставники донського отамана П. Краснова генерал А. Черячукін, який виконував обов'язки посла Всевеликого Війська Донського в Українській Державі. Дон дійсно був зацікавлений у тісних політичних та економічних зв'язках з Україною.
(обратно)244
Наприкінці квітня 1918 р. більшовиків було вибито з Донської області. З травня П. Краснов, виступаючи від імені «Кругу порятунку Дону», проголосив державну самостійність Донської області, її незалежність від більшовицької Росії. Донське керівництво розглядало цю самостійність як тимчасовий політичний крок: після падіння більшовицького режиму Дон мав одразу вступити до складу «оновленої Росії». Під час збройної боротьби з більшовиками донське керівництво розглядало можливість тимчасової федерації з Українською Державою на основі широкої автономії, але далі розмов справа не пішла. Як самостійне державне утворення Дон проіснував до кінця 1918 р. Після відступу австро-німецьких військ з України Дон перейшов під владу генерала А.Денікіна і перетворився на одну з головних баз антибільшовицьких сил Півдня Росії.
(обратно)245
8 серпня 1918 р. Українська Держава і Всевелико Військо Донське уклали договір, який містив взаємне визнання суверенітету і незалежності, визначав спільні кордони (попередні межі Катеринославської, Харківської й Воронезької губерній з відступом від них на користь України в районі Маріуполя) і право влаштування на них митниць і взаємопостачання (з України — ліс і металовироби, з Дону — продовольство і мастильні речовини).
До остаточного забезпечення цілісності території України і Дону від північної загрози визначалася тимчасовість перебування донських військових формувань по залізничних лініях Чортково — Ліски — Поварило.
Українське населення на території Дону і особи, що народилися в області Дона, на території України діставали гарантію прав своєї мови, національної школи і культури нарівні з іншими громадянами.
Обидві сторони зобов'язалися не укладати падалі шкідливих для інтересів одна одної угод з іншими державами та «узброєними організаціями».
Щодо вільного транзиту, товарообміну, митних і фінансових відносин, створення комісій з урегулювання питань Донецького басейну з метою збереження його господарської єдності передбачалося укласти окремі угоди.
(обратно)246
28 травня 1918 р. для проведення переговорів до Києва прибула кубанська делегація, яку очолював Голова Кубанської Законодавчої Ради М. Рябовол (у П. Скоропадського — Рябов). Делегація мала на меті заручитися політичною та військовою підтримкою Кубані Українською Державою в боротьбі з більшовиками. З червня 1918 р. Україна щомісяця надсилала на Кубань озброєння та інші військові матеріали. Не менш важливою для Кубанської делегації було питання про приєднання Кубані до України. Проте, враховуючи негативне ставлення до цього керівництва Дону і Добровольчої армії, з місця ця справа не зрушила.
(обратно)247
16 листопада 1918 р. між Кубанським Краєвим Урядом та Українською Державою була укладена угода про торговельні та консульські відносини.
(обратно)248
На клопотання Українського Національного Союзу гетьман у серпні 1918 р. дав дозвіл на формування з добровольців кадрів старшин і підстаршин Окремого Чорноморського коша. Осередок коша спочатку знаходився в Києві, з жовтня — у Бердичеві. На час антигетьманського повстання кіш нараховував 85 старшин, 137 підстаршин, 1380 козаків, мав 4 гармати.
(обратно)249
Алексєєв Михайло Васильович (1857–1918) — військовий і політичний діяч, генерал від інфантерії російської служби.
Під час Першої світової війни — начальник штабу Південно-Західного фронту, головнокомандуючий військами Північно-Західного фронту, з серпня 1915 р. До лютого 1917 p.- начальник Штабу Верховного Головнокомандуючого, потім — військовий радник Тимчасового уряду.
Після жовтневого перевороту в Петрограді створив у Новочеркаську «Алєксєєвську організацію», яка стала ядром Добровольчої армії. З 31 серпня 1918 р. — верховний керівник Добровольчої армії і голова «Особливої нарада». Помер 8 жовтня 1918 р. у Катеринодарі.
(обратно)250
Легіон Українських Січових Стрільців був сформований в серпні 1914 р. для боротьби за українські національні інтереси і як зав'язок майбутнього сучасного українського війська, за ініціативою Головної Української Ради. Для керівництва легіоном було утворено Українську Бойову Управу.
Легіон формувався і поповнювався виключно з добровольців, які не піддягали призову до австро-угорської армії. Командування обмежило його чисельність 2,5 тисячами стрільців.
Протягом Першої світової війні Легіон УСС діяв у складі 55-ї австро-угорської дивізії. Увійшов на територію України разом з австро-німецькими військами після укладення Брестського миру, брав участь у боях з червоними загонами на півдні України.
Восени 1918 р. передислокований на Буковину. Після проголошення 1 листопада 1918 р. створення Захїдно-Української Народної Республіки став організаційним ядром її збройних сил — Галицької Армії і увійшов до остатньої як 1-а бригада УСС. Існував до травня 1920 р.
(обратно)251
Головнокомандуючим австро-угорськими військами на території України був генерал-фельдмаршал фон Краус; його ставка містилася в Одесі.
(обратно)252
За Центральної Ради призначалися на місця не генерал-губернатори, а генеральні комісари. Таким генеральним комісаром до Одеси (яка з округою за новим адміністративно-територіальним поділом становила окрему «землю») був призначений С. Коморний, колишній повітовий начальник в Галичині. Зіткнувшись з сильним опором політиці Центральної Ради, С. Коморний 26 березня 1918 р. виїхав до Києва і подав у відставку. За гетьманату він був призначений повітовим старостою Річицького повіту на Поліссі.
(обратно)253
За часів гетьманату Українська Держава мала в РРФСР два генеральні консульства (у Москві та Петрограді, генеральні консули О. Кривцов та С. Веселовський) і чотири консульства (у Самарі, Саратові, Казані та Омську, консули О. Багрій, І. Яковлів, П. Бачило і Адамович).
(обратно)254
фон Мірбах Вільгельм, граф (1871–1918) — німецький дипломат. Після укладення Брестського миру — посол Німеччини в РРФСР. Трагічно загинув внаслідок терористичного замаху лівих есерів у Москві 6 липня 1918 р.
(обратно)255
Йдеться про Царський (Марийський) палац. Перепоною до негайного розміщення там резиденції на початку гетьманату було, зокрема, використання приміщення палацу більшовиками під час їхнього панування в Києві для розміщення свого штабу та здійснення екзекуцій.
(обратно)256
За свідченнями учасниці підготовки замаху І. Каховської, генерал-фельдмаршал Г. фон Айхгорн був убитий «Бойовою організацією» лівих есерів за погодженням між Російським та Українським Центральними комітетами цієї партії.
30 липня 1918 р. член «Бойової організації» Борис Донський (з селян Рязанської губернії, матрос Балтійського флоту) кинув бомбу, яка смертельно поранила фельдмаршала і його ад'ютанта фон Дреслера. Убивцю було схоплено й повішено на Лук'янівській площі Києва 10 серпня 1918 р.
(обратно)257
Лівобережні повстання влітку 1918 р. проти австро-німецьких окупантів і гетьманату у переважній більшості були стихійними. Частина ж їх проходила під керівництвом українських лівих есерів та більшовиків.
(обратно)258
Повстання почалося 3 червня 1918 р. з відсічі селян села Лисянка Звенигородського повіту каральному загонові і охопило Звенигородщину, Київський, Таращанський, Сквирський, Васильківський, Бердичівський, частково Уманський повіти. Очолював повстання Революційний штаб з колишніх фронтовиків, координацію дій повстанських загонів здійснював М. Шинкар. Селяни відновлювали земські комітети, створювали «охоронні сотні». 9 червня від німецького гарнізону була визволена Звенігородка, 12 червня — м. Тараща. Загальна чисельність повстанців досягла 40 тис. чол. при 12 гарматах, 200 кулеметах.
(обратно)259
На початку серпня 1918 р. у Чернігівській губернії, особливо в Ніжинському повіті, відбувався збройний виступ партизансько-повстанських загонів. Німецькі війська придушили повстання. Виступи були й у північних повітах Полтавщини.
(обратно)260
На придушення повстання було кинуто два німецькі піхотні полки і кавалерійську бригаду. Наприкінці червня повстанці прорвали оточення і через Полтавщину, Харківщину, Чернігівщину пробилися на початку серпня до нейтральної зони між РРФСР та Українською Державою.
(обратно)261
Мається на увазі Муромцев Сергій Андрійович (1850–1910) — один із засновників і лідерів кадетської партії, юрист і публіцист. Професор Московського університету, де працював також І. Кістяківський, і фахівець в галузі римського права, яким займався також і останній.
(обратно)262
Рейнбот Віктор — правник, державний діяч. До 1917 р. служив у Міністерстві юстиції, в Петербурзькому окружному суді.
1918 р. — товариш міністра внутрішніх справ Української Держави; з 24 жовтня — тимчасово керуючий Міністерством внутрішніх справ, з 14 листопада до 14 грудня — Міністр юстиції Української Держави.
(обратно)263
Варун-Секрет Сергій Тимофійович — державний діяч, поміщик. Був головою Херсонської губернської земської управи, членом Державної Думи. За Гетьманату — товариш (заступник) міністра внутрішніх справ.
(обратно)264
Влітку 1918 р. арештам, зокрема, були піддані В. Винниченко (28 червня), М. Порш (27 червня) та інші провідні діячі українських політичних партій.
(обратно)265
С. Петлюру за підозрою в участі у змові проти гетьманського уряду було заарештовано 27 липня 1918 р.
(обратно)266
Закон про утворення Державного Сенату ухвалено Радою Міністрів і затверджено гетьманом 8 липня 1918 р. Сенат поділявся на Генеральні суди. Президентом Державного Сенату став міністр освіти М. Василенко, головою Карного Генерального сулу — М. Чубииський, Цивільного Генерального суду — Гусаківський, Адміністративного Генерального суду — ІІоссшсо. Сенаторів Загального зібрання було 6, сенаторів Генеральних судів — 46, прокурорів — 3.
(обратно)267
Справами флоту за Центральної Ради займалася спочатку Генеральна Українська Морська Рада, а з грудня 1917 р. — Генеральне Секретарство Морських справ (Морське міністерство). З 10 (23) грудня 1917 р. до 14 березня 1918 р. міністром морських справ був Д. Антонович, далі обов'язки міністра морських справ і військового міністра суміщалися. Обов'язки керуючого міністерством виконував М. Максимів. Головні події цієї доби — затвердження 14 січня 1918 р. «Тимчасового закону про фльоту УНР» і підняття кораблями Чорноморського флоту 29 квітня 1918р. українських прапорів.
(обратно)268
Покровський А.Г. - військовослужбовець, віце-адмірал російської служби. З 27 березня 1918 р. — начальник охорони південно-західної частини Чорного моря (Одеського повіту), з 3 травня 1918 р. — Головний начальник портів Чорного та Азовського морів і командуючий флотом, з 12 листопада — Морський міністр. Адмірал Української Держави.
(обратно)269
Ненюков Дмитро Всеволодович — військовослужбовець, віце-адмірал російської служби. Представник Морського Міністерства Української Держави в Раді у справах демобілізації торговельного флоту. 1920 р. командував білим Чорноморським флотом. Емігрував.
(обратно)270
Внаслідок швидкого просування австро-німецьких військ, більшовики змушені були залишити Таврію і Крим. Німецьке командування змусило залишити Крим і війська Центральної Ради. Під наглядом німців у Бахчисараї було скликано татарський національний парламент — Курултай під керівництвом Д. Сейдамета. Але татарському самоврядуванню тими ж німцями скоро було покладено край. До влади прийшли проросійські сили, уряд Криму очолив генерал-лейтенант російської служби М. О. Сулькевич (за походженням — литовський татарин, наприкінці Першої світової війни командував на Румунському фронті Мусульманським корпусом). Його оточення складалося насамперед з колишніх царських урядовців — сенатора А. Ахматовича, царського посла у Константинополі Н. Чарикова, графа В. Татіщева, Л. Фрімана; Д.Сейдамета став міністром іноземних справ. 18 червня 1918 р. уряд Сулькевича виступив з декларацією, що краєвий уряд ставить перед собою завдання «збереження самостійності Кримського півострова аж до остаточного з'ясування його міжнародного становища і відновлення законності і порядку». Поновлювалася дія всіх законів, прийнятих до 25 жовтня (7 листопада) 1917 р.
Революційні події в Німеччині, евакуація німецьких військ прискорили перехід Криму під владу Добровольчої армії Денікіна. Генерал Сулькевич став військовим міністром Азербайджану
(обратно)271
У кінцевій постанові Брестського договору зазначалося, що він має бути ратифікований. Місцем обміну ратифікаційними грамотами було обрано Відень. 24 липня 1818 р. посол Української Держави в Австро-Угорщині В. Липинський обмінявся грамотами з представником Німеччини в цій країні принцом Нітольбергом
(обратно)272
Українську Державу представляли: у Німеччині — Ф. Штейнгель, в Австро-Угорщині — В. Липинський, у Туреччині — М. Суковкін, у Болгарії — О. Шульгін, у Швеції та Норвегії — Б. Баженов, у Швейцарії — Є. Лукасевич, у Фінняіідії — Лоський, на Дону — К. Середін, потім М. Славинський, у Румунії — В. Дашкевич-Горбацький. М. Могилянський прибув до Франції вже після повалення гетьманату; І. Коростовець до Великобританії й США та О. Карпінський до Польщі виїхати не встигли.
(обратно)273
Афанасьев Григорій Омелянович (1848–1925) — вчений, громадський діяч. Працював приват-доцентом по кафедрі всесвітньої історії Одеського університету, але змушений був залишити посаду як «політично неблагонадійний». Був директором Товариства взаємного кредиту, керуючим Державним Банком у Києві. З З травня 1918 р. — член уряду Української Держави: державний контролер, а з. 14 листопада — міністр закордонних справ. Помер в еміграції у Белграді.
(обратно)274
Старовинні українські землі Холмщина і Підляшшя мали за Брестським миром відійти до України. Одначе під тиском польських громадсько-політичних організацій австро-угорський уряд, побоюючись ускладнень, не допустив у повіти Холмщини призначеного урядом України губерніального комісара, а сприяв проведенню тут виборів до польської Регенційної ради. Австро-угорські власті саботували виконання Брестської ухвали про визначення постійного кордону між Україною та Польщею аж до розпаду імперії, коли влада в Холмщині була передана місцевим органам польського самоврядування. На початку ж листопада 1918 p., коли спалахнула революція в Берліні, польські війська зайняли територію Холмщини і Підляшшя, раніше окуповані німцями. Ці території стали базою подальшого просування поляків на терени Західної України.
(обратно)275
Буріан (Burian von Rajecz Stefan), граф, (1851–1922) — міністр іноземних справ Австро-Угорщині у квітні-жовтні 1918 р.
(обратно)276
Після роззброєння в квітні 1918 р. значна кількість Січових Стрільців знайшли прихисток у складі 3-го куреня 2-го Запорізького полку, 12-а сотня стала охороною Київського авіапарку, а 2-га сотня — комендантською сотнею у Верхньодніпровську.
У липні 1918 p., заручившись підтримкою Українського Національного Союзу, Рада Січових Стрільців почала клопотатися про відновлення формації. Внвслідок ускладненої політичної обстановки, тиску проросійських кіл, гетьман був зацікавлений у відданому національній ідеї війську. Після переговорів з делегацією у складі Є. Коновальця, А. Мельника, М. Матчака й В. Кучабського П. Скоропадський 23 серпня віддав наказ про формування Окремого загону Січових Стрільців у складі чотирьох піших сотень, кулеметної сотні, кінної розвідки і гарматної батареї. На листопад 1918 р. загін нараховував 46 старшин, 816 підстарший і стрільців, мав 12 кулеметів, 4 гармати.
(обратно)277
Прагнучи виграти війну до прибуття на фронт американських військ, німці в березні — липні 1918 р. провели на Західному фронті 4 наступальних операції, проте досягли ціною тяжких втрат лише тактичного успіху. 8-15 серпня союзники завдали удару у відповідь в ході Ам'єнської операції. Головну роль в наступі на Марні 15–17 липня і обороні 8-15 серпня відігравали 2-та та 18-та німецькі армії.
(обратно)278
Малінов Олександр (1867-?) у вересні-листопаді 1918 р. очолював коаліційний уряд Болгарії.
(обратно)279
фоп Гінце П. - штатс-секретар відомства закордонних справ Німеччини.
(обратно)280
Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) — учасник революційного руху з 90-х pp. XIX ст., член компартії з липня 1917 р. Учасник Жовтневого повстання 1917 р. у Петрограді, голова Військово-революційного комітету.
У 1918 р. очолював російську делегацію на переговорах з країнами Четвірного союзу в Брест-Литовську, потім був комісаром іноземних справ і соціального забезпечення, послом РРФСР у Німеччині. Як діяльний учасник інспірування в Німеччині революції, висланий звідти з усім штатом посольства 6 листопада 1918 р.
У 1919 р. — член Ради робітничої і селянської оборони радянської України, 1920 — нарком Державного Контролю УРСР. З 1921 р. на дипломатичній роботі. Вкоротив собі віку.
(обратно)281
«lhre Durchlauchi» — «Ваша Світлість» (нім.).
(обратно)282
Мабуть, йдеться про Дурново Петра Миколайовича, (1845–1915). У 1884–1893 pp. він очолював Департамент поліції, у 1900–1905 pp. був товаришем (заступником) міністра, а в 1905–1906 pp. - міністром внутрішніх справ Росії. Вживав жорстких заходів для придушення революційного руху, що не могло не імпонувати Вільгельмові II у скрутний для німецької монархії час.
Крім того, у лютому 1914 р., очолюючи праву фракцію Державної Ради, П. М. Дурново подав цареві меморандум, в якому доводив, що війна Росії з Німеччиною суперечить інтересам обох держав, призведе до військової поразки Росії, революції та загибелі самодержавства.
Його брат, Іван Миколайович Дурново (1830–1903), був міністром внутрішніх справ Росії у 1889–1895 рр. і головою Комітету міністрів у 1895–1903 рр. Обидва доводилися дядьками дружині гетьмана П. Скоропадського.
(обратно)283
Див. примітку 129:
Фон Гінденбург (von Hindcnburg) Пауль (1847–1934) — військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал німецької служби. Під час Першої світової війни з листопада 1914 р. командуючий військами Східного фронту, з серпня 1916 р. — начальник Генерального Штабу, фактичний головнокомандуючий.
Президент Веймарської республіки (1925–1934).
(обратно)284
Людендорф (1865–1937) — військовий, політичний діяч, генерал інфантерії німецької служби. Під час Першої світової війни з листопада 1914 р. — начальник штабу Східного фронту, з серпня 1916 р. — Перший генерал-квартирмейстер Штабу Верховного командування. З серпня 1914 р. фактично керував діями на Східному фронті, а з серпня 1916 — діями всіх збройних сил Німеччини. З 26 жовтня 1918 р. — у відставці.
(обратно)285
Союз Спартака — назва з листопада 1919 р. революційної організації, що об'єднувала німецьких лівих соціалістів. Виникла за часів Першої світової війні.
Засновниками й керівниками були К. Лібкнехт, Р. Люксембург, Ф. Мерінг та ін. Перебуваючи на нелегальному становищі, організація вела значну пропагандистську роботу, мала свої відділи в окупованих Німеччиною країнах, активно працювала з військовополоненими та серед австро-німецьких військ на території України. Відіграла значну роль у підготовці в Німеччині революції. Згодом стала складовою частиною комуністичної партії Німеччини.
(обратно)286
Метою аграрної політики гетьманської адміністрації було створення численного шару середніх селян-хліборобів, які б віддали землю за викуп від продажу великих маєтків, не більше 25 десятин в одні руки. Мета наділення землею усіх безземельних і безгосподарних селян не ставилася.
(обратно)287
Текст грамоти «До всього українського народу» надрукований у кн.: Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Ужгород 1930. — Т.2. — С. 49–50.
(обратно)288
Енно (Неппо) Еміль — французький дипломат. Дістав призначення консулом у Київ, але в описуваний час діяв у Яссах, а потім в Одесі, представляючи інтереси Антанти.
(обратно)289
Український національний союз — міжпартійне утворення, що склалося на початку серпня 1918 р. Головою було обрано А. Піковського, а з 18 вересня — В. Винниченка. Союз мав на меті утворення міцної самостійної української держави, боротьбу «за законну владу на Україні, відповідальну перед парламентом», за демократичні вибори. Рада союзу складалася з представників усіх українських політичних партій (УПСР, УСДРП, УПСФ, УПСС, трудовиків). Обмежено співпрацюючи з установами гетьманату, висуваючи кандидатів в його уряд, УНС вів лінію до повалення останнього і реставрації УНР, перебував у контакті з більшовицькою делегацією на мирних переговорах з Українською Державою тощо.
(обратно)290
В'язлов Андрій Григорович (1862–1919) — громадський, державний і політичний діяч. Син селянина з Волині. Закінчив юридичний факультет Університету Св. Володимира в Києві. Член партії соціалістів-федералістів, Товариства українських поступовців. Був мировим суддею і членом окружного суду. Входив в українську фракцію у І Державній Думі, потім — адвокат, активний учасник громадського життя. Під час Першої світової війни — уповноважений Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст при штабі 8-ї армії. У 1917 р. — губернський комісар Волині. З квітня 1918 р. — член Генерального суду УНР, за гетьманату — сенатор Адміністраційного Генерального суду Державного Сенату, товариш (заступник) міністра судівництва — начальник Головного управлніня місць ув'язнення. 24 жовтня — 14 листопада 1918 р. — міністр судівництва. За Директорії — голова Українського Червоного Хреста.
(обратно)291
Леонтович Володимир Миколайович (1866–1933) — відомий український письменник і громадський діяч. Закінчив юридичний факультет Московського університету. Землевласник на Полтавщині.
Член «Київської старої громади», видавав разом з Є. Чикаленком газету «Громадська думка» (1905–1906), редактор журналу «Нова громада» (1906), голова Товариства підмоги українській літературі, науці і штуці.
1916 р. — член Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу міст.
У 1917 р. — член ради Товариства українських поступовців і Тимчасового Центрального комітету Союзу українських автономістів-федералістів, член Центральної Ради.
З 24 жовтня 1918 р. — міністр земельних справ Української Держави. Автор проекту земельної реформи. 1919 р. емігрував до Туреччини, потім до Югославії та Чехо-Словаччини.
(обратно)292
Мерінг Сергій Федорович (1862–1920) — впливовий представник цукроварного промислу, політичний і громадський діяч. З 24 жовтня 1918 р. — міністр торгівлі й промисловості Української Держави.
(обратно)293
Правильно: Славинський Максим Антонович (1868–1945) — громадський і політичний діяч, публіцист, пост. За фахом — юрист. 1906 р. редагував газети «Свобода і право», «Свободная мысль», «Украинский вестник». Видав енциклопедічинй двотомник «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (Петроград, 1914–1916).
1917 р. — член Української національної ради в Петрограді, представник Центральної Ради при Тимчасовому уряді.
З травня 1918 р. — член ради Міністерства закордонних справ. Був тимчасовим представником Української Держави на Дону. 24 жовтня — 11 листопада 1918 р. — міністр праці Української Держави.
1919 р. — голова дипломатичної місії УНР в Чехо-Словаччині.
(обратно)294
Стебіцький Петро Януарійович (1862–1923) — письменник (Псевдонім — П. Смуток) і громадський діяч. Член Товариства українських поступовців. 1917 р. — комісар у справах України при Тимчасовому уряді.
За гетьманату — заступник голови української делегації на переговорах з РРФСР, сенатор Адміністративного Генерального Суду Державного Сенату. З 24 жовтня до 14 листопада 1918 р. — міністр народної освіти Української Держави.
(обратно)295
Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939) — відомий український письменник (псевдонім Білоусенко) і громадський діяч, знавець церковної справи. Закінчив Київську Духовну академію. Служив у Державному контролі, був помічником генерал-контролера. Один із засновників видавництва «Вік». Член партії соціалістів-федералістів.
У 1917 р. — голова Виконавчого комітету Української національної ради в Петрограді, з травня — губернський комісар Буковини й Покуття. З 3 вересня до листопада — член Генерального Секретаріату (Генеральний писар). З лютого до квітня 1917 р. — Державний контролер УНР.
З 24 жовтня до 14 листопада 1918 р. — міністр ісповідань Української Держави.
З січня 1919 р. до березня 1920 р. — посол УНР в Туреччині.
(обратно)296
Діставши звістку про початок антигетьманського повстання, П. Болбочан очолив Запорізьку дивізію, яка стояла на Харківщині як завіса проти можливого наступу більшовиків, і роззброїв кадри Харківського корпусу. Потім дивізія, оголюючи протибільшовицький фронт, рушила на Полтаву; штаб і кадри тамтешнього корпусу перейшли на бік повстанців.
(обратно)297
«Наказ» був надрукований в газеті «Голос Києва» 31 жовтня (12 листопада) 1918 р. Згідно з Текстом, А. Денікін нібито вступав у командування усіма військовими силами на Україні і в Криму, оголошував усіх офіцерів на території колишньої Росії мобілізованими. Командири офіцерських пружин доповіли гетьману про свій перехід у підпорядкування А.Денікіну.
Як свідчив сам А. Денікін «Я досі не знаю автора цього наказу», На запит міністра іноземних справ Української Держави Г.Афанасьєна він відповів: «Наказу в редакції, що з'явилася у київських газетах, я не віддавав. Генералу Домновському, представникові добровольчої армії в Києві, наказано об'єднати керівництво усіма російськими добровольчими загонами України, причому він зобов'язується всемірно узгоджувати свої дії з інтересами краю, скеровуючи всі сили до боротьби з більшовиками і не втручаючись у внутрішні справи краю…» (Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых. — М.; Л., 1930. — С. 162–163).
(обратно)298
Відхід німецьких військ з України сприяв утворенню своєрідного вакууму сил на сході Європи. Слабкість режиму гетьмана давала нагоду конкуруючим політичним партіям спробувати заволодіти Україною. 17–23 листопада 1918 р. в Яссах — тимчасовій столиці Румунії — відбулася нарада російських політичних діячів з представником Антанти. З боку України були присутні колишні царські міністри А. Критюшин та В. Гурко, М. Маргулієс (надалі — член Північно-Західного уряду ген. Юденича); праві есери А. Титов та Ф. Фундамінський, П. Мілюков, М. ІНсбско, Л. Хомяков, В. Демченко, М. Брайкович та П. Савич. Антанту представляв французький консул у Києві Г. Енно. Метою наради було вироблення програми спільних дій держав Антанти на Півдні Росії та України. Російські діячі висловилися за те, щоб Антанта якнайскоріше надіслала війська, озброєння на підтримку Добровольчої армії генерала А.Денікіна, що була зосереджена головним чином на Кубані та Дону і мала незначні райони Одеси. Нарада прийняла декларацію, опубліковану 23 листопада в одеських газетах.
Оголошувалося, що держави Антанти в особі Енно вирішили не допускати жодного порушення «у справі відновлення порядку та реорганізації Росії, яке розпочали російські патріоти». «Непохитна воля» держав Антанти підтримати порядок також в «Південній Росії» мала бути найближчим часом підтримана збройною силою. Делегацію у складі Гурка, Шебека, Мілюкова, Третьякова, Титова та Кровонускова на Паризьку мирну конференцію.
(обратно)299
Український національний конгрес — скликання другого Українського національного конгресу (перший відбувся у квітні 1917 р.) Український національний союз призначав на 17 листопада для вирішення питань про державний лад на Україні, проблем міжнародної політики. Він замислювався як «народоправний орган» і мав відіграти роль в «легітимному» поваленні гетьманату.
(обратно)300
C. Петлюра був звільнений з-під арешту міністром юстиції Української Держави А. В'язловим за особистою вказівкою гетьмана 12 листопада 1918 р. і відразу виїхав до Білої Церкви.
(обратно)301
Як згадував активний учасник подій О. Назарук, «Я укладав першу відозву проти Гетьмана, друковану в Білій церкві, а властиво поправляв її, бо перший концепт, який мав у собі виключно лайку, написав мій знайомий ще зі студентських часів, а тоді «головний отаман» бунту, Симой Петлюра. Я повикидав із того концепту що грубішу лайку та зложив ідеалістично-політичне оправдання Бунту: мовляв, виступаємо проти Гетьмана тому, що він згодився на федерацію України з Московщиною, а ми хочемо зовсім окремої, себто самостійної Української Держави. Я вияснив Петлюрі, що без такого оправдания бунту зачиняти не можна, і він згодився на то» (Назарук О. Спогади про те, які були перші кроки гетьманської ідеї у глибині народних мас після великої катастрофи нашої державності // За велич нації. — Львів, 1938: — С. 39–40).
(обратно)302
Келлер Ф. А., граф (1857–1918) — військовий діяч, генерал від кавалерії російської служби. За часів Першої світової війни — відомий воєначальник російської кінноти, командир 10-ї кавалерійської дивізії, потім ІІІ кавалерійського корпусу в складі 4-ї армії генерала О. Рогози. Звільнений з посади за відмову привести корпус до присяги Тимчасовому урядові.
Перебуваючи за гетьманату в Києві, займався формуванням з колишніх офіцерів «Північної Псковської армії». 18 листопада 1918 р. призначений гетьманом Командуючим усіма збройними силами на терені України «з правами Головнокомандуючого арміями фронту» і підпорядкуванням йому усіх цивільних властей. Зрозумівши це як передачу йому усієї повноти влади, генерал Келлер утворив при собі «Раду оборони» з монархістів, увійшов у зносини з командуванням Добровольчої білої армії. В оточенні Келлєра зріла змова з метою повалення гетьмана.
Після зроблених йому роз'яснень, з боку уряду, висунув ультимативну вимогу про всю повноту влади. 27 листопада був зміщений з посади. Розстріляний після здобуття Києва військом Директорії.
(обратно)303
Долгоруков Олександр, Миколайович, князь, військовий і політичний діяч, генерал від кавалерії російської служби. Під час. Першої світової війни в 1914–1915рр., обіймаючи посаду, командира Кавалергардського полку, підлягав. П. Скоропадському як командиру бригади… І917 р. командував І кавалерійським корпусом. у 1918 р. — голова військової монархічної партії в Києві. 27 листопада призначений Головнокомандуючим військами гетьманату у боротьбі з Директорією. Намагався позбутися впливу білогвардійських осередків на гетьманські військові формування. Після зречення гетьмана П. Скоропадського оголосив про, капітуляцію своїх військ перед армією Директорії і відбув до Одеси.
(обратно)304
Йдеться про Пажеський корпус і Кавалергардський полк.
(обратно)305
Правильно: Ландсберг В.Е. - інженер, відомий в Росії фахівець з експлуатації залізниць. J918 р. — міністр шляхів Української Держави. Після повалення гетьманату емігрував до Польщі.
(обратно)306
Генеральний хорунжий Д.О. Щуцький вступив в обов'язки військового міністра 15 листопада 1918 р.
(обратно)307
18 листопада 1818 р. відбувся бій під Мотовилівкою на залізничному шляху Київ — Фастів. Проти висланого оборонцями міста запиту князя Святополка-Мірського (до 600 багнетів російської офіцерської дружини, понад 1000 багнетів сердюків, до 200 табель, бронепоїзд) тут діяли чотири сотні (до 640 багнетів) Січових Стрільців з імпровізованим бронепоїздом. Авангардом січовиків командував Ф. Черник, який загинув у цьому бою. Гетьманський загін зазнав нищівної поразки.
Серйозний опір гетьманські війська вчинили наступаючим силам Директорії на фронті Жуляни — Юровка 19 листопада. Наступного дня на бік Директорії перейшов дивізіон Сердюцького Лубенського кінно-козачого полку. Сильний контрудар гетьманців Чорноморському кошеві був завданий під Святошином.
З 22 листопада боротьба набула позиційного характеру, з частими атаками Січових Стрільців на околичні Київські селища Красний Хутір, Голосієве та Мишоловку. Протягом тижня внаслідок напливу повстанців загін Січових Стрільців розгорнувся в дивізію. Па фронт прибули кадри Вінницького корпусу, що перейшов на бік Директорії.
Наступ 1-го іюлку Січових Стрільців вздовж Дніпра 27 листопада був невдалим; того ж дня на Городицькому напрямку стався значний бій з німецькими частинами. До відходу німців з Києва було укладено перемир'я.
З грудня 1918 р. з військ Директорії було створено Осадний корпус під командуванням Є. Коновалця. Він складався з дивізії Січових Стрільців, Чорноморського коша отамана Пелешука, двох Дніпровських дивізій отаманів Зеленого і Данченка, 8-ї пішої дивізії (кадрів колишньої гетьманської) та ін., загалом до 50 тис. багнетів з 48 гарматами. Корпусові в цей час протистояли до 3. тис. багнетів, близько 80 шабель, 109 кулеметів, 43 гармати гетьманських формувань.
Повий наступ на Київ розпочався 14 грудня. О 13-й годині гетьманське командування віддало наказ про припинення опору.
(обратно)308
Йдеться про «сірожупанників».
(обратно)309
За спогадами Є. Коновальця, він«…особисто не відмовився від нагоди пошукати влагодження і полагодження кривавого конфлікту».
Було це в час подорожі делегації від республіканських військ, що їхала на переговори до головного німецького командування»… Під час переговорів звернувся до мене майор німецького генштабу Ярош із запитанням, чи не хотів би я побачитись з кимось з найближчого оточення гетьмана, причому назвав імена д-ра Галіна та Полтавця-Остряниці, зазначивши, що гетьман бажає зробиш деякі пропозиції. Я згодився на це, і того ж самого дня старішій німецький старшина завіз мене в закритому авто до покійного Петра Дорошенка. Останній заявив мені, що говорить від імені гетьмана, що гетьман «не сердиться» на січових стрільців і що дуже радо привітав би ще й тепер рішення січових сгрільщв — виїхати до Галичини, причому готовий дати нам вільний проїзд від Фастова до Збруча. Така заява здивувала мене, і мені нічого не залишалося, як відповісти, що не тільки лінія Фастів — Проскурів, але й уся Україна в руках повстанських військ. Оскільки знов гетьман вважає можливим почати переговори в площині визнання дотеперішніх домагань Українського національного союзу, то я готовий передати це Директорії з тим, що, на мою думку, передумовою першою мусило б бути підкликання маніфесту про федерацію. Я від'їхав ні з чим….» (Коновалець, Є. Вказ. праця. — С.304).
(обратно)310
Текст зречення був надрукований 15 грудня 1918 р. в газетах «Відродження», «Паш путь», «Мир».
«Всем, всем по учреждениям Украины. Всем войсковым частям и учреждениям. Я, Гетьман всея Украины, в течение семи с половиной месяцев все свои силы клал на то, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находилася. Бог не дал мне силы справиться с этой задачей. Пыле в виду сложившихся условий, руководствуясь исключительно благом Украины, от власти отказываюсь.
Павел Скоропадский 14 декабря 1918 года, город Киев».
Після зречення гетьмана П. Скоропадського легітимна влада Української Держави — Рада Міністрів у складі Голови Ради С. Горбаля, міністра торгівлі й промисловості С. Мерінга, міністра внутріншіх справ І. Кістяківського, міністра фінансів Л. Ржепецького, міністра народної освіти В. Науменка, міністра праці Косинського та Державного контролера Петрова того ж самого дня, 14 грудня 1918 р., ухвалила:
«Обсудив требование Директории, Совет Министров постановил сложить с себя полномочия и передать власть Директории».
(Симон Петлюра — президент України. — Торонто,1952. — С. 82).
(обратно)

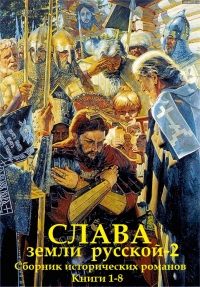

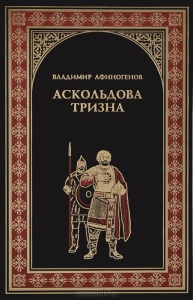

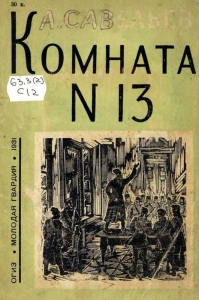
Комментарии к книге «Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918», Павел Петрович Скоропадский
Всего 0 комментариев