Вольдемар Балязин Русско-Прусские хроники
Посвящаю моей сестре Елене Николаевне Шлеминой, прекрасному человеку, журналистке, патриотке этого города и его гражданке с 1945 года.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы приехали в Кенигсберг в октябре 1945 года. Мы — это моя мама, Софья Михайловна Балязина, моя бабушка — Мария Осиповна и младшая, двенадцатилетняя сестра, Лена.
Мне же было тогда четырнадцать лет. В Кенигсберге, в штабе 11-й гвардейской армии, в чине капитана, служил мой отец — Николай Иннокентьевич Балязин, ушедший на фронт добровольцем летом 1941 года из своего родного Иркутска.
Войны никто из нас не видел и в лицо ее взглянули мы, как только отъехали от Москвы. Дорога шла через Вязьму, Смоленск, Минск и Вильнюс чьи вокзалы либо сгорели до тла, представляя кучи кирпича с перекрученной металлической арматурой, либо являли собою обгорелые продырявленные снарядами стены, с пустыми проемами окон. И все пространство между этими городами тоже было так усердно перепахано войной, что уцелевшие дома казались редкими оазисами в пустыне. И все же Кенигсберг, несмотря на уже полученную нами психологическую подготовку, показался нам совершенно невообразимым хаосом разбитого и искореженного чудовищными взрывами, кирпича, бетона, камней и железа. (Через 10 лет, когда я работал сотрудником Калининградского областного краеведческого музея, группа киношников приехала снимать здесь учебный фильм «Последствия атомного взрыва и их ликвидация». Мне поручили отыскать подходящую для этого съемочную площадку, и я привел их на остров Кнейснхоф, где уцелели только стены Кафедрального собора. Режиссер и оператор осмотрелись; и первый из них сказал вздохнув: «Придется построить пару павильонов, иначе никто не поверить, что ядерный удар может быть таким сокрушительным»).
Однако, поселок 11-й армии, располагавшейся в районе между нынешним проспектом Кутузова и Вагоностроительной улицей, война пощадила: сожженных домов было здесь немного, и после всего увиденного в старом городе, мы поразились уюту и красоте, вернее, многочисленным их приметам, сохранившимся несмотря ни на что. Это были и цветочные клумбы и фруктовые сады, и стены домов, обвитые плющом, а в квартирах папиных сослуживцев оказались такая мебель и посуда, какие видали мы перед тем только в домах наших самых зажиточных граждан.
Затем началось мое житие в Кенигсберге, и я день за днем будто читал новую, увлекательную книгу, перевертывая в ней одну страницу за другой. Я полюбил этот город и от стал моей второй родиной, определив на всю жизнь одну из главных линий моего собственного духовного развития: я занялся изучением истории Восточной Пруссии и, кажется, не напрасно. (В 1996 году в Калининграде вышел солидный научный труд «Восточная Пруссия», в котором мое имя упомянуто рядом с виднейшими учеными — историками России и Германии).
В 1954 году, закончив исторический факультет Калининградского пединститута, мне посчастливилось пять лет проработать в местном музее, в отделе историю. Эта работа еще более усилила мою любовь к городу. Я занимался и раскопками могильников викингов, и поисками «Янтарной комнаты», ездил в командировки к родственникам героев минувшей войны — капитану Гусеву и генералу Гурьеву, встречался с матерью Зои и Шуры Космодемьянских — Любовью Тимофеевной и многими здравствующими участниками штурма Кенигсберга. Работал в архиве Великой Отечественной войны, в Подольске, я нашел личные дела Героев Советского Союза Катина, Егорова, Родителева, Яналова и многих других, именами которых вскоре были названы улицы Калининграда, поставлены памятные обелиски и прикреплены мемориальные доски.
В музее, в содружестве с прекрасными людьми, энтузиастами и подвижниками, я постиг смысл научной работы, заболел краеведением и здесь начал свою исследовательскую публикаторскую деятельность, которой занимаюсь уже более 40 лет.
Я не могу не вспомнить моих коллег Аллу Евгеньевну Цыганкову, Ивана Павловича Колганова, художника Анатолия Николаевича Николаева, Валерию Дмитриевну Ваулилину, к которым всю жизнь испытываю чувства глубокого уважения и искренней любви.
Работа в подольском архиве позволили мне опубликовать серию очерков о погибших героях, чьими именами были названы города Калининградской области — Черняховском, Гурьеве, Нестерове, Ладушкине, Мамонове и несколько статей о штурме Кенигсберга. Эти статьи напечатали в газете «Калининиградский комсомолец» и в газете Прибалтийского военного округа «За Родину». Я написал и брошюру «Штурм Кенигсберга», но ее отказались даже принять в только что открывшемся Калининградском книжном издательстве, потому что по стандартам того времени 26-летний сотрудник музея не должен был писать на столь важную и тогда еще не апробированную тему, на освещение которой имели право претендовать лишь генералы, участвовавшие во взятии города. (Спустя шесть лет, в 1963 году брошюра «Штурм Кенигсберга» вышла в Военном издательстве, в Москве). Однако, все же в 1958 году, когда в Калининграде был выпущен первый литературно-художественный сборник «Под знамениями Родины», в нем нашлось место для небольшой моей статьи «Битва при Гросс — Егерсдорфе», которая помещена в этой книге. Тогда статью напечатали в связи с тем, что 200 лет назад в январе 1758 года русские войска заняли Кенигсберг, а сражение при Гросс-Егерсдорфе, произошедшее 19 августа 1757 года явилось пролом дальнейших действий, приведших русские войска в столицу Восточной Пруссии. (Да и сама битва происходила на территории, вошедшей в Калининградскую область — возле деревень Междуречье и Извилино Ченяховского района.
Эта статья была моей первой книжной публикацией, хотя в газета Калининиграда я стал сотрудничать, еще учась в школе.
Воодушевленный, как тогда мне казалось, большим успехом, я написал брошюру «Памятники Славы» — о мемориалах и местах сражений на территории Калининградской области, начиная с XV века и кончая Восточно — Прусской операцией 1945 года. Брошюра, хорошо проиллюстрированная, и снабженная маршрутный схемой, вышла в 1958 году и с этих пор я веду счет моим книгам, которых теперь вышло уже более тридцати, и в полутора десятках которых так или иначе имеются сюжеты, связанные с историей Восточной Пруссии. Эти-то сюжеты и собраны в книге, предлагаемой теперь Вашему вниманию, любезный мой читатель.
В 1960 году я поступил в аспирантуру истфака Московского университета и там, под руководством профессора Георгия Андреевича Новицкого — великого эрудита и прекрасного знатока Балтийского вопроса — написал диссертацию «Россия и Тевтонский орден в 1466–1525 годах». Несколько статей по теме диссертации были опубликованы в журналах «Вопросы истории» (№ 6, 1963 г.), «Вестник Московского Университета» (№№ 3, 1963 г.; 6, 1964 г.), «История ССР» (№ 2, 1973 г.), «Ежегоднике Ольштынском» (т. VII, 1968 г.) Ольштын, Польша. Тогда же Ученый Совет Московского Университета рекомендовал диссертацию к опубликованию, но я уехал на преподавательскую работу в Магаданский Пединститут и без постоянного контроля за ходом редакционного процесса, или, как тогда говорили, «без пробивания», дело превращения рукописи в книгу, совершенно остановилось. Не помогли им рекомендации Ученого Совета, ни прекрасные отзывы моих оппонентов, среди которых были и академик С. Д. Сказкин, и член-корреспондента АН СССР Х. Х. Круус, и профессор В. Д. Королюк.
Я решил трансформировать диссертацию в книгу, в которой были бы сохранены главные положения моей научной работы, и вместе с тем характер изложения материала приближался к научно-популярному.
В первом варианте я назвал книгу — «Политика России в юго-восточной Прибалтике в конце XV — начале XVI веков», затем, дополнив ее новыми материалами, и расширив ареал действия, окончательно остановился на новом варианте, назвав книгу «Россия и Прибалтика в XV–XVI веках», но единственное тогда академическое издательство «Наука», хотя и принимало эти рукописи, но очередь их собственных ученых из Академии Наук была столь велика, что мне — «варягу» — надеяться было не на что. В конце-концов, лишь в 1993 году, Военное издательство Министерства Обороны приняло книгу, назвав ее «Сломанный меч: Россия и Тевтонский Орден». Но выйти в свет эта злополучная книга так и не смогла — издательства развалилось, как и многие другие структуры нашего оборонного ведомства. И лишь теперь, благодаря «Янтарному сказу»: И его подлинно патриотической и просветительской (после сорокалетних мытарств) позиции «Сломанный меч» открывает эту книгу. Остальные же рукописи так и лежат неопубликованными у меня дома. Почему же именно с данного очерка начинаю я «Русско-Прусские хроники»? Да только потому, что материал в «Хрониках», как требует такой тип повествования, должен располагаться не по датам выхода в свет той, или иной книги, а последовательно по года, происходящих в них событий, ибо греческое слово «Хроника», по-русски переводиться, как «летопись».
И второй вопрос, на который я должен ответить: «Почему книга называется именно так?» Потому что она является своеобразной хрестоматией по истории России и Пруссии, рассказывая о тех эпизодах всемирной истории, когда судьбы этих двух государств достаточно тесно переплетались в самых разных аспектах — политических, культурных, личностных. А так как мировой исторический процесс есть ни что иное, как единая гигантская общечеловеческая летопись, то, обращая внимание на те стороны бытия, которые в равной мере близки тому, или иному народу, мы имеем право говорить и о русско-прусских хрониках, отражающих моменты, когда жизнь двух соседних стран тесно переплеталась. Логично будет расположить такие материалы в хронологическом порядке, и тогда название «Русско-Прусские Хроники» станет восприниматься, как вполне закономерное.
Итак, любезный мой читатель, после того, как мы условились следовать по страницам из века в век, я позволю себе привлечь Ваше внимание к рассказу о том, в каком порядке и когда появлялись те самые фрагменты, с которыми Вы будете знакомиться, то есть привлеку Ваше внимание к своей собственной персоне и предложу один из аспектов моей биографии, а именно тот, который связан с Кенигсбергом и Восточной Пруссией. Известно, что биография писателя, это — его книги, а в моей творческой жизни, как писателя, так и историка моему любимому Калининграду принадлежит очень важное место. После окончания аспирантуры я почти все время живу в Москве и потому именно там вышло большинство моих книг.
В 1976 году издательство «Детская Литература» выпустило мою историко-приключенческую повесть «Дорогой богов», посвященную невероятной судьбе польского графа Люриса-Августа Беньовского, многими называвшегося одним из величайших авантюристов своего времени. Беньовский был взят в плен русскими войсками во время Барского восстания за независимость Польши в 1768 году. Он бежал из плена, был отправлен на Камчатку, бежал и оттуда, захватив галеон «Святой Петр» и дойдя на нем до Мадагаскара, где стал первым президентом Союза Малагасийских племен. В молодости, скитаясь по Европе, Бениовский побывал в Кенигсберге, познакомился с комендантом города генералом Василием Ивановичем Суворовым и его сыном, подполковником Александром Васильевичем. Остановившись на время в Кенигсберге, Бениовский слушал лекции профессора Канта, а затем, опасаясь ареста, скрылся из города. О его пребывании в Кенигсберге, в этой книге посвящены две главы.
В 1990 году был опубликован мой историко-приключенческий роман «Охотник за тронами». Этим романом издательство «Отечество» открыло серию военно-патриотических книг, названную «Народной библиотекой». Книгу я посвятил памяти моего отца, гвардии капитана Николая Иннокентьевича Балязина, участника штурма Кенигсберга, а гонорар передал в фонд строительства семейных домов для детей сирот и на приобретение колясок для инвалидов-афганцев.
Пять глав этого остросюжетного историко-приключенческого романа рассказывают о Кенигсберге XVI века, о легендах древних пруссов, о политических интригах орденских сановников, направленных и против Речи Посполитой и против Московского Царства.
Одна из глав, названная «Сумка, полная секретов», была написана на основании одного из документов орденского архива, обнаруженного мною в фондах библиотеки Генерального Штаба. Тогда хранившихся в архиве библиотеки имени Ленина, позволив раскрыть подлинные невыдуманные тайны запутанной внешней политики многоликой средневековой Европы.
В том же году вышла и первая обширная биография фельдмаршала, князя Михаила Богдановича Барклая де Толли, написанная мною для Военного издательства. Барклай, начавший войну 1812 года министром военных сухопутных сил России и командуя самой большой русской армией — 1-й Западной — возглавлял ее действия в наиболее тяжелый период войны — с июня по 17 августа 1812 года. Принявший у него армию Кутузов, продолжил единственно возможную тогда тактику борьбы с Наполеоном — тактику отступления, продолжая стратегическую линию своего предшественника.
После смерти Кутузова, Барклай вновь возглавил русскую армию и в марте 1814 года привел ее в Париж. Долгое время его имя подвергалось незаслуженной хуле и лишь теперь он занял в русской историко-военной литературе такое же почетное место, как и Кутузов, и Багратион, и другие великие полководцы и отчизнолюбцы. В период, предшествующий 1812 года 38-летним генералом, Барклай блестяще проявил себя в Восточной Пруссии в первой схватке с Наполеоном в 1805–1807 годах. Этому периоду и посвящен раздел о его полководческой деятельности в книге «Русско-Прусские хроники».
Через год после этого, в 1991 году, вышла книга «Михаил Кутузов», написанная много под сильным впечатлением от событий конца XVII — начала XIX веков, в которых судьбы двух военачальников переплетались часто и тесно. В жизни Кутузова и его потомков заметную роль играла прусская королевская семья и особенно ее глава — король Фридрих — Вильгельм III, бронзовую конную статую которого помнят старожилы-калининградцы, стоявшей перед фасадом Кенигсбергского университета на Параденплантц.
Кратковременному пребыванию Кутузова в Кенигсберге в 1798 году и судьбе его внучки графини Екатерины Фердинандовны Тизенгаузен посвящены в этой книге два сюжета. Особенно занимателен второй из них, открывающий тайну происхождения убийцы Распутина князя Феликса Юсупова, прадедом которого был прусский король Фридрих Вильгельм III, а прабабкой — Екатерина Фердинандовна Тизенгаузен.
После того, как биография Кутузова была опубликована, со мною приключилось несчастье — я попал в больницу с приступом инсульта и, пролежав там довольно долго, вышел на божий свет, получив категорический запрет выходить из дома и уж тем более ходить в библиотеку. Но не писать я не мог, и для того, чтобы работать, пришлось придумать такой сюжет, который можно было бы сделать, сидя у себя в кабинете, и пользуясь только собственными книгами, а прежде всего — собственной фантазией. Меня всегда влекли глобальные проблемы и широкий хронологический охват и я решил написать в свободной, повествовательной манере сатирическую историю коммунистического учения от его истоков до наших дней, тем более, что мне пришлось три года читать лекции по научному коммунизму и я видел в этой доктрине немало изъянов и противоречий, а также множество реалий, на практике уподобляющих догматический, университетский марксизм замшелой церковной схоластике.
Непогрешимость пап и генеральных секретарей, преклонение перед классиками марксизма, как перед апостолами Христа, Святая Инквизиция и КГБ, Папская Конгрегация и Политбюро, Вселенские Соборы и партийные съезды с их богооткровенными установлениями, — все это и многое другое, привели меня к мысли написать сатирический роман «Заговор в Ватикане».
Я написал его, не надеясь на то, что он будет когда-нибудь опубликован, писал, как тогда говорили, «…в стол», ибо даже при наступившей идеологической оттепели от был через чур крамольным. Но жизнь оказалась уже не такой, как прежде, хотя и, как я вскоре понял, еще и не совсем подходящей для таких книг: когда роман все же вышел, — а это был уже 1992 год — 50-тысячный тираж разослали по окраинам страны, не пустив в продажу в Москве ни одного экземпляра.
Главным героем этого историко-авантюрного романа я сделал уроженца Кенигсберга, Фому де Мара, который, став монахом, получил имя Вольф, и стал зваться Вольф де Маром. Так как я представил роман, как неизвестную прежде средневековую книгу, принадлежащую перу некоего Вольфа де Мара, то на обложке стояло это имя. А я — Вольдемар Балязин — скрылся под личиной комментатора и переводчика. Правда, не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы не понять, что за Вольфом де Маром прячется прозаический Вольдемар, и в библиотеках эта книга стоит среди сочинений В. Н. Балязина.
Так как действие романа начинается в средневековом Кенигсберге, я полагаю уместным поместить и этот фрагмент в «Русско-Прусских Хрониках». Литературные мистификации — жанр чрезвычайно редкий, и после «Заговора в Ватикане» я снова возвратился к моим излюбленным научно-популярным и художественным произведениям.
И снова Барклай де Толли не оставляя меня в покое и после того, как монография о нем вышла в свет. Он представлялся мне фигурой трагической и величественной, каким видел я его и Пушкин, и многие современники, и немалое число наиболее непредвзято мыслящих потомков.
В моей жизни Барклай занимал особое место: еще в 1959 году, в книге «Памятники Славы» я, кажется, первым из русских историков поместил изображение памятника, поставленного на месте смерти полководца, случившейся неподалеку от Инстербурга, в имении Штилитцен 14 мая 1818 года. После этого я несколько раз приезжал в Штилитцен (теперь называющийся поселком Нагорный) в помещичий дом, чудом уцелевший во время последней войны, но уже сильно поврежденный его нынешними обитателями — рабочими совхоза, рассказывал им о Барклае, об Отечественной войне 1812 года. Рабочие слушали со вниманием, обещали беречь дом, но время и бесхозяйственность брали свое — некогда крепкий, толстостенный каменный дом ветшал и постепенно превращался в руину.
Я ходил в Обком партии, потом в Управление Культуры Облисполкома, писал в «Калининградскую правду», везде мне сочувствовали, проявляли полное понимание, однако дальше слов дело не шло. Не изменяется положение и теперь. А более счастливые современники Барклая — фельдмаршалы Кутузов и Веллингтон, Блюхер и Шварценберг, не говоря уже о шведском короле Бернадотте и императоре Наполеоне, увековечены во многих музеях, а места их смерти являются предметом национального почитания. Обойденный посмертной славой, Барклай и при жизни был обделен народной любовью, что позволило Пушкину написать о нем такие строки:
О, вождь несчастливы! Суров был жребий твой: Все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал…. О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного, поклонники успеха! Как часто мимо вас проходит человек, Над кем ругается слепой и буйный век, Но чей высокий лик в грядущем поколенье Поэта приведет в восторг и в умиленье!Я почувствовал себя таким поэтом, пришедшим и «в восторг и в умиленье», и написал исторический роман о жизни Барклая «Верность и терпение». Название романа повторяло его княжеский девиз, полученный им от императора Александра I-го после взятия Парижа.
В этом романе, состоящем из 26 глав, три посвящены боевому пути Барклая в Пруссии. Наиважнейшим эпизодом кампании 1805–1807 годов, никогда не привлекавшем внимания историков и романистов, было знакомство Барклая с историком античности Бартольдом Георгом Нибуром, рассказавшем раненому русскому генералу о войне персов со скифами, когда армия царя Дария была погублена необозримыми пространствами Скифии, на которых были выжжены все хлебные поля и селения, а колодцы либо отравлены, либо засыпаны. Этот «Скифский план» и лег позднее в основу стратегии Барклая в войне Двенадцатого года.
Роман был издан московским издательством «Армада» в 1996 году, затем сразу же переиздан, а еще через год — в 1997-ом, когда Москве исполнилось 850 лет я опубликовал книгу «Московские градоначальники», в которой были помещены 50 биографических очерков главноначальствующих первопрестольной от губернатора Тихона Никитича Стрешнева, двоюродного брата Петра I — го, вступившего на пост московского губернатора в 1709 году до генерал-лейтенанта Сергея Константиновича Гершельтана, оставившего генерал-губернаторское кресло в 1909 году, — ровно через 200 лет после Стрешнева. Среди этих 50 сановников был и Иван Васильевич Гудович, граф и фельдмаршал, 35-й московский главноначальствующий, в молодости учившийся в Кенигсбергском университете.
В 1999 году вышли в свет еще две мои книги, где Восточная Пруссия и Кеигсберг также фигурируют, как места, связанные с важными историческими событиями, происходившими в России.
В первой из этих книг, названной «Самодержцы. Любовные истории царского дома», содержится три новеллы, действие которых происходит, как и в прежних, В Кенигсберге и Приблатике. Эти новеллы называются: «Герцогиня Курляндская», «Эрнст-Иоганн Бирон» и «Император Александр и королева Луиза». Я поместил их в «Русско-Прусских Хрониках», ибо и они составляют несколько страниц истории нашего края.
В 1999 году вышла в свет и моя последняя книга — «Мудрость мира», в которой представлены более трехсот великих людей Земли, среди них оказались и два профессора Кенигсбергского университета — Эммануил Кант и Иоганн Гердер. Краткие биографии этих мыслителей, а также наиболее яркие афоризмы, максимы и крылатые слова я также помещаю в «Русско-Прусских Хрониках».
Таким образом, Вашему вниманию, уважаемый читатель, предлагается 22 отдельных произведения, параграфа, главы, о происходивших некогда событиях в Восточной Пруссии и Прибалтике или же о некоем фантасмагорическом мире, который волею автора был исполненцем на улицах и в домах Кенигсберга и окружающей его территории.
Эти фрагменты чаще всего относятся к биографиям реальных исторических деятелей, но иногда жизнь моих героев целиком и надолго связана с Кенигсбергом, как например у герцога Альбрехта Гогенцоллерна и профессоров университета Эммануила Канта и Иоганна Гердера, иногда же в книге человеческой судьбы проходит всего лишь одной строкой, как, например, у герцога Бирона, или графа Гузовича. Замечу, что в книгу «Русско-Прусские Хроники» вошло далеко не все, что было посвящено мною истории Восточной Пруссии, а только то, что я считал наиболее интересным и значительным в моей журналистской и писательской биографии.
И, наконец, о судьбах членов нашей семьи, приехавшей в Кенигсберг осенью 1945 года. Моя бабушка умерла в 1959 году и похоронена в Калининграде на первом городском кладбище. Отец скончался в Москве в 1983 году. Мама, Слава Богу, жива и идет ей сейчас 91-й год. А сестра, — Елена Николаевна, которой я посвятил эту книгу, всю жизнь проработала в Калининграде, в газетах «Маяк» и «Калининградская правда». Там же живет и моя дочь — Ирина, и ее сыновья, а мои внуки — Олег и Андрей. И ко всему тому Калининград, воистину, является моим родным городом.
Теперь же, уважаемый читатель, позвольте перейти к изложению сюжетов из десяти, ранее написанных мною книг, о которых говорилось выше.
Только отрывки из них будут расположены не в той последовательности, как в предисловии, когда от этих книгах рассказывал я помере их выхода в свет, а в связи с хронологией событий, происходивших в истории.
И для того, чтобы новый порядок изложения не противоречил старому, я намерен помещать перед каждым отдельным фрагментом ту частичку предисловия, которая была посвящена именно этому фрагменту.
Желаю Вам, уважаемый читатель, полезного и приятного чтения.
Вольдемар Балязин, Москва-Калининград, лето-осень 1999 года.I. СЛОМАНЫЙ МЕЧ: РОССИЯ И ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН Научно-популярный очерк
После защиты в 1963 году диссертации, я несколько раз переделывал ее текст, дополняя все новыми и новыми материалами, чтобы опубликовать книгу о политике России в юго-восточной Прибалтике в XV–XVI веках, …но единственное тогда академическое издательство «Наука», хотя и принимало эти рукописи, но очередь их собственных ученых из Академии Наук была столь велика, что мне — «варягу» — надеяться было не на что. В конце-концов, лишь в 1993 году, Военное издательство Министерства Обороны приняло книгу, назвав ее «Сломанный меч: Россия и Тевтонский Орден».
От Автора
Немецкие рыцарские ордена появились в юго-восточной Прибалтике Пруссии, Латвии, Эстонии и на части территории Литвы — в начале X века. Они не могли бы долго продержаться на чужих территориях только силой оружия и террором против местного языческого населения. Поэтому с самого начала великий магистр Тевтонского ордена и магистры Ливонского ордена и ордена Меченосцев играли на межплеменных противоречиях, сеяли рознь среди различных этнических и конфессиональных групп, натравливали язычников на христиан, литовцев на поляков, поляков и литовцев на их соседей — русских. Выходя за ареалы своего расселения, руководители орденов учитывали и более крупные силы, действовавшие за пределами Прибалтики: Ватикан, Священную Римскую империю германской нации, Польшу, Данию, Швецию и Россию.
Дипломатия, шпионаж, подкупы, угрозы и посулы — все шло в дело, для достижения главной цели — закрепления германских этнических элементов во главе с немецким дворянством на занятых орденами территориях.
Все эти хитросплетения тонких интриг и откровенно силового давления, возникновение и распад коалиций, закулисные переговоры и сговоры — так или иначе отражались в секретных документах, которые до поры до времени оставались немыми свидетелями тайных событий, спрятанными в сундуках, шкафах и кладовых секретных архивов Ордена и его врагов и союзников.
На основе этих документов — и не только их — написана эта небольшая книга, приподнимающая завесу тайны, покрывавшей «дела давно минувших дней».
Более подробно описан в ней заключительный период взаимоотношений Руси с Тевтонским орденом в Пруссии и его филиалом в Ливонии, охватывающий вторую половину XV — первую треть XVI века.
В это время в России сложилось централизованное Московское государство, в состав которого вошли многие княжества северо-восточной Руси.
В начале XVI в. в России интенсивно проходило подчинение великокняжеской власти городов и княжеств: в 1510 г. была ликвидирована самостоятельность Пскова, в 1514 г. был воссоединен Смоленск, в 1517–1521 гг. в состав Русского централизованного государства вошло Рязанское княжество. Эти территориальные Присоединения теснейшим образом были связаны с внешнеполитическими акциями Русского государства, его борьбой на юге, востоке и западе против Литвы, Польши, Казани и Крыма.
К сожалению в отечественной историографии этим событиям уделено незаслуженно малое внимание, о первой трети XVI в. написано сравнительно немного работ, хотя этот период, совпавший с годами великого княжения Василия III, насыщен многими важными событиями. Автор ограничился изучением лишь наименее исследованного вопроса: политикой России в Прибалтике, где завязался наиболее тугой и, пожалуй, наиболее сложный узел противоречий. Здесь, как в капле воды, отразились проблемы, которые волновали на протяжении десятилетий не только Россию, но и многие страны Центральной Северной и Восточной Европы. Не случайно этот регион и в последующей отечественной истории не раз будет горячей точкой политики, столкновения интересов многих европейских государств вплоть до настоящего времени. Тогда же Прибалтика стала ареной борьбы России с Литвой, Польшей, Ливонией, Пруссией и Швецией за ранее отторгнутые западные земли.
Для правильного понимания обстановки, сложившейся в Прибалтике к началу XVI в. необходимо хотя бы кратко остановиться на исторических предпосылках возникновения этой ситуации.
В 1202 г. ливонский епископ Альберт Буксгевден добился у папы Иннокентия III разрешения основать, в Прибалтике новый рыцарские орден из немецких дворян, постригшихся в монахи. Орден в Ливонии получил при основании название — «Братья рыцарской службы Христа», но вскоре распространилось другое его название — «Орден Меченосцев», ибо его рыцари имели красный крест и красный меч на белом плаще.
В 1230 г. на берега Вислы прибыл еще один немецкий рыцарский орден Тевтонский. Его глава — великий магистр Герман фон Зальца — привел своих рыцарей по просьбе мазовецкого герцога Конрада. С этого времени над народами Польши, Руси и Юго-Восточной Прибалтики повис тяжелый рыцарский меч, осененный черным крестом.
Рыцарские немецкие ордена, созданные для завоевания земель, населенных народами, не исповедывавшими христианство в его католической форме, были отрядами чужеземцев-разбойников, силой утверждавшихся на занятых землях. Они мало чем отличались от своих крестоносных собратьев, рассеянных по Европе и Азии.
Папа Иннокентий III, стоявший у колыбели рыцарского ордена в Ливонии, ввел в его устав обет: «посвящать всю свою жизнь борьбе с неверными». Рыцари ордена никогда не могли находиться даже формально в состоянии мира с «неверными»: они имели право только на заключение с ними временных перемирий.
Эта воинственность и непримиримость привела к тому, что через тридцать четыре года после возникновения орден «Братьев рыцарской службы Христа» прекратил свое существование: 22 сентября 1236 г. в битве при Сауле — ныне Шяуляй — литовцы наголову разгромили его войско.
Менее чем через год, 12 мая 1237 г., в Витербо папа Григорий IX и великий магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальца совершили торжественный акт слияния жалких остатков ордена «Братьев рыцарской службы Христа» с Тевтонским орденом. Два ливонских рыцаря, присутствовавших на церемонии, сняли свое прежнее одеяние и надели белые плащи с черными крестами тевтонов.
Магистр Тевтонского ордена в Ливонии подчинился великому магистру Ордена, находившемуся в Пруссии. В отдельные периоды магистры Ливонии были в большей или меньшей степени самостоятельны, но никогда не выходили из подчинения великим магистрам полностью, ибо военная организация Ордена и церковный устав строго охраняли принцип единоначалия и подчинения младших сановников ордена старшим.
Та часть Тевтонского ордена, которая размещалась в Ливонии, была ударным рыцарским отрядом в XIII–XIV вв., постоянно воевавшим против России и ни на минуту не выпускавшим оружия из рук. Немецкий историк Курт Форштройтер, тщательно изучивший вопрос русско-орденских отношений в книге «Пруссия и Россия. От начала Тевтонского ордена до Петра Великого», писал что «для ЛИВОНИИ РОССИЯ являлась главным противником. Отношения Ливонии к русским государствам составляют сущность всей внешней политики Ливонии в средние века. И если мы захотим сущность отношений Тевтонского ордена к России, мы должны будем заняться сущностью этих отношений с Ливонией. Следовательно, это относится также и к взаимоотношениям между Пруссией и Россией».
На протяжении нескольких веков Тевтонский орден в Ливонии сражался главным образом против русских, в то время как братья-рыцари, находившиеся в Пруссии, считали своим наиболее опасным врагом поляков.
В момент слияния двух рыцарских орденов в один — Тевтонский — Русь подверглась страшному удару монголо-татарских орд. В бурном море жестокого погрома, захлестнувшего Русь, только два острова — Новгород и Псков остались относительно свободными территориями. Используя разруху и слабость Руси, попавшей под татарское иго, немецкие рыцари направили все свои усилия на подчинение этих городов. Непосредственно граничивший с псковскими владениями Тевтонский орден видел в русских своих главных врагов. Только победоносная для русских битва на Чудском озере в 1242 г. остановила крестоносцев. Ледовое побоище заставило членов орденского капитула изменить генеральное направление своей экспансии. Главные усилия крестоносцы направили на покорение коренных народов Прибалтики. В землях пруссов, эстов и ливов возникали все новые и новые орденские замки.
Медленно, но неуклонно продвигались крестоносные отряды во все стороны от своих замков. К концу XIII в. пруссы были полностью истреблены. Фиговый листок христианского миссионерства был сброшен — на очереди оказалось Польское Поморье. И в 1343 г. католическая Польша потеряла эту свою исконную территорию. Следующий удар тевтоны нанесли по Литве. На протяжении 70 лет, до десятилетнего перемирия 1379 г… Тевтонские орден вел беспрерывную воину с Литвой. Однако с каждым годом орден сталкивался со все большими трудностями: росло могущество молодой державы Гедимина и Ольгерда. Уния Литвы и Польши, заключенная в 1385 г., поставила Тевтонский орден в еще более трудное положение и заставила пересмотреть и частично изменить методы и цели внешней политики.
Начиная с 80-х годов XIV столетия и вплоть до битвы при Грюнвальде, главной задачей Тевтонского ордена стала вооруженная борьба с Великим княжеством Литовским и поддержка сепаратистских течений внутри Литвы, а также и, впрочем, эпизодическое участие в антирусских походах, предпринимаемых литовскими феодалами.
Впрочем, множество походов Ордена на Литву объективно способствовало сохранению независимости западно-русских княжеств, которые в противном случае стали бы легкой добычей польско-литовских феодалов. Может быть, отсутствие орденского противовеса в начале XVII века позволило полякам и литовцам совершить небывало глубокую агрессию, в ходе которой ими была захвачена даже Москва, а короли Речи Посполитой стали серьезными претендентами на российский трон.
Но это происходило в XVII веке, а до начала XV столетия обстановка была совершенно иной. И лишь сокрушительный разгром Тевтонского ордена на Грюнвальдском поле в 1410 г. положил начало новому периоду в истории отношении Тевтонского ордена с балто-славянским миром. Рыцарям оставалось лишь терпеливо ждать удобного случая, чтобы нанести удар своим победителям и снова стать полновластными хозяевами Прибалтики и польского Поморья. И они преуспели в свеем ожидании. Это случилось потому, что победа, одержанная польско-литовско-русскими отрядами под Грюнвальдом, еще не означала полного поражения рыцарей. Великий магистр Тевтонского ордена Генрих Фон Плауэн удачно избежал не только ликвидации ордена, но и значительных территориальных уступок.
Уже в 1425 г. литовский князь Витовт, планируя поход против Пскова, обратился за помощью к гроссмейстеру Тевтонского ордена Паулю фон Руссдорфу, а также к магистру в Ливонии и прелатам Риги и Дерпта. Участвовал Тевтонский орден и в войне 1444–1448 гг. против Новгорода. Именно тогда великий магистр Тевтонского ордена предпринял шаги по созданию широкой антирусской коалиции, в которую удалось вовлечь Данию, Швецию и папский престол. Псковская летопись сообщает, что война велась «противу князя ризского местера, и против короля Пружского, и противу короля Свейского Карла».
В этой войне Новгород в последний раз выступал как самостоятельная политическая сила. После ее скончания и подписания Яжелбицкого мира за спиной Новгорода встала мощь Москвы, а в 1460 г. под высокую руку великого князя Василия II отошел и Псков. Таким образом, натиск немецких феодалов, обосновавшихся в Прибалтике, наталкивался отныне на общерусские силы во главе с Москвой.
«60–70-е годы, — отмечал профессор К. В. Базилевич, — были подготовительным периодом для того широкого развития, которое приняла внешняя политика Ивана III в конце XV века. Главной целью ее является воссоединении всей Руси под Московской державой. Иван III приступил к выполнению этой задачи после того, как путем подчинения Казанского ханства обеспечил безопасность на восточной границе, а на южной — связал „Ахматовых детей“ своим союзником и их злейшим врагом Менглы-Гиреем. Это позволило Ивану III свободно распоряжаться основными силами на западной и северо-западной окраинах и перейти к наступательным действиям против великого княжества Литовского, Швеции и Ливонского ордена». Однако дальнейший процесс объединения разрозненных русских княжеств вокруг Москвы натолкнулся на решительное сопротивление Польско-Литовского государства, в состав которого входило множество исконно русских территорий. Притязания на них привели к вековой борьбе двух соседних государств. Академик В. О. Ключевский писал, что при Иване III и его двух ближайших преемниках «Из 90 лет не менее 40 ушло на борьбу с Литвой и Польшей».
Роковую роль в этой борьбе играл Тевтонский орден — хотя эта сторона его деятельности еще не была достаточно подробно освещена. Гроссмейстеры Тевтонского ордена понимали, что их государство, может существовать лишь пока существует вражда между Россией, Литвой и Польшей. Поэтому все усилив орденского капитула постоянно направлялись на разжигание вражды между этими государствами Зажатый между Польшей, Литвой и Россией Тевтонский орден мог рассчитывать только на антагонизмы между ними. В то время как молодое Русское государство, набирая силы, подчиняло себе старые феодальные княжества и сдерживало натиск воинственных соседей на востоке и западе, Тевтонский орден в Пруссии переживал тяжелый кризис, завершившийся длительной, неудачной для рыцарей войной 1453–1466 гг.
Война выявила глубочайшие антагонизмы, издавна раздиравшие прусское общество изнутри. Еще в феврале 1440 г. в городе Мариенбурге, старой резиденции гроссмейстеров ордена, часть прусского дворянства и представители городов образовали лигу, названную «Прусским союзом». Лига потребовала для бюргеров и дворянства равных прав с членами Ордена. В ответ германский император и папа объявили, что «Прусский союз» противен законам божеским и человеческим. Тогда 4 февраля 1454 г. дворяне города Торуни объявили себя свободными от всех обязательств по отношению к ордену и начали войну против ненавистных им тевтонских рыцарей. На их сторону встали поляки и 23 мая 1454 г. польский король Казимир IV торжественно вступил в Торунь.
Война, длившаяся 13 лет, закончилась в 1446 г. еще одним, на сей раз полным поражением Тевтонского ордена. Его гроссмейстер становился вассалом польского короля и, таким образом, связь Тевтонского ордена с Германской империей (Священной Римской империей германской нации) номинально и юридически прекращалась. Новый правовой статус Тевтонского ордена в Пруссии отразился и на характере его отношений с Ливонией. Ослабление позиций гроссмейстера Тевтонского ордена в Пруссии уменьшило и зависимость от Кенигсберга магистра Ливонии.
В эти же годы на юго-востоке Европы происходили еще более важные события, повлиявшие на судьбу многих государств континента. В 1453 г. под ударами Османском империи пала Византия. Центр православия переместился в Россию. К ней было приковано внимание европейских государей. Германский император, римский папа, короли Швеции и Дании стали учитывать в своей внешней политике русский фактор. Не прошли все эти изменения незамеченными и со стороны гроссмейстеров Тевтонского ордена.
В свою очередь русские государи Иван III и его сын Василий III пристально следили за событиями в Западной Европе. К началу XVI в. в Прибалтике кроме рыцарей Тевтонского ордена большой вес приобрело местное бюргерство, тесно связанное с Ганзой, наметились резкие расхождения между братьями-рыцарями и светским прибалтийским дворянством. Разногласия внутри, правящего класса духовных и светских феодалов усугублялись волнениями крестьян и ремесленников. Пестрое ливонское и прусское общество, состоявшее из разнородных социальных элементов, не было единым в вопросах внешнеполитической ориентации — каждая прослойка имела свои собственные представления о целесообразности того или иного союза, или договора. Чаще всего бюргеры Прибалтики ориентировались на Ганзу, духовенство — на Ватикан, рыцарство было склонно поддерживать германского императора. Эти симпатии и привязанности не были постоянными: политическая борьба, экономические и сословные интересы часто заставляли участников событий менять фронт, но все же внешнеполитическое влияние в этом районе сказывало существенное воздействие на ход истории. И поэтому русские государи, проводя в Прибалтике свои внешнеполитические мероприятия, должны были непременно учитывать все это.
Глава первая РУССКО-ЛИВОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ во второй половине XV века
К середине XV в. Москва закончила изнурительную междоусобную феодальную войну, длившуюся более двадцати лет и, присоединив мятежные удельные княжества, значительно усилила влияние на Тверь, Рязань, Новгород и Псков.
Утвердившийся в 1462 г. на великокняжеском престоле Иван Васильевич III начал свое правление в относительно спокойной обстановке. Между тем на юге в 1464 г. произошло столкновение двух татарских орд: Большой и Крымской и, по выражению летописца, татары «начаша воевати промежь себе и такс бог избави Рускую землю от поганых». На западе польский король Казимир IV Ягеллон с 1454 г. вел беспрерывную войну с Тевтонским орденом в Пруссии. Орден в Ливонии в это время ввязался в борьбу между бюргерством Риги и архиепископом Сильвестром.
Таким образом, внешнеполитическая обстановка на юге и западе в первые годы правления Ивана III была для России благоприятной.
Это позволило великому князю нанести первые удары по Казани в 1467–1469 годах, а затем осенью 1469 года. В результате казанские татары до 1478 г. не предпринимали никаких враждебных действий против Москвы.
Обезопасив себя на востоке, Иван III предпринял активные действия против независимого Новгорода. В Псков в конце 1470 г. отправилось посольство. «В рождественское говение приехал послом от великого князя с Москвы Ивана Васильевича всея Руси боярин его Селиван поднимати псксвичьна Великой Новгород», — записал псковский летописец.
Любопытно, что через два месяца после этого в Псков «приездил посол от князя местера из Рыге, брат его Пантелеи». Видимо, Панталеон фон Герзе приезжал, чтобы на месте собрать информацию о планах и замыслах Ивана III и встречался с той частью правящей верхушки Пскова, которая придерживалась проливонской ориентации.
В конце июня 1471 г. рать Ивана III подошла к Волоку Дамскому, чтобы затем стремительным броском выйти к Новгороду. Новгородские бояре-сепаратисты оказались к этому времени в полной изоляции: псковичи, вопреки желанию части своей старшины, поддержали великого московского князя и выслали войска на помощь Ивану III. Польский король, занятый династической борьбой в Чехии и Венгрии, не имел возможности поддержать враждебное Ивану III новгородское боярство, а литовцы остерегались восстания своих собственных православных подданных.
После разгрома Иваном III новгородцев на реке Шелони 14 июля 1471 г., они отправили в Литву посла, для того чтобы, как сообщает летописец, «король всел на конь за Новгород; и посол ездил кривым путем в немцы, до князя немецкого до местера (магистра) и возвратися в Новгород, глаголюще, яко: „местер не дает пути чрез свою землю в Литву ехать“». Эта подробность, свидетельствует о вполне определенной позиции Ливонского магистра Тевтонского ордена. По-видимому, он спасался союза Литвы с Великим Новгородом.
Дело в том, что после окончания 13-летней войны Польши с Тевтонским орденом в 1466 г. был подписан, крайне невыгодный для крестоносцев договор. Как и после разгрома при Грюнвальде, договор был подписан в Торуни. Поляки отобрали у ордена Западную Пруссию с городами Гданьском и Эльблонгом. Сложившиеся взаимоотношения великого магистра ордена и польского короля Казимира IV не могли не отразиться и на взаимоотношениях между Ливонией и Литвой. Магистр Иоганн Вольттус фон Гёрзе спасался усиления Литвы и Новгорода за счет их союза, ему выгоднее было самому укрепить свое положение, поддержав новгородских бояр-сепаратистов. Поэтому он и не пропустил новгородского посла в Литву.
Магистр, по-видимому, готов был предложить помощь Новгороду в борьбе претив Ивана III. Во всяком случае, в письме к великому магистру Гейнриху Рефлину фон Рихтенбергу от 13 августа 1471 г. фон Герзе обращает внимание на то, что если «князь московитов» овладеет Новгородом, то немцам будет грозить большая опасность. В другом письме от 15 августа магистр подтверждает готовность заключить договор «против короля Московского и его союзников» и просит послать на помощь Ливонии вооруженные отряды из Пруссии. Однако планам фон Герзе не суждено было осуществиться.
Вторая попытка вмешаться во внутренние дела русского государства была предпринята ливонцами в аналогичной обстановке в 1477 г. 31 мая в Новгороде снова начался мятеж. Все лето у Ивана III прошло в сборах и подготовке к походу, и лишь 9 октября московское войско двинулось к Новгороду. 14 декабря взбунтовавшаяся «отчина» была приведена к покорности: вечевой колокол был снят, посадничество ликвидировано и Иван III в Новгороде «стал держать свое государство».
Присоединение Новгорода к Москве было сильнейшим ударом по планам магистра Тевтонского ордена в Ливонии и короля Польши, устремления которых к тому времени совпадали. В начале 1478 г. новый магистр Бернгард фон дер Борх предпринял дерзкую вылазку против Пскова. Однако Ивану III оказалось достаточным направить в Ливонию «охочих воев», чтобы отрезвить рыцарей.
Магистр фон дер Борх понял, что борьба с русскими требует консолидации всех сил, враждебных Ивану III. Весной 1478 г. он выразил готовность объединить усилия с Казимиром IV, который собирался начать войну с Иваном III из-за того, что православное русское население Полоцка, Витебска и Смоленска намеревалось перейти под руку Москвы. Война с Россией была нужна магистру еще и для укрепления своего положения внутри собственной страны и привлечения к себе внимания папы и императора.
Дело в том, что более ста лет между архиепископами Риги и магистрами Тевтонского ордена в Ливонии шла борьба за влияние на горожан Риги. В 1452 г. архиепископ Сильвестр и магистр ордена Иоганн фон Менгенде подписали в Кирхгольме договор, представляющий обеим его участникам равные права по отношению к городу. И магистр и архиепископ могли теперь на паритетных началах чеканить собственные деньги, принимать присягу в верности от граждан Риги, требовать содействия в случае войны и т. д. Благодаря этому Рига, по сути дела, освободилась и из-под власти магистра и из-под власти архиепископа и на протяжении почти: сорока лет успешно противостояла и тому и другому. Но в начале 1479 г. магистр Тевтонского ордена в Ливонии Бернгардт фон дер Борх со своим двоюродным братом Симоном фон дер Борх захватили замок Рижского архиепископа Сильвестра, арестовали престарелого прелата и заключили его в темницу. Равновесие сил, установившееся в Ливонии после подписания Кирхгольмского договора, нарушилось. Симон фон дер Борх, занимавший до пленения Сильвестра епископскую кафедру в Ревеле — ныне Таллин, — немедленно перебрался в Ригу и занял архиепископский дворец Салин. Он начал вести себя как неограниченный, властитель, не дожидаясь даже формального утверждения в сане архиепископа от папы. Поэтому Бернгардт фон дер Борх 25 января 1479 г. направил великому магистру письмо с просьбой склонить папу к признанию господства Тевтонского ордена над архиепископом и городом Ригой. С такой же просьбой фон дер Борх намеревался обратиться к императору Фридриху III Габсбургу и королю Венгрии Матвею Корвину. Фон дер Борх утверждал, что предпринятые им действия укрепили Ливонию и что теперь ей легче будет силой принудить, великого Московского князя к единению с Римской церковью. Но даже столь благочестивые мотивы не убедили папу Сикста IV в справедливости и целесообразности действий, предпринятых братьями фон дер Борх. Не помогло и письмо великого магистра с ходатайством перед папой дать Симону сан архиепископа.
19 августа 1479 г., узнав о смерти архиепископа Сильвестра (по слухам, он был отравлен в темнице Кокенгузена клевретами. братьев фон дер Борх), Сикст IV издал буллу об отлучении от церкви «сына зла» магистра Бернгардта и всех его сторонников. На место умершего Сильвестра папа назначил архиепископом Риги бывшего орденского прокуратора в Риме епископа Стефана фон Грубе. Все это крайне осложнило положение Бернгардта фон дер Борха и заставило его предпринять энергичные поиски союзников в войне против русских.
13 августа 1479 г. из Дерпта в Ревель было отправлено письмо с вопросом: возможно ли рассчитывать на содействие ганзейских купцов в предстоящей войне со Псковом? 17 августа в Ревель было направлено еще одно письмо, в котором сообщалось, что на съезде представителей Дерпта и Ревеля было решено отправить на озеро Пейпус (Чудское) вооруженных людей.
1 января 1480 г. немцы напали на псковские земли и развязали порубежную войну, длившуюся белее двух лет. В ходе этой войны фон дер Борх предпринял несколько попыток расширить антирусскую коалицию за счет поляков, шведов и Германской империи.
В мае он отправил в Краков к королю Казимиру IV Ягеллону своего посла, однако король весьма сдержанно отнесся к просьбе магистра о помощи. Он был поставлен перед дилеммой: либо оказать помощь Ордену в войне против Пскова, а значит и против великого Московского князя, либо — помочь Пскову в борьбе с Орденом. Ни то, ни другое не входило в планы польского короля. Казимир выжидал, надеясь, что в Пскове возьмет верх пролитовская партия и тогда он сможет предстать перед псковичами, в роли защитника от всех посягательств. Овсе нежелание вмешиваться в русские дела Казимир демонстрировал и раньше. В начале 1480 г., во время пребывания Ивана III в Новгороде, за помощью к польскому королю обратились два великокняжеских брата — Борис и Андрей. Они подняли мятеж против великого Московского князя, вместе со своими дворами и семьями перешли в Великие Луки и ударили Казимиру челом, чтобы он «управил их в обидах с великим князем».
Казимир не стал вмешиваться в русские дела. Он пожаловал «на прокормление» женам Бориса и Андрея город Витебск, но отговорил мятежных князей выступать против брата. Поведение Казимира свидетельствовало нежелании обострять отношения с Иваном III. Более того, даже в грозную осень 1480 г., когда на восточных границах Руси встала Большая орда хана Ахмата, Казимир сохранил нейтралитет.
Видимо, в Ливонии. не пеняли, что вмешательство Казимира IV в русские дела было не эпизодом, а четко прослеживаемой политической линией.
Еще до начала военных действий против Пскова фон дер Борх заметно оживил сношения с великим магистром Ордена. Их довольно обширная переписка свидетельствует о самых тесных контактах между Ливонией и Пруссией, о политической, экономической и военной поддержке, оказываемой Кенигсбергским капитулом своему Ливонскому филиалу. Не было ни одной серьезной военной операции, о ходе или подготовке которой не извещался бы Кенигсберг. Например, в самые первые дни войны фон дер Борх не только информировал великого магистра Ордена фон Вецгаузена о нападении ливонских отрядов на Вышгородок, но и сообщал о планах готовящегося похода против Гдова. Правда, нападение на Гдов 20 января 1480 г. было отбито объединенным московско-псковским войском. Вскоре, по сообщению Псковской летописи, русские ратники «поехали ко Пскову все добры здоровы со многим добытком». Ухудшение положения заставило фон дер Борха немедленно просить у великого магистра денежного кредита и сказания немедленной военной помощи против отрядов князя Андрея Никитича Оболенского, вторгшихся под Юрьев.
Ливанский магистр самым подробным образом извещал фон Вецгаузена и о летнем походе против Пскова, предпринятом во второй половине августа 1480 г. На все свои письма фон дер Борх получал ответы великого магистра, выдержанные в самом благожелательном духе. К сожалению, для фон дер Борха дело тем и ограничивалось, ибо общее состояние Тевтонского ордена в Пруссии было таково, что оказать серьезную помощь Ливонии си не мог. Кенигсбергский капитул вынужден был считаться с внешнеполитическими планами короля Казимира IV, ибо как раза это время Орден довольно послушно шел в фарватере польской политики, не имея сил на прямое противодействие Польше.
А тем временем, в феврале 1481 г., двадцатитысячная рать Ивана III тремя отрядами вторглась в Ливонию и за четыре недели сожгла замок Феллин и взяла крепости Роннебург, Каркус и Тарваст. Оценивая результаты этого похода, летописец писал: «и поможе бог во всяком месте воеводам князя великого и псковичам и отмстиша немцам за свое и вдвадесятеро, али и боле».
В создавшейся обстановке магистр Ливонии вел себя далеко не лучшим образом. Он бросил на произвол судьбы замок Феллин и сбежал под защиту рижских стен за день до того, как подошли русские войска. Находясь в Риге, фон дер Борх не вышел навстречу русским, в страхе наблюдая за тем, как шли по земле Ливонии полки Ивана III. Тем самым магистр вызвал против себя недовольство всех сословий Ливонии.
Его послы Гердт фон Маллинграде и Иоганн фон Браме выехали в апреле 1481 г. в Кенигсберг, Здесь они имели аудиенцию у великого магистра, но результаты ее оказались более чем скромными: фон Вецгаузен и на этот раз ограничился обещанием послать небольшой отряд для войны против русских. Далее послы отправились к германскому императору Фридриху III. Последний признал Берндта фон дер Борха имперским князем и дал ему гроссмейстерские прерогативы, подчинив его власти и Ригу и Рижское архиепископство. В письме к папе Сиксту IV император просил признать Рижским архиепискспством двоюродного брата магистра — Симона фон дер Борх.
Решения императора не встретили никакой поддержки среди горожан Риги, тем более, что в памяти у всех еще было живо позорное поведение магистра во время недавнего приступа русских ратей. Зато они решительно поддержали посланца папы Сикста IV, который наконец-то добрался до Риги с папской буллой об отлучении Берндта фон дер Борх от церкви. Папская булла вменяла в обязанность всем верующим оказывать неповиновение магистру и выступить против него с оружием в руках. Горожане Риги поддержали архиепископа Стефана и даже произвели нападение на замок фон дер Борха. Внутренние усобицы, вспыхнувшие в Ливонии, заставили рыцарей ордена просить у русских мира. Воскресенская летопись сообщает, что этот мир был заключен в 1482 г. под Нарвой.
Стабилизация внутреннего положения в Ливонии стала возможной благодаря мирным отношениям с Россией. Договор, подписанный в 1482 г., входил в так называемый «Данилов мир», заключенный в 1474 г. между Псковом и орденом при участии великокняжеского воеводы Даниила Дмитриевича Холмского. И хотя в 1482 г. мир был заключен на десять лет, фактически он сохранялся до 1494 г., ибо именно в этом году истекал срок действия «Данилова мира». Таким образом, ливонцы могли не спасаться русского вторжения до истечения этого срока. Они этим воспользовались. С 1482 г. все силы Ордена в Ливонии были брошены на борьбу с горожанами Риги. Она продолжалась до 1491 г. После неудачной для рижан битвы под Нойермилленом Рига вновь подпала под власть магистра и архиепископа, заключив тяжелый для города Вольмерский договор.
Мы познакомились с некоторыми сторонами общеполитической обстановки, сложившейся в юго-восточной Прибалтике в 1477–1490 гг. Была еще одна их особенность. Орденские сановники пытались вовлечь в ливонско-русский конфликт губернатора Швеции Свена Стуре Старшего. Из письма фон дер Борха великому магистру мы узнаем, что после того, как русские побили шведов, последние захотели объединиться с Ливонией и стали усиленно искать союза с Орденом претив великого князя Московского. Фон дер Борх писал далее, что и он не прочь бы сделать это, но хочет присоединить к антирусскому союзу еще и Великое княжество Литовское. В ходе войны Свену Стуре не удалось консолидировать свои усилия с фон дер Борхом, но магистр понял, что он может рассчитывать поддержку губернатора Швеции. Благодаря постоянным контактам с Ливонией знал об этом и великий магистр Тевтонского ордена. В 1484 г. он решил использовать шведско-русский антагонизм с пользой для Ордена. Через капеллана Свена Стуре великий магистр предложил губернатору Швеции отдать шведскую корону сыну польского короля Казимира IV Сигизмунду. За это великий магистр хотел бы получить обратно земли Западной Пруссии, отошедшие к Польше по Торуньскому миру 1466 года. Швеция же благодаря этому сможет успешно бороться с русскими, ибо ее обязательно поддержат и Польша, и Тевтонский орден, который, получив обратно Западную Пруссию, станет значительно сильнее.
Фон Вецгаузен, делая такое предложение Свену Стуре, по-видимому, решил сыграть на том, что Казимир IV к этому времени стал ревностным поборником полуфантастической идеи: создать в центре Европы могучую коалицию государств во главе с королем Польши, все участники которой происходили бы из дома Ягеллонов. По замыслу Казимира, престолы Центральной Европы должны были принадлежать его пяти сыновьям. (Всего у Казимира было шесть сыновей, но один из них умер в 1483 г.). План Казимира выглядел следующим образом: 29-летнему Владиславу предназначалась корона Чехии, 25-летнему Яну-Ольбрахту — корена Польши, 24-летнему Александру — престол Великого княжества Литовского, 17-летнему Сигизмунду — престол господаря Молдавии и 16-летнему Фридриху — сан великого магистра Тевтонского ордена. План этот был более всего уязвим в двух последних пунктах: молдавский воевода Стефан никогда бы и никому не уступил своего престола, а за спиной Тевтонского ордена стояла империя Габсбургов, всемерно оберегавшая эту немецкую колонию в Прибалтике. Фон Вецгаузен, по-видимому, зная это, и предложил Свену Густавсону Стуре кандидатуру 17-летнего польского принца, тем более, что и губернатор Швеции был весьма заинтересован в поддержке дома Ягеллонов. И все-таки Свену Стуре реализация этого плана, по-видимому, показалась довольно опасной, потому что последствия польского вмешательства в дела Швеции могли оказаться самыми неожиданными. План фон Вецгаузена вследствие всего этого потерпел неудачу.
Таким образом, борьба Русского централизованного государства с Тевтонским орденом в Ливонии повлекла за собой целый ряд внешнеполитических акций, в которых приняли участие Германская империя и ганзейские города, Тевтонский орден в Пруссии и маркграфство Бранденбургское, Польша, Великое княжество Литовское и Швеция. Противники Русского государства определенным образом пытались использовать и антиправительственные элементы внутри России. Консолидация внешних и внутренних врагов России была бы серьезнейшим ударом по Русскому государству. Но противоречия между западными соседями России и внутренние трудности в большинстве этих государств не позволили окончательно оформить антирусскую коалицию.
Глава вторая ПОЛИТИКА ИВАНА III В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКЕ в конце XV — начале XVI веков
Ивану III не трудно было заметить, что внутри намечающейся антирусской коалиции существовали по меньшей мере три самостоятельных центра. Во-первых, это — Польско-Литовское государство, во-вторых, — конгломерат из немецких элементов Прибалтики, в-третьих, — Швеция. Между ними постоянно существовали неразрешенные проблемы и трения, да и внутри них никогда не было полного единства.
Польско-Литовское государство, состоявшее из двух частей, представляло собой, далеко не лучший образец федерации. Как отмечал выдающийся русский историк С. М. Соловьев, в годы правления Ивана III «король польский и великий князь Литовский занят внутри разделением между Польшею и Литвою, разделением, господствующим под видом соединения». Это «разделение, господствующее под видом Соединения», было следствием различных интересов польских и литовских феодалов во внешней политике. Если поляки белее всего были заняты отношениями с Тевтонским орденом в Пруссии и борьбой за усиление своего влияния в Венгрии и Чехии, то магнаты Литвы требовали активной политики на Востоке, направленной на сохранение огромных земельных владений в западных русских областях.
Тевтонский орден в Ливонии во второй половине XV в. переживал глубокий внутренний кризис. Ливонские сословия вступили в ожесточенную борьбу друг с другом. Против магистра и прелатов католической церкви выступили горожане Ливонии, поддержанные частью дворянства. В ходе борьбы Орден нередко оказывался в полной изоляции: иногда даже прелаты выступали заодно с враждебными ему сословиями. Значительную самостоятельную силу в Ливонии представляли и ганзейские торговые города, интересы которых очень часто расходились с интересами Ордена. Влиятельным политическим элементом в юго-восточной Прибалтике было, наконец. Рижское архиепискспство. В процессе ожесточенной внутренней борьбы возникали самые неожиданные комбинации и сочетания среди политических соперников, но чаще всего прелаты все-таки блокировались с Орденом, выступая общим фронтом против горожан. Последние же, в свою очередь, искали поддержки у своих собратьев по Ганзейскому союзу.
Своеобразную политику проводили и номинальные сюзерены Ордена в Ливонии — великие магистры в Пруссии. Заинтересованные в укреплении собственных позиций и более всего занятые отношениями с Польшей, они были заинтересованы в консолидации всех консервативных элементов юго-восточной Прибалтики. Поэтому чаще всего великие магистры старались проводить компромиссную линию, примирял враждующих между собой магистра Ливонии и архиепископа. Что же касается антирусской политики, то Тевтонский орден в Пруссии ограничивался присылкой в Ливонию денег, оружия, фуража и небольших воинских отрядов, перенося центр тяжести на дипломатическую поддержку Ордена в Ливонии при европейских дворах и в Ватикане.
Орден опирался на помощь германских императоров, в то время как архиепископов поддерживал Ватикан. Следовательно, борьба Ордена с архиепископами была в известной мере отражением борьбы пап с императорами, а союз между Орденом и архиепископами — отражением обратных тенденций во взаимоотношениях Габсбургов с Римом.
Наконец, внутреннее положение в Швеции определялось борьбой феодальных группировок, поддерживавших Свена Стуре и сил, враждебных ему.
Правительство Ивана III должно было учитывать все это при проведении, внешнеполитических мероприятий, в которых прямо или косвенно участвовали западные соседи России.
Анализируя этот период, Н. М. Карамзин писал в своей знаменитой «Истории государства Российского»: «Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице: императоры, папы, короли, республики, цари азиатские приветствуют монарха российского, славного победами и завоеваниями от пределов Литвы и Новгорода до Сибири». Но прежде чем посольства стали являться «одно за другим», на улицах Москвы в 1486 г.
появился первый европейский посол — силезский рыцарь Николай Поппель. Его не сопровождала пышная свита и следом за его конем не везли богатых даров. Он приехал один, странствующим по своей собственной прихоти. Историк К. В. Базилевич считал, что скорее всего приезд Поппеля в Москву в 1466 г. был посвящен выяснению на месте ряда политических проблем, интересовавших германского императора с планами его борьбы за Венгрию и Чехию. Русские летописи и великокняжеская канцелярия не отразили приезда в Москву силезского рыцаря, и это может служить косвенным доказательством того, что его визит носил неофициальных характер. О пребывании Поппеля в Москве нам известно очень немногое, но можно сделать вывод о полнейшей бесплодности его поездки. Чем меньшими были результаты, тем более значительными хотел он их представить императору и курфюрстам, возвратившись обратно в Германию. На съезде князей в Нюрнберге курфюрсты империи, а сын императора Фридриха Максимилиан — очень удивлялись всему, о чем рассказывал Поппель.
Как бы то ни было, но фактом является то, что ловкий силезец сумел предстать перед членами нюрнбергского рейхстага знатоком России и в декабре 1488 г. получил верительную грамоту императора, уполномочивавшую его на ведение переговоров с Иваном III. Поппель должен был добиться согласия Ивана III на коронацию, причем короновать великого Московского князя должен был император. Кроме того, Иван III должен был показать Поппелю свою дочь, на которой Фридрих III намеревался женить одного из своих родственников. Однако миссия Поппеля не ограничивалась только ими.
Любопытно, что если в 1486 г. Поппель ехал через Польшу, то на этот раз его путь лежал через Ливонию. При встрече с магистром ордена Поппелю было сообщено, что Псков «держит за собою земли и воды» Ливонии и беспрерывно на них наступает. Магистр поручил Поппелю передать все это Ивану III и попросить великого князя Московского послать в о Псков «лист», чтобы псковичи не наступали на земли Ливонии. Поппель передал эту просьбу магистра во время аудиенции с Иваном III лично ему, а не боярам и дьякам, что свидетельствует о важном значении, какое придавали просьбе и сам Поппель и те, кто дал ему это поручение.
Обращает на себя внимание и форма русского протокола, отметившего, что это заявление Поппель сделал не как посол императора, а «говорил великому князю от магистра». Просьбу эту Поппель закончил многозначительной фразой, которая резко выделялась из предыдущего контекста и Формой и содержанием:
«…а мы также говорим твоей милости для того, что те немцы Вифлянской земли подданне суть царства государя нашего». Следовательно, Поппель говорил это не только по поручение магистра Ордена в Ливонии, но и подкреплял сделанное заявление ссылкой на то, что ливанцы являются подданными императора.
Отвечавший Поппелю от имени Ивана III дьяк Федор Курицын игнорировал этот пункт и счел уместным обратить внимание императорского посла только на то, что воды и земли псковичи «держат» на основании старых договоров и, следовательно, никакой нужды в посылке во Псков «листа» нет.
Таким образом, вмешательство императорского посла в русско-ливанские отношения никакого воздействия на русскую сторону не оказало. Однако Иван III должен был обратить внимание на то, что через императора можно известным образом повлиять на Тевтонский орден и в Ливонии, и в Пруссии. Поппель недолго пробыл в России. Точная дата его отъезда из Москвы неизвестна, но 22 марта 1489 г., когда из России в империю отправилось посольство Ивана III, силезца в столице уже не было.
Первым русским послом в империю был Юрий Траханиот. К. В. Базилевич, тщательно исследовавший этот сюжет, пришел к выводу, что кроме краткой записи в «Хронике города Шпейера» нет никаких источников о пребывании Траханиота в империи.
Однако, все же можно сделать предположение, что во время переговоров зашла речь и о положении Тевтонского ордена в Пруссии, так как еще до возвращения Юрия Траханиота в Москву Иван III велел Григорию Афанасьевичу Путятину, послу, отправляемому в Польшу «пытати о том», в каком состоянии находятся прусские города, отнятые у ордена королем Казимиром.
Наказ Путятину был дан 22 декабря 1489 г. через полгода после первой встречи Траханиота с Фридрихом III. Известие о ходе переговоров с императором уже должно было достичь Москвы и могло побудить Ивана III заинтересоваться новым обстоятельством, ранее не игравшим никакой роли в русско-польских отношениях.
Внимание Ивана III могло быть привлечено к положению дел в Пруссии в связи с тем, что как раз в начале 1489 г. на верховном капитуле Тевтонского ордена в Радоме состоялись выборы нового великого магистра. На смену умершему Мартину фон Вецгаузену на пост вступил Ганс фон Тифенн. В связи с этим в России могли возникнуть определенные надежды на изменение внешнеполитического курса Тевтонского ордена.
Дело в том, что после подписания Второго Торуньского мира рыцари Тевтонского ордена использовали любую возможность для того, чтобы показать свое решительное несогласие с ним. Особенно ярко это проявилось в середине 70-х годов XV в., когда Тевтонский орден снова выступил с оружием в руках против Польши. Заключив союз с Вармийским епископом, князем Николаем Тунгеном и Венгерским королем Матияшем Корвином, Орден начал войну с Польшей, желая избавиться от условий Второго Торуньского мира. Война закончилась в 1478 г. подписанием перемирия, по которому стороны сохранили статус кво.
После 1478 г. Тевтонский орден не мог более предпринимать сколько-нибудь серьезных попыток избавиться от польской зависимости при помощи оружия и довольно послушно шел в фарватере польской внешней политики. Такой курс был вынужденным и, осуществляя его, немцы поступали вопреки собственной воле. Характерным документом, подтверждающим это, может служить письмо великого магистра фон Вецгаузена от 31 марта 1488 Ливонскому магистру нем фон Вецгаузен горько сетует на то, что он только потому вынужден помогать Польше, что силы его ничтожны, а Орден ко всему прочему обременен многочисленными долгами. Почти в то самое время, когда из-под пера гроссмейстера вышло это письмо, свидетельствующее о крайне жалком положении Ордена, сам автор письма скончался.
Мы уже знаем, кто сменил фон Вецгаузена. Однако события показали, что внешнеполитический курс ордена остается прежним.
Еще находясь в Радоме фон Тифен получил от поляков жалобу на то, что Иван III направляет через Ливадию и Кенигсберг своих посланцев для закупки оружия и военных материалов «во вред христианству». Поляки просили фон Тифена не пропускать через орденские территории русских. Однако дальше обещаний фон Тифена удовлетворить просьбу поляков дело не пошло. Уже через год возвращавшееся из империи посольство Траханиота беспрепятственно проехало по орденским территориям.
Таким образом, можно предположить, что возникновение русско-имперских дипломатических связей пробудило в России интерес к состоянию польско-орденских отношений.
В июле 1490 г. Юрий Траханиот «с товарищи» возвратился в Москву. Вместе с ним приехал императорский посол Георг фон Турн. На аудиенции с Иваном III Турн договорился о подписании союзного договора между Московским великим князем и сыном императора Фридриха III римским королем Максимилианом. Главным условием договора было заявление обеих сторон о взаимной поддержке в борьбе с Ягеллонами. Максимилиан обещал помочь Ивану III в борьбе за западные русские земли, великий Московский князь — в борьбе Габсбургов за «Угорское королевство»-Венгрию. Договор содержал торжественные заверения «стояти заодин и до живота», не только против польского короля Казимира 17, но и против его — детей и сохранять дружественные отношения между Россией и Германской империей как в царствование Ивана и Максимилиана, так и при их детях.
В июне 1491 г. Максимилиан утвердил текст «докончальной» грамоты, однако этим дело не ограничилось. Летом 1491 г. в Россию во второй раз отправился Георг фон Турн, чтобы договориться о конкретных мерах борьбы с Ягеллонами… На этот раз Турн должен был вовлечь Россию в антиягеллоновскую коалицию, во главе которой стоял Максимилиан и в которую, кроме Германской империи, должны были войти Россия, Ливония и Пруссия. Так как между Россией и Германской империей оборонительно-наступательный договор против Ягеллонов уже существовал, главной заботой Турна становилось создание наиболее благоприятной политической и дипломатической обстановки для сближения России с Тевтонским орденом в Ливонии и Пруссии. Турн вновь отправился в Россию, когда внешняя политика Польши испытывала очевидный кризис. Подходило к концу более чем полувековое царствование Казимира IV Ягеллончика, богатое бурными и часто трагическими событиями.
Без более-менее подробного изложения многих событий, предшествовавших этому нельзя будет понять того, что происходило в 90-х годах XV столетия, и почему Турн получил инструкцию во что бы то ни стало добиться положительных результатов. А случилось это потому что именно как раз в это время польско-имперские противоречия обострились до предела. Истоки этого полувекового антагонизма уходили в то время, когда Казимир IV в десятилетнем возрасте в 1440 г. вступил на престол Великого княжества Литовского. Он был младшим сыном знаменитого Ягайло. Литовские магнаты надеялись сделать из него послушную марионетку. Старший брат Казимира Владислав с 1434 г. занимал престол Польши. В 1439 г. Владислав занял и венгерский престол, оказавшийся вакантным после смерти короля Чехии и Венгрии Альбрехта Габсбурга. Владислава Ягеллончика дворяне Венгрии избрали своим королем, прежде всего, потому, что им необходима была помощь Польши в борьбе с турецкой опасностью. Сын Альбрехта Габсбурга — Владислав Постум не был избран на престол Венгрии, хотя по праву наследования имел основания рассчитывать на это. Таким образом, к 1440 г. Ягеллоны оказались на престолах Венгрии, Польши и Великого княжества Литовского. В 1444 г. Владислав Ягеллончик пал в бою с турками под Варной. На польский престол через три года после его смерти вступил семнадцатилетний Казимир IV Ягеллончик. Таким образом, в 1447 г. вновь возникла личная уния между Литвой и Польшей, по которой престолы обеих стран занимал один государь.
Смерть Владислава Ягеллончика повлекла за собой восстановление чешcко-венгерской унии. На престол Венгрии был избран чешский король Владислав Постум в Чехии его называли Ладислав Погробок[1] и, таким образом, с 1444 г. и в Буде, и в Праге сказался один король — представитель династии Габсбургов. В 1454 г. Казимир Ягеллончик женился на сестре Владислава Постума Елизавете, что порождало определенные права для их потомства на наследование и чешского и венгерского престолов.
Между тем за малолетнего Владислава и в Венгрии и в Чехии правили его опекуны. В Буде эту роль исполнял сын национального героя Венгрии Яноша Гунияди Матвей Корвин, а в Праге — глава панов чашников Иржи Подебрад. Они-то и были фактическими правителями Венгрии и Чехии, и поэтому, когда в 1457 г. Владислав Постум скончался, Корвин занял престол Венгрии, а Подебрад был избран земским правителем Чехии.
Сразу же после смерти Постума права на корены Венгрии и Чехии предъявил германский император Фридрих III Габсбург, обосновывая свои претензии родством с умершим Постумом. Однако прочное положение Подебрада заставило императора на время отказаться от притязаний на чешскую корону и признать его в 1460 г. королем Чехии. С Матвеем Корвином император тоже заключил договор, но это произошло тремя годами позже и на совсем иных условиях.
Если Подебрад был признан королем Чехии без всяких оговорок, то Корвин вынужден был заплатить за королевский титул согласием войти в дом Габсбургов. Фридрих III усыновил его и тем самым в случае отсутствия у Корвина мужского потомства престол Венгрии переходил императору или его сыну. Укрепив, таким образом, позиции в Венгрии, император начал войну с Подебрадом. В 1468 г. против Подебрада выступил и Корвин. Одержав ряд побед над своим противником, Корвин в 1469 г. был провозглашен королем Чехии, но с этим решением согласились отнюдь не все чешские паны, а только сторонники Корвина, и вследствие этого в одной части Чехии королем считали Корвина, в другой — Подебрада. Для того, чтобы разгромить Корвина, Подебраду нужна была помощь извне. И он, купил ее дорогой ценой, передав права на престол Чехии не своим наследникам, а тому, кто согласился поддержать его в борьбе с Корвином. Таким союзником оказался Казимир IV Ягеллончик. В 1469 г. чешский сейм признал сына Казимира IV-го Владислава наследником Подебрада.
Вскоре после этого, в 1471 г., Подебрад умер. Дело борьбы против Корвина и поддерживавших его Габсбургов, перешло в руки Ягеллонов. Начиная с этого времени, борьба за Чехию, а вскоре и за Венгрию, стала одной из важнейших внешнеполитических задач польского короля Казимира IV и его сыновей.
Польша в это время находилась в зените своего могущества. По Второму Торуньсксму миру, подписанному в 1466 г., к Польше перешли земли западной, или как ее еще называли, «Королевской Пруссии». Города Гданьск, Торунь, Эльблонг, Щецин и другие стали платить подати не великому магистру Тевтонского ордена, а королю Польши. Сами великие магистры, власть которых распространялась лишь на ограниченные территории, становились вассалами польском короны и присягали на верность примасу или же королю Польши. То, что присягу мог принимать примас Польши, почти сразу же было истолковано орденскими сановниками, как признание того, что сюзереном Ордена стал Ватикан.
Великие магистры Тевтонского ордена пытались любыми способами избавиться от ленной зависимости от Польши или же ограничить ее. Поэтому, когда Казимир IV Ягеллончик начал борьбу за Чехию, у орденских сановников появилась надежда в союзе с Габсбургами и Матвеем Корвином разгромить Польшу и избавиться от условий тягостного Торуньского договора.
После того, как Владислав Ягеллон стал королем Чехии, Казимир IV начал готовиться к воине с претендентами на трон, занятый его сыном. Он вступил в переговоры с враждебными Матвею Корвину феодалами Венгрии, во главе которых стоял крупный магнат Янош Витез. Корвин узнал об этом и, не имея сил бороться на два фронта, предложил Казимиру IV компромисс. Корвин соглашался признать Владислава чешским королем, если Ягеллоны признают за ним право на Венгрию, но Казимир IV ответил отказом и 2 октября 1471 г. отправил в Венгрию свои войска. Поход окончился безрезультатно.
Поспешное возвращение в январе 1472 г. польских войск объяснялось тем, что прусские воеводства и Вармийское епископство, во главе которого стоял немецкий епископ и имперский князь Николай Тунген, вступили в тайные переговоры с Корвином. Выше уже упоминалось о войне, которую Тунген в союзе с Корвином и великим магистром Тевтонского ордена Генрихом фон Рихтенбергом вели против Казимира IV Польский король усмирил взбунтовавшихся рыцарей и в 1478 г. заключил мир с Корвином.
Корвин умер в 1490 г. После его смерти претендентами на венгерский престол оказались: сын Матвея Корвина — Янош, римский король Максимилиан. Габсбург, чешский король Владислав Ягеллон и польский принц — брат Владислава — Ян-Ольбрахт, которому Казимир прочил венгерский престол уже семь лет. Ожесточенная борьба, вспыхнувшая между претендентами, окончилась победой Владислава Ягеллона. Ян-Ольбрахт в 1491 г. отказался от притязаний на венгерскую корону, получив от своего брата титул великого князя Силезии и княжества Глоговское, Опавское и Олесницкое. Максимилиан Габсбург прекратил военные действия только после того, как Владислав Ягеллон 7 ноября 1491 г. специальным договором с Фридрихом III подтвердил, что на него распространяются условия договора 1463 г. и что он вслед за Матвеем Корвином передал наследственные права на Венгрию Габсбургам в случае отсутствия у него мужского потомства.
В то время как в Венгрии и Чехии Ягеллоны добились определенных успехов в борьбе с Габсбургами, их отношения с Тевтонским орденом оставляли желать лучшего. Вступившим на пост великого магистра в 1488 г. Ганс фон Тифен, лишь на первых порах прислушивался к голосу Казимира. Уже через год после своего избрания он дал понять Казимиру, что он хотел бы иметь полную самостоятельность. Так, когда в 1489 г. умер Вармийский епископ Николай Тунген, фон Тифен отказался поддержать кандидатуру Фридриха Ягеллона и многое сделал для избрания Вармийским епископом члена капитула немца Лукаса Ватзельрода.
Таким образом, к концу 1491 г. ни один из наиболее важных внешнеполитических вопросов, стоявших перед Польшей на протяжении половины столетия, не был решен до конца. В июне 1492 г., после пятидесяти двух лет царствования, Казимир IV Ягеллончик скончался. Его сыновья Ян-Ольбрахт, занявший престол Польши, и Александр, ставший Великим князем в Литве, получили в наследство не только короны и скипетры, но и клубок сложных и запутанных проблем, корни которых уходили в минувшие десятилетия.
Как раз накануне этих событий в Москве и появился второй раз императорский посол фон Турн.
Он прибыл в Москву 20 ноября 1491 г., через шесть дней был принят Иваном III. Посол известил великого Московского князя о том, что Максимилиан начал воину против Ягеллонов в Венгрии и о том, что незадолго до его отъезда в Москву у Максимилиана были делегаты западнопрусских городов, просившие, по словам посла, заступничества Габсбургов. Делегаты Торуни, Гданьска и других городов, отошедших к Польше по миру 1466 г., просили Максимилиана взять их «под цесарство» и держать на положении других имперских городов.
Свою просьбу делегаты мотивировали тем, что король Казимир якобы хотел восстановить старые пошлины и налоги, которые взимались еще до подписания Второго Торуньского мира великими магистрами Тевтонского ордена. Максимилиан согласился выполнить просьбу горожан Западной Пруссии и, желая продемонстрировать серьезность своих намерении, послал в Ревель грамоту, которой освобождал великого магистра Тевтунсксго ордена фон Тифена от присяги польскому королю.
Через несколько дней Турн вновь просил аудиенции у Ивана III. На этот раз он сообщил Ивану, что союзники Максимилиана единодушны в своем стремлении начать воину с Польшей и очень рассчитывают на помощь русских. Посол добавил, что Максимилиан будет очень доволен, если великий Московский князь возьмет и Пруссию и Ливонию под свою защиту. Для того, чтобы добиться согласованного решения всех этих проблем, Турн предложил прислать весной 1492 г. московских представителей в Кенигсберг на конгресс. Однако Иван III наотрез отказался от сделанного ему предложения и, таким образом, не сделал ровным счетом ничего, что могло бы усилить Габсбургов в Прибалтике за счет Ягеллонов.
Подводя итоги миссии Турна, можно сказать, что их целью было разрушить руками. Ивана III невыгодный Габсбургам Торуньский мир 1466 года. Но императорский посол не добился этого. Однако несмотря на отказ великого Московского князя принять участке в работе Кенигсбергского конгресса, русский двор сохранил живой интерес к состоянию политических взаимоотношений в юго-восточной Прибалтике.
Следует заметить, что к 1492 г. положение в Ливонии, Пруссии, и Литве заметно стабилизировалось. В Ливонии в 1491 г. после битвы под Нойермилленом, закончившейся победой орденских войск, было подписано так называемое Вольмарское соглашение, вновь ставившее горожан Риги под власть капитула и магистра. Выше уже отмечалось, что известная стабилизация наступила и в Пруссии после того, как в 1489 г. гроссмейстером Тевтонского ордена был избран Ганс фон Тифен. Наконец, в великом княжестве Литовском тоже произошли изменения. Скончавшемуся в июне 1492 г. Казимиру IV Ягеллончику наследовали в Польше — Ян-Ольбрахт, а в Литве — Александр. После многолетнего перерыва Литва вновь получила собственного великого князя. Этот факт означал усиление литовских магнатов и увеличение их давления на королевскую власть в Кракове.
И в Литве и в Ливонии в это время появились различные слухи об угрозе со стороны Московии и о коварных замыслах русских. Пройдя сквозь ливонский и литовский фильтры искаженная информация уходила в Польшу, Пруссию, имперские земли и другие страны Европы. Нередко именно эта информация становилась основанием для решения того или иного вопроса государственными деятелями упомянутых стран в определенном аспекте.
Показателен в этом смысле эпизод, связанный с закладкой Ивангорода. По сообщению Воскресенской летописи, весной 1492 г. русские «заложили град на немецком рубеже, против Ругодива, города немецкого, на реке на Нарове, на Девичьей горе, четвероуголен». Немцы, жившие в Нарве, назвали Иван-город Контрнарвой. Таким образом, с самого начала замысел Ивана III по строительству нового города воспринимался ливонцами как акт, враждебный по отношению к ним. Ливонский магистр Фрейтаг фон Лорингофе известил великого магистра о том, что он намерен собрать ландтаг «из-за великого князя Московского, который имеет враждебные замыслы против Ливадии». Ганс фон Тифен, отвечая магистру Ливадии, настоятельно порекомендовал заблаговременно, еще до начала войны с русскими, просить помощи у ливонских сословий. Он обещал помочь Ливадии, всеми своими силами, если строительство Иван-города приведет к войне с русскими.
В сообщениях фогта Нарвы, направленных магистру Ливонии, известия о ходе работ в Иван-городе стоят впереди всех других новостей. Подобная информация, определенным образом представлявшая русскую политику, способствовала тому, что и великий магистр Тевтонского ордена занял антирусскую позицию. 12 августа 1493 г. Фон Тифен сообщал магистру Ливадии, что Александр Литовский спрашивал у него, в каком состоянии «находятся дела между орденом в Ливадии и его врагами московитами». Причем, тон письма был откровенно враждебен по отношению к русским и из контекста письма можно было понять, что великий магистр с одобрением встретит любые враждебные России акции.
Однако в Москве тогда еще не полностью отождествляли политику Ливонии с политикой Пруссии. Для Ивана III великий магистр Тевтонского ордена был прежде всего врагом Ягеллонов. К поэтому и в 1492 и в 1493 гг. великий Московский князь склонен был видеть в Гансе фон Тифене своего потенциального союзника. Именно этим можно объяснить отправку первого русского посольства в Кенигсберг 25 мая 1493 г.
Отправка русских послов в Кенигсберг была вызвана приездом в Москву варшавского наместника Яна Подоси. Он приехал от Мазовецкого герцога Конрада Пяста для того, чтобы предложить Ивану III союз против Польского короля и великого Литовского князя. Правда, сначала варшавский наместник попросил Ивана III выдать замуж за герцога Конрада свою дочь, но после того, как Иван III не согласился, Ян Подося начал переговоры по второму вопросу, предложив заключить военный союз против «Казимировских королевых детей». Посол заявил, что герцог Конрад подтвердит свое согласие договорной грамотой и что к этому союзу примкнет великий магистр Тевтонского ордена. Великий Московский князь не мог согласиться на сделанное ему предложение о союзе, ибо в Москве ничего не знали о Мазовии и ее властителе. Поэтому, прежде чем заключить союзный договор, в Варшаву было отправлено русское посольство, в составе которого были Василий Григорьевич Асанчюк-Заболотский и Василий Васильевич Третьяк-Долматов.
Русские послы должны были узнать, каковы отношения князя Конрада с «Казимировыми детьми», какое положение занимает он среди других польских князей, велики ли его владения и много ли людей в его княжестве, вместе ли с ним живет его брат, или же он находится «на уделе» и, наконец, в каких отношениях находится Мазовия с «прусским магистром».
За несколько дней до отъезда Заболотского и Долматова из Москвы в Ливонию к магистру фон Лорингофе уехал гонец Федор Аксентьев с просьбой проводить русских дипломатов и мазовецкого посла к великому магистру Тевтонского ордена в Кенигсберг, а при возвращении на родину — до русских границ. Федор Аксентьев должен был дождаться Заболотского и Долматова, по приезде посадить их на корабль, но не в Риге, а в каком-либо другом месте, «чтобы их ход неведом был в Литовском земле». Псковскому наместнику и посадникам тоже было строго наказано сохранять в тайне поездку русских послав в Мазовию.
Заболотскому и Долматову следовало, находясь в Ливонии, подробно узнать о переговорах, которые незадолго до их приезда вел магистр Лорингофе с великим Литовским князем Александром, Затем русские послы должны были направиться в Кенигсберг и там предложить великому магистру поддержку и помадь на случай, если он затеет войну с Польшей.
К сожалению, кроме наказа послам, нет других документов, которые пролили бы хоть какой-нибудь свет на ход и результаты первого русского посольства в Мазовию.
Дети короля Казимира с самого начала своего правления обратили особое внимание на юго-восток, считая борьбу с турецкой опасностью наиболее важной внешнеполитической задачей своих государств. Ян-Ольбрахт и Александр подписали договор о совместной борьбе с османами еще в конце 1492 г. Самой уязвимой стороной этого плана была скудость королевской казны. Яну-Ольбрахту для получения необходимых средств пришлось пойти. на политические уступки своим дворянам. В феврале 1493 г. сейм утвердил ряд чрезвычайных финансовых мер, направленных на то, чтобы выкупить королевские имения и получить необходимые суммы для организации турецкого похода. Великое княжество Литовское и Тевтонский орден в Пруссии должны были поддержать Польшу. Это обстоятельство, по-видимому, и явилось причиной того, что русское посольство не имело успеха при дворе Ганса фон Тифена.
Отказ великого магистра заключить антипольский союз был воспринят Иваном III как доказательство враждебности Ордена по отношению к России. Поэтому в 1494 г. русское правительство закрыло в Новгороде Ганзейский двор, вместе с купцами-ганзейцами были изгнаны и факторы Ордена. Это нанесло серьезный материальный ущерб орденским негоциантам и усилило антирусские настроения среди рыцарей в Ливонии и в Пруссии.
В это же время заметно улучшились русско-датские отношения: в 1495 г. русские отряды двинулись в Карелию и начали там войну с главным противником Дании — шведским губернатором Стуре.
Уже весной 1495 г. шведы поняли, что ситуация очень серьезна. Это заставило Свена Стуре предпринять ряд мер для исправления создавшегося положения. 16 мая 1495 г. послы Стуре выехали в Гданьск, рассчитывая найти помощь против русских у польского короля Яна-Ольбрахта.
8 сентября 1495 г. московские воеводы осадили Выборг, поставив Свена Стуре в еще более тяжелое положение. Следующей весной союзники Стуре активизировались во всех странах. Ганс фон Тифен направил к герцогу Померании Богуславу специальное посольство, которое потребовало для Тевтонского ордена в Пруссии и Ливонии немедленной денежной помощи и присылки военных отрядов.
7 марта 1496 г. магистр в Ливонии Вольфтерфон Плеттенберг потребовал от фон Тифена передачи всех денег и войск, полученных в Померании, в свое распоряжение, заявив, что он намерен употребить их против русских.
В августе 1496 г. Свен Стуре добился больших успехов. В этом месяце шведы разбили русских воевод под Иван-городом и затем захватили крепость. Любопытно, что в письме от 19 сентября 1496 г. Фон Тифен не только известил Плеттенберга о падении Иван-города, но и сообщил о дальнейших шагах, которые шведские военачальники намерены были предпринять. Великий магистр предложил Плеттенбергу обратиться за помощью к императору.
Сам Плеттенберг был настроен еще более решительно, чем его патрон. Даже после заключения перемирия между шведами и русскими в марте 1497 г. Орден продолжал подготовку к войне. В письме от 23 апреля 1497 г. Плеттенберг запрашивал великого магистра Тевтонского ордена, расположен ли император к тому, чтобы соседние с орденом страны и ганзейские города оказали. Ливонии: помощь в борьбе с русскими. Одновременно Плеттенберг просил у великого магистра военную помощь, но фон Тифен смог ее оказать: в Пруссии только что окончилась эпидемия чумы и состояние страны было самым жалким. Кроме того, Тевтонский орден должен был принять участие в турецком походе на стороне своего сюзерена — польского короля. Денег на организацию похода не было и руководители Ордена вынуждены были просить их даже у Плеттенберга, который сам постоянно выступал в роли просителя. Однако Плеттенберг, сославшись на все ту же извечную русскую опасность, отказал в помощи Кенигсбергскому капитулу, ибо в глазах орденских сановников Ливонии русские были опаснее турок, и когда Тевтонский орден оказался перед альтернативой борьбы с теми или другими, предпочтение отдавалось туркам. Можно добавить, что орденские отряды, размещавшиеся в Пруссии, тоже не отправились бы в турецкий поход, если бы не твердая воля Яна-Ольбрахта, который с 1494 г. постоянно воздействовал на великого магистра, принуждая его к участию в этой антитурецкой акции.
В то время, когда происходили все эти события, умер великий магистр Тевтонского ордена Ганс фон Тифен. Его сменил граф Вильгельм Изенбург унд Гренцау. Он принадлежал к знатной фамилии, тесно связанной с Тевтонским орденом. Три его старших брата Вилли, Герлах и Салентин были рыцарямиОрдена. Пойдя по стезе старших братьев, Вильгельм вскоре обогнал их: 25-ти лет от роду в 1495 г. он получил звание великого комтура, а когда фон Тифен скончался согласился занять пост великого магистра лишь временно. Он принял звание штатгальтера, отказавшись от сана великого магистра в пользу саксонского герцога Фридриха, мотивируя свое решение тем, что установление связей с могущественным родом саксонских герцогов будет крайне полезно Ордену. Во время «междуцарствия», пока велись переговоры с Фридрихом Саксонским, Изенбург развернул бурную антирусскую деятельность.
В 1497–98 гг. штатгальтер Изенбург вел оживленную переписку с Максимилианом Габсбургом, имперскими князьями, папой и кардиналами, в которой представлял Пруссию и Тевтонский орден «оплотом и стеной христианства против русских, татар и турок». Осенью 1497 г. Изенбург активно вмешался в переговоры между королем Иоанном Датским и Свеном Стуре. 31 октября 1497 г. он предложил Плеттенбергу немедленно взять на себя роль посредника в датско-шведских переговорах, добиться скорейшего подписания мира между ними, а затем за их счет усилить антирусскую коалицию. В Стокгольме инициатива Плеттенберга встретила полное понимание. 14 мая 1498 г. в Ливонию было послано письмо с предложением заключить союз против русских.
Через год после этого, летом 1499 г. Плеттенберг получил от Иоанна Датского еще одно предложение такого же рода. Осенью 1499 г. в Данию отправилось ливонское посольство во главе с комтуром замка Пярну Эвертом Верникхузеном. В составе посольства были рыцарь Иоганн Плеттенберг и настоятель церкви в Руйене Конрад Симонис. Посольство проследовало через Кенигсберг, где послы обещали извещать орденских сановников о ходе переговоров с королем Иоанном через комтура Кенигсбергского замка Бертольда фон Альтмансхофена.
В ноябре 1499 г. ливонские послы в замке Фленсбург получили аудиенцию у короля Иоанна и добились согласия на заключение двухстороннего союза против русских. В конце 1499 г. Верникхузен, Иоганн Плеттенберг и Симонис вернулись в Ливонию. Ко времени их возвращения магистр Плеттенберг решил расширить антирусскую коалицию за счет вовлечения в ее ряды великого княжества Литовского.
В 1498 г. представители ганзейских городов, приехав в Нарву, начали переговоры с русскими о восстановлении нарушенного в 1494 г. мира. Ганзейцы настаивали на возвращении конфискованных в Новгороде товаров и освобождении купцов, арестованных при закрытии двора Святого Петра.
В свою очередь, русские требовали удовлетворения за ущерб, который потерпели русские купцы в Ливонии, и за насилия, совершенные над ними. Кроме того, представители Новгорода потребовали «очистить православные церкви и русские концы в ливонских городах и дать обязательство никогда более не причинять им ущерба».
Русско-ганзейские переговоры завершились неудачей. Между тем Вольтер фон Плеттенберг продолжал сколачивать антирусскую коалицию.
Позднем весной 1500 г. он начал переговоры с Александром Казамировичем о союзе против России. Магистр удачно выбрал момент, ибо как раз перед этим Черниговско-Стародубский князь Семен Иванович Можайский и Новгород-Северский князь Василий Иванович Шемячич «ударали челом» Ивану III, прося его взять их вместе с отчинами из-под руки Александра Казимировича под свою высокую руку. Понимая, что Александр не отдаст без войны обширных и богатых уделов Можайского и Шемячича, великий Московский князь 3 мая 1500 г. двинул к литовскому рубежу свои отряды. Все лето московские рати «воевали Литовскую землю». К августу 1500 г. русские войска заняли Брянск, Путивль, Стародуб, Гомель, Новгород-Северский, Мценск и многие другие города. Великий Литовский князь все лето и осень посылал своих гонцов и послов в Ливонию, в Польшу, в Молдавию и в Крым, предлагая союз против России, но Иван III ответными демаршами умело парализовал действия литовских дипломатов. В результате ни Крым, ни Молдавия, ни даже Польша не отважились поддержать Александра Казимировича. Только Владислав Венгерский и Вольтер фон Плеттенберг открыто встали на сторону Литвы. Ливонцы начали переговоры с Литвой летом 1500 г. и вели их довольно долго. В декабре 1500 г. в письмах к великому магистру Тевтонского ордена Плеттенберг часто обсуждал различные стороны этого вопроса. Он просил оказать помощь Ливадии, если она начнет войну с русскими, убедить папу Александра VI не брать с Ливонии налога на проведение турецкого похода и оказать поддержку в организации крестового похода против Великого Московского княжества.
3 марта 1501 г. между Литвой и Ливадией был подписан союзный договор о борьбе против русских. Этому договору, по свидетельству ливонского хрониста Бальтазара Рюоссова, «чрезвычайно радовались вое литовцы и ливонцы». Однако заключение договора не было неожиданностью для Москвы. В апреле 1501 г. воеводы Ивана III закончили приготовления к началу кампании.
Военные действия начали ливонцы. 2 мая 1501 г. фогт Нарвы сообщил в Ревель о том, что им было совершено нападение на псковскую землю. Немцы понесли настолько серьезные потери, что Фогт просил, как можно скорее прислать к нему исполнение.
Однако литовцы еще не успели подготовиться к войне и поддержать своих союзников. А вскоре в Литве произошло событие, расстроившее все планы ведения воины: 17 июня 1501 г. скончался польский король. Ян-Ольбрахт и Александр Казимирович надолго отвлекся от военных дел, вплотную занявшись делами престолонаследия.
Ян-Ольбрахт умер в Торуни, в то время, когда Польша испытывала сильнейшие внешнеполитические затруднения, сопряженные с неудачами во внутренних делах. В 1498 г. турецкие войска дважды нападали на Польшу, оба раза доходя до Подолии. В 1499 г. турок сменили татары. Они повторили набег в следующем, 1500 году. Воспользовавшись этим, Польше отказался повиноваться Тевтонский орден. Тогда Ян-Ольбрахт вынужден был выступить в поход на Пруссию, но не успел довести начатого дела до конца, скончавшись во время похода. Крайне тяжелое положение, в котором оказались Польша и Литва, заставило их пойти навстречу друг другу.
В 1501 г. вновь возродилась старая тенденция к заключению унии. Конечно, и в Польше, и в Литве было немало ее противников, но верх взяли ее сторонники.
В октябре 1501 г. великий Литовский князь Александр был официально избран на заседании польского сейма королем Польши. Таким образом, возобновилась и личная уния Польши и Литвы. Договор об унии был подписан в Мельнике. Он предусматривал созыв объединенных польско-литовских сеймов для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе для выборов общего короля и великого князя, военной помощи друг другу. Однако уже ближайшее будущее показало, что большинство параграфов Мельницкой унии оказались лишь благими пожеланиями. Польша не помогала Литве в войне с Россией и среди влиятельных феодалов великого Литовского княжества возникло движение за ликвидацию Мельницкой унии. Да и сам Александр Казимирович был не доволен теми ее пунктами, которые, касаясь статуса короля и процедуры выборов, сильно ограничивали его самостоятельность. Вопреки его воле, польский сейм не дал денег для ведения войны с Россией и, таким образом, постоянным союзником Литвы оставался лишь левонский магистр Тевтонского ордена Плеттенберг.
В августе 1501 г. он двинулся в поход на Псков. 27 августа немцы разбили в бою под Изборском головной русский полк князя Ивана Ивановича Горбатого и 7 сентября осадили Остров. Горбатый и здесь оказался не на высоте. Стоя в трех верстах от Острова, он только смотрел, «как немцы городок биша и огевыи стрелы пущаше».
Русские воеводы перехватили инициативу лишь осенью 1501 г. 24 октября Даниил Щеня и Александр Оболенский начали контрнаступление против Плеттенберга. 23 ноября 1501 г. Плеттенберг отправил великому магистру Тевтонского ордена письмо, свидетельствовавшее о том, что русское наступление повергло его в ужас. Он умолял своего сюзерена «послать на помощь несчастным, как можно больше сил и в возможно более короткие сроки для отражения внезапного стремительного натиска русских».
Письмо Плеттенберга еще не успело отправиться в путь, как 24 ноября у стен замка Гельмед отряды Ивана III, в которых наряду с русскими было немало наемных татар, нанесли страшное поражение войскам магистра. За три недели перед этим русские разгромили литовское войско под Мстиславлем. Все это заставило Плеттенберга прекратить на время военные действия и просить и помощи у своих союзников.
Естественно, что наибольшее понимание Плеттенберг встретил у великого магистра, который не только обещал помочь войсками, но и попытался найти поддержку в Ватикане. Однако папа не мог помочь войсками или оружием, и летом 1502 г. великий магистр пришел к выводу, что дальнейшая борьба с русскими бесперспективна и Ливонии следовало бы заключить мир. Миссию посредника в переговорах между воюющими сторонами взял на себя папа Александр VI.
1 января 1503 г. перед Иваном III предстал посол Владислава Ягеллона Сигизмунд Сантай. Он передал великому Московскому князю грамоту от своего короля, грамоту от папы и две грамоты от кардинала Регнуса, уполномоченного Ватиканом вести переговоры с Иваном III. Регнус в Москву не поехал, а передал свои полномочия Сигизмунду Сантаю.
Содержание всех этих послании было примерно одинаково: Ивану III предлагалось заключить мир со своими противниками для того, чтобы направить все силы на борьбу с турками-османами. Великого Московского князя просили войти в антитурецкую лигу, в которой, кроме России, должны были состоять Польша, Литва, Венгрия, Чехия, Пруссия и Ливония. Таким образом, все государства, находившиеся под властью Ягеллонов и Тевтонский орден волею Ватикана превращались из врагов России в ее временных союзников.
4 марта 1503 г. в Москву приехали польские, литовские и ливонские послы. Делегации соответственно возглавляли Петр Минковский, Станислав Глебов и Иоганн Хильдорп. В качестве посредника выступал Сигизмунд Сантай. В течение трех недель Иван III вел переговоры с поляками, литовцами и Сантаем, не допуская участия в них ливонских послав. Лишь 29 марта, после того, как с литовцами договор был уже подписан, Иоганн Хильдорп встретился с казначеем великого московского князя Дмитрием Владимировичем. На следующий день Хильдорпа известили, что Иван III согласен «со всею Ливонскую землею перемирье взяти на шесть лет, по старине, как было наперед того». Что же касается Великого княжества Литовского, то оно вынуждено было заключить мир не «по старине», а понеся серьезные территориальные потери. Под московский скипетр перешли земли, занимавшие весь бассейн Угры и верховья Десны. Владения князей Шемячичей, Мосальских, Вольских, Трубецких и Стародубских были признаны находящимися под властью Ивана III. Договор был подписан 28 марта 1503 г. сроком на шесть лет. По договору западная граница Русского государства передвинулась на запад и проходила теперь в 30–40 км от Смоленска. Плеттенберг считал, что перемирие, заключенное послами Александра Казимировича в Москве «жалостно и постыдно для короля».
Александр Казимирович долго не утверждал договорных грамот, Раздавая своим панам земли из королевских владений взамен потерянных в войне с русскими, Александр Казимирович писал, что дает их временной, пока не будут возвращены отторгнутые земли. Следовательно, даже подписав мирный договор, великий князь Литовский считал его вынужденным и не собирался придерживаться зафиксированных им условий. Иван III, в свою очередь, тоже не считал договор удовлетворительным. Уже в начале следующего 1504 г. в беседе с польским послом Станиславом Глебовым Иван III заявил: «не то одно наша отчина, кои города и волости ныне за нами: и вся Русская земля, Киев и Смоленск и иные города, которые он (Александр Казимирович — В. Б.) за собою держит к Литовской земле, с божьей волею, из старины, от наших прародителей наша отчина».
Таким образом, обе стороны считали свои претензии неудовлетворенными и не могли прийти к соглашению, которое могло бы стать основой прочного и длительного мира.
И Александр Ягеллон, и магистр Плеттенберг ждали только удобного момента для возобновления военных действий против русских. Смергь Ивана III, последовавшая 27 октября 1505 г., вселила в противников России надежды и породила планы новых авантюр.
Глава третья ЗАПАДНАЯ ПОЛИТИКА ВАСИЛИЯ III в 1505–1515 годах
Узнав о кончине своего давнего врага, Александр Ягеллон написал Плеттенбергу, что «теперь наступило удобное время соединенными силами ударить на неприятеля веры христианской, который причинил одинаково большой вред и Литве и Ливонии».
В конце 1505 г. в Ливонию прибыло литовское посольство, возглавляемое паном Войтехом Нарбутовичем и магистром Адамом. Послы заявили Плеттенбергу, что смерть Ивана III делает необходимыми консолидацию усилий обоих государств и проведение по отношению к России согласованной политики. Однако Плеттенберг хорошо понимал, что без серьезной подготовки нельзя начинать войну с Россией. Кроме того, ливонский магистр надеялся, что между сыновьями Ивана III вспыхнет междоусобная борьба за великокняжеский престол, в ходе которой представится удобный случай для вмешательства во внутренние дела государства.
Александр Ягеллон согласился с доводами магистра и, отвечая его послам 2 мая 1506 г., просил ливонцев своевременно извещать его о положении в Москве. В свою очередь, Александр сообщил Плеттенбергу, что Литовские войска собираются выступить в поход и сетовал то же самое сделать и Ливонии. Эти приготовления к войне, по его мнению, напугают Василия III и сделают более уступчивым и сговорчивым.
Но ожиданиям Александра и Плеттенберга не суждено было осуществиться: Василий III прочно обосновался на отцовском троне и все братья признали себя его послушными вассалами. Авторитет старшего брата подкреплялся и экономически: Иван III, умирая, благословил Василия 66 городами, тремя четвертями всех государственных доходов и правом на все выморочные владения, в то время как на долю других его сыновей осталось всего 30 городов и одна четверть доходов.
Иван III оставил своему сыну нелегкое наследие: Ливония и Литва могли начать войну в любой удобный для них момент, Крым был далеко не таким дружественным, как раньше, а Казань с середины 1505 г. находилась в состоянии войны с Московским великим князем.
Весной 1506 г. брат Василия Дмитрий Иванович отправился в поход на Казань, ведя за собою «судовую и конную рать». 22 мая русские внезапно атаковали Казань, но были отбиты и отошли. 22 июня Дмитрий вновь напал на татар, устроивших ярмарку у стен Казани. Русские захватили огромную добычу, но в город ворваться не смогли. Через три дня войска Дмитрия во второй раз были отбиты с большими потерями. Дело было настолько серьезным, что Василий отстранил брата от командования войсками и приказал лучшему московскому воеводе Даниилу Щене двинуться с полками на помощь. Узнав об этом, казанский хан запросил мира, освободил всех русских пленных и через год, осенью 1507 г., выдал Василию новую грамоту, в которой подтвердил свою вассальную зависимость от Москвы.
Таким образом, к осени 1506 г. военный конфликт с Казанью был ликвидирован. Ход войны не всегда был удачным для русских, но ее итоги оказались вполне благоприятными.
Решительно подавив сопротивление Казани, Василий предпринял меры для установления дружественных отношений с другими государствами Уведомив крымского хана Менгли-Гирея о смерти Ивана III, Василий потребовал новую шертную грамоту, но крымский хан отошел от прежних договорных формул и дал грамоту, которая существенно отличалась от шерти, данной раньше отцу Василия Ивану III. Новая грамота не была принята Василием. В Москве была снята копия с прежней договорном грамоты, имя Ивана было заменено именем Василия и окольничий Константин Заболоцкий отправился в Крым для того, чтобы Менглы-Гирей подтвердил свою верность старому союзу на прежних условиях.
Желая сохранить традиционные дружественные отношения с Данией, Василий 17 июля 1506 г. послал к Датскому королю Хансу своего посла Истому с поручением добиться подтверждения договора 1493 г., по которому стороны обязались бороться против узурпатора Швеции Свена Стуре и великого Литовского князя Александра Ягеллона.
Василий просил написать такую же договорную грамоту, какая была в 1493 г. заключена между Хансом Датским и его отцом Иваном Васильевичем. Он просил короля привесить к грамоте государственную печать Дании и в присутствии своего посла Истомы поцеловать на грамоте крест. Со своей стороны он обещал по получении текста договора сделать то же самое в присутствии датских послов.
Король выполнил просьбу Василия. Датские дипломаты отыскали черновик старого договора и внесли в его текст необходимые поправки. Имя Ивана было заменено именем Василия, а имена прежних противников датского короля были заменены именами новых его врагов.
Свое согласие возобновить договор король Ханс I подтвердил особой грамотой, которую привез в Москву его посол Давид фон Коран.
Таким образом, уже в 1506 г. Василии и в отношениях с Данией добился сохранения прежнего положения.
По-видимому, с такой же целью из Москвы было отправлено посольство в Рим. Официально русский посол Андрей Траханиот должен был уведомить папу о кончине Ивана III и о вступлении на престол Василия III. К сожалению, никаких других сведений об этом посольстве не обнаружено, но и того, чти известно достаточно для того, чтобы говорить о хорошем предлоге для переговоров.
25 мая 1506 г. из Вены в Москву был отправлен императорский посол Юстус Картингер. Он ехал в Москву для того, чтобы освободить из русского плена ливонских кнехтов и рыцарей. Год назад Картингер уже приезжал с той же просьбой, но Иван III категорически отказал. На этот раз император, видимо, надеялся, что новый великий князь Московский окажется более уступчивым. Однако Василий III ответил Максимилиану Габсбургу, что пленные могут быть освобождены лишь в случае, если Ливония перестанет поддерживать великое княжество Литовское и будет исправно выполнять условия существующего договора о перемирии. Тем самым Василий III дал понять императору, что Россия не изменит своего отношения к Ливонии и к стоящей за ее спиной империи, если с другой стороны не будут представлены убедительные доказательства миролюбия и дружественности.
* * *
Следует остановиться и на самом важном вопросе внешней политики России — на взаимоотношениях с Великим княжеством Литовским и Польшей. Польский король и великий князь Литовский Александр Казимирович Ягеллсн проводил тонкую и хитрую политику. Заключая враждебные Руси договоры, Александр лицемерно предлагал вечный мир; готовясь к воине с Россией, великий князь Литовский в это же самое время слал в Москву гонцов и послов по словами, исполненными дружбы и миролюбия. Первое такое посольство после вступления на великокняжеский престол Василия Ивановича прибыло в Москву 15 февраля 1506 г. Посольство возглавлял витебский наместник Юрий Глебович. Он предложил заключить «вечный мир», но насилии отказался, так как одним из основных его условий было освобождение всех русских городов из-под власти великого Литовского князя.
Ответное русское посольство во главе с Федором Степановичем Еропкиным ограничилось преимущественно формальными моментами: послы объявили о восшествии Василия III на престол, попросили Александра пропустить через Литву и Польшу послов в Данию и Рим.
Действия, предпринятые Александром в Крыму и Ливонии. и обмен посольствами показали, что стороны сохраняют по отнесению друг к другу прежнюю враждебность и непримиримость.
Никаких существенных изменений в характере русско-литовских отношений не произошло и после того, как в августе 1506 г. в Вильно скончался Александр Казимирович. 20 октября 1506 г. великим Литовским князем был избран брав Александра Сигизмунд. 24 января 1507 г. он же был возведен на польский престол. Важно отметить, что Сигизмунд специальным актом обязался не только энергично защищать целостность и неприкосновенность литовской территории, но и сделать все, для того чтобы вернуть земли, отторгнутые у великого литовского княжества Иваном III.
В это время наиболее острой внутренней проблемой в жизни Литвы стал конфликт между новым великим князем и одним из могущественных феодалов страны, князем Михаилом Львовичем Глинским. Глинский — фигура необычайно колоритная. Свою юность и молодость он провел за границей. Находясь в Италии, Глинский принял католицизм, хотя при рождении был крещен по православному обряду. Несколько лет он посвятил военной службе, и, находясь в армии Саксонского герцога Альбрехта, проявил себя как способный военачальник. Глинский познакомился с императором Максимилианом и с Саксонским герцогом Фридрихом, будущим великим магистром Тевтонского ордена.(Впоследствии эти обстоятельства сыграют определенную роль во внешней политике России в Прибалтике).
Возвратясь на родину, Глинский сразу же занял высокое положение при литовском дворе, благодаря своей знатности, богатству и способностям. Это очень не понравилось литовским магнатам, отодвинутым Глинским на второй план. Один из них — Забжезинский-, желая сокрушить Глинского, открыто обвинил его в смерти Александра Казимировича и в намерении узурпировать власть в Литве. Глинский потребовал суда, но Сигизмунд не удовлетворил его требование. Тогда мятежный князь начал подготовку к восстанию, с целью отторгнуть от великого Литовского княжества его юго-восточную часть.
Кончина Александра Казимировича побудила Василия III к попытке вмешаться в дела Литвы. Он направил специальное посольство во главе с Иваном Наумовым, который должен был передать всем панам Рады Великого княжества Литовского, что если в Литве изберут на престол Василия III, то он обещает сохранить в неприкосновенности религию своих новых подданных и даст им множество дополнительных привилегий. Демарш Василия очень обеспокоил литовских магнатов, и они поспешили направить в Польшу своих послав для того, чтобы содействовать избранию Сигизмунда польским королем. В инструкции, данной послам, говорилось, что в Литве поспешили избрать Сигизмунда великим князем, прежде всего, из-за русской опасности.
Таким образом, после смерти Александра Казимировича перед великим княжеством Литовским возникли две проблемы: русская опасность извне и угроза феодального мятежа внутри. Василии III и Михаил Глинский, объединив свои усилия, попытались освободить и возвратить под свою. власть западно-русские земли, находившиеся под скипетром великих Литовских князей.
Великий князь Литовский и король польский Сигизмунд предпринял ряд энергичных мер, чтобы предстоящая война с русскими была бы для него победоносной. Желая расположить к себе православное население Литвы, Сигизмунд 5 января 1507 г. пожаловал вдовствующей королеве Елене Ивановне сестре Василия III, дочери Ивана III — Бельск, Брянск и Сраж со всеми угодьями и доходами. 20 января паны Литовской Рады потребовали от православного Киевского митрополита Иосифа и «державца» Минска князя Богдана Ивановича Жеславского, чтобы они привели к присяге на верность Сигизмунду всех православных. После этого Иосифу предписывалось выехать в Вильно для приведения к присяге православных жителей литовской столицы.
В это же время в Крым было отправлено посольство, в задачу которого входило узнать, когда Менгли-Гирей пошлет на Москву свои войска и где будет разбит его лагерь. Послы должны были сказать, что хорошо бы совершить такси, поход нынешним летом.
По-видимому, в это же время Менгли-Гирей выдал послам Сигизмунда и печально знаменитый ярлык на владение всей русской землей, считая себя законным наследником Золотоордынских великих ханов.
2 февраля 1507 г. на сейме Великого Литовского княжества, состоявшемся в Вильно, была объявлена война России. Сигизмунд заявил, что всякий, кто, понадеявшись на свое богатство, не явится на воину или без ведома коронного гетмана самовольно «отъедет» с войны, будет казнен. Король потребовал поспешных сборов, чтобы русские не успели бы напасть первыми.
Тогда же Сигизмунд направил своих послав к магистру Тевтонского ордена в Ливонии Вальтеру фон Плеттенбергу. Возглавлял посольства пан Юрии Завишич. Он сообщил Плеттенбергу о том, что в Литве уже побывали крымские и казанские послы, которые заявили о полной готовности к войне с Россией. Завишич уведомил магистра и о том, что в союзе с Литвой выступят шведы. Но Плеттенберг и на этот раз продолжал выжидать. По-видимому, перспективы грядущей войны не представлялись ему многообещающими.
Почти одновременно с посольством в Ливонию было отправлено посольство в Москву, во главе с крупнейшим литовским магнатом виленским воеводой Яном Николаевичем Радзивиллом. Посол в резких тонах заявил протест в связи с тем, что русские нарушают перемирие, заключенное между Иваном III и Александром Казимировичем, заселяют окраинные волости Бояре, принимавшие послов, обвинили литовцев в том же самом. В заключение послов принял сам. Василий III, но и он ко всему сказанному боярами добавил, чтобы его сестру, вдову Александра Казимировича Елену Ивановну «к Римскому закону — то есть католичеству — не нудили ничем».
Естественно, что Сигизмунд таким ответом удовлетвориться не мог и сразу же направил еще одно посольство, в котором, кроме поляков, был и крымский посол Якгибаша. Послы истребовали вернуть захваченные Иваном III литовские земли и отпустить пленных. Но и на этот раз ответ русских остался неизменным.
Не добившись желаемого, великий Литовский князь направил тайного посла к брату Василия III Юрию Ивановичу Дмитровскому. В тайном наказе к Юрию Ивановичу Сигизмунд писал, что до него дошли слухи о мудром правлении Юрия в его уделе и о том, что многие бояре и князья, оставив Василия III, «пристали» к Юрию. Сигизмунд предложил Дмитровскому князю тайный союз против Василия III и всех других неприятелей. Неизвестно, каким был ответ Юрия. Во всяком случае, интересен сам факт засылки тайного посла к брату великого Московского князя.
Но если попытка Сигизмунда разжечь междоусобную борьбу на Руси успехом не увенчалась, то в Великом княжестве Литовском, напротив, вскоре вспыхнула феодальная война, которую возглавил князь Глинский. Содействие ему оказывал Василий III. В то самое время, когда у Юрия Ивановича находился тайный посол Сигизмунда, князь Глинский прислал в Москву дворянина Никольского с секретным письмом Василию III. Глинский известил Василия о своем желании служить ему «до живота», если русские поддержат его в борьбе с Сигизмундом, сообщал что армия в Литве пока еще не собирается и ни одно государство помощи Литве не окажет.
В ответном письме Василий III потребовал от Глинского немедленных действий, обещая скорую и эффективную поддержку. Однако на первых порах Василий помощи не оказал, а когда Глинский потребовал объяснений этому, великий князь Московский послал к своему союзнику боярского сына Ивана Юрьева, снабдив его подробными рекомендациями о предстоящих совместных действиях. Выполняя указания Ивана Юрьева, Глинский начал мятеж и повел свои войска под Минск, а своего брата Андрея Василий III послал с войсками под Слуцк.
Во главе семисот всадников Глинский прошел к Гродно и ночью окружил имение своего давнего врага Яна Забжезинского. Один из клевретов Глинского, саксонец Христофор ворвался в спальню Забжезинского, а подоспевшие затем мятежники убили его. После этого отряды Глинского рассеялись во все стороны и начали громить усадьбы других литовских магнатов, остававшихся верным Сигизмунду.
На помощь восставшим двинулись русские воеводы. 29 апреля 1507 г. они начали наступление. Если до сих пор велась необъявленная война, то теперь уже Василий III открыто заявил о том, что из-за притеснений православных князей и их подданных, находящихся в Литве, и из-за того, что король Сигизмунд «наводит» на Русь татар, он слагает с себя крестное целование и начинает войну.
Однако через год, 13 июля 1506 г., войска Глинского, поддержанные русскими воеводами, были разбиты полководцем короля Сигизмунда Николаем Фирлеем. 10 августа Михаил Глинский приехал в Москву и вместе с ним «множество именитых родов». Василий III богато одарил своего нового подданного, пожаловав ему Медынь и Ярославец со всеми доходами. Так закончилось неудавшееся восстание князя Глинского против короля Сигизмунда.
* * *
Тевтонский орден в Ливадии остерегся вмешиваться в конфликт Литвы и России. Император Максимилиан 19 мая 1508 г. направил в Ливонию мандат, в котором потребовал от Плеттенберга невмешательства в русские дела. Война с Москвой, писал император, была бы вредна для империи и помешала бы борьбе Габсбургов с французами и венецианцами.
25 марта 1509 г. ливанские послы, приехав в Новгород, продлили еще на 14 лет действие русско-ливонского договора 1503 г. и вновь обязались не заключать враждебных России союзов с Польшей и Литвой, а также выполнять все другие обязательства, вытекающие из договора 1503 г.
Однако не следует думать, что добрая воля великого магистра и императора Максимилиала заставила Плеттенберга пролонгировать старый договор о перемирии. Все это произошло, во-первых, оттого, что Ливония не могла бороться с Россией из-за внутренней слабости, а во-вторых, из-за того, что Сигизмунд уже за полгода до того — 8 октября 1508 г. подписал в Москве мирный договор. По этому договору Василий и Сигизмунд не только обещали не всевать друг с другом, но и даже взяли на себя обязательства выступать против общих врагов.
14 января 1509 г. «великие послы» Василия III Григорий Федорович Давыдов и Иван Андреевич Челядин утвердили договор с Вильно.
Таким образом, к весне 1509 г. на западных рубежах России наступило затишье. Русское государево, Литва, Польша и Тевтонский орден в Ливонии на очень непродолжительное время выпустили из рук оружие, хорошо понимая, что перемирие не может быть длительным, ибо причины, порождавшие вооруженные конфликты, остались. Заключившие перемирие государства использовали предоставившуюся передышку для подготовки к продолжению борьбы.
Настоящего мира между Русью и Литвой так и не наступило.
Крупные военные операции прекратились, что же касается жалких пограничных стычек и грабительских набегав, то они продолжались, и инициаторами их выступала как та, так и другая сторона.
Василия III беспокоило положение, создавшееся в Пскове, и он решил окончательно «порушить» псковскую старину и присоединить Псков к своей державе на равных условиях с прочими городами. К тому времени многие города и земли, расположенные вокруг Пскова, уже стали добычей потомков Ивана Калиты: Новгород Великий, Тверь покорились Московским князьям. В октябре 1509 г.
Василий III с крупным воинским отрядом прибыл в Новгород. Использовав недовольство псковичей московским наместником, князем Иваном Михаиловичем Репней-Оболенским, Василий обвинил псковичей в непослушании и арестовал приехавших в Новгород жалобщиков. Вслед за этим в Псков был послан дьяк Третьяк-Далматов. Он должен был привести псковичей к покорности, сняв вечевой колокол и уничтожив все другие «вольности» города. Далматов, ранее уже принимавший участие в подчинении Новгорода и Твери, выполнявший ответственные поручения великих Московских князей в Литве и Дании, с успехом выполнил и эту миссию: 13 января 1510 г. Псков признал свою полную зависимость от Москвы, а 24 января во Псков прибыл и Василий III. Выселив из города около 300 семей знатных и богатых бояр и купцов, и введя в город московских служивых и торговых людей, великий князь окончательно закрепил Псков за собой.
К этому же времени относится и попытка мирно урегулировать старый конфликт с Ганзой. В последний раз русские и ганзейцы встречались в 1498 г. в Нарве. Но тогда вследствие общей неблагоприятной обстановки переговоры ни к чему не привели. Теперь же можно было надеяться на успех: договор, подписанный 25 марта 1509 г., давал на это основания.
Ганзейские послы, возглавляемые секретарем совета Любека Иоганном Роде, в Феврале 1510 г. прибыл в Новгород. Переговоры оказались довольно продолжительными.
По сообщению Псковской летописи, Василий Иванович во время переговоров жил «во Пскове 4 недели и поеха на другой недели в понедельник изо Пскова». По сообщению той же летописи, Василий III приехал в Псков 24 января. Следовательно, в двадцатых числах февраля, «устроив свею отчину Псков», Василий выехал в Новгород. Путь. от Пскова до Новгорода занимал примерно четыре дня. Значит Василий III должен был к концу февраля оказаться в Новгороде. Известна дата отъезда Василия III из Новгорода в Москву — 17 марта. Таким образом, Василий III пробыл в Новгороде около трех недель.
Великий князь соглашался подписать договор только при условии, если Ганза возьмет на себя политические обязательства и пообещает, как минимум, сохранять нейтралитет в случае конфликта России с ее врагами на Западе. Эту же точку зрения Василий III защищал и в проекте договора, а когда ганзейцы не согласились, переговоры были прекращены. Таким образом, неудачу русско-ганзейских переговоров следует искать, как в отказе немецких представителей изменить свой внешнеполитический курс, так и в упорном нежелании Русских к каким-либо невыгодным для них переменам.
В то время как представители Ганзы вели переговоры в Новгороде, король Сигизмунд предпринял ряд мер, направленных на мирное урегулирование польско-орденского конфликта. Было решено летом 1510 г. собраться в Познали и на совместном заседании представителей Польши, Германской империи, Пруссии, Ливонии и Венгрии разрешить, наконец, вопросы о статусе западных прусских земель и о присяге великого магистра Тевтонского Ордена королю Польши. Однако еще до начала работы Познанского конгреса все участники плохо верили в благоприятный исход этой затеи. Непримиримо и агрессивно настроенный великий магистр Тевтонского ордена, заявлял, что он не остановится и перед войной, если поляки не выполнят требований Ордена.
Для правильного понимания создавшегося положения не лишне коротко остановиться на предыстории. Познаньского конгресса.
Еще в конце 1504 г. Александр Казимирович направил в Рим Плоцкого епископа Эразма Чиолека, чтобы выговорить у папы Юлия II содействие и поддержку в борьбе с великим магистром ордена, не желавшим приносить ленную присягу королю Польши. Чиолек представил дело таким образом, что в глазах папы великий магистр оказался главным пособником турок, своими набегами ослаблявшими Польшу — оплот католицизма на Востоке Европы. Папа Юлий II приказал великому магистру герцогу Фридриху Саксонскому немедленно принести присягу, однако император Максимилиан сумел переубедить папу и петом 1509 г. Юлий III отменил свой приказ и запретил принесение присяги. По просьбе великого магистра в конце 1509 г. в Краков приехали послы императора и договорились, что Сигизмунд соберет для решения всех спорных вопросов специальный конгресс. Местом работы конгресса была избрана Познань, открытие конгресса — назначено на июль 1510 г.
Делегацию Польши поддерживал только представитель Венгерского короля Владислав. Орденские же сановники, приехавшие на конгресс, были решительно поддержаны послами императора. Душой польской делегации был примас Польши, кардинал Ян Лаский — непримиримый враг Тевтонского ордена. Он потребовал немедленного принесения присяги, а в случае отказа предложил перевести Орден из Прибалтики в Подолию: поближе к опасным и беспокойным соседям туркам и татарам. Но предложения Лаского натолкнулись на глухую стену вражды и озлобления.
Переговоры, продолжавшиеся две с половиной недели, ни к чему не привели и вместе приемлемого для всех компромисса конгресс закончился еще большим обострением противоречий.
Неудача Познанского конгресса породила в Пруссии атмосферу, полную неуверенности и страха. Многие союзники Ордена ожидали прямого военного нападения Польши. В создавшихся условиях среди руководителей Тевтонского ордена нашелся человек, который попытался связать политические планы своего государства с Россией. Это был уже известный нам штатгальтер Тевтонского ордена граф Вильгельм Изенбург унд Гренцау. После того, как Фридрих Саконский стал великим магистром Тевтонского ордена, Изенбург оставался одним из его ближайших сподвижников. В начале 1510 г. Фридрих решил сложить с себя сан великого магистра и с этого времени граф Вильгельм Изенбург, стал штатгальтером и формально и фактически стал руководителем Ордена.
Провал Познанского конгресса натолкнул Изенбурга на мысль вступить в переговоры с Василием III. Сам этот поворот был в высшей степени знаменательным явлением. Глава Ордена, призванный до последней капли крови сражаться со схизматиками и неверными, искал союза с ними против христианнейшего Польского короля. Для этой миссии был избран достойный исполнитель. Им стал саксонский дворянин Христофор Шлейниц, который по приказу князя Михаила Глинского принимал участие в убийстве Яна Забжезинского и в разбойничьих нападениях на имения других магнатов врагов Глинского.
Шлейниц издавна оказывал услуги братьям-рыцарям. В орденских документах его имя впервые упоминается в 1503 г. 14 июля этого года комтур замка Рагнит, расположенного у самой литовской границы, извещал руководителей ордена, что он послал Христофора Шлеиница сопровождать одного своего лазутчика, тайно пробиравшегося в Вильно. После разгрома восстания Глинского, Шлейниц нашел пристанище в Кенигсберге у своих давних друзей и покровителей. Великий магистр Фридрих ходатайствовал за Шлейница перед своим братом герцогом Георгом Саксонским, чтобы последний добился у короля Сигизмунда прощения для Шлейница, в недавнем прошлом активно участвовавшего в мятеже Глинского против короля.
Осенью 1509 г. Шлейниц был Сигизмундом помилован.
Через год после этого Изенбург поручил Шлейницу пройти в Москву, встретиться там с Михаилом Глинским и обменяться с ним письмами. Изенбург от имени великого магистра Тевтонского ордена герцога Фридриха просил Глинского не допустить совместного выступления русских и поляков против Ордена, которое они могли предпринять во исполнение договора от 8 октября 1508 г. Изенбург считал, что Глинский может оказать нужное воздействие и на крымского хана и удержать татар от вступления в союз с Сигизмундом.
В начале 1511 г. Шлейниц благополучно добрался до Москвы. Он встретился там с князем Глинским, передал ему письма Изенбурга и получил ответное письмо на имя штатгальтера Ордена.
Когда Шлейниц еще находился в Москве, Глинский сообщил о его приезде Василию III. Глинский сказал, что орденский посланец просит охранную грамоту для тайных послов великого магистра, которые хотели бы приехать в Москву. Василий приказал дать такую грамоту Шлейницу и после этого саксонец отправился в обратный путь. Он вез с собою письмо Глинского Изенбургу, в котором Михаил Львович обещал подстрекать против Польши татар и заверял штатгальтера, что мир между Москвой и Польшей не будет продолжаться долго.
О пребывании Шлейница в Москве и о его действиях в ущерб Польше узнал король Сигизмунд и приказал схватить лазутчика, когда он будет переходить границу между Литвой и орденскими владениями.
В марте 1511 г. Шлейниц добрался до Ливонии, а затем через территорию Жемаитии (западной части Литвы) двинулся к орденским землям. Здесь-то польская конная стража и настигла Шлейница. Польские пограничники напали на саксонца на берегу моря, неподалеку от Паланги. Опасаясь захвата в плен, Шлейниц выбросил сумку с документами в море, но преследователи заметили это, выудили секретные письма из воды и затем переправили их королю Сигизмунду. Шлейниц укрылся за стенами орденского замка в Мемеле и на этот раз избежал давно ожидавшей его кары.
Случилось так, что переводчик польского короля неправильно перевел текст письма, направленного великому магистру Тевтонского ордена. По-видимому, морская вода размыла адрес и переводчик сообщил Сигизмунду, что письма адресованы Саксонскому герцогу Георгу, а не его брату Фридриху великому магистру Ордена.
Введенный в заблуждение король, в очень резких тонах потребовал объяснений от герцога Георга и получил не менее резкий ответ, из которого можно было понять, что Саксонский герцог ничего не знает о миссии Шлейница. Недоразумение вскоре разъяснилось, однако дошедшая до нас переписка свидетельствует, что Сигизмунд очень боялся создания любого антипольского союза, в котором участвовал бы великий Московский князь.
Миссия Шлейница предвещала возможные изменения, в русско-орденских отношениях. Штатгальтер Изенбург, отправивший Шлейница в Москву, вскоре уступил свое место другому, более достойному, как он считал, претенденту. Это случилось после того, как 14 декабря 1510 г. умер великий магистр Тевтонского ордена герцог Фридрих. Умирая, он просил членов орденского капитула избрать на свое место двадцатилетнего Бранденбургского маркграфа Альбрехта Гогенцоллера. Родословная претендента на пост главы ордена играла первостепенную роль, ибо его отец — один из семи курфюрстов империи находился в тесных родственных связях со многими знатными домами Франции, а мать — принцесса из дома ягелонов — была родной сестрой польского короля Сигизмунда и венгерского короля Владислава.
13 февраля 1511 г. Альбрехт Гогенцоллерн был принят в Орден и избран великим магистром. Сначала и император и король Сигизмунд с удовлетворением отнеслись к этому, но вскоре стало ясно, что племянник Сигизмунда менее всего хотел бы считаться с волею своего августейшего дяди. Альбрехт сразу же начал готовиться к войне с Сигизмундом, «не желая уступить ему земли Поморской и Прусской и признать себя его вассалом». Благоприятным для Москвы было и то, что в сложившейся обстановке Ливония по отношениям своим к великому магистру должна была также объявить войну Польше, а император и курфюрсты должны были поддержать Альбрехта.
Следуя традиционной политике непризнания условий Второго Торуньского мира, Альбрехт обострил противоречия до такой степени, что между Тевтонским орденом и Польшей могла начаться новая война. И хотя до войны в тот момент дело не дошло, отношения оставались крайне напряженными. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 20 июля 1511 г. король Сигизмунд запретил немецким купцам торговлю в Витебске и Смоленске, разрешив им совершать торговые сделки только в Полоцке, да и то не с купцами и не с приезжими, а только с горожанами.
Все это требовало урегулирования разногласий, и осенью 1512 г. в Петркуве состоялся сейм между представителями Польши с одной стороны и представителями Тевтонского ордена и империи — с другой. Характерной особенностью Петркувского сейма было то, что поляки заняли откровенно антинемецкие позиции. Твердость и последовательность польских дипломатов позволили им одержать крупный успех на этом сейме. В результате переговоров немцы согласились на то, чтобы все завоеванные Орденом земли считались леном польской корены, вопрос о западных землях Пруссии должны были решить на личном свидании Альбрехт и Сигизмунд, причем впервые за все время немцы согласились на то, что представители императора не примут участия в этих переговорах. В договоре подтверждалось старое постановление 1466 г. о том, что поляки могут входить в число членов Ордена и что Польша и Орден подтверждают прежнее соглашение о совместной борьбе с любыми врагами. В заключение стораны признали папу и императора неправомочными отменить или изменить ни один из параграфов только что подписанного договора. Альбрехт Гогенцоллерн должен был на следующий год явиться в Познань и здесь принести присягу королю Сигизмунду. В то время, когда Петркувский сейм завершил работу. неожиданно для поляков и литовцев началась новая война с Москвой.
19 декабря 1512 г. русские войска выступили в поход и в январе 1513 г. перешли литовскую границу. Начиная войну, русские обвинили короля Сигизмунда в сношениях с Менгли-Гиреем и в подстрекательстве его против России. Сигизмунду было предъявлено и еще более тяжкое обвинение: Василий III считал, что король повинен в смерти своей сестры, вдовы Александра Казимировича Елены Ивановны, которая скончалась при загадочных обстоятельствах, находясь под стражей, недалеко от Вильно.
В то время, когда русские войска двигались к Смоленску, навстречу им из Германии перебрасывались сушей и морем отряды немецких ландскнехтов, которых Шлейниц вербовал в империи по поручению Михаила Глинского. Естественно, что о деятельности Шлейница был осведомлен император Максимилиан, и, по-видимому, не препятствовал успеху его новой миссии.
В начале 1513 г. к маркграфу Бранденбурга Казимиру прибыл посол императора Мельхиор фен Масмюнстер с предложением союза против короля Сигизмунда. Из Ансбаха — резиденции бранденбургских маркграфов — Масмюнстер с той же целью должен был отправиться в Саксонию и Данию. Во всех этих государствах ему следовало обсудить вопрос о том, как лучше вовлечь в антипольский союз Тевтонский орден и Россию.
В ход была пущена версия о том, что это необходимо для создания союза против турок. Таким образом маркгарф Казимир хотел подготовить общественное мнение католической Европы и оправдать в глазах князей и прелатов готовящийся союз между Россией и Тевтонским орденом.
В это время сын брандербургского маркграфа Казимира великий магистр Ордена Альбрехт решил, что создавшаяся обстановка весьма благоприятствует отказу от постановлений Петркувского сейма, тем более, что в январе 1513 г. им был получен приказ императора ни в коем случае не выполнять ни одного пункта принятых на переговорах с поляками постановлений. Вслед за тем Альбрехт обратился с письмом к Сигизмунду, прося отложить принесение присяги. Сигизмунд, нуждаясь в помощи Тевтонского ордена против русских и не желая обострять отношений с великим магистром, согласился отложить присягу до конца 1513 г.
20 января 1513 г. магистр Ордена в Ливонии Плеттенберг послал Альбрехту пространное письмо, в котором детально списывал все, что видели в Москве ливонские послы. Он извещал гроссмейстера о том, что во главе русских войск стоит Глинский, что Василий III преисполнен решимости сражаться с поляками до конца и что никогда у русских не было столь большого войска и такого сильного «огнестрельного наряда».
Русские войска, придя в январе 1513 г. под стены Смоленска, по свидетельству летописи, причинили городу «многие скорби и убытки», но взять город не смогли и в марте того же года возвратились в Москву.
Внезапное появление русской армии под Смоленском сильно напугало Сигизмунда. Уже 5 февраля к Плеттенбергу прибыли польские послы с просьбой о помощи против русских. Плеттенберг отказал в помощи. 13 февраля магистр Ливонии послал еще одно письмо Альбрехту, в котором сообщал различные новости, касающиеся России.
Альбрехт, в свею очередь, информировал магистра Ливонии о своих польских делах. 21 января 1513 г. Сигизмунд отправил Альбрехту письмо, в котором намекал на то, что Польше может понадобиться помощь Ордена. Вслед за этим, 27 февраля, король отправил второе письмо. Здесь уже Сигизмунд решительно потребовал от Альбрехта помощи против русских, обусловленной Петркувскими соглашениями. Сигизмунд прямо заявил великому магистру, что планы войны, которую ведут поляки с русскими, разработаны с учетом помощи Тевтонского ордена и если помощь оказана не будет, то планы войны окажутся сорванными.
Альбрехт немедленно ответил на второе письмо короля, но ответ его был очень неопределенным. Он обещал выполнить просьбу Сигизмунда после того как все прусские сословия, представленные в ландтаге, дадут на такую помощь свое согласие. 13 марта, когда русские войска уже сняли осаду Смоленска и ушли к Москве, Альбрехт известил короля, что прусский ландтаг соберется в Кенигсберге 3 апреля. В ответ Сигизмунд в иронической форме поблагодарил великого магистра и сообщил, что опасность пока миновала.
Прусский ландтаг, начавший свои заседания 4 апреля, тоже не проявил решительности и последовательности. Сначала он отказался дать деньги для войны с русскими, ссылаясь на то, что в 1501–1503 гг. сословия выплатили на войну с Россией трехкратный налог, но ландтаг до сих пор не поставлен в известность, на что эти деньги ушли. Но к концу работы, под давлением фанатично настроенных прелатов — епископа Хиоба фон Добенека и епископа Замланда Понтера — ландтаг согласился сказать Польше помощь.
Хиоб фон Донебек 10 апреля получил инструкцию и был направлен во главе орденского посольства к королю Сигизмунду, чтобы известить его о принятых на ландтаге решениях. Но согласие сословий сказать помощь королю Сигизмунду еще не означало того, что этого желает великий магистр. Как и прежде, Альбрехт находился в состоянии крайней нерешительности и нужен был какой-то сильный толчок извне, чтобы глава Ордена отдал предпочтение той или иной стороне. И такой толчок произошел летом 1513 г., когда чаша весов вновь склонилась в сторону врагов Польши.
В июне 1513 г. русские войска во второй раз выступили к Смоленску. Вышедшие им навстречу войска смоленского гарнизона были разбиты в бою под Боровском, а сам город осажден. Преимущество русских было очевидным.
Понимал это и великий магистр. Поэтому летом он сделал решительный шаг в сторону сближения с врагами Ягеллонов. Только своим союзником Альбрехт избрал не Василия III, а императора Максимилиана — фигуру не столь одиозную в глазах католической Европы.
В июне 1513 г. великий магистр направил к императору для ведения переговоров о союзе против Польши своего ближайшего советника Георга фон Эльтца.
В середине года противоречия между Ягеллонами и Габсбургами обострились до предела. Антиягеллсновская коалиция, над созданием которой с начала 1513 г. стал трудиться Мельхиор фон Масмюнстер, должна была, по мысли императора, окончательно оформиться к середине следующего года. А пока 2 августа 1513 г. в Айре в ставку императора Максимилиана прибыл посол великого магистра Георг фен Эльтц.
Тогда же император проинструктировал своего специального посла Георга фон Зоннега которому предстояло посетить несколько европейских государств и всюду договориться о военно-политическом союзе против короля Сигизмунда. В сентябре 1513 г. фон Зоннег со своим сыном Николаем отправился в путь. Посетив Бранденбург и Саксонию, он заехал в Кенигсберг, а затем направился в Ливонию в сопровождении специального орденского посла Бертольда фон Альтмансхофена. Удача сопутствовала Георгу фон Зоннег и всюду, где он побывал, им были заключены договоры, направленные против Польши.
2 февраля 1514 г. Фен Зсннег прибыл в Москву. Передав Василию III приветствия императора и заверения в любви и дружбе, фон Зсннег предложил вступить в союз с Максимилианом против Польши. Интересно, что далее посол императора попросил Василия III направить русских дипломатов в Данию, чтобы склонить к участию в антиягеллонсвской лиге и недавно вступившего на датский престол Кристиана II. Затем фон Зоннег изложил перед Василием III мотивы, которыми руководствовался император, заключая этот союз. На первое место Габсбурги выдвигали польско-орденские противоречия. В инструкции, которую посол Максимилиана зачитал Василию III, говорилось, что Сигизмунд «старается… подавить вопреки всякому закону Тевтонский орден, почтенное убежище и приют немецких дворян», и что Василий должен «к благу своему, упомянутого Ордена и всего христианства… согласиться с нашим мнением и на наше предприятие, начать дела самым практическим образом и как можно храбрее исполнить их».
Василии III согласился с предложением императорского посла и через несколько дней между Россией и Германском империей был заключен наступательно-оборонительный союзный договор, целью которого объявлялось возвращение западнопрусских земель Тевтонскому ордену, а Василию III возвращение тех его «отчин», которые король Сигизмунд «держит за собою неправдою». Сравнивая договор 1514 г. с договором, заключенным между императором Фридрихом III и великим князем Иваном III в 1490 г. легко заметить существенную разницу: если в 1490 г. целью Габсбургов была борьба за «угорское королевство», то теперь более всего их занимала Прибалтика, ибо именно оттуда можно было сильнее всего ударить по их старому врагу Ягеллонам.
Подписание русско-имперского договора представляло собой одно из наиболее значительных событий в международных отношениях этого времени. Поэтому не случайно, что русско-имперский договор 1514 года и впоследствии привлекал к себе внимание историков разных стран. В русской историографии В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев считали, что инициатором союза был сам император и что главной целью Максимилиана было вытеснение поляков из Прибалтики и из-под Киева. Такую же точку зрения высказал и автор этих строк в статье «Русско-Имперские отношения в первой трети XVI века», опубликованной в сборнике Института славяноведения и балканистики в 1973 году.
7 марта 1514 г. в Германскую империю для ратификации подписанного фон Зоннегом договора отправились русские послы Дмитрий Федорович Ласкарь и дьяк Елизар Суков. Об их путешествии сразу же узнали в Польше и решили принять контрмеры. К Максимилиану был срочно отправлен посею польского короля Рафаил Лещинский, близкий друг Сигизмунда и его личный секретарь, но Максимилиан его не принял и передал через приближенных, что спор между Польшей и Тевтонским орденом будет решен на ближайшем рейхстаге. Он категорически отказался освободить от имперской подсудности Гданьск и Эльблонг, хотя Сигнзмунд очень просил его об этом. Тогда польский король прибег к помощи своего брата короля Венгрии Владислава. Посол Владислава Ренульт, хотя и был любезно принят императором, но почти ничего не добился. Максимилиан согласился передать спор между Польшей и Тевтонским орденом третейскому суду, состоящему из папы, императора, короля Владислава и курфюрстов. Решение, принятое этим судом, сказал Максимилиан, будет окончательным и судьи позаботятся о точном его выполнении. Это решение будет поддержано великим Московским князем и великим магистром Тевтонского ордена, во всяком случае, добавил Максимилиан, он обещает склонить Василия и Альбрехта к принятию и поддержке достигнутого на суде решения. Таким образом, сразу же после подписания договора с Россией император допустил серьезное отступление и от духа и от буквы его, в дальнейшем же, как мы увидим, такие действия со стороны императора станут традиционными.
Однако весной 1514 г. русские еще не знали этого. Воодушевленные успешно завершенными переговорами с императорским послом Георгом фон Зоннег, они начали еще одну дипломатическую акцию. По приглашению русских весной 1514 г. в Новгород приехали послы, представлявшие семьдесят ганзейских городов.
Точная дата начала переговоров неизвестна, однако, шли они несколько недель и окончились заключением договора летом 1514 г.
По этому договору ганзейцам разрешалась торговля в Новгороде «всяким товаром» и сошью, вновь открывался торговый двор с церковью и давалось обещание держать немцев «по старине». Ганзейцы, в свою очередь, соглашались «очистить» в Ливонии русские концы и церкви при них и ничем не обижать русских купцов.
В те дни, когда ганзейские послы трудились над составлением договора, в Москве собиралась огромная великокняжеская рать, готовая выступить на завоевание Смоленска. Борьба с Польшей более всего занимала великого князя и его приближенных. Новая обстановка и новые задачи вызвали к жизни и новые статьи договора, не встречавшиеся ранее в русско-ганзейских соглашениях, посвященных только урегулированию торговых вопросов. Так впервые появляются статьи, которые раньше включались только в политические договоры. В статьях 20–22 нового договора стороны гарантировали послам безопасность, неприкосновенность и содействие при проезде через русскую или ганзейскую территорию. Ганзейцы получали право отныне вести переговоры не в Пскове и Новгороде, как прежде, а в самой Москве. Согласно статьи 23 все семьдесят ганзейских городов обещали не оказывать никакой помощи польскому королю.
В самом начале мая месяца за три недели до начала Смоленского похода Василий III отправил к Туле крупные воинские силы во главе с князем Александром Владимировичем Ростовским.
При подготовке похода и вскоре после его начала в движение были приведены очень большие контингенты войск. Еще до того, как из Москвы выступили отряды Даниила Шени и Михаила Глинского, к Великим Лукам из Новгорода выступила рать князя Василия Шуйского.
7 июня в Великие Луки уехал полномочный представитель великого князя Василий Левашов. Он должен был передать приказ о выступлении войск Шуйского из Великих Лук к Орше.
На реку Угру были посланы войска во главе с боярином Воронцовым, а в Серпухов — во главе с братом великого князя Дмитрием Ивановичем.
Лишь после этого 8 июня 1514 г. Василий III с братьями Семенов и Юрием, выступив во главе огромной, прекрасно вооруженной армии, в третий раз пошел к Смоленску.
Поляки и литовцы, внимательно следившие за приготовлениями русских к новому походу на Смоленск, не ожидая выступления московских ратей к их границам, стали готовиться к отражению готовящегося вторжения.
24 мая 1514 г. король Сигизмунд разослал окружную грамоту о выступлении в поход на помощь Смоленску, по этой грамоте 24 июня все польско-литовские войска должны были собраться в Минске и оттуда направиться к осажденному Василием III городу. Однако приготовления к походу сильно затянулись и армия Сигизмунда собралась в назначенном месте лишь в конце июля. Между тем вокруг Смоленска плотным кольцом расположились русские войска. «Град же имея твердость, стремнинами гор и холмов высоких застворено и стенами великими укреплено», — писал летописец.
И все же 30 июля 1514 г. Смоленск капитулировал. В русской историографии установилась традиционная точка зрения, согласно которой город сдался после многократных штурмов и жестокого артиллерийского обстрела. Наиболее подробно развивает эту точку зрения С. М. Соловьев. Используя данные Архангелогородското летописца, Никоновской летописи и хроники Стрыйковского, С. М. Соловьев приходит к выводу, что Смоленск пал, не выдержав обстрела и опасаясь неминуемого штурма.
Вследствие этого, по свидетельству всех без исключения летописей, православный смоленский епископ Варсонофий от имени всех «гражан» попросил Василия III прекратить обстрел города, обещая капитуляцию. 31 июля «князи и бояре Смоленские град отвориша», и выйдя навстречу насилию, принесли ему присягу в верности. После крестного целования «князь великий их пожаловал, слово свое им жалованное молвил». Вслед за тем, 1 августа 1514 г. Василий торжественно въехал в Смоленск, который накануне привели к присяге русские воеводы.
Таким образом, события, связанные с капитуляцией Смоленска, по традиционной версии развертывались следующим образом:
Крепость была осаждена, обстреляна из пушек и атакована русскими войсками. Не выдержав обстрела, жители Смоленска 29 июля выслали к Василию III своего «владыку» епископа Варсонофия и тот уговорил великого князя сменить гнев на милость и прекратить обстрел города. 30 июля в город для приведения жителей к присяге были посланы русские воеводы. 31 июля в шатер Василия III явились готовые к покорности князья и бояре сдавшегося города и в этот именно день Московский великий князь «Слово свое им жалованное молвил», т. е. дал жалованную грамоту. Наконец, 1 августа побежденный город звоном церковных колоколов встретил въехавшего на его улицы великого князя.
Кроме летописных свидетельств, до нас дошла и «жалованная грамота» Смоленску, данная городу Василием III еще 10 июля 1514 г. За три недели до капитуляции города.
«Жалованная грамота» была своеобразным «Прелестным письмом», ознакомившись с которым, жители города захотели бы без боя перейти под скипетр Василия III.
Жалованная грамота начинается с обязательства Василия III «не вступатися» в смоленские вольности и ни в чем не рушить старинных установлений великих литовских князей Витовта и Александра Казимировича. Из текста грамоты следует, что это обязательство Василий III взял после того, как ему ударил челом епископ Варсонофий. Следовательно, Варсонофий договаривался с великим князем об условиях капитуляции еще до 10 июля 1514 г.
Жалованная грамота не только торжественно подтверждала сохранение всех старых привилегий всем слоям смоленского городского общества, но и сулила много новых благ и льгот. Мещанам и «черным людям» предоставлялось право «имати на себя» весчее с любого товару, все горожане освобождалась от уплаты ежегодного налога в сто рублей, который они платили великим Литовским князьям. Кроме того, жалованной грамотой запрещалось принимать в «закладни» мещан и «черных людей», мещане освобождались от предоставления подвод великокняжеским гонцам и т. д.
Вполне очевидно, что побежденный город, взятый с боя, не мог рассчитывать на столь значительные привилегии. Более того, льготы и привилегии, вписанные в жалованную грамоту, распространялись не только на жителей города Смоленска, но и на всех жителей «Смоленской земли». Об этом ясно говорится в тексте грамоты. После того, как грамота была составлена, а жители Смоленска распахнули крепостные ворота, Василий III досконально выполнил все свои обещания, ибо ему еще предстояла борьба за многие другие западнорусские города, он, вопреки обычаям, отпустил в Литву не пожелавших служить ему жолнеров, и даже выдал им в дорогу по одному рублю денег.
Результаты не замедлили сказаться: немедленно перешли на сторону Василия Мстиславль, Кричев и Дубровна, на которые тоже распространялись льготы жалованной грамоты и которыми русские войска не могли овладеть ни в первом, ни во втором, ни в третьем походах.
Почему же тогда Василию III пришлось через 20 дней после составления грамоты открыть огонь по Смоленску, как об этом свидетельствует Никоновская летопись и Архангелогородский летописец? Мне кажется, что в этой части вышеназванные летописи весьма далеки от истины.
В Псковской Первой летописи, сохранившей в изложении событий первого и второго походов множество очень правдоподобных мелких деталей, мы вообще не находим упоминания об обстреле Смоленска вовремя третьего похода, состоявшегося в 1514 г. Летописец утверждает, что когда великий Московский князь в третий раз появился под стенами Смоленска, то «нападе на них (жителей города — В. Б.) страх и трепет, и видя своего града погибель, и начаша бити челом великому князю Василию Ивановичу смольняне, чтобы их голов мечю не предал: а мы, тобе государю, город отворим».
Наше предположение еще более основательно подтверждается свидетельством Летописного свода 1518 г. — свода, наиболее близкого по времени составления к исследуемым событиям, «месяца июня, — сообщает летописец, — пришел князь великий сам с своею братиею под город Смоленск. Пушки и пищали велел около города оуставити, и пристоуп ко град хотел оучинити, ис пушек и ис пищалей велел (БЫЛ — В. Б.) по городу и в город бити.
Тогда же к великому князю выслана из града Смоленска бити челом владыка смоленский Варъсонофеи, и князи, и бояре смоленские, и мещане, и черные люди все о том, чтобы государь князь великий их вотчину свою и дедину отдал им и пожаловал бы государь князь великий, велел им себе служити и сь его вотчиною и со градом Смоленском, и старины бы государь пожаловал их не рушил, из града бы из Смоленска государь их не велел розвести.
Великий государь Василеи… и вотчиноу свою, князей, и бояр, и мещан, и черных людей всех града Смоленска пожаловал их, опалу свою им отдал и грамоту им свою жаловадную дал, как ИМ пригоже быти, и пожаловал веле им свои очи видети.
И месяца июля 31 день выехаша из града Смоленска к великому князю к шатром многие князи и бояре смоленские очи великого князя видети и крест государю великому князю перед его бояры целовати… и град Смоленеск оттвориша».
В данном случае картина взятия города предстает перед нами уже совсем по-иному: во-первых, Василий III лишь поставил пушки и пищали вокруг города и только хотел было приказать открыть огонь, как из города выехал епископ Варсонофий, во-вторых, Варсонофий от имени всех слоев городского населения предложил Василию Ивановичу условия, на которых город готов капитулировать. Именно здесь епископ и попросил, чтобы «государь пожаловал их не рушил, из града бы из Смоленска государь их не велел развести», в-третьих, Василий Иванович согласился с предложением смоленского епископа «и грамоту им свою жалованную дал, как им пригоже быти».
Если бы Василий диктовал свои условия Смоленску, то летописец записал бы «по всей своей воле, как ему пригоже», а в данном случае грамота была дана «как им (смольнянам — В. Б.) пригоже».
Василий, как уже говорилось выше, очень милостиво обошелся с жолнерами гарнизона. Всех, кто не пожелал служить ему, он отпустил из города. Вместе с этими людьми был отпущен и бывший королевский наместник и воевода пан Юрий Сологуб. Приехав в Краков он предстал перед королевским судом, был признан изменником и затем обезглавлен на Рыночной площади. Участь Сологуба является косвенным подтверждением того, что Смоленск был сдан Василию III без боя.
Король Сигизмунд узнал, что Смоленск сдался русским 30 июля. Он находился в это время в полевом лагере под Минском, в 250 км от театра военных действий. Полный отчаяния, он написал в этот же день письмо своему брату Владиславу Венгерскому. В письме Сигизмунд обвинял во всех постигших его бедах императора Максимилиана, папу и засевших в Смоленске предателей и изменников. В этом письме Сигизмунд сообщал буквально следующее: «ныне же не знаем, какими судьбами, не испытав ни штурма, ни кровопролитного сражения, при обилии провианта и всего, что относится к жизненным средствам. Смоленская крепость отворила ворота и предалась врагу, прельщенная самыми пустыми обещаниями, благодаря низкой измене кое-кого из наемников и местной знати».
Жалованная грамота, составленная в ставке великого Московского князя, и была теми самыми «пустыми обещаниями», на которые польстились жители Смоленска.
В иностранных источниках большое внимание уделяется «измене кое-кого из наемников и местной знати», причем все эти источники связывают падение Смоленска с деятельностью агентов князя Михаила Глинского среди гарнизона и населения города.
Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Смоленске и в Москве через два с половиной года после его присоединения к России, писал, что «Василий Иванович очень часто и весьма решительно осаждал ее, но никогда однако не мог взять ее силою. В конце же концов он овладел ею через измену воинов и начальника, одного чеха…».
В ливонских источниках прямо указывается на то, что Смоленск был взят благодаря стараниям Глинского, который и сам считал себя единственным виновником падения крепости.
Стрыйковский добавляет в своей «Хронике», что еще во время первого похода агенты Глинского не только вербовали в разных странах наемников для войны с поляками, но и подкупали граждан Польши и Литвы. «Между нашими, пишет Стрыйковский, — также находились некоторые, преимущественно простолюдины, которые тайно брали деньги от Глинского». Зная характер Михаила Глинского, учитывая его связи с местным населением и большие богатства, которыми он располагал, не трудно поверить в то, что в осажденном Смоленске были его агенты.
Однако важно отметить и другое: никаким заговорщикам не удалось бы сдать город, если бы население Смоленска, в массе своей православное и русское, не отнеслось сочувственно к идее перехода под скипетр единоверного им Василия III.
Узнав о падении Смоленска, великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт еще более утвердился в намерении начать открытую борьбу с Сигизмундом. К этому моменту он уже отправил к императору Максимилиану еще одного своего посла, чтобы выработать конкретные меры борьбы против Польши и договориться о предоставлении помощи Ордену со стороны Максимилиана.
В середине августа император уведомил Альбрехта о том, что создание антипольской коалиции завершено и что теперь в союзе против Сигизмунда состоят Ливония, Дания, Бранденбург, Саксония, Валахия и Россия. Заметим, что русские послы Ласкарь и Сухов находились в резиденции Максимилиана городе Гмюнде — одновременно с послами Тевтонского ордена; договорная грамота, привезенная ими с собою, была ратифицирована императором 4 августа.
Казалось, что после падения Смоленска для Сигизмунда началась полоса поражении и неудач и на дипломатическом фронте, но 8 сентября 1514 г. переменчивое военное счастье вновь улыбнулось полякам и литовцам. В этот день польско-литовская армия, возглавляемая гетманом Константином Острожским, наголову разгромила русское войско под Оршей, захватив в плен сотни русских военачальников и дворян.
Сигизмунд решил оптимально использовать оршинскую победу для того, чтобы поднять международный престиж Польши и улучшить ее внешнеполитическое положение. Король разослал пышные реляции, во многие страны Европы, но более всего писем было послано им Альбрехту и Плеттенбергу. Сановники ордена, рыцари и купцы, оказавшиеся случайно в России, приближенные короля Сигизмунда, наперебой старались уведомить Альбрехта и Плеттенберга о «великой победе на Днепре», одержанной над русскими. Сигизмунд рассылал не только письма о победе под Оршей. Ко дворам многих государей Европы были отправлены транспорты русских пленных, подаренных Сигизмундом своим союзникам и доброжелателям. Под сильной охраной, закованных в цепи пленных, отправили к Владиславу Венгерскому, князю Яношу Заполяи, герцогу Казимиру Тешенскому, дожу Венеции и папе Льву X. Любопытно, что на польскую охрану, сопровождавшую пленных к папе, во владении императора напали неизвестные люди и силой отбили пленных.
Освобожденных из плена русских через Любек отправили на родину. По мнению многих, это было сделано либо по приказу императора, либо по наущению великого магистра Тевтонского ордена.
Таким образом, усилия Сигизмунда создать впечатление коренного перелома в войне в результате победы под Оршей сказались тщетными. Никто, в том числе и Альбрехт, не изменил прежней политической линии. Получив письмо Сигизмунда от 14 сентября 1514 г. великий магистр письмом от 25 сентября ответил, что он рад победе короля над русскими и просит не верить ложным слухам о том, что он хочет заключить союз с русскими против Польши. Но это был всего-навсего увертливый тактический ход. Уже в следующем месяце Альбрехт направил своего посла в Данию для того, чтобы уточнить действия, которые следовало предпринять Тевтонскому ордену против Польши и Литвы, в связи с созданием антиягеллоновской коалиции.
Таким образом, уже через несколько недель после битвы под Оршей и Сигизмунд, и его противники одинаково хорошо пеняли, что эта победа ничего не изменила в ходе войны. Смоленск по-прежнему оставался под скипертом Василия III, а его войска стояли на берегах Днепра, готовые к дальнейшей борьбе. Обстоятельства требовали решительных действий, способных в корне изменить обстановку. И Сигизмунд предпринял их, на сто восемьдесят градусов изменив свой внешнеполитический курс. Он решил отказаться от соперничества с Габсбургами и все усилия направить на борьбу с Россией.
Внутри страны Сигизмунд встретил резко враждебное отношение к новому внешнеполитическому курсу со стороны примаса Польши Лаского. Еще на Познанском конгрессе Лаский выступил против императора и Тевтонского ордена, потребовав изгнания немцев из Пруссии.
Внешнеполитическая программа партии Лаского предусматривала борьбу с Габсбургами и немцами повсюду, где только возможно. Опираясь на поддержку Литвы и Мазовии, говорил Лаский, следовало изгнать Тевтонский орден с земель Пруссии или же добиться преобладания в нем поляков. Эту же цель Лаский преследовал, требуя заключения союза с Францией и примирения с Турцией.
На Востоке, в борьбе с Россией, Лаский стремился, прежде всего, заручиться поддержкой Ливонии, Швеции и Крыма.
Начал он с того, что в марте 1513 г. выехал в Рим на Латеранский собор. Там он должен был, наконец, добиться от папы подтверждения условий Второго Торуньского мира. Его отсутствием, а также постигшими Сигизмунда неудачами в войне с русскими воспользовались враги архиепископа, объединившиеся в прогабсбургскую партию. Во главе ее встал познанский епископ Ян Любранский, а наиболее активными деятелями были канцлер Кристоф Шидловецкий, занимавший одновременно пост председателя Сената, и подканцлер Петр Томицкий.
Шидловский был платным агентом Габсбургов. Он выслал в Вену копии самых секретных документов. Благодаря этому содействию Габсбурги знали все тайны польской политики. Впоследствии сам Шидловецкий говорил, что в разное время он получил от Габсбургов более 80 тыс. Флоринов.
Действуя по указке императора, Шидловецкии и Томицкий оказали на Сигизмунда давление и убедили его в том, что война с Россией является самой неотложной и жизненно важной для Польши задачей, а борьба с Габсбургами за Венгрию и Чехию должна быть прекращена. Под влиянием Шидловецкого Сигизмунд попросил Владислава Венгерского примирить императора с Польшей, и венгерский король, выполняя просьбу своего брата, отправил к императору посла Альбрехта Ренделя, который должен был попытаться найти почву для компромисса. После этого, в августе 1514 г., в Буду приехал один из ближайших советников императора, губернатор Вены Куспиниан.
1 сентября он встретился с канцлером польского королевства Кристофом Шидловецким и начал переговоры об организации встречи императора с Владиславом и Сигизмундом. Они договорились, что встреча состоиться в Братиславе в начале следующего года. Куспиниан настоял и на том, чтобы на встрече трех монархов присутствовали и представители Тевтонского ордена.
Достигнутое соглашение было следствием не только тяжелого внешнеполитического положения Польско-Литовского государства, но, пожалуй, в не меньшей степени и следствием грандиозных внутренних катаклизмов, потрясших в это самое время Венгрию. Летом 1514 г. закончилось грандиозное восстание венгерских крестьян, проходившее под предводительством Дьердя Дожи. Осенью 1514 г. венгерский сейм принял закон, по которому крестьяне не входили в понятие «народ» и объявлялись «сословием, пребывающим в вечной неверности». Тем самым порабощение крестьян было снова признано законом страны. Страх перед новыми крестьянскими восстаниями заставил венгерских и чешских феодалов позаботиться об укреплении не только внутреннего, но и внешнеполитического положения. Внутри страны они добивались этого, вводя драконовские законы, во внешней политике — шли по пути установления прочного союза с германскими князьями и императором.
Максимилиан пошел навстречу Ягеллонам. Осенью 1514 г. он отправил в Москву Якова Ослера и Морица Бургшталлера для того, чтобы переменить договорные грамоты, составленные в Москве при участии Георга фон Зсннег. В новой договорной грамоте говорилось не о военно-политическом союзе против Польши, а о том, чтобы мирным путем склонить Сигизмунда к выполнению русских требований. Для этого Максимилиан предлагал встретиться с представителями Василия и Сигизмунда в Любеке и в присутствии имперских дипломатов, выполнявших роль третейских судей, договориться по всем нерешенным вопросам. И только в случае, если Сигизмунд откажется выполнить решения Любекского конгресса, союзники принудят его к этому силой.
13 декабря 1514 г. Ослер и Бургшталлер прибыли в Москву. 17 декабря они были приняты Василием III и изложили перед ним все, что предусматривалось их посольской инструкцей. Василий III категорически отказался переменить договорные грамоты, а по поводу конгресса в Любеке заявил, что если и направит туда своих послов, то только для того, чтобы засвидетельствовать свою правоту и объявить, что русские до тех пор будут сражаться с Литвой и Польшей, пока все западные русские земли не будут воссоединены с Россией.
Ослер и Бургшталлер выехали из Москвы в начале 1515 г.
Обеспечивал безопасность имперских дипломатов на пути в Германию, Василий III в первых числах января отправил в Ливонию гонца, который передал Плеттенбергу письмо с просьбой пропустить в Любек русского посла, направлявшегося к Максимилиану. Плеттенберг положительно отнесся к просьбе Василия III и о своем решении вскоре известил великого магистра.
Намечавшееся русско-орденское сближение великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт и его ближайшее окружение рассматривали, как средство сказать давление на польского короля.
22 мая 1515 г. Василий III направил великому магистру письмо. Он соглашался заключить с Альбрехтом военно-политический союз, направленный против Польши, в рамках тех соглашений, которые уже были заключены русскими с императором. Письмо было доставлено сначала в Ливонию, где по просьбе русского гонца с него сделали перевод на немецкий язык, и только после этого гонец Плеттенберга доставил его Альбрехту. Тем самым Плеттенберг самими русскими был посвящен в сущность взаимоотношений Василия III с Тевтонским орденом. И, скорее всего, это было сделано для того, чтобы Плеттенберг, учитывая новые тенденции в русско-орденских отношениях, занял бы более благоприятную для России позицию.
Сам Альбрехт одновременно предпринял некоторые шаги для подготовки общественного мнения в католической Европе. 23 апреля 1515 г. гроссмейстер сообщил прокуратору Тевтонского ордена В Ватикане епископу Иоганну Бланкенфельду, что больше он не может полагаться на императора и вынужден предпринять меры, которые обеспечили бы Тевтонскому ордену безопасность со стороны Польши. Не информируя Бланкенфельда о предпринятых им попытках сближения с Россией, Альбрехт все же написал прокуратору, что он озабочен возможностью возникновения слухов о русско-орденском союзе. Если это произойдет, писал великие магистр, Бланкенфельду следует предпринять все возможное, чтобы в Ватикане таким слухам никто не поверил. События, происшедшие летом 1515 г., еще более укрепили уверенность Альбрехта в том, что им избран правильный путь. Первым доказательством этого были встречи германского императора с Владиславом и Сигизмундом, состоявшиеся в Вене в середине июля 1515 г.
Конгресс начал работу в Братиславе 2 апреля 1515 г. До середины июня заседания проходили в Братиславе, а с 17 июня до 3 августа в Вене. Польскую и венгерскую делегации возглавляли Сигизмунд и Владислав Ягеллоны, а имперскую — до приезда императора Максимилиана Габсбурга — кардинал Матвей Ланго.
Польский король поставил перед собой задачу принудить Тевтонский орден к признанию зависимости от Польши, а императора — отказаться от права имперской подсудности в Западной Пруссии. Кроме того, Сигизмунд хотел, чтобы император прекратил анти-польские интриги в России.
Представитель императора кардинал Матвей Ланго, прежде всего, стремился к подписанию невыгодных Ягеллонам брачных контрактов, закреплявших права Габсбургов на короны Венгрии и Чехии.
Большинство историков считало, что главное причиной созыва конгресса в Братиславе, а затем в Вене, были внешнеполитические планы императора. Однако не только это заставило Максимилиана сблизиться с Ягеллонами. Прав был историк М. М. Щербаков, когда писал следующее: «Между сим временем дела императора Максимилиана в рассуждении Польши весьма переменились. Сей император по многих бесплодным покушениям присоединить под свое владение Венгрию и Богемию, видя размножающееся учение Лютерово, и по самому сему, страшась какого возмущения в самой Германии, за полезное почел с Польшею, с Венгриею и Богемией союзами утвердиться».
Страх перед народными движениями сделал сговорчивыми обоих Ягеллонов и кардинала Матвея Ланго. И поэтому главный вопрос — вопрос о заключении браков между Ягеллонами и Габсбургами — был решен довольно скоро. Затем был поставлен вопрос о взаимоотношениях Польши и Тевтонского ордена, но Ланго отказался решать его, настаивая на передаче дела суду курфюрстов. Сигизмунд решительно воспротивился и, в конце кондов, после долгих споров Ланго согласился с тем, что Тевтонский орден должен признать вассальную зависимость от Польши.
Следующий этап в работе конгресса наступил после того, как в Вену приехал император Максимилиан. 17 июля три монарха въехали в Вену, а уже через пять дней были подписаны брачные контракты и договор о дружбе между Максимилианом и Сигизмундом. По последнему трактату «возобновлялась и подтверждалась дружба и братство между Сигизмундом и Максимилианом». В связи с этим великий магистр Тевтонского ордена обязывался императором принести Сигизмунду клятву в покорности и точном соблюдении договора 1466 г. Однако, отступая от условий Второго Торуньского мира, император потребовал, чтобы в Тевтонский орден принимались только немцы. Императорская судебная палата впредь признавалась не правомочной вмешиваться в дела Гданьска и Эльблонга. Кроме того, император обязался не заключать с Россией договоров, направленных против Польши. Все это торжественно излагалось в преамбуле договора. Однако в самом тексте трактата многие из провозглашенных положений сопровождались оговорками, существенно изменившими характер всего документа. Категоричность преамбулы не была присуща дальнейшему тексту договора.
В отношении Тевтонского ордена было решено следующее: если в течение пяти лет после подписания трактата между Орденом и Польшей возникнет конфликт, то разрешение конфликта будет предоставлено третейскому суду, в которые войдут император, король Венгрии, и кардиналы Гуркский и Эстергомский. В отношении великого князя Московского было записано, что император «не будет его поддерживать прямо или через посредство других лиц и государств ни советом, ни каким-либо действием».
Следует заметить, что во время переговоров в Братиславе Владислав и Сигизмунд поставили перед Матвеем Ланго более жесткие условия: они требовали поддержки со стороны императора при переговорах поляков с Василием III. Причем Максимилиан должен был поддержать требования Польши и заставить Василия вернуть Смоленск, выплатить контрибуцию за ущерб, нанесенный войной, и отпустить пленных.
Польские представители, участвовавшие в работе конгресса, понимали, что в отношении Тевтонского ордена император дал только обещания и пока что не предпринял никаких действенных мер, чтобы заставить Альбрехта выполнить условия Второго Торуньского мира.
Поляки опасались, что Максимилиан не сдержит обещаний и по-прежнему будет покровительствовать Ордену. Решения Венско-Братиславского конгресса означали крупный поворот в отношениях между империей Габсбургов и Ягеллонами. Они означали также и тот весьма знаменательный Факт, что отныне Польско-Литовское государство отказывается от борьбы на два фронта и все свои силы направляет против России. Тем самым народы Балкан и Дунайского бассейна отдавались во власть Габсбургам и турецким феодалам-завоевателям.
Как видим, время с 1505 г. по 1515 г. было периодом энергичной деятельности русского правительства в борьбе против Литвы и Польши за западные русские земли.
Лишь в самом начале царствования Василия III внимание правительства было отвлечено к Казани — все остальное время борьба с Литвой и Польшей являлась первостепенной внешнеполитической задачей государства. В соответствии с этой задачей русское правительство строило систему взаимоотношений в Юго-восточной Прибалтике, вступила в новый союз с императором Максимилианом Габсбургом и подписала договор с Ганзой.
Однако создавшаяся в 1512–1514 гг. антиягеллоновская коалиция оказалась непрочной вследствие основательного изменения политики Габсбургами, заключившими за спиной своих союзников сепаратное соглашение с Польшей и Венгрией.
Это привело к тому, что расстановка сил в Восточной Европе резко нарушилась, что отразилось и на положении в Юго-Восточной Прибалтике, так как имперско-польское сближение больнее всего ударило по Тевтонскому ордену в Пруссии.
Глава четвертая РУССКО-ОРДЕНСКИЙ СОЮЗ
В Пруссии решения Венского конгресса приняли всерьез и великий магистр Альбрехт понял, что император, заключив брачные контракты между Ягеллонами и Габсбургами, пожертвовал Тевтонским орденом для достижения своекорыстных династических целей.
Первым, кто известил об этом великого магистра, был некий Дитрих фон Шонберг, с именем которого связано немало важных страниц в истории русско-орденских отношений последующих лет. Шонберг происходил из старой дворянской семьи, которая издавна была связана с бранденбургскими маркграфами. Дитрих вначале предназначал себя к духовному званию, но затем предпочел дипломатическую карьеру. Приехав в Кенигсберг, он поступил на службу к великому магистру, оставаясь, однако, светским человеком. С самого начала фон Шонберг объявил себя сторонником русско-орденского сближения. Как и многие другие авантюристы и фантазеры, Шонберг решил превратить русско-орденский союз в средство для обращения России в католицизм. Он считал, что Василий III охотно пойдет на унию с Римом, если папа предложит великому Московскому князю королевскую корону, отдаст русским Константинополь, кстати, принадлежащий не ему, а туркам-османам, и возведет в сан патриарха Московского митрополита. Шонберг хорошо понимал, что независимо от того, скажется ли этот план приемлемым для Василия III, он с восторгом будет принят папой Львом X. Кроме того, такой план превращал великого магистра Тевтонского ордена в глазах папы в энергичного рыцаря воинствующей католической церкви, а сам орден в бастион католицизма на востоке Европы.
14 декабря 1515 г. Дитрих Шонберг и великий магистр Альбрехт составили документ, в котором излагались конкретные шаги на пути к установлению орденско-русского сотрудничества, В инструкции от 14 декабря, где рассматривались задачи, стоящие перед орденскими послами, направляемыми в Москву, речь шла о том, чтобы воспрепятствовать миру между Россией и Польшей.
Действия, направленные против короля Сигизмунда, великий магистр хотел согласовать и с магистром Ливонии. Для этого Альбрехт предложил Плеттенбергу встретиться в Мемеле — ныне — литовский город Клайпеда расположенном на границе между Ливонией и Пруссией. Об этом узнал архиепископ Риги Яспер Линде и попытался не допустить встречи. Архиепископ предупредил Плеттенберга, что его поездка в Мемель может оказаться опасной и он очень бы не хотел, чтобы магистр Ливонии ехал туда. Не желая прямо высказать свое неудовольствие предпринимаемыми шагами, Линде сослался на то, что на Ливонию в любой момент могут напасть русские. Тем самым он давал понять Плеттенбергу, что главной опасностью для Тевтонского ордена были и остаются русские. Однако Плеттенберг сделал вид, что не находит в предстоящей встрече ничего плохого, да и на самом деле она его ни к чему не обязывала, тем более, что Альбрехт постарался представить предстоящие переговоры обычной дружеской консультацией, на которую ливонский магистр, скрепя сердце, все же решил согласиться Подготовка встречи была возложена на Дитриха Шонберга.
В феврале 1516 г. он выехал в Ливонию, для того чтобы пригласить Плеттенберга на рандеву с великим магистром. Переговоры Альбрехта с Плеттенбергом продолжались более недели. 24 февраля 1516 г. между ними было заключено секретное соглашение о взаимной помощи друг другу и военных операциях против Польши. План войны с королем Сигизмундом Альбрехт и Плеттенберг разрабатывали совместно. Предполагалось, что войну следует начать через год. Получив пять тысяч наемников в Бранденбурге и собрав десять тысяч наемников в Пруссии, орденские войска осадят Гданьск, а затем Торунь. Большие надежды немцы воздавали на Данию, которая должна была блокировать своим флотом польское Поморье. Что же касается Ливонии, то она должна была помочь Альбрехту деньгами. И все же, следует признать, что Плеттенберг довольно пассивно отнесся к готовящейся гроссмейстером войне. «Магистр Ливонский — старец Плеттенберг, — писал Н. М. Карамзин, — не участвовал в сем союзе: закоренелая ненависть к россиянам склонила его, даже вопреки пользам Немецкого ордена, доброжелательствовать королю. В течение войны, он с досадою извещал Прусского магистра о наших выгодах, с удовольствием — о неудачах».
Аналогично точку зрения высказывал и С. М. Соловьев:
«Плеттенбергу не нужно было напоминать об опасности, которая грозила Ливонии от Москвы, о правах России на Ливонию: он сам очень хорошо знал эти права, эту опасность; ненавидел Москву, готов был немедленно начать воину с нею в союзе с Литвою и Польшею, но сдерживался своим бессилием и враждебными отношениями к Польше великого магистра Тевтонского».
Русские послы Заболоцкий и Малой вернулись в Москву вместе с императорским послом Пантелеоном фон Турном. На аудиенции с Василием III Турн вручил великому князю грамоту императора, в которой объяснялись причины задержки военных действий против Польши. По словам императора, он не начал войны из-за того, что Владислав и Сигизмунд Ягеллоны просили его помирить Василия III с поляками. Однако в письме к Василию III ни слова не говорилось ни о брачных контрактах, заключенных в Вене между Габсбургами и Ягеллонами, ни об изменении позиции императора к Тевтонскому ордену, ни о том, что Максимилиан уже взял на себя обязательства примирить поляков с русскими и, по сути дела, отказался от союза с Россией. Таким образом, Турн должен был прозондировать почву и убедиться, насколько подготовлены русские к тому, чтобы согласиться с новой позицией императора.
Максимилиан, отправив Турна, не стал дожидаться возвращения своего посла. По-видимому, ему была крайне нужна информация о том, какое отношение вызвала в России его инициатива на Венском конгрессе, касающаяся посредничества в русско-польских отношениях. Для этого Максимилиан послал в Москву еще одного посла — Бальтазара Одера.
Одер быстро добрался до Москвы и потребовал от Василия III начать мирные переговоры с Польшей. Русские были поражены этим требованием, ибо буквально за несколько дней перед этим Панталеон фон Турн ни слова не сказал о мире с поляками. Различие инструкций Турна и Одера привело к небывалому инциденту: первый посол обвинил второго в том, что он не императорский посланец, а польский шпион. Бальтазара бросили в тюрьму, но вскоре выпустили, разобравшись, в чем дело, и рассерженный Василий III отправил его восвояси. Следом за Бальтазаром выехал и Панталеон фон Турн. Вместе с ним к императору отправился дьяк Василий Тетерин. Проезжая через Польшу, Турн только и мог сказать королю, что русские не собираются слать в Польшу своих послов.
2 мая 1516 г. Плеттенберг известил Альбрехта, что императорское посольство в сопровождении русских дипломатов направляется в Германию. Однако в Кенигсберг послы попали лишь через полтора месяца из-за того, что на границе Жемайтии на них было совершено нападение. Так же как и пять лет назад, когда в Пруссию возвращался Христофор Шлейниц, территория Жемайтии все еще оставалась ареной пограничных конфликтов и стычек. На послов императора и Василия III напали поляки и захватили в плен двух человек из свиты Панталеона фон Турна и одного — из свиты Василия Тетерина. Послам пришлось дождаться надежного конвоя и лишь после этого продолжать свое путешествие. Впоследствии Альбрехт известил об этом инциденте императора и попросил принять меры, способствующие освобождению захваченных поляками слуг немецкого и русского дипломатов.
Дьяк Василий Тетерин по пути в империю должен был выполнить и еще одно поручение: встретиться с великим магистром Альбрехтом Гогенцоллерном и проинформировать его о позиции, которую занимает Россия по отношению к Тевтонскому ордену. Проезжая через Кенигсберг, Тетерин встретился с гроссмейстером и известил его, что Василий III готов взять Орден под защиту и не возражает против приезда в Москву орденского посла. Альбрехт уведомил Василия III о разговоре с Тетериным письмом от 14 июля 1516 г. и в ответ, 11 октября 1516 г. Василий III отправил в Пруссию охранную грамоту для орденского посла, который должен был приехать в Москву.
22 января 1517 г. орденский посол Дитрих Шонберг получил инструкцию для Ливонии, а 23 января — инструкцию для Москвы. Следует заметить, что от магистра Ливонии утаивались истинные цели предпринимаемой миссии. В инструкции для Ливонии было написано, что великий магистр и сам с неохотой смотрит на то, как русские посольства ездят через его страну, но он должен терпеть это до тех пор, пока решение польско-орденских противоречий зависит от императора.
26 февраля Шонберг был принят Василием III. Во время первой аудиенции орденский посол попросил великого Московского князя прислать на помощь великому магистру 30 или 40 тыс. конницы. За это после разгрома Польши, сказал орденский посол, русские присоединят к себе все те территории, которые расположены поблизости от их границ, а немцы — все что находится поблизости от Пруссии. Такое требование было признано чрезмерным и поэтому на второй аудиенции Шонберг ограничился просьбой сказать великому магистру денежную помощь для найма кавалеристов и пехотинцев. Лишь во время третьей аудиенции русские согласились предоставить Альбрехту кредит, однако, после того, как им будут взяты у поляков города Западной Пруссии. Размер денежной помощи позволял Альбрехта нанять только 10 тыс. пехотинцев и 2 тыс. кавалеристов.
Все, о чем Шонберг договорился во время трех аудиенций было зафиксировано в договоре, подписанном 10 марта 1517 г.
Договор предусматривал взаимную помощь и совместные военные действия России и Тевтонского ордена против Польши и Литвы. На следующий день, получив от Василия III богатые подарки, Шонберг уехал в Кенигсберг.
По курьезному совпадению, в тот самый день, когда в Кремле был подписан союзный русско-орденский договор, в Ватикане папа Лев Х торжественно провозгласил пятилетнее перемирие между всеми христианскими государями, чтобы за это время избрать лучшее средство для борьбы против турок. Однако на самом деле целью папской буллы являлось прекращение войны между Русью и Польско-Литовским государством, ибо в 1517 г. никаких других войн между христианскими государствами не было. Интересно, что во главе крестоносных сил Лев X планировал поставить великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта Гогенцоллерна, желая тем самым отвлечь его от борьбы с королем Сигизмундом.
26 марта 1517 г. в Пруссию выехал русский посол Дмитрий Давыдович Загряжский. Он должен был присутствовать при ратификации договора и оговорить окончательные условия предоставления кредита.
Кроме того, Загряжскому следовало выяснить некоторые вопросы, связанные с общей международной обстановкой в Европе.
Русские послы благополучно добрались до Гробиня — небольшой портовой деревни, расположенной в 10 верстах от Либавы — а черех три недели туда же на корабле прибыл Шонберг. Морское путешествие до Мемеля было очень непродолжительным, однако за это время Загряжский услышал Шонберга много интересного. Русский дипломат узнал, что германский император заключил мир с Венецией, но продолжает борьбу в Швейцарии. В Египте турки-османы взяли Иерусалим, и об этом, по словам Шонберга, турецкий султан известил короля Сигизмунда. В польских делах Шенберг оказался наиболее сведущим. Он сообщил Загряжскому, что Сигизмунд собрал минувшей зимой очень большие чрезвычайные налоги со всего населения, вызвав недовольство и среди панов и среди «черных людей», но особенно неохотно платили королю подати прусские города. И, наконец, Шонберг рассказал Загряжскому что в Любек съезжаются представители всех семидесяти ганзейских городов для обсуждения вопроса о том, как помочь шведам в их борьбе с Данией.
5 июня Загряжский и Шонберг прибыли в Мемель. Состоявшиеся здесь русско-орденские переговоры заняли два дня. После ратификации договора Шонберг попросил ускорить предоставление денежной помощи. Для определения размеров помощи и качества отправляемых в Пруссию денег в Москву должен был поехать новый посол — гофмаршал Тевтонского ордена Мельхиор фон Рабенштайн.
11 июня 1517 г. Дмитрий Загряжский уехал из Мемеля и через две недели прибыл во Псков. Отсюда он отправил Василию III письмо, в котором и изложил результаты своего посольства.
Когда Загряжский вернулся в Москву, он узнал, что собранная им информация представляет особую ценность, ибо вскоре после его отъезда в Пруссию при московском дворе появилось новое императорское посольство, возглавляемое одним из самых лучших германских дипломатов — бароном Сигизмундом Герберштейном.
Герберштейн приехал в Москву через три недели после отъезда Загряжского в Ливонию, 18 апреля. Пятью месяцами раньше он вместе со своим племянником Иоганном фон Турн выехал из эльзасского города Гагенау для выполнения сложных и ответственных дипломатических поручений. Император поручил Герберштейну проводить к Сигизмунду свою внучку, миланскую принцессу Бону Сфорца, которая была обручена с польским королем. Далее он должен был сообщить королю о том, что император нашел способ уладить разногласия между Польшей и Тевтонским орденом и, наконец, в его задачу входило договориться с Сигизмундом об условиях, на которых мог состояться мир между Россией и Польшей.
Прежде чем попасть в Вильно, императорский посол заехал в Кенигсберг. Он встретился там с великим магистром Тевтонского ордена. Во время аудиенции Альбрехт попросил Герберштейна пере — дать королю Польши его личное послание. В этом послании Альбрехт вновь требовал у Сигизмунда возвращения Западной Пруссии. Он соглашался и на компенсацию: если король не захочет отдавать Западную Пруссию, он может вернуть Ордену Жемайтию. Несмотря на то, что просьба Альбрехта о передаче письма королю, по сути дела, превращала Герберштейна в посредника между Тевтонским орденом и Польшей и могла повредить успеху всей его миссии, императорский посол согласился исполнить это поручение. После этого Герберштейн и Бона поехали в Вильно.
Следует заметить, что когда возник вопрос о второй женитьбе короля Сигизмунда, среди польских прелатов и магнатов мнение по этому вопросу не были единым. Лаский настаивал на браке короля с мазовецкой княгиней Анной Пяст или ее дочерью. Одновременно, говорил Лаский, нужно выдать замуж за сыновей Анны Пяст дочерей короля Сигизмунда. Такая матримониальная комбинация обезопасила бы польский престол от посягательств со стороны Габсбургов. Однако Сигизмунд склонился на сторону Любранского и Шидловецкого, поддерживавших кандидатуру принцессы Боны. После этого Лаский выдвинул новый план. Он знал, что Бона Сфорца приносит с собой в виде приданного княжество Бари, расположенное в области Апулия, в самой крайней в юго-восточной Италии. А так как восточное побережье Италии, постоянно находилось под угрозой турецкого вторжения, он предложил перевести туда Тевтонский орден, обменяв Бари на Восточную Пруссию. Этот проект надлежало обсудить в Риме, ибо без ведома папы трудно было рассчитывать на его выполнение. Однако, папа не одобрил проект Лаского.
В первые дни по приезде в Вильно Герберштейну повезло: невеста пришлась по душе королю Сигизмунду. И, таким образом, наиболее деликатнее поручение императора было выполнено. Но другие поручения императорский посол выполнить не смог. Сигизмунд откровенно признался Герберштейну, что самым важным вопросом он считаем заключение мира с Россией. Он попросил императорского посла всячески содействовать заключению этого мира и передать Василию III, что поляки согласны вести переговоры или на русско-литовской границе, или в Риге, или во владениях датского короля. 14 марта императорский посол покинул Вильно, а 18 апреля въехал в Москву.
Уже через три дня, 21 апреля, Герберштейн был принят Василием III. Во время этой аудиенции императорский посол вначале, строго следуя полученной инструкции, заявил, что главной целью императора является объединение всех христианских государей для борьбы с турками. Теперь, сказал Герберштейн, Максимилиан достиг наивысшего могущества, ибо все государи Европы связаны с ним либо родством, либо узами дружбы. И только Сигизмунд и Василий враждуют между собой, ослабляя христиан и радуя язычников. После этого барон отошел от текста инструкции и прибавил от себя, что турецкий султан Селим Явуз разгромил войска египетского султана. Это добавление Герберштейн сделал, желая в глазах русских еще более усилить впечатление о размерах турецкой опасности. В заключение Герберштейн от имени императора предложил подписать с поляками вечный мир или же, на худой конец, хотя бы перемирие. Причем пункты, где должны были вестись переговоры между русскими и польскими дипломатами, императорский посол назвал точно так, как просил его об этом король Сигизмунд. 22 апреля бояре дали ответ Герберштейну. Согласившись в принципе на ведение переговоров, советники Василия III категорически отказались от встречи с поляками где либо, кроме Москвы.
27 апреля Герберштейн послал своего племянника Иоганна фон Турна в Вильно для того, чтобы проинформировать польского короля о ходе переговоров и получить от него новые инструкции.
Фон Турн не только сообщил Сигизмунду о ходе переговоров, ко и обрисовал общую дипломатическую обстановку, складывающуюся вокруг русско-польских отношении. Он упомянул и о том, что за месяц до приезда императорских послов в Москву там побывал посол великого магистра, заключившие с русскими союз против Литвы и Польши.
Сигизмунд немедленно подал пале жалобу на то, что великий магистр Тевтонского ордена, призванный бороться с неверными, заключил с ними союз, направленный против католического короля. Однако от предложения направить к Василию III послов для ведения переговоров о мире Сигизмунд не отказался и согласился вести их в Москве. 14 июля фон Турн возвратился в Москву за «грамотами» для польских послов. Он передал Герберштейну, что король просит ускорить подписание мира и императорский посол немедленно попросил аудиенцию у Василия III.
15 июля Герберштейн заявил великому Московскому князю, что не может долго оставаться в России, и если до конца августа поляки не приедут в Москву, то он по воле императора покинет столицу. 23 июля Василий III приказал выдать «грамоты» на польских послов и на следующий день фон Турн повез их в Вильно.
В то время, как Турн ехал в Литву, через Дикое Поле к южной засечной черте двинулась 20-тысячная крымская рать, возглавляемая Такузаном-мурзой и Кудаш-мурзой. По мнению русских татары с сверлили набег по наущению короля Сигизмунда, который накануне посылал в Крым к сыновьям Менгли-Гирея своего приближенного Олбрахта Мартынова «с великою казною», чтобы «навести» татар на Русское государство. Набег татар вскоре был отбит и из 20 тысяч «мало их в Крым явилося, но и те пеши, босы и наги».
В это самое время в Москву прибыл орденский посол гофмаршал Мельхиор фон Рабенштайн. 30 августа Рабенштайн был принят Василием III. Он попросил от имени великого магистра выслать для начала 50 тысяч гривенок серебра, из расчета, что 20 серебряных гривенок равны одному рейнскому золотому, а затем ежемесячно посылать в Кенигсберг 60 тысяч золотых для найма кавалеристов и пехотинцев.
Бояре дали Рабенштайну ответ спустя две недели. Гофмаршалу напомнили о том, что по условиям союзного договора от 10 марта 1517 г. деньги могут быть высланы только после того, как Альбрехт подчинит королевскую Пруссию и пойдет к Кракову. Бояре заявили, что в настоящий момент русские воеводы стоят у Великих Лук и у Опочина, а король Сигизмунд подошел к Пултуску и что сейчас орденским войскам самое время ударить по полякам. Рабенштайн ничего на это не ответил, ибо на такие переговоры уполномочен не был.
В тот же день Василий III приказал отправить его обратно, не пригласив перед дорогой к столу, не одарив никакими подарками и даже послав к псковскому наместнику князю Ивану Васильевичу Шуйскому грамоту с наказом, «чтоб его князь Иван не продержал у себя ни часу».
Через полмесяца после отъезда Рабенштайна в Москву вместе с Иоганом фон ТУРН прибыли польские послы Шит и Богуш. Послы ждали встречи с Василием около месяца. Великий Московский князь не принимал их из-за того, что во время пребывания польских послов в Москве Константин Острожский начал военные действия против русских, нарушив старый обычай, гласивший, что во время посольств и переговоров «меж государей рать не живет». Русские воеводы не были. захвачены врасплох и дело кончилось тем, что гетман литовский, «пометав многие свои оружья и скарб побежал прочь в свою землю».
24 октября известие о том, что нападение Острожского отбито, пришло в Москву и в тот же день Герберштейну и польским послам сообщили, что через пять дней им нужно быть у великого князя.
29 октября Щит и Богуш вручили свои верительные грамоты, а 1 ноября приступили непосредственно к переговорам. В присутствии Герберштейна поляки предъявили столь неумеренные требования, что русская сторона отказалась их обсуждать.
3 ноября императорского посла вновь, на этот раз одного., вызвали в Кремль. Здесь ему напомнили о существовании союзного договора между Россией и Германской империей.
Дальнейшие встречи русских с Богушем, Щитом и Герберштейном ни к чему не привели. 18 ноября из Москвы уехали польские послы, а 22 — фон Турн и Герберштейн. Любопытно, что 19 ноября Герберштейн отправил письмо великому магистру Тевтонского ордена. В нем он писал, что путешествие, которое им было предпринято для того чтобы не проливалась далее христианская кровь, закончилось неудачей. Но усилия должны быть продолжены и он надеется, что вскоре все будет приведено к благополучному концу. В этом кратком письме к Альбрехту Герберштейн сам, как нельзя лучше, подвел итоги своего неудавшегося посольства.
После отъезда Герберштейна из Москвы туда еще не раз приезжали имперские дипломаты. Но было ясно, что русско-имперский договор усилиями Максимилиана превратился в клочок бумаги.
С. М. Соловьев отмечал, что «и при Василии союзный договор с Австрийским домом остался также бесполезен, как и при Иоанне III; Максимилиан не только не исполнил главного условия договора — действовать против Сигизмунда заодно с Василием, но даже, принявши на себя рель посредника, явно держал сторону Сигизмунда».
Через пятнадцать лет, после того, как были написаны эти строки, другой русский историк В. В. Бауэр еще раз изучил русско-имперские отношения конца XV — начала XVI вв., введя в научный оборот большое число неизвестных Соловьеву документов. Но и этот ученый пришел к таким же неутешительным выводам, что и его предшественник. Бауэр писал: «Таким образом, наши сношения с императорским Габсбургским домом с самого начала их и до 1517 года не изменили своего характера. Императоры смотрели на Московское государство единственно, как на орудие против Польши для отвода ее от вмешательства в венгерскую политику:
Фридрих и Максимилиан, заключая союз, никогда не помышляли об исполнении данных обязательств, и, по достижении цели, тотчас же отрекались от заверений в вечной дружбе с государем — „варваром и схизматиком“. Россия от союзов с императорами ничего не выигрывала. Ни Фридрих, ни Максимилиан не выставляли обещанного войска, не нападали на Польшу одновременно с великим князем, даже не объявляли ей официально войны, и мирились с ней без ведома и согласия союзника».
* * *
Между тем русско-орденское сближение продолжалось. 4 января 1518 г. Василий III послал Альбрехту письмо, в котором требовал, чтобы Тевтонский орден начал войну с поляками, так как русские уже ее ведут. В то же время немцы проявляли крайнюю заинтересованность в быстром получении денег. Для этого в Москву во второй раз отправился Дитрих Шонберг.
21 марта 1518 г. Василий III дал аудиенцию орденскому послу. Поздравив Василия III с победой, одержанной над Острожским, Шонберг затем пояснил причину задержки военных действий со стороны Ордена. Он сказал, что император предложил Альбрехту свое посредничество для урегулирования спора между Польшей и Тевтонским орденом и из-за этого великий магистр не начал войну с Сигизмундом. Польский король, добавил Шонберг, нуждается в мире. Он очень боится нападения татар и турок и сам распространяет слухи, что уже заключил мир с Россией. Сеймы Польского королевства и Великого княжества Литовского предупредили короля, что они лишь тогда станут платить налоги, когда будет, наконец, заключен мир. Орденский посол посоветовал русским воспользоваться трудным внутренним положением Литвы и Польши и совершить нападение на страну. По его мнению, наиболее удачным моментом для нападения было бы время после пасхи, когда король собирался отпраздновать свадьбу с Боной Сфорца и ждал на торжества всех магнатов Литвы и Польши. Наиболее подходящим местом для нападения Шенберг считал Жмудскую землю, ибо в ней нет ни войск, ни крепостей и полно всякого фуража и продовольствия. В заключение аудиенции Шенберг сообщил, что к Альбрехту приезжал посол императора и просил не всевать с поляками, ибо, по мнению Максимилиана, будет очень плохо, если король Сигизмунд потерпит поражение, а великий князь Московский усилится еще более.
27 марта Шенберг попросил Василия отдать приказ о чеканке обещанных денег, ибо сразу изготовить много денег невозможно. Затем он попросил до начала военных действий выдать денег на наем тысячи пехотинцев и, наконец, передать с ним грамоту королю Франции, в которой в доброжелательном для Альбрехта свете представлялась бы роль Тевтонского ордена в борьбе с Польшей.
Аудиенция 27 марта отличалась от предыдущей тем, что на этот раз Шонберг передал боярам грамоту, которая подтверждала, что он уполномочен и на тайные речи. В записях, сделанных Московскими дьяками в Прусской посольской книге, содержатся только те данные, которые были приведены выше. Однако, если сличить эти записи с документами архива Тевтонского ордена, то обнаруживается один существенный пробел. Сказывается, что на аудиенции речь шла и о возможности церковного союза с Римом, предложение, которое не было поддержано русскими.
17 апреля 1518 г. Шенберг отправился в обратный путь, добившись согласия Василия III на все пункты, предусмотренные в официальной инструкции. По дороге в Пруссию Шонберг послал в Рим сообщение о переговорах об унии и крестовом походе против турок. Прокуратор Ордена в Риме, Ревельский епископ Иоганн IV Бланкенфельд, получив извещение Шенберга, сразу же информировал об этом палу Льва X.
Таким образом, второе посольство Дитриха Шенберга можно считать удачным для Тевтонского ордена. Через три дня после отъезда Шенберга Василий III отправил в Псков с деньгами дьяка Ивана Некрасова, приказав ему немедленно переправить серебро Альбрехту, как только будет получено известие о начале войны Ордена с Польшей.
Бесед за Некрасовым 22 апреля 1518 г. в дорогу отправился посол Елизар Сергеев. Он должен был проехать в Кенигсберг и, находясь там, сделать все возможное для того, чтобы Тевтонский орден скорее вступил в войну с Польшей. Сергееву следовало узнать о том, кто входит в число союзников Ордена и много ли наемников собралось под его знамена. Сергеев должен был, кроме того, точно узнать о размере месячной платы пешему и конному наемнику.
1 июня 1518 г. начались переговоры между русским послом Сергеевым и великим магистром Тевтонского ордена. Альбрехт выразил полнее согласие со всем, что делает Василий III, и заявил, что самое важное для Ордена не плата для тысячи наемников, а то, что великий магистр находится под защитой могучего союзника.
Сергееву удалось получить ответы на все вопросы, которые содержались в его польской инструкции. Великий магистр сказал, что его союзниками являются пять курфюрстов империи из семи и король Дании.
Сергеев привез в Москву известие о том, что послы Сигизмунда снова отправились к императору, чтобы просить его о содействии в переговорах с русскими, ибо силы Польши истощены и страна не может более продолжать войну. Сергеев узнал также и точным размер платы различным наемникам: пешим кнехтам, кавалеристам и пушкарям, а также и командирам разных рангов.
Сергеев уехал из Пруссии 9 июня 1518 г., а в это время у короля Сигизмунда находился легат римского папы монах — доминиканец Николаи Шонберг — родной брат Дитриха Шенберга. Великий магистр Альбрехт знал об этом, но лишь в конце августа проинформировал о римско-польских переговорах Василия III.
Какие же цели преследовал папский легат?
С. М. Соловьев связывал миссию легата Николая с неповиновением Тевтонского ордена императору. Он пиал, что когда Орден вышел из-под влияния и контроля императора и начал военные действия против поляков, «явился новый посредник — папа, легат которого Николай Шонберг старался склонить всех государей христианских к союзу против неверных».
Инструкция о переговорах в Пруссии была выдана Николаю Шонбергу 19 марта 1518 г. В ней легату предписывалось уведомить великого магистра о необходимости содействовать заключению мира между Россией и Польшей, а затем склонить Василия III к участию в антитурецкой лиге. Как и год назад, папа отводил Альбрехту роль предводителя крестоносного войска.
Сначала Шонберг посетил Венгрию. В Буде он присутствовал на заседаниях сейма, где в это же время находился и барон Герберштейн, недавно возвратившийся из Москвы. Здесь легат договаривался о том, каким путем следует пойти войску крестоносцев к Константинополю. В Венгрии Шонберг представил план, резко отличающийся от плана, предложенного полгода назад в ноябре 1517 г. По новому плану армия крестоносцев состояла не из 76 тысяч человек, а уже из 190 тысяч.
Предполагалось направить войска к Константинополю тремя путями: через Венгрию, через Балканы и по Средиземному морю. Но и ответ Людовика Венгерского, и ответ Сигизмунда были. отрицательными.
Затем Шенберг выехал в Польшу. Тяжелое положение, в котором находилась Польша, облегчало задачу легата. Сигизмунд охотно согласился на посредничество легата в переговорах между Польшей и Россией. Соглашаясь на проезд легата в Москву, Сигизмунд сильно сомневался в успехе предстоящих переговоров. По его мнению, Василий III был лишен великодушия и благородства и почти безрассуден в своих действиях. Если легат возьмет на себя миссию заключить перемирие между Москвой и Польшей, заявил Сигизмунд, то ему придется выслушать такие тяжелые и несуразные условия, на которые Польша едва ли согласится.
4 июня 1518 г., когда Николай Шенберг был в Польше, а его брат Дитрих вел переговоры с русским послом Елизаром Сергеевым, Лев Х направил в Краков еще одну буллу своему легату. В ней Николаю Шенбергу предписывалось ехать в Москву и передать Василию III папскую грамоту о союзе церквей и участии России в антитурецкой лиге.
Однако, когда Николай Шенберг намеревался ехать в Россию, король Сигизмунд не пустил его под тем предлогом, что обстановка, создавшаяся на театре военных действий, требует продолжения войны. На самом же деле Сигизмунд боялся поездки Николая Шенберга в Москву, тем более, что туда уже прибыло посольство императора, специально направленное в Россию для заключения перемирия между Василием III и Сигизмундом.
В августе 1518 г. легат покинул Краков и через Буду проехал в Аугсбург. В Аугсбурге в это время проходили последние заседания имперского сейма. Энергичный доминиканец активно включился в работу сейма, как бы пытаясь компенсировать неудачи, постигшие его в Польше и Пруссии, однако и здесь разногласия были весьма серьезными, и Шенбергу не удалось добиться цели, поставленной перед ним Львом X.
Таким образом, легат Николай Шонберг не сумел достичь успеха ни в одной из стран, в которые он был послан. Причиной тому явились глубокие противоречия между Ватиканом и Габсбургами с одной стороны и между Россией и Польшей — с другой. Неудача миссии, предпринятой Николаем Шенбергом, должна была бы убедить всех сторонников русско-польского примирения в нежизненности такого рода устремлений. Однако на деле этого не случилось. Император Максимилиан, надеясь все-таки примирить Василия с Сигизмундом, весной 1518 г. отправил в Москву еще одно — последнее в своей жизни посольство, возглавляемое кавалерами Франциском де Колло и Антонием де Конти в сопровождении недавно побывавшего в России Иоганна фон Турна. Они прибыли в Москву вместе с русским дипломатом Владимиром Семеновичем Племянниковым.
27 июля 1518 г. Василий III дал первую аудиенцию послам императора. Де Колло в длинной и напыщенной речи перечислил все страны, захваченные турками, и обратил внимание Василия III на то, что единоверцы турок татары — могут в любое время напасть на Русь. Единственное средство избежать этого, сказал де Колло, — заключение мира с Польшей.
4 августа послов вызвали в Кремль и бояре Василия заявили, что русские в принципе не возражают против переговоров с поляками, но хотели бы прежде получить некоторые города, которые Сигизмунд «держит за собою неправдою», а также получить компенсацию за урон, нанесенный покойной королеве Елене Ивановне. Увидев, что русские от первоначальных своих требований отступать не желают, послы императора 3 августа предложили ограничиться заключением пятилетнего перемирия.
8 августа Василий III согласился на это предложение, потребовав оставить за Россией все территории, которые к моменту подписания перемирия будут находиться под его властью. Де Колло не был уполномочен давать согласие на столь категорическое требование и поэтому 16 августа в империю за дополнительными инструкциями отправился Иоганн фон Тур.
21 сентября в Москву совершенно неожиданно приехал еще один посланник императора Иоганн Кристоф Пауц. Он привез грамоту, в которой Максимилиан извещал Василия III о том, что в империи недавно был монах Шонберг, выступавший от имени папы, и пытавшийся поссорить с императором союзных князей. Если этот монах появится в Москве — писал Максимилиан, — то Василий не должен верить его лукавым речам, ибо он послан не от папы, а от враждебных императору кардиналов.
Грамоту, привезенную Пауцем, де Колло передал боярам 24 сентября, в тот самый день, когда в Москву приехал гонец великого магистра, извещавший русских о той же самой миссии Шенберга, которая оценивалась гроссмейстером совершенно иначе.
В ноябре 1518 г. Сигизмунд принял возвращавшегося в Москву фон Турна и уведомил его, что может согласиться лишь на пятилетнее перемирие. Однако переговоры завершились тем, что Василий III 28 декабря согласился только на прекращение войны на год. Пятимесячное пребывание де Колло и де Конти в Москве имело минимальные результаты.
Заключенное «из уважения к императору» соглашение стало еще более эфемерным через две недели после его подписания, ибо 13 января 1519 г. император Максимилиан умер, и договор о перемирии, и без того крайне непрочный, утратил свое значение. Более того, когда де Колло и де Конти приехали в Польшу и известили Сигизмунда о результатах своей миссии, польский король отказался признать договор, заключенный ими в Москве.
3 марта 1519 г. в Москву снова приехал Дитрих Шонберг. Он подробно информировал русских о деятельности своего брата в империи, Венгрии, Польше и Пруссии. Папский легат доверительно сообщил своему брату о сокровенном желании римского папы Льва Х заключить с Россией церковную унию, не изменяя православных обрядов и традиций. За это обещалось возвести Московского митрополита в сан патриарха, а Василию III предлагалась королевская корена.
Однако в Москве прожекты Ватикана встретили трезвую оценку и сообщение Дитриха Шенберга было лишь принято к сведению.
Во время двух следующих аудиенций 17 и 24 марта Дитрих Шенберг обсудил вопросы русско-польских и русско-орденских отношении. Бояре заверили орденского посла, что денежная помощь будет предоставлена и что подлинное перемирие между Россией и Польшей будет заключено лишь тогда, когда король Сигизмунд вернет все западные русские земли. Шенберга уведомили и в том, что Сигизмунд не признал договора, подписанного в Москве де Колло и что русские дипломаты испытывают в связи с этим определенные затруднения.
Тогда орденский посол предложил боярам следующий план: пусть, сказал он, к великому магистру приедут русские послы и в присутствии легата Николая Шенберга ведут с польскими послами переговоры о перемирии или мире. После того, как стороны придут к какому-либо соглашению, Николай Шенберг поедет в Краков и сообщит о результатах предварительных переговоров Сигизмунду. Окончательное соглашение будет подписано в Москве, куда с ведома Сигизмунда и Василия III приедут послы курфюрстов и попросят охранные грамоты для поляков. По приезде польских послов в Москву, в присутствии представителей, папы и императора и будет заключено русско-польское соглашение о перемирии.
Русские дипломаты полностью приняли план, предложенный орденским послом, и вскоре попытались реализовать его.
Однако миссия Шонберга на этом не была исчерпана. Орденский посол поставил перед великим князем несколько вопросов, выходящих за рамки русско-орденских отношений. Снова, как и год назад, Шенберг попросил у Василия III грамоту к Французскому королю, в которой великий Московский князь попросил бы Франциска о дружественном расположении к Тевтонскому ордену и еще одну грамоту к курфюрстам империи с просьбой об избрании на пока еще вакантный императорский престол такого кандидата, который бы благосклонно относился к Ордену.
Для того, чтобы добиться от Альбрехта вступления Тевтонского ордена в войну с Литвой и Польшей, а также и для того, чтобы попытаться выполнить план, предложенный Дитрихом Шенбергом, в Кенигсберг в начале апреля выехал «боярский сын» Константин Замыцкий.
В инструкции, полученной Замыцким, говорилось, что если он начнет переговоры о перемирии с поляками, то основным условием, от которого русские ни в коем случае не отступят, будет вопрос о Смоленске. Смоленск непременно должен остаться под скипертом Василия III, что же касается всех других спорных территорий, а равно и западнопрусских городов, то вопрос о них можно оставить открытым до приезда послов папы и императора. Замыцкий должен был дать твердую гарантию безопасности всем послам, которые направляются в Москву. Однако ему категорически запрещалось единолично заключать перемирие. Договор о перемирии можно было подписывать только в Москве.
По пути в Пруссию Замыцкий узнал о том, что Сигизмунд находится в Кракове, что недавно татары совершили набег на Подолию, а турки на три года заключили перемирие с Венгрией. Что же касается выборов императора, то им скорее всего будет внук Максимилиана Каря.
В Гробине русских встретил представитель великого магистра Георг фон Витрамсдорф. Вместе с русскими он отплыл в Лабиау — ныне в город Полесск, калининградской области — и 5 мая благополучно доставил их к месту назначения. Гроссмейстер Альбрехт, приехавший через четыре дня, принял Замыцкого с великой честью.
14 мая на второй встрече Замыцкого с Альбрехтом последний сообщил, что легат Николай Шенберг со дня на день должен прибыть в Кенигсберг, что венгры заключили трехлетнее перемирие с турками и, по мнению многих, этому способствовал король Сигизмунд, ибо данное перемирие выгодно только ему. Обо всем этом Замыцкий сообщил Василию III.
Вместе с грамотами Замыцкого в Москву послал депеши и Альбрехт. Он настойчиво требовал денег. На этот раз великий князь Московский сдался: 16 августа 1519 г. он отправил в Кенигсберг еще одного посла — Василия Александровича Белого и поручил ему передать Альбрехту деньги, как только великий магистр начнет войну с поляками.
Однако через две недели после отъезда Белого Василий III послал ему вдогонку приказ немедленно везти деньги в Пруссию. Столь быстрая метаморфоза объясняется тем, что 23 августа в Москву возвратился Замыцкий. Он уверил Василия III, что Альбрехт самым решительным образом готовится к войне и потому ему можно безбоязненно послать денежную помощь.
Летом 1519 г. воевода Василия III князь Василий Шуйский двинулся на Вильно. Сигизмунд, ожидая удара с юга, сконцентрировал основную массу своих войск в крепости Крево. Начав наступление, русские разбили литовские отряды в бою под Красным Селом, а затем обложили Крево. Одновременно конница русских совершила глубокие рейды, иногда заходя за Вильно. В результате этих операции литовцы потеряли много солдат. Одновременно с этим по польским войскам нанесли удар крымские татары. Их конница разбила войска гетмана Острожского.
Чуть позже, в октябре, Василий III направил письмо великому магистру Тевтонского ордена Альбрехту с упреком за пассивность.
Чтобы побудить Альбрехта к активным действиям против поляков Василий III, ускорил отправку денег великому магистру. Охрану обоза с деньгами обеспечивал дьяк Некрасов. В свою очередь Альбрехт через князя Михаила Драге просил магистра Тевтонского ордена в Ливонии Плеттенберга дать крепкий конвой для охраны русских денег. Однако Плеттенберг выразил сильные спасения по поводу искренности русских. Когда же Некрасов приехал в Ригу и Михаил Драге сообщил Плеттенбергу, что дьяк привез деньги, то Плеттенберг произнес: «Слава тебе, господи, что царь такое овсе жалование к великому магистру проявил, придется нам всем за это жалованье своими головами служить».
Несмотря на столь изрядный скептицизм и желчность, Плеттенберг попросил своих советников встретиться с Некрасовым и пригласить его на аудиенцию. Некрасов согласился и в тот же день встретился с Плеттенбергом. Магистр Ливонии вел себя очень сдержанно и сказал русскому послу, что считает честью для Ордена «высокое жалование царя» к великому магистру и будет сохранять дружественные отношения Ордена с Москвой. Плеттенберг распорядился послать грамоту Василию III, выдержанную в дружественных тонах, и после этого отпустил дьяка восвояси. Плеттенберг выделил Некрасову и Драге пятьсот всадников и под такой крупной охраной обоз с деньгами 30 октября прибыл в Мемель. Здесь обоз взяли под охрану люди Альбрехта и 6 ноября препроводили в Кенигсберг.
* * *
Как только Сигизмунд узнал, что русские доставили деньги в Кенигсберг, он тотчас же во главе армии двинулся к Торуни. В это время в его распоряжении было около пяти тысяч человек.
Опасаясь быстрого начала войны, Альбрехт послал навстречу отрядам наемников, медленно идущим к Пруссии с запада, своих ближайших сподвижников Георга Ангера, Зигмунда Зихау и Дитриха Шонберга. Одновременно один из сановников Ордена Мельхиор Рабенштайн снова выехал в Москву. Он покинул Кенигсберг 11 декабря 1519 г. и уже 1 января 1520 г. вручил свои грамоты боярам великого Московского князя. Рабенштайн сказал, что Альбрехт не мог начать войну с Сигизмундом из-за отсутствия денег. Присланная в ноябре помощь также очень невелика, ибо для найма тысячи пехотинцев на один год нужно 55 тысяч золотых, а Некрасов привез только 14 тысяч.
Рабенштайн попросил выслать еще 55 тысяч золотых, а затем предоставить и основную часть кредита для найма двух тысяч кавалеристов и десяти тысяч пехотинцев. В заключение орденский посол передал просьбу великого магистра послать в Литву русские и татарские отряды.
Кроме того, Рабенштайн передал насилию III, что, по сообщению Николая Шенберга, папа намерен направить в Россию, Пруссию и Польшу послов, которые бы, наконец, примирили насилия и Альбрехта с Сигизмундом.
Внук покойного Максимилиана Габсбурга, новый император Карл V, тоже собирался прислать в Москву посла для того, чтобы возобновить прежний договор. И если это произойдет, сказал орденский посол, то великий магистр очень просит Василия III, чтобы от русско-имперского договора не было какого-либо урона Тевтонскому ордену.
Пока Рабенштайн вел переговоры Альбрехт выступил в поход против Сигизмунда. заручившись поддержкой некоторых государей. Крупные денежные субсидии Альбрехту предоставили магистр Ливонии Плеттенберг, Бранденбургский маркграф Казимир, магистр Тевтонского ордена в Германии Вильгельм Гогенцоллерн. Русские деньги были маленьким ручейком среди полноводных рек серебра и золота, хлынувшего в казну великого магистра. Его доверенные лица закупали оружие и снаряжение, вербовали ландскнехтов, ссужали деньгами лазутчиков.
Все это крайне тревожило Сигизмунда: в условиях не прекращающейся войны с Россией на его северо-восточном фланге нависла новая грозная опасность.
Сигизмунд долго надеялся на мирный исход обострившегося конфликта. В конце 1519 г. польский король добился в Ватикане подтверждения действительности Торуньского договора 1466 года, он надеялся, что папа заставит Альбрехта выполнить, обязательства, вытекающие из этого договора, но дальше формального подтверждения договора дело не пошло. Тогда 2 декабря 1519 г. Сигизмунд прибыл с войсками в Торунь и еще раз потребовал от Альбрехта принесения присяги, однако Альбрехт снова отказался.
Сигизмунд был полон решимости настоять на своем и силой принудить великого магистра к выполнению Торуньского договора.
11 декабря 1519 г. сейм Польского королевства объявил Тевтонскому ордену войну. К границам Пруссии двинулось крупное польское войско под командованием одного из лучших полководцев Польши — Николая Фирлея.
Начало войны для Альбрехта, конечно же, не было неожиданным, он ждал этого, желал войны и делал все для того, чтобы она началась.
Через своего агента канцлера Шидловецкого, который получал деньги не только от императора, но и от гроссмейстера, он знал обо всех готовящихся в Польше мероприятиях и даже получал от канцлера копии секретных документов.
Однако не смотря на то, что Орден много лет готовился к воине, великий магистр начал ее в очень неудобный, для себя момент. Альбрехт выступил против поляков, получив известие, что солдаты Сигизмунда напали на владения Эрмландского епископа. Во главе трехсот всадников и двухсот пехотинцев Альбрехт нанес ответный удар полякам и захватил замок Бранево.
Этим, по существу, успехи великого магистра и ограничились, инициатива была утрачена из-за отсутствия резервов. Уже к концу января Альбрехт запросил помощи у русских, пеняв, что ему одному с польскими силами не справиться. Но русские никак не отреагировали на просьбу великого магистра.
Как раз в это же время от воевод Василия III стали поступить в Москву сообщения о болезни короля Сигизмунда. Для выяснения распространившихся слухов к виленсксму воеводе Николаю Радзивиллу был послан гонец Борис Каменский. До получения «полных вестей» о короле орденскому послу Мельхиору Рабенштайну не давали аудиенций и ни о чем не сообщали.
Об орденском после вспомнили через месяц. 24 апреля Рабенштайна вызвали в Кремль и сообщили, что великий князь приказал послать еще серебра для найма тысячи пехотинцев после того, как в Москве станет достоверно известно, что Альбрехт действительно воюет с Сигизмундом. Что же касается основной суммы, то великий магистр получит ее, как только пойдет к Кракову. С этим ответом великого князя Рабенштайн 8 мая выехал в Кенигсберг.
За те четыре месяца, пока Рабенштайн находился в России, Альбрехт успел испытать и радость первых удач и горечь первых поражений. Уже 12 марта 1520 г. поляки взяли Квидзынь, 29 апреля — Голанд, а 26 мая Бранево. На второй день после падения Бранево поляки подошли к Кенигсбергу.
Военные неудачи усугублялись тяжелым финансовым положением Тевтонского ордена. С самого начала воины он столкнулся со многими трудностями и наиболее Серьезными из них были нехватка денег, солдат и провианта. Уже в конце февраля 1520 г. великий магистр попросил новый кредит у Плеттенберга, но ливонский магистр на этот раз не был расположен легко и быстро расставаться с деньгами. В середине марта Альбрехт попросил у него вооруженной поддержки против поляков, убеждая Плеттенберга в присылка хотя бы трехсот рейтаров, но и на этот раз Плеттенберг не спешил исполнить просьбу своего гроссмейстера.
Две недели спустя Альбрехт вынужден был послать к магистру Ливонии комтура Кенигсбергского замка Михаила фон Драге с настоятельной просьбой о возможно более скорой присылке рейтаров, денег и провианта. Кроме того. Драге должен был договориться о мерах по охране русских послов, направлявшихся в Пруссию.
13 мая в Москву возвратился Василий Александрович Белый. Он подтвердил, что Альбрехт начал войну с поляками и поэтому очередному русскому послу в Кенигсберг Александру Семеновичу Шарну, уехавшему 17 мая 1520 г., Василий III поручил узнать, как идет война между Польшей и Тевтонским орденом.
Уже по пути в Кенигсберг Шарна узнал, что фортуна давно изменила Ордену: Сигизмунд отбил у немцев города, захваченные ими в первые недели воины, и плотной дугой с юга и запада охватил орденские владения. Шарна сообщил, что в настоящий момент у Сигизмунда 16 тысяч войск, которым противостоят значительно более слабые отряды ордена. Альбрехт, писал Шарна, ждет наемников и денежной помощи от Плеттенберга и Рижского архиепископа. Из Риги Шарна уведомил Василия III, что часть наемников добралась до Мемеля.
Шарна приехал в Пруссию 20 июля и уже через четыре дня вместе с Некрасовым уехал обратно. Несмотря на краткость пребывания в Кенигсберге, русский посол узнал, что летом 1520 г. дела Альбрехта обстояли отнюдь, не блестяще. Уже в конце мая войска Сигизмунда подошли к Кенигсбергу, но Альбрехт сумел отбить первый приступ. Однако поляки остановились неподалеку от города.
Внутри Ордена не было единства взглядов. Многие сановники стояли за скорое окончание войны. Выразителем пропольских настроений и сторонником примирения с Польшей был и магистр Ливонии Плеттенберг. Еще 30 апреля 1520 г. он высказал крайнее неудовольствие тем, что Дитрих Шонберг имеет столь большое влияние при дворе великого магистра и настоятельно рекомендовал отказаться от союза с Россией и заключить перемирие с поляками.
Сильное давление сказывал на Альбрехта и Ватикан. Папа требовал немедленного заключения мира между Польшей и орденом, ибо война немцев с королем Сигизмундом мешала осуществлению антитурецких планов римского первосвященника. Папа даже послал в Пруссию и Польшу специальную дипломатическую миссию во главе с епископом Захарием Феррери. Кардинальский комитет дал ему задание попытаться проехать и в Россию, если это окажется возможным. 26 сентября 1519 г. папа Лев Х выдал Захарию Феррери грамоту, которую ему следовало лично передать Василию III.
В грамоте Лев X писал, что ему стало достоверно известно о желании великого князя Московского принять унию. Для того, чтобы осуществить союз России с Римом, Лев X и посылал в Москву епископа Захария.
Однако дальше Польши Феррери не поехал, так как в Кракове ему заявили, что путешествие за пределы Польши опасно и неудобно.
С апреля 1520 г. в Торунь один за другим приезжали и послы курфюрстов. Были там и венгерские послы. И все они просили Сигизмунда заключить с Тевтонским орденом мир.
Однако польский король не хотел мира, как не хотел его и Альбрехт. Его не оставляла надежда получить от Василия III обещанные деньги, и 26 мая 1520 г. великий магистр отправил в Россию посла Георга Клингенбека.
14 июня Клингенбек прибыл в Москву. На аудиенции у великого Московского князя он изложил причины постигших Альбрехта неудач. По словам орденского посла, прежде всего это следовало объяснить задержкой наемников. Сейчас, сказал Клингенбек, наемники стоят у рубежей Пруссии и первостепенная задача великого магистра — найти для них деньги. В противном случае Сигизмунд возьмет верх и Орден постигнет катастрофа.
Пока Клингенбек вел переговоры с Василием III, дела Альбрехта еще более ухудшились. 30 июня гонец великого магистра привез в Москву грамоту, в которой сообщалось, что польские войска стоят в полумиле от Кенигсберга и немцам не остается ничего иного, кроме заключения перемирия.
18 июня великий магистр был вынужден просить Сигизмунда об отводе польских войск от Кенигсберга. Альбрехт выехал в Торунь в ставку короля. Немедленного заключения мира потребовал от Сигизмунда и император Карл V. Но Альбрехт 29 июня прервал переговоры, ибо узнал, что в Кенигсберг уже после его отъезда прибыли четыре тысячи наемников из Дании.
Теперь поляки начали войну на два фронта, так как с севера на них двигались наемники, прибывшие из Дании, а с запада шли наемники, навербованные в Германии. Угроза для поляков была довольно значительной: 8 тысяч пехотинцев и 1900 кавалеристов при 20 орудиях во главе с графом Вильгельмом Изенбургоми кондотьером Вольфом Шонебургом подошли к Гданьску и ссадили его.
Однако взять город им не удалось. Лишившись надежды на военную добычу и грабеж, и не получая жалования, наемники разбрелись из-под Гданьска в разные стороны, а многие из них продали свою шпагу полякам.
События сменяли друг друга настолько быстро, что в Москве далеко не сразу могли правильно сориентироваться в создавшейся обстановке. 12 июля, когда Клингенбек двинулся обратно в Пруссию, вместе с орденским послом поехал русский посол Афанасий Моклоков с очередной небольшой партией денег.
В декабре в Москву был послан еще один орденский посол Альбрехт фон Шлибен. Он должен был всемерно форсировать вопрос о деньгах, добиваясь немедленной высылки еще одной партии серебра. Миссия Шлибена оказалась успешной. 15 марта 1521 г. он выехал в обратный путь, имея категорическое заверение Василия III о скорой присылке денег в Пруссию. Василий направил вместе со Шлибеном посла Ивана Булгакова.
В грамоте, которую Василий III направил Альбрехту, говорилось, что вопреки распространяемым в Пруссии слухам, русские не заключили перемирия с поляками, хотя Сигизмунд дважды присылал в Москву своих дипломатов с предложением мира.
Следом за Шлибеном и Булгаковым из Москвы во Псков, и далее к ливонской границе, в сопровождении большого конвоя двинулся еще один обоз с серебром. На этот раз деньги должен был сопровождать Семен Сергеевич Левашов. Альбрехт фон Шлибен поспешил известить великого магистра об успешном окончании переговоров с русскими и о том, что в Пруссию направлен еще один обоз с серебром.
Известие от Шлибена Альбрехт получил 5 апреля 1521 г., однако в этот день, проиграв войну, он был вынужден подписать с Польшей договор о четырехлетнем перемирии.
По этому договору взаимоотношения Польши и Тевтонского ордена вновь определялись третейским судом из императора, короля Венгрии, курфюрста Саксонского и прелатов Германской империи. Практически сразу же было достигнуто соглашение о прекращении войны и выводе польских войск из Пруссии в течение четырех недель, а также быстрое обоюдное освобождение пленных.
Таким образом, у Альбрехта не было никаких основание получать деньги, ибо война прекратилась, а кредит представлялся именно на ее ведение.
Но великий магистр поступил по-другому: 6 апреля он отправил к Шлибену гонца с депешей, в которое орденскому послу предписывалось убедить русских в необходимости переслать деньги в Пруссию для того, чтобы Орден, получив их, мог отказаться от перемирия и продолжать войну. В самом твердом намерении бороться с поляками великий магистр сумел убедить и Ивана Булгакова, в конце апреля приехавшего в Пруссию. Возвратившись в Москву, Булгаков посоветовал Василию III передать деньги немцам и в конце мая по приказу великого князя русское серебро из Пскова было вывезено в Ливонию.
Альбрехт понимал, что Василий III в любой момент может возвратить обоз в Москву и поэтому сильно беспокоился за судьбу денег, полученных после столь долгих переговоров и мытарств. Еще весной он отправил в Ливонию Михаила фон Драге, поручив ему встретить русских послов и препроводить их в Пруссию. 18 июня 1520 г. великий магистр послал на помощь Драге своего секретаря Христофора Гаттенхофена, обязав его немедленно сообщить о русских послах и о мерах, предпринятых для безопасного провоза денег в Пруссию. Еще не получив письма великого магистра, Драге уведомил своего господина о том, что он встретил русских послов с деньгами в (крепости Венден — ныне латышский город) Цесис. 30 июня деньги были доставлены по назначению.
Оживленные сношения и частые контакты между Пруссией и Россией, казалось бы, могли создать спокойную обстановку в союзной Альбрехту Ливонии. Однако даже столь очевидные проявления дружелюбия со стороны России не рассеяли атмосферу подозрений и опасений. Боясь нападения русских, капитул ордена в Ливонии и ландтаг решили послать в Россию послов для того, чтобы пролонгировать русско-ливанский договор, подписанный в 1509 г.
Казалось бы, Альбрехту следовало удовлетвориться полученными деньгами, но аппетит великого магистра оказался неуемным: в марте 1522 г. он снова послал в Москву Георга Клингенбека, желая получить еще одну партию серебра.
21 марта Клингенбек прибыл во Псков и отсюда послал Василию III письмо с просьбой как можно скорее пропустить его в Москву, ибо дело, с которым он прибыл, не терпит никакой отсрочки. Посла немедленно пропустили в Москву. Здесь Клингенбек сделал заявление, которое окончательно расстроило и без того непрочный русско-орденский союз.
На аудиенции с великим Московским князем прусский посол заявил, что все беды, постигшие Тевтонский орден, произошли из-за невыполнения русскими своих союзнических обязательств. Во-первых, сказал Клингенбек, русские сказали недостаточно щедрую помощь деньгами, а во-вторых, совсем не сказали поддержки войсками, ибо операции, проводимые воеводами Василия III в Литве оказались мало эффективными. Именно поэтому, резюмировал посол, Альбрехт потерял часть орденских территорий, а в конечном итоге именно поэтому же и проиграл войну, заключив вынужденное четырехлетнее перемирие. Василий III отверг все упреки и посол (в письме гроссмейстеру) был вынужден констатировать, что ответ русских был «резким, но верным».
Кратковременное пребывание Клингенбека в Москве совпал с приездом в русскую столицу польского посла Станислава Довгирдова. Довгирдов просил Василия III заключить с Польшей вечный мир или перемирие. Великий князь Московский выразил согласие и послал в Польшу дьяка Василия Полукарпова с подъячим Иваном Щекиным для ведения предварительных переговоров о присылке «великих послов».
В августе 1522 г. «великие послы» — Петр Кишка и Богуш Боговитинович прибыли в Москву. Переговоры заняли пять дней. 7 сентября между Россией и Польско-Литовским государством было подписано пятилетнее перемирие.
1 марта 1523 г. посланные в Польшу бояре Василий Григорьевич Морозов и Андрей Никитич Бутурлин привели короля Сигизмунда к крестному целованию на перемирной грамоте.
Таким образом, весной 1522 г. десятилетняя воина между Россией и Польшей закончилась. Ее окончание объективно способствовало улучшению позиций Польско-Литовского государства в его борьбе с Тевтонским орденом, ибо теперь у великого магистра Альбрехта не осталось никаких надежд на вовлечение России в войну с королем Сигизмундом.
В результате этого Тевтонский орден сказался в положении, когда под угрозу окончательного уничтожения ставились вековые привилегии немецких феодалов Прибалтики и само существование созданного ими государства. Пытаясь найти выход из положения, Альбрехт решился на крайнее средство: он принял протестантизм, отказался от сана великого магистра и объявил владения Ордена в Пруссии секуляризованными. В результате этого Тевтонский орден, как военно-монашеская католическая организация, был ликвидирован, на его месте появилось светское государство, в котором власть оказалась в руках представителей крупнейших феодальных фамилий Германии.
Весной 1525 г., когда истек срок четырехлетнего перемирия, подписанного в 1521 г., Альбрехт Гогенцоллерн приехал в Краков для заключения мира.
8 апреля 1525 г. бывший гроссмейстер подписал мирный договор, по которому новое государство объявлялось герцогством, находящимся в вассальной зависимости от короля Польши. Специальный пункт договора гласил, что если у бранденбургских маркграфов не окажется наследников по мужской линии, то новое герцогство полностью перейдет под власть польской короны. По договору все старые привилегии, которыми пользовался Тевтонский орден, утрачивались, однако все права и привилегии прусского дворянства — будущего юнкерства — оставались в силе. Новому герцогству предоставлялось право чеканки собственной монеты, а герцог Пруссии в сенате, на сеймах и имперских съездах получал право занимать место рядом с королем Польши.
9 апреля представители прусских сословии ратифицировали только что подписанный договор и признали Альбрехта Гогенцоллерна своим полновластным господином. А днем позже на старом городском рынке Кракова у стен древнего Вавеля при стечении огромных толп народа коленопреклоненный герцог принес королю Сигизмунду присягу, обещая «верно служить ему, и всем его наследникам, и короне Польши… и делать все, что надлежит верному вассалу».
Коленопреклоненный герцог многим присутствующим казался символом сломленной Пруссии и никто не мог представить, что новое государство, возникшее на территории Польши, вскоре же станет одним из самых опасных ее врагов.
II. ОХОТНИК ЗА ТРОНАМИ Историко-приключенческий роман
В 1990 году был опубликован мой историко-приключенческий роман «Охотник за тронами». Этим романом издательство «Отечество» открыло серию военно-патриотических книг, названную «Народной библиотекой».
Книгу я посвятил памяти моего отца, гвардии капитана Николая Иннокентьевича Балязина, участника штурма Кенигсберга, а гонорар передал в фонд строительства семейных домов для детей-сирот и на приобретение колясок для инвалидов-афганцев.
Пять глав этого остросюжетного историко-приключенческого романа рассказывают о Кенигсберге XVI века о легендах древних пруссов, о политических интригах орденских сановников, направленных и против Речи Посполитой и против Московского Царства.
Одна из глав, названная «Сумка, полная секретов», была написана на основании одного из документов орденского архива, обнаруженного мною в фондах библиотеки Генерального Штаба, тогда хранившихся в архиве Библиотеки имени Ленина, позволив раскрыть подлинные, невыдуманные тайны запутанной внешней политики многоликой средневековой Европы.
Часть вторая МЯТЕЖНИК
Глава первая Николка в земле ПРУССОВ
Сорокатысячный табор отбитых у татар полоняников недолго шумел возле посадов Вильны. Почти сразу же стало таять великое многолюдство бесприютное, голодное, бездельное. Не было работы, а значит, не было ни хлеба, ни крыши над головой.
Даром кормить такую несметную ораву никто не хотел, да и не мог. Тысячи несчастных побрели теперь на юг по тем шляхам, по которым всего месяц назад гнали их татары.
Первые два-три дня сердобольные горожане еще подавали несчастным полоняникам хлеб, репу, молоко. Потом и этого не стало. Жители Вильны быстро сменили жалость на равнодушие, и еще быстрее на место равнодушия пришла злоба. Кому нужны были тысячи праздношатающихся голодранцев, готовых из-за куска хлеба на все?
Николке удалось прибиться к артели землекопов, что рыли ров и насыпали новый городской вал. Работа была такая большая — тысячи людей могли возле нее прокормиться. Только, положа руку на сердце, не по душе было Николке землю рыть.
«Что я, слепец подземный? — думал Николка, с ненавистью швыряя лопатой тяжелую глину. — Сделали из человека крота и думают, век буду здесь землю ковырять».
Прежнее его казацкое житье — под небом и солнцем, в обнимку с ветрами, с травами впереплет — казалось далекой сказкой.
«В неволе у татар и то лучше было, — приходили в голову ему и вовсе уж нелепые мысли. — Хоть надежда впереди какая-никакая была. А здесь как вол в хомуте».
Ко всему, как на грех, зарядили дожди. Земля стала липкой, тяжелой. И однажды, вымокший до нитки, уставший до изнеможения, Николка сказал себе:
— Шабаш! Был Николка землероем, да весь вышел. Набравшись решимости, побрел он отыскивать артельщика.
— Чего тебе? — спросил артельщик.
— Уйти из артели хочу, дядя Аверьян.
— Далеко ль собрался? — Не знаю куда, только не хочу боле землю рыть.
— А чего ж еще мужикам на земле делать, если не пахать да не рыть?
— Боронить можно, — обозленно проговорил Николка, — гулять по ней можно, зверя-птицу бить, коней пасти, да мало ли чего еще можно!
— Воинников и без нас довольно, а шастать бездельно надолго ли тебя хватит?
— Ты за меня не страшись, дядя Аверьян, поди, не пропаду.
Рыло оглядел паренька от лаптей до нечесаной желтой копны волос. И Николка понял, что в глазах главного артельщика цена ему — полушка.
— До субботы потерпи, трудолюбец, — с немалым пренебрежением произнес Аверьян, — а там пущай придет ко мне ваш старшой. Скажу ему, сколь ты наработал.
Николка повернулся и побрел обратно — рыть ненавистную глину и ждать неблизкого еще конца недели.
В субботу выдали ему семнадцать грошей и разрешили еще одну ночь переночевать в артельной землячке.
В воскресенье, на Симеона-летопроводца, Николка пошел на базар, по-местному — торговице, или же маркг.
На торговице народу было много. Явился юнец сюда не за товаром отправился послушать, о чем говорят люди, порасспросить да выведать, куда лучше подаваться на зиму. Долго бродил по рынку безо всякой удачи, пока наконец в рыбном ряду не попался ему словоохотливый рыжий литвин, торговавший вяленой рыбой и неплохо понимавший по-русски.
Литвин сначала долго рассуждал, что народу сейчас везде много, хотя вольный человек дело себе завсегда найдет. Поклонись только помещику — тут же получишь теплый закут, деревянную ложку, полбу хлебать, но тут же и лишишься кое-чего: за лавку возле печи да за тертую репу подаришь ему волюшку. Однако не отказался литвин и Николке путь указать.
— Пойдешь от Вильны на полночь и держись все время левой руки, ближе к заходу, — говорил он, тыча рукой в пространство. — На исходе второго дня пройдешь большой город — называется Ковно, или Каунас. Дальше держись так же, а у людей спрашивай дорогу к морю, чтобы привела к неринге-косе Куршей или к замку-пилсу Мемельбургу.
— Там много рыбы и мало людей, иди туда, — сказал литвин. И, поискав слова, добавил уверенно: — Я сам там был. Можешь верить. Нет никакой работы лучше, чем рыбу брать, — покой и воля.
Николка поклонился доброму человеку и, купив нехитрый припас, отправился к себе в землянку, всю дорогу думая об одном и том же: верить ли рыбному торговцу или же поопастись, и к Мемельбургу, в землю куршей, не ходить.
Повыспросив у артельщиков, что это за край и какие люди там живут, Николка собрался в дорогу и 8 сентября на осенины тронулся в путь. Неделей позже, на Воздвиженье, уже верстах в тридцати за Ковно, его нагнал обоз в три телеги. Возчик правил лишь первой лошадью, остальные были привязаны за облучки телег, идущих впереди. Мужик, проехав мимо Николки, пару раз обернулся и вдруг спрыгнул с телеги.
— Э-э-э, друг! — закричал он радостно. Николка, приглядевшись, обрадованно ахнул: навстречу шел его мимолетный доброхот — рыжий торговец из рыбного ряда.
— Здорово, друг! — столь же сердечно приветствовал знакомца Николка. И в самом деле, как было не радоваться!
Человек бывалый, судя по всему, добрый, да и путь-дорога хорошо известна.
Широко улыбаясь, рыжий литвин спросил:
— Поедешь со мной?
— Если возьмешь, не знаю, как и благодарить! Рыжий махнул рукой: пустое-де, садись. Вместе дело пошло веселее. В дороге познакомились. Звали литвина Юозас, а на русский манер — Иосиф.
На другой день пристал к обозу еще один человек. Высокий худой путник назвался Митрием, по прозвищу Оглобля. Послал его хозяин из города Смоленска в Мемельбург проведать, прибыльно ли нынче заморским торговым людям продавать лен.
Оказался Митрий человеком знающим, словоохотливым. С Юозасом по-литовски говорил бегло. Не удержавшись, Николка спросил:
— А ты, дядя Митяй, отколе ж по-ихнему понимать наловчился?
Митрий ответил охотно:
— Это, вьюнош, дело меня выучило — торговля. Всякие народы, языки всякие промеж себя торгуют. Как же ты с ними договоришься, если не будешь по-ихнему понимать? А я, — добавил Митрий, чуть с похвальбой, — и по-немецки научен, и по-голландски, и по-польски.
«По-польски и по-литовски и я немного могу», — оскорбившись, подумал Николка, но рыжему ничего не сказал. А Митяй, будто учуяв Николкину обиду, сказал с утешением:
— Да ты-то еще молод. Поживешь в этих краях — не менее моего знать будешь. Дивные эти края! Кто здесь только не живет — и литва, и латы, и чудь, и курши, и поляки, и немцы, и русские, и свея, и еще многие малые племена, да из-за моря приходят сюда голландцы, немцы из Дацкой земли, мурмане… — Митрий, перечисляя незнакомые Николке имена, с удовольствием загибал пальцы, когда пальцев на руках не хватило, довольно хохотнул.
— А кто же здесь всеми правит? — полюбопытствовал Николка.
— Трудный ты мне задал вопрос, вьюнош, — задумался Митрий. — Признаться, об этом ранее мыслить не доводилось. — Сощурившись, знаток устремил взгляд вдаль, будто высматривал что, но по всему было видно — в уме прикидывал, как на Николкин вопрос ответить.
— Больше всего здесь, конечно, крестьян, — проговорил наконец Митрий. Это, конечно, не только здесь, везде так. Владеют ими паны-помещики. — Как бы проверяя себя и сам с собою соглашаясь, утвердил: — И это тоже везде так. Однако ж кой-какая разница есть. Земли эти, как в сказке, принадлежат трем царствам-государствам. От Вильны на заход и на полночь лежат земли литовского князя. На этих землях живут литвины, ими владеют паны-магнаты, шляхтичи и бояры. Дальше на полночь живут латы и чудь, над ними — другое государство. Хозяин в нем… — Митрий задумался — не мог сразу перевести на русский язык мудреный титул магистра ордена Святой Девы Марии Тевтонской в Ливонии. Подумав, перевел так: — Мастер, нет, не мастер, князь немецких Божьих рыторей в Ливонской земле.
— Чего-чего? — изумился Николка. Митрий и сам понял — без пояснений не обойтись:
— Ну, мастер, или майстер, это все же князь. В Ливонской земле — тоже ясно. Теперь остались, значит, Божьи рыторе. Рыторь — по-русски конный латник, или же витязь, а Божий — значит, монах.
— Как это? — снова удивился Николка. — Он и монах, он же в одночасье витязь? — И, вспомнив знакомого расстригу-монаха из одной с ним деревни, вечно пьяного, бородатого отца Пафнутия, его лапти и рваный подрясник, так и покатился со смеху: — Ну, ты и сказанул, дядя Митяй! Монах — витязь! — И представил: изгнанный из монастыря за беспробудное пьянство отец Пафнутий в кольчуге, в шлеме, со щитом — Илья Муромец!
Митрий улыбался смущенно, почесывая кончик носа.
Сказал, разведя руками:
— А что я поделаю, если так оно и есть: монах и он же конный латник.
— Так он молится или воюет? — спросил Николка, заинтересовываясь все более малопонятной бывальщиной.
— Как рыторе молятся, рассказывать не стану — не доводилось видеть. А вот как воюют — и сам видал, и от многих слыхивал.
Припомнив что-то, Митрий помрачнел и сказал тихо, будто сам себе:
— Не приведи Господи никому видеть, как они воюют, а особливо, что делают после, ежели в бою врага одолевают.
Николка хотел было спросить: «Как все-таки, дядя Митяй?» — но взглянул в глаза ему и, увидев такое глубокое горе и еще что-то — не страшное даже, а жуткое, рта не раскрыл.
Митяй вздохнул:
— Вот, значится, молодец ты мой, второе здешнее царство-государство Ливонская земля, а над ней князь немецких Божьих рыторей. На полдень от Ливонии земли его старшего брата — великого князя немецких Божьих рыторей в Прусской земле. Только там рыторе всех хлеборобов, бортников, коневодов и кузнецов в старые еще времена поубивали, мало кто сумел через Неман в Литву прибечь.
И так он это сказал — малец враз поверил. И испугался: куда же несет его нелегкая?
Митрий, будто разгадав опасения паренька, успокоил:
— То давно было, Николай. Теперь рыторе без нужды мужиков не побивают. Им кормильцы и трудники нужны гораздо. А ты едешь для них работать, рыбу ловить, им от твоего труда — прибыток. Они с тобой, может статься, и не заговорят никогда, разве их приказчики али старосты, но и убивать не станут.
«Умный, видать, мужик Митрий, и в торговле, понятно, удачливый: любого уговорит», — подумал Николка и уважительно взглянул на смолянина.
Холодной звездной ночью Юозас остановился на берегу какой-то реки возле ветхого мостика.
Николка слез с телеги. Митрий тоже спрыгнул на землю.
— Ну, прощай, добрый человек, — проговорил он с ласковой печалью. Дальше нам не по пути. Я с Юозасом поеду к Мемельбургу, а ты иди прямо. Здесь до залива рукой подать. К рассвету будешь на месте. Никуда не сворачивай, придешь в деревню, а там расспросишь, где лучше к рыбакам пробиваться: здесь ли — на заливе, там ли — на Куршской косе.
Николка обнял Митрия, потом Юозаса.
Перейдя через мосток, юноша поднялся на невысокий берег и оглянулся: Юозас и Митрий стояли рядом, глядели путнику вслед. Николка помахал им, покричал и, увидев, что телеги тронулись, зашагал в ту сторону, откуда прямо в лицо дул свежий сырой ветер.
Остаток ночи Николай провел в овине, забившись меж снопами не молоченного еще хлеба. Проснулся от недалеких голосов — бабы спозаранку вышли к реке полоскать белье. Говорили не по-русски. Отряхнувшись от половы, приосанившись, чтоб народ не пугать, вышел Николка на свет Божий.
Не отходя от двери овина, путник глядел во все глаза.
Первое, что он увидел, было море — широкое, как степь, и серое, как небо. По морю, как и по небу, бежали белые облачка. Только в отличие от небесных они и рождались на глазах, и здесь же пропадали, едва добежав до берега.
Прямо у его ног начинались огородные гряды, только содержали их хозяева как бахчу, без всякой изгороди.
По обе руки лежали огороды, а впереди, в полусотне шагов, рядком рассыпалось десятка три хат с низкими стенами и высоченными, крытыми соломой крышами. Половина из них стояла под глиняными трубами, к которым большими черными лукошками лепились аистиные гнезда. За домами начиналось море, простиравшееся до самого небозема, где небо сходилось с землею. Там, соединяя море и небо, тянулась тонкая желто-черная полоска — должно быть, какой большой остров.
Николка отлепился от стенки овина и пошел на голоса.
Три бабы, одна за другой распрямляясь, молча глядели на чужака, ждали, пока тот подойдет.
Паренек, подойдя, поклонился, проговорил учтиво по-литовски:
— Бог помощь.
Бабы поздоровались, загомонили — скоро, не враз и поймешь.
Одна, побойчее других, сказала:
— Постой здесь, — а сама быстро пошла к избам.
Две другие снова занялись бельем.
Вскоре бойкая портомоя подоспела к берегу с бородатым, нестарым еще мужиком. Оказалось, что бородатый в деревне за старшего — о том говорили и зипун почище, и сапоги покрепче, и шапка поновее, чем у простых мужиков.
Староста, а по-литовски — войт, стал расспрашивать Николку: что за человек, откуда пришел, куда идет. Николка отвечал открыто, без утайки. Выслушав внимательно, войт сказал:
— Иди за мной.
Приведя Николку на самую кромку морского берега, где стояло несколько лодок, староста ткнул в одну пальцем:
— Садись и плыви до косы. Там между двумя дюнами найдешь кошару. Скажешь — прислал Ионас. Лодку при случае пусть обратно пригонят. — И, взяв с путника за помощь грош, буркнул: — Плыви с Богом.
В полдень Николка выскочил на твердый, укатанный морем песок, разминая ноги, присел пару раз, будто на свадьбе примеривался выкинуть замысловатое коленце. Поглядел вокруг — песок и море. Поглядел вверх небо, и под самым небом макушки сосен.
Вытянув лодку на берег, Николка зашагал к дальней дюне, которая была выше других. Там-то, в распадке, и должна была стоять рыбацкая кошара. Из-за дюны в небо подымалась струйка дыма, и, смело пойдя на нее, Николка скоро увидел большую ригу. В основании дома лежали крупные валуны, выше камни поменьше, верхняя часть стен была сделана из смеси глины с песком. Высокая двускатная крыша, покрытая водорослями, в маленьких окошках тускнеют рыбьи пузыри. Возле кошары громоздились бочки, лежали опрокинутые вверх днищем лодки, болтались рваные сети.
Дым шел не из трубы на крыше, а из-за дома. Паренек обогнул постройку и увидел старика кашевара, подбрасывавшего сучья в костерок. Огонь играл внутри кольца, выложенного из камней. На камнях стоял старый, весь в саже, казан.
Николка, учуяв дух овсяной каши, сглотнул слюну и сразу же вспомнил, что не ел со вчерашнего вечера. На шорох шагов старик обернулся. Николка увидел выцветшие, когда-то голубые глаза, рыжие космы, рыжеватую бороденку — будто по переспелой ржаной соломе щедро сыпанули мукой. Приблизившись, Николка понял, что перед ним очень старый человек.
Старик, проводивший все дни в одиночестве, рад был поговорить с новым человеком. К тому же чувствовалось, что артельщики относились к старому свысока:
мы-де добытчики, а ты почти что дармоед — возле нас кормишься, бабьей работой себя оправдываешь. Здесь же все было наоборот — пришелец нуждался в нем, и старый рыбак мог оказать новичку если не покровительство, то поддержку.
Кашевар сказал, что зовут его Зикко, а прозвище ему Угорь.
— А лет тебе сколько, дедушка? — полюбопытствовал Николка.
— Точно не знаю. Знаю, что отец мой был как ты, когда князь Ягайло побил гроссмейстера Ульриха. А я родился через пять лет после этого. Выходит, теперь мне семь десятков с лишним.
Николка не понял, о каких Ягайле и Ульрихе говорит старик, да и не это было ему сейчас интересно. Собравшись с духом, юноша горохом рассыпал вопросы об артели, о людях, о порядках.
Старик отвечал толково и с явной охотой. Выходило, что живет в артели разный народ — и свободные, и тяглые орденские люди. Тяглецы прибиваются не надолго — ранней весной и поздней осенью, когда в поле дел немного. Так что сейчас здесь одни вольные. Ближе к зиме все рыбаки убираются по домам. Остаются лишь те, кому некуда податься.
— А я, — горестно сказал старик, — живу здесь круглый год — никого у меня нет.
Николка подумал: «Вот и я, видать, с дедом буду зиму зимовать».
К вечеру вернулись рыбаки. Порасспросили — кто да что, откуда да почему, надолго ли и зачем. Порядив недолго, приговорили — оставаться.
И прибился Николка к рыбацкой артели между небом и морем, на песчаной и сосновой косе с загадочным названием Курши-Нерия.
Удивительное это было место — Курши-Нерия! Зикко, помнивший чертову бездну историй и сказок, былин и небылиц, рассказывал, что Курши-Нерию Бог создал в последний день творения, когда уже и солнце в небе горело, и луна плыла, и звезды сияли, когда и твари земные теплу и свету радовались, и рыбы плескались, и праотец Адам удивленным оком взирал на мир. А на седьмой день, попы говорят, решил Господь отдохнуть. В общем-то, так оно и было, старые люди подтверждают, что в седьмой день отдыхал Вседержитель и Творец всего сущего от великих шестидневных трудов. Да вот утром седьмого дня, полюбовавшись на Землю, увидел Господь, как хороша Земля и подобна прекрасной невесте, только не хватает ей украшения. И тогда надел он красавице янтарное ожерелье — Курши-Нерию, лучшее, что сотворили руки Господни.
Слушал Николка рассказ старика — верил и не верил, но глядел вкруг себя и думал: «А ведь и правда, не может быть на земле места краше».
Курши-Нерия в самом деле была излюбленным и ни с чем не сравнимым капризом Творца. Лежавшая посреди моря золотым мостом длиною в восемьдесят верст, коса соединила земли жемайтов и пруссов. Янтарный сок катился по медным стволам ее сосен, тысячи птиц, разгоняя ветром крыльев облака, летели над нею, и, наверное, поэтому небо здесь почти всегда было чистым, а золотое солнце грело белые дюны.
Минул месяц. Теперь Николке казалось, что он родился здесь и ничего, кроме песка, сосен, воды и неба, никогда не видел. Рыбацкое дело сразу пришлось мальцу по душе. Было оно чем-то сродни делу казацкому. В море выходили артельно — не ямы рыть, не землю драть — встречь ветру, на волну, не таясь от опасности. Работали споро, весело. Как в воинском деле — могла их ждать удача, могли прийти домой и пустыми.
Рыбаки — литвины ли, пруссы ли, русские ли — были по большей части людьми угрюмыми и молчаливыми. Такими сделала их работа — опасная, трудная и не больно-то прибыльная. Взяв Николку в артель и приглядевшись к нему немного, увидели они, что проку от нового рыбака немного — их непростого ремесла он не знал, на берегу — солить ли, коптить ли, вялить ли рыбу — не умел. Во многом все же был парнем пришелец вполне подходящим — не робким, не жадным, да и зла никто от него не видел.
Николку порешили оставить в артели, лишь занятие ему сыскали иное: поразмыслив, определили паренька возчиком — добытую рыбу развозить в окрестные города и замки. Тот с радостью согласился: и новые, дотоле незнакомые люди ему нравились, и до странствий он был охоч, и кони ему были любы.
Первый раз взял его с собой для того, чтоб хотя бы малую сноровку в торговле преподать, сам артельный староста — тезка Николы, Микалоюс.
— Ты, главное, к тому, что покупщики меж собой говорят, внимательно прислушивайся, но виду, что понимаешь, не подавай.
— Как же я пойму, дядя Микалоюс, ежели я по-немецки ни слова не знаю.
— Поначалу я тебя подучу, а там уши держи востро, повторяй про себя, что услышал. Коль не поймешь — мне говори. Я с ними бок о бок всю жизнь живу, все по-ихнему понимаю. Да вот на старости лет жалеть начал, что не прятал от них своего знания. Потому как иной раз, когда немец думает, что ты его языка не знаешь, такое скажет — вначале вроде и обидно. А подумаешь, так кроме обиды и польза есть — знаешь, что о тебе и о всех нас господа немцы думают.
Николка новое дело постиг довольно быстро. По тем деньгам и товарам, что привозил в артель, было видно — не ошиблись рыбаки, поставив его в извоз.
На Покров потянулись к югу журавли. Многие артельщики стали собираться домой. Шел октябрь, скотину загоняли в тепло, скармливали ей последний пожинальный сноп, собирали последние яблоки, готовили на зиму последние ягоды.
Николка, укладываясь спать, припоминал: «На Покров девки кончают хороводы водить, начинают ходить на посиделки, свадьбы играют». А от этого мысли перебегали к давней деревенской жизни, когда еще жил с мамкой да тятькой недалеко от Гродно в имении пана Яна Юрьевича Заберезинского.
Много с той поры воды утекло. И все-таки как-то раз, больно уж затосковав, пошел на лодке через залив в деревню. Пожил пару дней в старой баньке, поглядел на людей, да только чуть ли не сразу потянуло его обратно. Идя на веслах к Нерии, сам себе дивился:
почему это не влечет его к деревенским парням да девкам, а тянет невесть куда — в пустую кошару, к старому домовому, байки его несуразные слушать да, бездельно уставясь в небо, думать о чем ни попало…
Жили Николка и Зикко Угорь в маленькой зимней пристройке — полторы сажени на полторы. Спали — дед на каменке, Николка на лавке. До полночи горел у них жирник, благо ворвани было довольно. Вечерами, погасив огонек, глядел Николка на светлое пятнышко оконца и слушал дедовы сказки.
— Вот еще… — говорил Зикко Угорь мечтательно. — Рассказывали это не совсем старые люди, а они в молодости от своих дедов слышали…
Пришел в нашу землю немецкий король. Было у него три раза по сто и еще тридцать три корабля. А у нас, пруссов, кораблей было мало. И мы попрятались в лесах, а наши вожди с дружинами ушли в деревянные крепости.
Тогда вышел немецкий король на берег моря и со всеми силами подступил к деревне Тувангесте. Много месяцев немцы били в стены Тувангесте большими бревнами с железными оконечниками, кидали в деревню огонь и стрелы.
Много месяцев пруссы храбро бились. Немцев была тьма, и оружие у них лучше нашего. Они взяли Тувангесте и сожгли его, а людей убили, и на месте разоренной деревни заставили построить свой бург из камня и назвали его Кенигсберг, что значит Королевская Гора. Сделав это, прошли немцы по берегу залива и по Нерии, через землю куршей, и на другой стороне косы поставили еще один бург — Мемель.
Тридцать лет воевали потом пруссы с немцами, но захватчики победили пруссов. Кто не сумел убежать в Литву — побили до смерти, и совсем немногих уцелевших сделали рабами.
Так и живут с той поры на берегах этого моря немцы — хозяева и пруссы — рабы…
Ох, как много знал всего Зикко Угорь! Он поведал о великих вождях прусских повстанцев Херкусе Мантасе и Диване Медведе, о помощи, оказанной повстанцам князем славянского Поморья Святополком и новгородским князем Александром Ярославичем по прозвищу Невский.
Он рассказывал о том, как рыцари травили пруссов по лесам свирепыми охотничьими псами, а изловив, предавали медленной смерти, соперничая друг с другом в жестокости и изобретении новых мучений и пыток.
— Я почти один, — говорил Зикко Угорь, — знаю, как это было на самом деле. Люди говорят, что в других прусских землях — в земле Натангов, в Помезании и у 3амбов тоже осталось несколько стариков, которые помнят прежние дела и дни. Жаль, после нашей смерти никто уже не будет знать правду о том, что здесь когда-то было… — И, помолчав, добавлял грустно: А немцы все это рассказывают не так. Они говорят, что мы, пруссы, были дикарями, не людьми даже, а лесным зверьем, и они нас пришли учить и хотели заботиться о нас, но мы этому воспротивились, стали воевать с ними. Тогда им пришлось защищаться, и некоторых, самых зловредных, побили в честном бою, а остальных привели в церкви, как добрые родители водят злых, упрямых детей. И знаешь, отчего мне грустно, Николаус? Я умру, и правда моего народа умрет вместе со мной, А немецкая неправда останется в книгах. Ведь у нас, пруссов, книг нет… Николке было жаль деда, он говорил утешительно:
— Может, и есть такая книга, где вашу правду записал какой добрый человек.
Дед ворочался, вздыхал, говорил печально:
— Спи, Николаус, спи.
Николка засыпал не сразу: долго еще летали под потолком избушки рыцари в белых плащах, пруссы в волчьих шкурах, горящие деревни, умирающие в муках люди…
* * *
Прошла зима. По весне в кошару вернулись почти все старые рыбаки. Появились и новые. Николку уже считали за своего — с первым уловом отправили торговать одного. На этот раз он не поехал в Мемель — там и своей рыбы было довольно: стоял Мемель на берегу моря, чего не хватало его гражанам?
Повез товар в глубь Пруссии — в города Велау, Фридлянд, Эйлау. Путь был в три раза дальше, зато а барыша больше.
В артели встретили его уважительно — не было у них такого удачливого торговца-фактора, как Николай. Со временем становился паренек в торговле все сноровистее, все удачливее. Через полгода он уже многое понимал по-немецки, но, как учил его староста, никогда в том не признавался, и вскоре это вошло у него в привычку.
Зикко Угорь тоже постоянно твердил, что скрытность — дело полезное. Старый прусс считал, что нет парода хитрее и злее немцев, и потому был очень рад, что Николка споим мнимым незнанием их языка постоянно немцев дурачит. Постепенно Николка даже пристрастился к этой игре. Страшно коверкая два-три десятка слов, необходимых в торговом обиходе, зарекомендовал себя в глазах своих покупателей редкостным остолопом.
С концом лова кончалась и торговля. Тихий залив под ветром пенился белыми барашками, песок больно хлестал в лицо. Про море вообще говорить не приходилось — шли на берег волны одна выше другой: не только на лодке, на корабле и то отойти от кромки суши было страшно.
А потом на дюны и сосны пали легкие снега — будто бесчисленные птичьи стаи, пролетевшие над Нерингой, сронили перья и пух, укутав землю куршей мягким белым одеялом.
Засветив жирник, Зикко и Николай вечерами плели сети, смолили лодки, чинили бочки — ладили к весне рыбацкую снасть. Ложились спать рано, вставали поздно. Тихо было вокруг, безлюдно. Редко когда забредал к ним случайный путник, погреться у огонька, послушать хозяев, порассказать о чем ни шло самому.
Только однажды случилось у них событие важное. В полдень появился у дверей каурый конь неописуемой красоты и невиданных статей, под седлом и в богатой сбруе.
Николка и Зикко выскочили из кошары, схватили каурого за узду. Конь, как умная и верная собака, потянул их к дороге, устремившись на полдень — к Кенигсбергу. «Видать, хозяин его там», — подумал Николай и, вместе со стариком проследовав за конем, зорко вглядываясь настороженным взглядом, через малое время заметил сидящего у дороги человека. Незнакомец, увидев коня, Николая и Зикко, с трудом приподнялся и встал, опираясь на две палки.
Глава вторая Штатгальтер Ордена
Граф Вильгельм фон Изенбург унд Гренцау был высок ростом, широк в плечах и тонок в талии.
Его светло-голубые глаза могли бы называться красивыми, если бы со стороны не казалось, что граф смотрит в свет сквозь кусок льда или со дна глубокой, чистой, но чертовски холодной реки.
Правильные черты лица Изенбурга портил лишь рот — большой, вытянутый в прямую узкую полоску, с бескровными синеватыми губами.
Поэтому получалось, что граф становился привлекательным, лишь когда молчал, прикрыв к тому же ледяные глаза. Но так как это случалось лишь по ночам, когда Вильгельм спал в своей жесткой холодной постели истового девственника, то никто его таким не видел, а все, кто знал Изенбурга, смотрел на него и слушал его, боялись и не любили рыцаря — подлинного хозяина Немецкого ордена Святой Девы Марии Тевтонской.
Вильгельм был четвертым сыном графа Саллентина фон Изенбурга и графини Гильдегард фон Гирк. Трое его старших братьев — Вилли, Герлах и Саллентин тоже были рыцарями Тевтонского ордена, но только он один достиг в ордене таких высот.
Вильгельм быстро прошел все ступени орденской иерархической лестницы и в двадцать три года был уже членом конвента — руководящего центра большой и могущественной организации, которую представлял собою даже в эти далеко для него не лучшие годы Немецкий, или Тевтонский, орден.
В конвент, называемый иногда также капитулом, входило пять братьев-рыцарей во главе с великим магистром. Вильгельм Изенбург за время пребывания в конвенте исправлял каждую из должностей, исключая самую высшую. Он был маршалом ордена, командуя его войсками. В двадцать пять лет он стал великим комтуром, что было еще труднее, чем руководство армией, и почетнее: в ведении великого комтура находились финансы орденского государства. В двадцать семь лет граф Изенбург стал штатгальтером ордена наместником великого магистра, из-за болезни не управляющего своим государством.
Штатгальтер не обманул ожиданий братьев-рыцарей: он успевал делать все, не щадя здоровья и сил.
Сил требовалось много…
* * *
— Ты не представляешь, Христофор, до чего приятно видеть тебя здесь, у меня в гостях, — радостно говорил Изенбург, неловко обнимая Шляйница за плечо. — Мне нужно многое узнать у тебя и о многом рассказать, старый боевой друг.
Шляйниц, вопросительно взглянув на Изенбурга, жестом указал на скамью в углу садика. Изенбург кивнул и, не снимая руки с плеча саксонца, сел, аккуратно откинув в сторону край белого плаща, который он непременно менял дважды в день.
— Дела наши обстоят весьма неблагоприятно, Христофор. Многое из того, что я скажу сейчас, тебе известно и без меня. Но я вижу необходимость обратить твое внимание на отдельные события, иначе нынешнее положение ордена останется для тебя не до конца понятным. Как это ни покажется тебе странным, сегодняшние наши беды начались не вчера и даже не десять лет назад. Они начались почти за сто лет до этого дня — 15 июля 1410 года, когда несчастный гроссмейстер Ульрих фон Юнгинген потерял не только собственную жизнь, но вместе с нею — силу, богатства и славу ордена. Непонятно за какие грехи, но знаю твердо: именно в тот трижды проклятый день Святая Дева отвернулась от нас. Даровав победу полякам, литовцам и русским, она предопределила ордену и его неизменных врагов, и его дальнейшую судьбу. Вот уже сто лет после этой злосчастной битвы под Танненбергом орден слабеет и чахнет, и теперь мы не можем биться не только со всеми нашими врагами вместе, но не выстоим даже один на один против любого из них.
Изенбург вздохнул и, печально потупившись, произнес:
— Знаю, князь Глинский приучил тебя играть в шахматы. Я и сам люблю эту игру. Так вот, порою мне кажется, что Всевышний посадил меня за шахматную доску к самому концу уже проигранной партии. Он оставил меня без ладей и слонов, без ферзя и коней, с малым числом кнехтов против всех вражеских фигур и пешек и лукаво приговаривает исподтишка: «А ну-ка, Вильгельм, ну-ка, сынок, попробуй побить черных».
— Позволь тебе возразить, Вильгельм, — вмешался Шляйниц. — Орден в Пруссии действительно можно уподобить нескольким кнехтам. Но ведь еще несколько кнехтов стоят в Ливонии. И подобно тому, как кнехты на шахматной доске образуют первую линию, так и орден в Пруссии и в Ливонии представляет собою выдвинутую вперед фортецию христианства, воздвигнутую перед лицом язычников. За его спиной стоят и папа, и император, и князья империи. И трудно сказать, у белых или у черных больше фигур на доске.
Изенбург скривил рот. В исключительно редких случаях, когда такое происходило, считалось, что штатгальтер улыбается.
— Если все-таки принять сказанное тобою за истину, то позволь добавить следующее. Пусть белых фигур столько же, сколько и черных, но и игроков на нашей стороне слишком много. Среди этих игроков нет согласия. Каждый мнит себя в игре главным и норовит помешать своему союзнику, не позволяя двинуть в нужное время, на необходимое место принадлежащую ему фигуру. Даже Вольтер фон Плеттенберг, магистр нашего же ордена в соседней Ливонии, чувствует себя ни от кого не зависимым сюзереном. То же самое могу сказать и о магистре в Германии, и о магистре в Италии, и даже, стыдно признаться, о некоторых моих комтурах.
— Так что же, смешаем фигуры? — спросил Шляйниц.
— Э, нет, — ответил Изенбург, — Жизнь не во всем шахматная игра. Вторую партию нам играть никто не позволит. Пока человек жив, он надеется. Отнимите у человека все, но оставьте надежду, и он будет жить. Отберите надежду, и жить ему будет незачем. У меня тоже есть надежда, Христофор.
Шляйниц вопросительно взглянул на Изенбурга.
— Когда-нибудь насмерть стравить московского медведя с литовским львом и белым орлом королевской династии Пястов. В этом я вижу жизненное предназначение и руку Божественного провидения, которая ведет нашу семью и мой орден. Для того чтобы Москва боялась и ненавидела Литву, похваляющуюся львом на гербе, а Литва отвечала ей тем же, достаточно все время твердить русским, что восточные территории государства Ягеллонов, над которыми распростерли крылья белые орлы Пястов, — их собственные вотчины, захваченные литовцами. И что литовцы сделали это по злому умыслу, отобрав то, что им никогда не принадлежало.
— А разве это не так? — Шляйниц с интересом взглянул на Изенбурга: такой казуистики он не ожидал даже от него, хотя штатгальтер считался одним из самых опытных аргументариев в ордене.
— Нет ничего однозначного, Христофор, — наставительно проговорил штатгальтер, — Эти земли — Белую Русь, Смоленск, Вязьму и многие другие литовцы отбили у татар, когда те установили свою власть почти над всеми русскими княжествами. Даже Киев — мать русских городов, как говорят московиты, — освободили от татар литовцы. Они изгоняли с этих земель татар и конечно же не бескорыстно устанавливали свою собственную власть, которая была для русских меньшим злом: на смену язычникам шли христиане, а их власть для русских была не в пример легче татарской. Это была, Христофор, своеобразная реконкиста. Подобно христианским королям Испании, изгнавшим из своей страны сарацин, литовские князья выбивали с русских земель язычников — татар.
«С той лишь разницей, — подумал Шляйниц, — что испанцы очищали от мавров собственную родину, а гедиминовичи — чужую». Но промолчал, решив дождаться конца тирады штатгальтера.
— Нам, немцам, — продолжил Изенбург, — и теперь, и впредь выгодно представлять дело таким образом, что никакого освобождения от татар не было, а происходил лишь захват русских земель. Это поселит в сердцах литовцев и русских вековую неприязнь и облегчит нашу борьбу и с теми, и с другими. Это будет на пользу и ордену, и Германии, а значит, и семье Изенбург унд Гренцау, и всем немецким дворянам, ибо немецкие Нобили, орден и Германия — единое целое.
«Вот как, — подумал Шляйниц, — даже в разговоре со мной штатгальтер впервые соединил столь откровенно судьбу семьи с судьбой ордена. Хотя и до сих пор Божественное провидение вело семейство графа Изенбурга по одной дорожке с орденом. А как же иначе? — вдруг осенило Шляйница, — Ведь Изенбург — это немецкое название русской крепости Изборск. Носить титул графа Изборского, всю жизнь знать, что с границы орденских владений видны стены замка, название которого, хотя и на немецкий лад, вписано навечно рядом с твоим собственным именем, и не обладать им? Что может быть нелепее? И что может быть большим укором самому себе и ордену, который остановился у стен Изборска-Изенбурга, видит его, но взять не может?»
— Здраво глядя на вещи, граф, — сказал Шляйниц, впервые называя штатгальтера по титулу, — дело ордена касается не только семьи Изенбург унд Гренцау. Это наше общее семейное дело. Я имею в виду все благородные фамилии Германии, в общем-то составляющие одну большую семью, чьи дети состоят в ордене. И дело здесь не в том, что вы, крестоносцы, принесли сюда слово Христово: поляки уже были крещены за двести пятьдесят лет до нашего, немецкого, появления здесь. Литовцы крестились позже, но это не помешало нам и после их обращения в христианство воевать с ними. Что касается язычников — пруссов, то каждые девять из десяти предстали перед Всевышним, так и не дождавшись приобщения к таинствам святого крещения.
— Ты опасный человек, Христофор, — проговорил Изенбург, вставая со скамьи. И было непонятно, сказал он это всерьез или шутя. — А что касается нашего друга князя Михаила, то ты сделаешь все, чтобы этот надутый павлин как можно сильнее ввязался в драку с Сигизмундом. Нам, немцам, — и Шляйниц отметил, что Изенбург сказал не «нам, ордену», а «нам, немцам», — такая свалка пойдет только на пользу. Чем больше русские будут биться с поляками или литовцами, тем свободнее будут наши руки, тем больше пользы будет от всего этого христианскому миру.
— Я все понял, Вильгельм. Я заверю князя Михаила, что орден поможет ему всеми силами, если начнется война с Сигизмундом.
— Пусть начинает, Христофор. А мы посмотрим, что делать дальше. Главное, чтоб он с первых же шагов увяз поглубже и у него не осталось никаких путей для примирения с Сигизмундом.
— Все обратимо, Вильгельм. Все утраченное можно восстановить, а значит, и простить, — произнес Шляйниц задумчиво.
— Нет, Христофор, не все. Две вещи необратимы. Нельзя вернуть жизнь и восстановить потерянную честь.
* * *
Шляйниц провел в Кенигсберге три дня. За это время он узнал от верных людей, что происходит в соседних землях, Западной Пруссии, в Вармийском епископстве и можно ли поднять на Польшу датского короля. Никто только не мог ответить ему с достоверностью, будет ли в предстоящей войне с Сигизмундом союзником Михаила Львовича ливонский магистр Плеттенберг? Ливония была под боком, управлялась теми же братьями-рыцарями из Тевтонского ордена, но ни один осведомитель Шляйница ничего вразумительного на этот счет сказать не мог.
На четвертые сутки Шляйниц порешил отправиться в Ригу и разузнать все самым подробным образом, расспросив друзей и знакомых, близких ко двору старого ландмейстера.
Не привлекая ничьего внимания, он выехал затемно, верхом, без возка и кареты. Никто не сопровождал его: ни конвой, ни слуги.
В полдень миновав рыбацкую деревушку Кранц, он поскакал по дороге, уходившей к косе Курши-Нерия. В эту ночь спать ему почти не довелось, и, вопреки обыкновению, чувствовал себя Шляйниц разбитым и усталым.
Безлюдье и тишина обступили путника. Казалось, во всем мире под высоким синим небом есть только эта дорога, эти сосны и эти дюны и посреди них одинокий всадник, мерно покачивающийся в седле в такт ударам копыт.
Сосны и дюны тянулись по обеим сторонам дороги бесконечной чередой, солнце припекало, и Шляйниц незаметно для себя задремал. Под глухой мерный топот копыт дрема сменилась сном, и он покачивался в седле, пригретый солнышком, в тишине и покое безлюдного леса, бессильно свесив голову и уронив поводья.
Что произошло дальше, Шляйниц не понял. Пытаясь разобраться потом, уже через несколько часов и дней, он мог только предполагать, как оказался лежащим на дороге. Падая, Шляйниц сильно ударился головой и потому, очнувшись, долго не мог сообразить, что с ним и где он. Голова гудела, в ушах стоял звон, перед глазами плыли кровавые круги. Приходя в себя, Шляйниц услышал далекое знакомое ржание — испуганное и призывное. Затем раздался удаляющийся шум и треск — так уходит по валежнику в глухую чащобу крупный зверь — медведь, лось, кабан. Шляйниц сел, опираясь обеими руками о землю. Попытался подняться, но резкая боль в левой ноге не позволила сделать этого. Он осторожно провел пальцами по голени и почувствовал в сапоге теплую липкую влагу, пропитавшую штанину. Дрожащая рука нащупала острую, выступившую сквозь прорванную кожу кость. Он закрыл глаза и почувствовал, как руки становятся все слабее и слабее, а голова снова наполняется шумом и звоном.
Шляйниц лег на спину и расслабился. Немного успокоившись, он повернулся на правый бок и медленно пополз к краю дороги. Подобрав две толстые палки, встал и попытался пойти туда, где слышалось удаляющееся ржание коня. Однако, сделав несколько шагов, понял, что идти ему не под силу. Опустившись на дорогу, он стал размышлять, как поступить дальше. Высчитывая, сколько времени прошло с момента падения, Христофор вдруг разглядел неясные силуэты двух человек, идущих по дороге навстречу.
Шляйниц нащупал ножны кинжала и передвинул их под правую руку, внимательно вглядываясь в приближающихся. Вскоре он различил, что один из них стар, а второй — почти мальчик. Шли они быстро, держа его коня под уздцы с двух сторон.
«Мужики», — подумал Шляйниц, и у него отлегло от сердца.
Он снова поднялся на ноги и стоял, превозмогая боль, надменно выпятив худой длинный подбородок. Мужики, сняв шапки, подвели коня.
— Помогите мне сесть в седло, — проговорил Шляйниц властно. — Да осторожнее — у меня сломана нога.
Старик сказал что-то мальчику на непонятном Шляйницу языке. Тот подошел к стремени и неожиданно сильно и ловко почти забросил саксонца в седло.
— О! — сказал Шляйниц.
Паренек улыбнулся — открыто, без заискивания и проговорил весело:
— Ничего, дядя, авось не помрешь.
— Ты русский? — взяв поводья, спросил Шляйниц.
— Русский, — ответил Николка.
— А дед есть кто?
— Дед — прусс, — улыбнулся открыто юнец. Зикко согласно закивал головой. «Вот оно как, — подумал Шляйниц, — лучше, если я не скажу, что я немецкий дворянин».
Саксонец широко улыбнулся и, стараясь чисто и правильно выговаривать русские слова, произнес:
— Ну, слава Богу, повезло. Я есть слуга князя Михаила Львовича Глинского.
— Самого Глинского! — с неуемным восторгом воскликнул Николка.
— Ты слышал о нем? — осторожно спросил Шляйниц.
— Как не слышать, дяденька! Кто ж его ныне не знает! — И добавил гордо: — Я с его войском от самой реки Лань до Вильны шел. Спас меня князь от татар, из неволи вызволил.
— Что ж, хлопец, в той битве и я был. Неповредимым от нее ушел. А здесь на ровном месте кровь проливал, — произнес Шляйниц, чувствуя, что по-русски говорит с ошибками, и досадуя, что ничего с этим поделать не может.
— Значит, и ты, дяденька, мой спаситель, — засмеялся Николка.
— Вчера я тебя спасал, сегодня ты меня спасал, — улыбнувшись впервые за все время, проговорил Шляйниц. И вдруг неожиданно для самого себя добавил: — Какие могут быть сосчитвания долгов между двух друзей?
* * *
Зикко и Николка привезли Шляйница к себе в избу. Сняв сапоги, разрезали штанину, обмыли рану теплой водой. Покалеченный всадник дышал тяжело, постанывая от боли, а чуть придя в себя, сказал хриплым шепотом:
— Коня поставьте под крышу. Дайте поесть. Воды дайте.
Николка, выйдя за порог, с удовольствием погладил каурого по шее, завел в пустую кошару, расседлал, задал овса, напоил. Ох, до чего хорош был конь! Глаз не оторвать!
Повздыхав так, Николка вернулся к себе в пристройку.
— Все делал, как я повелевал? — спросил больной.
— Все, — коротко ответил паренек, удивляясь тому, что незваный гость ведет себя слишком по-хозяйски.
— Слушай дальше, — тем же тоном проговорил больной. — Возьми мой плащ, сапоги. Одевай себе. Бери коня, поскакай в Кенигсберг. В замок. Расскажи штатгальтер Изенбург про меня — Христофор.
Ошеломленный Николка, не медля ни часа, помчался в Кенигсберг довести до штатгальтера о несчастье, приключившемся в дороге со слугою князя Глинского, а также сообщить, где он нынче обретается, и привезти к нему лекаря.
До чего же упоительной была эта скачка! Каурый трехлеток сразу же почувствовал твердую опытную руку и пошел ровным легким галопом, играючи оставляя версту за верстой.
«Да, — подумал Николка, — не чета моему чалому. За таким удальцом ни один татарин не угнался бы». Замечтавшись, вдруг представил, что конь его собственный, так аж дух захватило от столь необыкновенной грезы.
В полночь Николка завидел черные игольчатые шпили кирк, возвышающиеся над городской стеной Кенигсберга на фоне звездного неба. Вскоре конь остановился у глубокого рва, наполненного темной неподвижной водой. Дорога обрывалась у самого берега. На противоположной стороне рва, закрывая полнеба, торчал подъемный мост, поднятый на цепях вровень с городскими воротами.
Не сходя с коня, Николка стал звать стражу, однако никто не появлялся. Разозленный безмолвием, гонец, спрыгнув на землю, принялся собирать камни и швырять их через ров. Булыжники градом застучали по днищу моста.
Через несколько минут откуда-то из темноты вынырнул здоровенный детина в кирасе и каске и заорал так оглушительно, что Николкин жеребец запрядал ушами и оторопело подался назад.
Посланец мало что разобрал из того, что прокричал разбуженный караульный, да и незачем ему было слушать пустопорожнее солдатское сквернословие.
Дождавшись, когда верзила на мгновение смолк, Николка объявил негромко:
— Гонец к штатгальтеру графу Изенбургу!
Детина, не раскрывая рта, скрылся, и через несколько мгновений возле подъемных ворот оказалось четыре кнехта.
Вороты заскрипели, цепи лязгнули, мост нехотя качнулся и медленно пополз вниз. Николка слышал, что в Кенигсберге какая угодно дорога от любых городских ворот ведет к орденскому замку. Поэтому, не расспрашивая кнехтов, пустил каурого рысью и помчался вперед, туда, где темнел тридцатисаженный донжон Кенигсбергского замка.
Во двор замка его впустили незамедлительно и, несмотря на глубокую ночь, тотчас же доставили во внутренние покои, где маленький седой человечек, строго на него глядя, сказал по-русски:
— Тебя хочет видеть сам штатгальтер ордена граф Вильгельм фон Изенбург. Говори кратко и только о том, о чем тебя спросят.
Маленький человечек пошел вперед Николки, подняв высоко над головой бронзовый шандал с тремя свечами.
Николка ступал осторожно, стараясь не шуметь, и, хотя боялся споткнуться, то и дело озирался по сторонам. Да и как было не смотреть? Никогда еще не доводилось бывать ему в таком большом доме, и никогда не видывал он столь многих диковин. На стенах коридоров и огромных пустых залов — не меньших, чем залы иных храмов, — висели мечи, алебарды, пики, топоры, головы оленей и вепрей — рогатые, клыкастые, страшные. Николка прошел множество переходов, лесенок, дверей и дверок и всюду видел железные решетки, цепи, пудовые замки, тяжкие запоры — будто не дом это был и не крепость, а тюрьма.
Наконец провожатый остановился у невысокой кованой дверцы и, многозначительно взглянув на Николку, осторожно постучал. Из таинственной комнаты раздался неразборчивый говор. Однако ж провожатый приглашение понял и, легонько толкнув дверь, почтительно переступил порог, знаком увлекая за собою юнца.
Николка вошел в маленькую комнатку, где стояли лишь стол, три стула и узкая кровать, крытая тощим тюфяком.
На одном из стульев сидел нестарый еще мужчина с глазами блеклой ледяной голубизны.
Маленький человечек низко поклонился и произнес довольно длинную фразу, Николка понял, о ком идет речь, — о подобранном им человеке по имени Христофор и хозяине замка Вильгельме, в комнате которого они теперь находились.
Вильгельм Изенбург проговорил коротко, и маленький человечек тотчас же перевел:
— Что случилось с господином Христофором?
— Он упал с коня, — ответил по-русски Николка, не подавая виду, что понимает их разговор. — Мы нашли его в лесу и привезли к себе в избу.
— Кто это — «мы»? — спросил Изенбург.
— Я и старик рыбак Зикко.
— Господин сильно расшибся?
— У него сломана левая нога, — ответил Николка и, наклонившись, показал на своей ноге, в каком месте именно она сломана.
— Ты отведешь к господину Христофору моего лекаря и двух его помощников.
Маленький человечек все это старательно переводил. Изенбург встал, и Николка понял, что ему следует покинуть комнату. Он поклонился и вышел. Следом за ним, чуть погодя, вышел маленький толмач.
— Поедешь тотчас же, — сказал он, — С тобой отправятся люди, чтобы исцелить господина Христофора. Ступай во двор. Конь накормлен и напоен. Как только лекарь сядет в карету — твой конь тут же встанет под седло.
Наутро возле рыбацкой кошары остановилась карета с лекарем и двумя его помощниками.
Лекарь выправил кость, наложил на ногу деревянные дощечки, обернул их лубом и перевязал лыком.
Шляйниц отобрал у Николки и сапоги, и плащ. Чтобы хлопец не обижался, сказал примирительно:
— Я давать тебе сапоги и плащ, чтобы по дороге не думали, что ты украл мой конь, а то конь дорогой, а на конь — бедный человек.
И протянул Николке серебряный талер. После этого Шляйница перенесли в карету. Прежде чем отъехать, Шляйниц подозвал к себе Николку и, пристально поглядев в глаза ему, спросил:
— Хочешь служить князь Глинский?
— Хочу, — ответил Николка, не веря выпавшему на его долю счастью. И испугавшись, что Шляйниц передумает, зачастил: — Знал бы ты, добрый человек, как хочу князю Глинскому верой-правдой служить. Меня ведь в полон-то татаре взяли, когда в станичной казацкой службе был. Воинская-то, ратная служба мне сызмальства ведома и свычна, дюже люба.
— Ну-ну, — проговорил саксонец важно, — не надо много говорить. Бери мой конь, Николаус, поехать ко князь Михаил. Рассказать, как ты подобрать меня на дорога, как призывать ко мне лекарь, как мне помогать. Он будет за все это принимать тебя служить. Скажи князь: лекарь говорит — я буду здоров через один или один с половиной месяц.
— Спаси тебя Христос, добрый человек, — проговорил Николка и ткнулся губами в руку саксонца.
Шляйниц руки не отнял.
Затем дал знак Николке подняться на ступеньку кареты и, припав к его уху, стал шептать:
— Поехать надо к Мемельбург. Оттуда через земля лифляндский риттер ехать по берег река Неман до город Ковно и потом на половину день. — Шляйниц махнул рукой, указывая на юг. — Ты будешь ехать по дорога, который я и князь Глинский шли воевать с татар. После Ковно через четыре или пять день будет шлосс Лида, еще через четыре день — город Клёцк и после Клёцк дальше на половину день по берег река Лань. На река Лань мы победить татар, — гордо произнес Шляйниц, и Николка подумал, что рыцарь был, наверное, в этой битве одним из храбрых. — Потом, — продолжал немец, — ты приедешь к река Припять. На этот река и стоит город Туров.
Шляйниц еще теснее прижал губы к уху Николки и зашептал совсем тихо:
— У ворота дом князя стоит стража. Скажешь: «Я к Панкрату от его старшего брата». И тебя будут пускать во двор. Запомнил?
Николка повторил условные, тайные слова. Когда карета тронулась, Шляйниц тотчас смежил веки не оттого, что был болен и слаб, а затем, что хотелось ему подумать: правильно ли поступил, что отдал Николке коня и послал парнишку в службу к Михаилу Львовичу? Но, вспомнив строгий наказ Глинского — всюду нанимать годных к воинской службе людей и посылать их в Туров, решил — правильно. И успокоился.
* * *
— Ох, Николай, Николай! — жалобно сокрушался старый Зикко. — Зачем ты связался с этим немцем? Обманет он тебя! Какая тебе корысть служить их проклятому ордену?
— При чем тут орден? — горячился Николка. — Я русскому князю еду служить. Он и супротив немцев, и супротив татар оборона и защита.
Старый прусс не унимался:
— Ты-то русскому князю будешь служить, да он-то сам кому служит?
— Не немцам ведь! — кипятился Николка.
— А откуда знаешь, что не немцам? — не успокаивался Зикко Угорь.
— Одно у тебя, старый, на уме: немцы да немцы. Отколь им в Белой-то Руси взяться?
— У немца руки длинные, — бубнил свое старый прусс.
— Разберусь, поди, сам, не маленький, — отрезал Николка и, обидевшись, либо отходил в сторону, либо делал вид, что засыпает.
На второй день, собрав нехитрые пожитки, Николка неспешно тронулся в путь. Зикко стоял, прислонившись к притолоке избушки, и щурился вслед. Досадуя на старика, Николка ехал не оборачиваясь и только на повороте оглянулся. Зикко, маленький, старый, одиноко стоял на дороге и из-под ладони глядел во все глаза вслед.
У всадника сжалось сердце, но он, не замедляя хода, завернул коня на поворот и впервые дал каурому шпоры.
* * *
До вотчины Глинского — Турова Николка добирался почти полмесяца. Немец точно описал путь, и паренек без особого труда, редко сбиваясь с дороги, с первым снегом подъехал к берегу Припяти.
Река была серая, тихая, без плеска текла средь низких болотистых берегов, вбирая сотни ручейков и речушек.
Николка медленно поехал по течению, всматриваясь: нет ли где брода? Наконец брод отыскался. Истоптанная тысячами ног и копыт вязкая дорога ныряла в реку и узкой черной лентой выныривала на противоположном берегу.
Осторожно тронув каурого шпорой, всадник направился к воде. Конь заупрямился, запрядал ушами, мелко перебирая ногами, пошел боком. Над рекой стелился холодный белый пар — будто от серых снеговых туч отделился рваный нижний край и поплыл над Припятью туманной завесой.
Николка снова дал коню шпоры, потянул удила. Каурый, обидчиво кося агатовым глазом, нехотя вошел в воду и пошел, чуть вздрагивая от холода и высоко выбрасывая передние ноги.
На другом берегу Николка соскочил на землю и чистым сухим холстом торопливо вытер коня, сильно прижимая тряпицу к ногам и крупу. Затем влетел в седло и погнал карьером, разогревая его. Конь, будто понимая хозяина, шел стремительно, вытянувшись над черной грязной дорогой.
Туров Николка увидел, как только выехал к Припяти. До города средь пологой равнины было не более версты. Только два невысоких холма видел перед собою Николка. Холм поближе к нему был побольше, на его плоской вершине стояла крепость. На втором, дальнем от Припяти, — церковь. Вкруг города стены не было. Место спадало от замкового холма к реке нестройной гурьбой черных, вросших в землю избушек под соломенными крышами.
За местом вдруг снова оказалась река. Она обтекала холм с двух сторон. Через реку был перекинут деревянный мост. Въехав на него, Николка увидел, что слева от реки отходит ров, также наполненный водой. Подняв голову, Николка заметил в окне надвратной башни мужика с алебардой.
«Привратный сторож», — определил Николка. Мужик спускаться не стал. Спросил негромко:
— С каким делом и к кому едешь?
— Еду к Панкрату от его старшего брата! — крикнул Николка звонко и весело.
Мужик вдруг, непонятно отчего, ошалело замахал руками, округлив глаза, засипел предостерегающе:
— Что ты! Что ты! Разве можно такие слова орать на весь белый свет!
Страж исчез, торопливо застучали шаги по лестнице башни. Когда привратник открыл ворота, на лице его все еще оставался испуг. Заметил Николка и иное в глазах стража. Впервой доводилось мальцу увидать во встречном взгляде почтение.
«Как из сказки заклятье, — ухмыляясь, подумал Николка. — Сказал его, и ворота распахнулись чуть не сами собой. Страж вначале напугался, а потом и охолопился — будто князя встретил».
Резко подбежал другой мужик, взял каурого за повод и повел в конюшню, а еще один, сняв шапку, кивнул Николке головой, не поймешь, не то поклонился, не то попросту поздоровался, и зазывно махнул рукой — идем-де.
Провожатый завел его в большую избу, что стояла посреди двора. И там в просторной, чисто убранной горнице встретил его начальник: борода лопатой, рубаха новая, сапоги из юфти.
Бородатый махнул рукой — мужик, приведший Николку, вышел вон.
— От кого? — спросил бородатый.
— От старшего брата к Панкрату, — ответил Николка тихо.
Хозяин непонятно чему улыбнулся, спросил, потеплев голосом:
— От какого же брата? Много их у меня и почти все — старшие.
— Звать его Кристофор, а прозвище мне не сказывал.
— Ты постой здесь, погоди меня маленько, — торопливо проговорил допытчик и выскочил за дверь — в соседнюю горницу.
Вскоре вернувшись, произнес испуганно:
— Сам тебя хочет видеть: князь Михаил Львович.
Глава третья Туровский заговор
1508 год начался теплыми ветрами, звонким крошевом рушащейся наледи, ломким хрустом оседающего наста.
Вскоре после Рождества Сигизмунд Казимирович отправился из Вильны в Краков на коронацию, по которой Литва и Польша должны были вновь соединиться под одним скипетром, ибо после коронации в Кракове Сигизмунд Казимирович добавлял к титулу великого Литовского князя и титул польского короля.
Михаил Львович об эту пору сидел в Турове. Невесело ему было и бесприютно, несмотря на то что жил он в отчем доме, в тех самых стенах, которые первыми из прочих довелось запомнить ему.
Узнав, что Сигизмунд уехал в Краков, Михаил Львович вспомнил недавнее.
Всего семь лет назад там же, в Кракове, короновался на польский стол собинный его друг, благородный рыцарь, честный и добрый Александр Казимирович.
Глинский припомнил осиянный тысячью свечей собор, парчу и золото одеяний, сотни знатнейших персон из Литвы и Польши, роящихся у подножия трона, и самого себя, стоящего рядом с Александром Казимировичем, себя единственного, кто олицетворял своею персоной всех литовских дворян и кому было позволено стоять не в зале собора, а прямо возле короля, как если бы он — Глинский — был его братом или сыном.
Иные прохожие, осеняя себя крестным знамением, отплевывались, как от нечистого, убежденные, что встреча с иноверцем — к беде.
Чем ближе к Кремлю подъезжали, тем беспокойнее становилось на сердце у Михаила Львовича. Шумной, бестолковой, многолюдной и непонятной показалась ему Москва. «Как-то приживусь я здесь?» — с грустью и тревогой подумалось Глинскому. На ум вдруг пришли пакостные еропкинские слова: «Где ни жить, не миновать служить».
Часть третья ИЗГНАННИК
Глава первая Князья империи
Осенью 1508 года в орденском Кенигсбергском замке появился новый человек. Был он молчалив, нелюдим, никто ничего не знал о нем, кроме того, что имя ему Лука. Высокий, худой, горбоносый человек очень редко появлялся во дворе замка. Никто не встречал его и за воротами замка, в городе. Более всего брат Лука любил прогуливаться ночью. В любую погоду выходил в сером до земли балахоне с капюшоном, опущенным по самые брови. Ступал Лука медленно, однако неспешность эта была не от старости или недугов. Если бы кто присмотрелся к его походке, то заметил бы в ней нечто звериное крадущееся, легкое, неслышное. И глаза Лука чаще всего держал чуть прикрытыми, будто даже ночью боялся лунного света, при встрече вовсе опускал долу.
Жил монах в маленькой келье возле пыточного подвала. Келья имела выход прямо во двор, и Луке не приходилось, как прочим братьям, ходить по общежительному коридору, встречаясь с соседями.
Из-за постоянных ночных бдений брат Лука спал от заутрени до обедни, потому и редко бывал в церкви.
Окно его кельи всегда было плотно занавешено по-видимому, брат Лука не мог спать при свете, а может быть, и не переносил любопытных глаз. В общей трапезной он появлялся раньше других и, быстро позавтракав, удалялся. После сна, также раньше других, обедал и, как всегда, не проронив ни слова, уходил.
Среди братьев-новициев и братьев-рыцарей о нем ходили самые разные слухи. Сойтись на чем-то одном никто из монахов не мог. Да и немудрено: в орден часто вступали те, кого постиг крах, — разорившиеся или запутавшиеся в долгах купцы, промотавшиеся дворяне, здесь искали прибежище и беглые преступники, и авантюристы. Редко кто менял по доброй воле свободную, хотя и греховную жизнь на безгрешное монашеское затворничество. А если уж менял — значит, ничего другого не оставалось.
Однако и в новом монашьем обличье опытный глаз всегда мог отличить вчерашнего купца от вчерашнего рыцаря, казнокрада от верующего фанатика.
Бывший купец, поосмотревшись, непременно находил среди орденских братьев товарищей по прежнему ремеслу, ландскнехт — забубенных старых рубак, фанатик — суеверных мистиков, иссушающих плоть постами и молитвами.
Лука знакомств не искал, никто и его не признавал за своего. Видели, как несколько раз он появлялся в канцелярии штатгальтера, молча передавал письмо и уходил, надвинув капюшон на брови. Иногда секретарь штатгальтера присылал к таинственному гостю служку с запиской, ему адресованной. Однако, кто писал отшельнику и кому он отсылал свои послания, для всех оставалось тайной.
Со временем интерес к нему поуменьшился, а потом и совсем пропал. Мало ли как живут люди! Мало ли кто не спит по ночам! И разве каждый открыто смотрит встречному в глаза?
* * *
Штатгальтер возвратился в Кенигсберг поздней осенью. Не более часа провел он за беседой с членами орденского капитула — великим комтуром, великим маршалом, фогтами орденских замков, оказавшимися в день его приезда в Кенигсберге.
Изенбург не был в резиденции почти полгода, и за это время накопилось множество дел, которые без него никто решить не мог. Братья-капитулярии немало изумились, когда, рассеянно выслушав их краткие отчеты, штатгальтер объявил, что встретится с ними завтра, а сейчас его ждут более неотложные дела.
Склонив головы, сановники с достоинством удалились, лишь взглядами выразив Изенбургу недовольство столь короткой встречей.
Выйдя из зала капитула, великий маршал и великий комтур подошли к окну, вполголоса обсуждая произошедшее. Комтуры замков Рагнит, Бальга, Мемель, Фридланд, сбившись тесной кучкой, встали у соседнего окна.
Через несколько мгновений мимо них поспешно прошел штатгальтер, и собравшиеся у окна рыцари увидели, как он пересек двор и торопливо постучал в дверь таинственного Луки. Дверь тотчас же приоткрылась, и штатгальтер быстро юркнул в щель.
Крепко и по-дружески обняв таинственного для всех гостя, Изенбург проговорил ласково и торопливо:
— Ну, Христофор, сначала твои новости, а потом уж стану рассказывать я.
Шляйниц кивнул, соглашаясь.
— Я хорошо запомнил все, что услышал от тебя в мой прошлый приезд, Вильгельм. И когда князь Михаил приказал мне поймать и привезти к нему Яна Заберезинского, я решил не привозить его живым. Я решил убить его, подумав, что тогда Глинскому уже не будет хода назад. Пролитая кровь отделит его от всех, кто еще надеется на примирение с Сигизмундом, и заставит князя Михаила биться до конца, спасая уже не только дело, которое он затеял, но и собственную жизнь. Я убил Заберезинского, чтобы отрезать Глинскому пути к примирению с Сигизмундом, как ты и советовал мне, Вильгельм, — повторил Шляйниц, и от этих слов Изенбург недовольно дернул плечом. — Я отрубил Заберезинскому голову и потом вез ее, поднятую на пике, два дня, пугая поселян, делал все, чтобы об этом узнало как можно больше народа. Я добился своего — православные белорусские холопы схватились за цепы и колья. Они думали, что уж если наместник и воевода пал от нашей руки, то мелких шляхтичей-католиков им удастся вырезать без всякого труда. Через две недели я узнал, что князь Михаил весьма недоволен моим поступком, а Сигизмунд пообещал казнить меня, если только попаду к нему в руки, и окончательно уверился в том, что поступил правильно. Однако по той же причине было невозможно вернуться к Глинскому, страшила и месть короля. Все лето проблуждав с небольшим отрядом по Литве, я повелел моим людям возвращаться в Туров, а сам пробрался в Кенигсберг…
Шляйниц вспомнил свои одинокие скитания по Литве, по Королевской Пруссии и решил не обо всем говорить штатгальтеру. Зачем Изенбургу было знать, как он, вырядившись мужиком-обозником, пригнал в Данциг телегу с сеном? К тому же на дне телеги лежало столько награбленного добра, что на него можно было бы купить тысячу возов сена.
Уже оттуда, натянув на себя серый капюшон нищенствующего монаха, Шляйниц побрел в Кенигсберг, твердо зная, что орденские братья не бросят его на произвол судьбы.
— Ни одна живая душа не ведает здесь, кто я такой, и потому ты волен объявить меня кем угодно, — добавил он и замолчал.
Изенбург сидел понурившись, покусывая нижнюю губу, что означало крайнюю задумчивость. Наконец он сказал:
— Главное, Христофор, что ты жив и здоров. Остальное будет улажено. — И проговорил, тем особым тоном, какой был свойственен штатгальтеру, когда он заканчивал разговор: — Я даю рыцарское слово, что добьюсь для тебя прощения у Сигизмунда.
* * *
Однако Изенбургу понадобилось немало времени, чтобы исполнить обещанное.
Нехорошие времена наступили для ордена. Великий Московский князь, хотя и пропировал с Михаилом Львовичем целую неделю, однако ж советов его воевать с Сигизмундом дальше — не принимал.
Московские полки отошли на рубеж, поляки в русские пределы не вступали. Война затихла сама по себе.
В сентябре 1508 года в Москве появились литовские послы с предложением мира. После долгих споров и взаимных попреков в нарушении старых договоров был подписан «вечный мир», а вслед за тем в Вильно отправилось ответное русское посольство.
14 января 1509 года боярин Григорий Федорович Давыдов и Сигизмунд Казимирович целовали крест в знак того, что мир будет сохраняться ими вечно и никогда более поляки, литовцы и русские не станут сражаться друг против друга.
Вскоре после этого санный посольский обоз выкатился из Вильны и двинулся на восток.
* * *
Вольтер фон Плеттенберг, магистр Тевтонского ордена в Ливонии, в этот вечер долго не ложился спать.
Завтра к нему в резиденцию должны будут заехать русские послы, возвращающиеся из Вильны, и магистру в беседе с ними предстоит принять важное, хотя и не очень приятное решение.
Магистр был стар, медлителен и осторожен. Три месяца назад в этом же замке он встречал литовского посла Станислава Глебовича, когда тот направлялся из Москвы в Вильно с этим же договором, теперь уже подписанным Сигизмундом.
Станислав Глебович был тогда печален и зол. — Великий князь вернулся домой победителем, но почему-то не он диктует свою волю Василию, а московит приказывает ему. Мы признали за Москвой все северские земли от Торопца до Новгорода-Северского.
Мы отступили от Брянска. Мы отдали Чернигов. Еще пять лет, и московит заберет у нас и Киев, и Вильно.
Плеттенберг молчал, не зная, радоваться или печалиться. Хорошо, конечно, что у Сигизмунда отобрали целое королевство, но нехорошо, что сделали это русские, став еще сильнее.
— Может быть, великий князь одумается, — продолжал Станислав Глебович, и откажется целовать крест на этом постыдном и грабительском договоре?
Увы, Сигизмунд Казимирович не одумался. В середине января Плеттенбергу сообщили, что он признал все статьи написанного русскими договора. А еще через две недели к Плеттенбергу в Ригу пожаловали литовские послы, показали ему текст договора и попросили унять беспокойных братьев-рыцарей, частенько набегавших на порубежные литовские деревушки. Плеттенберг тут же переслал копию договора гроссмейстеру ордена, а литовцам пообещал угомонить рыцарские отряды на границе.
Теперь должны были приехать русские: великий государев посол боярин Григорий Федорович Давыдов да боярин же — великокняжеский конюший Иван Андреевич Челяднин, сокольничий Михаил Степанович Кляпик и дьяк Никита Семенович Моклоков по прозвищу Губа.
Ни на чем не остановившись, Плеттенберг решил ждать.
«Пусть русские первыми сделают ход в этой давно знакомой и вечно неожиданной игре, — подумал он. — Никогда нельзя знать заранее, чего следует ждать от этих вчерашних татар, на глазах становящихся византийцами, изворотливыми и хитрыми».
* * *
— Ты, князь Волтырь, пойми, — благодушно ухмыляясь в окладистую бороду, степенно говорил чуть захмелевший Григорий Федорович Давыдов, повернув к Плеттенбергу красное курносое лицо и уставясь маленькими веселыми глазками в переносицу магистра. — Ты пойми, ныне государь наш есть наисильнейший из всех христианских государей, и тебе, князь, добре было бы поискать у него милости и приятельства.
— Мы с твоим государем, боярин Григорий Федорович, в давнем приятельстве, — как бы оправдываясь, ответил Плеттенберг.
Но Давыдов, будто не слыша, продолжал:
— Сигизмунд Казимирович подписал ныне грамоту на всей нашей воле. В той грамоте великий князь отдал нам столь земли, сколь занимаешь ты, князь Волтырь, со всеми божьими рыториями немецкого чину. И тебе бы, князь, гораздо было такую ж грамоту с нами учинить.
«Что правда, то правда, — подумал Плеттенберг. — Еще одна война, и русские, если захотят, выйдут к морю».
Плеттенберг встал, подняв чару вина:
— Мы нынче же пошлем в Москву, к великому князю Василию, своих послов. И повелим им взять мир с Москвой, как то будет пригоже и как то и ныне между нами есть.
Давыдов медленно встал. Следом за ним столь же степенно поднялись Челядин, Кляпик и Моклоков.
— То добрые слова, князь Волтырь, — удовлетворенно проговорил Давыдов. Доведу их до государя. Только каков будет этот мир, того ни тебе, князь, ни мне знать не дано. Ведает о том один великий государь Василий Иванович.
Плеттенберг молча выпил вино и осторожно, будто боясь стука, поставил чару.
* * *
В самом конце марта Плеттенберг получил письмо от посланного им в Москву рыцаря Иоганна фон Голдорна. Посол сообщал о подписании с русскими нового мирного договора сроком на четырнадцать лет.
В письме Голдорн извещал магистра и о том, что русские и на этот раз вели себя с ливонскими послами высокомерно и дерзко. Рыцаря Иоганна не допустили к великому князю. Бояре говорили с ним не так, как с послами иных государств, и подписывать договор отослали к великокняжескому наместнику в Новгород, где и встарь подписывали договоры с Ливонией ставленники московского царя от его державного имени.
В конверте лежал и лист с копией заключенного договора.
Магистр быстро пробежал его глазами. Все оставалось по-прежнему русские, наступив на горло ордену, заставляли держать меч в ножнах.
Одержав победу над Ливонией шесть лет назад, они и ныне запрещали братьям-рыцарям помогать Сигизмунду, если он начнет войну против России.
«Да, — подумал Плеттенберг, — все остается по-прежнему. Сила ломит силу, а слабый покоряется сильному».
Магистр положил письмо и бумаги на стол и в печальной задумчивости опустился в кресло.
* * *
Через неделю копии письма Голдорна и русско-ливонского договора получил Изенбург. Он приказал скопировать договор еще раз, чтобы отправить гроссмейстеру Фридриху. Пока секретарь снимал копию, граф Вильгельм писал письма.
Затем он велел вызвать гонца.
— Ты сегодня же поедешь в Саксонию. Посылаю с тобой два пакета. Вот этот пакет ты отдашь гроссмейстеру, а вот этот, — Изенбург повернулся, взял со стола только что написанное письмо и, запечатав его сургучом, протянул гонцу, — ты передашь брату гроссмейстера, его светлости герцогу Георгу Саксонскому.
Гонец, кивнув и не сказав ни слова, сунул письма в сумку.
Затем Изенбург приказал позвать Шляйница.
Саксонец не заставил себя долго ждать.
— Я только что отослал гонца в Саксонию, Христофор, — сказал Изенбург. Герцог Георг, как меня известили, собирается в Польшу и, конечно, встретится там с Сигизмундом. Я написал герцогу послание, где прошу, чтобы он при случае завел разговор с королем о тебе и в конце концов добился твоего прощения.
— Ты думаешь, это удастся?
— Уверен, Христофор. Политики не живут вчерашним днем. Более того, хорошие политики не живут и днем сегодняшним. Мы все, получившие по воле Всевышнего власть над человеками, должны каждый свой поступок соразмерять с тем, что нам будет необходимо завтра. А разве Сигизмунду не потребуется завтра помощь императора или электоров? Так почему бы ему не выполнить просьбу одного из родственников могущественного саксонского курфюрста? А кроме того, и собственного шурина?
— Чего стоит услуга после того, как она уже оказана? — меланхолически возразил Шляйниц. — Разве имеет значение для политика, что жена Георга родная сестра Сигизмунда?
— Ну-ну, Христофор, — ободряюще отозвался штатгальтер, — не так уж все плохо, как тебе кажется. Солнце взойдет и для нас. Главное — не вешать носа!
* * *
…Штатгальтер оказался прав: король Сигизмунд простил Шляйница.
4 июня 1509 года из кельи брата Луки вышел высокий худой кавалер в сапогах со шпорами, легком колете, с длинным узким мечом на боку. Взор его бесцветных глаз был открыт и дерзок. Легко и привычно кавалер вдел ногу в стремя и, не оглядываясь и ни с кем не прощаясь, рысью пошел к воротам.
4 июня 1509 года из ворот Кенигсбергского замка выехал дворянин Христофор Шляйниц, вассал светлейших саксонских герцогов. В его дорожной сумке лежала охранная путевая грамота для поездки в Дрезден.
Герцог Георг извещал всякого, кто посмел бы задержать в пути его «верного вассала и возлюбленного сына, дворянина Христофора фон Шляйница», что в этом случае такому человеку придется иметь дело с домом саксонских герцогов, который ручается за безопасность благородного кавалера.
* * *
Тринадцать детей было у польского короля и великого Литовского князя Казимира Ягеллончика: шесть сыновей и семь дочерей. Сыновьям Казимир прочил троны, дочерей с умом и расчетом выдавал за владетельных сеньоров из соседних государств.
Мальчиков со дня рождения воспитывали так, чтобы каждый из них оказался пригодным для великого дела, предназначенного не только волей державного отца, но — провидением.
Владиславу отец прочил престол Чехии, Казимиру — Венгрии. Яна-Ольбрехта хотел видеть своим преемником на троне Польши, Александра вторым своим преемником в Литве. Сигизмунду великий князь предназначал Молдавию. И лишь самому младшему сыну, Фридриху, отводил не титул, а сан гроссмейстера Тевтонского ордена, что, собственно, на деле мало чем отличалось от титула короля или герцога.
Трех из семи своих дочерей Казимир выдал за курфюрстов империи. Старшая дочь, Ядвига, в 1475 году стала женой баварского герцога Юрия, младшая, Варвара, через двадцать один год вышла замуж за саксонского герцога Георга, третья дочь, Софья, обвенчалась с бранденбургским маркграфом Фридрихом из дома Гогенцоллернов.
С сыновьями не все сложилось так, как он хотел. На тронах побывали Ян-Ольбрехт, Казимир и Александр. Судьба их была различной: случалось, что братья даже воевали между собой, но при жизни отца эти конфликты быстро прекращались его властной и тяжелой рукой.
Казимир умер, когда его отец был еще жив. Ян-Ольбрехт и Александр не надолго пережили отца.
К тому времени, о котором идет речь, были живы только трое из шести братьев: Владислав, Сигизмунд и Фридрих. Владислав и Сигизмунд вдвоем занимали сразу четыре трона: Владислав — в Венгрии и Чехии, Сигизмунд — в Польше и Литве. Фридрих так и не занял пост гроссмейстера Тевтонского ордена — этому противились папа, император да и сами сановники ордена, ни за что не желавшие видеть поляка главою немецкого рыцарства в Пруссии.
Однако Фридрих Ягеллон не оставлял надежды когда-нибудь облачиться в белый плащ с черными крестами.
Нынешний гроссмейстер был болен, и судьба могла улыбнуться польскому принцу.
…В начале 1510 года это как будто наконец случилось — Фридрих Саксонский решил отказаться от сана гроссмейстера. Однако еще не было ясно, как того требовала традиция, кого он сам назовет своим преемником.
Решение старого гроссмейстера наделало изрядный переполох. В замок Рохлиц, где поселился Фридрих Саксонский, в Ватикан, к папе Льву X, в ставки императора Максимилиана, почти непрерывно блуждавшего по Германии, Испании и Нидерландам, к курфюрстам империи — князьям и архиепископам, помчались гонцы с письмами, депешами, золотом.
Владислав и Сигизмунд жаждали видеть в Кенигсберге своего брата, орденский капитул единогласно выдвинул кандидатуру Вильгельма Изенбурга, император не желал ни того, ни другого, папа таинственно молчал, но это вовсе не означало, что у него нет на примете нужного человека.
Старый гроссмейстер хранил молчание, но среди высших сановников ордена ходили упорные слухи, что симпатии саксонского герцога Фридриха на стороне девятнадцатилетнего Альбрехта Гогенцоллерна — сына бранденбургского маркграфа Фридриха и Софьи Ягеллон, родной сестры короля Сигизмунда. По матери он приходился племянником и венгерскому королю Владиславу, и кардиналу Фридриху Ягеллонам.
Хотя старый гроссмейстер открыто своей воли не объявлял, грызня вокруг прибыльного и почетного места началась. Трезво взвесив все «за» и «против», Изенбург решил в борьбу не вмешиваться, но, если понадобится, выступить на стороне Альбрехта. Связь с могущественным домом Гогенцоллернов пошла бы на пользу ордену, а зависимость от дома Ягеллонов сулила непредвиденные осложнения и опасности.
Вскоре после того, как решение было принято, штатгальтер с несколькими рыцарями и полудюжиной слуг выехал в Бранденбург. Среди сопровождавших его людей находился и Христофор Шляйниц.
Все правящие дома Европы почитали в то время первейшим делом заботу об умножении рода, о продолжении и усилении династии. Казимира Ягеллончика считали счастливчиком, ибо тринадцать детей и тогда было далеко не в каждой семье.
Во втором поколении состояние рода ухудшилось: сыновья Казимира все вместе не произвели на свет и половины того, что оставил после себя их чадолюбивый отец. Дочери оказались удачливее, и у сыновей Казимира Ягеллончика не было недостатка в племянниках и племянницах. Только Софья подарила своему мужу бранденбургскому маркграфу Фридриху пятерых сыновей — Казимира, Георга, Иоганна, Вильгельма и Альбрехта.
Казимир состоял при императорском дворе, Георг жил у своего дяди по матери — венгерского короля Владислава, Иоганн — в Мадриде у сына императора, испанского короля Филиппа. Вильгельм оказался первым из семьи бранденбургских маркграфов, вступивших в Тевтонский орден. Происхождение и связи позволили Вильгельму сразу же занять пост магистра ордена в Германии. Теперь и его брат, Альбрехт, вскоре должен был вступить в орден и принять самый высокий сан — великого магистра ордена немецких рыцарей Святой Девы Марии с резиденцией в Пруссии.
* * *
Альбрехту Гогенцоллерну — претенденту на сан великого магистра — было в это время девятнадцать лет.
Круглолицый, голубоглазый, с длинными каштановыми волосами, с чуть пробивающейся юношеской бородкой, он был хорош молодой свежестью лица. Во всех движениях его крепко сбитой, ладной фигуры ощущалась недюжинная физическая сила.
В родительском доме Альбрехт получил неплохое образование — читал и писал по-латыни и по-немецки, знал богословие, немецкую историю и связи с историей дома Гогенцоллернов. Из наук естественных познакомился с землеописанием, астрономией и началами математики. Теперь предстояло изучить историю Тевтонского ордена, и здесь он нашел себе наставника, знающего и вдохновенного, — старшего брата Вильгельма, магистра ордена в Германии.
Каждое утро Вильгельм появлялся в небольшой круглой комнате, где у их отца — маркграфа Фридриха — размещалась небольшая библиотека.
Маркграф не был любителем чтения и не понимал, как можно проводить дорогое и в общем-то быстротекущее время за таким пустяковым занятием, как перелистывание бесконечных пыльных страниц, пахнущих мышиным пометом. То ли дело бродить по лесу с арбалетом, выслеживая кабана, оленя или медведя! А уж если и сидеть за столом, то не в библиотеке, а в столовой зале, в окружении бравых краснорожих егерей, выходивших на медведя с рогатиной один на один!
В юности и Альбрехт любил побродить по лесам, да и сейчас не прочь был бы разок-другой сопровождать отца на охоте, но множество предстоящих вскоре сложных и разнообразных дел засадило его за книги. Изучение истории ордена не превратилось для юноши в приятное занятие, но он сознавал, что это совершенно необходимо, и первую половину дня обязательно проводил в библиотеке.
Вильгельм привез старые орденские хроники: «Рифмованную», «Гроссмейстерскую», «Ливонскую». Альбрехт читал их, и два чувства постоянно боролись в нем — гордость, что он станет главой такого прославленного ордена, и страх, что он не сможет руководить им так, как легендарные гроссмейстеры Герман фон Зальц, Винрих фон Кницроде, Конрад Валленрод, Генрих фон Плауэн — великие мужи и воины, никогда не склонявшие головы и все несчастья встречавшие с открытым забралом.
И другое, не чувство даже, а неприятное и тревожное ощущение, не давало покоя Альбрехту. По свидетельству хроник, предшественники нынешних братьев-рыцарей триста лет занимались одним и тем же — они убивали, убивали и убивали. Убивали пруссов, литовцев, поляков, русских. А ведь ему предстояло жить в городе, построенном пруссами на земле пруссов.
Мать Альбрехта и все ее братья и сестры — его родные дядья и тетки были поляками. Его деды и прадеды, родной дядя были повелителями Литвы, и в их жилах, а значит, и в нем самом течет кровь великого Литовского князя Ягайлы, давшего свое языческое имя династии Ягеллонов. Его тетка, королева Елена, жена покойного дяди Александра Казимировича — дочь русского короля Иоганна.
Альбрехту предстояло совершить нелегкое дело — найти правильный путь для ордена, отстоять его от посягательств и происков многочисленных врагов, твердо удерживая в руках белое знамя с черным крестом.
Чтение довольно быстро утомляло Альбрехта. Он — сильный, молодой, широкоплечий, — по три дня без устали гонявшийся по лесам за кабанами и оленями, буквально изнемогал после трех часов перелистывания старых книг.
Эти книги только в самом начале что-то давали ему, но потом он очень скоро запутался в бесконечном перечислении имен погибших героев, убитых врагов, взятых замков. Враг всякий раз был силен, коварен и труслив; рыцари — храбры, благородны и малочисленны, но почти всегда — герои, побеждающие в любых ситуациях.
Оставшись один, Альбрехт думал: «Как же так получалось, что доблестные немецкие рыцари, победно воевавшие триста лет против всех своих врагов и всего дважды проигравшие войну, вдруг оказались без земли, без войска и без денег? Или хроники скрывают это, или то, что в них написано, — сплошное вранье?»
Проснувшись, Альбрехт с неохотой брел в библиотеку, читал, думал. Сомнения не проходили, они становились глубже и докучали ему все назойливее. И однажды наступило утро, когда Альбрехт не пошел в библиотеку.
Он выбежал из замка в теплых сапогах, в кожаной охотничьей куртке, с коротким мечом на бедре и легким арбалетом в руках. Два егеря сдерживали дюжину рвущихся с поводков повизгивающих от нетерпения гончих. Конюхи вывели под уздцы оседланных коней.
Альбрехт легко опустился в седло и повелительно махнул рукой, приказывая трогаться с места, однако слуги оставались недвижимы. Альбрехт обернулся. На крыльце, закутавшись в плащ, стоял старый маркграф — его отец. Маркграф тоже поднял руку, но его жест; означал обратное: «Стойте!»
Альбрехт спрыгнул на снег и торопливо взбежал по ступенькам.
— Может быть, ты возьмешь меня с собой? — спросил отец.
— Ты не очень-то любишь зимнюю охоту, отец, — ответил Альбрехт, не понимая, с чего это вдруг старик надумал увязаться за ним в лес.
— А я даже не возьму с собой арбалета. Хотелось бы просто посидеть с тобой у костра. Подышать дымом и вспомнить, как пахнет снег в конце февраля.
Альбрехт, все еще недоумевая, послушно склонил голову:
— Я буду рад, отец. — И крикнул: — Коня его светлости!
Ручьи покрылись хрустальными пластинами старого серебра — темного по краям, серого к середине. Шурша, оседал голубоватый снег. Солнце било в глаза, и каждый его луч казался тонкой распрямившейся радугой.
Кони, застоявшиеся в конюшне, легкой рысью мчались к черному лесу. Собаки, предвкушая радость погони и вкус крови, бежали рядом с конями, ровно дыша, чуть высунув острые красные языки.
Егеря сидели в седлах подбоченясь, радуясь солнцу, снегу и испытывая почти то же, что и гончие, которых они вели на поводьях, еще не спуская, но уже и не сдерживая их легкого звериного бега.
Альбрехт и старый маркграф ехали чуть поотстав. То один, то другой из егерей оглядывался на них и тут же снова переводил взгляд вперед.
Сначала отец и сын ехали молча. Альбрехт изредка быстро пробегал глазами по лицу отца, пытаясь проникнуть в его мысли. Старик, казалось, спал с открытыми глазами, лицо маркграфа было неподвижным, и ничто не выдавало ни его чувств, ни настроения.
Снег, солнце, запах сосновых лесов, путаные петли заячьих следов, четкие строчки лисьих дорожек вывели его из задумчивости, он вдруг встрепенулся и увидел все это глазами своих бравых егерей, бездумно мчавшихся впереди.
— Хорошо, сын, — улыбнувшись, тихо проговорил старик. — Видит Бог, хорошо!
Альбрехт ответил ему улыбкой, и оба почувствовали, что не напрасно отправились на охоту вместе, что им и в самом деле легко, весело и славно вдвоем.
— Во всяком случае, отец, намного лучше, чем в библиотеке, — ответил юноша. — А то я уже изнемог от чтения разных историй.
Отец бросил взгляд на Альбрехта и подъехал так близко, что коленом своим коснулся колена сына.
— Признаться, я всегда не понимал людей, которые всякий раз, когда что-нибудь хотели узнать, лезли в книги. В молодости, нет, даже в детстве, твой дед заставлял меня читать, но все эти россказни про чудесные явления, голоса, привидения нравились мне лет до десяти. Потом я выбросил этот мусор из головы, быстро сообразив, что почти все книги пишут попы. Одни для себя, а другие для своих прихожан. Рыцарю они не нужны. Ни в одной из них я не нашел ничего полезного. Разве прочитаешь в какой-нибудь книге, как победить врага, откуда достать денег, чего избегать и чему идти навстречу?
— Такие книги есть, отец. Это сочинения астрологов. Я видел их. И про все это там говорится. Маркграф Фридрих засмеялся:
— Эх, вы, молодо-зелено! В наше время астролога можно было чаще увидеть на костре, чем во дворце. А теперь, по вашей новой моде, развелось их видимо-невидимо. Что толку? Разве может хоть один из них сказать что-нибудь дельное? Я, во всяком случае, ни разу не слышал.
Альбрехт и сам думал так же.
— Знаю, отец, что ты больше всего веришь собственному разуму…
— И разуму неглупых советников… Разговор этот я завел не случайно. Ты скоро уедешь в дальние края, и тебе с самого начала нужно будет окружить себя умными и преданными людьми. Придется научиться и самому быстро разбираться в них. Самое главное — знать, чего ты хочешь и куда идешь. Один умный человек как-то сказал мне: «Правитель государства, не знающий, куда свое государство ведет, подобен кораблю без кормчего — его несет туда, куда дуют ветры, и он в конце концов может оказаться в любой гавани, но чаще всего садится на мель или тонет, налетев на скалы».
И Альбрехт вдруг почувствовал, что именно сейчас ему нужно рассказать отцу о своих тревогах и сомнениях. Он начал говорить, торопливо, сбивчиво, обо всем, что приходило в голову перед сном, на прогулках, в библиотеке.
Старый маркграф слушал внимательно, не перебивая и не переспрашивая.
— Ну что ж, сынок, — выслушав Альбрехта, проговорил он, — тебе предстоит стать государем. Немецким государем, в завоеванной немцами земле, окруженной почти со всех сторон врагами. То, что новое государство называется Тевтонский орден, а не Тевтонское королевство или Тевтонское герцогство, ровным счетом ничего не значит. В твоем государстве, как и во всяком другом, есть рыцари, попы, мужики, торговцы, бюргеры — и тебе надо управлять всем этим, как и мне, как и твоему дяде Сигизмунду и другому дяде — Владиславу. Однако помни, родственники хороши, пока не мешают, но как только ваши интересы сталкиваются, родственники превращаются в таких же врагов, как и прочие смертные, а часто и намного хуже. Ты должен рассчитывать на свои силы и силы твоих настоящих друзей — курфюрстов империи, дворян империи, на силы нашего маркграфства. Народы, расселившиеся вокруг твоих новых владений, ненавидят орден, а почему — ты и сам знаешь. Может быть, это единственный вопрос, на который ответили твои хроники. Слишком много крови, пролитой орденом, разделяет его с соседями, а это не скоро забывается, Альбрехт. И если когда-нибудь соседи начнут признаваться тебе в любви и дружбе — не верь им. Они либо захотят использовать тебя в своих целях, либо, признав твою силу, начнут заискивать перед тобой. И потому прежде всего ты должен стать сильным, Альбрехт. Тогда будет безразлично — любят они тебя или ненавидят. Пусть ненавидят. Лишь бы боялись.
Фридрих помолчал немного. Затем добавил:
— Наше Бранденбургское маркграфство тоже появилось на свет не на пустом месте. Пятьсот лет назад на этих землях жили другие люди — те же славяне. Мы, немцы, выгнали их отсюда. И с тех пор живем здесь. И будем жить, пока сила будет на нашей стороне. Появится кто-нибудь сильнее нас, тогда он выгонит нас отсюда и будет владеть всем, чем владеем сейчас мы. Поэтому, сын мой, выбрось из головы все, что не способствует укреплению ордена — немецкого государства в Пруссии. И постоянно мысли о том, что поможет стать твоему государству сильным и заставит всех вокруг признать тебя равным им, а еще лучше — первым среди них…
Пронзительный собачий лай прервал Фридриха. Кони, задергав головами, ускорили бег. Гончие, сорвавшись с поводьев, тесной стаей летели над снежной целиной, настигая обезумевшего от страха зайца.
Сын и отец одновременно дали коням шпоры и, пригнувшись к гривам, помчались вперед.
Старый маркграф на полном скаку поднял руку и прокричал:
— Будь гончей, Альбрехт! И никогда не становись зайцем!
* * *
Охота сразу же задалась, и через три часа охотники собрались у костра, набросав на снег еловые ветки. Разгоряченные погоней люди весело переговаривались, много и бездумно смеялись.
Старый маркграф, казалось, был доволен больше других. Он сидел рядом с сыном и продолжал обыгрывать высказанную перед охотой фразу о зайце и гончих.
— Вот она, жизнь, Альбрехт, — говорил отец, глядя на брошенные в снег пушистые окровавленные комочки затравленных собаками зайцев. — Вот она, жизнь, — повторил Фридрих и указал на улегшихся рядом псов: — Гончие сделали свое дело и ждут подачки от егерей. Они живы и завтра затравят еще десяток зайцев. Но попадись им кабан, многие из них подыхали бы сейчас в лесу.
Альбрехт думал, глядя на закипающую в пламени смолу еловых поленьев: «Невелика твоя премудрость, отец. Стоило жить так долго, чтобы поведать сейчас все это с видом пророка. То, что ты говорил мне до охоты, было куда интереснее. Над тем, каким должен быть немецкий государь, ты, наверное, думал не один год».
Между тем егеря зажарили полдюжины зайцев, слуги разлили вино. За трапезой разговоры смолкли.
Обратно ехали медленно. Утреннюю радость как рукой сняло. Егеря сыто дремали в седлах; в замке всех ожидала не радость легкой и удачной охоты, не веселая мужская компания у костра за чарой вина, а тусклые каждодневные заботы, будничные хлопоты, домашнее прозябание.
Когда охотники подъезжали к замку, их нагнал гонец. По всему было видно, что позади у него — неблизкая дорога.
Курьер обогнал егерей и слуг и, осадив коня, медленно поехал рядом со старым маркграфом, сразу же признав в нем влиятельного сеньора, старшего среди прочих в этой кавалькаде.
Сняв шляпу, гонец спросил, чуть склонившись с седла вбок:
— Не ваша ли милость светлейший маркграф Бранденбургский?
— Это я, молодец.
— Письмо вашей светлости от графа Вильгельма фон Изенбурга. — Посланец достал из сумки большой конверт с пятью красными печатями наперекрест, с поклоном подал его маркграфу.
Фридрих, не распечатывая конверта, передал его ехавшему рядом сыну.
— Граф извещает, что будет у нас через три-четыре дня, — проговорил Альбрехт, быстро пробежав глазами послание.
— Что я должен передать моему господину?
— Мы ждем его милость и будем рады встрече с ним, — сказал старый маркграф.
* * *
Штатгальтер направлялся в Бранденбург инкогнито. Он не хотел, чтобы вокруг его поездки к будущему гроссмейстеру возникли ненужные ордену кривотолки. Он ехал к Альбрехту как советчик и друг — ведь он сам отказался от звания великого магистра, единогласно предложенного ему капитулом.
Кроме того, Изенбург прекрасно понимал, что сегодня, когда Альбрехт еще не гроссмейстер, с ним легче будет установить нужные отношения, чем после того, как акт избрания уже произойдет. И лучше будет, решил Изенбург, познакомиться с Альбрехтом в доме его отца, чем в Кенигсберге, куда он прибудет новоявленным хозяином — первой персоной ордена и капитула.
Старый маркграф и его сыновья решили устроить штатгальтеру поистине королевскую встречу, но не для Изенбурга, о котором было известно, что он не пьет вина и избегает шумных сборищ, а для того, чтобы показать могущество и богатство дома Гогенцоллернов.
* * *
Великие празднества, задуманные на неделю, угасли, не успев разгореться. Радость встречи погасил Изенбург в первый же вечер. Он не притронулся ни к еде, ни к вину. Он сидел молча, насупившись, односложно отвечая на вопросы маркграфа и его сыновей. Когда Альбрехт попытался угостить штатгальтера особо изысканным деликатесом — куропаткой, зажаренной в фазане и поданной к столу в винном соусе, Изенбург, угрюмо взглянув на Альбрехта, проговорил сухо и неприязненно:
— Неужели вы думаете, что я ехал сюда для того, чтобы усладиться яствами? Дела наши не столь хороши, чтобы мы, забыв о долге, утешали плоть вином и сладостями. В сердце моем, Альбрехт, нет радости, и потому нет для меня праздника среди беззаботных и веселых.
— Мы не хотели обидеть вас, штатгальтер, — с досадой и недоумением произнес Альбрехт. — Мы встречали графа Вильгельма фон Изенбург унд Гренцау с подобающими его титулу гостеприимством и почестями.
— Граф Изенбург умер двадцать лет назад, когда в ордене появился брат Вильгельм. А орденскому брату не нужны пиры и бесовские игрища, — сказал штатгальтер громко.
«Да, брат Вильгельм, — подумал Альбрехт, — ты и в самом деле монах. Неужели и мне придется стать таким, вступив в орден? Нет, ни за что на свете!»
Старый маркграф, сидевший по другую сторону Изенбурга, ввернул ехидно:
— И многие орденские братья живут так же, как и их штатгальтер?
— Все, кто думает о спасении души и не просто прячется от мирских соблазнов, а истово служит ордену и Святой Деве.
— Но ведь даже Христос пил вино в Гефсиманском саду, когда уже знал, что ему предопределена смерть, — не унимался Фридрих.
— Я потому и не пью, что нам смерть еще не предопределена, отпарировал Изенбург. — Предпочитаю пить на поминках врагов, а не на собственной тризне.
— Так выпьем за погибель наших врагов! — воскликнул старый маркграф. Лучшего тоста я не предлагал ни разу в жизни!
Рот Изенбурга перекосила ироническая усмешка:
— Боюсь, маркграф, от этого им не подохнуть. Чем больше мы пьем и, напрасно теряя время, откладываем наше дело, тем больше они радуются. Не бочками застольного вина, а на поле брани творятся победы, маркграф. — И он с подчеркнутой решительностью, отодвинув стоящий перед ним кубок, встал: Я не силен плотью, маркграф. Рыцарские утехи — турниры, охоты и попойки не для меня. Я устал от долгой дороги, хочу спать, а перед сном еще предстоит долгая вечерняя молитва.
Низко поклонившись, Изенбург вышел из-за стола. Следом серыми тенями проплыли приехавшие с ним рыцари: Георг фон Писбек и Иоганн фон Рехенберг.
— Я тоже, пожалуй, пойду, отец, — смущенно проговорил Вильгельм и нерешительно добавил: — Может быть, и Альбрехту лучше бы не оставаться здесь?
— Черт вас всех побери! — заорал старый маркграф. — Собрали поповскую братию и показываете скоморошечье представление! Небось взаперти хлещете вино в обнимку с бабами, а тут решили покрасоваться!
Вильгельм — красный от неловкости — все же выбрался из-за стола и почти бегом кинулся к дверям.
Альбрехт, улыбнувшись, сказал примирительно:
— Я с тобой, отец. Пока еще я не монах. Да и в ордене мне предстоит быть прежде всего не гроссмейстером, а бранденбургским маркграфом.
Старик прослезился.
— Ты молодчина, Альбрехт! Ты настоящий Гогенцоллерн! Я пью за тебя. Эй! — закричал он, как во время былых сражений, набрав полную грудь воздуху и закинув голову. — За здоровье моего сына Альбрехта Гогенцоллерна! — И, высоко подняв над головой кубок, снова прокричал с упоением: — И пусть они сдохнут!
Гости — шумные, краснорожие, пьяные — восприняли тост маркграфа как боевой клич: пейте, господа, пейте! И все за столом завертелось бесовской каруселью.
* * *
И все же на второй день с утра гости маркграфа — окрестные помещики стали разъезжаться по домам.
Альбрехт проснулся поздно, с тяжелой головой и в дурном настроении. Конец вчерашнего застолья он помнил плохо. Перед глазами мелькали заискивающие взгляды бранденбургских баронов, мелких помещиков; пунцовые щеки неотесанных деревенских дур — бесчисленных Маргарит и Анхен, засидевшихся в девках по окрестным утонувшим в снегу мызам и фольваркам.
Альбрехт встал, не одеваясь, босиком прошлепал к окну и рванул на себя железную раму. Ледяной воздух приятно освежил лицо, бодряще растекся под длинной ночной рубашкой. Альбрехт шагнул под вливающуюся в комнату холодную струю и выглянул во двор.
Не меньше дюжины возков и открытых саней закладывали замковые конюхи и слуги гостей, готовясь в дорогу. В стороне, хоронясь от людей, приблудные псы, рыча, грызли выброшенные поварами под стены кости. Двор был замусорен сеном, конским навозом, усыпан обрывками разноцветных лент и пестрых украшений.
«Вот и все, что осталось от праздника», — подумал Альбрехт, и жизнь показалась ему пустой и безрадостной.
В дверь постучали. Альбрехт, быстро юркнув под одеяло, крикнул:
— Войди!
Через порог шагнул Изенбург. С шумом втянул воздух, брезгливо сморщился и, подойдя к окну, закрыл раму.
— Вот и все, что осталось от праздника, — проговорил вошедший ворчливо. — Перегар, головная боль, тяжесть на душе.
И оттого, что штатгальтер будто подслушал его мысли или, подглядывая за ним, увидел нечто постыдное, Альбрехт разозлился.
— Я оденусь, — произнес он сердито. Изенбург, повернувшись к Альбрехту спиной, уставился в окно.
— Немногое остается от праздников — навоз, мусор и приблудные псы, добавил непрошеный визитер, и Альбрехт ожесточился еще более, как всякий самовлюбленный человек, услышавший высказанную в глаза неприятную правду.
— Ваша милость поднялась так рано, чтобы сказать мне это?
— Я встал не раньше обычного — в шесть часов… утра. Сейчас уже девять, — ответил Изенбург ровным монотонным голосом, не обращая внимания на резкость вопроса. — А пришел для того, чтобы начать дело, ради которого ехал сюда.
— Что ж, извольте, — сердито пробормотал Альбрехт.
— Я хочу рассказать вам, как на самом деле обстоят наши дела. Вы, наверное, уже прочли «Старую гроссмейстерскую хронику» и знаете о событиях давно минувших дней?
Альбрехт молча кивнул.
— Я же расскажу вам о событиях недавних и тех, которые происходят сейчас. Начну, пожалуй, с того, что пять лет назад в Риме был польский епископ из Плоцка Эразм Циолек. Он добивался от папы Юлия бреве о принесении гроссмейстером присяги полякам или о переводе ордена в Германию, если гроссмейстер откажется. В конце концов папа потребовал от нас принести присягу королю Александру.
— И гроссмейстер выполнил этот наказ?
— Пока нет, — лукаво прищурился штатгальтер, — тем более что папа в прошлом году отменил свое решение и запретил нам присягать Польше.
— Как же обстоят дела сегодня?
— Три месяца назад император направил Вита Фюрста и Яна Кухмистера к королю Сигизмунду. Они договорились, что в июле этого года вопрос об ордене будет решен на конгрессе в Познани.
— Кем?
— Папой, императором, королем Польши и гроссмейстером ордена.
— Я понимаю это по-другому, — возразил Альбрехт, — решать будут гроссмейстер, папа и император, а Сигизмунд примет то, что ему скажут.
Изенбург иронически скривился:
— Может быть, через несколько лет новый гроссмейстер ордена сможет диктовать свою волю польскому королю, но ни нынешний гроссмейстер, ни нынешний штатгальтер сделать этого не могут. И как это ни прискорбно, но решать на этом конгрессе будет, кажется, как раз Сигизмунд.
Вечером Изенбург заперся в отведенной ему комнате со Шляйницом. Печально вздохнув, проговорил с грустью:
— Сдается мне, Христофор, что не такой гроссмейстер нужен ордену в наши дни.
— Что так, Вильгельм?
— Молод, наивен, упрям, обидчив.
— Ни одно из этих качеств не значится в перечне семи смертных грехов, Вильгельм.
— Надо смотреть дальше, Христофор. Чует мое сердце, приведет этот индюк орден к погибели.
— Что же ты предлагаешь?
— Как и прежде, делать наше дело, несмотря ни на что. Пока возможно, стараться поменьше обращать внимания на господина Гогенцоллерна. Он, видишь ли, верит, что конгресс в Познани переменит течение событий в нашу пользу. Наивный юнец! Был ли в истории хоть один конгресс, который пошел бы на пользу слабому? Я предвижу провал познаньского сборища. И потому, Христофор, этой осенью ты поедешь в Москву и сделаешь все, чтобы русские снова начали войну с Сигизмундом.
Глава вторая «Затравим углежога!»
Михаил Львович ехал в Боровск — невеликий городок, пожалованный ему государем в кормление более двух лет назад. Ехал в кожаном немецком возке со слюдяными оконцами. Да не торжественно, как езживал прежде — с гайдуками на запятках, с форейторами впереди, с дюжиной верхоконных холопов, с обозом в полдюжины телег: забившись в угол, ехал сам-один с казаком своим Николкой, в простоте, без затей и без куража.
Искоса взглядывал на мокрые деревья, на серое небо. Покашливал да покряхтывал, когда рыдван то кренился, касаясь подножкой дороги, то вновь выпрямлялся — ни дать ни взять суденышко на море в дурную погоду.
Вздыхая, вспоминал минувшее: отшумели царские пиры, канули в Лету, оставив горький привкус на губах, а паче того — на сердце. Неделю пировал государь, а рядом с собой дозволил сидеть только первый день. В остальные же шесть дней допустил лишь за один с собою стол, однако ж меж ним и Глинским сидело по пять, а то и по семь человек, и Михаил Львович иной раз почти в голос кричал государю речи важные, но тот говорил с ближними к нему людьми, а Глинского не слушал.
И приходилось Михаилу Львовичу переговариваться с боярами, что сидели слева и справа, но те, опасливо покашиваясь на государя, даже кивнуть боялись, все следили, как он ныне — милостлив ли? А если и говорили, то будто бы невпопад, просто-напросто суесловя и на все про все отвечая: «Знамо дело — в иных землях и многое прочее по-иному, а цесарцы, они цесарцы и есть. Да и сам, Михаила Львович, посуди: как им таковыми не быть, когда они — немцы?»
Михаил Львович сникал, сидел молча, с тоской вспоминая застолья при дворах европейских потентатов, где живость речи почиталась едва не первейшей добродетелью придворного и одним из основных качеств куртуазии. И хорошо было, коли гость был остроумен, весел, учтив, еще же лучше, если таковыми свойствами отличался хозяин.
А здесь и гости сидели молча, испуганно и настороженно косясь на хозяина — великого князя Василия Ивановича, и хозяин восседал этаким золоченым истуканом, почти не произнося ни слова, пошевеливал бровями да перстами. Выученные слуги, ловя на лету малую тень государева соизволения, делали все так, как того государь желал.
Была бы своя воля — встал бы Михаил Львович да и пошел из-за стола вон. Да только не было у князя воли, потому сидел он целыми днями за царским столом, чувствуя со стыдом, что и он, промеж прочих, все время ждет — глянет ли на него государь, захочет ли с ним перемолвиться?
В последний день затянувшегося праздника пожаловал ему Василий Иванович Малый Ярославец в вотчину, Боровск в кормление. Да брату его, Василию, Медынь. Городишки стояли купно — неподалеку друг от друга, в ста верстах к югу от Москвы.
Неспроста именно их дал Василий Иванович братьям Глинским, впрочем, и другого ничего спроста не делал. Располагались городки неподалеку от литовского рубежа, а кроме того, шли мимо них к Москве татарские шляхи.
И потому весьма пригоже было сидеть в них столь знатному ратоборцу.
И еще одну цель преследовал Василий Иванович, поселив там братьев Глинских: были Глинские на Руси чужаками, и, кроме князя Московского, не было у них никого, кто помог бы в трудную минуту. Держали они новые владения из его же царской милости и более всего должны были той милостью дорожить.
А с севера и юга от Боровска и Медыни испокон жили бунташные и своевольные родные братья Василия Ивановича — Андрей Старицкий да Семен Калужский. Хоть были они с великим князем в кровном родстве и на верность ему крест целовали, не было у Василия Ивановича надежды в преданности их и веры им, увы, не было.
Потому-то и поселил Василий Иванович меж, княжеством Калужским и княжеством Старицким своих служилых людей — Глинских, которые стали здесь как бы и оком государевым, и бранной государевой десницею.
Все это прекрасно понимал князь Михаил Львович, и оттого было ему ах как невесело…
* * *
В Боровск въехали на вторые сутки к вечеру. Кони протащили рыдван по ухабам и грязи, меж черными, крытыми соломой избенками.
Остановились у скособочившихся ворот. Рваный мужичонка, подслеповато щурясь, долго вертел нечесаной головой, всматриваясь: кого это черти принесли на ночь глядя? Сообразив, присел, хлопнув по коленям, испуганной курицей метнулся под колеса.
Михаил Львович печально улыбнулся: «Так ли встречали в иные-то годы?» Толкнул дверцу, слез в грязь. Смотрел, как возница его, Николка, и мужичонка тащили по лужам подворотню, а та еле шла, углом прочеркивая по грязи глубокую полосу.
Господская изба была темна. Лишь в одном окне виднелся слабый отсвет горящей лучины.
Михаил Львович, ссутулясь, прошлепал по лужам к избе, тяжко ступая, взошел на крыльцо. Из приоткрытой двери шибануло квашеной капустой, кислыми овчинами, еще какой-то гнилью.
Глинский прикрыл дверь и, повернувшись лицом во двор, глубоко вдохнул свежий прохладный воздух — будто из лесного родника в лицо плеснул. Стоял, запрокинув голову, глядел в серое небо. Ни звезд, ни луны во мраке. Землю как грязными рогожами накрыли — темнота и глушь. Голый мокрый лес чернел вдали. Чавкали по грязи мужики, распрягая коней, кричали вороны в старых омелах на огороде.
Набрав полную грудь воздуху — чтоб, не дохнув, проскочить зловонные сенцы, — Михаил Львович со злостью пнул дверь и ввалился в теплый смрад избы.
В горнице, засветив лучину, сидела простоволосая старуха — худая, маленькая. Равнодушно глянув на хозяина, прядение свое, однако же, отложила в сторону, встала, не то нехотя, не то устало, сложив руки на животе, поклонилась малым поясным поклоном.
Михаил Львович, скинув шубу на лавку, проговорил ворчливо:
— Неси-ка чего погорячей. Зазяб я с дороги.
Старуха молча пошла к печи, загремела горшками.
«Так ли встречали два года тому», — снова подумал Михаил Львович.
Два года назад, как только дали ему Боровск в кормление, смерды при встрече чуть ли не на колени падали. Шапки с голов у них ветром сдувало. Знали, сиволапые: полтора, а то и два года будет сидеть здесь Михаил Львович и с каждого получит все, что потребно. Однако ж знали смерды и иное: более чем на два года государь никому ни сел, ни городов в кормление не давал. Кормленщику же после того, как срок выходил, надобно было прожить на собранное еще лет шесть и более ничего с подначальных людей отнюдь не брать. А ныне то и случилось: пошел третий год. Нового кормленщика государь пока не ставил, и Михаил Лыювич был теперь для боровчан почти такой же, как и иной проезжий князь — не хозяин и не господин.
Михаил Львович сел под образа, потирая застывшие руки, задумался: «А намного ли лучше житье мое в Ярославце? Сыт, конечно. Все вокруг в послушании. Ярославец-то навечно дан — вотчина. Да в том ли счастье? Это брату Василию в радость — в сытости да в тепле жить, а мне разве то надо? Истинно сказано: „Не хлебом единым жив человек“».
Иному скажи, в каком достатке, в какой неге живет Михаил Львович, захотел, мог бы и в вечной праздности пребывать или же в беспрерывных утехах, — мало кто поймет, отчего это неутешен князь, чего ищет, к чему бежит?
И вспомнился Глинскому Малый Ярославец в пору цветения вишневых садов, будто укутанный теплой духмяной метелью. Синие дали под обрывистой кручей, белые лилии и желтые кувшинки, замершие у берегов извилистой речки Лужи, высокие холмы, заросшие ивами, осинами, березами. Трепетная жизнь лесов, полных зверья и птиц: белок, зайцев, лис, барсуков, тетеревов, рябчиков, куропаток. Кипящая от изобилия рыбы Протва, чье имя на языке древних племен, ныне уже исчезнувших, и означало: Протва — Рыбная река.
Вспомнил дом — полную чашу, изобилие благ земных: ясли, полные овса, амбары и подвалы с соленьями и копченьями, бочки вина и меда, дома и флигеля дворни, бани, клуни, сараи, стада коров, табуны коней, отары овец…
И, вздохнув еще раз, нутром почувствовал: ничего ему не надо, если дадено это кем-то и кем-то по прихоти может быть отнято.
Старуха поставила на стол горячий сбитень. Николка принес из возка захваченный в дорогу провиант — завернутое в чистую холстинку жареное мясо.
Из другой тряпицы достал каравай хлеба, малый глиняный жбан соленых огурчиков, флягу светлого рейнского вина.
Михаил Львович, вынув из-за пояса кривой татарский нож, полоснул по краюхе, по мясу, двинул через стол Николке. Паренек, сглотнув слюну, нетерпеливо завозился, ожидая, пока князь почнет вечерять.
— Гляди не чавкай и не сопи громко, — буркнул Михаил Львович, ткнув перстом на горшок со сбитнем.
Николка хитро сощурился на флягу с рейнским, но, встретившись с хмурым взглядом Глинского, отвел глаза и навалился на хлеб и мясо.
«С кем ныне трапезую», — с досадой подумал Михаил Львович и приложился губами к фляге: вино показалось горьким, хлеб — кислым, а все вокруг вконец мерзким.
— Оставьте меня, — раздраженно проговорил Глинский. Николка и баба неспешно пошли из горницы.
Михаил Львович расстелил шубу, стянул сапоги и, погасив лучину, лег. Сон не шел, пестрые мысли, одна другой печальнее, набегали в теплой мгле избы бесконечною чередою.
Вспомнил он, как в первый год своего московского прозябания слал повсюду лазутчиков и гонцов, дабы взбудоражить свет и поднять немцев, и татар, и датчан против ненавистного Зыгмунда. Гонцы и лазутчики возвращались с письмами, полными дружеских излияний. Однако ни император Максимилиан, ни датский король Иоганн, ни крымский хан Менгли-Гирей, кроме сочувственных слов, ничего не присылали.
А минувшей осенью узнал князь от верных людей: приезжали в Крым польские послы и обещали Менгли-Гирею обменять попавшего к ним в плен хана Большой Орды Ших-Ахмета на него — Глинского.
Михаил Львович знал, что никого во всем свете не хочет иметь у себя в руках Менгли-Гирей так сильно, как хана Ахмета. Множество было тому причин: и вековечная обоюдная родовая ненависть, и опасения за судьбу трона, и нечто еще — непонятное и ото всех скрытое, что знали только они двое, Менгли и Ахмет.
Ших-Ахмет уже много лет перекочевывал из одной литовской тюрьмы в другую. Он попал в плен еще при Александре Казимировиче, и с тех пор поляки и литовцы берегли его пуще королевской казны. И не напрасно — за Ших-Ахмета тот же Менгли-Гирей мог дать столько золота, сколько враз в королевской казне и не бывало. Заполучи Менгли-Гирей обманом, силой или подкупом в свои руки князя Михаила Львовича, выдал бы его Сигизмунду в обмен на Ших-Ахмета с наслаждением и сладострастием. И если бы после этого Ших-Ахмета просто посадили на кол или всего-навсего живьем сварили в котле, то такая смерть не показалась бы Гирею самой ужасной, ибо был Гирей в пытках и казнях не только жесток, но и изощрен.
А что ждало бы Михаила Львовича, попади он в руки к Сигизмунду, — Бог весть. Сигизмунд столь жестоким, как Менгли-Гирей, не был, но за голову Заберезинского король вполне мог бы потребовать от Глинского такую же плату.
Узнав о торге в Бахчисарае, Михаил Львович не только испугался, хотя было и такое, но как-то враз сник. Он вдруг почувствовал себя не свободным человеком, а скорее заложником у московского царя, почти таким же, как Ших-Ахмет у короля польского.
После этого потянулись для Михаила Львовича унылые дни. Европейские потентаты молчали. Великий московский князь к себе не звал. Сидел Глинский в Ярославце — в глуши, в грязи, среди литовских беглецов, кои вместе с ним прибежали на Москву.
И если правду сказать, жили не вельми весело, хотя и собирались частенько за одним столом. Застолья эти были столь же похожи одно на другое, как и дни всей их здешней жизни. Всякий раз, усевшись за стол, ругали они Сигизмунда — раз от разу ленивее и беззлобнее, скорее по привычке, чем в охотку. В который уж раз перемывали кости виленским и варшавским недругам, а разойдясь по избам, печальнее, чем перед встречей, вздыхали тяжко, копя злобу на супостатов, прибравших к рукам и все добро их, и землицу, и людишек.
В последнее время и этих верных ему земляков возле князя поубавилось: братья Александровы, Семен да Андрей, пристроились в Москве, стали детьми боярскими. За ним утянулись Федор да Петр Фурсы, Козловский Иван да Иван же Матов.
В Кремль, к сильным людям, повлеклись князья Дмитрий и Василий Жижемские, да князья же Иван Озерецкий, Михайла Гагин, Друцкий Андрей. Да и как было в Москву не ехать? Чего им оставалось от Михаила Львовича ожидать, когда он сам не чаял, как день передневать, и ничего уже ни от кого не ждал?
И вдруг объявился в Ярославце некий человек и тайно довел, что пробирается к Глинскому из-за литовского рубежа великородный человек. Однако же по какому делу и как его звать, сказывать не велел, а он, посланец, того-де не ведает. И еще просил тот великородный человек встретить его в Боровске потиху, без всякого оглашения.
«Слава Богу, Господи! — вскинулся Михаил Львович. — Кончилась моя маета. Что-то теперь будет?»
Одарив гонца, велел ему наборзе мчаться обратно и передать тому человеку, что сам князь немедля выезжает встречь в Боровск.
«Кто бы это мог быть? — терялся в догадках Глинский. — Чей человек? От императора? От кого-нибудь из курфюрстов? Из Дании?»
Не находя ответа, любопытствуя, словно юноша, приглашенный на тайное свидание с недоступной красавицей, велел закладывать возок и выезжать в Боровск. Не зная, что его ожидает, Глинский не взял с собою слуг, прихватив лишь верного своего гонца Николу Волчонка — смелого, преданного, молчаливого.
На ухабах меж Ярославцем и Боровском радость Михаила Львовича порастряслась и поубавилась. К ночи, в Боровске, князь вовсе загрустил и под тихий шелест дождя, под всхлипывания ветра, поворочавшись немного, незаметно уснул.
Он спал, неловко свесив с лавки тяжелую руку и высоко выставив подбородок. Сон его не был спокойным, лицо то и дело перекашивалось не то страхом, не то недовольством, правое веко подергивалось, дыхание было прерывистым и хриплым.
И когда в предрассветной мгле через порог избы осторожно ступил призрак, долговязый, горбоносый, и взглянул на спящего Михаила Львовича, в первое мгновение тень недоумения скользнула по лицу пришельца — казалось, он не узнал Глинского.
Под пристальным взглядом Михаил Львович проснулся и, узнав гостя, лежал с приоткрытым ртом, соображая, сон ли то, явь ли? Уверовав, что это не сон и не наваждение, Михаил Львович молча сел на лавке. Положил подбородок в ладони, уперев сильные руки локтями в колени, смотрел в глаза гостю холодно, пристально. Не вставая с лавки, спросил по-немецки:
— Чего, верный друг Христофор, ищешь? От кого ныне пожаловал? С какою хитростью?
Шляйниц, не проронив ни слова, рухнул на колени и, закрыв лицо ладонями, заплакал.
* * *
Глинский распорядился поместить незваного гостя в соседней избе. Велел истопить для Шляйница баню, накормить его и дать выспаться. Оставшись в одиночестве, князь решил хорошо подумать, как с «верным старым другом» быть дальше.
В маленькое окошечко Михаил Львович наблюдал, как из-под двери баньки пополз пар, и из трубы потянулся дымок. Саксонец выбежал из избы, втянув голову в плечи из-за дождя, по-журавлиному поскакал через лужи к баньке и, согнувшись, юркнул в ее темную утробу.
Отойдя от окна, Глинский кликнул Николку. Паренек — умытый, причесанный, справный — появился тотчас же. По всему было заметно Шляйница уже видел и зова княжеского ждал.
— Расскажи-ка мне снова, Николай, что за дело вышло у вас с Христофором под Гродно, с Заберезинским, — начал Михаил Львович, едва Николка переступил порог.
— Припомнить надо, — раздумчиво произнес Николка, — вон сколько времени прошло. — И, опустив глаза, погрузился в воспоминания.
Вначале многое из того, что возрождал он в памяти, представлялось ему будто во сне. Однако, как только увидел он катящуюся по столу голову Заберезинского, все вдруг стало таким ясным, как если бы случилось вчера.
Выслушав слугу, князь спросил:
— Значит, думаешь, Христофор отрубил голову Заберезинскому нарочно?
— Так думаю, пан князь.
Глинский с любопытством поглядел на Николку — казалось, впервые увидел его — и озадачился: что за человек стоит перед ним? И, удивляясь сам себе, спросил:
— А может, и вправду Заберезинский на него с ножом напал?
Николка так взглянул на князя и так головой покачал, что Михаил Львович даже покраснел и пробурчал, не дожидаясь ответа:
— Ну да ладно, ладно. На всяк случай спросил. Сумленье небольшое у меня было: не любил Христофор покойника — однажды сильно его Заберезинский обидел. — И затем проговорил добрее: — Иди, да со двора не уходи, можешь враз занадобиться.
Выждав немного, Глинский позвал Шляйница. Саксонец вошел тихий, благостный, видом своим выказывая бесконечную покорность.
Молча указав на лавку, Михаил Львович ушел на другой конец стола и присел под образа. Шляйниц сиротливо и робко боком притулился с краешка. Положив руки на стол и крепко сцепив пальцы, князь тяжело уставился на саксонца. Тот сидел, опустив голову, не поднимая глаз.
— Долго будешь молчать? — произнес наконец Глинский.
— Не мне здесь первому говорить, — тихо ответил Шляйниц.
— Что ж, я скажу. Твой новый хозяин, граф Изенбург, поучал меня как-то: «Хороший политик не живет вчерашним днем, не живет и сегодняшним. Хороший политик живет завтрашним днем».
Шляйниц еще ниже опустил голову: он вспомнил, что то же самое штатгальтер говорил и ему.
Глинский продолжал:
— То, что случилось однажды, Христофор, не забудем ни ты, ни я. Но следует подумать и о будущем. А я знаю, что в будущем мы можем пригодиться друг другу.
— Князь! Верь мне, умоляю тебя, верь! — закричал вдруг Шляйниц, воздев руки. — Я трижды проклял тот день. Чего бы не отдал теперь, чтобы этого не произошло! Но что поделаешь? Потерянного не вернешь.
— Ну, довольно, Христофор, довольно. Ты отправишься со мной в Москву. И будешь делать и говорить там только то, что я велю. А сейчас выкладывай-ка все, что привез.
Шляйниц рванул сумку через голову и с величайшей готовностью протянул ее Глинскому.
Михаил Львович высыпал из сумки на стол ворох грамот и спросил сухо и подозрительно:
— Все?
— Богом клянусь, князь! Ничего больше нет!
— Ну, ступай, Христофор, ступай. Понадобишься, кликну.
* * *
На следующее утро Глинский, Шляйниц и Николка отправились из Боровска в Москву. Ехали не спеша:
Михаил Львович послал в Малоярославец нарочного с наказом, чтобы вслед ему наборзе собрали малый обоз с платьем, рухлядью и всем, что могло оказаться потребным в Москве. Обоз нагнал их в Наро-Фоминске к концу второго дня пути. От Наро-Фоминска поехали быстрее и еще через сутки увидели Москву.
Остановились на подворье Михаила Львовича. Отдохнув с дороги, Глинский отослал Николку в Кремль к ближнему государеву человеку Ивану Юрьевичу Шигоне-Поджогину сказать, что князь Ивана Юрьевича хотел бы видеть. К этому времени Шигона вошел при дворе в большую силу. И хотя был лишь думным дворянином и сыном боярским, значил поболее иного боярина.
Николка нарядился побогаче, в худом платье к Ивану Юрьевичу и близко бы не подпустили, и спешно двинулся по делу.
Николка не в первый раз оказался в Москве, однако в Кремле побывать ему не доводилось. С любопытством оглядывая дорогу, въехал он на мост, переброшенный через широкий ров, к угловым Боровицким воротам.
Народу в Кремле было много. Только если на улицах города и в посадах больше встречались люди простого звания — плотники, кузнецы, гончары, портные, торговцы, крестьяне, то в Кремле чаще всего попадались служилые подьячие, писцы, ярыги, стражники, конюхи. Не столь много было нищих и юродов: стража впускала знакомых, прижившихся при кремлевских соборах, а иных, пришлых, — выбивала из Кремля вон.
Николка, как было ведено князем Михаилом Львовичем, отыскал Грановитую палату и саженей за двадцать привязал к коновязи своего каурого.
У Красного крыльца, опершись на бердыши, стояли служилые дворянские дети, краснорожие, плечистые, в тулупах, крытых алым сукном, в одинаковых лисьих шапках, в теплых валяных сапогах. Еще двое, в такой же одеже, переступали наверху Красного крыльца у входа в палату.
Николка подошел неспешно, спросил спокойно:
— К Ивану Юрьевичу Шигоне как пройти? Один из стражей, смерив его взором с ног до головы, отозвался неспешно:
— Пошто тебе Иван Юрьевич?
А второй не то с насмешкой, не то всерьез добавил:
— Зван к нему, что ли?
— От князя Михаила Львовича Глинского послан к нему.
Первый, лениво повернувшись к двери, крикнул:
— Иван! Кликни десятника. Здесь до Ивана Юрьевича от князя Глинского человек!
Вскоре наверху показался десятник. Придерживая саблю, чтоб не мешала идти, спустился на несколько ступенек и, отыскав глазами паренька, позвал:
— Поди сюда, казак!
«На лбу у меня, что ли, написано? — опешил Николка. — По платью — сын дворянский, ан нет, сразу угадал десятник, кто я таков».
С уважением глянув на десятника, в глаза его, веселые, хитрые, Николка улыбнулся и в ответ получил такую же улыбку — открытую, дружескую. И еще заметил Николка, весьма пригож был десятник — и лицом красив, и статен, и молодцеват. Возрастом не на много старше Николки — лет двадцать, не более.
— Ты погоди меня здесь, — проговорил десятник, когда Николка поравнялся с ним. И сказал это не как начальный человек слуге, а как товарищ говорит сотоварищу.
Николка отступил к краю ступеньки и принялся ждать.
Мимо вверх и вниз сновали многие люди. Иных, известных, стражи пропускали сразу же. Иных, как и Николку, останавливали, но выходил к ним не сгинувший куда-то десятник, а другие начальные люди.
Наконец в двери показался веселый молодец. Подошел к Николке, как к старому знакомому, проговорил участливо:
— У государя ныне Иван Юрьевич, а сколь пробудет — не ведаю. Так что придется тебе, казак, к ближним его людям со мною пройти.
Николка направился вслед за десятником, не вверх по лестнице, а по каким-то закоулкам вдоль ограды, что шла над Москвой-рекой.
По дороге Николка узнал, что десятника зовут Тихоном.
Ближних шигониных людей оказалось трое. Сидели они в избушке, притулившейся к самой стене. Комнатенка об одно окошко была низка: десятник, переступив порог, шапкой задел потолок. Внутри кроме печи стояли стол, пара скамей и несколько сундуков, обитых железом.
За столом восседал статный бравый мужик лет тридцати, благообразный, в окладистой каштановой бороде. Одеждой, повадками и особенно пригожестью он сильно напоминал десятника Тихона. Взглянув на него, Николка было подумал: «Уж не брат ли?» — но по тому, как поклонился десятник бородачу, понял: не брат, даже родством не близки. Рядом с благообразным бородачом, которого Тихон назвал Флегонтом Васильевичем, располагался за столом поп немолодой, кудлатый, в старой рясе, с наперстным медным крестом; встреть его Николка на улице, подумал бы: безместный поп, расстрига. У края столешницы примостился старый, плюгавый подьячий. На вошедших в избу даже не взглянул, сидел сложа руки, смежив — не то от старости, не то от усталости — очи.
Флегонт Васильевич уперся в Николку взором, будто рожном хотел проткнуть. Спросил у Тихона:
— Этот, что ли?
— Этот, Флегонт Васильевич, — подтвердил почтительно десятник.
— Звать как? — спросил Флегонт Васильевич.
— Николаем.
— А кличут как?
— А никак. Раньше Волчонком звали. Подьячий на краю стола проснулся, зашелестел бумагой, заскрипел пером, стал что-то записывать, поглядывая то на допросчика, то на Николку.
— Православный? — спросил вдруг быстро поп и, услышав утвердительный Николкин ответ, добавил с неудовольствием: — Поди вас тут разбери. Не только казаков да холопов — панов ваших литовских и то не разберешь, кто в какой вере рожден, да не переменял ли на мухамеданскую или папежскую.
— Греческого закону, отче, — подтвердил Николка, не понимая, для чего допытываются обо всем этом ближние Шигонины люди.
— А с немцами пошто дружбу водишь? — выпалил Флегонт Васильевич.
— С немцами? — изумился Николка.
— Ты давай не крути! А то враз хвост-то тебе отрубим! — заорал поп.
А Флегонт Васильевич, гадко улыбнувшись, добавил почти шепотом:
— Что там хвост, отче Андрей, за такие, как у него, дела — головы лишиться можно.
Сбитый с толку, Николка беспомощно озирался, перебегая глазами с одного лица на другое.
Молчавший дотоле Тихон пояснил спокойно, негромко, почти ласково:
— Ты о Шлянце-немце расскажи, Николай.
— Ох ты, Господи! — изумился Никола. — Да какая же тут тайна, господа хорошие!
— Вот мы и послушаем, какова она, твоя со Шлянцем тайна, — пробурчал Флегонт Васильевич.
— Да ничего потаенного и нет! — загорячился Николка. — Приехал Шляйниц в Боровск, а оттоле я его с Михайлой Львовичем в одном возке до Москвы довез. Вот вам и вся тайна.
— Вся, да не вся, — сухо отрезал Флегонт Васильевич.
— Чего — не вся? — взъерошился Николка.
— А то, что всю его тайну тебе придется разузнать и о том нам, государевым слугам, довести доподлинно. — И Флегонт Васильевич так на Николку зыркнул, что пригрози ему дьяк дыбой или плахой, и то не испугался бы, а тут аж пот его с перепугу прошиб.
— А как я о том узнаю? — спросил он тихо.
— Про это мы тебе, Николай, сами скажем, — спокойно и уверенно произнес дьяк, указав на скамью: садись-де, разговор коротким не будет.
* * *
Через три дня Никола снова явился в избу к дьяку Флегонту. Тот встретил его как родного брата. Обняв за плечо, посадил на лавку рядом с собой. Проговорил задушевно:
— Ну, дружок, сказывай.
— После нашей с тобой беседы, Флегонт Васильевич, стал я разговорам Михаилы Львовича с немцем Христофором внимать с превеликим тщанием. А что я по-немецки немного разумею, того ни князь мой, ни Шляйниц не знают и при мне меж собою говорят по-ихнему без утайки.
Флегонт Васильевич одобрительно закивал головой: умник-де, Николай, так же и впредь поступай.
Николка, ободренный вниманием дьяка, продолжал с горячностью:
— И вчера слышал, как немец князю говорил: «Я-де не только от великого магистра немецких Божьих рыторей Фридрикуса ныне в Москве обретаюсь по большим делам, но и иные многие тайные дела иных государей должен свершить».
— А каких государей дела, того Шлянец не говорил?
— Называл еще некоего Георга и императора Максимилиана.
— Так, — проговорил Флегонт Васильевич задумчиво и постучал по краю стола пальцами. Затем, встав из-за стола, прошелся по избе вперед-назад. Сев на место, снова надолго задумался и спросил вдруг шепотом: — А Михаила Львович что немцу в ответ сказывал?
Николка замер: одно дело о пришлом немце говорить, другое — о князе Глинском. Подумав немного, как бы в растерянности, Николай ответил простодушно:
— А ничего, господине, Михаила Львович немцу не говорил.
— Значит, слушал князь и молчал?
— Слушал да молчал, — подтвердил Николка. Флегонт Васильевич улыбнулся лукаво:
— Тот добрый слуга, который господина своего не выдает. — И, подсев к Николке, снова обнял его за плечо. — Ты, Николай, уразумей главное. Твой князь, конечно, тебе хозяин, однако же надо всеми нами, и над князем твоим, и над иными многими князьями и боярами, один на всю Русь господин — великий князь Василий Иванович. И все мы — и я, и ты — прежде всего ему и государству его слуги, а уж иным — потом.
Юноша чувствовал в словах государева дьяка какую-то новую, до сих пор неведомую ему правоту. Однако от старого отстать не мог: как это он, верный слуга, своего господина и благодетеля Михаила Львовича Глинского предаст, ради хотя бы и самого великого князя всея Руси?
Флегонт Васильевич, зорко следя за выражением глаз и лица парнишки, мысли его будто читал. Крепко сжав пальцы на плече, сказал особенно проникновенно:
— Врагов, Николай, вокруг нас — тьма. Татарские юрты на Волге и в Крыму теснят с юга и востока. Литва и Польша с немецкими рыторями из Ливонии прут с запада. Срейские немцы воюют супротив нас на севере-в Карелии. И каждый внутри Российского, государства ищет себе сообщника.
— А нешто есть такие? — спросил Николка с изумлением.
— Есть, Николай, есть, — ответил Флегонт Васильевич с печалью в голосе.
— Пьяницы и бездельные то, поди, люди?
— Если бы, Николай, только они, забот у меня, почитай, не было бы.
— Неужто начальные люди супротив государя могут такие злые дела замышлять?
— Пока ничего я тебе, Николай, не отвечу. Придет время — сам поймешь. А теперь иди. И ко всем, кто с Шлянцем говорит ли, приходит ли свидеться, товар ли какой приносит, — обо всех мне тотчас же доводи. Даже если это будет боярин какой или князь, хотя бы и сам Михаила Львович.
* * *
С этого дня Николка стал внимательно приглядываться и прислушиваться ко всему, что окружало его на подворье Глинского. И совсем скоро дом Михаила Львовича и близкое княжеское окружение предстали иными, чем казались прежде. Уже через неделю Николка поразился, что за годы службы, проведенные возле князя Глинского, он не замечал многого очевидного.
Он вспомнил свой приезд в Туров, условные слова, после которых его тотчас же повели к Глинскому. Вспомнил и многое иное…
В Малоярославце князь Михаил Львович жил так же, как и в Турове: обнес усадьбу высоким забором, ворота велел открывать не каждому. Поговаривали, что побаивается князь изменных литовских людей, лазутчиков и убийц, коих мог подослать Сигизмунд Казимирович.
Как и в Турове, в Малоярославце к князю приходило много странных людей: нищебродов, купцов, богомольцев. Привратная стража хорошо знала свое дело:
иного слепого нищего под руки вводила во двор, а неприглянувшегося купца гнала от ворот взашей. Для впущенных враз топили баню, потчевали на славу и поселяли в отдельной избе, коя и называлась «странноприимной». Со своими гостями всегда беседовал сам князь. Панкрат же только и ведал, кого к нему допустить, а кого отставить.
И на московском подворье у Глинского были такие же порядки: и стража, и высокий забор, и странноприимная изба. И как-то так повелось, что всяк во дворах и домах Глинского знал только свое дело и правил свою службу, а в иные дела не лез. И потому хоть и прослужил Николка возле Михаила Львовича более двух лет, порядки эти как бы вовсе его не касались; то дело панское, а его казацкое. Прикажут — сполняй. И лишь после разговора с Флегонтом Васильевичем призадумался Николка над многим, над чем прежде никогда не думал. Что за человек Михаил Львович? Чего он хочет? Ради чего живет?
Ведь так получалось, что и слуги его — хотели они этого или нет — жили для того, чтобы их господин мог все, что задумал, исполнять. Они князю во всех тех делах помогали верно и ревностно.
А во всем ли надо было помогать князю? Можно ли вообще исполнять дело, если не знаешь, для чего то дело делается, кому на пользу идет, а кому во вред? Да ведь слуга-то, казак ли, холоп ли, все едино — слуга. Ему велят он и делает.
Припомнил Николка, сколько раз посылал его князь с письмами и просто так, без бумаг, приказав запомнить то, что нужно передать тому или иному человеку. А сколько раз встречал он в условленных местах разных людей и привозил к князю? Сколько раз провожал из усадьбы вон?
И первое свое большое дело вспомнил Николка: как повел он отряд Шляйница под Гродно, как указал немцу хутор панны Ванды, как катилась по столу отрубленная голова пана Заберезинского…
«Кровью связал меня Шляйниц, — подумал Николка. — А там поди разбери, виноват или не виноват я во всем, что вместе с Михайлой Львовичем делал?»
И тогда понял Николка, что знал ли он, не знал ли, заодно с Глинским дела творя, незнаньем да неведаньем не отговориться ему от соучастничества, в глазах высших властей они сообщники. Хотя князь Глинский Михаил Львович всегда ведает, что творит, а он, Николка Иванов сын по прозвищу Волчонок, того не ведает — перед Вышним Судом разница меж ними невелика. Если князь переступил закон, то и Николка тот закон переступил вместе с князем, и, стало быть, оба они — преступники.
А кто скажет ему, что плохо, а что хорошо? Где правда, а где кривда? И подумал Николка: «Флегонт Васильевич».
И дальше допытывать самого себя не стал. Мог бы спросить: «А почему Флегонт Васильевич?» — да вот не стал: нутром чуял — у дьяка правда.
Вскоре Глинский приказал заложить золоченую карету. Понял Николка, едет князь к царю. В карету вместе с Глинским сел разодетый Шляйниц, на козлы бородатым идолом взгромоздился Панкрат.
Возвратились они из Кремля поздно. Вылезали из кареты навеселе. Смеющийся князь поддерживал под руку непривычного к кремлевским пирам немца.
Николка, всякую минуту державший ухо востро, тут же выскочил во двор, взбежал на крыльцо, бережливо обхватил немца за талию. Немец спьяна бормотал два каких-то незнакомых слова. Николка разобрал только, что слова немецкие, но смысла понять не мог — раньше слышать не довелось. На всякий случай, повторив их несколько раз, Николка крепко слова те запомнил. Князь же, смеясь, отвечал саксонцу:
— Конечно, Христофор, конечно.
Николка сопроводил немца до опочивальни и отправился восвояси, а утром, почитай чуть свет, отправился в Кремль.
Флегонт Васильевич сиднем сидел в избе. Ни писчика, ни попа при нем не было.
«Ночует он, что ли, здесь?» — подумал Николка, снимая шапку. Поздоровавшись вежливо, спросил участливо:
— Спозаранку нет тебе покою, Флегонт Васильевич?
— Служба такая, — ответил государев человек. — Не за то меня государь жалует, что много сплю, — засмеялся, довольный.
Николка рассказал о вчерашнем, повторил мудреные немецкие слова.
— Погоди-ка здесь, — проговорил Флегонт Васильевич и вышел из избы.
Вскоре он вернулся со стариком невысокого роста, благообразным, опрятным, тихим. Присев на лавку, старик спросил негромко:
— Повтори, будь милостив, те слова, что сказывал Флегонту Васильевичу.
Николка повторил. Старец задумался, потом покачал головой, сказал:
— Мудреные те слова, Флегонт Васильевич, редкие.
Флегонт Васильевич нетерпеливо передернул плечами:
— И все-таки, по-русски что это значит?
— По-русски это значит… — Старик опасливо покосился на Николку. Флегонт Васильевич махнул рукой: говори, не бойся, свой-де. — По-русски это значит, — повторил старик, — «Затравим углежога».
— Затравим углежога? — переспросил Флегонт Васильевич.
— Затравим углежога, — подтвердил старик.
— А ты верно перетолмачил?
— Если он точно сказал, — повел старик бородой в сторону Николки.
Все трое посмотрели друг на друга, замолчали.
— Может, то условные слова? — робко спросил Николка.
Служилые люди переглянулись.
— Ты вчера толмачил, когда немец перед государем посольство правил? спросил Флегонт Васильевич. Старик утвердительно кивнул.
— А о чем в том посольстве речь шла? Старик снова опасливо покосился на Николку. На этот раз Флегонт Васильевич рукой махать не стал. Подошел к пареньку, протянул ему немецкий серебряный ефимок. Сказал душевно:
— Спасибо тебе, Николай. Мы здесь подумаем, а ты там дело свое делай честно. — И, взяв под локоток, подвел к двери.
Николай и сообразить не успел — оказался на дороге. И, постояв немного, побрел на подворье Глинского.
* * *
Вечером в горницу, где Николка обитал еще с десятком казаков, заглянул Панкрат:
— Михаил Львович кличет.
Николка, ополоснув лицо, проведя по кудрям деревянным гребнем, побежал к хозяину, непонятно отчего тревожась.
Глинский был весел, и у Николки отлегло от сердца.
— Садись, Николай, — проговорил князь сердечно и ласково. Такого еще не бывало, и Николай понял: зван сюда не по простому делу. Он присел на край лавки, не зная, куда сунуть шапку, мял ее, внимательно глядя прямо в глаза Михаилу Львовичу.
— Ты верный человек, Николай, — сказал Глинский, а Николка вспыхнул от смущения. «Знал бы ты, какой я верный!» — подумал он и низко опустил голову.
Глинский же, принимая это за застенчивость, повторил:
— Ты верный человек, Николай, и я хочу поручить тебе важное дело.
Николка вздохнул и поднял глаза, правдивые, ясные, как у Флегонта Васильевича, если бы мог видеть себя со стороны.
— Завтра в полдень, — продолжал Глинский, — ты поедешь вместе с Христофором в Литву. Проводишь его до ливонского рубежа, а сам воротишься в Смоленск. Я дам тебе двадцать рублей, — У Николки перехватило дыхание: изба стоила рубль. — Купишь на торгу лавку и будешь торговать, чем захочешь. Однако не торговля будет твоим истинным делом. В лавку станут приходить люди и моим именем будут указывать или спрашивать, и что те люди скажут, то ты сполнишь.
Вдруг Михаил Львович улыбнулся и произнес те два слова, что вчера бормотал пьяный Шляйниц.
— Чего? — не понял Николка.
— Чего? — засмеялся Глинский. — Затравим углежога, вот что.
Николка аж взмок со страха, но, продолжая начатое, спросил:
— Какого углежога?
Михаил Львович лукаво сверкнул очами:
— Так недруги называют польского короля Сигизмунда. Он волосом черен и отчего-то смугл, потому и есть — «углежог».
— Так что же я-то в Смоленске стану делать? — опять спросил Николка.
— Травить углежога, — серьезно и зло проговорил Глинский. И повторил: Травить углежога.
Глава третья Сумка, полная секретов
Еще не пропели петухи, а Николка был уже на ногах: путь предстоял нелегкий и неблизкий. Смоленск стоял в глубине Литвы, и чтобы до него добраться, требовалось неприметно перейти рубеж и столь же осторожно проникнуть в город. Но самое главное — перед тем как отправиться в дорогу, нужно было обо всем рассказать Флегонту Васильевичу.
Серое утро едва брезжило над Москвой. В небесную хмарь тихо струились теплые дымы. За прилавками на Пожаре толклись редкие купчишки — сонные, молчаливые.
Николка прошел в Кремль и торопливо зашагал к избе Флегонта Васильевича. В двери дома он вошел почти одновременно с хозяином.
Неспешно сняв шубу, Флегонт Васильевич глянул в зеркало веницейского стекла, огладил волосы и бороду, степенно прошествовал к окну. Спросил ровно, спокойно:
— Ну, с чем пришел, Николай?
Николка быстро, ничего не упуская, рассказал дьячку и о том, куда и зачем посылает его князь Глинский, и о том, кто скрывается под именем «углежог».
Флегонт Васильевич, постукивая костяшками пальцев по краю стола, о чем-то надолго призадумался. Потом, словно опомнившись ото сна, заговорил:
— В Смоленске все, что Михаил Львович накажет тебе делать, делай со тщанием и без всякой хитрости. Однако обо всем том доводи одному человеку. Это наш человек, ты ему верь. И что он тебе скажет, считай, что это я говорю. Тот человек тебя сам найдет. И про мое здоровье спросит. А ты ему ответишь: «Бог миловал, дядя Аверьян, была по осени лихоманка, да отпустила» Запомнил?
Волчонок повторил условные слова, и Флегонт Васильевич, обняв его за плечо, прошел с ним до двери. Ласково кивнув, вложил в руку серебряный ефимок. Николка дернулся, хотел было возвратить, но дьяк быстро проговорил:
— Прощевай, брат. Удачи тебе! — И легонько подтолкнул паренька в спину.
— Вязьму проедем, — говорил Николка Шляйницу, — и надо будет держать путь к Дорогобужу. Меж ними есть деревенька. Зарубежьем прозывается. Возле той деревеньки густой бор, и в нем оврагов и урочищ не счесть. Через бор и выедем в Литву.
Шляйниц молча слушал, бесстрастно кивая: знал эту дорогу не хуже Николки, тайными тропами мог не только сам пройти, но и целый отряд провел бы незамеченным хоть до самой Ливонии.
Смоленск объехали стороной. Николка понимал, что вдвоем с немцем они приметная пара, а на одного казака кто обратит внимание?
Две недели пробирались лесами. Спали в буераках, настелив еловые лапы на остывающее кострище, завернувшись в конские попоны. Перед тем как лечь, в другие попоны укутывали коней. На холоде спалось крепко, трех-четырех часов вполне хватало, чтоб хорошо отдохнуть.
К концу дороги, невдалеке от ливонского рубежа, путников настигла весна. Задули с моря теплые ветры; пошли короткие, но частые дожди пополам с мокрым снегом, и это было куда хуже самой лютой стужи: от воды и дождей никакого спасения, особенно по ночам, не стало. Боясь вконец простудить коней во время сильного холодного ливня, однажды решили заночевать в Шяуляе, небольшом городке в земле жемайтов.
Когда они пошли в корчму, за столом сидело трое мужчин. Судя по одежде, по лежавшим на полу сумкам и окованным медью рожкам, то были ямщики, укрывшиеся на ночь. Люди бывалые, они сразу почувствовали в вошедших чужаков.
Корчмарь, старый маленький еврей, ни о чем путников не расспрашивал и, казалось, даже не понимал, о чем они говорят. Хотя приезжие почти и не разговаривали: не до того было — усталость валила с ног, истома от тепла и сытной трапезы смежала очи. Чуть ли не в первый раз за последнее время сидели они у печи, сняв сапоги, всем телом, а не только спиной или одним боком ощущая умиротворяющее тепло домашнего очага.
Однако когда к корчмарю подошел один из ямщиков, тот быстро что-то залопотал, то и дело поглядывая на Николая и немца.
Они уже собрались идти спать, когда услышали, что у входа в корчму остановились еще какие-то люди;
Раздались голоса, шум подъехавших экипажей, чваканье копыт по расползшейся грязью дороге.
Дверь распахнулась, порывом ветра задуло горящие в поставцах лучины, и в темную комнату, осторожно ступая, вошли несколько мужчин и женщин.
Хозяин корчмы забегал, засуетился. Лучины, треща, зажигались одна за другой, и тьма отступала в углы горницы, за печь и под лавки, а в горнице становилось все светлее.
Корчмарь снял с вошедших мокрые плащи и усадил за стол возле печки. Мужчин было двое, женщин — трое. И те и другие были в темных рясах, с капюшонами, надвинутыми на самые брови. Они попросили принести им воду и хлеб, и прежде чем Приступить к своей нищенской трапезе, долго шептали молитвы, сцепив на груди пальцы и опустив очи. Казалось, они ничего не видят и не слышат и только молитва занимает их.
Ямщики о чем-то зашушукались, пересмеиваясь, видать, не больно-то верили в показное благочестие слуг Божьих, хотя бы и в Великий пост. Монашки встали из-за стола первыми и гуськом побрели в отведенную им опочивальню. Корчмарь, с зажженным фонарем, боком подвигался к двери, что-то невнятно бормоча и размахивая свободной рукой.
Первая из монашек, маленькая, полная, шла, низко опустив голову и молитвенно сложив руки.
Николка взглянул на ее лицо. Короткий, чуть вздернутый нос, нежная шея, маленький алый рот и седой локон, выбившийся из-под капюшона, были конечно же знакомы ему. Как? Когда? Николка чуть было не шагнул монашке навстречу, но сдержался при мысли, что не найдет, что сказать ей, о чем спросить.
Монашки вышли. За ними проследовали двое монахов, так же неслышно, благообразно. Ямщики, как только за святыми отцами закрылась дверь, зарыготали, отпуская непристойные двусмысленности.
Николка оглянулся и перехватил взгляд Шляйница — трусливый, настороженный. Лицо саксонца покрылось красными пятнами, на лбу выступила испарина.
«Панна Ванда!» — чуть не крикнул Николка, но только глубоко вздохнул и почувствовал, как гулко зачастило сердце и горячая волна стыда и страха хлынула к голове.
* * *
Спать они легли в душной тесной каморе. Впервые за время пути сняли с себя сапоги и кафтаны. Однако Шляйниц хотя и разделся, но кожаную сумку, надетую через плечо, и тут не снял. Так и лег на лавку, прижимая ее рукою к бедру.
Николка понимал, что в сумке у саксонца хранятся бумаги, ради которых он приезжал в Москву и теперь едет обратно, замерзая от стужи, промокая под ливнями, ежеминутно рискуя и своей, и его головой. Ох как хотелось Николке хотя бы на несколько минут заглянуть к Шляйницу в сумку!
Вскоре Шляйниц заснул, а к Николке сон не шел. Лежа с открытыми глазами, неотрывно глядел на кожаную сумку, но видел не ее, а отрубленную голову пана Заберезинского и скорбную монашку, некогда веселую и разудалую панну Ванду. И рядом с собою видел мертвенно-бледное лицо Шляйница в свете луны.
Немец во сне перевернулся на спину и теперь лежал запрокинув голову. Щеки ввалились, рот широко раскрыт, горбатый нос заострился, кадык выпирал бугром. Когда Шляйниц поворачивался, сумка выскользнула у него из-под бока и свесилась на ремне, касаясь пола.
Николка глядел на сумку как завороженный, не решаясь встать, чтобы подкрасться и раскрыть ее. Он кашлянул, сперва негромко, затем еще раз, сильнее. Подождал. Позвал вполголоса: «Христофор!» Немец спал, чуть всхрапывая, свесив с лавки длинную жилистую руку.
Николка тихонько опустил на пол босые ноги, неслышно встал, присел на корточки. Сумка открылась легко, но, сунув руку, он нащупал тугие свитки грамот, свернутые в трубки и запечатанные сургучными печатями. О том, чтобы распечатать их, не могло быть и речи. Он вынул одну грамоту. С нее свисала красная печать с двуглавым орлом. «Российская, — догадался Николка, — а кому — неизвестно». Достал другую, на ней висела печать коричневого воска. На печати стоял Божий рыторь с мечом на бедре, с прапором в руке. На прапоре виднелся крест. «Из Ливонии», — снова смекнул Николка. Одну за другой вынул еще три грамоты, но откуда они — не понял: на одной печати был медведь, на второй — лев, на третьей — крепостная башня с двумя крестами по бокам. Осторожно опустив все бумаги в сумку, Николка отступил к лавке и нырнул под теплый сухой тулуп. Однако сон не шел. Он лежал то с закрытыми глазами, то с открытыми, но видел одно и то же: панну Ванду и ее седой локон, покрытый испариной лоб Шляйница, сургучные печати на пергаментных свитках.
Шляйниц лежал все так же, запрокинув голову и залихватски высвистывая носом. Николка не заметил, как заснул. Очнулся он в темноте. Шляйниц тряс его за плечо и настойчиво шептал:
— Фстафай, Николаус, фстафай!
Быстро собравшись, они выскользнули в темный двор, тихо вывели из конюшни коней и, ведя их в поводу, неслышно ступая, вышли на дорогу.
Шяуляй спал, окутанный предрассветною липкой мглой. Ни в одном окне не горел огонь, только кое-где мерцали за окнами раскаленными угольками неугасимые лампадки.
Бесшумно выехали путники на старую жемайтскую дорогу и поскакали на запад — к морю.
Жемайтия — по-русски Жмудская земля, по-немецки Самогития — в это время была полем беспрерывных мелких, кровопролитных сражений и схваток.
Тевтонские рыцари из Пруссии, перебравшись через Неман, жгли деревни на западе Жемайтии, ливонцы, перебредя через Мушу, грабили деревни на севере. Литовские отряды еле успевали отбиваться от крестоносцев. К тому же приходилось внимательно следить и за тем, чтобы ни один лазутчик не перешел рубежи Жемайтии ни в ту, ни в другую сторону.
На третьи сутки Николай и Шляйниц увидели море Переглянулись, чуть улыбнулись друг другу, и каждый представил одно и то же: дюны, сосны, рыбацкую хижину и дорогу, бегущую к замку Мемель. Легонько пришпорив коней, они взъехали на ближнюю к опушке леса дюну и увидели знакомую петляющую дорогу.
Однако кроме этого увидели они и еще кое-что: в полуверсте к северу от них, на гребне самой высокой дюны, чернели силуэты всадников.
Николка и Шляйниц, не сводя с них глаз, стали медленно спускаться к дороге и тут же заметили, как те разом покатились по склону дюны в их сторону.
Николка и Шляйниц враз дали шпоры коням и, пригнувшись к их шеям, помчались на юг. Ветер дул в спину, и все же через некоторое время кони стали сбавлять бег. Расстояние между беглецами и преследователями постепенно сократилось. Версты одна за другой оставались за спиной скачущих на юг всадников, но замка не было видно.
— Черт побери этих самогитских свиней! — сквозь зубы цедил по-немецки Шляйниц, все чаще оглядываясь на преследователей.
Погоня неумолимо приближалась. Уже виднелись разгоряченные лица точь-в-точь такие, какими бывают лица охотников, затравливающих зверя.
Шляйниц выпрямился в седле и правой рукой потянул через голову сумку. Затем пригнулся еще ниже и, поминутно оглядываясь, погнал коня, беспрерывно ударяя шпорами. Когда дорога завернула за огромный валун и преследователи потеряли из виду Николая и Шляйница, саксонец, сильно раскрутив сумку над головой, бросил ее в море. В этот же миг он прокричал:
— Николаус! В лес скакать! В лес! — и ткнул рукой в сторону приближающихся деревьев. Николай круто повернул коня и помчался к опушке.
Когда над головой у него закачались и зашуршали ветви, он придержал коня и оглянулся. Шляйниц мчался по дороге. За ним гнались двое всадников. Двое скакали к лесу, догоняя Николку. А еще двое стояли на берегу моря, оживленно жестикулируя.
«Увидели сумку! — догадался Николка. — Сейчас станут ее вылавливать».
Однако следить за ними времени не было. Он сбросил плащ, чтоб не цеплялся за ветки, обхватил шею каурого руками, прижавшись щекою к гладкой и теплой шерсти, и, по-заячьи петляя, заметался между деревьями.
Вскоре беглец уже не слышал топота погони и не видел отставших от него преследователей, очевидно потерявших его из виду.
* * *
Шляйниц прискакал к замку Мемель, запалив коня и еле переводя дух от усталости и злобного страха.
Из башни ли замка, со стены ли, его заметили еще издали, и навстречу Шляйницу вырвался отряд в дюжину всадников. Теперь уже литовцы повернули вспять и помчались на север, убегая от внезапной погони. За ними не погнались. Окружив Шляйница, конные воины повернули в Мемель, возбужденно перебрасываясь короткими фразами.
Шляйниц ехал медленно, опустив поводья и понурив голову.
Досада душила его, червем точила сердце, камнем придавливала душу. Как же было обидно, что, испугавшись, он выбросил сумку в море… Ах, сумка, сумка, полная секретов сумка…
Шляйниц пробыл в Мемеле около месяца. Фогт замка советовал покуда не высовывать носа за стены крепости.
Литовская пограничная стража, говорил фогт, конечно же не сводит глаз с дороги, по которой прискакал Шляйниц, и только и ждет, чтобы он попал к ним в лапы.
Наконец 13 апреля Шляйница отправили в совсем уж надежное место орденский замок Лабиау в Пруссии. Для того чтобы полностью обезопасить его от нападения в пути, саксонца укрыли на корабле, идущем в Кенигсберг, и приказали капитану завезти Шляйница в Лабиау. На следующий день его благополучно доставили к месту назначения.
В Лабиау беглеца уже ждал великий комтур ордена — желчный, сухой старик с подергивающимся веком и подслеповатыми, слезящимися глазами. Молча выслушав Шляйница, великий комтур, брезгливо поморщившись — его явно раздражала дурацкая поспешность и трусливость саксонца, выбросившего сумку с секретными бумагами прямо под ноги преследователям, — проговорил ворчливо:
— Садись и опиши все случившееся.
Шляйниц замешкался: читал он довольно хорошо, но писать длинные деловые письма ему не приходилось ни разу.
Желчный старик все понял.
Через несколько минут перед ним уже сидел секретарь с бумагами и чернильницей. Чуть приоткрыв рот и склонив голову к левому плечу, секретарь быстро писал:
«Что же относится до поездки в Москву, то господин штатгальтер среди прочих приказов дал ему, Христофору фон Шляйницу, приказ относительно герцога Михаила: после того как его королевское величество король Польши захочет или задумает вступить в союз с московитами и татарами для того, чтобы с помощью неверных захватить ордена в Ливонии и Пруссии и вытеснить немецкую нацию, пролив христианскую кровь, господин штатгальтер, будучи христианским князем, хотел склонить московитов к тому, чтобы они не вступали ни в какой союз против ордена во вред христианству. Он, Христофор фон Шляйниц, сказал, что герцог Михаил дал ему секретное письмо к господину штатгальтеру в подтверждение того, что ничего не будет предпринято против ордена. Это письмо вместе с другими письмами было утеряно им, Христофором фон Шляйниц, на берегу моря из-за нападения самаитов».
Шляйниц медленно произносил слово за словом, обиженно сопя в перерывах между фразами. Он все яснее сознавал, что влип в скверную историю и сумка, полная секретов, может стоить ему много дороже головы пана Заберезинского.
III. ЗАГОВОР В ВАТИКАНЕ Авантюрный роман…
Меня всегда влекли глобальные проблемы и широкий хронологический охват и я решил написать в свободной, повествовательной манере сатирическую историю коммунистического учения от его истоков до наших дней, тем более что мне пришлось три года читать лекции по научному коммунизму и я видел в этой доктрине немало изъянов и противоречий, а также множество реалий, на практике уподобляющих догматический, университетский марксизм замшелой церковной схоластике.
Непогрешимость пап и генеральных секретарей, как перед апостолами Христа, Святая Инквизиция и КГБ, папская Конгрегация и Политбюро, Вселенские Соборы и партийные съезды с их богооткровенными установлениями, — все это и многое другое, привели меня к мысли написания сатирический роман «Заговор в Ватикане».
Я писал его, не надеясь на то, что он будет когда-нибудь опубликован, писал, как тогда говорили, «в стол», ибо даже при наступившей идеологической оттепели он был через чур крамольным. Но жизнь оказалась уже не такой, как прежде, хотя и, как я вскоре понял, еще и не совсем подходящей для таких книг: когда роман все же вышел, — а это был уже 1992 год — 50 тысячный тираж разослали по окраинам страны, не пустив в продажу в Москве ни одного экземпляра.
Главным героем этого историко-авантюрного романа я сделал уроженца Кенигсберга, Фому де Мара, который, став монахом, получил имя Вольф, и стал зваться Вольф де Маром.
Так как я представил роман, как неизвестную прежде средневековую книгу, принадлежащую перу некоего Вольфа де Мара, то на обложке стояло это имя. А я — Вольдемар Балязин — скрылся под личиной комментатора и переводчика. Правда, не нужно было быть сеть пядей во лбу, чтобы не понять, что за Вольфом де Маром прячется прозаический Вольдемар, и в библиотеках эта книга стоит среди сочинений В. Н. Балязина. Так как действие романа начинается в средневековом Кенигсберге, я полагаю уместным поместить и этот фрагмент в «Русско-Прусских Хрониках».
АКТ 1[2] ЖИТИЕ ФОМЫ ДЕ МАРА В КЕНИГСБЕРГЕ ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО ОТЪЕЗДА ЕГО В РИМ
«In nomine patris et filii et spiritus sancti»[3], — написал я, как и полагается делать, начиная книгу, но тут же на ум мне пришли совсем другие, очень уж мирские слова. Я почему-то представил себя не почтенным шестидесятилетним писателем, а паяцем из ярмарочного балагана, который, оставив за еще закрытым занавесом хитроумного проказника Бригеллу, печального Арлекина, болтуна и глупца Капитана и всех прочих действующих лиц предстоящего спектакля, выходит первым на пустые подмостки и, ухватившись за край занавеса, говорит, открывая представление: «Итак, мы начинаем!»
Правда, прежде чем произнести эту фразу, он выступает перед почтеннейшей публикой с кратким монологом. Так вот и я хочу сказать вам, почтеннейшая публика, несколько слов, прежде чем подниму занавес.
Долго не решался я браться за перо, ибо сомнения в том, будет ли мой труд полезен людям и Святой церкви, научит ли их добру и благочестию, вселит ли в них любовь и надежду, заставит их поверить в милосердие Божие и в то, что если они будут неколебимы в вере и упорны в достижении благой цели, то, все, что они задумали, непременно свершится с благословения Господня.
И еще я сомневался, нужны ли будут мои писания людям — ведь я не кардинал и не епископ, а простой клирик, и разве знаю я хотя бы сотую долю того, что знает любой из князей Церкви, приближенный к престолу Великих Понтификов и прочих сильных мира сего?
Однако усердно помолясь Господу и жарко прося его вразумить меня, недостойного, я вдруг почувствовал, что Всевышний внял моей молитве и ниспослал мне то великое чувство, которое мы называем греческим словом «катарсис», то есть духовным очищением, посылаемым нам после молитвы как знак свыше, как сигнал горних сил, не страшась браться за дело, отбросив всяческую суету и сомнения.
«И в самом деле, — подумал я, — разве не заполонили книжные лавки и библиотеки угодливые издатели десятками лживых мемуаров князей Церкви и их приближенных, которые к тому же нередко не они сами и писали, заставляя делать это своих услужливых секретарей или даже светских борзописцев? И разве всюду была там правда и повсеместно было там благочестие? И разве, прочитав обо всем, чем были наполнены их фарисейские, перегруженные лицемерием и раболепством трактаты, мог читатель узнать правду о времени, в которое они жили, и о них самих, и о тех, кому они служили? Ведь сплошь и рядом папы выглядят в их воспоминаниях мудрыми, как апостолы, добрыми, как Пресвятая Дева, нравственными, как десять тысяч девственниц. А кто не знает, что на самом деле все это было совсем не так, но боится написать правду, опасаясь неисчислимых бед и для себя самого, и для своих ближних. Но ведь мы сильны правдой и не должны лгать из боязни разгневать сильных мира сего».
Так думал я после молитвы и решил, что и я не так уж мало знаю Господи прости мне мою гордыню! — не так уж мало повидал, и, главное, о многом передумал. И тогда я еще раз преклонил колени перед распятием и попросил дать мне силу и храбрость и отвратить от неправды и трусости. И, окончив молитву, я снова почувствовал, что Господь услышал меня, и вновь испытал катарсис, и мне показалось, что кто-то невидимый, стоящий у меня за спиной, шепнул: «Слова улетают, написанное остается». А вслед за тем на память мне пришли слова, которые я, грешный, вычитал в одной книге, внесенной в «Индекс запрещенных книг»[4] и тайно принесенной мне одним моим другом всего лишь на одну ночь. Я не раз слышал от знающих людей, что епископы и кардиналы сами иногда читали такие книги, если у них была к тому охота, уверяя друг друга, что им это необходимо, чтобы более умело противостоять еретикам в спорах с ними. Да все дело в том, что никаких таких споров почти до конца моей жизни я не слышал, потому что еретиков чаще всего просто сжигали на костре или же приковывали цепями к галере[5], или ссылали в серебряные папские рудники, в каменоломни, на осушение болот и в другие гиблые места, где никогда бы не согласился работать свободный человек. И от этого галерный флот пап стал одним из могущественнейших во всем Средиземноморье, дворцы пап, кардиналов и епископов изукрасились мрамором, а казна переполнилась серебром и золотом.
Но я отвлекся, а ведь сначала только хотел поведать, какие именно слова запомнил я, прочитав запрещенную книгу некоего Михаила по прозвищу Баламут, описавшего казнь Господа нашего Иисуса Христа, страсти его, распятие и воскрешение, не согласно Святым Евангелиям, а так, будто этот Баламут был сам на горе Голгофе и видел все собственными глазами.
Так вот, какие слова из этой, наверное, все же напрасно запрещенной, но воистину еретической книги пришли мне тогда на память, из главы, в которой Михаил Баламут описывал сцену, якобы произошедшую после казни Христа, когда в своем дворце Понтий Пилат будто бы расспрашивал некоего Афрания, по словам автора, начальника тайной полиции прокуратора Иудеи.
«Он сказал, — вспомнил я, — опять закрывая глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.
— Кого? — глухо спросил Пилат.
— Этого он, игемон, не сказал.
— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?
— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость»[6].
Вспомнив это, я подумал: «А не знак ли свыше, что именно это место из этой книги вспомнил я после того, как почувствовал, что Господь повелел мне написать правдивую книгу о моем времени и о том, что было незадолго перед тем, говоря моим читателям правду, одну только правду и ничего кроме правды, не ограничиваясь собственными воспоминаниями и книгами, что я прочел, но приводя также достоверные сведения свидетелей минувшего и не просто бездумно веря рассказам хвастливых или беспамятных вралей, но „опираясь на согласные свидетельства многих“»[7].
И когда я так подумал, на память мне пришло стихотворение, вполне созвучное тому, что я чувствовал, и написанное таким же стариком, как и я, в предчувствии скорого и неизбежного конца. Называлось это стихотворение «Моя книга» и вполне могло бы послужить эпиграфом и к моим воспоминаниям.
Ни Риму, ни миру, ни веку, Ни в полный внимания зал В Летейскую библиотеку, Как злобно (здесь неразборчиво. — В. Б.)… сказал. В студеную зимнюю пору, («Однажды» — за гранью строки) Гляжу, поднимается в гору (Спускается к брегу реки) Усталая жизни телега, Наполненный хворостью воз. Летейская библиотека, Готовься к приему всерьез! Я долго надсаживал глотку И вот мне награда за труд: Не бросят в Харонову лодку, На книжную полку воткнут[8]Однако, прежде чем приступить к рассказу обо всем, о чем я хочу поведать, я хотел бы предупредить тебя, мой почтенный и любознательный читатель, что в отличие от многих других я стану придерживаться неких обязательных для меня канонов, кои должен на деле исповедовать всякий правдивый человек, а тем более христианин и слуга Церкви.
Тебя удивит, возможно, что я не стану вписывать даты только потому, что я нетвердо помню, что было в тот или иной месяц, а иногда даже могу спутать и год.
Не стану я утверждать, что какого-либо человека звали именно так, а не иначе. Я думаю, что лучше честно сознаться в этом самому, нежели потом выслушивать попреки в намеренной лживости и дурной памяти.
Итак, еще раз помолясь Господу нашему Иисусу Христу и моему святому патрону апостолу Фоме, начну я мое повествование.
* * *
Я родился в IX год Понтификата папы Василиска[9] еще при его жизни прозванного «Великим». Однако предостерегу всякого, кто попытается из-за сказанного мною определить год моего рождения, потому что многие считают первым годом Понтификата Василиска Великого тот, в который скончался его предшественник — папа Илия, еще при жизни причисленный к лику святых и прозванный Пятнадцатым Апостолом. К этому уместно будет добавить, что Равноапостольным был признан не только Илия. Такая традиция возникла лет за семьдесят перед тем[10] Тринадцатым Апостолом официально признали бывшего Трирского архиепископа Карлу, Четырнадцатым Апостолом также официально был признан его единомышленник и друг Барменский епископ Ангел[11].
Василиск тоже хотел, чтобы его считали Равноапостольным, но добился этого только при жизни, когда его пышно именовали Василиском Величайшим, Мудрейшим и Равноапостольным, не добавляя «Шестнадцатым», ибо он во всем считал себя первым и такое добавление мог бы посчитать для себя оскорбительным[12]. Вместе с тем Василиск практически стал Понтификом еще при жизни Илии, который за два года до кончины сильно заболел и не мог управлять церковью.
Я пишу это для того, чтобы читателю, которому угодно считать, что Василиск стал папой лишь после смерти папы Илии Святого и его Понтификат начался двумя годами позже, то я смиренно приму и такую точку зрения и напишу иную дату моего рождения — VII год Понтификата Василиска Великого.
Для чего мне сразу же спорить и ссориться с частью моих читателей из-за такой безделицы, тем более что в потоке времени день моего рождения остался там, где и был, а откуда вести его отсчет — от сотворения мира, от греческих календ или Рождества Христова, не все ли равно?[13]
Родился я в Кенигсберге, в столице Прусского королевства, в правоверной католической семье — о ней я напишу позднее — и был крещен в единственной католической церкви, ибо город был почти полностью протестантским.
Крестил меня патер Иннокентий, и так как я родился в день святого апостола Фомы, то он и стал моим патроном, но на местный немецкий лад в детстве стали звать меня Томасом. А вследствие того, что моя мать была итальянкой, то она иногда называла меня на свой лад Томмазо.
Итак, я предстану в моей книге под этими тремя именами, ибо в разное время меня называли то так, а то и этак.
А Вольфом меня назвали, когда я окончил семинарию и, принимая монашество, переменил имя. Отец Ректор, памятуя, откуда я пришел в Рим и где родился, посоветовал мне взять чисто тевтонское имя — Вольф. Так я стал Вольфом де Map.
Я родился в то время, когда зараза протестантизма уже давно и надежно свила в Кенигсберге многочисленные гнезда. Нас, католиков, было в городе не более чем один человек из двадцати. И это в городе, который почти три века был оплотом истинной веры — католицизма!
Кенигсберг был необычным городом. В давние времена сюда пришли рыцари Тевтонского ордена и утвердились здесь, завоевав земли язычников — пруссов, разрушив их капища и низринув идолов, которым эти дикари поклонялись. Великие магистры ордена стали здесь полновластными хозяевами — у них под рукой были сотни, а то и тысячи вооруженных людей — рыцарей, кнехтов, простых братьев, служивших Ордену по найму, но верных магистрам, ибо все они были католики и все могли держать в руках оружие. А кроме того, сами папы благословляли и поставляли Великих магистров и Пруссию для руководства Орденом, и отсвет папского благословения всегда сиял над этими благочестивыми и смелыми мужами.
Однако и императоры Германии тоже хотели иметь свою долю во всех этих делах, а так как Великие магистры чаще всего были выходцами из лучших домов Германии[14], то немецкая кровь говорила в них порою сильнее, чем просвещенный Римом разум, и они иногда, не обращая слишком большого внимания на клятву, данную Риму, вступали в светские игры, учиняя комплоты с императорами. Однако же следует признать, что только денежные и другие корыстные интересы побуждали их к таким поступкам, но в душе они всегда оставались верными католиками.
Лютерова зараза, зародившаяся в землях Империи, пронеслась по Европе как чума. Одна за другой покорялись «бешеному быку Мартину» страны с их гражданами, а стало быть, и епархии с их прихожанами. Первой отпала от Святого престола Германия, потом Швейцария, Швеция, Англия и многие иные страны. Во главе этих новых еретических государств встали разные люди иной раз это были их собственные короли и герцоги, иной раз бургомистры и члены городских муниципалитетов, случалось, что и простолюдины деревенские мужики и отставные солдаты становились новоявленными «кардиналами» нового протестантского антипапы Мартина Лютера.
Я не раз размышлял над феноменом протестантизма, над тем, почему именно в 1519 году возникла вселенская лютерова ересь и почему она так быстро победила во многих странах христианского мира? Однако же пока повременю писать об этом, а расскажу обо всем в своем месте, когда придет пора поведать о годах обучения в семинарии, где знающие и, как мне тогда казалось, честные богословы и наставники знакомили нас с этим наваждением и давали ему разные, но в общем-то интересные объяснения.
А здесь я намерен объяснить, почему должен был хотя бы упомянуть о Реформации и лютеровой ереси. Может быть, и не стал бы, да больно уж много значила она для нас, простых смертных, обыкновенных бюргеров, для любой семьи и любого отдельного человека. Иногда думают, что-де такого страшного или же опасного в богословских догматических диспутах? Что плохого могут принести их результаты для простого мирянина — тем более что результатов самого спора как средства выявления истины эти диспуты никогда не приносили?
Для ученого-богослова итог диспута, чего бы он ни касался, всегда мог кончиться плохо — спорь он о чистилище, или о вознесении Богородицы, или о чем другом, столь же отвлеченном, потому что ученый-богослов, если он ошибался, должен был как минимум покаяться и в зависимости от глубины заблуждения и степени вины обязательно нес наказание — от малой эпитимии до сожжения живым на костре[15]. А победитель диспута из лиценциата превращался в доктора и тем самым не только укреплял свой авторитет среди ученых собратьев, но и получал немалую прибавку к жалованью. Случалось же, что о диспуте узнавали в Риме, и если папе и кардиналам было угодно, то они делали диспутанта деканом богословского факультета, а то и ректором семинарии или даже академии. Нередко же сами диспуты инспирировались Ватиканом, чтобы утвердить какое-нибудь новое положение, и тогда победитель диспута вознаграждался по-царски, получая либо большую пожизненную пенсию, либо становясь приором богатого монастыря или главой какого-нибудь тучного аббатства.
Так вот, возвращаясь к вопросу о том, какую опасность могли представлять для мирян — мужиков, ремесленников, дворян, купцов и прочих, кто не носил сутаны и не прислуживал за деньги церкви, — эти диспуты о чертях и ангелах?
Это сейчас, когда я пишу мою книгу, они не то, чтобы приутихли, нет, пожалуй, еще более разгорелись, чем когда-либо, только теперь к эпитимьям почти не прибегают, а уж если такое и случается, то ограничиваются покаянием и уж, в крайнем случае, велят сорок раз прочитать «Отче наш» или «Верую».
И опять я ушел в сторону — вот она старческая болтливость. И опять не ответил на вопрос, который сам же и задал. Так вот отвечаю.
И Лютер начал с богословских споров, а кончилось это тем, что христианский мир раскололся, как глиняный горшок, какие кидают с балконов горожанки в подгулявших ночных пьянчуг, базланящих под их окнами похабные песенки немытых и нечесаных оборванцев вагантов[16].
Все у Лютера началось с тайных сходок, «нового прочтения», как они говорили. Библии, с подметных листов, а которых богословы начали апеллировать к неграмотным мужикам и городским простолюдинам, а кончилось тем, что Рим потерял половину приходов.
Ну а там, где появилась новая религия, верным сынам и сторонникам старой, истинной религии места уже не осталось — они стали париями и изгоями.
Мои прадеды и прабабки, как я думаю, не очень-то боялись виттенбергского еретика[17], потому что жили в Кенигсберге — оплоте католицизма. Ведь, как я уже писал, здесь же жил Гроссмейстер Ордена Альбрехт из дома Гогенцоллернов, а его Орден назывался не просто «Тевтонским», что означает «немецкий», но его полное название звучало так: «Орден святой девы Марии Тевтонской», а его рыцари все были братьями Ордена, принявшими обет монашества. Можно ли было представить, что не пройдет и десяти лет, как и сам Гроссмейстер и все его комтуры, фогты и простые братья-рыцари сорвут с себя белые плащи крестоносцев-паладинов Богородицы и верных сынов церкви и станут, за малым исключением, вероотступниками — лютеранами?
А случилось именно так, и Гроссмейстер, сговорившись с королем соседней Польши Сигизмундом, сменял свой сан на светский титул Герцога Прусского, женился, посадил своих комтуров и фогтов в помещичьи дома и зажил дальше как ни в чем не бывало. А потом в Кенигсберге появился зять Лютера Филипп Меланхтон и вскоре не без поддержки Альбрехта стал в городе первым человеком.
Даже, когда я еще жил в Кенигсберге, память о Меланхтоне сохранялась довольно прочно. О нем говорили, что он — простолюдин и сын оружейника был ученейшим человеком, прозванным еще при жизни «Учителем Германии». Он многих обратил в новую веру, ибо был искусный проповедник и опытный диспутант, вследствие чего почти все жители города перешли в его веру. Однако мои предки остались привержены истинной вере и не поддались соблазнам лжеучителя Филиппа.
* * *
Когда я появился на свет, католиков в Кенигсберге было совсем мало, община была бедна и, честно говоря, не очень-то благочестива. И следует признать, что и семьи наших единоверцев жили беднее еретиков — лютеран, не только потому, что те позанимали все доходные места и в цехах, и в гильдиях, и в магистрате, и в судах, но и потому, что работали и жили совсем по-другому, чем мы, католики.
Протестанты считали первейшим делом на земле труд, а мы, католики, молитву. Они считали, что царство Божие завоевывается добрыми делами, то есть опять же трудом, а мы верили в искупление греха — а стало быть, и твердую гарантию попасть после смерти в рай — опять же молитвой.
Протестанты считали, что каждый христианин может служить Богу, говорить с ним и толковать Библию так, как велит ему его разум и сердце, а мы считали, что только священники могут толковать Священное писание и представать перед Богом нашими защитниками.
Из-за всего этого каждый протестант со дня рождения чувствовал себя свободным и равным со всеми, а мы, католики, были смиренными рабами Божьими, а кроме того, и послушной паствой наших наставников и исповедников.
Хотя, конечно, бывали и ленивые протестанты, как бывали и работящие католики, но все же чаще прилежность и трудолюбие, а вместе с ними и достаток поселялись в домах еретиков-протестантов.
Бывалые люди, повидавшие свет, говорили, что если смотреть на это дело честными глазами, то приходится признать — везде, где утвердились протестанты, будь то Швейцарские кантоны, Бранденбург, Саксония, Швеция, Дания, Англия или даже английская колония в Северной Америке — новый Амстердам, где поселились бежавшие туда голландские протестанты, — везде народ живет богаче, свободнее, хотя, правда, и не так весело.
«Они все время работают, — говорили бывалые люди, — честно торгуют, рано ложатся спать, скаредно считают свои сольди и гульдены, не любят похваляться украшениями и не тратят все деньги на модные одежды. Кроме того, они намного меньше нас пьют вина, избегают ходить на карнавалы, редко кто из них играет в карты или кости, а их молодые люди часто предпочитают всему этому чтение или умную беседу. Оттого их дома всегда покрыты черепицей, окна чисто промыты, а возле домов, даже в больших городах, много цветов и декоративных кустов».
Мы, католики, слушали эти рассказы и хотя и верили им, но все же чаще всего они вызывали у нас и досаду и чувство протеста. «Да черт с ними и с их богатством. Не богатый, а праведный войдет в царствие небесное», отвечали им наши единоверцы — ортодоксы и часто добавляли популярную у нас фразу из Писания: «Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый в царствие небесное». А так как почти все мы жили намного беднее окружавших нас в Кенигсберге протестантов, то единственным нашим утешением было то, что наша вера приведет нас в рай, а им — еретикам и вероотступникам, что хуже всяких язычников, — конечно же уготована одна дорога — в преисподнюю.
Наши особо сильно верующие католики даже не понимали, зачем вообще жить богато? Зачем денно и нощно копить деньги или с восхода солнца и до заката пахать землю, когда во сто крат приятнее для души — сходить в церковь, надев что получше, поговорить с друзьями обо всяких всякостях и, посидев в церкви на скамейке с закрытыми глазами, ну, а если надо, то и немного постояв на коленях, пойти потом в местную тратторию или таверну, выпить там кварту-другую доброго итальянского или французского вина и перекинуться в картишки или сыграть в кости, даже просто так, а не на деньги[18].
А кроме того, мы все знали, что работай не работай, всех денег все равно не заработаешь, а царства Божьего им — отступникам и схизматикам — ни за что не видать как собственных ушей. Потому что не в труде дело и не в богатстве счастье, а в вере. И потому все мои родственники и знакомые единоверцы гордились тем, что мы католики и по Божьему соизволению появились на свет в семьях, где прадеды и деды, прабабки и бабки исповедовали истинную веру — католицизм.
И я тоже гордился тем, что родился католиком и что принадлежу к церкви истинной, первым епископом коей был один из любимейших учеников Христа апостол Петр, а не какой-то там немецкий свинопас, и, кроме того, моя Церковь стоит уже полторы тысячи лет, а жалкое еретическое сооружение Лютера и его лукавых единомышленников не пережило еще и трех людских поколений. И как любил говаривать наш священник добрый патер Иннокентий, история еще покажет, кто из нас прав, а она — история — льет воду на нашу мельницу и работает на нас, потому что Бог на нашей стороне, ибо он не там, где богатство и сила, но там, где хотя бы и бедность, да зато и праведность.
И потому мы, католики, жили в городе как бы одной большой, дружной и веселой семьей. А что касается моей собственной семьи, в которой мне довелось появиться на свет, то она была типичной католической семьей. Оглядываясь теперь назад с вершины моего шестидесятилетия, я понимаю, что мои родители были как раз из тех, кто не очень-то умел, а потому не слишком любил работать — да простит мне Господь грех осуждения отца и матери! — но когда приходится выбирать между непочтением к памяти родителей и ложью, то я предпочитаю, как говаривал язычник Цицерон, «из зол выбирать наименьшее» и потому пишу не очень сладкую правду.
Отец мой от природы был наделен многими достоинствами. Он был мягок, бесконечно любил меня и двух моих младших братьев, появившихся через восемь лет после моего рождения. Любил и мою мать, любил голубей и собак, чужих детей и, как я понял впоследствии, чужих жен тоже, но более всего любил он досуги и оттого редко бывал дома, предпочитая играть с приятелями в кости и в карты и проводить дни в таверне «Веселый медведь», славящейся своим винным погребом и тем, что туда частенько заглядывали гитаны и путаны[19]. Зарабатывал же отец на жизнь тем, что играл в небольшом оркестре, чаще всего на разных семейных праздниках и особенно любил играть на свадьбах. Отец был талантлив, необычайно музыкален и владел любым инструментом. За это его ценил дирижер оркестра и его первая скрипка — маэстро Джованни Сперотто, появившийся в городе в годы моей юности. Маэстро был итальянцем, родившимся в Швейцарии, и как многие жители Швейцарских кантонов прекрасно говорил на трех языках, зная кроме своего родного еще два — немецкий и французский. Он иногда заходил к нам домой, и его немецкий язык восхищал меня и отца, а итальянский — мать и бабушку.
Маэстро был высок ростом, краснолиц, одноглаз и сильно хромал на левую ногу. Он приехал в Кенигсберг из Испании, где, как он рассказывал нам, католикам, воевал на стороне католиков против мавров, но, не будучи хвастливым, не приписывал себе великих подвигов, а честно говорил, что служил простым санитаром.
Джованни был одинок, жил неуютно, а наш дом — теплый, гостеприимный и веселый — всегда оказывался открытым для старого весельчака и рубаки. А как Джованни играл на скрипке! А какие карточные фокусы он знал! Но интереснее всего были его рассказы о необыкновенной его жизни и необыкновенных приключениях в Швейцарии, Италии, Парагвае, Испании.
Тогда я мало что запомнил из того, что он рассказывал моим родителям и бабушке, но хорошо запомнил, с каким восторгом слушали они бывалого старика.
Сначала Джованни заходил к нам довольно редко, «потом зачастил не на шутку», как пела в одной своей любимой народной итальянской песне моя бабушка Анна, а потом я не помню почти ни одного вечера, когда бы Джованни не приходил к нам. Не было ни одного праздника, ни одной пирушки, да и ни одного домашнего дела, в котором бы он ни участвовал. Он стал не просто другом дома, но и его добрым ангелом.
Особенно же заботливым и трогательно нежным он стал после того, как моя матушка родила сразу двух мальчишек, моих братьев — двойняшек.
Это случилось в тот самый памятный не только для нас, но и для всей Европы день, когда корабли безбожного Зигфрида Берксерьера обстреляли Данциг и высадили десант. Однако об этом я расскажу подробнее чуть позже.
Все в Кенигсберге впали в сугубое и глубокое уныние и даже поддались страху и панике. И лишь наша семья, а вместе с нами и Джованни, были веселы и радостны. Протестанты злобно косились на нас, полагая, что мы радуемся тому, что скоро Берксерьер ворвется в Кенигсберг и присоединит и Пруссию к своей Империи, в которую постепенно из-за недавно начатых им захватов превратился его поганый и изначально совсем небольшой Бранденбург. А мы-то просто радовались прибавлению в семействе и гуляли трое суток, как только мама смогла сесть за стол вместе со всеми, и нападение Берксерьера на соседний Данциг было здесь совсем ни при чем.
Старик Джованни был рад не меньше всех нас и предложил назвать мальчиков именами двух героев Италии — Джироламо Савонаролы, великого мыслителя, и Джузеппе Арчибальди — воина и патриота, освободителя страны от Габсбургов.
«Пусть Джироламо станет великим ученым, и пусть Джузеппе станет коннетаблем», — предложил добрый старик, не отрывая восхищенного взора от двух моих братишек, лежавших в колыбельке, стоявшей рядом с табуретом, на котором сидела мать.
Мы все согласились со стариком, а он, прослезившись, подарил два нательных золотых крестика малышам и золотое кольцо их счастливой матери. И чтобы никого не обидеть, подарил бабушке Анне иконку святой Девы, отцу серебряный бокал, а мне — книжку с картинками о путешествиях великого мореплавателя Васко да Гамы.
Здесь следует сказать, что мать моя была под стать отцу — она и пела, и танцевала, и так же, как он, любила застолья и праздники. Да они и познакомились на какой-то свадьбе, сразу же полюбили друг друга, вскоре же обвенчались и в первый же год супружества произвели на свет меня — старшего из трех сыновей.
Наверное, моим родителям больше нравилось делать детей, чем потом заботиться о них, потому что после того, как матушка моя разрешилась мною еще раз прости меня. Господи, за непочтительность к родительнице! — она вскоре снова забеременела и поняла, что если уж не может управиться со мной одним, то где же ей поднимать двоих сразу? Но не было бы счастья, да несчастье помогло: случился выкидыш, и я долгое время оставался единственным ребенком в семье.
А надобно сказать, что новое ее положение не прибавило матушке ни сноровки, ни трудолюбия. Она попала в Кенигсберг всего несколько лет назад с труппой бродячих итальянских комедиантов. В труппе ей поручали небольшие роли, но иногда она играла и разбитную, остроязыкую Серветту и в жизни иногда подражала ей, реагируя на реальные ситуации так, словно все вокруг нее происходящее творилось на подмостках «Комедии дель арте»[20].
В это время у одного из членов нашего прихода, кажется, это был итальянец Джакомо Толедано, случилась свадьба, на которую он пригласил оркестр, где играл мой отец, и туда же позвал он и оказавшуюся в городе итальянскую труппу. Остроязыкая Серветта сразила сердце молодого скрипача де Мара, а что из этого вышло, читатель уже знает.
Отец мой, в отличие от матушки, был местным уроженцем, его предки появились здесь во время первой религиозной войны, начавшейся во Франции, когда мой прадед был еще совсем молодым человеком. Не желая испытывать судьбу, он перебрался в Эльзас, а оттуда добрел до Гамбурга и на каком-то ганзейском корабле прибыл в Кенигсберг.
Здесь прадед женился на местной жительнице — она была чистокровной немкой из порядочной и благочестивой семьи, оставшейся верной католичеству, — и они зажили дружно и счастливо. Родители прабабки приютили бездомного зятя в своем доме, и этот дом и стал приданым их единственной дочери, а дед был гол как сокол, и ничего, кроме себя, в их дом не принес, осчастливив ее только единственным сыном и звучной аристократической фамилией — де Map. Потом по мужской линии вновь произошла такая же история — у деда родился тоже один сын — мой отец, и его назвали на чисто немецкий лад Георгом, потому что дед еще кое-как говорил по-французски, а отец уже знал лишь несколько расхожих слов и фраз вроде «бонжур», «мерси», «силь ву пле»[21] и что-то еще в таком же роде.
Матушка же моя к языкам оказалась очень способной, и, когда я родился, она уже могла бойко тараторить со мною по-немецки.
С самых малых лет она стала каждый день водить меня в церковь. Там был и ее и мой второй дом, точно так же, как и для большинства наших единоверцев живших в Кенигсберге.
А по дому управлялась приехавшая к нам из Италии бабушка Анна — мать моей матушки. Если бы не она, то я не знаю, кто бы нас всех кормил, поил, купал, обстирывал и обихаживал. Бабушка Анна приехала к нам сразу же, как только на свет появился я — ее первый внук, — и сразу же на всю жизнь прикипела ко мне своим добрым, но твердым сердцем.
И я сразу же полюбил бабушку, но с годами все больше удивлялся некоторым ее привычкам и чертам характера. Бабушка была добра и часто утаивала для меня самый лучший, самый лакомый кусочек, а то и давала один-два сольди на лакомства или на покупку какой-нибудь игрушки деревянного кинжала или щита из покрашенной жести. И я таким образом мог много раз убедиться, что она по ее малым возможностям щедра и не скаредна.
Однако, что касалось ее самой, то здесь бабушка была совсем другой. Она сметала со стола оставшиеся после еды хлебные крошки в ладонь и аккуратно слизывала их все до одной. Она доедала прокисший суп, даже если его оставалось две ложки, и аккуратно сушила на плите малейший кусочек хлеба и сберегала самую малую подгоревшую корочку, а потом складывала сухари в мешочек и уносила к себе в комнатку. Когда сухарей набиралось довольно много, бабушка брала мешочек и несла его к церкви, раздавая сухари нищим. А потом я заметил, что она — крестьянка с добрым сердцем, выросшая в деревне, — никогда не давала ни кусочка пищи ни бродячим собакам, ни приблудным кошкам, отгоняя их от дома и называя при том «дармоедами».
Только голубей и воробьев кормила она иногда, высыпая на крыльцо хлебные крошки и приговаривая: «Бедные, вы мои, бедные. Где же вам взять, кто же вам что даст?»
Матушка не верила своему счастью, когда бабушка Анна переступила порог нашего дома. Она просто не могла представить, что бабушке удастся выбраться из Италии, где она жила до приезда к нам.
Моим читателям, особенно молодым, трудно будет понять, почему тогда нельзя было уезжать или уходить из одной страны в другую, кроме купцов, моряков, вестонош, гонцов и всяких там нунциев, резидентов и послов.
Дело в том, что римский папа Василиск запретил жителям Папской области уезжать куда-нибудь, кроме других земель Италии, опасаясь, что они выдадут какие-нибудь важные секреты его врагам. А врагов у папы было предостаточно — чуть ли не весь мир. Из-за этого же папа запретил в Италию въезд всем инакомыслящим и исповедующим другую веру, будь то иудей или магометанин, а пуще всего опасался он протестантов, потому что считал, что они хуже язычников, так как с язычников что возьмешь — они и от рождения были язычниками, а вот протестанты — те во сто крат хуже, ибо они и их родители продали Христа и предали его Церковь.
Следует сознаться, что и к нам, католикам, во многих протестантских странах стали относиться с подозрением и видели в нас папских соглядатаев и лазутчиков.
И потому в Кенигсберге жизнь шла сама по себе, а у нас в общине — сама по себе, почти как в еврейском гетто, тоже сильно обособленном от всех — и от католиков, и от протестантов.
Я, конечно, не помню, как появилась у нас в доме бабушка Анна, но потом, когда я стал побольше и только-только прошел конфирмацию и был принят в общину, отец и мать однажды, взяв с меня клятву в вечном молчании, рассказали, почему бабушке разрешили приехать к нам[22].
Оказалось, что бабушке Анне лет за десять до моего рождения довелось служить прачкой на знаменитой папской вилле «Монте-Сперанца», где провел последние годы предыдущий папа Илия Святой. Из-за того, что бабушка Анна три года обстирывала больного папу Илию и всех обитателей виллы «Монте-Сперанца», к ней неплохо относились сестра покойного, жившая с ним вместе на той же вилле, и его ученица Бона Сперанца, тоже обитавшая на вилле.
Сестра Святого Илии похлопотала за бабушку, и ей позволили выехать к дочери, заставив дать клятву в том, что она ничего не будет рассказывать о ее службе на вилле «Монте-Сперанца». Бабушка поклялась, и тогда ее заставили расписаться на бумаге, где ее клятва была записана секретарем инквизиции. Бабушка не умела не только читать и писать, но даже не могла и расписываться. И тогда секретарь обмазал бабушке указательный палец правой руки чернилами и как печать приложил к написанной им бумаге.
Потом бабушке дали еще одну бумагу, по которой она получила право выехать из Италии, и с тем отпустили восвояси. А если бы не сестра Святого Илии, то никогда — говорили родители — нам и в глаза ни увидать бы бабушки Анны.
Я выслушал все, что они мне сказали, но по молодости лет ничего не понял и потому спросил:
— Если бабушка Анна удостоилась великой чести стирать белье и простыни самого Святого Илии, его сестры и верной ученицы и сподвижницы Боны Сперанцы, разве не должна она рассказывать об этом всем католикам? У нас в городе, да и вообще в христианском мире, едва ли найдется дюжина таких счастливиц, которым довелось не только видеть живых святых, но и по силам своим служить им? — И еще я сказал: — Какие тайны может знать прачка?
Но отец лишь вздохнул с печальною укоризной, а мать сказала сердито:
— Говорила я тебе, что рано ему еще знать обо всем этом.
— Ничего, — ответил отец, — пусть знает, а станет побольше — поймет и разберется. — А мне сказал: — Ты, сынок, главное, никому не говори об этом ни одного слова.
Это непонятное, но обязательное условие — молчать и никому ничего не рассказывать из того, что ты слышал в семье или от других близких, — было одним из важнейших требований нашей жизни. Это была первая заповедь, которая соблюдалась строже, чем всякие прочие. Мы с трех-четырех лет, еще не ведая о Заповедях Господних «не убий!», «не укради», «не возжелай жены ближнего своего» и других, — ни на минуту не забывали о невозможности преступить Великий Запрет — молчания и тайны, ибо нарушение этого могло привести к совершенно непредсказуемым и ужаснейшим последствиям: человек, разговор с которым ты передавал кому-нибудь еще, почти всегда или таинственно и бесследно исчезал, или его находили мертвым, или зарезанным, или отравленным, а если он и оставался жив, то по непонятной причине почти всегда вдруг сходил с ума.
Чаще всего такое случалось с католиками, но иногда и с протестантами.
Никто не говорил о произошедшем вслух, но все были уверены, что делают это тайные агенты Римской инквизиции, и потому трепетали от страха днем и ночью, чтобы, не дай Бог, не навести такую беду на себя или своих ближних.
Я поклялся, и отец сказал, что попросит бабушку рассказать мне о ее жизни в Италии, и все же, хотя я уже дал отцу слово молчать, он еще раз предупредил меня об этом.
— А почему вы именно сегодня завели со мною разговор об этом? спросил я родителей.
— Сегодня мы отпразднуем дома твою конфирмацию, а значит, и выпьем винца, — сказала мать. — А ты знаешь, что бабушка Анна любит выпить, а когда выпьет, то сначала веселится и поет неаполитанские песни, а потом, когда добавит еще, начинает плакать, и тогда ее уже никак невозможно удержать от горестных воспоминаний и печальных рассказов. Раньше мы не позволяли тебе выпивать вместе с нами и отправляли спать вместе с маленькими, а теперь ты прошел конфирмацию и стал почти взрослым и можешь один вечерок посидеть с нами и с бабушкой.
Вечером мы собрались вчетвером и, закрыв ставни, затеплив очаг и заперев дверь на засов, — чтобы если кто из посторонних неожиданно пришел бы, то подумал, что нас нет дома.
Все были одеты нарядно и празднично, и на столе стояло все лучшее, что было в доме. Родители подарили мне «Библию для детей», а бабушка маленькую иконку Апостола Фомы — моего святого небесного патрона.
Из-за всего происходящего бабушка необычайно растрогалась, очень разволновалась и опьянела и скорее, и сильнее обычного.
Подперев щеку рукой, она сначала завела одну за другой несколько печальных деревенских песен, а потом вдруг заплакала и предложила выпить за упокой души Святого Илии.
Культ Илии был так велик и любовь к нему у простых католиков, где бы они ни жили, была столь чиста и искренна, что мы все тут же с энтузиазмом поддержали бабушку Анну.
А после этого она положила легкие, сухие натруженные руки с большими коричневыми мозолистыми ладонями перед собою на край стола и, тихо всхлипнув, тут же подавила в себе готовый было вырваться новый приступ плача, начала рассказывать тихо и грустно, с какой-то молитвенной интонацией (а матушка переводила мне и отцу бабушкин рассказ, иногда плача вместе со своей старой матерью).
— Если бы кто-нибудь взялся жизнь мою описать, толстая бы вышла книга. Ну, внучек, послушай, как я жила. В день конфирмации тебе надо многое узнать, чтобы не запутаться в жизни и знать что почем.
Родилась я, Томичек, в бедной семье. И работали мы помногу и подолгу, а жили бедно. Потом, когда Святой Илия заварил всю эту кашу, то стало и совсем худо. Мужики, бабы и ребятишки пухли с голода, потому что хлеб у нас поотбирали силой вооруженные рабы из города и говорили, что он им нужен, чтобы солдат кормить и городских рабов, которых Илия объявил вольноотпущенниками[23], но держал на мануфактурах с утра до ночи, потому что перед тем четыре года шла война и все пооборвались, и вещей никаких не было, и надо было мужиков и баб во что-то одевать и обувать, а пуще всего делать для солдат оружие и пушки всякие, да еще и о священниках не забывать, — они были возле Илии, и хотя их называли братьями, мы-то знали, что живут они, как прежде жили архиереи, и стало священников и монахов почему-то много больше, чем прежде, и с каждым годом становилось все больше и больше.
Потом Илия всех своих супостатов побил, из Италии прогнал и дал мужикам жить чуть повольготнее — отбирал только половину хлеба, а другую половину оставлял и на прокорм для самих себя, и на посев, и на продажу.
И зажили мы хотя и хуже прежних, совсем старых, еще довоенных времен, но с голоду не пухли, и даже начали новую одежонку справлять, а некоторые даже коней и коров у себя в хозяйствах завели. Купили и мы коня и корову и на радостях в знак благодарения Илие, что избавил нас от голодной смерти, купили дешевую, но большую гравюру с изображением Илии, когда он в Рим въезжал на боевой колеснице с квадригой белых коней. Очень была красивая гравюра и называлась «Въезд Илии во Рим».
И надо тебе, Томичек, знать, что неподалеку от нас некогда жил богатый латифундист[24]. Называлось его поместье и усадьба — богатая, надо сказать, усадьба и красивая — «Монте-Сперанца»[25]. И вот однажды мы узнали, что в эту усадьбу теперь часто стали привозить больного папу Илию и что он там отдыхает и лечится.
Сначала Илия приезжал в усадьбу ненадолго, а потом зачастил все больше и, наконец, остался там насовсем, в Рим же выезжал очень редко, а потом и совсем перестал туда ездить.
Вот в эту-то самую пору пришел к нам в деревню монах из усадьбы и зашел к нам в дом и спросил: «А не знаете ли вы девку или бабу, чтобы могла портомоей стати и порты за Илией и его святым семейством прати?»[26] И я подумала: «А почему бы мне самой за это дело не взяться?» Да и так красиво подбоченившись и выставив крутое бедро, — бабушка покраснела, перекрестилась и сказала: «Прости меня, Господи, грешна была, совратить была монашка готова, чтобы в „Монте-Сперанце“ пожить», — продолжила рассказ.
— А он так поглядел на меня с вожделением — мне тогда хоть и было за тридцать, да статью я была во всей деревне краше любой бабы ли, девки ли и он, видать, это сразу же заметил, да и говорит: «А ты, случайно, не сестра из ВКП(б)?» А я так скромно глаза опустила и отвечаю: «Не удостоил Господь, но считаю себя „Люхрей“» — и повела глазами, будто нечаянно, в угол, где вместе с иконами Спасителя и Богоматери висела гравюра «Въезд Илии во Рим». Он тоже в угол поглядел, да и говорит:
«„Любящая Христа“ — „Люхря“ то есть, — говорит монашек, — это — хорошо. Это, значит, сочувствуешь ты нам, братьям из ВКП(б)[27], и Илию любишь. Возьму тебя сначала на пробу, а там видно будет».
Я было кинулась вещички сбирать, а он-то и говорит:
«Не торопись, пройдешь пробу, тогда и вернешься за барахлом, а не пройдешь — тогда зачем тебе их туда-сюда напрасно таскать?»
В общем, пробу я прошла. — Тут бабушка снова покраснела и снова, перекрестясь, сказала: — Прости меня. Господи, за грех мой невольный. — Я ничего не понял, но мать и отец опустили глаза и тихо вздохнули.
А мать неизвестно почему спросила:
— А провожатый-то твой молодой был?
— Ровесник мне, — ответила бабушка. — А может, и чуть постарше. — И продолжила: — Ну, как бы то ни было, а пробу я прошла и стала порты, и простыни, и наволочки, и все нательное белье и прати и гладить. Попервоначалу даже не поняла, что к чему — крахмал зачем-то, отдушки какие-то, мыло личное, а не простое, а потом быстро приноровилась — и дело пошло.
— Ну, а как сами-то в усадьбе жили? — спросила мать.
— Не скажу, что сильно богато, но ведь народу-то вокруг сколько было и врачи, и сестры-кармелитки, что из милосердия за недужными ходят, да кучера, да каретники, да гвардейцы из папской охраны, — всех и не перечтешь.
— А самого-то видала? — спросил отец. Мать тут же перевела, и бабушка ответила:
— В господском-то доме-то я бывала редко, а уж в папской опочивальне ни одного раза. А вот как папа поначалу по саду гулял и в ротонде[28] сидел, это мне видеть приходилось. Видела, и как дети к нему на Рождество приходили за сластями, а вот паломников и богомольцев до него не допускали, хотя многие и шли к нему за пастырским благословением.
Гостей иногда видеть приходилось. Знала, что все это — кардиналы да архиепископы, но в лицо их одного от другого не отличала. Только недолго все это продолжалось, и стала я замечать, что не выходит больше Илия в сад, и в ротонде не сидит, а катают его в коляске. И был он в ту пору совсем уже плохой — не двигал ни руками, ни ногами, совсем почти онемел и иногда только мычал, но по глазам видно было, что слова человеческие понимал, и когда кто-нибудь что-то ему говорил, а Илие это почему либо не нравилось, то он начинал трястись и вслед за тем сразу же принимался плакать. И хотя были возле него лучшие лекари и знахари — даже и из других стран, — но и мы все, кто жил в «Монте-Сперанце», и все придворные ватиканские астрологи и даже торговки на римских рынках в един глас говорили, что дни Илии сочтены, а Генеральный викарий, первоприсутствующий кардинал Василиск и послушные ему кардиналы курии супротив всякой правды велели строго пресекать и даже наказывать за такие разговоры и называли их паникерскими и вражескими и даже запретили молиться за здравие умирающего папы и объявили с кафедр и в посланиях, что он хотя и не совсем здоров, но с помощью Божией со дня на день встанет на ноги и вернется в Рим. А мы-то лучше всех знали, что все это не так и папа не сегодня-завтра помрет.
Так оно и случилось. И мы все сильно горевали и плакали, а когда его увезли хоронить в Рим, то и мы пешком пошли за ним и шли целый день и жили в Риме кто где, целых пять суток, пока его не схоронили.
А потом мы вернулись обратно, пока жили еще там сестра его непорочная дева Мария и непорочная же ученица его Бона Сперанца.
А как они оттуда, с виллы-то, переехали в Рим, то всех нас, слуг, рассчитали, и мы разошлись по домам. А тут началась редукция[29], и снова весь хлеб у нас поотбирали, и снова мы стали голодать, но все же жили намного лучше, чем крестьяне возле Неаполя или возле Флоренции, где люди ели даже кошек, собак, а то и превращались в людоедов и родители пожирали собственных детей. (Протестанты в Кенигсберге в то время, когда это происходило, в открытую говорили об этом, но мы им не верили, потому что просто невозможно было представить, чтоб в житнице Италии — в Тоскане и Неаполитанском королевстве — люди могли умирать от голода.) Но бабушка Анна подтверждала это, добавляя, что, ко всему прочему, в Италии появилось множество прокаженных, и они вредили всем здоровым людям из чувства зависти и мести.
Прокаженные, или леприды[30], травили скот, поджигали посевы пшеницы, отравляли колодцы, заражали проказой младенцев, похищая их и целуя своими погаными губами, а то и удовлетворяли с ними свою сатанинскую похоть, заражая их лепрой.
Святая инквизиция ловила их, сжигала на кострах или увозила в трюмах галер в Парагвай, в самые отдаленные и гиблые его районы, но проказа не оставляла Италию, и лепридов с каждым годом становилось все больше.
Бабушка сказала, что итальянцы шептались между собой, что папа Василиск и его первый кардинал — Генеральный комиссар Святой инквизиции Николай Эринацид[31] — объявляют прокаженными вполне здоровых людей. Все это было нелепо, чудовищно, не согласовывалось со здравым смыслом, но совпадало с тем, о чем открыто говорили кенигсбергские протестанты, и потому и этому приходилось верить, тем более что бабушка Анна была бесхитростна и правдива.
И еще одно обстоятельство убеждало даже меня — еще отрока — в справедливости всего, сказанного бабушкой, — если бы это была ложь, то ее не следовало бы бояться. А я уже тогда хорошо понимал, нет, пожалуй, глубоко осознавал, что наши единоверцы-католики больше всего боялись правды и убивали тех, кто по глупости или доверчивости делился этой правдой с другими. А я уже писал, как с самого раннего детства все мы были приучены таиться, прятаться и молчать.
И я молчал, потому что, не понимая умом, прекрасно чувствовал, что не только моя семья, но и вся наша община пронизана тайнами, и невидимые, но прочные нити этих секретов тянутся от нас — в Рим, и к нам, оттуда — из Рима. Руководители нашей церковной общины сами жили по законам Римской церкви и всячески приобщали всех нас с самого детства к образу мышления и даже ритуальным бытовым реалиям Вечного города. Так, например, прежде чем пройти конфирмацию, все дети-католики, готовясь к этому торжественному акту, передавались под наблюдение Старшего Брата из Всеобщего Католического Союза Молодых. Эти молодые люди еще не были Братьями из ВКП(б), но уже готовились вступить туда и проходили послушничество в Молодежной организации — ВКСМ, которая считалась надежным резервом и боевым помощником ВКП(б).
В свою очередь, нас, детей, готовили к вступлению в ВКСМ, начиная чуть ли не с пеленок. Совсем маленькими нас называли «Ангелятами», и у нас уже были Старшие Братья из «Детского ордена Святой Великомученицы отрочицы Паулины». Они учили «Ангелят» трем первым молитвам, объясняли, что написано на той или иной картине, кто такой Христос, и особенно часто рассказывали о Святом Равноапостольном Илие, которого, чтобы нам, несмышленышам, было понятно, просто называли «дедушка Илия».
Илию показывали нам в двух образах. Во-первых, в детском, когда он был изображен подобным херувиму — с золотыми кудрями и прелестнейшим ликом. Это был чистый ангел, только что без крылышек. Рассказывали, что во младенчестве и детстве был он тих, незлобив, сам выучился читать и писать и это почиталось малым чудом, — и среди многочисленных братьев и сестер почитался он как старший брат, хотя таковым и не был. Он учился лучше всех, больше всего любил латынь и древнегреческий и в послушании также служил примером для всех.
Второй образ Ильи, который нам часто показывали, был совсем иным. Здесь Илья был уже мужем почтенным, лет пятидесяти. Изображен он был на большом живописном полотне в окружении детей, простиравших к Илие руки и умильно на него взиравших. Сцена происходила на папской вилле «Монте-Сперанца», где больной папа доживал последние годы. В Рождественские праздники Илия любил собирать у себя в доме деревенских детей и раздавать им сладости. Вот эту-то сцену — раздачи рождественских подарков детям, когда все они собирались возле «дедушки Илии» и, глядя на него, от радости плакали, — и изобразил художник. А мы — несмышленыши «Ангелята», — глядя на картину, сами чуть не плакали от умиления и восхищения бесконечной добротой дедушки Илии и очень завидовали, что нам не посчастливилось жить в то замечательное время и самим хотя бы раз взглянуть на доброго и щедрого дедушку.
А перед конфирмацией нас готовили уже к вступлению в «Детский орден Святой Великомученицы отрочицы Паулины» (сокращенно — Всеобщий Паулинский орден (ВПО).
Отрочица — великомученица Паулина — прославилась тем, что, будучи набожной, благочестивой и честной, однажды подслушала, как ночью отец и мать, выпив во время ужина вина — а они были лентяи, пьяницы и пустословы, стали говорить друг другу такие еретические вещи, что даже семилетняя «Ангелица» Паулина поняла, насколько все это мерзко и богохульно. Она, закрывшись с головой рваным одеялом — настолько бедны были ее бездельники-родители, — первую половину ночи неслышно плакала, глотая слезы, а вторую половину ночи молилась вразумить ее, несчастную, что ей делать и как поступить.
Измученная бессонной ночью и горем, праведная отроковица заснула лишь под самое утро и увидела дивный сон — раскрылась дверь ее лачуги, и через порог шагнул к ней прекрасный юноша в белом, с крыльями за спиной и золотым нимбом вокруг белокурой головы. Юноша подошел к ней так тихо, что она не слышала его шагов, а только почувствовала легкое дуновение нежнейшего и благоуханного зефира[32]. Юноша простер над Паулиной длани и проговорил голосом, нежнее эоловой[33] арфы[34]: «Восстань, непорочная отрочица Паулина, и гряди в Святую Инквизицию. И не утаи ничего из того, что слышала. И примешь из-за того мученическую смерть, но будешь причислена к лику святых». И с тем исчез.
Паулина снова долго плакала и молилась, но, взглянув на потерявших человеческий облик мать и отца, — пьяных, голых, храпевших, во сне рыгающих и тяжко стонущих, — более похожих на скотов, нежели на создание Творца, сотворившего их по образу и подобию своему, осенила себя крестным знамением и пошла, куда было ей предначертано свыше.
И отцы-инквизиторы, поблагодарив отрочицу, привели богохульников к себе и увещевали их покаяться. И мать покаялась, испугавшись костра, и была всего-навсего повешена, а отец упорствовал, и его пришлось после пыток сжечь живьем.
Однако кто-то из родственников казненных изловил Паулину и утопил ее в отхожем месте. Когда же отцы-инквизиторы стали искать непорочную отроковицу и через неделю нашли ее и вынули из смрада и нечистот, то явилось чудо: Паулина лежала на траве как живая и была подобна херувиму, и одежда на ней сверкала чистотой и благоухала.
И решением папы Василиска была Паулина причислена к лику святых, и ее память все члены «Детского Ордена» отмечают каждый год 19 мая в день ее великомученической кончины. Так и я сначала был в «Ангелятах», потом стал «юным Паулинцем», а, начав посещать «Воскресные чтения» — о чем речь пойдет впереди, — стал членом «Общества Любящих Христа» и вступил во «Всеобщий Католический Союз Молодых». Отсюда мне открывалась и дальнейшая дорога в ВКП(б). Однако пока это были лишь прекрасные мечты, далекие от земных забот, ибо из-за того, что трех детей, бабушку и мать отцу прокормить было невмочь, родители стали подумывать, куда бы пристроить хоть кого-нибудь из нас троих: так как двойняшки были еще совсем несмышленыши и им нужна была и мама и бабушка, то речь могла идти лишь обо мне. И потому, поразмыслив, решили отдать меня в семинарию и учить на священника.
Сделать это было не так просто, но из-за того, что и мать и отец пели по воскресеньям в церковном хоре, а отец иногда заменял то регента, обязанности которого обычно исполнял маэстро Сперотто, то органиста, нашему доброму патеру Иннокентию нелегко было отказать в просьбе отца, и он разрешил мне прислуживать в церкви и вместе с еще тремя мальчиками учиться у него латыни.
Это произошло вскоре после того, как я прошел конфирмацию и не только начал чувствовать себя членом общины, несмотря на мои восемь лет, но и стал намного серьезнее, чем хотя бы год назад. Такому моему повзрослению весьма способствовало то, что случилось в тот самый год — год моей конфирмации.
Как раз тогда началась Вторая Великая Религиозная война, и ее начало как бы перерубило жизнь всех христиан на две части. Мы, современники и свидетели всего произошедшего, так и говорили потом до конца жизни:
«Это было до войны, это было во время войны, это было вскоре после войны».
К счастью, король Пруссии остался нейтральным: редкий, должен я заметить, случай в истории Пруссии, чтоб в какой-нибудь войне, особенно большой, оставалась она нейтральной.
Однако на сей раз дело обстояло именно так. Но должен заметить, что нейтралитет был не очень уж пуританским[35]. Король почти в открытую сочувствовал Бранденбургскому маркграфу Зигфриду Берксерьеру, который был, пожалуй, не лучше Лютера и поклялся распространить безбожие на весь мир, сокрушить вселенскую империю папы и закопать католицизм в могилу[36].
В общем, он крутостью характера напоминал папу Василиска, но только был совсем, как говорится, другого цвета. Мы, католики, всегда носили белые одежды, и даже наши крестоносцы ходили в белых плащах, а сторонники Зигфрида Берксерьера ходили во всем красном, а на их кокардах красовалась эмблема смерти — череп, что должно было означать, судя по цвету одежды, кровь, в которой они омоют мир, ну а о черепе я только что сказал.
Здесь я должен кое-что пояснить, потому что за давностью лет многие мои читатели ничего не поймут, так как о Второй Великой Религиозной войне хотя и много понаписано, да мало кто написал правдиво и справедливо. А я и помню кое-что сам и слышал от сотен моих современников постарше меня множество рассказов. И хотя не всем их рассказам следовало доверять, я и здесь действовал по принципу отбрасывать все сомнительное, «опираясь на согласные свидетельства многих»[37].
* * *
Должно вам сказать, мои любознательные и благочестивые читатели, что волею судьбы Вторая Великая Религиозная война началась совсем неподалеку от нас, однако, прежде чем это случилось, мир стал свидетелем множества грозных и опасных событий.
Нам, католикам, говорили, а мы слушали это, когда подобное обсуждалось взрослыми, что в IX год Понтификата Василиска Великого власть в Бранденбурге захватил пришлый австрийский кондотьер Зигфрид Берксерьер со своими головорезами, изгнал законного Бранденбурского маркграфа фельдмаршала Имперских войск Пауля Бенкендорфа унд Танненберга, поджег городскую Берлинскую ратушу и обвинил в этом местных католиков.
Католики предстали перед судом, но с Божьей помощью сумели оправдаться, доказав, что ратушу подожгли «Черные ландскнехты» по наущению самого узурпатора Зигфрида.
Папа Василиск принял оправданных католиков и увенчал их лаврами героев и подвижников.
А Берксерьер, разозленный провалом процесса, объявил, что не вложит меч в ножны, пока не изрубит в куски всех католиков и иудеев. Католиков он терпеть не мог, а иудеев ненавидел больше Сатаны, хотя сам, как говорили католики, был его внебрачном сыном. (Хотя, по чести сказать, то же самое говорили поганые протестанты про папу Василиска Великого.) И еще одно удивительное, скорее всего апокрифическое, сказание[38] довелось мне услышать недавно от одного признанного богослова и астролога, он утверждал, что оба они — сыновья Сатаны Гог и Магог, посланные на землю для ее погибели[39].
Однако такое я услышал много позже, а в то время, о котором я пишу, мы, католики, Зигфрида считали Антихристом, а папу Василиска Архистратигом Михаилом, который должен низринуть Окаянного в преисподнюю.
Как бы то ни было, но начал Окаянный с иудеев. Его ученые обвинили иудеев-банкиров в тайном сговоре с католиками из III Всемирной Кайфолической Лиги, которые, с одной стороны, обирают простых людей, а с другой — морочат им голову протестантской опасностью и беспощадно эксплуатируют, отодвигая в сторону и закрывая рот истинным радетелям за интересы простых людей — «черно-коричневым» парням, носящим одежды таких мрачных цветов в знак траура по печальной участи всех обманутых и угнетенных немцев. «До других мне нет дела, — говорил Берксерьер. — Пусть другие думают о себе сами, а моя задача построить вместе с моим народом один дом — крепкий и счастливый немецкий дом. В этом доме будет жить один народ — немцы. И будет один хозяин — я, Зигфрид Берксерьер». И выдвинул призыв: «Один дом, одна семья, один патриарх». Зигфрид начал с этого, а кончил тем, что все другие семьи из других соседних домов и все иные патриархи должны были признать его самого, его дом и его семью лучше всех, покориться ему и безропотно платить дань.
Он поставил признак Крови выше признака Веры и сравнял немцев-католиков с немцами-протестантами и немцами-сектантами при одном условии — католики не имели права входить в III ВКЛ и ее секту ГКП (последняя аббревиатура означала Германская Конфедерация Паладинов и она, как и Всеитальянская Конфедерация Паладинов (Борцов) — сокращенно ВКП(б), входила на правах отдельной секты в III Всемирную Католическую Лигу). Впрочем, ограничимся пока такими объяснениями, извинившись, что эти объяснения не были сделаны много ранее, когда аббревиатура ВКП(б) впервые появилась на страницах этой книги. Объясняется это просто — в мое время она была столь известной, что я как-то и не подумал, что кто-нибудь когда-нибудь перестанет понимать или даже просто-напросто не будет знать, что это значит.
А теперь вновь вернемся к Зигфриду и его учениям. Ученые Зигфрида Берксерьера создали «Теорию о Сатанинской Триаде», согласно которой в мире существовало Триединое Зло — Союз иудейских банкиров, Всемирной Кайфолической Лиги и недочеловеков — отсталых и слаборазвитых народов, составивших заговор нечестивых.
Зигфрид выгнал из Бранденбурга всех недочеловеков — особенно жестоко преследуя иудеев, а оставшихся посадил в так называемые «концентрации». Его абсолютизация идеи дошла до того, что он закрыл все храмы всех конфессий и посадил пасторов, патеров, ксендзов, раввинов и пресвитеров в «концентрации», заставляя их осушать болота и дробить камни.
Он призвал под свои знамена всех немцев, независимо от того, где они жили, и объявил, что даже те из недочеловеков, которые станут его союзниками, получат после одержанной им окончательной победы место под Солнцем и достойную жизнь.
Зигфрид написал книгу «Моя война» и объявил, что сначала поможет своим сторонникам, появившимся во многих странах, деньгами и оружием. И одним из таких, первых, оказался крещеный мавр по имени Эрнехильо Паулино Теодуло дель Буамонте. Это был ярый сторонник Зигфрида Берксерьера, твердо веривший в «Теорию о Сатанинской Триаде» и не придававший значения третьей части «Теории», считая, что если он окажет услугу своему кумиру, то Зигфрид выведет мавров из стада «недочеловеков» и потеснит кого-нибудь вниз, в ночь и туман, предоставив им место под Солнцем.
И в XII год Понтификата Василиска Великого мавр Эрнехильо возведенный испанским королем в рыцарское достоинство, получивший чин генерала и назначенный вицекоролем Марокко, — выявил своему доверчивому монарху полное непочтение и, выйдя из повиновения и нарушив присягу, поднял против короля мятеж.
Эрнехильо подчинялись города и гарнизоны Марокко, среди которых было немало богатых и многолюдных, а также плодородные и густонаселенные провинции.
И здесь я намерен поведать вам, мои любезные читатели, то, что довелось мне слышать от маэстро Джованни Сперотто — участника и очевидца этих событий, приехавшего в Испанию из Парагвая.
Джованни рассказывал, что, задумав недоброе, мятежный вице-король собрал воедино язычников-мавров и изменников-христиан, посадил их на галеры и каравеллы и, перейдя Средиземное море, неожиданно высадился в Испании. Его ударной силой были марокканские лучники и арбалетчики — выносливые, жестокие и храбрые. К Эрнехильо и марокканцам присоединились их сторонники, поднявшие мятежи в городах Кадис и Севилья. Король струсил и спрятался в своем загородном дворце — Эскуриале. А Эрнехильо с марокканцами и местными предателями двинулся на Мадрид. Королевские коннетабли и командоры проигрывали Эрнехильо и его головорезам одно сражение за другим.
И тогда в маленькой деревушке Гальярта, в области Бискайя, появилась сестра Жаннета Проповедница и, придя к трусливому королю в его убежище, подобно Святой деве Жанне из Орлеана, стала увещевать его и стыдить и грозить карами небесными, если он не сядет на коня и не встанет во главе христолюбивого войска, чтобы повести католиков против неверных, как водили их на мавров во времена Реконкисты[40] славные короли Кастилии и Арагона.
«Государь, — говорила Жаннета страстно, — встань в стремя! Подыми меч! Будь новым Альфонсом VIII и учини поганым маврам новую Лас-Навас-де-Толосу!»[41] Но трусливый король оставался глух, и сердце его леденил страх, настолько холодный, что даже огненные слова Жаннеты Бискайской не зажгли его. А ведь в Испании не было католика, сердце которого не загоралось бы от слов сестры Жаннеты, которую за необычайное красноречие и страсть в народе прозвали «Пассионарией»[42].
И тогда сестра Жаннета ушла в Мадрид и стала проповедовать на улицах, и в храмах, и на площадях, и призывать на помощь всех католиков мира. Сестра Жаннета состояла в Испанской Конфедерации Паладинов — ИКП — и она убедила Испанскую Курию обратиться за помощью к папе Василиску и к Всемирной Католической Лиге. А папа только того и ждал. Он тут же обратился с окружным посланием о Крестовом походе против мавров ко всем католикам мира и во все концы разослал своих легатов и нунциев.
И тут же со всех сторон потекли в Испанию католические когорты от Литвы до Парагвая. Их вели испытанные боевые командиры, а их военными капелланами были неустрашимые и твердые верой и духом братья из разных Конфедераций.
Капелланы были в Испании особенно важными фигурантами. Они были в каждой манипуле, в каждой центурии, в каждой когорте, в каждом легионе. И носили звания «капеллан-манипулярий», «капеллан-когорталий», «капеллан-центурионалий», капелланы легионов делились на «капелланов-легионариев I и II рангов». Военные капелланы воодушевляли бойцов словом Божьим, разъясняли, за что они борются, укрепляли в них веру в победу над маврами и «Черными ландскнехтами».
Пробравшись в Испанию, католики разбивались по своим когортам, и пьемонтцы были с пьемонтцами, бургундцы с бургундцами, поляки с поляками.
Мавры дрогнули, и не миновать бы им погибели, если бы не протянул им руку помощи Бранденбургский маркграф Зигфрид Берксерьер. Его «Черные ландскнехты» пришли на выручку головорезам Эрнехильо.
Когорты Католической Лиги дрались как львы. Пассионария, сняв рясу и надев латы, металась от одной когорты к другой, и к третьей, и к седьмой, ибо их было семь. В первой объединились немцы из Вюртемберга, Мекленбурга, Баварии и Бранденбурга, и они сражались с «Черными ландскнехтами» яростнее других, хотя и говорили с ними на одном языке. Во второй были католики Италии, в третьей — поляки, в четвертой — бретонцы, гасконцы, бургундцы и католики Фландрии, в пятой — парагвайцы и все другие католики Нового Света. И Жаннета говорила им всем одно и то же: «Остановите Мавра! Эрнехильо не пройдет!» Но силы были на стороне мавров и Бесноватого. Они захватили города Бадахос и Талаверу де ла Рейну, а еще через два месяца осадили Мадрид.
В бою с марокканскими лучниками за Бадахос Сперотто потерял глаз, а в боях за Талаверу в рукопашной схватке «Черный ландскнехт» раздробил ему пальцы на ноге.
Израненный Сперотто вынужден был покинуть Испанию, но решил не возвращаться в Парагвай, а остался в Европе, предпочитая скоротать свою старость вдали от Государства Иезуитов, однако не поехал и в свой родной кантон Граубюнден — говорил мне, что ему было бы трудно жить там, ибо все его родственники уже поумирали, а оставшиеся в живых относились бы к нему как к выходцу с того света.
Вот и подумал он прибиться к нам, в Кенигсберг, где не знала его ни одна живая душа. И хотя объяснение не казалось мне убедительным, но и не верить ему я не мог. Здесь Джованни узнал горестные для него вести.
Поздней осенью Эрнехильо на белом коне въехал в Мадрид и провозгласил себя «Каудильо», что означало «Вождь», как и у всех варваров и каннибалов, которые так именуют своих предводителей. Замечу, что и Зигфрид Берксерьер тоже именовал себя вождем, но Великим вождем называли и папу Василиска. Однако мятежному мавру одного звания «Каудильо» недостало, и он объявил себя еще и генералиссимусом, что, впрочем, понятно, ведь Эрнехильо был профессиональным военным, а какой командор, коннетабль и маршал не мечтает стать генералиссимусом?
А католики, те из них, разумеется, кто остался жив, разъехались кто куда. А Джованни остался в Кенигсберге и хотя почему-то «не прикрепился», как он сам говорил к местной фаланге ПКП — а ее деканом был патер Иннокентий, — все же занял должность регента в нашей церкви. И последнее тоже было в порядке вещей — братья из Конфедерации Паладинов всегда помогали друг другу, особенно в делах, касающихся замещения должностей, где работы было поменьше, а заработок был постоянным — не обязательно большим, но постоянным.
А разве регент церковного хора — трудная или плохая должность? Тем более что Сперотто был музыкантом и понимал толк и в пении. А то сколько раз мне приходилось слышать, да и самому неоднократно становиться свидетелем, как в Италии и других странах, где католики стояли у власти, братья из Конфедерации Паладинов занимали любые должности — сапожник мог стать Ректором семинарии, богомаз — командовать муниципальной гвардией, комедиант — следить за работой кораблестроительной верфи, а дьячок-занимать должность посла в каком-нибудь иноземном герцогстве или даже королевстве.
Грамотный же богослов или доктор любого из семи изящных искусств, ежели бывал признан диссидентом и не попадал в тюрьму из-за совсем малой вины или по недоказанности обвинения, навсегда прощался со своим любимым делом — будь он хоть второй Фома Аквинский или Беда Достопочтенный — и был обречен на вечные скитания и черные сухари. Хорошо еще, если его не высылали куда-нибудь в Парагвай или на Сицилию, а позволяли остаться в Риме — тогда участь его все равно была предрешена, он превращался в подмастерье и чаще всего шел или в трубочисты, истопники или в ночные сторожа, стоя с алебардой возле какого-нибудь купеческого лабаза.
Размышляя над этим, я заметил, что разоблаченные диссиденты любили больше всего именно эти три занятия — трубочистов, истопников и ночных сторожей. Особенно сторожей, потому что ночью они могли спокойно обо всем размышлять или, еще лучше, присев возле лабаза на скамью, а то и лежащее рядом бревно, заниматься переводами на итальянский с других языков.
Им, правда, это было запрещено, и издатели не давали им такой работы, но хитрые бестии-диссиденты договаривались со своими, тайно сочувствующими им приятелями, и те выдавали их работу за свою, а полученные деньги отдавали высокоученым филологам-алебардщикам и философам-истопникам.
Однако я сильно ушел в сторону от описываемых событий кануна Второй Великой Религиозной войны.
Еще шла война в Испании, а Зигфрид Берксерьер напал на Австрию, присоединил ее к своим владениям и вслед затем захватил Богемию.
Папа Василиск, прежде предававший Зигфрида анафеме по два раза в год, приутих и вроде бы стал интересоваться тем, что из себя представляет этот выродок.
И вдруг однажды весь мир ахнул — папа Василиск и Зигфрид Берксерьер протянули друг другу руку дружбы и подписали «Конкордат о любви, дружбе и вечной сердечной привязанности, а также о братстве по оружию и совместной ненависти ко всем другим странам».
Братья из III Вселенской Католической Лиги сначала растерялись, но так как в главе V пункте 3 их Программы было записано, что каждый католик «имеет в Италии свое единственное отечество, важнейший оплот своих завоеваний и главнейший фактор своего международного освобождения», то, следовательно, они были должны считать Зигфрида другом, ибо отсюда следовало, что и Зигфрид Берксерьер является их союзником, так как теперь он — лучший друг и брат папы Василиска. И члены III ВКЛ подчинились и стали искренними друзьями Бранденбургского маркграфа, которого вчера они считали безбожным узурпатором и сыном Сатаны.
А между тем Кенигсберг оказался совсем рядом с теми землями, нападением на которые началась Вторая Великая Религиозная война.
В тот самый день, когда она началась, мощные двухпалубные галеасы Зигфрида Берксерьера внезапно ворвались в бухту соседнего с нами морского города Данцига и, выбросив большой десант, поддержанный огнем с кораблей, захватили его. Данциг тогда принадлежал польскому королю, и тот тут же послал войска на помощь городу. Как только главные силы поляков ушли под стены Данцига, ландскнехты Одержимого нанесли удар по коронным землям Польши.
Последнее действие Берксерьера переполнило чашу терпения королей Франции и Соединенного Королевства Великобритании, и они объявили Брандебургскому безумцу войну, но объявить-то объявили, а нападать на владения Зигфрида вроде бы даже и не собирались. Скорее всего, думали, что он напугается одних их слов о войне и тут же уведет своих «Черных ландскнехтов» обратно в Берлин. Но он был не из трусливых. И когда войска Берксерьера победным маршем шли к столице Польши, в спину полякам вдруг ударили союзные Бранденбургу восточные варвары — Московиты.
Этого не ожидал никто. Не только польский король, но и ни один другой христианский государь. Даже, как говорили у нас в Кенигсберге, прусский король, узнав о нападении Московитов на соседнюю Польшу, изволил произнести короткую и энергичную фразу: «Ну и хитер, сукин сын! Ну и хитер! А все же хорош! Клянусь преисподней, хорош!»
Из чего все мы сразу же поняли, что симпатии нашего короля на стороне Зигфрида.
Однако так как Московиты в прошлом часто трепали пруссаков, его величество благоразумно не ввязался в конфликт, решив быть от огня подальше.
А надобно вам сказать, мои любезные и благочестивые читатели, что Московией тогда правил очередной татарский хан по имени Тенгиз-Булат[43]. О нем говорили, что он превзошел жестокостью, коварством и воинственностью Атиллу, Тамерлана и Чингиз-хана, вместе взятых.
Знаменитый астролог Нострадамус предрек его появление, написав: «И придет с Востока зверь. И будет имя у него дважды звериное». Астрологи-толкователи объяснили это так: «Тенгиз — первое его имя, дано ему в честь Чингиза, а второе его имя — Булат, дано в честь Тамерлана, ибо известно, что имя Тамерлан означает „Железный хромец“».
Тенгиз-Булат хромым не был, но говорили, что одна его рука еще в детстве высохла.
Зигфрид завоевал почти всю Польшу, отдав ее восточную часть Тенгиз-Булату. Кроме того, он пообещал отдать татарину еще и Великое княжество Литовское, которое издавна было в унии с Польшей, а заодно и три соседних княжества — Курляндию, Лифляндию и Эстляндию. Но мы тогда этого не знали, так как сговор Тенгиз-Булата с Берксерьером, подписанный ими не то в старой столице Татарии городе Сарае на реке Итиль, не то в новой Ставке в городе Москау, на реке того же названия, был доведен до папского нунция в Берлине лишь на одну четверть, в которой говорились только общие слова — о любви и дружбе, а три четверти сговора оставались в секрете, и никто не знал, что Бранденбургский маркграф отдал татарину христианские земли Курляндии, Лифляндии и Эстляндии.
И мы, хотя и жили в страхе, но война непосредственно нас пока не касалась: «Черные ландскнехты» и тумены Тенгиз-Булата громили Польшу, а наш трусливый король боялся не только помочь полякам, но и даже не пускал их беженцев на свои земли.
И все же война была рядом с нами, и таким образом мы, в Пруссии, оказались как бы меж двух огней — с востока на нас нацелились ятаганы воинов Тенгиз-Булата, а с юга и запада стояли лагерями головорезы Зигфрида Берксерьера.
Однако Одержимый не ограничился тем, что присоединил к Бранденбургу Польшу. Вслед за тем он разгромил драбантов королевства Нидерландов, Фландрии, Великого Герцогства Люксембург, Брабанта и ворвался во владения французского короля — Эльзас и Бургундию, а через месяц после начала похода вышел к Парижу, а перед тем побил и британцев, которые стали наконец помогать бургундцам и эльзасцам, и заодно с ними побил и войска французского короля и последние отряды драбантов из Фландрии. Фельдмаршалы Одержимого неожиданно появились перед ними и окружили их. Закованные в латы кавалергарды, драгуны и конные гренадеры согнали в кучу волонтеров союзников, прижали их к береговым дюнам — место сражения из-за этого и называлось Дюн-Керк, — и союзники хотя и бились отчаянно, но вынуждены были сесть в лодки и отправиться восвояси — за море, во владения Английского короля.
А надо сказать, что волонтеров было много, а кораблей — совсем мало. И союзники воспользовались помощью местных рыбаков, и эти добрые люди дали им свои шхуны, карбасы и простые лодки, и на них союзные волонтеры под парусами и на веслах отправились через пролив Ла-Манш в гавань Дувр, что находится на южном берегу Англии.
И вот здесь-то Берксерьер проявил такое коварство и такую дьявольскую хитрость, равной которой не было никогда в истории войн.
Он сделал вид, что у него нет кораблей, чтобы преследовать беглецов в море, и демонстративно повернул все свои войска от Дюн-Керка на юго-запад, к Парижу.
А вместе с тем несколько рыбацких шхун под флагами Фландрии, Франции и Англии пристроились к уходившей флотилии союзников и плыли вместе с ними к Дувру.
Однако никто не знал, что в каждой из этих шхун, начиненных порохом и горючей смесью, команды состояли из фанатиков-ассасинов, членов мухаммеданского «Ордена Неоисмаилитов-низаритов». В этот Орден набирали мальчиков, и вместе с молоком давали им всякие наркотики[44] — гашиш, опиум, анашу и прочие снадобья, от которых они некоторое время жили как бы во сне.
Однако когда им не давали наркотиков, то жизнь их была аскетичной, и суровой — их плохо кормили, почти не давали спать, заставляли все время тяжко работать и подолгу молиться Аллаху. И не только не давали наркотики, но и за малейшее ослушание сажали на цепь и били палками. А высшей наградой за беспрекословное послушание была для ассасина хорошая доза гашиша или анаши. И, накурившись этой мерзости, они видели сладкие сны, а проснувшись, вновь оказывались в суровой действительности. Когда ассасины становились юношами, они превращались в религиозных фанатиков и неизлечимых наркоманов. И тогда их приводили в прекрасный сад, где было много фруктов, певчих птиц, ярких цветов, прелестнейших молодых женщин, и оставляли на неделю, удовлетворяя все их желания. А потом опять усыпляли наркотиками и спящих приносили в замок Аламут, где они жили как затворники все годы, пока не попадали в сад удовольствий. И проснувшись в замке-тюрьме Аламут, юноши спрашивали своих наставников: «Скажите мне, о мудрейший из наставников, где я был и что со мной было, и буду ли я снова там, где я был?»
И наставник, впервые в жизни обращаясь к юноше ласково, говорил: «О, сын мой, истинно говорю тебе — ты был в Раю. И если захочешь, то снова будешь там, и уже навечно». И юноша спрашивал: «Что должен я сделать, о мудрейший из наставников, чтобы снова оказаться в Раю?» И наставник протягивал ему остро отточенный кинжал и говорил: «Иди в Багдад, или в Каир, или в любой другой город, где жил неугодный ассасинам противник, и убей того, кого я тебе укажу». И называл имя. И объяснял дальше шестнадцатилетнему наркоману-фанатику, к тому же обманутому столь тонко и хитро, что если даже его после того, как он убьет названного ему человека и самого убьют самым жестоким образом — изжарят живьем и скормят голодным свиньям, — а что может быть мучительней и позорней для мухаммеданина? — то после этих в общем-то непродолжительных мучений он сразу же попадет в Рай и теперь уж навечно.
…Юные ассасины верили во все сказанное непоколебимо. И когда после того как они выполняли свое секретное спецзадание — теракт или еще что-либо подобное — поджог дома или отравление воды в бассейне султанского сераля[45], отчего враз умирало несколько жен владыки и их после этого жарили на медленном огне, то они радостно хохотали, ибо знали, что их ждет дальше.
Все, наблюдавшие казнь, осуждающе покачивали головами и, приставив указательный палец левой или правой руки к собственному виску, чуть-чуть вращали его[46]. Ассасин, если видел это, хохотал еще сильнее, ибо их всех почитал сумасшедшими, а себя самым из них разумным и счастливым, ибо их еще много лет ждало жалкое прозябание, а он через два-три часа после этой довольно болезненной процедуры оказывался там, где им, скорее всего, вообще никогда не бывать. И потому умирал счастливым, как всякий человек, который, прожив невыносимую, ужасную жизнь, умирая, верит в то, что его ждет Царствие Небесное[47].
(Мне рассказывали, что в Московии, в Китае, в других диких странах Азии язычники, умирая, радуются не только за себя, веря, что непременно попадут в Рай, ибо их жизнь в этих странах много лет подобна жизни в Аду, но радуются и за своих оставшихся в живых родственников — особенно детей, внуков и правнуков, так как твердо верят, что они будут жить в Земном Раю, ибо их владыки каждый день говорят им: «Подождите еще немного, поголодайте и поработайте еще пять лет — непонятно мне, почему именно пять? — и мы закончим, наконец, создание Земного Рая». Говорят, что они создают свой Рай скоро уже 80 лет, но пока ничего еще не добились. Однако же я снова отвлекся.)
Итак, вернемся к флотилии союзников, уходящей от Дюн-Керка в Дувр, и к коварным ассасинам, которых агенты Берксерьера купили за миллион золотых талеров, отобранных прозелитами Зигфрида у изгнанных из Бранденбурга иудеев-банкиров и лавочников.
На сей раз у ассасинов было задание — войти среди рыбацких судов союзников в гавань Дувра, вплотную подойти к стоявшим там на стоянке британским военным кораблям и взорвать свои брандеры[48].
Следует добавить, что в Дувре было две гавани — купеческая и военная. И флотилия союзников вошла и в ту и в другую гавань, ибо бедствие, постигшее союзников под Дюн-Керком, было громадным, а появление настолько неожиданным, что командование военно-морской базы тут же открыло проходы в боковых, сетевых и комбинированных заграждениях[49], и флотилия беспрепятственно вошла в обе гавани.
Военно-морская гавань в Дувре называлась Дувр-Харбор и была главной базой Королевских военно-морских сил Соединенного Королевства. В базе стояло 8 трехпалубных линейных кораблей, 8 фрегатов, 29 каравелл и 44 галеры.
Ассасины ввели свои брандеры и в самую гущу британского флота, скопившегося в Дувр-Харборе, и, встав еще и с трех сторон, одновременно подожгли свои, корабли.
Мало кто из британских моряков сумел выйти в море и погасить пожар. Погибло и много кораблей, и более трех тысяч моряков.
И здесь я снова чуть-чуть отвлекусь, чтобы читатель кое-что узнал об удивительных нравах, царивших в Соединенном Королевстве.
Случилось, что в тот же самый день, когда с Королевским флотом произошло это страшное несчастье, в Лондоне в одной цирюльне подправлял баки самый известный в стране театральный фигляр, которого боготворила публика и считала величайшим артистом всех времен. Баки фигляра, которого звали Шарль Спенсер Каплер — разумеется, он был крещеным иудеем англичанином, — были его гордостью, и ими-то он и прославился.
Шарль Каплер был иудей и богач, но, вопреки всему этому, был щедр и склонен к добрым делам, хотя часто богачей и иудеев несправедливо всех подряд обвиняют в скаредности. Он сел в кресло, и прежде чем цирюльник взял бритву, чтоб начать брить артисту щеки, Шарль Каплер налил ему фужер[50] рому[51]. А второй фужер рому выпил сам и тут же заснул. А когда проснулся, то увидел в зеркале, что опьяневший цирюльник, вместо того чтобы ограничиться бритьем щек, начисто снес бритвой его знаменитые на всю Европу бакенбарды.
«Что ж за диво, — спросите вы, любезный читатель, — что пьяный брадобрей сбрил бакенбарды, когда его о том не просили? И какое все это имеет отношение морской катастрофе в бухте Дувр-Харбор?»
Верно, отвечу я вам, вроде бы никакого. Да только вы, любезный читатель, видать, забыли, что я предварил этот рассказ уведомлением, что речь в нем пойдет об удивительных нравах, царивших тогда в Соединенном Королевстве.
Так вот, извольте. Когда лондонские распространители ежедневных новостей узнали о трагедии в Дувр-Харборе и об истории с Шарлем Каплером и его знаменитыми баками, то в своих листках сначала поместили историю, произошедшую в цирюльне, а уж потом о пожаре в порту и гибели Королевского Британского флота.
Читатель может мне не поверить, ибо это невероятно, но тем не менее я знаю наверное, что все было именно так, как здесь написано, потому что мне самому довелось держать в руках и читать один из таких листков.
А в то время как тонули и горели британские корабли, «Черные ландскнехты» ворвались в Париж и взяли его. Король бежал, и только один храбрец — адмирал Шарль де Коломб из старинного знатного рода маркизов де Дез и виконтов де Эглиз — увел из Тулона в Танжер свою эскадру и не покорился захватчикам.
А в то же самое время, когда фельдмаршалы Бесноватого шли от Дюн-Керка к Парижу, боевые слоны и кочевые тумены Тенгиз-Булата, выполняя секретные условия договора с Берксерьером, почти одновременно ворвались в Лифляндию, Курляндию, Эстляндию и Великое Княжество Литовское.
Вот здесь-то мы перепугались не на шутку — от Литвы нас отделяла лишь река Неман, и переплыть ее на кожаных бурдюках, наполненных воздухом, татары и московиты могли за один день. Сначала в пограничном Тильзите, а потом в Инстербурге и Кенигсберге появились беженцы из Литвы и восточных Прибалтийских земель.
Хитрый Тенгиз-Булат не стал сначала действовать подобно Чингис-хану и Тамерлану, в честь которых он был назван, а использовал, по-видимому, тайные рекомендации своих берлинских друзей, за год перед тем организовавших и проведших «Свободные всенародные референдумы» о добровольном присоединении Судетской области, принадлежавшей королю Богемии и Моравии к Бранденбургу.
Пользуясь свежим опытом своих новых друзей, Тенгиз-Булат умело и успешно провел в захваченных землях подобные «свободные референдумы». (Даже само латинское слово «референдум», означающее «всенародное голосование», не могло быть известно ни татарам, ни московитам, у которых ничего подобного никогда не было, и все решалось волей их царей и ханов, и потому ясно, кто присоветовал Тенгиз-Булату учинить комедию «Референдума» в его новых владениях[52]).
Добровольные всенародные референдумы удались на славу — везде все прошло по задуманному плану, и насмерть перепуганные новые подданные, боясь за свою жизнь и жизнь своих детей, сначала вышли на улицы своих городов с бунчуками, бубнами и прочими татарскими атрибутами, неся по европейской традиции портреты Тенгиз-Булата и его темников («темниками» назывались у татар командующие конными легионами, из десяти тысяч всадников каждый), а после таких «карнавалов» со слезами на глазах отправили в ханскую ставку своих представителей с богатыми подарками и «добровольно» вошли в состав Золотой Орды, в которой уже томилось более ста племен и народов, покоренных Тенгиз-Булатом от Немана до Тихого океана и от вечно покрытого льдом Гиперборейского моря до Индии и Китая.
Беженцы, оказавшиеся за Неманом, а их было немного, так как татарская пограничная стража сразу же поставила на восточном берегу Немана цепь застав и пустила вдоль реки сотни дозорных конных лучников, рассказывали о начавшихся грабежах и облавах, арестах и похищениях и протестантов и католиков.
И потому мы, в Кенигсберге, жили больше тем, что происходило рядом, чем далекими от нас сражениями под Дюн-Керком и под Парижем.
И все же падение Парижа произвело на всех жителей города, и особенно на нашего трусливого монарха, сильное впечатление, и он стал выказывать всяческие знаки внимания Зигфриду Берксерьеру и, формально сохраняя нейтралитет, явно держал его руку и даже устроил в своей «нейтральной» столице праздничный бал у себя в замке, учинил грандиозный фейерверк для горожан и послал депешу в Берлин, поздравляя Берксерьера со взятием Парижа.
Василиск Великий тоже сердечно поздравил нового друга, который между тем задумал коварный план нападения на Италию. В то время когда друзья Берксерьера радовались его успехам, фельдмаршалы Одержимого скрытно подвели свои войска к северным границам Италии и спрятали их в горах и лесах неподалеку от Венеции, Ломбар-дии, Савойи и Пьемонта.
А доверчивый папа Василиск в это время сажал цветы у себя на загородной вилле «Василисковская» и слушал пение соловьев.
И вдруг, ровно через год после падения Парижа, «Черные ландскнехты» «неожиданно и вероломно», как сказал папа, ворвались в Италию.
А надобно к этому добавить, что папа Василиск хотя и был как все папы Римским епископом, но светская власть его распространялась на всю Италию, и он чувствовал себя господином на всей ее территории, от Сицилии до Альп.
Злобные протестантские «богословы», как говорил Василиск Великий, «не знающие, где — право, а где — лево», придумали для оскорбления папы глупый термин «цезаре-папизм», уверяя, что в Италии папа Василиск — да и до него папа Илия — объединили в одном лице власть папы и Цезаря. А ведь известно, что только Византийские императоры, да и то не все, а только Юстиниан I и Мануил I, хотели было объединить в своем лице и императоров и первосвященников, но не до конца в этом преуспели. Да и было-то это — в первый раз в VI веке по Рождеству, а последний раз в XII веке — о чем и говорить-то было.
И еще — в слепой ненависти обзывали его «Теократом», будто папа уподобился иудейскому Первосвященнику или мухаммеданскому Халифу, которые были первыми и в светской, и в религиозной жизни.
Истинно сказано: «Любовь — слепа и ненависть — слепа». А все дело было в том, что у Василиска Великого была необычайная сила авторитета и отсюда проистекал невиданный авторитет его власти.
Но вернемся к описанию дальнейших событий. Узнав о внезапном и вероломном вторжении ландскнехтов Берксерьера на землю Италии, папа Василиск целые десять суток не мог прийти в себя от такого низкого коварства.
Зигфрид был единственным человеком, которому он поверил, которого зауважал и даже полюбил, ибо чем объяснить иначе даже такую сентиментальную деталь: он. Василиск, обменялся к Берксерьером портретами, и, как ему доносили, Зигфрид часто смотрел на парсуну[53] папы, будто пытаясь прочитать его мысли, а Василиск тоже иногда пристально всматривался в лик друга, надеясь, в свою очередь, угадать его великие замыслы?
И вот все рухнуло — боевые слоны, конница и пехота Берксерьера несокрушимой лавиной шли на Рим.
Василиск каждую ночь ходил в Пантеон к гробнице Святого Илии и вопрошал его, но тот не подымался из гроба и лежал недвижно. И тогда папа тайно велел увезти мощи Илии из Рима. И не мстительная злоба двигала им, а желание спасти национальную святыню Италии, ибо если бы Берксерьер оказался здесь, то мощи были бы поруганы, а Пантеон взорван.
И лишь через десять дней после того, как «Черные ландскнехты» перешли рубежи Италии, папа Василиск, не дожидаясь, пока Берксерьер, подобно Ганнибалу, окажется у ворот Рима, велел разослать повсюду Окружное папское послание, в коем объявил Крестовый поход против «черной смерти», как образно сравнил он напавших с чумой, ибо именно ее и называли тогда «черной смертью». Папа переменил тиару на шлем и. оставив посох, опоясался мечом. В таком сверкающем облачении не пастыря, но воина Василиск как Архистратиг Михаил взошел на балкон Римского Пантеона, где еще совсем недавно лежали в хрустальном саркофаге нетленные мощи Илии Святого, и поклялся перед многотысячной толпой, запрудившей площадь Святого Петра, что не опустит меч в ножны, пока не привезет Бесноватого — так он назвал Зигфрида Берксерьера — в железной клетке в Рим и не сожжет его на этой площади на медленном огне. С балкона Пантеона он призвал всех своих братьев и сестер, соотечественников и соотечественниц, на священную войну против «черной смерти», принял парад папской гвардии, велел вооружить всех итальянцев вилами, цепами и дубинами и спасать Отечество.
И еще Василиск сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой борьбе образ наших великих предков Сципиона Африканского — младшего, Гая Мария, Луция Корнелия Суллы, Гнея Помпея, Гая Юлия Цезаря. Пусть осеняет вас в этой войне Хоругвь Святого Илии!»
Вскоре после этого Василиск учредил военные награды, названные именами этих полководцев, и велел открыть кадетские училища имени Цезаря для мальчиков-паулинцев. Там учились дети и внуки ветеранов и гордо называли себя «цезарианцами». Папу ничуть не смущало, что Цезарь был язычником.
Закончив речь, папа вернулся в покои и, как рассказывал мне потом уже в Риме один знающий человек, сразу же снял шлем, отстегнул боевую перевязь и все это вместе с мечом засунул под кровать. Затем он велел позвать к себе своего любимца и друга, сотрапезника и собутыльника, друга и земляка кардинала Лауренцио, некогда бывшего викарием на Корсике, а теперь кардинала и Генерального магистра Ордена Грозы, Пламени и Урагана (ОГПУ).
Папа велел принести из кухни всегда стоявшие наготове дежурные корсиканские народные блюда — сациви, шашлык, лобио, а из погреба корсиканское же вино трех сортов — «Твиши» урожая 1537 года, «Хинцмареули» — 1541-го и «Хванчкару» — 1553-го. И Василиск и Лауренцио оба были корсиканцами, а какой настоящий взрослый мужчина-корсиканец не понимает толк в винах?
И они, налив «Хванчкару» в простые глиняные кружки, молча поглядели друг другу в глаза и понимающе, чуть-чуть кивнув один другому, также молча выпили — за победу над Бесноватым.
А потом Лауренцио спросил папу по-корсикански — когда они встречались, то всегда говорили на их родном корсиканском языке:
— А что, Васо, — так запросто, без затей, называл папу Лауренцио, когда они оставались одни, — ты и в самом деле поведешь войска на север?[54]
— Я здесь нужнее, брат Лауренцио, — ответил Василиск.
— Правильно, — согласился Лауренцио, — ты воооще-то нужен везде, но здесь — нужнее всего.
Они выпили еще раз — за здоровье папы, и Лауренцио спросил:
— А кому, ты думаешь, можно доверить командование нашей армией?
— Никому, Лауренцио. Никому, брат, доверять нельзя. — И увидев вдруг промелькнувшую в глазах друга обиду, тут же все понял. И сказал с теплой проникновенностью:
— Тебя, брат, я не имел в виду. Тебе я верю. Но ты ведь мастер в своем деле, а здесь нужен не ты.
— А кто же все-таки? Скажи, если действительно веришь, брат Васо.
— Верю и потому скажу. Генералиссимусом всех моих войск буду я сам, а вот коннетаблей, коммодоров, колонелей и капитанов и отбирать и проверять будешь ты, брат Лауренцио.
— Правильно, — согласился Лауренцио, — но, скажи, Васо, как понимать тебя, если ты только что сказал, что не пойдешь на север, а останешься здесь, в Ватикане? Ведь полководец всегда находится при армии.
Василиск с печальной улыбкой поглядел на своего друга и собутыльника.
— Ты, Лауренцио, действительно мастер своего дела — этого у тебя не отнимешь, но диалектик ты никакой. Слабый ты диалектик, Лауренцио. Не обижайся, брат, как друг тебе говорю, — слабый.
Лауренцио молчал, не понимая, куда клонит папа и что из всего этого последует.
— Есть католицизм догматический, — сказал Василиск, — а есть католицизм творческий. Я стою на почве последнего. А теперь скажи мне, Лауренцио, где, когда какой Иисус, какой из апостолов или кто-либо из равноапостольных, я имею в виду Карлу, Ангела и Илию, говорил, что полководец обязательно должен быть при армии?
Папа, судя по всему, очень довольный произнесенной им тирадой, налил себе в кружку вина, затем сказал с дружеской улыбкой:
— Налей и ты себе, говенный диалектик, Лауренцио, опустив глаза и проглотив обиду, трясущейся рукой налил себе из другой бутылки.
— За твое здоровье, Васо. Как брат скажу брату — нет мудрее тебя. Великий. За то пью еще, чтоб, сидя здесь в Ватикане и не подвергая свою драгоценную жизнь опасности, снискал бы ты себе, Васо, славу доблестнейшего и храбрейшего полководца в истории всех времен и народов.
Папа сощурил глаза и улыбнулся — это значило, что он доволен.
— Твое здоровье, брат Лауренцио, а командующими я назначу сразу троих вице-генералиссимусов — Климента, двух Симеонов, ну, да ты знаешь, о ком я говорю. А всеми ими командовать буду я, посылая к ним гонцов с моими предписаниями и распоряжениями.
— Правильно, — сказал Лауренцио, — ты — гений. А сам подумал: «Если эти старые безмозглые тюфяки продуют сражение Берксерьеру, — а он точно намылит им холку, — то Василиск велит повесить их как трусов и изменников, а если кривая вывезет — все-таки войск у его коннетаблей намного больше, чем у Бесноватого, — то победу наш Великий и мудрый, конечно, припишет себе. Не он ли слал им правильные и мудрые приказы?» И сказал, как мог проникновеннее:
— Еще раз за твое здоровье. Генералиссимус из Генералиссимусов!
И папа, встав, подошел к Лауренцио и молча обнял его, а потом скупо по-мужски — поцеловал в пухлую, тщательно выбритую щеку, пахнущую тройным королевским о’де Колоном…
Как умный Лауренцио и предполагал. Бесноватый обломал рога и Клименту, и обоим Симеонам. Старые коннетабли, оставив Савойю, Пьемонт, Ломбардию и Венецию за считанные дни, отступили к Модене, Парме и Романье, а Климента упятили аж до самой Тосканы.
Василиск по десять раз в сутки подходил к большой карте Италии и видел, что фельдмаршалы Бесноватого вот-вот ворвутся в Папскую область, а там — Ганнибал у ворот!
«Ошибиться я не мог, — думал Василиск, — только потому, что я никогда не ошибаюсь. И Лауренцио говорил — правильно, а ведь хоть я и назвал его говенным диалектиком, — у папы была прекрасная память, и он помнил все и свои, и особенно чужие слова, — Лауренцио все же очень неглупый человек».
И снова позвал друга.
— Послушай, что происходит, а? — резко и быстро спросил он Генерального Магистра. — Они там, что, всякую ответственность потеряли? Им не только пожизненной тюрьмой — костром и то не отделаться. Я их принародно с балкона Пантеона анафеме предам!
И папа засопел обиженно и, ссутулившись, подошел к карте.
— Я же им все время слал очень правильные, единственно верные указания, а они ни одно из них не выполнили. Я писал: «Ни шагу назад!» — а они бежали назад по сто шагов в минуту. Я писал: «Стоять насмерть!» — а они, какое там стоять! — лежали в канавах или в стогах сена и приказов моих не выполняли. Правильно я говорю, Лауренцио?
— Правильно, — ответил Лауренцио. И подтвердил: — Ты мне велел копии с этих приказов присылать, и я, когда их читал, то просто восхищался — какие, думаю, точные, краткие и мудрые приказы!
— Ну и что нам с ними делать, Лауренцио?
— Гнать их в шею, всех троих, вот что с ними делать.
— А как насчет костра и анафемы?
— Я бы повременил, Васо. Все же они не еретики. Идеологически все трое выдержаны. Тебя любят. Верные сыны ВКП(б). Я бы повременил. А сжечь мы их всегда успеем.
— А ты набрался возле меня ума, Лауренцио. Даже в диалектике Тебе не откажешь. А на их места мы новых коннетаблей поставим.
Лауренцио вопросительно поглядел на папу, и тот сказал:
— Вице-генералиссимуса Георгия и двух коннетаблей — Александра и Константина.
— Правильно, — сказал Лауренцио.
Эту историю, как я уже говорил, мне довелось слышать от одного старого служки из Канцелярии Лауренцио. Он рассказывал ее всем, кто оказался рядом, когда пришел в замок «Святого Ангела», где находились его служебные покои, после того как Василиск умер. И я верю в этот рассказ потому, что многие говорили мне, что после смерти Василиска Лауренцио никого и ничего не боялся, потому что сам рассчитывал стать папой.
Однако же вернемся в мое детство. Как писали потом одаренные барды, «детство, опаленное войной».
Мы сначала думали, что Берксерьер побьет папу, и жители Кенингсберга — немцы и одновременно ненавистники католиков — в открытую говорили, что Василиску капут[55].
Однако не тут-то было. Не из какого-то кислого теста был слеплен Василиск, а выкован из дамасской стали. И пока его войска дрались с «Черными ландскнехтами», он отправил своего легата, прозванного Вяще Славным[56], за море-окиян в Соединенное королевство Великобританское Английское, Шотландское и Ирландское — с предложением союза в войне с Берксерьером, ибо тот грозился и Великобританское королевство тоже повоевать и себе покорить.
И хитроумный легат улещил безбожных протестантов-англикан, которые уже второй год сражались с морскими пиратами Берксерьера. И англикане стали помогать папе морскими силами и пообещали через короткое время высадить десанты в Нормандии и где-либо еще, чтобы ударить на «Черных ландскнехтов» с другой стороны.
И решили англикане и легат папы Василиска подписать новый конкордат и назвать его «Союзом Сплоченных Народов» и пригласили туда всех независимо от веры — от китайцев до индейцев и негров из Африки входить в «Союз Сплоченных Народов», чтобы совместно побить Берксерьера.
А когда папа к тому же переменил коннетаблей, дела у католиков пошли лучше, а у Бесноватого намного хуже, и он начал медленно пятиться обратно, оставляя те земли, которые быстро захватил в начале войны. Чем дальше гнали войска папы «Черных ландскнехтов» Берксерьера, тем легче становилось нам, католикам, жить в нейтральной Пруссии.
Король уже по-другому относился к зарвавшемуся Бранденбургскому маркграфу и, как у нас говорили, произнес короткую и энергичную фразу: «Ну и прохвост, сукин сын! Ну и прохвост! Хорош он будет, когда коннетабли папы войдут в его вонючий Бранденбург!»
И если в начале войны на нас, католиков, протестанты косились, подозревая чуть ли не в каждом папского соглядатая, то вскоре после того, как коннетабли Георгий и Александр окружили в предгорьях Альп войска бранденбургского фельдмаршала Пауля-Фридриха и уничтожили всех его солдат до единого, к нам стали относиться куда дружелюбнее, и мы снова почувствовали себя гражданами нашего родного города.
* * *
В эту пору мне исполнилось двенадцать лет, и я уже не только знал наизусть почти все молитвы, но и без запинки мог читать Священное писание, чуть хуже разбираясь в Ветхом Завете — да и кто из епископов разбирается в нем досконально? — и совсем неплохо в Новом.
И вот как раз в это время наш добрый патер Иннокентий подозвал меня и, ласково положив руку мне на голову, — это он делал не часто, а лишь в знак особого расположения или перед серьезным разговором, — сказал тихо и доверительно:
— Я давно знаю тебя, Фома, любезный сын мой, внимательно и доброжелательно слежу за тобою и радуюсь, что у меня на глазах вырастает, подобно плодоносящей оливе, добрый и благонравный католик.
Я почтительно встал на одно колено и с благодарностью, переполнившей все мое существо, поцеловал патеру руку.
Добрый старик — ах, молодость! — патеру Иннокентию едва ли было тогда более сорока, но мне, двенадцатилетнему юнцу, он казался почтенным старцем.
— Ты недавно прошел конфирмацию, а кроме того, недурно знаешь латынь. Я думаю, что пришла пора, когда бы ты начал ходить на «Воскресные чтения», где собираются члены «Общества Любящих Христа».
Я снова встал на одно колено и еще раз поцеловал патеру руку и покорно склонил голову — это означало, что я согласен.
Почти каждый грамотный католик, знавший латынь, обязательно посещал «Воскресные чтения». Они проходили не обязательно по воскресеньям, а тогда, когда это было удобнее всего и патеру Иннокентию, проводившему их, и большинству слушателей.
Сразу же следует заметить, что на «Чтения», так мы для краткости называли их между собой, приходили только те, кто состоял в «Обществе Любящих Христа». (Для краткости мы, его члены, отбрасывали слово «Общество», а два других слова — «Любящие Христа» — заменяли аббревиатурой из двух первых слогов этих слов и получалось — «Люхри».[57])
«Люхрями» были католики, не состоявшие в другой — более серьезной организации, которая полностью называлась «Прусская Конфедерация Паладинов», куда входили самые лучшие, самые твердые и верные католики, готовые отдать свою жизнь за победу католицизма и в своей, отдельно взятой стране, и во всем мире. Девизом этой организации, как и других аналогичных ей Конфедераций Паладинов, были слова Святого Илии: «Конфедерация Паладинов есть божественный разум, благородство духа и незапятнанная невинность нашей эпохи». (Это относилось к любой из Конфедераций Паладинов, в какой бы стране конфедерация не существовала.)
И у нас, в Пруссии, тоже существовала одна из таких региональных организаций, о которой я только что написал, сокращенно — по первым буквам — называвшаяся ПКП. И в ней состояли самые ортодоксальные католики, готовые с радостью взойти на костер, лишь бы жила их великая Конфедерация. А «Люхри» были всего-навсего сочувствующими членами «Конфедерации Паладинов», которые между собою называли себя «Копалы», отбрасывая слова первое и последнее и беря только первые слога слов «Конфедерация Паладинов».
Вместе с тем в названии «Копалы», или иногда «Копальщики», был скрыт глубокий смысл: когда они собирались вместе на свои тайные собрания, чаще всего проходившие ночью в лесах или на кладбищах, то, забравшись в пустой склеп или глухую чащобу, они не начинали говорить о своих делах прежде, чем тихо-тихо, еле слышно не исполняли «Великий хорал», где рефреном четырежды повторялось одно и то же: «Весь мир мы прежде раскопаем, потом врагов всех закопаем».
Заключительные слова «Великого хорала» были более радостны и наполнены пафосом созидания, в них говорилось о том, что после того, как будет закопан в могилу последний враг, «Копальщики» начнут строить Новую Вселенную и предстанут в роли Новых Творцов, но уже не небесных, а земных.
Таким образом, они сравнивали сами себя с Пантократором и становились вровень с ним, и их «Великий хорал» представлял собою грандиозную Теургию[58].
И гордились тем, что им выпала на долю участь быть могильщиками проклятых язычников и они говорили:
«Католики — могильщики протестантизма». Из-за этой их непреклонной решимости весь мир закопать в общую братскую могилу, «Копальщиков» очень боялись, особенно после того как они захватили власть в Италии и объявили, что отсюда, из Третьего Рима — в этом была скрытая символика и нам ее растолковали в семинарии, а я раскрою смысл тирады в своем месте, «Копальщики» начнут последний Крестовый поход и победят язычников во что бы то ни стало. Кстати, в «Великом хорале» были и слова о том, что это есть последний и решительный бой «Копальщиков» со всем миром и что род людской воскреснет лишь с пением «Великого хорала».
А теперь вернемся назад. «Копалы» собирались на «Чтения» отдельно от «Люхрей» и глубоко изучали то, о чем нам рассказывали только самое необходимое, причем в очень доступной и понятной форме. Если уместным будет такое сравнение, то несмотря на то, что в общем-то нам читали об одном и том же, то все же «Люхри» были как бы школярами первого года обучения, а «Копалы» — студентами богословского факультета.
Что же мы изучали во время «Чтений»? Вы, любезные и благочестивые читатели, уже и названия этой книги не знаете, а для нас она была заключительной третьей частью Библии. Если прежде христиане знали только два Завета — Ветхий и Новый, то мы, католики времен Понтификата Василиска Великого, лучше первых двух должны были знать третий Завет — Новейший.
Его написал, как всем нам было известно, сам папа Василиск, но то ли из вечной его величайшей скромности, которая была одной из самых ярких черт его удивительного характера наряду с милосердием и прямодушием — он не велел ставить свое имя на обложке сочиненной им самим книги, а велел написать: «Под редакцией Конгрегации веры и одобрения Курии». И хотя все богословы мира тут же признали книгу «Новейшим Заветом», папа настоял, чтобы она носила непритязательное, бесхитростное название «Позднехристианская история» и в скобках — «Краткий катехизис».
Я потом расскажу о том, что в нем было написано, а прежде скажу только, что «Копальщикам» читали ее полный текст, а «Люхрям», как я уже говорил, упрощенный и сокращенный. И потому между собой «Люхри» называли книгу «Лапидус инноценс», что означало «Краткий курс для простодушных», в просторечии — «дураков».
Этот последний не принадлежал перу Василиска, и на его обложке не значилось ни участия в его создании Конгрегации веры, а тем более Курии. Книгу Василиска переложил для «Люхрей» некий новоявленный богослов Эмиль Хубельман — уроженец нашего же Кенигсбергского гетто, сын кантора местной синагоги Израэла Хубельмана, бежавший из своей общины и крестившийся в нашей церкви. Этот новообращенный католик сменил свое имя Минея на Эмиля и с успехом стал проповедовать идеи Василиска Великого и всего католического клира.
Должен заметить, что папа Илия, призывавший всех католиков мира к объединению для того, чтобы освободить мир от язычников, часто повторял слова Христа: «Для меня нет ни иудея, ни эллина», трактуя их так, что любой иноверец может стать католиком, отказавшись от веры, в которой он был рожден. И потому вокруг Илии собралось очень много выкрестов из иудеев и перекрещенцев из православных и протестантов и магометан и даже бывших конфуцианцев и буддистов из Китая и Индии. Однако особенно много оказалось возле Илии евреев, и Эмиль Хубельман был одним из них.
Справедливости ради следует заметить, что немало евреев стали и протестантами. Однако выбор конфессии определялся чаще всего личными пристрастиями, чертами характера и целями, которые каждый из них перед собой ставил. Если еврей жил в протестантской стране и хотел стать чиновником или членом магистрата или поступить в университет, то он выбирал господствующую здесь конфессию — протестантизм.
В католической стране, преследуя те же цели, другой еврей становился католиком. Если же происходило все наоборот, то, значит, еврей шел наперекор судьбе и, принимая католичество в протестантской стране, сразу же определенно заявлял о своих бунтарских намерениях, исключительной неординарности, далеко идущих замыслах и немалых претензиях. Конечно, это я понял не в то время, о котором пишу, а гораздо позже, но натолкнул меня на эти мысли Эмиль Хубельман — католический богослов из Кенигсбергского еврейского гетто.
Он не только стал ревностным проповедником идеи Василиска Великого, но и прямо-таки озверел, требуя повсеместного уничтожения синагог и православных церквей, мечетей и кумирен и призывая католиков поджигать и разрушать «эти бесовские капища», как он писал всюду, где это только станет возможным.
И, доказывая свое рвение, став католиком, он тут же вступил в ПКП и предложил патеру Иннокентию читать «Люхрям» свою книгу — «Краткий курс для простодушных».
Правда, Эмиль не успел переложить весь «Краткий катехизис» Василиска Великого, а пересказал лишь первую его часть. Тогда богословам, даже ортодоксальным — да честно сказать, других и не было, ибо каждый богослов старался превзойти всех прочих в сугубой ортодоксии, иначе легко мог попасть на костер, — всем без исключения жилось очень трудно. Прежде всего потому, что толковать Писание мог только папа, а остальные имели право аргументировать и комментировать то, что папа писал и говорил. И потому богословы относились к своему занятию со тщанием и великим страхом.
Поэтому аргументарии и комментаторы писали в день по одной — две фразы, обдумывая их, взвешивая, проверяя и перепроверяя и обязательно раз в неделю советуясь с выше их стоящими богословами. Те, читая, в свою очередь, очень ответственно со тщанием и великим страхом, прежде всего пытались отыскать неточность в цитате или, Господи, спаси и помилуй, какую-нибудь двусмысленность или то, что может показаться двусмысленностью. И если все оказывалось в порядке, разрешали писать дальше.
Из-за всего этого и Эмиль не мог писать поспешно, хотя у него получалось все быстрее многих других и из-за того, что он был трусоват, умен и помнил множество изречений Илии Святого и Василиска Великого, а именно на их энцикликах, проповедях и посланиях и строили свои сочинения все тогдашние ученые-богословы.
Так вот и Эмиль Хубельман не успел переложить всю «Позднехристианскую историю», а сумел лишь переложить и прокомментировать первую ее часть — от Воскресения Господня до появления на свет Богословов Карлы Трирского и Ангела Барменского и их совместных трудов, предпринятых равноапостольными во имя всемирного торжества кафолицизма, именно так — «кафолицизмом» предпочитали они именовать католицизм, видя в этом не просто некий изыск, но и понятный немногим посвященным глубокий смысл.
И вот наступил день, когда богослов Эмиль пришел к нам и мы сели на церковные скамьи, а он встал за кафедру и прежде всего спросил:
— Дети мои, у каждого ли из вас есть эта книга? — и чтоб все видели, высоко поднял над головой свое детище.
— Все! — дружно ответили мы. Однако наш наставник не поверил нам и, лукаво ухмыльнувшись, сказал:
— Я еще не знаю вас и многих вижу здесь впервые, поэтому покажите-ка мне книгу, «а для сего каждый, ее имеющий, да подымет оную над главою своей», как сказал святой Кириак, проповедовавший, подобно мне, грешному. Слово Божие.
По залу прошел робкий ропот обиды за проявленную Эмилем по отношению ко всем нам обидную подозрительность, и он, заметив это и услышав наш ропот, тут же улыбнулся, будто извинялся — он все хватал на лету, этот богослов-выкрест, — и тотчас же добавил:
— Как сказал Василиск Великий, «доверяй, но проверяй». И еще он сказал: «Здоровое недоверие — хорошая основа для дружной совместной работы». — Мы одобрительно переглянулись, заулыбались, сразу же сообразив, что перед нами высокообразованный богослов сыплет высказывания Василиска Великого, как из мешка, даром, что выкрест. А Эмиль поглядел на нас уже по-другому — строго и горделиво. И сказал:
— Подымите-ка книги, дети мои.
И мы все, как один, дружно вскинули книги, каждый над своей головой, а он внимательно и быстро окинул взором зал, умудрившись за считанные мгновения увидеть всех и каждому поглядеть в глаза.
— Ну, что ж, хорошо, — довольно проговорил Эмиль и снова ввернул изречение: — Как не раз указывал Василиск Великий — «Проверка исполнения основа церковной работы».
А мы-то сначала подумали, что он считает, будто у кого-нибудь из нас нет его «Лапидария»[59]. А могло ли быть иначе, когда его книги бесплатно раздавали на паперти и их имели даже неграмотные нищие, употреблявшие книгу Хубельмана для других нужд?[60]
— Сегодня я расскажу вам, — начал наш учитель по-немецки, — для чего нужна эта книга каждому католику и почему она появилась на свет именно тогда, когда появилась. А потом я буду читать ее вам с кафедры, глава за главой, а вы будете следить за моим чтением по своим книгам, — тут он чуть запнулся и поправился: — То есть я хотел сказать, по моей книге, которая будет лежать на коленях у каждого из вас или на пюпитре, что перед вами. Как только вы услышите непонятное слово или не поймете фразу, то в конце абзаца тот, кто чего-нибудь не понял, поднимет мою книгу, — тут Эмиль снова запнулся и поправился: — То есть я хотел сказать не мою, а вашу, ту, что у вас в руках, и я тут же объясню вам, что означает то или иное слово и какой смысл имеет та или иная фраза.
А время от времени там, где следует, я и сам буду отрываться от текста, переставать читать его вам и стану давать необходимые комментарии. И тогда вы запоминайте их, а еще лучше, ставьте галочку карандашами на полях в тех местах, где я буду делать паузы. Сегодня таких комментариев не будет, но уже на следующей лекции они окажутся необходимыми, и потому я прошу вас, дети мои, приходить в следующий раз с бумагой и карандашами.
И вдруг один из «Люхрей» поднял книгу над головой. Этот жест означал, что он хочет задать вопрос.
Это был один из трех мальчиков, с которым я учил латынь у патера Иннокентия. Его звали Иоганн Томан. С ним я сошелся особенно близко. Он нравился мне потому, что он был очень любознательным, много читал, многое помнил и любил похвастать этим. Вторым моим приятелем был Анатоль де Лисси, но сегодня его не было с нами. Впрочем, о нем речь будет впереди.
— О чем ты хочешь спросить, сын мой? — тут же заметив поднятую книгу, спросил наш наставник.
— Вы сказали, ваше преподобие, что мы должны записывать комментарии вашей милости на полях книги. Но не есть ли это малый грех?
— Твой вопрос меня радует, сын мой. Он свидетельствует о твоем внимании к моим словам и о благочестии. Моя книга — не Священное писание и не великое откровение Святого Василиска — да пребудет над ним милость Господня до конца его дней, — а всего лишь скромный пересказ, одобренный Римской Конгрегацией веры. Конгрегацией чистоты веры ВКЛ и куратором Святой Инквизиции.
Здесь «Люхри» замерли: «Вот он, оказывается, какого высокого полета орел, наш земляк Эмиль, даром, что выкрест. И в Риме он получил благословение, и в ВКЛ, и в Инквизиции. Да, поди, и сам Василиск полистал его сочинение. Недаром говорили, что Василиск ночи не проводит без книги и читает не меньше шестисот страниц в ночь (днем папа спал)».
А Эмиль меж тем проговорил, впервые блеснув эрудицией:
— В письме на полях книг нет никакого греха, дети мои, ни малого, ни большого. В этом, как говорим мы, богословы, существует освященная традиция. Идет она от Илии Святого, который часто, читая тот или иной трактат или чье-либо житие, а иногда даже и катехизис, писал карандашом на полях книги: «В», что означало «Bene», то есть «хорошо», или «NB», то есть «заметь хорошо» или другие слова.
И еще: я прошу вас, дети мои, не называйте меня «Ваше преподобие», или «отец наш», или «достопочтенный», или как-либо еще с подобными этим и другими добавлениями. Я — член ПКП и потому прошу называть меня просто «брат Эмиль», ибо нет титула ни светского, ни церковного выше простого слова «брат». Недаром и папу Илию Святого, и самого Василиска Великого, и всех членов Курии и Тайного Совета ВКЛ называют этим же великим словом «брат».
И еще скажу вам, дети мои, нет особенно большой разницы между теми, кто состоит в «Обществе Любящих Христа» и называет себя «Люхрями», и между теми, кто, будучи «Люхрей», приходит в ВКСМ — Всеобщий Католический Союз Молодых, и между теми, кто состоит в ВКП(б) или ПКП, ибо всех нас роднит одно — мы все католики и заноситься один перед другим есть грех гордыни. И этот грех Илия Святой назвал «Кончванство», что означает «Конфедеративное чванство» и осудил его со всей, присущей Илие Святому, решительностью. Да и как нам, смиренным слугам, братьям из ВКП(б) или ПКП, пылать надменностью, если мы все, старые борцы, вышли и сами из «Люхрей». Ведь Конфедерация Паладинов была не всегда, не Христос ее создал и не Апостолы, а Илия Святой и в общем-то не так уж давно — всего полвека назад. А перед тем были разрозненные, раскиданные по всей Италии маленькие группки «Любящих Христа», но еще не объединенных в Общество. И скромные проповедники создавали группки повсюду, где можно, и несли «Любящим Христа» Слово Божие. И они же — первые проповедники — придумали «Воскресные чтения» и каждое воскресенье ходили в свои группки.
Тут Эмиль на миг замолчал и вдруг сказал — тихо-тихо и скромно-скромно:
— И я, грешный, удостоился быть одним из них. — И, еще помолчав, добавил: — И сам Илия Святой вел занятия в группах «Люхрей», сначала в одном из городков на берегу По, где жили Самаритяне, и потому их городок назывался Самария[61], а потом он пришел в Турин и собрал возле себя лучших проповедников и стал среди них первым, но все равно ходил в группки «Люхрей». И там, на одном из «Воскресных чтений». Господь послал ему навстречу Святую непорочную сестру Бону Сперанцу, которая сама несла Слово Божие благочестивым «Люхрям», и Сперанца увидела и услышала Святого Илию и полюбила его всем сердцем и стала его ученицей и следовала за ним потом всю жизнь[62]. И многие другие из тех, кто встретил тогда Илию Святого, тоже пошли за ним и тоже стали верными учениками его.
Гордость переполнила мое сердце — я приобщался, хотя бы чуть-чуть, к великой Конфедерации Паладинов. Быстро поглядев на сидевших рядом «Люхрей», я заметил в глазах у многих из них радость, у молодых — нескрываемое высокомерие, а на глазах у одной из молоденьких «Люхрюшек» я заметил слезы восторженного умиления.
И тут, откашлявшись и выпив глоток воды, как и у «Копателей» на сходках, Эмиль поставил на кафедру глиняный жбан с водой и глиняную кружку, — «Копатели» всегда любили показывать и ненарочито подчеркивать свою простоту, скромность и аскетизм, — и, откашлявшись, проговорил:
— А теперь, дети мои, братья мои и сестры, перейдем на божественную латынь и во имя Отца и Сына и Святого Духа, я, смиренный клирик брат Эмиль, почтительнейше попрошу вас, призвав на помощь силы небесные, с трепетом и благочестием открыть первую страницу «Краткого пересказа позднехристианской истории» — посильное истолкование мною, недостойным сыном церкви, воистину, величайшего и бессмертного труда гениальнейшего богослова всех времен и народов Великого Понтифика Василиска Великого.
— Три раза в одной фразе он употребил слово «великий», — ехидно прошептал сидевший рядом со мной Иоганн Томан. А Эмиль, проговорив: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», раскрыл книгу. И мы тотчас же сделали то же самое и, вперив очи в первую страницу, прочли по-латыни:
«Для чего нужна эта книга каждому католику и почему она появилась именно тогда, когда она появилась…»
«Всякому христианину хорошо известно, что после того как тело Господа нашего Иисуса Христа было выдано Ученикам, они и обвили его плащаницей, оставшейся нетленной и еще ныне хранящейся в Туринском соборе Святого Джованни Батисты».
Здесь Эмиль замолчал, и, когда мы, оторвавшись от «Лапидария», поглядели на него, он сказал:
— Я и сам бывал там, дети мои, и видел чудесную и нетленную плащаницу. И дальше, когда по ходу чтения сочту я необходимым что-либо подтверждать тем, что я сам видел и слышал, или же стану рассказывать о событиях, в которых Господь сподобил меня участвовать, то не сочтите это за гордыню и суетное хвастовство, но примите единственно как желание донести до вас истинность всего, о чем стану говорить.
Жизнь моя — благодарение Господу! — оказалась не хуже других, и, хотя началась с великого несчастья, я оказался зачат и рожден иудеями — между прочим, здесь, в Кенигсберге, но свет христианской благодати снизошел на меня, и в двадцать лет я бежал из проклятого гетто, пробрался в Рим, принял там католичество и с тех пор верно служу церкви.
Когда я был еще совсем молодым, Господь ниспослал мне счастье встретить на дороге жизни Святого Илию, бывшего тогда всего-навсего малоизвестным каноником Илией. Я стал его учеником и приверженцем, чем горжусь более всего, и до конца его дней верно служил ему. А через четыре года после первой встречи со Святым Илией Господь послал мне счастье встретить и Василиска Великого, в те поры тоже скромного миссионера-проповедника, в котором я сразу же признал будущего князя Церкви, правда, не стану лгать, не думал тогда я, неразумный и лишенный дара предвидения, что он будет увенчан тиарой и станет главой Вселенской Церкви и Великим Понтификом, но не я один был таким, тогда — а это случилось на одном из Форумов в Сицилии — никто из нас, старых братьев ВКП(б), не смог бы предугадать этого.
Воистину неисповедимы пути Господни, и только Он может смотреть вперед и видеть то, что скрыто от глаз простых смертных. Однако и Святому Василиску я служу так же, как и его предшественнику, ибо и тот и другой воплощают в себе Церковь, а для католика нет ничего выше, чем звание сына Церкви и ее верного слуги. — Затем он произнес: — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — и мы снова опустили головы над первой страницей «Лапидария», и он продолжил чтение с того места, в котором прервался.
— Его положили во гроб, и, спрятав гроб в пещеру, завалили ее камнем. На третий день к пещере пришла Мария Магдалина и с нею две жены-мироносицы с тем, чтобы еще раз омыть тело Христа, но во гробе Его не было, а на краю гроба сидел ангел в образе юноши, облаченного в белые одежды, и сказал им, что Христос воскрес и Ученики Его увидят Его в Галилее.
И Он явился Ученикам, но те не сразу узнали Его, ибо Он представился им в ином образе. И они долго шли вместе с Ним по дороге в Эммаус, и Мария Магдалина думала, что с нею рядом идет не Иисус, а некий садовник, и тогда лишь догадались Ученики, кто с ними был, пока не исчез Он на глазах у них. Когда Ученики шли с Христом в Эмма-ус, то с ними не было апостола Фомы. И Фома не поверил им, что Христос был с ними, и сказал, что не верит этому, доколе сам не увидит Христа и не вложит персты свои в раны Его. И через несколько дней Христос пришел к Фоме, и тот уверовал, что перед ним Господь. Сказал Господь Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие».
И после этого Господь более не являлся, но послал ангелов, и те возвестили апостолам, что наступит время Его второго пришествия, а до того апостолы должны пойти по всему миру и проповедовать Его Учение. И на пятидесятый день после Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, когда они собрались все вместе в одном из домов Иерусалима, услышали они сильный шум, и над их головами появились огненные языки, и снизошел на них Дух Святой, и стали они говорить на всех языках и все понимать.
И они решили, что это ниспослано им для того, чтобы шли они по всему миру и несли Слово Божье всем народам и, чтобы каждый человек, слыша их и внимая им, мог бы стать христианином.
И они пошли По свету, и несли свет Божественного Учения, и все это каждый добрый католик знает из книги евангелиста апостола Луки «Деяния Апостолов».
И потом было написано много книг благочестивых и праведных, и их читают католики, но было изблевано также и много еретических писаний, особенно после появления на свет богомерзких выползней — Лютера, Кальвина, Цвингли, Меланхтона и им подобных, совративших с пути истинного миллионы христиан.
И вот, чтобы противостоять их лжи и баснословию о трудах и деяниях четырех равноапостольных мужей — двух осененных благодатью Великих Богословов — Карлы Трирского и Ангела Барменского, и двух Великих Понтификов — Илии Святого и Василиска Великого, — последний из названных мною и написал «Позднехристианскую историю (Краткий катехизис)» и из величайшей скромности не стал украшать обложку книги своим именем.
Истинно скажу вам, дети мои, что «Позднехристианская история» имеет не меньшее значение, чем Ветхий или Новый заветы. Она превосходит все, что вышло из-под пера человеческого, включая и «Деяния Апостолов», «Послания апостола Павла» и даже «Псалтырь». Эта книга справедливо может быть названа «Новейшим заветом», и потому крупнейшие богословы мира, как только она появилась, не без оснований сравнивали воистину богоравную, мудрейшую и величайшую книгу Василиска Великого и с «Посланием к Коринфянам», и с «Нагорной Проповедью», и с «Откровением Иоанна Богослова», и с «Экклезиастом», справедливо отмечая, что книга Василиска Великого не только равна любой из них, но имеет и несомненные преимущества перед ними, ибо она яснее Откровения Иоанна Богослова, часто называемого «Апокалипсисом», в котором, несмотря на его богооткровенность, есть много скрытого, много непонятного, а также и потому, что она написана языком более прекрасным, чем «Экклезиаст», до того считавшегося образцом ранней классической церковной стилистики.
В книге же Василиска Великого мудрость проповедей Христа сочетается с силой речи Иоанна Богослова и изяществом «Экклезиаста», но есть в ней и первозданная простота Учеников Христа — Луки, Марка, Матфея и Иоанна, оставивших нам четыре Евангелия.
Евангельская простота слога сделала книгу Василиска Великого любимым чтением простого честного труженика — ремесленника и пахаря, храброго ландскнехта и высокоученого богослова.
Вместе с тем за кажущейся простотой книги скрывается необычная глубина мысли, недоступная перу простого смертного и осиянная неземным светом богооткровения.
А я, ничтожный из смертных, удостоился великой чести и великого доверия, когда именно мне было указано переложить Новейший завет «Позднехристианскую историю» для всех «Любящих Христа» и сочувствующих великому всемирному католическому движению.
Таким образом, я ответил на первый вопрос: «Для чего нужна эта книга каждому католику?»
А теперь отвечу и на второй вопрос: «Почему эта книга появилась именно тогда, когда она появилась?»
Сказано в Писании: «Время собирать камни, и время камни разбрасывать». И вот оно наступило это время, и величайший богослов всех времен — живое воплощение Иоанна Богослова, коего, как вы знаете, усыновила Богородица, после конца земной жизни Сына ее, наконец, собрал камни. И эти тяжелые камни неотразимых противоеретических аргументов он обрушил на головы современных еретиков подобно небесному камнепаду, павшему по божьему соизволению на головы пяти царей Аморейских.
Кто же эти современные еретики? Это те, кто долго таился возле престола Василиска Мудрого и, ловко прикидываясь агнцами и горлицами, оказался хуже гиен, шакалов и ехидн.
Эта книга посвящена тому, как Василиск Великий распознал их и побил камнями, как побили камнями и сожгли нечестивого Ахана со всем его семейством в долине Ахор[63].
И написал он ее именно тогда, когда она была нужнее хлеба голодному, важнее воды в пустыне, желанней, чем здоровье для недужного, ибо в это время враги церкви попытались отобрать у нее хлеб и воду и напустить на нее порчу.
И Василиск Великий нанес всем им сокрушительный и молниеносный удар.
О том, как этот удар подготавливался, вы и узнаете в следующей главе книги.
Здесь Эмиль с шумом захлопнул книгу и сказал утомленным голосом:
— Вопросы есть?
Мы сидели ошарашенные и оглушенные — пустая трескотня и напыщенность, многословие и славословие не просто поразили, но буквально сокрушили нас. И, сидевший рядом со мною Иоганн Томан, быстрее всех сообразив, что нас ожидает на этих «Чтениях» в течение целого года, проговорил устало, но вместе с тем и с одновременной ласковой почтительностью в голосе:
— Все ясно, брат Эмиль, да воздаст вам Господь за ваши труды и усердие.
Эмиль благословил нас всех и, довольный, сошел с кафедры.
…Я пощажу тебя, любезный читатель, и не стану более описывать почти ничего из того, о чем рассказывал нам знаменитый богослов Хубельман, тем более что все это, но в более полном изложении, я еще раз услышал в семинарии и вот тогда-то и расскажу тебе обо всем по порядку, чтобы ты мог и попечалиться, и повеселиться вместе со мной, и посочувствовать мне, слушая квази- и псевдоученые лекции и беседы моих высокоумных наставников[64], страдающих от всего этого, как мне кажется, не меньше нас, семинаристов.
* * *
Несмотря на то что всякое слово Василиска Великого было священным и непререкаемым, и покушение на инотолкование его и даже перестановку параграфов в любой из его проповедей, не говоря уже о «Позднехристианской истории» Эмилю Хубельману было позволено начинать изучение великой книги с ее «Четвертой капители», которая называлась «О диалектическом и догматическом богословии» и считалась самой сложной во всей книге.
Излагая эту «Капитель», я постараюсь опустить излишнее суесловие Хубельмана и его славословия папе Василиску, а остановлюсь лишь на ее сути.
Знаменитая «Четвертая Капитель» начиналась с краткого изложения трактата Илии Святого «Три источника и три составных части католицизма». Источниками католицизма Илия вслед за отцами — участниками Константинопольского собора, собиравшегося в 381 году после Рождества Христова, объявлял Святую Троицу — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога — Духа Святого.
Этот догмат, что три источника католицизма, по сути дела, представляют собою единый неразделимый источник, следует принять на веру, ибо он непостижим для человеческого разума, как и сам догмат о Троице, как и тройственная сущность божественной ипостаси.
Мы, конечно, своим слабым человеческим разумом ничего этого не поняли, но на веру приняли, ибо и все остальное Учение очень часто надо было также принимать на веру. Эмиль говорил, что Учение — нерушимая стена, и если из этой стены вынуть хотя бы один кирпич, то диавол тут же влезет в эту дыру и будет расшатывать стену, и она в конце концов покроется трещинами и рухнет.
А что же будет со стеной, если мы уберем из-под нее фундамент, на котором она покоится, — Троицу?
И мы верили и в Троицу, и в божественные ипостаси, ровно ничего в этом не смысля.
Дальше шла речь о трех составных частях католицизма. Илия Святой писал, что это, во-первых, патристика, во-вторых, схоластика, и, в-третьих, апологетика.
После того как первые ученики Христа — Святые Апостолы — закончили свою земную жизнь, в лоне церкви возникла Патристика, то есть труды отцов церкви — Юстина, Афинагора, и особенно крупнейшего из всех патриотов Квинта Септилия Флоренса Тертуллиана — первого борца против афинских язычников и новоявленных еретиков и первого, кто был осенен великой мыслью о божественных ипостасях.
Затем появилась Схоластика. Одним из ее столпов был Ансельм Кентерберийский, объяснивший, как из ничего Бог сотворил Вселенную, как следует понимать единство и раздельность Святой Троицы, что такое бессмертие души, и, наконец, привел множество веских аргументов о существовании и бытии Бога.
Правда, следующий великий схоласт Фома Аквинский немного поправил Ансельма Кентерберийского и провозгласил принцип гармонии веры и разума, о чем написал в двух книгах «Сумма теологии» и «Сумма философии об истинности католической веры против язычников».
Третьей составной частью католицизма является Апологетика. Эмиль пояснил, что она представляла собою одну из главных и наиболее важных частей католицизма, но, будучи неотделима и от Патристики, и от Схоластики, вместе с тем представляет собою третью составную часть католицизма.
Апологетика зародилась вместе с Патристикой и до сих пор сожительствует со Схоластикой. Ее рыцари и паладины более всех прочих занимаются защитой чистоты веры от нападок язычников, иудеев, схизматиков-греков и вероотступников-протестантов. В широком смысле Апологетика будет существовать до тех пор, пока католицизм не станет религией всего мира, окончательно и бесповоротно победив все другие лжерелигии.
Эмиль назвал нам среди первых Апологетов Феофила и Оригена, Минуция Феликса и Феодорита Критского, а затем сказал, что к числу Апологетов может быть отнесен и Джованни Пико делла Мирандола — граф Моденский, ученейший муж своего времени. Он учился в университетах Болоньи, Феррары и Падуи и в молодости был не очень тверд в ортодоксии, почитая возможным выискивать что-то полезное в писаниях Аристотеля и даже мавра Аверроэса, ересь которого потом распространял профессор Парижского университета Сигер из Брабанта.
Пико делла Мирандола изучил десятки языков. Читал Ветхий завет на древнееврейском языке, а Коран — на арабском. Пытался проникнуть в глубину оккультных наук — каббалы[65] и обеих магий[66]. Двадцати трех лет, в 1486 году Пико обнародовал «900 тезисов», собрав их воедино из всех прочитанных им книг. Он хотел публично доказать их истинность, но смог защитить перед ученейшими богословами католической церкви всего лишь 887 — ничего себе, подумал я, ай да Эмиль! — «всего лишь», а 13 тезисов были признаны еретическими, и Пико посадили с тюрьму, но вскоре выпустили.
— Я почему рассказываю вам о Пико делла Мирандоле, — пояснил Эмиль, потому что, хотя среди Аргументариев, занимавшихся Апологетикой, не все были ортодоксами, но многие, впав в ересь, после увещеваний старших братьев и отцов-инквизиторов отказывались от постигших их заблуждений. Так случалось ни с одним Аргументарием. И тогда милосердная церковь и Святая Инквизиция прощали их, и они оставались жить. Впоследствии же случалось так, что, перечитывая сочинения этих подвергнутых суду Аргументариев, более поздние богословы находили в них много не только приемлемого, но и даже полезного для церкви.
Случилось это и с ученым наследством, оставшимся после смерти Пико дёлла Мирандолы. Он умер 31 года, но много написал, и среди написанного им есть и вполне ортодоксальные мысли и доказательства. Мы не можем принять его идеи о «примирении философов», ибо это ересь. Как мы можем примириться с иудеями, или мухаммеданами, не говоря уже о вероотступниках-протестантах, ибо идеологическое примирение для истинного католика не просто нонсенс, но и измена церкви. Но одна из идей Пико делла Мирандолы подкупает: это его бескорыстие в попытке познать истину.
И Эмиль начал читать медленно и торжественно, как читал всегда, когда та или иная цитата ему особенно нравилась и он хотел, чтобы мы ее лучше запомнили.
«Никто не исследует причины вещей, движение природы, устройство вселенной, замыслы бога, небесные и земные мистерии, если не может добиться какой-либо благодарности или получить какую-либо выгоду для себя. К сожалению, стало даже так, что учеными считают только тех, кто изучает науку за вознаграждение. Скромная Паллада, посланная к людям с дарами богов, освистывается, порицается, изгоняется, нет никого, кто любил бы ее, кто бы ей покровительствовал, разве что сама, продаваясь и извлекая жалкое вознаграждение за оскверненную девственность, принесет она добытые позором деньги в шкаф любимого.
И действительно, так как жизнь философов проходит в поисках денег или славы, то они даже для самих себя не размышляют над истиной».
Хубельман улыбнулся во весь рот и поднял вверх руку, чуть покачивая над головой указательным пальцем.
«Я не постыжусь похвалить себя за то, что никогда не занимался философией иначе, как из любви к философии, и ни в исследованиях, ни в размышлениях своих никогда не рассчитывал ни на какое вознаграждение или оплату, кроме как на формирование моей души и на понимание истины, к которой я страстно стремился». И, произнеся конец цитаты, не удержался и похвалил сам себя.
— А многие из тех, кто занимался изучением богословия до меня, делали свое дело прежде всего для того, чтобы добиться какой-либо благодарности или получить какую-либо личную выгоду. Но, скажу не хвалясь, Эмиль Хубельман не таков. Видит Бог, совсем не таков. Для меня важнее всего истина, а наибольшее счастье — служба ВКП(б) и Василиску Великому.
И как бы ни были умны, ловки, эрудированы и даже талантливы Аргументарии и Апологеты прошедших веков, знайте, что самыми блестящими Апологетами католицизма были Равноапостольные папы Карла, Ангел, Илия, а величайшим Апологетиком всех времен является ныне здравствующий Василиск Великий. То, что я передал вам, мои читатели, на полутора страницах, мы учили целый год, потому что на изучение одного Фомы Аквинского у нас ушло, кажется, месяца три. И потому, когда наступила весна, Эмиль сказал, что со следующей осени он продолжит занятия с нами и начнет их с первой главы своей книги.
Однако мне заниматься этой первой главой пришлось уже не здесь, а в Риме, в семинарии.
Весною того года, когда я расстался с Эмилем Хубельманом, Вторая Великая Религиозная война шла уже за границами Италии. «Черные ландскнехты» Зигфрида Бесноватого отступали через владения Габсбургов к Тиролю и Зальцбургу.
Повсюду, где стояли войска Бесноватого, начались восстания. В Польше, в Богемии, во Фландрии, в Бургундии и других, занятых Бесноватым княжествах толпы мужиков и отряды рыцарей избивали «Черных ландскнехтов», и те, медленно пятясь, отходили к Бранденбургу. И вот, когда войне еще не было видно конца, на нормандском берегу высадился огромный десант англйкан.
Почти одновременно с этим десантом в Тулон вошла эскадра адмирала Шарля де Коломба, который пять лет не спускал боевых флагов Франции с грот-мачт своих кораблей и топил бригантины и галеоты Бесноватого всюду, где только встречал. Кроме того, он создал и сильные сухопутные силы, главным образом из французов, живших в Северной Африке, где у Франции были свои Заморские колонии, а также и из тех французов, которые бежали из страны, спасаясь от клевретов Бесноватого.
И в то время как воины Василиска Великого перевалили через Альпы и шли к Австрии и Богемии, французы и англикане с двух сторон шли к Парижу.
Мы, католики, очень радовались этому прекрасному лету, которое оказалось для нас столь удачным. А я, кроме того, радовался и собственному успеху.
В эту весну в моей жизни произошло важное событие: я стал братом Всеобщего Католического Союза Молодых. Сокращенно мы называли наше Братство «Касомол», а себя «Касомольцами».
Правда, Старшие Братья из ПКП — Прусской Конфедерации Паладинов любя, называли нас «Молокасосами», что означало: «Молодые Католики, Содействующие и Сочувствующие», но в их шутке не было ничего, кроме братской и отеческой любви к нам.
Мы во всем старались подражать Старшим Братьям из ПКП, собирались на тайные собрания, понемногу приобщались к их языку и манерам, а они потихоньку приоткрывали перед нами Малые Секреты их жизни, не допуская пока до Средних. Наши молодые руководители иногда намекали, что им доступны и Средние Секреты ПКП, и иногда это было правдой, ибо они часто были молодыми Братьями ПКП, или же кандидатами в Братья, ожидавшими в течение года счастья стать Братом ПКП и все двенадцать месяцев усиленно приуготовлявших себя к Великому Акту Вступления. Иногда же и они не знали Средних Секретов, но делали вид, что знают, напуская на себя важность и изображая из себя Посвященных.
Однако мне было до этого еще далеко, и я был всего-навсего «Касомолец».
В эту же весну произошло со мной и другое не менее важное событие. В один из погожих весенних дней патер Иннокентий подозвал меня к себе. Это случилось вскоре после исповеди, перед Пасхой, в самом конце Великого поста, а ведь известно, что именно эта исповедь чаще всего бывает самой очищающей и самой покаянной из всех. По-видимому, моя искренность и не слишком-то уж большая греховность, особенно по сравнению со взрослыми прихожанами и прихожанками, вконец размягчила сердце патера Иннокентия, и он, призвав меня к себе, положил мне руку на плечо и, ласково глядя в глаза, спросил: «Хочешь ли ты, сын мой, поехать учиться в семинарию?»
Я давно ждал, что когда-нибудь патер Иннокентий спросит меня об этом. И все же я разволновался, почувствовал, что краснею, что сердце забилось у меня так сильно, будто мне предстояло не отвечать на простой вопрос, к тому же заданный мне тихим и доброжелательным голосом, а прыгнуть со скалы в море.
И, наверное, от этого я ничего не сказал патеру Иннокентию, а лишь встал перед ним на одно колено и поцеловал ему руку.
Патер погладил меня по голове и сказал, что нынче весна, что у меня в запасе ровно год и этот год мне следует потратить на дальнейшее совершенствование в латыни, а кроме того, мне следует приступить к изучению итальянского языка.
— А как же быть с «Воскресными чтениями»? — спросил я.
— Все это ты узнаешь в семинарии, — ответил патер, — а сейчас для тебя главное — итальянский язык.
— Тогда я почтительнейше попрошу сказать об этом мэтру Хубельману, пробормотал я робко, — Мне бы хотелось, чтобы мэтр, заметив, что меня нет на «Чтениях», не гневался на меня и не считал бы меня нерадивым.
Патер Иннокентий опустил глаза. Положив мне руку на лоб, так что я вынужден был чуть приподнять ее, он посмотрел мне прямо в глаза и произнес шепотом, придавая своему голосу особую доверительность:
— Я не смогу переговорить о тебе с мэтром. Его нет в городе. Он куда-то уехал, а куда — не знаю. Однако, думаю, что поездка дальняя, и, когда брат Эмиль возвратится обратно, я не знаю. Так что «Воскресные чтения» будет проводить с «Люхрями» кто-то другой — я и сам еще не знаю, кто именно.
Я его слушал, а в голове у меня вертелось: «Бог с ним, Эмилем — не он, так другой. А вот что значит: „Все это ты узнаешь в семинарии?“»
И когда патер замолчал, я спросил:
— Вы сказали, что я все это узнаю в семинарии, — начал я, но патер, не дослушав меня, сказал: — Да, я намерен послать тебя в Рим. Там служит мой брат Николо, и он-то поможет тебе поступить в семинарию.
Я еще раз поцеловал руку патеру Иннокентию и, переодевшись, не чуя от радости ног, побежал домой.
* * *
Я тут же все выложил родителям и думал, что итальянскому языку будут меня учить мама и бабушка, но они обе сразу же отказались, считая меня не просто грамотным, но и даже прекрасно образованным сеньором — еще бы, я так бегло тараторил по-латыни молитвы и читал Библию!
— И правда, сынок, — поддержал их отец. — Ни мама, ни бабушка не умеют ни читать, ни писать, да и, кроме того, тебе нужно будет знать язык не простых людей, а грамотеев вроде патера Иннокентия или маэстро Сперотто…И тут вдруг отец замолчал, ударил себя по лбу ладонью и воскликнул:
— Ба! Сеньор Джованни! Ей-Богу, неплохая идея! Пуркуа па?[67] — произнес в заключение отец одну из незамысловатых французских фраз, которую знал.
Признаюсь, что предложение отца меня несколько озадачило. Дело в том, что я хотя и был совсем юн и незрел, но сумел заметить, что последнее время между моими родителями и маэстро отношения переменились к худшему и старик уже гораздо реже стал бывать у нас в доме, а я и вообще-то шел к нему впервые и, признаться, немного робел. И отец, я был уверен, не очень-то охотно шел к бывшему другу нашего дома.
Видать, у старика появилась какая-то новая привязанность, и я услышал как-то, что это его новая квартирная хозяйка, к которой он переехал года два назад, в небольшой дом между двумя аустериями, о чем я еще не упоминал.
Из-за всего этого я не очень хотел, чтобы он стал моим учителем, и своими сомнениями поделился с отцом.
Мы замолчали, и отец решил, что, пожалуй, в чем-то я прав, и он тоже слышал о маэстро и кое-что еще. Подумав немного, отец сказал:
— Пойдем к патеру Иннокентию, посоветуемся с ним, тем более что он сам предложил тебе это и, может быть, знает кого-нибудь получше, чем Сперотто.
Мы только еще подходили к церкви, а уже патер шел нам навстречу.
Отец почтительно попросил благословения и горячо поблагодарил за то участие, какое он принимает в моей судьбе, а затем поделился с патером одолевшими нас сомнениями, пересказав то, что услышал от меня и, кроме того, добавил то самое «кое-что», каким он однажды обмолвился в разговоре со мной.
— У нас в оркестре поговаривают, что сеньор Джованни не только брат ПКП, но еще и ВКП(б), — неуверенно и робко, будто сомневаясь, стоит ли об этом говорить, произнес отец.
Патер Иннокентий вспыхнул. Я никогда не видел его таким рассерженным.
— Что за глупая болтовня! — воскликнул он. — Если я, декан ПКП, не знаю этого, откуда могут знать простые «Люхри»? Всюду им мерещатся агенты ВКЛ, рука Ватикана и прочая чушь! Я не потому советую отдать Фому в обучение к Джованни Сперотто, что он брат ПКП — а он, кстати, и не состоит в Конфедерации, а потому только, что он знает реалии Италии и Рима и поможет твоему сыну не наделать ненужных оплошностей и избежать всяких неприятностей хотя бы в первое время.
Отец смущенно молчал, а потом, извиняясь за сказанное, поцеловал патеру руку.
Не успели мы с отцом отойти и на несколько шагов, как вдруг патер окликнул нас:
— Постойте, я забыл сказать вам еще кое-что. Вчера ко мне с таким же вопросом приходил и Иоганн Томан. Это отрок, который вместе с Фомой учил у меня латынь и потом вместе с ним посещал «Воскресные чтения» Хубельмана, пояснил патер моему отцу. — Так вот, что я скажу вам — Иоганн тоже поедет в семинарию, и он так же, как и Фома, станет брать уроки итальянского у сеньора Сперотто.
«Ах, как славно! — подумал я. — И учиться будет веселее, и в Рим поедем вместе». И я в искреннейшем порыве радости и благодарности рухнул на колени и припал к руке доброго старика.
* * *
…Маэстро жил на острове Кнайпхоф между двумя трактирами — «Веселый медведь» и «Серебряный ключ». Джованни жил холостяком, снимая комнату в мансарде, а на первом этаже обитала его хозяйка — пожилая вдова с лицом почти такого же цвета, как и у ее постояльца.
Как только она открыла дверь, мы с отцом заговорщически переглянулись — у нас сразу же возникло сильное подозрение, что языческим богам маэстро служит не в одиночку и не только в «Веселом медведе» и на свадьбах, куда его приглашают.
Окинув нас не очень трезвым, очень недобрым, цепким, оценивающим взором, хозяйка дома молча ткнула пальцем наверх и пропустила на лестницу. Мы поднялись в мансарду, постучали в дверь, но ответа не последовало. Отец тихонечко приоткрыл дверь, и мы увидели, что маэстро крепко спит, не сняв даже сапог, а на полу возле его постели стоит почти пустая бутыль размером в полведра, на дне которой сохранилась едва ли кварта красного вина[68].
Отец попросил меня остаться, а сам сошел к хозяйке. Я, на всякий случай, отступил к порогу и оставил дверь приоткрытой.
— Давно ли спит герр Иоганн? — спросил отец, называя маэстро Джованни на немецкий лад.
— Со вчерашнего вечера, — пробурчала хозяйка. — Пора бы и проснуться. Да зачем он вам? — все же, не выдержав, полюбопытствовала она.
— Я хочу отдать сына к нему в обучение, — ответил отец.
— Отдавайте, не ошибетесь, Иоганн — прекрасный музыкант, — неожиданно ласково проговорила хозяйка, и я понял, что бутыль накануне нашего визита Джованни опустошал не без ее дружеского соучастия.
Вслед за тем отец снова поднялся в мансарду и тихонечко коснулся плеча спящего.
— Я не сплю, — неожиданно трезво и спокойно проговорил маэстро и тут же резво сел на постели, сбросив ноги на пол.
Мы вопросительно поглядели на музыканта. Он сразу же все понял и ответил с солдатской прямотой:
— Старая военная привычка — подождать, подумать, а уж потом действовать. Я услышал и узнал ваши голоса, когда вы были еще на улице, и так как не мог понять, зачем вы пожаловали, то решил притвориться спящим. В свое время меня на всю жизнь выучили тому, что бдительность — наше оружие, что враг не дремлет и что здоровое недоверие — основа успешной совместной работы. А ведь то, что выучил в молодости или хорошенько проштудировал в зрелые годы, запоминаешь надолго. И вообще, хотя я и знал, что от вашего визита мне едва ли будет какой-либо вред, но все-таки решил: «Доверяй, но проверяй». А теперь я знаю, что ты хочешь отдать Томаса ко мне в обучение, и я смекнул, что для меня это совсем неплохое дело.
— Вы, наверное, решили, что я хочу отдать его к вам обучаться музыке? — сказал отец.
— А чему же еще могу я научить мальчика? — засмеялся маэстро и, показав на бутыль, сказал: — Разве что войне с Бахусом? Да только для этого он еще мал.
И трубно захохотал своей не очень уж ладной шутке. Узнав, что я хочу учиться не музыке, а итальянскому языку, старик сильно обрадовался.
— Прекрасно! — воскликнул Джованни. — Прекрасно! Будет хоть с кем поговорить на человеческом языке, а то мне дьявольски надоел этот собачий тевтонский лай!
Отец сделал вид, что не расслышал его последних слов. Он хоть и выдавал себя за потомка французского дворянина, но, кроме немецкого языка, никакого другого не знал, и «собачий тевтонский лай» был его собственным родным языком.
О плате наш старый друг и слушать не захотел и даже вроде бы обиделся.
— Довольно того, что я буду говорить с ним на языке моей молодости, вдруг растроганно проговорил Сперотто. — Да и что я с тебя возьму, Георг? Ты ведь гол, как сокол, да и в доме у себя сам шестой.
Отец и здесь смолчал и только жалко улыбнулся.
Затем старик усадил нас всех за стол и предложил выпить за успех задуманного предприятия. Мне он налил самую малость — две-три чайных ложки, а все остальное честно разделил с отцом на две равные половины.
Пока взрослые пили, Джованни распросил меня, насколько я знаю латынь, и похвалил, сказав, что знаю я ее довольно хорошо и, значит, итальянский я выучу быстро, так как, оказывается, древние жители Италии говорили по-латыни, и стало быть, латынь — это и есть итальянский язык, только со временем сильно изменившийся.
Не успели мы расстаться, как кто-то постучал в дверь, и на пороге возник Иоганн Томан со своим отцом — друкарем, из цеха кенигсбергских печатников[69]. Поздоровавшись и окинув взором открывшуюся перед ним картину, а также заметив, что бутыль уже пуста, сообразительный друкарь тут же вынул из-за пазухи кошелек, достал оттуда серебряный талер и, протянув монету сыну, проговорил негромко, но решительно:
— А ну-ка, сынок, слетай в «Веселый медведь» да принеси нам бутыль доброго вина.
Иоганна как ветром сдуло, а когда он вскоре вернулся, печатник уже обо всем договорился с маэстро Джованни, и принесенное Иоганном вино только еще больше скрепило появившийся на свет договор.
Мы просидели со Сперотто до глубокой ночи и повели своих отцов с собою, совершенно довольных, но очень нетвердых на ногах, предварительно бережно уложив на постель маэстро.
* * *
Еще встречаясь с Джованни у нас дома или в церкви, когда он заменял органиста, я не замечал в его характере каких-либо странностей. Может быть, потому, что был еще мал, а может быть, от того, что не присматривался к нему.
Однако, когда он таким странным образом встретил нас, вдруг прикинувшись пьяным и крепко спящим, а потом, оказавшись и трезвым и бодрствующим, озадачило меня и заставило насторожиться.
Я стал вспоминать, как вел себя Сперотто у нас дома, что иногда говорил за столом, какими были его привычки и свойства, и отыскал в его поведении кое-что необычное, если ни сказать странное.
Старик был, несомненно, добр — он отдавал нищим немало денег, всегда помогал на похоронах и безотказно заменял органиста в нашей церкви во время отпевания покойника и траурной церемонии. Может быть, он делал это потому, что наш органист Иоганн Себастьян был толстым веселым человеком, писал пьесы для клавесина и даже танцевальные мелодии для скрипичных квартетов и потому терпеть не мог похоронных мелодий. А может быть, однажды пришла мне в голову нелепая мысль, сеньор Джованни любит траурные мессы?
Я вспомнил также, что часто, сильно выпив, сеньор Джованни не веселился, как все, а отчего-то горько плакал, никогда не объясняя причины своих слез, и на следующий день при встрече всегда делал вид, что ничего такого не было или же он, по крайней мере, не помнит о своих вроде бы беспричинных слезах, а если и помнит, то не придает всему случившемуся никакого значения.
Я вспомнил также, что если его кто-либо неожиданно окликал, то он непременно пугался, вздрагивал и менялся в лице.
В общем, Джованни был не совсем обычным, я бы сказал, довольно своеобразным человеком. И учителем языка старый музыкант и санитар оказался более чем оригинальным. Мало того что он по-немецки говорил не хуже, а пожалуй, получше меня самого, он был еще и очень опытен в обучении языку.
— Господь Бог, — сказал он нам в самом начале, перемежая латинские слова с немецкими для того, чтобы нам было понятнее и уже сразу же приобщая нас к языку, — сделал так, что быстрее всех и лучше всех языкам учатся дети, каким бы язык ни был — французским, итальянским, немецким или каким угодно другим. А дети начинают с самых необходимых слов: «мама», «папа», «пить», «кушать», «дай», «хочу», а уж потом называют то, что видят возле себя, вещи, людей, животных. Так и я буду учить вас, Иоганн и Томас. Завтра вы войдете ко мне и скажете по-итальянски: «Здравствуй!» И я отвечу вам: «Здравствуй, Томас, здравствуй, Иоганн! Проходите, пожалуйста».
А через месяц, когда вы станете говорить, как трехлетние уроженцы Вероны или Падуи, я начну учить вас читать. А еще через месяц рассказывать о моей жизни, и вы узнаете, что меня недаром зовут Джованни, потому что лучшим рассказчиком в Италии считается Джованни Боккаччо, а самым красноречивым учеником Христа тоже был Джованни, прозванный Златоустом.
…Как ни странно, но метода Сперотто сработала превосходно, и мы с Иоганном через три месяца, действительно, читали по-итальянски не хуже, чем по-латыни, и понимали почти все, о чем нам рассказывал наш учитель.
Джованни оказался бывалым и неглупым человеком, и от него я узнал много такого, чего впоследствии редко кто мог и рассказать, и объяснить так доходчиво и толково.
Здесь я перескажу лишь то, что потом оказало на меня сильное влияние и на многое открыло глаза.
* * *
Когда я начал слушать рассказы Джованни Сперотто, мне шел тринадцатый год, а ему было почти семьдесят.
Мне казалось, что он родился во внезапамятно далекие времена, когда даже Илия Святой еще не был папой и не был Святым, а скитался по Европе бродячим проповедником, и почти никто не понимал, о чем он говорит и к чему призывает.
Сперрото рассказывал мне и Иоганну, что он познакомился с Илией в Риме, куда они пришли с разных сторон в один и тот же день.
— Я отыскал, — рассказывал мой учитель, — скромную гостиницу «Благочестивый пилигрим», и мне отвели место в общей опочивальне с другими богомольцами, которые пришли в Вечный город, чтобы попасть в собор Святого Петра. Гостиница эта содержалась на деньги монастыря Святой Бригитты, и паломникам давали в ней бесплатно и приют и трапезу. Сам понимаешь, добавил Сперотто, — что это был за уют и как сытно там кормили. Спальни были общими — по двадцать богомольцев в каждой, а трапезная и вообще всего одна — на сто человек, где кормили всех сразу в одно и то же время два раза в сутки — ровно в пять часов утра, чтобы благочестивые пилигримы успевали к ранней заутрене, и ровно в одиннадцать вечера — после поздней вечерни. Днем спальни были заперты, чтобы паломники не отлеживали бока, а ходили бы по святым местам и слушали проповеди, ну, а кормежка была соответственной гостеприимству — кружка молока и ржаная лепешка на завтрак и еще одна кружка молока и лепешка перед сном.
Я получил место в спальне, как хорошо помню, под номером 19 — все остальные кровати были уже заняты и пустой оставалась лишь одна соседняя койка под № 20. Вот здесь-то и свела меня судьба с Илией.
Здесь Сперотто вздохнул и печально добавил:
— Да только совсем уж немного осталось нас, знавших Илию не только в молодости, но и в зрелые его годы. Так мало, что нас как диковинку показывают послушникам и семинаристам: «Вот-де зрите и внимайте — он видел и слышал самого Илию!» А те, разинув рты, умильно глядят на старцев, чаще всего из швейцарских гвардейцев, охранявших Ватикан и видевших-то Илию лишь проходившим мимо них. А уже если папа на ходу благословил кого-нибудь из них да перекинулся парой слов, то такой гвардеец в глазах слушателей превращается чуть ли не в святого. Сперотто замолчал и долго сидел опустив голову. Ему, кажется, стало невыносимо грустно, и я, желая приободрить его, сказал:
— Вы говорите святую правду, сеньор Джованни. Такого человека, как Вы, я встречаю впервые. Скажу Вам откровенно, сеньор, мне только раз довелось видеть и слушать одного хвастливого алебардщика из ватиканской охраны. Так и то весь его рассказ состоял из двух дюжин фраз, а больше и вспомнить он из-за старости ничего не мог, да и, наверное, просто-напросто и вспоминать ему было не о чем. Да вот он, его рассказ: «Стою я это, как положено, где поставили. Алебарда у меня отточена, каска и нагрудник сверкают, ботфорты огнем горят. Вдруг — матерь Божия — вижу, сам идет. Сутана на нем холщовая, как у патера из моей родной деревни, сапоги тоже старенькие, с заплатами. Я замер, Божья мать. Алебарду, конечно, как положено держу, „на караул“. Он подходит, ласково так на меня глядит и спрашивает: „Стоишь на часах, сын мой?“ — „Так точно, — отвечаю я, — на часах стою, Святой отец!“ Он посмотрел и спрашивает: „А сам-то откуда будешь?“ — „Кантон Тйчино, Швейцарской Конфедерации, Святой отец!“ — отвечаю я как полождено. „Итальянец, значит“, — говорит он. Тут я не сдержался, Божья мать, и сознаюсь, что даже и устав слегка нарушил — нам запрещалось разговаривать с папой, а можно было только коротко и точно отвечать на его вопросы. — „Все-то Вы знаете, Святой отец! — не удержался от удивления, да прямо так и бухнул я. Божья мать. — А ведь и на самом деле у нас в кантоне одни итальянцы живут!“ Он опять ласково мне улыбнулся и, скромно опустив глаза, тихо так проговорил, будто что хорошее вспомнил: „Да нет, сын мой, не все я знаю, далеко не все. Просто в молодости довелось мне побывать у вас в Швейцарии“. И сказал на прощание: „Ну, стой дальше“. А сам медленно так пошел к себе в покои. Вот сколько лет прошло, а он передо мной, Божья мать, все как живой стоит».
Алебардщик прослезился, и наш добрый патер Иннокентий, который и пригласил старика к нам в церковь, под руку отвел его на паперть.
Сперотто мой рассказ отчего-то сильно развеселил. — Перед вами точно выступал швейцарский гвардеец из рядовых алебардщиков, — сказал он. — Тут и характерное для них частое упоминание совсем не к месту Божьей матери, и другие правдивые детали — бедная сутана, старые сапоги, а главное, Илия именно так и разговаривал с ними, как с малыми детьми или недоумками, но вместе с тем и искренно любил их, а они отвечали ему тем же. В их глазах он был вторым Савонаролой, которого Илия, став папой, велел причислить к лику святых-великомучеников.
Я только слышал кое-что о Савонароле, но толком не знал, кто он такой и потому спросил о нем Джованни.
— Э, что вы нынче знаете, молодежь! — проговорил старый солдат с нескрываемой горечью. — Кто в наше время не чтил великого флорентийца! Его изображения висели чуть ли не в каждом доме, и любой школяр также хорошо знал «Житие святого великомученика Джироламо», как вы знаете теперь «Житие Василиска Великого». Другое время теперь и другие песни. Ну, ладно, слушай. Джироламо Савонарола родился в Ферраре в Италии в семье провинциального врача и одновременно учителя. Он с детства был очень способным мальчиком, получившим еще дома прекрасное воспитание и образование, но ему хотелось совершать подвиги во имя нашей матери — Святой католической церкви, и он ушел из дома и стал монахом в Ордене Святого Доминика, в монастыре города Болонья. Через четыре года брат Джироламо начал читать проповеди, на которые сходились сотни людей. Сначала он читал их в своей родной Ферраре, а потом пошел по всей Италии — в Сан-Джиминьяно, в Брешию, пока, наконец, не остановился во Флоренции, где и остался в монастыре Святого Марка. Вскоре он стал приором монастыря, и хотя обитель была богатой, Савонарола носил рясу из грубого холста и старые стоптанные сапоги. Как только Савонарола стал приором, он заставил всех монахов своей обители вести аскетический образ жизни и сам подавал в этом пример, питаясь хлебом и водой и истязая себя постами. Савонарола обличал распутство, роскошь, мирскую суету. Его сторонники — большей частью молодые истинно верующие миряне — отбирали у горожан Флоренции дорогие одежды, украшения, светские книги, картины, ковры и сжигали все это на кострах. Через шесть лет после этого папа Александр VI отлучил его от церкви, а городские власти Флоренции арестовали Савонаролу и предали смерти. Неудивительно, что Илия причислил его к лицу святых-великомучеников, так как сам во многом напоминал Савонаролу. И сам Илия был аскетом-фанатиком и призывал, как и Савонарола, грабить богатых, ибо считал все их имущество не заработанным, а, в свою очередь, награбленным у народа. Такими же, как и Илия, были на первых порах и его сподвижники из ВКП(б). Однако в дальнейшем все они отказались от аскетизма и праведности, впав в еще большие прегрешения, чем кардиналы и папы времен правления Сикста IV, Александра VI Борджиа или Льва X, которые вошли в историю как убийцы, содомисты, кровосмесители, грабители и клятвопреступники, навеки опозорившие католическую церковь.
Только ты, Томас, — строгим голосом сказал Сперотто, — не должен говорить о том, что я осуждаю нынешних вождей ВКП(б) потому, что если об этом узнает Орден ГПУ, то ни мне, ни тебе не сносить голов.
Но я верю тебе, иначе ни за что не сказал бы последнего. А теперь вот подумай, кому он нынче нужен — святой-великомученик Савонарола?
Живи он сейчас, да будь приором богатого монастыря, да питайся хлебом с водой — его, наверное, не казнили бы, но тут же, минимум миниморум, объявили сумасшедшим и посадили на цепь, как поступают со всеми одержимыми нечистой силой. Как терпеть такого приора, когда нынешние аббаты и епископы обпиваются заморскими винами, объедаются яствами и не спят без двух блудниц враз — слева и справа от себя? — От последних его слов я покраснел, и Джованни, заметив это, поперхнулся: — Ну, хватит с тебя. Остальное тебе расскажут в семинарии. Там-то, может быть, еще и остались его иконы. Все же Василиск и его клевреты формально продолжают считать Савонаролу одним из предшественников, так же, как и бывшего еретика Фому Кампанеллу и некоторых других. Однако вместо их икон поразвесили свои собственные — преподобных святых отцов — Лазаря-Угодника, Лауренцио-Милостивого, Климента-Победоносца, Георгия-Столоначальника — покровителя всех секретарей и канцеляристов, Михаила-Вибурнума[70] ну и прочих.
Да ты их каждый день видишь. А уж сам Василиск попадается на каждом шагу — и в храмах, и в часовнях, и в каплицах, и в домах даже самых бедных, потому что иконы с его изображением бесплатно раздают на папертях даже нищим за счет приходских медяков.
Ну, а время Илии было другим. Илия всю жизнь был аскетом, и безумный флорентиец Савонарола очень импонировал ему, наверное, оттого, что в их взглядах и характерах было много похожего.
И охранники у Илии тоже почитали Савонаролу. И потому что искренне исповедовали учение флорентийца, и потому что в основном всю жизнь были аскетами поневоле — Илия брал в дворцовую гвардию самых бедных швейцарцев из самых глухих деревень почти одного только кантона — Латгаллия[71]. Их так и называли: «Латгалльские стрелки».
— А почему? — спросил я.
— Да потому, что Илия сильно им верил. Особенно после того, как однажды заговорщики из Ордена Меченосцев чуть было не захватили Ватикан, а швейцарцы Илию выручили.
Джованни снова задумался, о чем-то вспоминая, а потом сказал: — Ну да об этом я тебе расскажу в свое время. А теперь о первой с ним встрече. Я тогда в Рим пришел из своей обители — а надо сказать, что я еще отроком был отдан в монастырь нищенствующего Ордена Кармелитов и тогда был только послушником. Так вот, не успел я свой мешок под кровать положить, смотрю, а на пороге стоит маленький кудрявый монах лет двадцати пяти. Глаза у него черные, сверкающие, так во все стороны и бегают, и вдруг на мне остановились, и я почувствовал, будто два буравчика вонзились мне в зрачки.
«Здравствуйте», — проговорил он трубным голосом, какой можно было ждать от великана, и без лишних слов тут же прошел к койке № 20, мгновенно сообразив, где она стоит. Я же свою 19-ю, сознаюсь тебе, Томас, долго искал, пока нашел.
Я еще сидел на моей кровати, и он тут же понял, что мы — соседи, и, окинув меня еще раз взглядом, который был у него какой-то особенный, с прищуром, будто он целился в тебя перед выстрелом из тяжелого арбалета, снова проговорил, на сей раз смиряя свой могучий голосище:
— Откуда будете, сын мой? — И я, понимаешь ли, ответил точно, как твой алебардщик, хотя понимал, что мы с ним почти ровня — он простой монах, скорее всего, недавно принявший постриг, я — послушник из маленького монастыря братства Кармелитов[72], но почему-то я сразу почувствовал, что мы друг другу совсем не ровня и передо мной — будущий епископ.
И вежливо спросил его:
— А Вы из каких краев?
— Я из Пьемонта[73], — ответил он неопределенно и, засунув свой мешок под свою кровать, сказал только: — Ну, мне недосуг, — и быстрыми мелкими шажками пошел к двери.
Я почему-то оробел и почувствовал, что очень хочу познакомиться с ним поближе, даже если для этого мне придется прислуживать ему.
— Возьмите меня с собой, — жалобно пролепетал я. — Я сегодня в Риме первый день и ничего здесь не знаю. — К тому же я был лет на десять младше его, и мое послушничество обязывало меня к сугубой почтительности к старшим.
Он приостановился и, не поворачивая в мою сторону головы, пробурчал, впрочем, довольно ласково:
— Хорошо, идем. Я, правда, сегодня здесь тоже впервые, но знаю город, как будто я в нем родился.
Я сначала подумал, что он хвастает, но, когда мы вышли из «Благочестивого пилигрима», я понял, что мой новый знакомец не соврал. Он точно вышел на площадь Святого Петра, и хотя путь был не ближний, он все же, кажется, прошел самым коротким путем.
По дороге мы познакомились. Я сказал ему, как меня зовут и откуда и для чего пришел в Рим.
Он вынужден был ответить мне тем же. Сказал, что его зовут Илия, что идет он из Пьемонта, что родители его — миряне, что семья большая, а жить не на что, да еще, к несчастью, один из братьев попытался убить герцога Падуанского, но еще и ничего не успел сделать, как его схватили герцогские сыщики и повесили. Я, желая отвлечь моего собеседника от грустных воспоминаний, спросил:
— Ну, а много у вас в Пьемонте католиков? Он метнул в меня быстрым взглядом, в котором ясно было видно: «Понял-де, почему спрашиваешь», и в ответ только безнадежно махнул рукой и вдруг неожиданно грубо отрубил:
— Не считая Турина, нашего главного города, мало, очень мало. Да и не только в этом беда. Главная беда, что и католики-то они ненастоящие, а, по-народному говоря, говно собачье.
Гибнет католичество, надо энергично спасать его, — добавил он, и голос его вновь наполнился медью боевой трубы. — Для этого я и пришел сюда. — И крепко, по-дружески, взяв меня под руку, сказал: — Может быть, ты помнишь, сын мой, знаменитую фразу из «Нового Символа Кафолической веры»? — И не дожидаясь ответа, процитировал вдохновенно, будто стихи читал: — «Кафолики считают презренным делом скрывать свои убеждения»[74]. — И не дожидаясь моего ответа, да мне показалось, что мой ответ ему и не нужен, Илия продолжил: — Я исповедую это и потому с самого начала не только не скрываю своих убеждений, но и серьезно намерен проповедовать их и нести по всему свету. «Обыкновенный миссионер и, кажется, фанатичный», — подумал я, но промолчал, а Илия, будто угадав, о чем я подумал, продолжал: — Однако я не стану уподобляться жалким идеологическим кастратам — миссионерам, тонкими голосами проповедующими заповеди Христа — не убий, не укради, возлюби ближнего своего и прочие, пригодные в наше время не больше, чем глиняный горшок в сабельной кавалерийской рубке.
Я с удивлением взглянул на него, и он, заметив мой взгляд, взревел пуще прежнего.
— Вы думаете, а что же еще делать католику, тем более клирику, как не проповедовать слово Божие? А я отвечу Вам, добренький и сладенький сыночек мой, пора напомнить католикам слова Христа: «Не мир я принес вам, но меч!» Я пришел в Рим для того, чтобы получить благословение на создание нового общества, в котором объединились бы лучшие черты двух орденов — Меченосцев и Иезуитов, ибо я не хотел бы называть новое общество орденом, так как многие ордена сильно скомпрометировали себя мягкотелостью, безволием, беспринципностью, попытками завоевать у прихожан дешевый авторитет не менее дешевой благотворительностью и показным милосердием.
Однако я не стану молить Святого отца благословить меня на создание организации, которую я бы назвал «Всеитальянская Конфедерация Паладинов», в которую принимались бы лучшие из лучших, решившие посвятить всю свою жизнь до конца одной лишь великой цели — освободить весь мир от инакомыслящих, будь то мухаммедане, протестанты, иудеи и какие угодно другие язычники.
— Я что-то не пойму Вас, — спросил я почтительно, но с немалым недоумением моего нового знакомца. — А кого же Вы будете просить, если не Святого отца?
— Церковь сгнила во главе и членах, сын мой, и не у пастыря, подобного слепому поводырю, я должен испрашивать совета и благословения, но отыскать в Риме мужа светлого ума и яростного сердца — богослова и провозвестника Ангела Барменского, чтобы с ним обсудить великую проблему возрождения церкви и возвращения ее к истокам евангельских времен.
— А как Вы это сделаете? — спросил я его, удивляясь его бесстрашной откровенностью передо мной — незнакомым человеком.
— А я ведь уже сказал: «Всеитальянская Конфедерация Паладинов». Ведь «Паладин» — это крестоносец, это — ландскнехт идеи, это — сознательный ассасин, только осененный благодатью Церкви воинствующей.
«Почему „Всеитальянская Конфедерация“?» — спросите вы у меня. И будете тысячу раз правы. Ведь Италия разобщена. У Папской области свои интересы, у Ломбардии — свои, у Венеции — тоже свои, а уж какое дело, например, Сардинии до Пьемонта или Сицилии до Савойи? Никакого. А вместе с тем интерес обязан быть, ибо и в Ломбардии, и в Папской области, и на Корсике живут католики. И это их объединяет. Должно объединять. Всенепременно.
«Зачем это объединение?» — спросите Вы у меня, и снова будете тысячу раз правы. А вот зачем, отвечу я Вам:
объединив все силы католиков воедино, затем ударить по ненавистным и богомерзким канальям — язычникам. Ведь сейчас мы — пальцы одной руки, растопыренные, как у пряхи, которая мотает шерсть со своим муженьком, сидящим у нее под боком. А нам нужен кулак, как у хорошего кулачного бойца на состязании в цирковом балагане во время большой осенней ярмарки. Вот этим-то кулаком — Всеитальянским кулаком — и станет ВКП, ибо ни Романье, ни Лигурии, ни любой другой области в одиночку с этим не справиться.
«Почему же именно Италия?» — спросите Вы, и снова окажетесь правы. Да потому, что это самая католическая страна в мире. Правда, есть еще и Испания, не менее католическая страна, но в Италии находится Рим, а в Риме — Ватикан, и потому именно здесь возникнет новое движение, которое затем охватит весь католический мир и приведет к созданию Национальных Конфедераций Паладинов в каждой стране, а они в конце концов объединятся во Всемирную Кафолическую Лигу — в аббревиатуре ВКЛ.
— Но ведь уже была первая ВКЛ и сейчас существует вторая ВКЛ, возразил я Илие.
— Я сказал: «Кафолическая», а те две — католические, — поправил меня он.
Я понял. Да и какой грамотный христианин не уловил бы существенной разницы меж тем и другим названием.
— Только тогда, когда мы поднимем на борьбу всех католиков всего мира, мы сумеем добиться победы. А для этого нам нужны три вещи: во-первых, организация, во-вторых, дисциплина — «железная дисциплина», — сказал Илия, и в-третьих — ортодоксальная верность католицизму. Хотя, — добавил он, учение для меня, например, не мертвая догма, а руководство к действию.
И если мы построим нашу Конфедерацию на этих основах и принципах, мы непременно победим.
Я заметил, что он говорил все это так, будто не я, единственный, шел рядом с ним, а словно он, Илия, стоял на кафедре собора Святого Петра и проповедовал это тысячам паломников.
— А кого из католиков станете вы принимать в Конфедерацию? — спросил я. Он быстро стрельнул в меня своим хитрым, маслянистым глазом. — Лучших из лучших — стойких, храбрых, исполнительных, послушных воле старших братьев, для которых Конфедерация и ее интересы будут превыше всего.
— Значит, первыми войдут туда Меченосцы[75]? — спросил я.
— Глупости, — отрубил Илия. — Меченосцы не обладают главным — они индивидуалисты. Им не откажешь в храбрости, но они считают главным средством индивидуальный террор — убийства мечом из-за угла или даже публично, на людях. Слов нет, это красиво, эффектно, но напоминает Комедию дель Арте. А потом их вешают, а они на эшафоте перед смертью громко проклинают тиранов и это красиво и эффектно и тоже напоминает Комедию дель Арте. Но скажите мне, друг мой, Джованни, — тут Илия по-братски обнял меня за плечо, — разве можно такими способами добиться победы?
Убьет какой-нибудь отчаянный Меченосец — а кстати, и мой несчастный брат состоял в этом тайном Ордене — какого-нибудь тирана, а тут же на смену ему придет другой. Да, вот возьмем хотя бы историю древнего дохристианского Рима. Ну, убили заговорщики — исторические предшественники наших итальянских отечественных Меченосцев — самого Кая Юлия Цезаря. А что толку? Тут же на смену ему пришли сначала его убийцы — Брут и Кассий, а потом, не прошло и пятнадцати лет, на троне Рима появились такие чудовища, что Цезарь, которого его убийцы называли тираном, оказался агнцом по сравнению со львами рыкающими. Чего стоили, например, Тиберий или Калигула, — я уже не говорю о проклятом богом палаче и сумасшедшем Нероне.
Вот вам, братец мой, и результаты индивидуального террора. Но кто чего-либо не хочет, тот того и не видит и не слышит. А слепоглухонемых история карает, и не было еще в истории слепоглухонемых пророков и провидцев. И потому я решительно отвергаю методы действий Меченосцев и практику — бесплодную практику, — подчеркнул Илия, — их индивидуального террора, а верю лишь в организованные массы. И надо вам сказать, что я, как и многие другие, верю в тайный смысл имени, данного человеку, ибо в каждом имени скрыт некий провиденционалистский смысл. И имя человека в значительной мере предопределяет его судьбу[76]. — И услышав слова Илии, я подумал: «Э, брат, да ты, видать, и впрямь считаешь себя новым пророком Илией»[77].
А он, будто угадав о чем я подумал, произнес тихо, но с непреклонной убежденностью:
— Я верю в свое божественное, провиденциалистское предназначение. И верю, что меня недаром назвали Илией, ибо я явился миру, чтобы метать громы и молнии, побивая неверных и поднимая на бой соединенные, сплоченные в железные когорты силы кафоликов.
«Сумасшедший», — мелькнуло у меня в голове, но я снова промолчал, а он снова будто прочитал мои мысли и сказал:
— Подлинно великая идея всегда, особенно в начале, кажется многим, прежде всего бездуховным филистерам[78], безумной. Но уверяю Вас, Джованни, тут он впервые назвал меня по имени, — я все хорошо продумал до того, как пойти сюда, да и по дороге было время множество раз возвращаться к моей идее. И я уверен, что сегодня нет идеи значительней и прекрасней. Это все архиважно, Джованни, поверьте мне, пожалуйста. А я, ей-Богу, знаю, что говорю.
— Нет, пожалуй, и трудней, — сказал я.
— Настоящий слуга Господа не должен бояться ничего.
Недаром среди семи смертных грехов страх стоит на первом месте.
И в это время мы вышли к площади Святого Петра, уже заполненной паломниками, и впервые увидели знаменитый собор его же имени, где вскоре и должен был начать службу сам римский первосвященник.
Мы пробились ко входу, и здесь вдруг Илия посмотрел мне прямо в глаза.
— Одним из правил Всеитальянской Конфедерации Паладинов — я решил для удобства сокращенно называть ее по первым буквам ВКП — станет принцип беспрекословного подчинения младших старшим. И вот если ты настоящий сын церкви, то обязательно станешь членом ВКП и будешь следовать всем правилам ее устава. И потому я прошу тебя, сын мой, когда войдешь в собор, не следи за мной, не отыскивай в толпе молящихся и, как только месса закончится, не дожидаясь меня, иди в гостиницу. — Я несколько удивился, но тут же подумал: «А что здесь особенного? Значит, так ему удобнее, а обратную дорогу я найду и без него». И тут же согласился.
— Вот и прекрасно! — воскликнул он, — Вот и прекрасно! Я думаю, ты вскоре станешь членом ВКП, и тогда я стану называть тебя не «сын мой», а «брат мой», ибо все мы будем равными друг другу и не будет среди нас ни «господ», ни «святых отцов», «преосвященств», ни «высокопреосвященств», а только «братья».
Я все сделал, как обещал, и по окончании мессы одиноко побрел в гостиницу.
А Илия вернулся к полуночи и, не заходя в трапезную, молча лег спать. А утром ни слова не сказал мне, отчего я понял, что папа не допустил его к себе, или же, допустив, выслушал, но не согласился с тем, что сказал ему Илия.
Однако, как признался мне сам на следующее утро Илия, он и не собирался просить папу об аудиенции, ибо, как сказал он, «слишком презирал его, чтобы удостоить своим вниманием».
— Зачем же Вы ходили в Собор? — спросил я.
— Там назначил мне встречу один человек, — ответил мне Илия. — И мы потолковали с ним шепотом во время мессы, а потом он пригласил меня к себе домой, хотя и не очень хорошо себя чувствовал.
Судя по тону, каким все это было сказано, домашняя дискуссия не понравилась Илие — во всяком случае, мне так показалось.
Как бы то ни было, но в гостиницу Илия пришел печальным, даже обиженным или оскорбленным и потом долго ходил понурый, словно в воду опущенный.
Однажды я вернулся в гостиницу и увидел, что на его койке лежит какой-то другой, незнакомый мне человек. Я понял, что Илия ушел не попрощавшись, и оправдал его тем, что был он необыкновенно горд и самолюбив и признаваться в неудаче или поражении хоть одному человеку было для него не по силам. И потому он ушел не попрощавшись.
Таков был первый рассказ Джованни Сперотто, услышанный мною и Иоганном.
Читатель, наверное, заметил, что во время этого рассказа только я перебивал учителя и задавал ему вопросы. Иоганн же слушал Джованни очень внимательно, но не проронил при этом ни слова. Когда же Сперотто окончил свой рассказ, Иоганн, как я уже говорил ранее, большой любитель чтения недаром его отец работал в типографии, — сильно покраснел и робко проговорил:
— Могу я спросить вас, уважаемый учитель?
— Конечно, — ответил Сперотто.
— Я не хочу вас обидеть недоверием, но я читал «Житие Святого Равноапостольного Илии» и там ни слова не сказано об его пребывании в Риме до октябрьских ид.
— Ох, молодо-зелено! — засмеялся Сперотто. — Да ни в одном «Житии Илии» об этом и не напишут. Ведь дело-то в том, что его собеседником, как потом я узнал, был великий богослов Ангел Барменский. И он, выслушав Илию, велел больше не приходить ему к себе и не докучать праздной ерундой, которая, как сказал Ангел, наитипичнейшая азиатская ересь, ничего общего не имеющая с подлинным католицизмом.
Но вообще-то ты молодец, Иоганн, — добавил Сперотто. — Внимательно читая разные «Жития», можно отыскать в них множество любопытнейших противоречий и разночтений.
И уже, обращаясь и ко мне и к Иоганну, сказал:
— Или задумайтесь вот еще над чем: в первых списках «Жития» у Илии были одни ученики, а потом состав их все менялся и менялся, потому что Василиск то одного из них, то другого обвинял в ереси и сжигал. Пока, наконец, ни остались возле Илии в роли учеников сам Василиск да полдюжины его клевретов, все те же — Климент Победоносец, Лазарь Угодник, Анастазио Мытарь да еще три-четыре маленьких угодника. Вот станете учиться в семинарии — многое поймете.
А потом он целый год рассказывал нам о своей жизни, но я не стану писать здесь об этом, ибо впереди читателя ждет удивительное повествование о полной приключений жизни Сперотто, рассказанное им самим.
* * *
Но вернемся к моей скромной персоне. Прошел год, и Джованни сказал мне, что я, пожалуй, могу ехать в Рим. И при этом добавил:
— Хорошо, что у тебя и мать, и даже бабушка — из Италии, и даже более того — из Папской области.
— А что в том особенно хорошего? — спросил я.
— Отвечу тебе словами римского баснописца Федра:
«Ум выше храбрости». А я в тебе и храбрости не наблюдал, и, судя по твоему вопросу, и ума у тебя еще не очень много. Ты ведь едешь в Италию, а там к людям иной веры и к иноземцам относятся очень подозрительно. Тем более что ты приедешь из протестантской страны. И любой инквизитор, а ты должен знать, что Римская инквизиция будет следить за каждым твоим шагом, как только ты приедешь в город, с самого начала усомнится в тебе.
— Почему? — робко спросил я, не желая еще раз показаться дураком в глазах Джованни.
— Потому, что фамилия у тебя французская, приехал ты из немецкой страны Пруссии, к тому же страны протестантской, вот и пойми попробуй, чего от тебя ждать?
— Но я же католик! — в горестном недоумении воскликнул я.
— Разные бывают католики, — вздохнув произнес Сперотто, и я понял, что некто глубоко скрытый и мне совсем недоступный засел в его существе до самой смерти. А он, видимо, желая приободрить и успокоить меня, сказал:
— А вот то, что и мать у тебя, и бабушка — природные итальянки, это хорошо.
— Бабушка Анна, — сказал я с гордостью, — даже жила в одной усадьбе с Илией Святым, — забыв запрет родителей говорить об этом хоть кому-нибудь, признался я учителю.
И вдруг впервые за все время я заметил, что Сперотто испугался.
— Когда это было? — спросил он хриплым шепотом. И, еще тише добавил: — И что она там делала?
— Она жила на вилле «Монте-Сперанца», когда Илия был совсем стар и болен. Бабушка служила у него прачкой.
— Она была членом ВКП(б)? — почему-то задал еще один вопрос Сперотто.
— Нет, кажется, нет, — пробормотал я. — Моя бабушка, конечно, «Люхря» она до сих пор плачет, когда вспоминает доброго Илию Святого, — но она не умеет ни читать, ни писать.
— Тогда это еще могло быть, — успокаиваясь, пробормотал Джованни. Тогда еще возле папы мог оказаться и «Люхря». Да нет, прачка, это — ничего. Это может обойтись и без последствий. Я точно знаю, что до сих пор живы художники и ваятели, изображавшие Илию, жив и его возничий, и даже некоторые охранники. Правда, с последними хуже, их осталось совсем мало, почти всех либо отправили в Парагвай, либо повесили, либо сожгли, обвинив в государственной измене.
Я молчал, пораженный.
— Но бабушка до сих пор так любит Илию! — воскликнул я.
— Дурачок, — необычным для него ласковым тоном проговорил Сперотто и, вздохнув, добавил: — Приедешь в Рим, поживешь там немного, пооботрешься, и сам все поймешь. А про то, что бабка твоя жила на вилле «Монте-Сперанца», на всякий случай, не говори никому.
И я удивился, что и его совет и совет родителей — молчать о бабушке, совпали точка в точку.
И когда я уже пошел было к двери, Сперотто вдруг остановил меня.
— Послушай-ка, Томмазо, а ты знаешь, это может и помочь тебе в жизни. Сейчас уже, похоже, не то время. Незадолго перед Второй Религиозной висеть бы твоей бабке Анне на виселице или, в лучшем случае, гнить в Парагвае в серебряных рудниках вместе с индейцами. Но сейчас времена вроде меняются, про старых врагов вроде забыли, хотя Василиск никогда не забывает ни о ком и ни о чем. Просто у него сейчас появились новые заботы с новыми врагами теми, кто помогал Бесноватому на временно оккупированной территории или был у «Черных ландскнехтов» в плену.
А кроме того, в освобожденных от войск Бесноватого странах Инквизиция тоже вылавливает тысячи Коллаборационистов[79]. И потому сейчас в Парагвай идут целые караваны галер, на которых каторжники под охраной солдат из Народных Конвойных Войск Дозора сами себя везут в болота, леса и рудники этой богом проклятой страны.
Услышав последнюю фразу, я изумился: Сперотто раньше всегда хвалил Парагвай и частенько, особенно если был под хмельком, говаривал: «Да, славно мы пожили в Парагвае. Веселенькое да и безбедное было время. — И добавлял непременно: — Молодо-зелено — плоть тешили, а о душе не думали».
И вдруг, совершенно неожиданно и вроде бы без всякой связи с предыдущим, добавил:
— А знаешь, парень, для римского Ордена ГПУ ты можешь оказаться нужным и полезным человеком — если они убедятся, что ты не заслан в Рим их врагами, то могут даже попытаться использовать тебя в своих интересах и тогда уже отправить своим соглядатаем куда-нибудь в другую страну, ну хотя бы и в ту же Пруссию, а то и еще куда-либо.
«Что за ерунду порет одноглазый дурень», — подумал я, но жизнь показала потом, что он оказался прав, а ума у меня и на сей раз оказалось ни Бог весть сколько много.
* * *
А между тем пришла, наконец, долгожданная весна победы. Народы всех стран, покоренных Бесноватым, восстали против него и своих собственных предателей, пошедших к нему в услужение. Отряды горожан и мужиков уходили в леса, нападали на «Черных ландскнехтов» на дорогах, поджигали дома, где они оказывались на постое.
С запада — на Эльзас и Вестфалию — шли шотландские лучники, английские арбалетчики, конные гасконцы, драбанты Фландрии, а тяжеловозы из Булони, Першерона, Бретони и Брабансона везли осадные мортиры, тяжелые гаубицы и сотни артиллерийских парков, понтонов и осадных машин для того, чтобы сокрушить крепости, в которых еще сидели гарнизоны Бесноватого.
А навстречу им с юга шла не менее грозная пехота и конница папы Василиска. Сделав крутой и неожиданный бросок с юга на восток, войска папы очистили от бандитов Зигфрида Берксерьера Венгрию, Валахию, Болгарию, Польшу, Богемию, Моравию, Сербию и ворвались в Саксонию. А затем талантливые и храбрые папские коннетабли разделили свои легионы на два потока и самый большой и мощный, которым командовал Георгий, прозванный в народе «Победоносцом», повернул на запад — к Саксонии и Бранденбургу, нацеливаясь на Берлин, а второй поток пошел на север — к побережью Балтики и Кенигсбергу. Этим потоком командовали коннетабли Константин и Александр. Легионы коннетабля Константина осадили Данциг и Кобленц, а гвардейцы Александра — а у него под началом были почти одни гвардейские когорты и легионы — внезапно оказались у стен Кенигсберга.
9 апреля коннетабль Александр прислал в город своих парламентеров, и наш трусливый монарх попробовал было робко возмущаться нарушением нейтралитета, но и парламентеры Александра, и сам король хорошо знали, насколько непорочным и девственно чистым был этот так называемый «нейтралитет» и, поломавшись полдня, подписал акт о признании Кенигсберга и третьей части Пруссии папской провинцией. Короля отпустили с миром, к каким-то его родственникам не то в Голштинию, не то в Ангальт, в общем, куда-то в Шлезвиг или даже Данию, но я потому пишу об этом столь неопределенно, что наш так обожаемый монарх был настолько безлик и непопулярен, что судьбой его не поинтересовался почти никто, кроме самых близких к нему придворных, да, может быть, двух-трех камердинеров и лейб-лакеев.
Папа Василиск оказался ненамного лучше татарина Тенгиз-Булата. За считанные недели он выслал из Кенигсберга всех протестантов и, даже не организовав «референдума», а просто объявив о введении своего собственного управления, прислал в Кенигсберг своим Прокуратором крещеного язычника Николая, бывшего деревенского коновала, человека дикого, неотесанного, спесивого, но чрезвычайно хитрого и пронырливого. Никто толком не знал, откуда он родом, но поговаривали, что Прокуратор родился где-то в Золотой Орде, на реке Итиль, и с купеческим караваном совсем молодым человеком пришел в Рим. Там он влюбился в какую-то плебейку из Греции по имени Глафира и взял ее имя в качестве собственной фамилии, став Николаем Глафиросом и выдавая себя за незаконного сына важного византийского патриция, родственника последнего Трапезунтского императора Давида Комнина. Как бы там ни было, но в Риме его знали, и он, пользуясь поддержкой кого-то из кардиналов, чье имя он тщательно скрывал даже от своих клевретов, стал править как восточный деспот, запретив не только богатым бюргерам, но и знатным господам ездить в экипажах, запряженных более чем парой коней, с гайдуками верхом и форейторами на запятках, чтобы любой обыватель мог отличить его черную карету, запряженную шестеркой вороных жеребцов, с тремя гайдуками в седлах и лакеями на подножках.
На место изгнанных трудолюбивых протестантов Глафирос понавез итальянцев с Сицилии, с Корсики, из Сардинии, не очень-то трудолюбивых хлеборобов, но зато опытных моряков, которые за несколько лет запустили тучные нивы Пруссии, выходя на лов сельди и трески и собирая на берегу кусочки знаменитого янтаря — кусочки окаменевшей смолы древних деревьев, залитых морем во время Ветхозаветного потопа.
Прокуратор Николай Глафирос, как и многие неофиты-католики, люто ненавидел протестантов, и однажды ночью его люди — так, по крайней мере, утверждали в городе, — одновременно подожгли королевский замок и Кенигсбергский Кафедральный собор.
Во время этого пожара, как на беду, поднялся сильный ветер, и выгорело едва ли ни полгорода.
В Замке же, сгоревшем до тла, погибли знаменитый на весь мир Янтарный кабинет, а в соборе — Серебряная библиотека Великого Магистра Тевтонского ордена Конрада фон Валленрода.
Восстанавливать Собор Прокуратор запретил — Собор ведь был протестантским, а Замок велел разрушить до основания, а на его месте соорудить восемнадцатиэтажный халдейский Зиккурат, черный и страшный, видимый на расстоянии семи лье с любой стороны света, из-за чего дал повод говорить о себе, что он вовсе не византиец и даже не татарин, а чудом уцелевший халдей, наследник язычников — ассирийцев, кровь которых еще в третьем Адамовом колене перемешалась с кровью иудеев и египтян.
Но я ушел немного вперед — все это случилось в Кенигсберге после конца Второй Великой Религиозной войны, когда повелением папы Василиска Великого и имени нашего города не осталось на картах, а появилось новое итальянское — Вибурнум.
Название это произошло от латинского слова «Вибурнум», означающее «Калина». Многие утверждали, что папа Варилиск приказал назвать Кенигсберг Вибурном потому, что кроме знаменитых корсиканских вин «Твиши», «Хинцмареули» и «Хванчкара» любил и корсиканскую же деревенскую настойку, приготовленную из гроздьев калины — и Красной и Черной.
Однако это не совсем так. Калина здесь упоминается не напрасно, только из-за того, что через два года после присоединения Кенигсберга к Италии на очередном пиру у Василиска прямо за праздничным столом умер, опившись калиновой настойки, один из его друзей, Старый Борец, кардинал Михаил, ученик Илии Святого, возглавлявший в Римской Курии Центральную Исполнительную Коллегию по контролю над Светской властью.
Кардинал был стар, женолюбив, любил и застолья и, не рассчитав своих слабых сил, опорожнил в свой последний присест бадью[80] крепкой калиновой настойки.
Папа Василиск сильно горевал, утратив старого друга. Но Василиска Великого даже в самые трудные минуты ни на миг не покидало чувство юмора, и он своим архипастырским бреве повелел переименовать Кенигсберг в Вибурнум, чтобы всегда помнить об усопшем кардинале Михаиле.
Несмотря на не совсем праведную кончину, старого бабника и пьяницу похоронили по высшему разряду рядом с Великим Пантеоном Илии Святого и произвели траурный салют в 13 артиллерийских залпов.
Однако же пора остановиться. Я сильно заболтался и убежал вперед. Пора вернуться от траурных залпов к залпам победным.
Вскоре после того как папский коннетабль Александр въехал через Бранденбургские ворота в Кенигсберг, Вторая Мировая Религиозная война подошла к концу. Английский флот и эскадры Шарля де Коломба высадили десанты в Каире и Александрии, освободив Египет. Затем французы заняли Алжир. А находившиеся на Заморских территориях доблестные итальянские легионы очистили от врагов землю Южного Йемена, Сирии, Конго, Анголы, Гвинеи, Дагомеи и лихим ударом десантников взяли Мадагаскар, повсюду установив свою кайфолическую власть.
В это же самое время два лучших и талантливейших папских коннетабля Георгий и Константин — загнали войска Бесноватого в Бранденбург, осадили его столицу — Берлин и штурмом овладели им.
Зигфрид Бесноватый бился до последнего часа, но когда воины коннетабля Георгия подошли к городской цитадели, где он укрылся, и Бесноватый понял, что ему не избежать путешествия в Рим в железной клетке, а потом и костра возле Римского Пантеона, то, недолго раздумывая, съел фунт мышьяка и для верности велел своему оруженосцу проткнуть ему сердце мечом.
Узнав об этом, как мне потом рассказывали, папа Василиск сильно расстроился, ибо хотел часов шесть-семь понаблюдать с балкона Пантеона за тем, как мастера-инквизиторы медленно поджаривают Бесноватого, одновременно отщипывая железными щипцами с его тела обгоревшие кусочки мяса.
Лауренцио как-то говорил Василиску, что его специалисты знают 666 мучительных казней. И тогда папа пошутил:
— Не потому ли, брат Лауренцио, это число называют звериным[81]?
— Правильно, — согласился Лауренцио.
А именно эту казнь он выбрал для Бесноватого потому, что ее больше всех других любил созерцать Василиск, остроумно называя ее корсиканским словом «шашлык»[82].
И вот такого-то наиприятнейшего зрелища этот трусливый подлец лишил Василиска, покончив с собой.
Папа заменил отнятое у него удовольствие тем, что устроил грандиозный фейерверк и пир у себя во дворце для всех ветеранов, возвратившихся в Рим. Он возвел всех трех коннетаблей в звание генералиссимусов-лейтенантов, наградил их орденами «Виктории», а ветеранам похода велел выдать — в зависимости от звания — от ста золотых дублонов до бочки крепкого белого вина «Особое Римское» и «Папское столичное».
Он возвел в звание генералиссимуса-лейтенанта и Генерального комиссара Святой инквизиции Великого магистра Ордена Грозы, Пламени и Урагана кардинала Лауренцио и наградил его орденом «Пылающего Костра», ибо, как сказал Василиск, Лауренцио был сам пылающим костром и обнаженным мечом католической диктатуры.
На пиру Василиск был необыкновенно весел и добр и сам поднял два тоста. Один он провозгласил за своих коннетаблей, ставших генералиссимусами-лейтенантами, и за всех, кто под их командованием громил «Черных ландскнехтов». А второй тост он поднял за терпеливый и добрый итальянский народ, который работал всю войну, как большая сложная машина, в которой безотказно крутились все колесики и винтики.
А все кардиналы, архиепископы и братья из ВКЛ, представлявшие свои национальные секты, предлагали только один и тот же тост — за Василиска, величайшего полководца всех времен и народов.
Яркая кроваво-красная звезда Василиска Великого взошла в зенит, и во всех странах к его сторонникам стали относиться с почтительной боязнью.
И к нам, кенигсбергским католикам, тоже стали относиться по-другому, и мы из людей третьего сорта превратились в людей несомненно сорта наивысшего, и мы вздохнули с облегчением — теперь нас уже никто ни в чем не подозревал, тем более что власть папы распространилась на многие страны, в том числе и соседние с нами, откуда его коннетабли выгнали «Черных ландскнехтов». Теперь и в Венгрии, и в Польше, и в Богемии, и в Саксонии, и в Моравии, и в самом Бранденбурге власть перешла в руки тех, кто руководил местными конфедерациями Паладинов Христа и состоял во Всемирной Католической Лиге.
Кроме того, когда великая победа была одержана, то и во всех других странах, даже не участвовавших в войне, очень сильно возрос престиж католиков, и миссионерам папы Василиска стало гораздо легче проповедовать Слово Божие и среди мавров, и на Ниле, и в далеком Китае, где раньше католические миссии не имели почти никакого успеха, даже в никому дотоле неведомой стране Норд-Коре, где правил «Живой Бог, Сын Бога и Отец Бога» по имени Чучхе. Этот самый Чучхе принял кайфолическую веру, обратил в эту веру и весь свой народ, но, как утверждали наши миссионеры, в душе как был язычником, так и остался.
Что же касается Бесноватого, то его смрадные останки закопали в дремучем лесу под Тевтонским Дубом, которому еще до Рождества Христова поклонялись варвары — тевтоны. А его соратников — фельдмаршалов Германа Толстяка и Вилли Кейтера, а также еще двадцать прочих эмиссаров, ляйтеров и иных шишек из всех «Трех С» — изловили и отвезли в город Нюрнберг, где почти всех и повесили. Трех, правда, отпустили с богом, одного посадили на цепь, признав сумасшедшим, хотя, честно говоря, едва ли среди этих выродков был хотя бы один нормальный, а Герман Толстяк и еще один обвиняемый, не дождавшись казни, покончили самоубийством.
В общем, после разгрома Зигфрида Бесноватого весь мир пришел в движение, и всем казалось, что слова «Великого хорала», в котором говорилось о неминуемой победе «Копателей», вот-вот оправдаются, ибо пол-Европы перешло под власть папы.
И как только война кончилась, в Кенигсберге объявился Эмиль Хубельман. Оказывается, он за год до конца войны, когда в соседней с нами Польше началось восстание местного населения против «Черных ландскнехтов», тайно перешел границу где-то в мазурских болотах, связался с братьями из Польской КП и был направлен военным капелланом в партизанскую бригаду имени Святого Казимира. Он храбро воевал и вернулся после победы над общим врагом всех католиков, получив от примаса Польши военный орден «Крест Жальгириса»[83].
Вслед за тем бригадный капеллан Хубельман, как говорили, впавший в особую милость у папы, получил степень Доктора Богословия и Аттестат, выданный Высшей Аттестационной Комиссей Папской Академии наук.
(В то время место богослова в ученой иерархии определялось не тем, сколько трактатов он написал и в скольких теологических диспутах победил, но прежде всего тем, как проявил он себя на практике. И особенно важно было то, состоял ли он в «Обществе друзей Инквизиции», а в нем состояли только ее осведомители, и доказал ли он верность Церкви в войне с неверными.)
А Эмиль доказал это и, как говорили, будучи активным членом «Общества друзей Инквизиции» и показавшим себя храбрым воином. Оттого-то и взошла в зенит звезда теолога и верного сына Церкви Эмиля Хубельмана.
А тут еще пронесся слух, что Эмиль Хубельман и вообще скоро покинет Кенигсберг, ибо ему предоставляют место профессора в Ватиканской Академии Ортодоксальных наук, в аббревиатуре ВАОН, в которую, как говорили, было очень нелегко попасть даже хорошо образованному клирику.
Я не знал, что такое ВАОН, и спросил об этом патера Иннокентия. И он сказал, что лет десять назад он и сам пытался поступить туда, но не прошел конкурсного экзамена, ибо экзамен оказался очень трудным, а кроме того, сказал патер, там с неохотой принимали священников из других стран, помимо Италии, хотя в общих правилах приема в ВАОН указывалось, что в ней имеют право учиться священники, не только безупречно прослужившие не менее пяти лет патерами в приходах, но и заслужившие одобрение архипастырей, которые и направляли их туда с согласия местного синклита, снабдив не просто письмом какого-то патера, но коллегиальной письменной рекомендацией, заверенной печатью даже не епископа, а только архиепископа, а еще лучше — кардинала.
После строгого экзамена принятые в ВАОН готовились опытнейшими богословами для того, чтобы в скором будущем стать деканами теологических или философских факультетов, благочинными епархий, настоятелями монастырей или же оставлялись при ВАОН для того, чтобы дальше совершенствоваться в Догматическом Богословии и стать Докторами Ортодоксии.
Именно этим последним, кто должен был толковать, комментировать, аргументировать и цензуровать сочинения других богословов, а также писать свои собственные труды и всякий день опровергать ереси, и позволялось на самом последнем курсе Академии, когда ум их уже был изощрен в догматике и диалектике, а душа тверда, позволялось читать разные еретические сочинения с тою благой целью, чтобы хорошо знать аргументы противников католичества и умело опровергать их контрдоводами, а на их лживую пропаганду ересей отвечать сокрушительной так называемой контрпропагандой.
Итак, как говорили еще совсем недавно в поверженном ныне Бранденбурге, «каждому свое». Мне — экзамены в семинарии, а высокоученому теологу Эмилю кафедра в Ватиканской Академии.
Но, мне кажется, что я радовался предстоящей поездке в Рим не менее Хубельмана — у меня вся жизнь была впереди, а он, по сути дела, был уже глубоким стариком.
Радовало меня и то, что война уже кончилась, и теперь путь мой лежал только через дружественные папе Василиску католические страны.
Я решил, что лучше всего будет поездка через Польшу, Богемию и Австрию. А там — Италия.
Иоганн ехал вместе со мной, и он согласился с избранным мною маршрутом. Родители тоже одобрили мой план. Патер Иннокентий, узнав об этом, одобрительно погладил меня по голове и промолвил:
— Ну, сын мой, с Богом! А я поеду в Данциг к викарию нашего епископа и получу от него благословение на вашу поездку, ибо одного моего рекомендательного письма будет недостаточно. По правилам для поступления в семинарию нужна еще и подпись викария и, главное, печать его преосвященства[84].
Слезы благодарности навернулись у меня на глазах: доброму патеру Иннокентию предстояла ради нас и неближняя дорога, и немалые расходы, и изрядные хлопоты.
«Ах, как жаль, — подумал я, — что нет у нас в Кенигсберге своей кафедры[85]. А маленькая община позволяет держать здесь лишь патера. А как было здесь хорошо до победы поганых лютеран — наш Кенигсбергский кафедральный собор был знаменит на весь мир, и епископ Кенигсбергский был не последним из князей Церкви. А теперь во всех храмах позаседали проклятые протестантские еретики, и у нас остался всего один храм — и в нем наша свеча — Патер Иннокентий».
Патер вернулся через неделю и привез два рекомендательных письма, заверенных подписью данцигского викария и печатью его преосвященства.
— Храните эти письма у самого сердца, — сказал нам наставник, передавая бумаги. — Без этих бумаг никто в Риме не сможет вам помочь. В Риме очень строгие порядки, там документ, или, как называют его в народе, бумажка, всегда важнее всего, даже важнее человека. Недаром римляне говорят: «Без бумажки ты — букашка, а с бумажкой — человек».
Патер задумался и вдруг улыбнулся:
— В дни моей молодости один озорной вагант написал об этом песню и там были такие слова:
За столом бумажка будет пить чаи, Человечек — под столом валяться, скомканный.
Я не поверил в серьезность сказанного, однако, оказавшись в Риме и даже еще по пути туда, сумел много раз убедиться в совершеннейшей справедливости слов нашего наставника[86].
Но прежде чем я уехал в Рим, произошло огромное несчастье — тяжко заболел и перед самым нашим отъездом скончался мой любимый наставник Джованни Сперотто.
Я и Ганс Томан не уходили из его дома все последние дни, то сидя рядом с ним, то ожидая на кухне указаний и поручений его хозяйки — и в аптеку надо было сбегать, и позвать цирюльника, чтобы для облегчения болезни отворить кровь, то сбегать за доктором, а то и помочь хозяйке в хлопотах по дому и по уходу за больным.
Наконец, все наши заботы уже не смогли облегчить участь несчастного старика.
Он попросил позвать патера Иннокентия. Патер пришел немедленно и попросил всех, кто был в комнате умирающего, выйти из нее, чтобы исповедать и причастить сеньора Джованни.
Патер пробыл около часа и, выйдя, сказал, что мы можем войти к умирающему, ибо он еще жив и хочет со всеми попрощаться.
Все мы подбадривали старика, но, выходя, плакали, ибо видели, что смерть уже стоит у его изголовья. Последним он попрощался с Гансом, и когда тот вышел, мы поняли, что старый солдат и музыкант умирает.
Ганс сильно плакал, не стыдясь слез, и только повторял:
«Он один понимал меня, и я верил ему одному».
В те мгновения я не придал словам Ганса особого значения, но потом, вспомнив их и размышляя над ними, убедился в глубоком смысле и правдивости сказанного моим товарищем. Я вспомнил, что после занятий Томан часто оставался у старика, а нередко я, приходя к назначенному часу, уже заставал их вместе, и видно было, что Ганс пришел не только что, а сидит здесь уже изрядное время.
Я вскоре понял, что Ганс гораздо ближе Сперотто, чем я, и хотя мне было это в обиду, но я не понимал, чем Томан лучше меня, тем более что мои успехи в изучении итальянского были большими, чем у моего напарника.
Видно, их связывала какая-то тайна или большее духовное сходство, чего, впрочем, я обнаружить не мог, может быть, от того, что по молодости не замечал этого.
Но в эти минуты, мне казалось, я все понял и вдруг обнаружил в себе мерзкое чувство совершенно не соответствующей моменту зависти: я завидовал тому, что последним возле умирающего был не я, а он, Ганс Томан.
Все эти чувства промелькнули у меня в голове и сердце за считанные Мгновения. И как только я поймал себя на мысли о греховности зависти в столь неподходящий момент, Ганс перестал плакать и прерывающимся голосом сказал мне: «Иди, он просит тебя зайти к нему». «Боже, — подумал я, — все же ты услышал меня».
Когда я вошел, Джованни был совсем плох. Он дышал с трудом и взор его был замутнен, но старик узнал меня и сделал мне знак подойти к постели.
Я подошел и встал перед ним на колени. Он, собрав последние силы, положил мне сухую и легкую руку на голову и сказал тихо и проникновенно: «Томас, мальчик мой, я должен отдать тебе мой дневник и завещание, которое прошу передать в руки твоей матери». «Она здесь, — сказал я, — позвать ее?» «Нет, — ответил Джованни осознанно и твердо. — Я не хочу, чтобы она видела, как я умираю». И он показал мне на шкаф и сказал, что в самом низу стоит шкатулка и в ней лежат зеленая тетрадь и коричневый конверт. Тетрадь он попросил сохранить в тайне от всех, а конверт отдать матушке. Я быстро нашел все, спрятал тетрадь за пазуху, а конверт решил вынести за дверь не пряча.
Я поцеловал умирающему руку и услышал, как он прошептал мне: «Да хранит тебя Бог». И замолк.
«Он умер», — сказал я, оказавшись за порогом опочивальни. Патер и лекарь, не слышно ступая, пошли в комнату покойного, а мы все встали и начали хором молиться за упокой его души.
Матушка моя была безутешна и горько плакала вместе с квартирной хозяйкой Джованни.
Дома я передал конверт матери, но она не стала вскрывать его и сделала это через три дня — только после того, как мы возвратились с кладбища.
В конверте, действительно, лежало нотариально заверенное завещание, согласно которому отцу, матери, всем нам, троим братьям, и бабушке Анне завещалась равная сумма — по двести золотых пиастров, а кроме того, еще триста пиастров Сперотто завещал патеру Иннокентию на милостыню для бедных.
Отметив девятый день после смерти доброго старика, мы на следующее утро решили уезжать в Рим.
Я и Иоганн попрощались на остановке дилижанса с патером Иннокентием, с родителями, с плачущей бабушкой Анной и сели в пассажирский дилижанс, направлявшийся через Данциг в Варшаву. Отец и мать Иоганна возвратились со стоянки дилижанса домой, а мои родители и бабушка, наняв дорожный фиакр, провожали меня до Бранденбургских ворот. Там возницы остановили свои экипажы, я вышел, попрощался еще раз и поехал навстречу своей судьбе, оглядываясь назад, но почти ничего не видел, ибо пошел дождь, из-за чего стекло стало мутным, да и я, признаться, плакал, но старался, чтобы никто из окружавших меня пассажиров, а особенно Иоганн, этого не заметил.
А он не мог этого заметить, по той простой причине, что как сел в дилижанс, так и углубился в какую-то толстую тетрадь. Причем, наверное, для того, чтобы я ему не мешал, отсел от меня подальше. Я же все больше смотрел в окно на проплывающие мимо деревни и пейзажи, а он все читал и читал. А когда я как-то спросил: «Ганс, что это ты все время читаешь?», он ответил: «Латинские штудии, Томас. Ведь впереди у нас невероятно трудные экзамены».
Тогда и я вспомнил, что у меня тоже есть записи уроков по-латыни, но когда раскрыл дорожную сумку, то сначала увидел зеленую тетрадь Сперотто и тут же предпочел ее скучным латинским штудиям.
И хотя смотреть в окно было порой довольно занятно, но все же самым сильным впечатлением от всей дороги из Кенигсберга в Рим оказалось чтение «Дневников» Сперотто. Я читал их почти не отрываясь и корил себя за слабоволие, за то, что не могу приняться за латинские уроки, которые для меня сейчас важнее всего на свете. Однако уговоры не помогали, и я, засыпая, давал себе слово — с утра заняться латынью, но, проснувшись, вновь хватался за зеленую тетрадь и продолжал читать дальше, утешая себя тем, что это тоже неплохо, так как, читая «Дневники» Джованни, я совершенствую свои знания в итальянском, ибо его «Дневник» был написан именно на этом языке.
Да, пожалуй, для того, чтобы мой сумбурный рассказ стал более связным, плавным — в который уж раз пишу я это! — наверное, имеет смысл вклеить и «Дневник» Джованни Сперотто именно сюда, так как рукопись эта о последовательности событий моей жизни, а «Дневник» я прочел именно по пути из Кенигсберга в Рим и место ему — здесь.
Итак, вот они, его записи[87].
IV. ДОРОГОЙ БОГОВ Историко-приключенческая повесть
В 1976 году издательство «Детская Литература» выпустило мою историко-приключенческую повесть «Дорогой богов», посвященную невероятной судьбе польского графа Люриса-Августа Беньовского, многими называвшегося одним из величайших авантюристов своего времени. Беньовский был взят в плен русскими войсками во время Барского восстания за независимость Польши в 1768 году. Он бежал из плена, был отправлен на Камчатку, бежал и оттуда, захватив галеон «Святой Петр» и дойдя на нем до Мадагаскара, где стал первым президентом Союза Малагасийских племен. В молодости, скитаясь по Европе, Беньовский побывал в Кенигсберге, познакомился с комендантом города генералом Василием Ивановичем Суворовым и его сыном, подполковником Александром Васильевичем. Остановившись на время в Кенигсберге, Бениовский слушал лекции профессора Канта, а затем, опасаясь ареста, скрылся из города. О его пребывании в Кенигсберге, в этой книге посвящены две главы.
Глава пятая, повествующая о встрече трех человек в деревенской кузнице, о сыновних чувствах подполковника Суворова и о верноподданном Куно фон Манштейне, попытавшемся загладить свою вину благородным и смелым поступком
Не успел Морис отойти от Ченстохова и трех верст, как погода сразу же переменилась: откуда ни возьмись, появилась темная клубящаяся туча. Она шла низко-низко, вбивая в притихшую землю слепящие стрелы молний и пригибая траву летевшим впереди нее ветром. Через несколько минут солнце скрылось за тучей, молнии полыхнули где-то рядом и прямо над головой ударил гром. Гроза застала Мориса в чистом поле. Спрятаться было негде. Морис промок с головы до ног за какие-нибудь три минуты и потом уже шел, не обращая внимания ни на гром, ни на молнии, ни на ливень.
Когда гроза стихла, но дождь еще шел и по лужам прыгали веселые пузыри, Морис увидел за поворотом, у перекрестка дорог, деревенскую кузницу и, дойдя до нее, свернул под навес. Пользуясь неожиданной передышкой, кузнец бросил под дождем и кувалду и клещи и теперь сидел под навесом у огня. Сидел он на чурбаке у грубо сколоченного стола. На другом чурбаке, спиной к Морису, сидел человек, одежда которого была сшита из светло-серой парусины, а голова повязана бледно-голубым платком. Оба они, негромко переговариваясь, хлебали щи. Увидев подходившего к ним незнакомца, они. замолчали. Кузнец жестом пригласил Мориса к столу, но он учтиво поблагодарил хозяина и сел на третий чурбак, стоявший возле жарко горевшей печи.
Человек в платке возобновил прерванный разговор.
— А как война началась, — говорил он, — тут уж пришли мы во Бесконечное разорение. Под английским флагом пойдешь — французы топят, под французским пойдешь — англичане. Пока имперские земли держали нейтралитет, плавать было хотя и трудно, но все-таки можно, а вот как и империя ввязалась в нойну, тут мы все и сошли на берег. Хорошо еще, что живы остались. Помыкался я, помыкался и в Пиллау и в Кролевце да и подался на старое место под Братиславу, откуда сам я родом. Три года прокрестьянствовал, зимой время от времени занимался извозом, ан нет, тянет море обратно. Вот и иду в Кролевец, авось там дела сейчас получше, чем три года назад.
Между тем дождь усилился. За его шумом Морис не совсем хорошо слышал, о чем говорят кузнец и прохожий матрос.
Когда же он прислушался, то не слова, а голос матроса о чем-то напомнил Морису, но первые несколько мгновений он никак не мог вспомнить, где ему довелось слышать его. Морис стал внимательно следить за разговором.
— Мы живем к Кролевцу поближе вашего, — ответил кузнец матросу. Приходилось мне встречать людей, которые бывали в Кролевце, когда был он под прусским королем, приходилось встречать и тех, кто остался в нем жить после того, как взяли его русские. И многие из его мещан, которым доводилось проезжать мимо моей кузни, говорили мне, что русские солдаты ни ремесленникам, ни торговцам никаких обид не чинят, и даже говорили, что от налогов и податей всех вообще городских обывателей начисто освободили.
— И я хоть и слыхал то же самое, — отозвался матрос, — только не верю в это. Видано ли дело: взять у неприятеля город и не только не стребовать с него контрибуцию, но еще обывателя от податей освободить!
Кузнец пожал плечами. Как будто немного обидевшись, проговорил:
— Дыма без огня не бывает. Значит, что-то такое есть, коли люди в один голос подтверждают.
— Я наверное знаю, что это так, — произнес Морис, и кузнец с матросом с любопытством взглянули на него. — Русские, заняв Кролевец, или Кёнигсберг, как называют его немцы, на первых порах более всего хотели расположить местное население к себе и к своей императрице. А как это лучше всего можно было сделать? Разумеется, освободив обывателей от того тяжкого бремени, какое наложил на них постоянно нуждавшийся в деньгах прусский король. Зачем им это было нужно делать, спросите вы. Отвечу. Русским выгодно иметь благорасположенных к ним горожан в тылу их наступающей армии. Им выгодно и то, что трудолюбивые и аккуратные ремесленники Кролевца работают без боязни, что все сделанное ими или какую-нибудь часть сделанного заберут налоговые агенты. Им выгодно также развивать торговлю, в том числе и морскую. И я думаю, приятель, — Морис повернул голову к матросу, — что ты без труда найдешь работу в Кролевце…
Матрос, все время слушавший молча, при последних словах повернулся к нему, и Морис от удивления оборвал фразу на полуслове. Перед ним сидел Андрей, его старый знакомец Андрей, с которым довелось ему коротать дорогу от Братиславы до Вербова, мерзнуть на постоялых дворах и отбиваться от волков.
Андрей заметил удивленно радостное выражение лица его неожиданного собеседника и недоуменно повел плечом — он не узнал Мориса. Болезненная худоба, грязная, потертая одежда и то, как появился он, хромая, под навесом кузницы, — все это не позволяло Андрею признать в сидевшем перед ним человеке молодого барича, которого три года назад он привез в богатый графский дом возле деревни Вербово.
Морис понял, что Андрей не узнал его, и решил до поры до времени не признаваться в том, кто он и каково его настоящее имя.
И кузнец и Андрей с первых же слов Мориса сообразили, что перед ними сидит не простой человек. Поэтому учтивее, чем если бы он разговаривал со своим братом-простолюдином, Андрей спросил:
— А откуда вашей милости все это известно? Причем слова «ваша милость» можно было принять и как легкую дружескую насмешку, и как дань уважения знающему человеку.
Морис произнес весело:
— Вот уж и «ваша милость»!
Кузнец, улыбнувшсь, добавил:
— Ты бы еще сказал: «Ваше сиятельство, господин граф или барон»!
И очень удивился, когда на эту его реплику Морис рассмеялся так заразительно и звонко, как будто кузнец отпустил бог весть какую смешную шутку. Кончив смеяться, Морис сказал:
— Я служил вахмистром в кавалерии и одно время был связным между русским и австрийским штабами. Видел русских, говорил с ними. Они мне так это и объяснили. Да вот царапнуло меня. — Морис выразительно стукнул палкой по полу. — Теперь иду к одному приятелю в Лифляндию. Говорил, что найдет мне подходящее дело. Надеюсь, не подведет.
Кузнец немного удивился, что раненый вахмистр не носит своей старой кавалерийской формы, но не — придал этому особого значения и дружелюбно заметил:
— Такому толковому парню любое дело подойдет, а если хочешь, — добавил он, — оставайся у меня. Подучу тебя кузнечному ремеслу. Дело это неплохое, всегда будешь с куском хлеба.
И, заметив, что Морис колеблется, не зная, следует ли согласиться с полученным предложением или же отказаться от него, кузнец продолжал:
— Ты не смотри, что я весь в саже и что кузница у меня старая да грязная. Деньжата у меня водятся. Даст бог, года через три-четыре я это дело побоку пущу, а на месте кузни сооружу заезжий двор. А если ко мне в подмастерья пойдешь, то мы с тобой и побыстрее дело это свершим: место здесь бойкое, народ валом валит, работы хоть отбавляй. — И, решив окончить разговор, добавил: — А я тебя не обижу. Первый год кормить-поить буду, во второй год положу тебе по пяти грошей в день.
— Спасибо тебе, — сказал Морис. — Остался бы, да вот приятель мой в Лифляндии меня ждет, идти надо.
— Ну что ж, иди, — ответил кузнец. — Значит, и в самом деле не можешь, а то кто бы от такой выгоды отказался!
— Куда ты, говоришь, идешь, приятель? — спросил Мориса матрос.
— В Лпфляндию, на мызу Тоотцен, — повторил Морис.
— Так нам с тобой по пути. Мы вместе можем добраться до Кролевца, а там тебе очень удобно будет морем добраться до Ревеля или Риги. И безопасно это, потому что, как мне говорили, теперь от Кролевца до Кронштадта на всех путях русские фрегаты и никаких других военных кораблей в Балтийском море нет.
Предложение Андрея показалось Морису заманчивым, но, немного поразмыслив, он решил отказаться. «Пойдем мы вдвоем, — подумал он, — а в моем нынешнем состоянии я Андрею не чета. Будь у меня хоть немного денег, лучше и не надо мне попутчика, чем он. А так нет, не годится».
И Морис ответил, обращаясь к кузнецу:
— А знаешь, хозяин, я, пожалуй, останусь у тебя на пару-недель. А то денег у меня нет, а идти надо. — И, повернувшись к матросу, сказал: — А если ты, моряк, хочешь пойти со мной дальше через две-три недели, оставайся здесь со мной вместе, деньги и для тебя не будут лишними. А там — и в дорогу. — И, не дав опомниться матросу от неожиданного предложения, спросил с лукавой усмешкой: — Ну как, Андрей, по рукам?
Андрей от изумления замер и пристально всмотрелся в лицо «вахмистра».
— Морис Август? Да вы ли это?! — воскликнул Андрей. — Вот ведь чудо! Не иначе, как ченстоховская божья матерь свела нас с вами!
…Больше месяца проработали Морис с Андреем у кузнеца; пора была горячая, дел было до того много, что даже спать иногда приходилось урывками. От работы на воздухе с клещами и кувалдой Морис окреп и, казалось, даже раздался в плечах.
Однажды он поймал себя на мысли, что слова женевского часовщика о необходимости и полезности ручного труда не вызывают у него никакого протеста. И даже более того — нравятся ему.
Морис спросил себя, а не опустился ли он до уровня ремесленника, как и советовал господин Руссо? И, продолжая этот невольный диалог с самим собою, ответил: «Возможно». Но странное дело: и это не вызвало у него ни малейшего протеста, а почему-то пробудило довольство собою.
Улыбнувшись самому себе, Морис прошептал: «Спуститесь до уровня ремесленника, чтобы стать выше своего праздного сословия!»
Тихим осенним утром в ту короткую пору, когда в природе ярко вспыхивают все цвета и краски, когда небо становится пронзительно синим, а листья на деревьях желтыми и красными, когда в полях только начинает пробиваться изумрудная озимь и черную свежевспаханную землю перед восходом солнца покрывает серебряный иней, в эту короткую пору Андрей и Морис двинулись в дорогу, на север, к далекому морю.
Без приключений дошли они до небольшого польского городка Серадзи, а там на барже сплавились вниз по Варте до того места, где река круто поворачивала на запад. Здесь Морис и Андрей сошли на берег и снова двинулись пешком. Еще двое суток добирались они по полям и перелескам до города Добжиня, что стоял на правом берегу другой реки — Вислы, а оттуда опять поплыли на север к Эльблонгу. Наконец, сделав пятидневный переход к северо-востоку, поздним вечером добрались до Кролевца.
Город они увидели издали. Кролевец привольно раскинулся среди полей и лугов по обеим сторонам тихого, лениво текущего Прегеля. Пока путники добрались до городского предместья, успело стемнеть.
Уже в густых сумерках Морис и Андрей прошли чистенькой зеленой улицей предместья.
Почтенные обыватели в чепцах и спальных колпаках иногда выглядывали из окон, оплетенных плющом и диким виноградом, провожая Мориса и Андрея настороженными и любопытными взглядами. Вскоре улица оборвалась на берегу глубокого рва, наполненного тинистой водой. На другой стороне рва торчал поднятый к небу разводной мост, почти закрывший собою видневшиеся из-за него большие железные ворота. Слева и справа от ворот тянулся, насколько мог охватить глаз, крутой и высокий земляной вал, поросший по склонам кустами и деревьями, с торчащими кое-где руинами старой городской стены. На той стороне рва, слева от моста, стояла полосатая будка, но часового в ней не было.
Уже совсем стемнело, но Морис и Андрей стояли у рва, не решаясь позвать стражников.
Между тем на противоположном берегу показался человек.
По силуэту было видно, что это солдат: даже в темноте высокий кивер и длинный штык были отчетливо заметны. Солдат поставил ружье в сторону, прислонив его к будке, а сам куда-то ушел. Вскоре он вернулся, неся на плече длинную лестницу. Поставив лестницу к воротам, солдат проворно взобрался на самый ее верх и стал стучать кремнем о кресало. Искры весело запрыгали в темноте, и, наконец, зажегся сначала один надво-ротный фонарь, ла ним другой.
Неяркие багровые блики упали на воду. Светлый круг у ворот, казалось, оттеснил ночную тьму, и за пределами этого круга темнота стала еще более густой и черной.
Засветив второй фонарь, солдат, почуяв, что кто-то стоит неподалеку от него, резко обернулся и, как показалось Морису, испуганно крикнул:
— Эй, что за люди?!
Спрыгнув на землю, солдат быстро побежал к будке, схватил ружье и, заметно успокоившись, спросил по-немецки:
— Кто вы такие?
И тогда Морис по-русински сказал солдату:
— Путники мы, матросы. Припозднились вот в дороге. Не опустишь ли, браток, мост?
Солдат понял все, что сказал ему Морис, и уже дружелюбно, с сожалением в голосе произнес:
— Не разрешается это нам. Подождите до света. С первыми петухами и пустим вас в город.
Морис и Андрей совсем уже было собрались повернуть назад, как до их слуха донеслось цоканье копыт. Вскоре рядом с ними остановили коней двое всадников. Один из них был здоровенный чернобородый казак в лихо заломленной набекрень шапке, с медной серьгой в ухе, другой — щуплый и маленький, в мундире пехотного офицера, но очень ловко, по-кавалерийски, сидевший в седле.
Осадив коней у самой воды, всадники не спешились. Казак рявкнул густым басом:
— Эй, пехота, опускай мост!
На что солдат с той стороны рва спросил:
— А кто такие будете, что вам среди ночи буду мост опускать?
Казак ответил:
— Его высокоблагородие господин подполковник Суворов с денщиком!
— Погодите айн момент, ваше высокоблагородие! — крикнул солдат и нырнул в железную калиточку возле ворот.
Не более чем через минуту он выскочил оттуда с тремя солдатами, и они споро закрутили ручки лебедок, стоящих слева и справа от моста. Черная громада моста легко сдвинулась, и с тихим скрипом мост лег на берег.
Следом за солдатами выбежал заспанный капрал, неся в одной руке фонарь, а другой на ходу поправляя треуголку.
Андрей толкнул Мориса в бок, и Морис, догадавшись, чего Андрей от него ожидает, обратился к щуплому офицеру:
— Господин подполковник, разрешите и нам вместе с вами войти в город?
— Не меня просить надо. Не я здесь пускаю — не пускаю, — резкой скороговоркой выпалил офицер и легонько пустил коня на мост.
Заспанный капрал спросил у офицера документы, бегло просмотрел их и, приложив два пальца к треуголке, спросил:
— К батюшке своему, его превосходительству господину генералу Суворову изволите ехать, ваше высокоблагородие? — И, не дожидаясь ответа, добавил: Ежели угодно, могу провожатого с вами послать, а то в темноте отыскать господина коменданта будет не просто.
Но Суворов сказал только:
— Спасибо, служба. Как-нибудь найдем, — и тронул коня. Уже на ходу он повернулся назад и, ткнув зажатой в руке нагайкой в сторону моста, негромко крикнул:
— Пропусти там этих двух!
Казак гикнул, кони рванулись, гулко процокали под еркой распахнутых крепостных ворот и скрылись.
Морис и Андрей сошли на мост, чуть колыхнувшийся под их ногами. Заспанный капрал знаком приказал им остановиться и на ломаном немецком языке попросил показать документы. Ни у того, ни у другого никаких документов не было. Тогда капрал махнул фонарем и приказал Морису и Андрею следовать за ним.
В большой полутемной комнате, куда капрал привел путников, было душно и жарко; Воздух проходил сюда лишь сквозь узкие бойницы да единственное небольшое окно, забранное толстой чугунной решеткой. На столе стояла плошка с налитым в нее жиром и плавающим поверху слабо горящим фитилем.
На лавках, стоящих у стен, подстелив под себя плащи, спали солдаты.
Капрал ткнул пальцем на две свободные лавки и сказал:
— Du und du. Sie beide mussen hier bis morgen warten.[88] — И, немного подумав, добавил: — Konnen sie hier schlafen.[89] A туда, — перешел, капрал на русский язык и выразительно ткнул пальцем на дверь, — ни-ни!
Андрей как лег на лавку, так сразу же и заснул, а Морис долго еще ворочался, беспокойно думая, что принесет ему утро и что следует говорить, если начнут его спрашивать, кто он таков и зачем пожаловал в Кролевец.
Проснулся он оттого, что кто-то тряс его за плечо. Открыв глаза, Морис увидел, что в комнате уже никто не спит, на соседней с ним лавке сидит Андрей, за столом сидят два офицера и выжидательно смотрят на Мориса. Один из офицеров был в мундире майора, на другом, белоглазом и белобрысом, был старый сильно поношенный офицерский мундир без знаков различия. Взглянув на белобрысого, Морис подумал: «Бывает же такое совпадение: и человек и одежда как бы одно существо — линялое какое-то, потасканное и вконец обесцвеченное».
В тот же момент белобрысый вдруг быстро сказал Морису на чистейшем немецком языке:
— Подойди сюда! Морис вскочил:
— Господин майор, — белобрысый посмотрел на сидящего рядом с ним офицера, — будет задавать тебе вопросы, а ты отвечать на них. Я буду переводить господину майору все, что ты скажешь.
— Кто ты таков? — спросил майор.
— Я служил вахмистром в австрийской императорской армии… — начал Морис, но белобрысый тут же перебил его:
— А не изменяет ли тебе память, любезный? Не перепутал ли ты армии и не в королевской ли прусской кавалерии был ты вахмистром?
— Нет, господин офицер, — спокойно и с достоинством произнес Морис, — я служил в австрийской армии.
— Господин майор интересуется, — сказал затем переводчик, — у кого именно ты там служил?
— У генерала Лаудона, — ответил Морис.
— А как звали этого твоего генерала? — спросил переводчик.
— Гедеон Эрнст, — ответил Морис. Бесцветные брови переводчика полезли вверх, водянистые глаза округлились.
— Великолепно! — воскликнул он и стал негромко, но быстро о чем-то с жаром рассказывать майору.
Несмотря на то что переводчик говорил быстро, Морис понял, что белобрысый раньше служил вместе с Лаудоном и хорошо его знает. Белобрысый упомянул в разговоре и Данциг, и Крым, и Азов, подробно перечисляя баталии, в которых ему довелось участвовать вместе с Лаудоном.
Наконец белобрысый кончил и спросил Мориса:
— А чем ты можешь доказать, что действительно служил под началом Лаудона?
Морис не спеша вынул из-под рубахи синий бархатный конверт с замысловатым золотым вензелем, в котором он хранил бумаги, и достал письмо, данное ему Лаудоном в день их последней встречи.
Переводчик недоверчиво посмотрел на пакет, осторожно взял его, повертел немного и передал майору.
Майор с хрустом сломал печати, разорвал конверт и вынул оттуда лист бумаги, исписанный крупным, размашистым почерком. Мельком взглянув на письмо, майор передвинул лист по столу, и белобрысый, быстро подхватив его, начал читать. Чем дальше он читал письмо, тем выше и выше поднимались его брови. Когда чтение письма было окончено, брови белобрысого стояли почти вертикально, образуя две параллельные с носом линии. Белобрысый встал, почему-то одернул свой старенький мундирчик и на цыпочках обошел майора кругом. Наклонившись к его уху, он шепотом стал что-то говорить майору, бросая короткие, быстрые взгляды на Мориса. Было заметно, что и майор удивлен услышанным. Подумав немного, майор сложил письмо Лаудона вдвое, сунул его в синий конверт, затем спрятал конверт в сумку и, неловко запинаясь, произнес по-французски:
— Ваше сиятельство, господин граф… я должен отвезти вас к коменданту города генералу Суворову.
Когда Морис в сопровождении майора подошел к двери, ничего не понявший Андрей обеспокоенно крикнул ему вслед:
— Морис, ищи меня в порту, в кабачке «Акулья пасть»!
Генерал-провиантмейстер Василий Иванович Суворов, в новом парике, в новом, с иголочки, мундире, напомаженный и надушенный, сидел за огромным столом черного дерева, в большом своем кабинете, пребывая в наипрекраснейшем расположении духа.
Неподалеку от него, на другом конце стола, сидел его сын, уткнувшийся в какую-то книгу, как всегда неугомонный, вставший и сегодня чуть свет, несмотря на дальнюю дорогу, которую ему пришлось проделать накануне.
Василий Иванович медленно водил по бумаге пером, время от времени поглядывая на сына. Но тот как уперся худенькими лопатками в высокую резную спинку стула, так и сидел неподвижно, лишь иногда быстрым движением тонких пальцев перекидывая страницу.
Кабинет Василия Ивановича был двухэтажным. В верхнем его этаже не было дверей. Для того чтобы вознестись туда, как шутил Василий Иванович, нужно было подняться по железной винтовой лестнице, идущей с первого этажа, где находился адъютант, и пройти сквозь отверстие в полу, напоминавшее люк корабельной палубы. На втором этаже кабинета не было ни одной двери, зато было двенадцать узких высоких окон, выходивших на все четыре стороны света.
Комната адъютанта и кабинет коменданта располагались в башне старого замка, стоявшего на горе, в самом центре города. И когда Василий Иванович говорил, что в его кабинет нужно не входить, а возноситься, он был совсем недалек от истины, ибо сие двухэтажное сооружение находилось на высоте шестидесяти метров. Над кабинетом коменданта находились огромные башенные часы, которые, слава богу, не звонили, а еще выше, под куполом башни, вили гнезда стрижи и ласточки.
Василию Ивановичу нравился его кабинет. Отсюда было видно далеко-далеко, воздух всегда был свеж и чист, по утрам иногда доносился запах вспаханной земли и водорослей, и тишина нарушалась лишь птичьим пением и щебетом. На пользу шло и то, что каждое утро нужно было для променаду одолеть три сотни ступенек, и этот утренний моцион начисто сгонял сон и вселял в генерала великую бодрость.
Заоблачная высь отучила офицеров его штаба беспокоить коменданта по мелочам: всякий крепко задумывался, стоит ли обращаться к господину коменданту. Лучше уж, если можно, и самому решить, как поступить, и не взбираться на высоту шестьдесят метров, всякий раз оставляя за собой три сотни ступенек. К тому же генерал был крут характером, терпеть не мог людей трусливых и нерешительных. Все это приводило к тому, что офицеры, прослужившие у Василия Ивановича год-другой, по части самостоятельности наивыгоднейшим образом отличались от своих коллег, служивших в других штабах.
Вот и сейчас блаженная тишина царила в кабинете коменданта.
Но вдруг внизу скрипнула дверь, затем послышался шепот — это тихо переговаривались адъютант с вестовым, поднявшимся снизу; вслед за тем заскрипели ступени винтовой лестницы, и в люке появилась сначала голова и плечи адъютанта, а потом и весь он оказался в кабинете. Василий Иванович вопросительно взглянул на адъютанта, и тот, не дожидаясь вопроса, тихо доложил:
— Майор Сидоров просит ваше превосходительство об аудиенции.
Василий Иванович ответил:
— Проси!
Минут через десять после этого в кабинете появился красный и запыхавшийся майор, а следом за ним Морис. Майор, вытянувшись в струнку, доложил о случившемся и протянул генералу письмо. Майор знал, что генерал в немецком языке силен, и потому приехал без переводчика, хотя белобрысый настоятельно просил взять его с собою.
Генерал достал из стола очки, не спеша надел их и, далеко отставив письмо, начал читать его. Прочитав письмо, он подошел к Морису и, смущенно улыбнувшись, проговорил:
— Простите господин граф, что обязанность службы заставила меня прочесть письмо, мне не предназначенное. В некоторой степени меня, возможно, извиняет то, что письмо адресовано дворянам Остзейского края, а я — дворянин и сейчас нахожусь почти что в Лифляндии. — Генерал замолчал, по-видимому догадавшись, что шутка оказалась не совсем удачной, и оттого смутился еще более. — Ах, простите, совсем забыл… — Василий Иванович повернулся к сидевшему за его столом офицеру. — Позвольте представить моего сына, подполковника Александра Суворова.
Морис пожал протянутую ему руку, а подошедший вслед за ним Сидоров, знакомясь с сыном коменданта густо покраснел и, гулко закашлявшись, звякнул шпорой, приложив руку к треуголке.
— Садитесь, господа, — произнес Василий Иванович, возвращаясь к своему креслу. Немного помолчав, он спросил Мориса: — Так вы, стало быть, направляетесь в Лифляндию?
— Да, ваше превосходительство, — ответил Морис.
— Не могу ли я чем-нибудь быть полезным вам? — спросил генерал. — Не смущайтесь, — продолжал он, — тем более что я прочел письмо генерала Лаудона, а он прямо просит в нем оказывать вам всяческую помощь, коль скоро вы будете в ней нуждаться. К тому же вы офицер союзной нам армии, ранены, и мой долг не просто человеческий, но и служебный помочь вам.
Мориса тронула приветливость русского генерала, но он опасался, что комендант Кролевца желает помочь ему не столько из-за того, о чем он говорит, сколько из-за того, что костюм Мориса и весь его внешний вид давно уже оставляли желать лучшего.
И Морис отказался. Но генерал, по-видимому, разгадал ход мысли Мориса и снова предложил ему помощь. На этот раз генерал сказал:
— Кроме всего прочего, я немного знал Гедеона Эрнста Лаудона и прошу вас взять у меня деньги как у человека, который имеет с вами общих знакомых.
Морис, все еще сильно колеблясь, не решаясь воспользоваться предложением Суворова-старшего и оттягивая эту, как ему казалось, унизительную для него минуту, спросил:
— В каких же обстоятельствах ваше превосходительство изволили знать господина генерала Лаудона? Суворов засмеялся:
— Честно говоря, в обстоятельствах самых плачевных. Я узнал господина Лаудона, когда он возвратился из Таврии, где ему довелось сражаться с турками и татарами. Слышал, что он храбрый офицер. Но когда Лаудон вернулся в Петербург, обстоятельства в столице сильно переменились: императрица Анна Ивановна померла, на престол вступила ныне здравствующая государыня, и Лаудону, как и многим другим офицерам-иностранцам, пришлось с русской службы уйти. Вот в это-то время я и познакомился с ним. Но знакомство наше было очень недолгим: Лаудон вскоре уехал в Пруссию и там я наверное это знаю — пытался поступить в армию короля Фридриха, но король решительно отказал ему в этом.
— Куда, простите, пытался он поступить? — спросил удивленный Морис.
— В прусскую армию, — спокойно ответил Василий Иванович, — но его не взяли в службу, — повторил он и добавил: — Тогда-то Лаудон — поехал в Австрию и вот, как видите, успешно там служит.
Морис сидел ошеломленный.
— Не может быть, невозможно, — тихо проговорил он и посмотрел на генерала.
Суворов-старший, обращаясь к сыну и сидящему здесь же Сидорову, сказал по-русски:
— Что это с ним стряслось? Сидит и бормочет: «Не может быть, невозможно…»
— Чего не может быть, ваше превосходительство? — спросил Сидоров.
И Александр Суворов, молча сидевший все это время, но понимавший по-немецки не хуже отца, коротко передал Сидорову весь разговор, который ему довелось услышать.
— Как же не может быть, ваше превосходительство, когда переводчик мой Манштейн нынче утром говорил мне то же самое? Он говорил, что долго служил вместе с этим… ну как его… Ладоном и воевал вместе с ним супротив поляков и татар. И уехал из Петербурга тоже вместе. И как вы правильно изволили говорить, в Пруссии Манштейн вместе с Лаудоном просились в службу к Фридриху, но тот Манштейна взял, а Лаудона нет. А то «невозможно»! — И Сидоров неодобрительно покосился на Мориса, который осмелился не поверить господину генералу.
Василий Иванович, выслушав Сидорова, перевел все это Морису. Но это уже не произвело на Мориса почти никакого впечатления, ибо еще до того, как Василий Иванович сказал ему об этом, Морис почувствовал, что все сказанное русским комендантом — правда.
И когда Суворов-старший передал ему рассказ Манштейна, Морис спросил только:
— Ну, а Манштейн что у вас делает? — По тону вопроса было видно, что ответ его нисколько не интересует и спросил он только оттого, что именно это прежде всего пришло ему на ум.
Суворов-старший спокойно и обстоятельно ответил:
— Манштейн попал к нам в плен во время сражения при Гросс-Егерсдорфе. Он командовал ротой гренадер и дрался отчаянно, но был ранен, потерял сознание и попал в плен. Мы вылечили его в нашем лазарете и теперь держим переводчиком. Он просился взять его в нашу армию обратно, но мы, разумеется, отказали.
Морис, растерянный и взволнованный, поднялся из-за стола:
— Так, значит, он мог бы убить своего старого друга Лаудона, если бы тот встретился с ним в бою? А Лаудон мог бы убить меня, если бы король Фридрих в свое время не отказал ему, а взял к себе на службу?
— Конечно, — спокойно и просто ответил ему генерал. А сын его бросил скороговоркой:
— Немцу лишь бы воевать, а с кем да за что — ему все равно. Вот и воюете. Недаром сам король Фридрих любит говаривать: «Нет денег, нет и немца». — И вдруг, как бы вспомнив о чем-то, спохватившись, спросил: — А сами-то кто будете, немец или нет?
— По отцу — поляк, по матери — мадьяр, — ответил Морис в подошел к генералу. — Ваше превосходительство, позвольте мне воспользоваться любезным предложением вашим и одолжиться деньгами. Кроме того, прошу вас позволить мне остаться в вверенном вам городе, хотя, откровенно говоря, я еще не знаю, что буду здесь делать.
Подобно тому, как встреча с отцом Михаилом заставила Мориса усомниться в полезности своего служения церкви, встреча с генералом Суворовым заставила Мориса задуматься вад смыслом своей военной службы. Его герой, его Лаудон, оказывается, не был таким, каким видел его Морис. Лаудон служил не потому, что дело императрицы Марии-Терезии казалось ему правым, а дела короля Фридриха бесчестными. Нет, и тысячу раз нет! Если бы в свое время король Фридрих взял его в прусскую армию, Лаудон так же лихо служил бы под теми знаменами, которые теперь ему иногда удавалось захватывать.
Так чем же была война для таких, как Лаудон? Игрой? Промыслом? Единственным делом, какое они знали?
А где же честь? Где родина, где, наконец, служение долгу? Ничему этому во всем, о чем узнал Морис, места не было. Оставалось только неудовлетворенное честолюбие, угар власти и жажда наживы.
Морис ушел от Суворова с горечью человека, которого долго водили за нос и вдруг сказали правду.
Но как ни странно, все происшедшее не потрясло Мориса, как это могло бы произойти, случись такое несколько лет или даже месяцев тому назад. Ибо не тем уже был Морис Август Беньовский, странник, изгнанный из таенного дома, самою жизнью подготовленный к тому, чтобы встать выше своего праздного сословия, освободившись от его предрассудков, лжи и фальши.
Склонив голову набок и медленно водя по листу бумаги тщательно очиненным пером, Манштейн выводил за буквой букву, выстраивая их в плотные ровные ряды, как когда-то выстраивал солдат — сначала русских, затем прусских. Дописав страницу, Манштейн посыпал лист чистым сухим песком в, после того как чернила просохли, осторожненько сдул его.
Ласково сощурившись и медленно шевеля губами, он с нескрываемым удовольствием начал перечитывать написанное:
Сиятельный граф, всемилостивейший господин сенатор и кавалер Александр Иванович!
Припадая к стопам Вашего Высокопревосходительства, льщусь надеждой, что за всегдашнею Вашею занятостью делами государственными Вы все же обратите свое высокое внимание на сей верноподданнический рапорт, мною Вам представленный. Не ища никоего авантажа, вяще не помышляя о награждении, а единственно из преданности Ее Императорскому Величеству, спешу уведомить Ваше Высокопревосходительство о деле, коему я был самовидцем.
Вчера поутру в кордегардии у въезда в город Кенигсберг был допрошен господином майором Сидоровым некий человек без пачпорта, выдавший себя за графа Беньовского, австрийской императорской армии капитана. Человек тот господином майором Сидоровым был свезён в город, представлен там его превосходительству господину кригскоменданту Суворову и затем отпущен на все четыре стороны.
Вотще пытался я доказать, что недельно отпустили того человека, ибо покуда воюем мы с прусским королем, то и будут в город проникать его лазутчики и соглядатаи. Однако же выслушан господином майором не был, и за усердие свое от присутствовавших при сем разговоре нижних чинов токмо злокозненные и бездельные словеса и насмешки получил.
Настоятельно прошу Ваше Сиятельство по сему делу свою сентенцию учинить, ибо сей лазутчик в любой момент из города бежать может, поколику в кордегардиях столь завидное усердие проявляют, что и беспачпортных и в город и из города выпускают запросто.
Засим остаюсь Вашего Сиятельства покорнейшим слугою,
Куно фон Манштейн.Перечитав письмо, белобрысый подумал, что, может быть, следовало бы дописать: «Бывший Российской императорской армии капитан, по ранению не у дел находящийся», но решил, что пока еще объявлять о своем звании рановато. «Вот изловят графчика да допросят у его сиятельства в каземате с пристрастием, — со злорадством подумал он, — тогда-то и можно будет просить о восстановлении в прежнем чине, а может быть, и о повышении».
Манштейн хрустнул пальцами, потянулся и вложил исписанный листок в плотный пакет. Затем снова склонил голову набок и на конверте надписал:
«Начальнику Тайной канцелярии графу Александру Ивановичу Шувалову в собственные руки».
…Через неделю курьер, помчавшийся в Санкт-Питербург со срочными казенными бумагами, получил при выезде из города и этот пакет.
Глава шестая, в которой бывший офицер становится матросом, а затем внезапно покидает город, получив предупреждение о грозящей ему опасности
Морис устроился в небольшой дешевой гостинице на острове Кнайпхоф. Острой этот омывался двумя рукавами реки Прегель и небольшим каналом. Кнайпхоф был плотно застроен домами. Только в самой середине его была небольшая площадь, образованная огромным Кафедральным собором, зданиями университета, ратушей и глухой стеной жилых домов. Несколько дней Морис отдыхал, но однажды вечером, когда солнце уже закатилось за высокую черепичную крышу Кафедрального собора, решительно направился в гавань.
В тихой гавани у берега, поросшего густым ивняком, стояли два десятка барж, пакетботов и галер. Морис без труда отыскал кабачок «Акулья пасть», а в нем обнаружил чуть хмельного Андрея, одиноко сидевшего за кружкой пива. Андрей необычайно обрадовался, увидев Мориса. Он долго хлопал Мориса по спине, жал руки и, наконец, обняв его за шею, усадил за свой столик.
— Где ты пропадал, старина? Давно выпустили тебя москали? Что теперь думаешь делать? — засыпал он Мориса вопросами.
Морис коротко ответил:
— Хочу стать моряком, Андрей. Только на первых порах не хочу уходить далеко от берега и надолго пропадать в море.
Андрей понимающе улыбнулся: «Все мы так начинали. Ничего, старина, пройдет год-другой, и ты не побоишься выйти в открытый океан». Но вслух ничего такого не сказал, а только проговорил раздумчиво:
— Есть тут у меня один знакомый капитан. Может быть, по старой дружбе возьмет тебя к себе на корабль. Приходи завтра утром часов в восемь к старой мельнице: он оттуда обычно отходит на лодке к своему фрегату.
Морис с помощью Андрея нанялся матросом на старый тихоходный парусник «Амстердам», капитаном которого был голландец Франс Рейсдаль. Матросы, смеясь утверждали, что капитан всего в три раза старше своего корабля, а что касается скорости, с которой Рейсдаль передвигался, то по сравнению с капитаном корабль его можно было считать Летучим Голландцем.
Франс Рейсдаль был невысок ростом, широк в плечах и хотя передвигался весьма неторопливо, все еще был довольно силен и вынослив. Рейсдаль плавал почти с тех самых пор, как помнил себя. Из четырех океанов Рейсдаль побывал в трех, и только в Северном Ледовитом океане не довелось плавать моряку. Несмотря на то что последние пятнадцать лет Рейсдаль провел в водах Балтики и Немецкого моря, цвет его лица все еще свидетельствовал о том, что не одно десятилетие над головой старого Франса светило тропическое солнце. Коричневая кожа капитана казалась еще более темной оттого, что его волосы н небольшая бородка были совершенно белыми. Рейсдаль хорошо знал трудное и сложное ремесло моряка, но еще лучше, чем такелаж своего судна и лоции многих морей, старый капитан знал бесчисленное множество морских историй. И Морис, втайне гордившийся своей памятью, вынужден был признаться, что Рейсдаль, несмотря на почтенный возраст, в этом деле легко заткнет его за пояс.
Сидя за кружкой пива в кабачке «Акулья пасть» или коротая вечера на корабле, Морис узнавал от капитана сотни невероятных морских историй. Рейсдаль рассказывал ему о пиратских республиках Индийского океана, о работорговле и морском разбое, о сказочных странах, лежащих по обеим сторонам экватора, о недоступных Золотых островах и земле Эльдорадо. Он рассказывал о Летучем Голландце, о сиренах, заманивающих моряков на дно океана, о водяных змеях в полмили длиной, и тогда Морису казалось, что перед ним сидит не старый морской волк, обошедший полсвета, а добрый сказочник, развлекающий внука.
Морис быстро сошелся с Рейсдалем, несколько раз побывал у него дома и однажды отдал капитану свое единственное сокровище — синий бархатный конверт, все, что осталось у него на память о доме. Отдал из опасения, что в каком-нибудь чужом порту кто-нибудь позарится на занятную вещицу.
Андрей ушел в дальний рейс, о нем не было ни слуху ни духу, другие же матросы как-то не располагали Мориса к дружбе, хотя взаимные их отношения были самыми наилучшими.
Экипаж «Амстердама» состоял из десятка матросов. Почти все они были опытными, старыми моряками, и только возраст заставлял их служить на корабле Рейсдаля, так как рейсы, которые совершал корабль, были непродолжительными. И хотя жалованье матросов было невелико, они не уходили с корабля, ибо многие уже прочно осели в Кролевце и долгая разлука с домом была бы для них тяжелой.
Что же касается Мориса, то он преследовал иные цели: ему хотелось сначала овладеть азами морского дела, а затем, если дело пойдет хорошо, перенять у старого капитана кое-что из того, что он знал и умел. А знал и умел Франс Рейсдаль многое…
Прошло почти полгода с того дня, как Морис появился в Кенигсберге.
Однажды теплым и тихим майским вечером Морис сидел на полюбившейся ему скамейке у стены замка. В двадцати шагах от Мориса бесшумно текла река, зашедшее солнце золотило края сгустившихся на горизонте облаков, желтыми и красными всполохами загорались стекла в окнах домов и кресты на куполах церквей. В воздухе была разлита спокойная тишина, в которой, как в реке, купался затихший город. Было еще светло, по булыжникам набережной изредка глухо погромыхивали экипажи и звонко цокали подковы лошадей.
Морис сидел на скамейке, ощущая спиной приятное тепло нагретой за день каменной стены замка и бездумно любуясь игрой последних лучей солнца, как вдруг неподалеку от него раздались быстрые тяжелые шаги и из-за куста сирени вынырнул человек. Это был Петер, один из матросов с «Амстердама».
— Морис, — волнуясь произнес Петер, — на «Амстердаме» русский офицер с двумя солдатами! Офицер заходил в каюту к старику Рейсдалю и показывал ему казенную бумагу, подписанную каким-то важным чином. После этого они прошли в твою каюту и перерыли там все на свете: кажется, русские что-то искали, но ничего не нашли. Офицер приказал никого из команды не отпускать на берег, но к старику Франсу прибежал его внук с корзиной провизии, и капитан незаметно сунул в корзинку мальчишке записку. Смышленый малый прочитал ее и одним духом примчался в «Акулью пасть». Там вместе со мной сидело несколько наших парней. Мы мигом сообразили, что нам делать, — и разбежались в разные стороны искать тебя. — Петер перевел дух, затем лукаво посмотрел на Беньовского: — Сознайся, ты что-нибудь натворил? Чего ради русские заявились к нам на корабль, а?
— Хотел бы я знать! — ответил Морис. — Послушай, — добавил он, — а что, если я поближе к ночи зайду к старику Рейсдалю домой? Ведь не заставят же его русские ночевать на корабле. А ты иди на «Амстердам» и шепни капитану, чтоб он подождал меня у себя дома.
— Неплохо придумано, Морис, — ответил Петер. — Ну что ж, пожалуй, я побегу. Три фута воды тебе под килем! — И Петер исчез так же быстро, как появился.
Морис дождался наступления темноты н, низко надвинув на глаза шляпу, вышел на набережную. Узкими тесными переулками Старого города он пробрался к берегу Замкового пруда и вскоре оказался у дверей капитанского дома.
Рейсдаль ждал его в дальней комнате, сидя у окна, завешенного шторой.
— Благополучно добрался, а? — спросил капитан. — Никто не наступал тебе на пятки?
— Как будто бы никто, — ответил Морис.
Рейсдаль встал, подошел к тяжелому буфету, наполненному глазурованными глиняными кувшинами, тарелками, чашками, и вынул оттуда зеленый стеклянный штоф и две таких же рюмки.
Капитан сел и жестом пригласил Мориса к столу.
— Судя по всему, — начал он, — русские сочли тебя за шпиона короля Фридриха. Офицер расспрашивал меня о тебе, о твоих занятиях и твоих друзьях, будто я святой дух и должен знать даже то, о чем ты думаешь. Я отвечал, что это какая-то ерунда, что я могу за тебя поручиться. И, сдается мне, русский офицер поверил моим словам. Но с ним был какой-то белобрысый немец, судя по всему — переводчик. Он, сдается мне, неправильно переводил офицеру мои ответы, он еще лез из кожи вон, чтобы доказать, будто я вру. Чего только не навыдумывал этот белоглазый, чтоб сбить меня с толку! Но, сдается мне, ничего у белоглазого не вышло. Но так-то просто, сынок, запутать или запугать старого Франса Рейсдаля, а? Был, правда, момент, когда я подумал: «Ну, Франс, отправишься ты вместе с Морисом в тарта-рары». Но все обошлось. Русский офицер долго и сердито говорил о чем-то белобрысому, пока у того по бледной роже не пошли красные пятна. А потом меня отпустили домой, настрого запретив кому-нибудь говорить хоть что-нибудь из всего этого дела. Я ушел, а они так и остались на корабле, поджидая тебя. Вот какие дела, сынок. Не знаю, что тебе и присоветовать, а?
Морис тоже не знал, что предпринять.
«Почему русские хотят арестовать меня? — думал он, но ответить на вопрос не мог. — Скорее всего, братцы как-нибудь дознались, где я, и русских известили о том, что в их владениях скрывается бывший австрийский офицер, разыскиваемый венской полицией. Что меня может ждать в этом случае? Арест. Высылка под конвоем в Вену, суд и тюрьма… Неволя и бесчестье…»
Морис встал.
— Я пойду, капитан. Спасибо вам за все.
Рейсдаль бросился к нему, просил задержаться до утра, подумать как следует: может быть, стоит пойти к русскому коменданту, рассказать ему все, доказать свою невиновность… И вдруг Рейсдаль как-то сразу осекся, ссутулился и, шаркая парусиновыми домашними туфлями, ушел в соседнюю комнату.
Оттуда он вернулся, держа в руках синий бархатный конверт и маленький кожаный мешочек.
Морис взял конверт, достал оттуда рекомендательное письмо Лаудона и порвал его на мелкие части. Затем засунул конверт во внутренний карман куртки и подошел к старому Франсу.
— Спасибо, капитан Рейсдаль. Я никогда не забуду вашей доброты, проговорил Морис и положил тяжелый кожаный мешочек на край стола. Потом крепко обнял капитана, неловко ткнулся носом в жесткую седую щеку старика и выбежал за порог.
V. МУДРОСТЬ МИРА Энциклопедия, II том
В 1999 году вышла в свет и моя последняя книга — «Мудрость мира», в которой представлены более трехсот великих людей Земли, среди них оказались и два профессора Кенигсбергского университета — Эммануил Кант и Иоганн Гердер. Краткие биографии этих мыслителей, а также наиболее яркие афоризмы, максимы и крылатые слова я также помещаю в «Русско-Прусских Хрониках».
Кант Иммануэль (22 апреля 1724 — 12 февраля 1804 г.г.)
Родился в Кенигсберге, в семье мастера седельного цеха. Родители Канта отличались набожностью и отдали мальчика в школу, директор которой был одновременно и профессором богословия в Кёнигсбергском университете. Проучившись в школе 7 лет. Кант поступил затем на богословский факультет Кёнигсбрегского университете, но слушал и лекции на других факультетах — по философии, физике, математике, астрономии и естествознанию. Окончив в 1746 году университет, Кант 9 лет прослужил домашним учителем в трёх разных богатых семействах. В 1755 году он издал свою физико-астрономическую теорию, изложенную в книге «Всеобщая естественная история и теория неба», где, предвосхищая Лапласа, Кант предложил гипотезу об образовании планетной системы из рассеянной материи, находящейся в единообразном вращательном движении вокруг центрального сгущения — Солнца. Его гипотеза математически была подтверждена лишь в середине 20 века, став одной из главных частей современной космогонии, став величайшим завоеванием астрономии, после открытия Коперника.
Издав кроме этой великой книги ещё несколько работ о Земле, Кант перешёл в 1755 году в университет приват-доцентом философии, лишь через 15 лет став профессором логики и метафизики, защитив перед тем диссертацию «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира», ставшую первым его трудом, так называемого «критического периода», когда вышли важнейшие философские сочинения Канта: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), и «Критика способности суждения.»
Основу всех этих книг составляет учение Канта о явлениях и вещах, существующих сами по себе — «вещах в себе», которые, несмотря ни на что, остаются не познаваемыми.
Кант оставил огромное научное наследие не только в философии и космогонии, но и в логике, математике, теоретическом естествознании, этике и эстетике, изданное в 23 томах (не считая писем).
Труды Канта оказали колоссальное воздействие на многие направления и школы научной мысли в самых разумных отраслях знания — особенно в философии.
Умер Кант в Кенигсберге (ныне Калининград, Российской Федерации).
Большое честолюбие издавна превращало благоразумных.
В брачной жизни соединённая пара должна образовать как бы единую моральную личность.
В диспутах спокойное состояние духа, соединённое с благожелательностью, является признаком наличия известной силы, вследствие которой рассудок уверен в своей победе.
Величайшее чувственное наслаждение, которое не содержит в себе никакой примеси и отвращения, — это, в здоровом состоянии, отдых после работы.
В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики.
Всё, что зовётся благопристойностью, не более как красивая внешность.
Высшее благо есть единство добродетели и благополучия. По требованию разума высочайшее благо должно быть осуществлено.
Дайте мне материю, и я покажу вам, как из неё должен образоваться мир.
Дайте человеку всё, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это всё не есть всё.
Действуй по той идее, по которой все правила, в силу присущих им собственных законов, должны согласоваться в единое царство идей, которое в осуществлении явилось бы и царством природы.
Детей, особенно девочек, нужно в раннем возрасте приучать к непринуждённому смеху, ибо весёлое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире и вырабатывает расположение к весёлости, приветливости и благосклонности ко всем.
Для мужчины нет ничего более обидного, чем обозвать его глупцом, для женщины — сказать, что она безобразна.
Долг! Ты возвышенное, великое слово. Это именно то великое, что возвышает человека над самим собой.
Дух торговли, который рано или поздно овладевает каждым народом, — вот что несовместимо с войной.
— Из всех сил, подчинённых государственной власти, сила денег, пожалуй, самая надёжная, и потому государства будут вынуждены (конечно, не по моральным побуждениям) содействовать благородному миру.
Есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Надо сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые его просветят. Тогда заблуждения исчезнут сами собою.
Женщины даже мужской пол делают более утончённым.
Женщины очень участливы, добросердечны и сострадательны, прекрасное они предпочитают полезному.
Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без нравственности, не имеет никакой цены.
Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть, собственно, применение наших поступков к этому закону.
Когда справедливость исчезнет, то не остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни людей.
Кто боязливо заботится о том, как бы не потерять жизнь, никогда не будет радоваться ей.
Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений.
Люди бы бежали друг от друга, если бы видели один другого в полнейшей откровенности.
Многие думают, что детство было самым лучшим и приятным временем их жизни. Но это не так. Это самые тяжёлые годы, поскольку тогда человек находится под гнётом дисциплины и редко может иметь настоящего друга, а ещё реже — свободу.
Мыслить — значит говорить с самим собой, слышать себя самого.
Мы часто краснеем из-за бесстыдства другого, который обвиняет нас в чём-либо.
Не принимай благодеяний, без которых ты можешь обойтись. Нравственность должна лежать в характере.
Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.
Постоянно давать детям награды не годится. Через это они становятся себялюбивыми, и отсюда развивается продажный образ мыслей.
Поступай так, что бы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству.
Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом.
Поэзия есть игра чувств, в которую рассудок вносит систему; красноречие — дело рассудка, которое оживляется чувством.
Предметы, которым обучают детей, должны соответствовать их возрасту, иначе является опасность, что в них разовьётся умничанье, модничанье, тщеславие.
Прекрасное — это нечто такое, что принадлежит исключительно вкусу.
Прекрасное — это символ морального добра.
Принцип искусства воспитания гласит: дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно лучшего состояния рода человеческого!
Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Решись быть мудрым! Имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения!
Смерти меньше всего бояться те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность.
Только радостное сердце способно находить удовольствие в добре.
Тот, кто не приобрёл культурных навыков, — груб.
Тот, кто первым назвал женщин прекрасным полом, хотел, быть может, сказать этим нечто лестное для них, но на самом деле выразил нечто большее.
Тот, кто становится пресмыкающимся червём, может ли затем жаловаться, что его раздавили?
Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума и проницательности.
Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, т. е. чувствует развитие своих природных задатков. Но ему также присуще сильное стремление уединяться.
Человеку свойственно по природе своей соблюдать умеренность не только из-за заботы о своём здоровье в будущем, но также из-за хорошего самочувствия в настоящем.
Гердер Иоганн Готфрид (25 августа 1744 — 18 декабря 1803 г.г.)
Родился в Восточно-Прусском городке Люрунген, в семье бедного учителя начальных классов, набожного лютеранина, звонаря и причетника местной церкви. В 1760 году поступил на богословский факультет Кенигсберского университета, где его сразу же заметил Кант (См. статью «Кант») и сильно содействовал его умственному развитию.
Гердер очень увлёкся сочинениями и идеями Руссо (См. статью «Руссо»). Окончив в 1764 году университет, он стал проповедником и заведующим церковной школой в Риге, где его проповеди имели большой успех. Зимой 1770–1771 годов в Страсбурге он знакомится с молодым Гёте (См. статью «Гёте»), оказав не него не меньшее влияние, чем в своё время оказал на его собственное развитие Кант. Но самым главным в этом знакомстве было то, что именно с него в немецкой литературе начался период «Бури и натиска».
В 1776 году он при содействии Гёте получает место придворного проповедника при веймарском дворе.
Гердер приехал в Веймар, уже имея за собою значительное число разнообразных сочинений. Ещё в Риге, в 1766–1768 годах, он написал работы «О новейшей немецкой литературе. Фрагменты» и «Критические леса» (1769), где литературный процесс рассматривался им в зависимости от исторического и духовного развития каждого народа. В 1772 году он опубликовал «Исследование о происхождении языка», а в 1773 году, совместно с Гёте, опубликовал сборник «О немецком характере искусства».
В Веймаре, где он прожил до конца своих дней, Гердер написал свои наиболее значительные произведения: «Народные песни» (1778–1779), где собрал лучшие песни народов всего мира, доказывая равенство всех народов, всех самовыражении; «О влиянии поэтического искусства на нравы в старые и новые Времена» (1781), а, в 1784–1791 годах им был написан и издан самый большой и важный труд в 4-х частях «Идеи к философии истории человечества», где рассматривались вопросы соотношения национальных особенностей и общечеловеческих принципов, природных условий и культурных традиций народов всего мира, начиная с первобытного общества, и, наконец, в 1794–1797 годах Гердер написал «Письма о поощрении гуманности», рассматривая человека «как первого вольноотпущенника природы», для которого гуманность является органическим свойством натуры. Умер Гердер в Веймаре.
Большинство людей — животные, они принесли с собой только способность человечности, и её только нужно воспитывать, воспитывать с усердием и трудами. А как мало людей, в ком подобным образом воспитана человечность! И у самых лучших — как нежен, как хрупок этот возвращённый в них божественный цветок!
В одиночестве человек — слабое существо, в единении с другими сильное. Глубокий, проникающий в сердце взгляд друга, слово его совета, его утешения раздвигают и поднимают низко насевшие над ним.
В ошибке любой женщины есть вина мужчины.
Все влечения живого существа можно свести к двум основным: к сохранению жизни и к участию в жизни других, к общению с другими.
В чём может состоять человеческое образование? На чём должно оно основываться? На мере. На ней покоятся все законы природы, точно так же, как и все наши ясные и правильные понятия, наши ощущения прекрасного и благородного, применение наших сил на пользу добра, наше счастье, наше наслаждение: только мера питает и воспитывает нас, мера образует и сохраняет творения.
Два величайших тирана на земле: случай и время.
Если человек замкнул цепь земных созданий, будучи её высшим и последним звеном, то именно потому он даёт начало цепи высшего рода существ, будучи самым низким звеном в этой цепи; поэтому человек, — по всей вероятности, звено, соединяющее две сцепленные системы творения.
Если язык человека вял, тяжёл, сбивчив, бессилен, неопределён, необразован, то таков, наверное, и ум этого человека, ибо мыслит он только при посредстве языка.
Знакомство с мыслями светлых умов составляет превосходное умственное упражнение: оно оплодотворяет ум и изощряет мысль.
Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта образуется самая живая часть нашего практического ума.
Истинное величие зиждется на сознании собственной своей силы, ложное же — на сознании слабости других.
Каждый народ имеет в себе масштаб своего совершенства несравнимый с другими народами.
Красивое не нуждается в дополнительных украшениях — больше всего его красит отсутствие украшений.
Лишь немногие шли впереди толпы, они, словно врачеватели, принуждали толпу пользоваться целебными средствами, которые сама Толпа ещё не могла выбрать для себя; но вот эти немногие были цветом рода человеческого, были бессмертными вольными сынами богов на земле. И имя каждого из них — имя миллионов.
Люди или возвышали человека, превращая его в Бога, или низводили отца миров с небес, воплощая его в человеческий облик.
Мы приходим и уходим, и каждый миг приносит на Землю тысячи и уносит тысячи; Земля — пристанище для странников, блуждающая звезда, на которой останавливаются и с которой улетают караваны птиц.
Никакое чтение не требует столь строгой нормы, как чтение отрывочных, разбросанных мыслей.
Позорно не наказание, а преступление.
Прямой и прекрасный облик человека, воспитал в нём понимание благопристойного, ибо благоприличия — прекрасные слуги и друзья истины и справедливости.
Развитие общества — единственный прогрессивный исторический процесс, включающий в себя своеобразие национальных культур и исторических эпох, как качественно самостоятельных ступеней мировой истории.
Стремись оставить Землю довольным, благослови юдоль, где играл ты, дитя бессмертия… У тебя нет прав на неё, у Земли нет прав на тебя; увенчанный такой свободой, перепоясанный поясом неба, счастливо продолжай свой страннический путь.
Труд — целительный бальзам, он — добродетели источник.
Цель нашего земного существования заключается в воспитании гуманности, а все низкие жизненные потребности только служат ей и должны стать разумом, тонкие чувства — искусством, влечения — благородной свободой и красотой, побудительные силы человеколюбием.
Человек — первый вольноотпущенник творения; он ходит выпрямившись. В нём — весы, на них взвешивает он добро и зло, истину и ложь; он может искать, может выбирать.
Человек — царь; таков он в своей вольности, таков и тогда, когда злоупотребляет своей свободой. У него право даже выбирать, даже выбирать и всё самое скверное; и он повелевает себе, даже обрекая себя на всё самое низкое, по своему выбору… Снаряд, выпущенный из пушки, не может покинуть атмосферу и, даже падая на землю, следует всё тем же законам природы — то же и человек: на пути истины и заблуждений, падая и поднимаясь, он — всегда человек, дитя слабое, но рождённое свободным, и не разумное, но способное восприять разум, и ещё не сложившеся, чтобы выразить дух гуманности, но податливое в руках ваятеля.
VI. БИТВА ПРИ ГРОСС-ЕГЕРСДОРФЕ… Статья из литературно-художественного сборника «Под знаменами Родины»
В 1958 году, когда в Калининграде был выпущен первый литературно-художественный сборник «Под знамениями Родины», в нем нашлось место для небольшой моей статьи «Битва при Гросс-Егерсдорфе», которая помещена в этой книге. Тогда статью напечатали в связи с тем, что 200 лет назад в январе 1758 года русские войска заняли Кенигсберг, а сражение при Гросс-Егерсдорфе, произошедшее 19 августа 1757 года явилось пролом дальнейших действий, приведших русские войска в столицу Восточной Пруссии. (Да и сама битва происходила на территории, вошедшей в Калининградскую область — возле деревень Междуречье и Извилино Черняховского района. Эта статья была моей первой книжной публикацией…
Нашу Калининградскую область можно с полным правом назвать памятником славы русского оружия. Гросс-Егерсдорф. Фридланд, Прейсиш-Эйлау, сражения первой мировой войны, наконец, знаменитая Восточно-прусская операция 1945 года, увенчанная звездным штурмом Кенигсберга, — все эти названия воскрешают в памяти советских людей героические страницы русской военной истории.
Нам, калининградцам, жителям, этих мест, особенно близки незабываемые страницы истории нашей Родины, связанные со славными боевыми подвигами русских воинов, обагривших своей кровью земли нынешней Калининградской области.
Гросс-Егерсдорф! Давно уже не существует деревни с таким названием, и на месте, где двести лет назад русские солдаты стояли насмерть, защищая честь родной страны, раскинулось широкое поле. Но живы в памяти потомков славные дела русских людей!
В 1756 году прусский король ФРИДРИХ II, при щедрой поддержке Англии, начал войну против Австрии и Франции, рассчитывая добиться расширения своих владений.
Чтобы воспрепятствовать распространению прусской агрессии, в декабре 1756 года к австро-французскому союзу присоединилась Россия. Натолкнувшись на решительное противодействие со стороны трех могущественных держав того времени, Пруссия не смогла осуществить свои захватнические планы и испытала ряд тяжелых поражений. Победы русских войск, одержанные в этой войне названной историками Семилетней (война продолжалась с 1756 по 1763 год), надолго задержали рост прусского юнкерского государства и покрыли неувядаемой славой русское оружие.
Семилетняя война составила важнейший этап в развитии мирового и русского военного искусства. Участвовавшие в ней Россия, Франция и Австрия, с одной стороны, и Пруссия с Англией — с другой, вступили в войну, руководствуясь однообразной военной доктриной, построенной по образцу прусской линейной тактики. В ходе войны в русской армии началось восстановление забытых и послепетровское время принципов русского национального военного искусства. Возрождение этих принципов с колоссальной силой проявилось в боевой деятельности знаменитых русских полководцев: П. А. Румянцева, А. В. Суворова, а впоследствии и М. И. Кутузова, и доставило русскому оружию всемирно известные победы. В Семилетнюю войну Румянцев и Суворов еще только начинали свою военную деятельность, но уже в первых битвах выдвинулись как талантливые военачальники.
Военные действия русской армии в первый период похода в Восточную Пруссию развертывались с переменным успехом. Наступление началось из района Ковно (Каунас) по направлению на Мемель (Клайпеда) и Тильзит (Советск). Эти города были взяты без боя. 30 июля 1757 года, заняв также без боя города Рагнит (Неман) и Гумбинен (Гусев), русские войска вошли без единого выстрела в Инстербург (Черняховск). Сюда главнокомандующий русскими войсками фельдмаршал Степан Апраксин перенес свою главную квартиру.
Длительный переход требовал отдыха. Этой задержкой русских войск не мог не воспользоваться прусский фельдмаршал Левальдт. Его корпус двинулся на Инстербург. Русская армия, насчитывающая в своем составе 55 тысяч человек, прервав отдых, вышла навстречу неприятелю и, переправившись на левый берег реки Преголи, сосредоточилась восточнее деревни Гросс-Егерсдорф, в окрестностях деревни Норкиттен (ныне территория Междуреченского сельского совета Черняховского района) Здесь обе стороны должны были принять бой.
Для русской армии позиция оказалась невыгодной. Апраксин решил переменить ее. Но когда передовые русские полки, пройдя по единственной узкой дороге через густой лес, стали вытягиваться на большое ровное поле, раскинувшееся между деревнями Удербален (Извилино) и Гросс-Егерсдорф, они подверглись внезапной атаке противника со стороны леса, охватывающего гросс-егерсдорфское поле.
Так завязалась битва при Гросс-Егерсдорфе. Около шести часов утра 19 (30) августа 1757 года русские полки под сильным артиллерийским огнем противника начали строиться в боевой порядок. Артиллерия, зарядные ящики, обозы не успели подойти, они с трудом пробивались к полю боя по узкой лесной дороге. Но не только артиллерия и обозы, — большая часть русской армии оказалась отрезанной от поля сражения густым лесом.
Между тем силы Левальдта нанесли удар в стык первой и второй русских дивизий. Командиры одиннадцати русских полков, не имея указаний со стороны совершенно растерявшегося Апраксина, действовали по своей инициативе. На них обрушилась вся тяжесть удара прусских кирасир и гренадеров. Густые шеренги прусской кавалерии неудержимой лавиной неслись на ощетинившиеся штыками русские пехотные полки. Силы были неравные. Левальдт непрерывно вводил в бой все новые и новые резервы.
После двухчасового боя русские полки начали медленно отступать. Казалось: исход сражения предрешен. Но в это время молодой генерал Петр Румянцев, командовавший общим резервом, во главе Новгородского и Третьего гренадерского полков, пробился сквозь густые заросли леса и нанес неприятелю стремительный фланговый удар. Пятнадцать минут шел штыковой бой. Пруссаки не выдержали натиска свежих русских сил и побежали.
Вот как описывается в журнале военных действий русской армии паническое отступление разгромленного почти сорокатысячного корпуса Левальдта:
«…Как неприятель со всех сторон уже прогнан был и ретироваться стал, то все наше войско при беспрестанной пальбе на него наступало и порядочною линиею, более как на 2000 шагов почти к самому лесу… за оным гналось. Но понеже лес, из которого неприятель вышел и по разбитии побежал, уже весьма близко был…. Апраксин генерала Сибилъского с тремя драгунскими полками в погоню за ними послал, который почти до самого Велау (Знаменск — В. Б.) за неприятелем гнался, но со всем тем оного в скоропостижном и безостановочном его побеге нигде нагнать не мог…».
Левальдт бросил почти всю свою артиллерию, его армия понесла огромные потерн в живой силе: на гросс-егерсдорфском поле было подобрано и закопано более трех тысяч трупов прусских солдат и офицеров.
Потери русской армии, по официальным данным, составили 1342 человека убитыми и 5129 человек ранеными. По свидетельству австрийского фельдмаршала барона Сент-Анри, «столь жестокой битвы до того времени не бывало еще в Европе».
28 августа 1757 года жители Петербурга проснулись от пушечной пальбы. Это был салют в честь гросс-егерсдорфской победы.
Однако эта блестящая победа русских войск не была использована до конца. В конце августа 1757 года Апраксин собрал генеральный военный Совет, на котором присутствовали все полковые командиры и генералитет. Фельдмаршал поставил на обсуждение вопрос о дальнейших действиях русской армии. Он говорил, что победой следует воспользоваться, но в то же время подчеркивал, что положение с продовольствием и фуражом в армии очень тяжелое. Предлагая всем присутствующим высказаться, Апраксин заметил, что даже при выигрыше второго сражения все равно без провианта и фуража армия пропадет, да и раненых некуда девать.
Под нажимом главнокомандующего Совет высказался за отход на зимние квартиры к Тильзиту и Мемелю. Вот выдержка из Постановления военного Совета от 27 августа 1757 года:
«…будучи они (русские командиры — В. Б.) больными отягощены, за изнурением от недостатка фуража лошадей, яко же и не предвидя способа к доставлению на продовольствование войска в такой неприятелем обнаженной земле провианта, за необходимо признают к тому месту маршировать, где провианта получить можно…».
Но не это явилось истинной причиной отвода армии. О другом думал Апраксин. Он опасался, что императрица Елизавета, смертельно больная, могла со дня на день скончаться. На престол Российской империи должен был вступить поклонник Фридриха II Петр второй. Апраксин не хотел попасть в опалу к новому императору и предал интересы русского оружия. Но императрица продолжала здравствовать, и Апраксин был отдан под суд. Главнокомандующим армией был назначен генерал Фермор, который получил приказание правительства немедленно начать подготовку к походу на Кенигсберг.
31 декабря русская армия вновь выступила в поход. 3 января 1758 года полки Румянцева во второй раз вошли в Тильзит.
10 января в город Лабиау (Полесск) накануне занятый нашими войсками, приехали депутаты Кенигсберга с просьбой к русскому командованию — войти в город и принять их в русское подданство. На другой день генерал Фермор въехал в Кенигсбергский замок, у ворот которого его встретили чины городского магистра и представители духовенства. На бархатной подушке ему были преподнесены ключи от города.
Вслед за русским главнокомандующим в город вошли кавалерийские и пехотные части, встреченные колокольным звоном на всех кирхах и громом многочисленных оркестров. Городская милиция Кенигсберга, состоявшая из местных жителей, при прохождении русских полков брала на караул, а офицеры милиции отдавали честь.
Все исторические документы, в том числе и немецкие, единодушно отмечают исключительную дисциплину русских солдат, их гуманное отношение к местному населению. Нужно сказать, что и жители Кенигсберга в подавляющем большинстве неплохо относились к русским войскам. Однако находились и такие, которые всячески пытались разжигать вражду к русским. Так, например, видный прусский чиновник Домхард организовал тайное общество «Вервольф», ставившее целью убийства русских солдат. Но лучшие представители немецкого народа проявляли по отношению к русским войскам самые добрые чувства. К их числу относился и великий немецкий ученый Эммануил Кант, бывший в то время преподавателем Кенигсбергского университета.
После того, как русские войска вошли в Кенигсберг, губернатором провинции был назначен Василий Иванович Суворов (отец великого полководца Александра Васильевича Суворова), который приложил немало сил для того, чтобы торговля и ремесла в Кенигсберге и других городах провинции развивались и процветали. В Указе императрицы Елизаветы по поводу взятия Кенигсберга и занятия русскими войсками Восточной Пруссии было сказано, что Кенигсбергу оставляются все его привилегии.
«…войскам нашим, — говорилось в Указе, — во всех неприятельских землях строжайшую воинскую дисциплину наблюдать, и никому ни малейших обид, утеснении и озлоблении не делать, более того… и среди самой войны пещись, сколько можно, о благосостоянии невиновных худому своему жребию земель, и потому торговлю их и коммерцию не пресекать, но защищать и вспомоществовать…»
Победа, одержанная русскими войсками под Гросс-Егерсдорфом, в результате которой был взят Кенигсберг, явилась итогом совместных действий русской сухопутной армии и военно-морского флота. К началу Семилетней войны русский военно-морской флот представлял довольно грозную силу, и с этой силой считались противники России. В 1757 году Балтийский флот включал в себя две линейные эскадры, галерный флот и большое количество вспомогательных судов — всего 183 корабля.
В связи с тем, что союзник Пруссии — Англия имела самый большой в мире флот, на русские корабли была возложена задача: путем активной обороны Датских проливов не допустить англичан в Балтийское море. Кроме того, флот должен был оказывать поддержку наступающей армии и, действуя совместно с корпусом генерала Фермора, взять Мемель, оборудовать там военно-морскую базу и затем очистить от неприятеля побережье Восточной Пруссии, блокировав порт Пиллау (Балтийск).
С этими задачами русские моряки успешно справились. В середине января 1758 года наши корабли вошли в гавань Пиллау, оставленную пруссаками без боя. С этого времени и до самого окончания войны морская база Пиллау играла исключительно важное значение для находившейся в Померании и Бранденбурге русской армии.
Русская армия и русский военно-морской флот в ходе Семилетней войны выиграли еще ряд блестящих сражений. Одним из них была осада мощной немецкой крепости Кольберг. Подобно тому, как битва при Гросс-Егерсдорфе привела к падению Кенигсберга, так и поражение прусских войск в сражении под Кольбергом решило судьбу Берлина. Прусская армия Фридриха II была полностью разгромлена.
6 августа 1762 года, выполняя условия мирного договора, русские войска оставили Кенигсберг и ушли из Восточной Пруссии.
Так закончился первый поход русской армии в Восточную Пруссию, начатый двести лет тому назад, в 1757 году.
С тех пор на равнинах Восточной Пруссии еще не раз грохотал пожар войн. В 1807 году под Прейсиш-Эйлау (Багратионовск) и Фридландом (Правдинск) русские войска героически сражались против войск Наполеона. В 1914 году русская армия дошла до укреплений Кенигсберга. И, наконец, в 1945 году победоносные полки Советской Армии навсегда разгромили разбойничье гнездо германских милитаристов в Восточной Пруссии, бывшее, по выражению К. Маркса. «немецким государством в чужих землях».
Ныне на этих землях растет и развивается молодая советская область форпост мира на западных рубежах нашей великой Родины.
VII. МОСКОВСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ… Исторические очерки
В 1997-ом, когда Москве исполнилось 850 лет я опубликовал книгу «Московские градоначальники», в которой были помещены 50 биографических очерков главноначальствующих первопрестольной — от губернатора Тихона Никитича Стрешнева, двоюродного брата Петра I, вступившего на пост московского губернатора в 1709 году до генерал-лейтенанта Сергея Константиновича Гершельтана, оставившего генерал-губернаторское кресло в 1909 году, — ровно через 200 лет после Стрешнева. Среди этих 50 сановников был и Иван Васильевич Гудович, граф и фельдмаршал, 35-й московский главноначальствующий, в молодости учившийся в Кенигсбергском университете.
Иван Васильевич Гудович
По иронии судьбы, тридцать шестой московский генерал-губернатор был в истории России и тридцать шестым фельдмаршалом.
Польский дворянский род Гудовичей относился к дворянскому гербу Одровонж, наиболее почитаемым из которого был Гиацинт Одровонж католический миссионер, причисленный в 1594 г. к лику святых. Гудовичи за тридцать лет перед тем получили польское дворянство, в начале XVIII в. переселились на Украину и служили в казачьих полках. Отец будущего московского главнокомандующего, Василий Андреевич Гудович, был малороссийским генеральным подскарбием, и после того как Украина была присоединена к России, стал тайным советником.
У В. А. Гудовича было два сына — Андрей и Иван. Андрей был десятью годами старше Ивана. Но, несмотря на столь значительную разницу в возрасте, братья были дружны и неразлучны. Получив хорошее домашнее воспитание, они вместе же уехали в Германию. Сначала братья учились в Кенигсбергском университете, а потом в университетах Галле и Лейпцига. Когда И. В. Гудовичу исполнилось восемнадцать лет, он вступил в армию инженер-прапорщиком, а брат его стал адъютантом наследника престола великого князя Петра Федоровича, а когда тот стал императором Петром III, Андрей Гудович стал генерал-адъютантом. Благодаря этому и Иван Гудович быстро продвигался по служебной лестнице — в двадцать лет был он подполковником, а в двадцать два — полковником и командиром Астраханского пехотного полка, сменив на этой должности А. В. Суворова.
В 1764 г. он получил боевое крещение в стычках с поляками, но по-настоящему довелось ему воевать через пять лет, когда находился Гудович под турецкой крепостью Хотин.
Еще более отличился И. В. Гудович в сражениях на реках Ларга и Кагул, где действовал рядом с будущим фельдмаршалом, а тогда генерал-майором Г. А. Потемкиным.
И в том же 1770 г. Гудович с небольшими силами мастерским маневром и неожиданным ударом внезапно захватил столицу Валахии Бухарест. За все это он был награжден орденом Георгия 3-й степени и произведен в генерал-майоры.
В ночь с 19 на 20 февраля 1771 г. Гудович штурмом взял у турок крепость Журжу, за что был награжден орденом Святой Анны. Однако летом 1771 г. комендант крепости Журжа — Гензель — предал гарнизон, и турки вернули себе Журжу.
По окончании войны Гудович, уже генерал-поручик и командир дивизии, остался в Малороссии и служил там до 1776 г. А в 1785 г. Екатерина назначила его генерал-губернатором рязанским и тамбовским.
Но в гражданской службе пробыл он всего четыре года, и в 1789 г. снова вернулся в армию, приняв участие в новой войне с турками.
14 сентября 1789 г. взял он замок Хаджибей, через два года перешедший к России под именем Одессы. 18 октября 1790 г. Гудович принудил к капитуляции сильную турецкую крепость Килию, захватив 84 орудия, за что был произведен в генерал-аншефы и переведен на Кавказскую линию, где ему была подчинена Кубанская армия.
22 июня 1791 г. после многочасового кровопролитного боя он овладел мощной крепостью Анапой, захватив 85 пушек и 130 знамен, а вслед за тем взял крепость Суджук-Кале в 27 верстах от Анапы. За эти новые подвиги был он награжден орденом Георгия 2-го класса и шпагой, украшенной алмазами и золотыми лаврами. Гудович стал генерал-губернатором кавказским, подчинив России Дагестан и Дербентское ханство. 2 сентября 1793 г. Екатерина II наградила И. В. Гудовича орденом Андрея Первозванного.
Как только на престол вступил Павел, он немедленно вознаградил старшего брата Ивана Васильевича Андрея, вернув его в службу с чином генерал-аншефа и наградив орденом Александра Невского. Кроме того, Павел направил Андрею Гудовичу следующий собственноручный рескрипт: «Сыну платить долг отца своего. Я никогда сего перед Вами, Андрей Васильевич, не забывал. Сим исполняю сие, призывая Вас сюда. Будьте ко мне, как Вы были к отцу. А я, можете думать, благосклонный ли Ваш Павел».
Семидесятилетний А. В. Гудович тотчас же приехал в Петербург, был необычайно тепло и ласково принят и обласкан Павлом, но не смог проживать при дворе и вскоре уехал к себе в свое черниговское имение, где и скончался в 1808 г. семидесяти семи лет. Все свое состояние — четыре тысячи душ и четыреста тысяч рублей наличными — он оставил своему брату, который в день коронации был возведен в графское достоинство.
Однако непредсказуемый сумасброд Павел по чьему-то навету в июне 1800 г. отставил И. В. Гудовича от службы, и возвратился он на нее лишь в 1806 г., когда Александр вызвал его из подольской деревни и назначил Главнокомандующим над войсками в Грузии и Дагестане. Вскоре войска И. В. Гудовича взяли Баку и расширили владения России на Кавказе. 30 августа 1807 г. был Иван Васильевич за одержанные им победы удостоен звания генерал-фельдмаршала, а через два года, 7 августа 1809 г., определен главнокомандующим в Москву со званием члена Государственного Совета и сенатора.
Вступив в переписку с Гудовичем, Александр 7 сентября 1809 г. известил московского главнокомандующего о заключении два дня назад выгодного для России мира со Швецией, подписанного в Фридрихсгаме министром иностранных дел графом Н. П. Румянцевым. А 26 сентября извещал его о взятии у турок крепости Измаила.
21 октября император с радостью писал Гудовичу об окончании войны между Австрией и Англией и о присоединении к России значительных польских территорий.
И в следующем письме — от 1 ноября 1809 г. — Александр касается вопросов внешнеполитических, сообщая об окончании войны с Австрией, в результате чего Россия вновь получает значительную часть польских провинций и «вместо потери Россия расширяет в сей стороне свои обладания».
А 18 ноября Александр поручил Гудовичу составить Комитет для обмундирования войск на 1811 г. Александр писал, что «столица Московская, которая всегда потребности сей удовлетворяла, как своею собственною промышленностию, так и стечением торговли из других мест государства, имеет теперь Вас своим начальником, коего знаменитые заслуги и непоколебимое усердие к сохранению польз государственных известны мне и отечеству». Гудович был обязан возглавить Комитет и немедленно привлечь к изготовлению обмундирования всех желающих, он должен был выдавать подрядчикам деньги, строго соблюдая выполнение ими срока поставок, которые не могут быть продлены позже 1 сентября 1810 г.
Это письмо было реализацией одной из позиций плана ведения будущей большой войны с Наполеоном, по которому Москве отводилось особое место она должна была стать огромным арсеналом и гигантским складом фуража, продовольствия и обмундирования, а также одним из важнейших центров обучения и формирования войск.
Через десять дней после этого Александр известил Гудовича о своем намерении посетить Москву. «Мне приятно, — писал император, — дать сей личный знак особенного внимания моего к обывателям Москвы: чувства приверженности их и усердия, столь кратные опыты любви их к отечеству требуют сей справедливости».
28 ноября 1809 г. Александр отправился в Москву, намереваясь по дороге в первопрестольную остановиться в Твери. Предстоящая остановка Александра в Твери не была обычной. Дело в том, что за семь месяцев перед тем — 18 апреля — любимая сестра Александра великая княжна Екатерина Павловна вышла замуж за принца Георгия Ольденбургского, который сразу после свадьбы стал генерал-губернатором новгородским, тверским и ярославским. Резиденцией его была объявлена Тверь, и он вскоре же вместе с женой выехал туда. Как и обычно, путь Александра в Москву лежал через Тверь, где чуть раньше поселилась его любимая сестра с мужем. Остановившись в их дворце, 30 ноября 1809 г. Александр уведомил Гудовича, что в будущий понедельник, 6 декабря, он приедет в Петровский дворец и оттуда к часу дня прибудет в Успенский собор. «Никакой встречи мне в Петровском дворце не нужно; Вы распорядите, чтоб меня ожидали в соборе», — писал Александр. Император сообщал Гудовичу, что пробудет в Москве до вечера 1–2 декабря, и, таким образом, было очевидно, что свой день рождения — а это и было 12 декабря — Александр пробудет в Москве.
Император приехал, как и обещал, 6 декабря. В первопрестольной Александр не был восемь лет, с самого дня своей коронация. И вновь москвичи встретили Александра с необычайным восторгом. Очевидец этой встречи записал потом: «Государь! Ты входишь украшен и лаврами, и оливами, но доброму, чувствительному сердцу твоему всех лавров сладостнее любовь твоего народа».
Царь проследовал в Успенский собор, выслушал напутственно слово митрополита Платона и в сопровождении свиты, к которой примкнул и московский главнокомандующий И. В. Гудович, отстоял благодарственный молебен.
Александр пробыл в Москве неделю, где в честь его и их императорских высочеств — герцога и герцогини Ольденбурских — прием следовал за приемом и бал за балом. Особенно торжественным был день и вечер 12 декабря, когда отмечалось тезоименитство императора, праздновавшего свое тридцатидвухлетие. Прямо с праздника, в двенадцатом часу ночи, Александр открытых санях отправился в путь и, не задержавшись в Твери, промчался в Петербург, преодолев путь более чем в 600 верст за 43 часа.
1810 г. начался знаменательным событием: 1 января в 10 часов утра в Петербурге состоялось открытие Государственного Совета — высшего законосовещательного учреждения Российской империи, созданного по заданию Александра М. М. Сперанским.
Предусматривалось, что Государственный Совет будет апробировать все законопроекты перед тем, как они попадут на подпись царю. Однако на практике далеко не все законопроекты рассматривались в Госсовете, ибо, когда они исходили от самого монарха, а такое встречалось не так уж редко, довольно было и подпись императора. В Госсовет входило 35 высших сановников империи председатель Госсовета, государственный секретарь, главы четыре департаментов: 1) Законов, — рассматривавшего законопроект общегосударственного значения; 2) Гражданских и духовных дел, — ведавшего вопросами юстиции, полиции и Синода; 3) Государственной экономии, которому принадлежали вопросы промышленности, торговли, науки, финансов и т. п.; 4) Военный, — объединявший все дела, относящиеся до армии и флота.
Первым председателем Госсовета стал канцлер граф Н. П. Румянцев, первым госсекретарем — М. М. Сперанский.
1 января 1810 г. Александр подписал «Манифест об открытии Государственного Совета» и тут же переслал несколько его экземпляров Гудовичу. В письме, приложенном к манифесту, царь писал, что подлежит довести манифест до сведения тех, «кому Вы за благо признаете, чтобы Вы руководствовали общим мнением к истинному понятию о сем важном государственном установлении и препровождаю при сем для особенного сведения Вашего записку о причинах необходимости сего учреждения».
Сохранились и письма Александра к Гудовичу, где император проявлял интерес и выказывал заботу о благоустройстве Москвы. Особенно интересно письмо от 21 февраля 1812 г. о сооружении в Москве памятника Минину и Пожарскому. В этом письме Александр сообщал о направлении в первопрестольную «художника, статского советника Мартоса, который ныне отправляется в Москву по особому делу». Любопытно и письмо императора от 30 апреля 1810 г., в котором Александр высказывает озабоченность тем, что в течение Пасхи в Москве сильно выросли цены на продукты. «Я нужным считаю поручить Вам войти в подробное рассмотрение причин дороговизны и принять меры к отвращению оной нужные». Несколько писем в Москву посвящены были и другим экономическим проблемам. 3 июня 1810 г. Александр послал Гудовичу письмо о проведении государственного займа, учреждаемого «единственно для того, чтобы уменьшить массу ассигнаций, возвысить их цену».
18 мая 1811 г. царь писал гражданскому губернатору Москвы тайному советнику Н. В. Обрескову о необходимости полного сбора недоимок, когда «нерадение и послабление предаваемо будет всей строгости законов».
А 13 мая 1812 г. Александр отправил Гудовичу последнее письмо, в котором сообщал, что он принимает его прошение об отставке и дарует ему свой портрет, осыпанный алмазами, назначая его членом Государственного Совета. Это письмо было написано И. В. Гудовичу за месяц до начала Отечественной войны 1812 г. из Вильно, куда царь приехал 14 апреля, чтобы находиться при армии. Он, как и все окружавшие его сановники и генералы, со дня на день ожидал вторжения «Великой армии» Наполеона и предпринимал последние усилия, чтобы достойно встретить неприятеля.
Одной из важнейших задач по подготовке к отражению противника император считал мобилизацию сил в тылу России, особое место отводя Москве — главному арсеналу и мобилизационному центру империи — справедливо считая, что престарелый фельдмаршал не может справиться с непосильным для него задачами. Выбор Александра остановился на сорокадевятилетнем генерал-лейтенанте графе Ф. В. Ростопчине, человеке энергичном, опытном администраторе, умевшем говорить с людьми всех состояний на понятном им языке. 13 мая 1812 г. Гудович получил отставку, и в тот же день Ростопчин занял его место.
Биограф И. В. Гудовича Д. Н. Бантыш-Каменский писал: «Маститый старец провел спокойно последние годы многотрудной и полезной жизни в пожалованном ему императором Павлом местечке Чечельник, прежде называемом Ольгополь, занимаясь в кругу своего семейства музыкою и охотою; скончался от совершенного истощения сил в январе 1820 г. (22 января. — В. Б.) и завещал похоронить его в Киево-Софийском соборе.
Он был нрава горячего, правил строгих, любил правду и преследовал только порочных; с вида казался угрюмым, неприступным, между тем как в кругу домашнем или в приятельской беседе был ласков и приветлив. Кроме российского, знал языки: латинский, французский, немецкий и итальянский; имел прекрасный оркестр, составленный из домашних музыкантов, поддерживаемый сыном его, генерал-майором графом Андреем Ивановичем Гудовичем, который отличился с храбрым полком своим в Бородинском сражении.
Граф Иван Васильевич был женат на дочери последнего малороссийского гетмана графине Прасковье Кирилловне Разумовской и оставил детям своим 12 964 души».
VIII. МИХАИЛ КУТУЗОВ Портреты и судьбы
В 1991 году, вышла книга «Михаил Кутузов», написанная мною под сильным впечатлением от событий конца XVII — начала XIX веков, в которых судьбы двух военачальников переплетались часто и тесно. В жизни Кутузова и его потомков заметную роль играла прусская королевская семья и особенно ее глава — король Фридрих — Вильгельм III, бронзовую конную статую которого помнят старожилы-калининградцы, стоявшей перед фасадом Кенигсбергского университета на Параденплантц.
Кратковременному пребыванию Кутузова в Кенигсберге в 1798 году и судьбе его внучки графини Екатерины Фердинандовны Тизенгаузен посвящены в этой книге два сюжета. Особенно занимателен второй из них, открывающий тайну происхождения убийцы Распутина князя Феликса Юсупова, прадедом которого был прусский король Фридрих Вильгельм III, а прабабкой — Екатерина Фердинандовна Тизенгаузен.
Меж Зимним дворцом и Михайловским замком
Причудливые извивы внешнеполитического курса нового императора привели к тому, что в 1799 году русские войска находились в Австрии, Италии, Швейцарии, Голландии и Германии, а флот — в Средиземном и Северном морях. В союзе с Англией, Пруссией, Турцией и Австрией Россия вела войну против Франции, пытаясь сокрушить и самое мятежную республику и ее ужасные порождения-республики Гельветическую и Батавскую, Цизальпинскую и Римскую, которые были образованы Наполеоном соответственно на территориях Швейцарии, Голландии, Северной и Центральной Италии.
«Чтоб принудить Францию, если возможно, возвратиться в границы, которые она имела до революции, — говорилось в союзном англо-русском трактате от 18 декабря 1798 года, — …как только его прусское величество покажет склонность к видам, столь достойным его внимания, его императорское всероссийское величество соглашается доставить ему вспоможение сухопутными войсками на сей предмет 45 000 человек пехоты и кавалерии, с необходимым количеством артиллерии».
«Прусское величество» склонность показало, но у Павла не оказалось потребного числа солдат. Вместо 45 тысяч он еле собрал 17 с половиной тысяч, и «прусское величество» склонность потеряло.
Тогда Англия предложила пересмотреть конвенцию.
К 17 тысячам русских решено было прибавить 13 тысяч англичан и 8 тысяч новых союзников — шведов и с этими силами попробовать изгнать французов из Батавской республики-бывшей Голландии.
Эта пестрая интернациональная экспедиция трех европейских монархов была организована из рук вон плохо, и французские генералы Стали бить союзников одного за другим.
Русский командующий — генерал-лейтенант И. И. Герман 8 сентября 1799 года был разбит в бою под Бергеном и попал в плен.
Павел, узнав об этом, в свойственной ему парадоксальной манере тут же присвоил Герману очередное звание — генерал от инфантерии и послал в Выборг за Кутузовым, чтобы тут же отправить его командующим экспедиционным корпусом в Голландии.
В начале октября Кутузов выехал из Петербурга. Перед отъездом он стал кавалером Большого креста ордена Иоанна Иерусалимского и, кроме того, получил от императора еще и тысячу «душ».
16 октября «в Курляндии, на почте» он написал жене: «Дорога прескверная и часто нету лошадей». Но, видать, отправив письмо, лошадей все же получил и двинулся дальше — в Пруссию.
Через два дня поздно вечером Кутузов приехал в Кенигсберг.
«1799 года, октября 19-го. Я, мой друг, доехал насилу в Кенигсберх вчерась поздно и уехал бы уже давно, ежели бы карета не испортилась: дорога была такая, что вообразить нельзя. Сегодни ночью надеюсь ехать далее. Сказывают, и дорога и лошади впереди лучше. Я, слава богу, здоров.
По газетам ты, я думаю, догадываешься, что мне в Голландию не ехать, а поеду в Англию; разве что узнаю в Гамбурхе, что русские еще не успели в Ермут переехать, то заеду в Мемель.
Писем твоих ближе Гамбурха нигде не увижу.
Прости, мой друг».
Верный друг Михайла Г.«Здравствуйте, любезные дети, что вы делаете? Писали ли вы ко мне? Я теперь в Кенигсберхе; сижу у окошка на большой улице и вижу, как немки пешком на бал идут, навеся платочки; на голове наколоты, и головы превеликие.
Из Англии вам навезу мод аглицких…»
В этом письме содержится одно совершенно точное, вскоре сбывшееся предвидение: он еще был в дороге, а за ним уже мчался курьер с рескриптом Павла от 23 октября:
«Заключая изо всех, полученных мною из Голландии известий, что экспедиция в той земле приняла совсем неудачный оборот, предписываю Вам… перевезитесь в Англию…»
Далее Павел приказывал: перезимовать в Англии со всеми войсками, а весной вместе с ними вернуться в Россию.
Еще через три дня в Голландию помчался другой курьер:
«По перевозке всех войск… в Англию, сами отправьтесь немедленно в Россию…».
Екатерина Фердинандовна Тизенгаузен и король Фридрих-Вильгельм III
Дружеские — и, пожалуй, более чем дружеские чувства Елизаветы Михайловны Хитрово — любимой дочери Кутузова, в первом браке графини Тизенгаузен — полной мере распространялись и на Пушкина. После того, как он уведомил ее семейство о намерении жениться на Наталье Николаевне Гончаровой, Елизавета Михайловна писала поэту:
«Океан будет между мною и вами. Но и прежде и после вы всегда найдете во мне и для вас, и для жены вашей, и для детей — друга непоколебимого, как скала, о которую все разбивается. Рассчитывайте на это по жизнь и смерть. Располагайте мною на все и без разбора».
С Дарьей Федоровной — дочерью Елизаветы Михайловны — Пушкин познакомился вскоре после приезда семейства Фикельмон в Петербург и с тех пор сердечно привязался к ней, встретив с ее стороны столь же дружеское расположение.
25 мая 1831 года Дарья Федоровна писала князю Вяземскому:
«Пушкин к нам приехал (с женой из Москвы и Петербург. — В. Б.) к нашей большой радости… Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем…»
В письме к нему же от 12 декабря 1831 года Дарья Федоровна еще более отчетливо говорит о «предчувствии несчастья»:
«Пушкин у вас в Москве; жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».
29 января 1837 года умер Пушкин. Немногим более двух лет пережила великого поэта Елизавета Михайловна Хитрово, скончавшаяся 2 мая 1839 года…
Долли прожила в Петербурге до 1839 года, а затем уехала в Вену: ее муж, граф Фикельмон, стал министром иностранных дел Австрии.
После отъезда Долли с мужем и дочерью в Вену в Петербурге осталась лишь ее сестра Екатерина.
Однако следует добавить, что с Екатериной Фердинандовной остался еще один член семьи — некто Феликс Эльстон. Этот новый член семьи, взятый на воспитание Елизаветой Михайловной Хитрово за границей и, по легенде, привезенный мальчиком в Петербург, являлся сыном внезапно скончавшейся венгерской графини Форгач. Когда его приемная мать умерла, заботу о Феликсе взяла Екатерина Фердинандовна Тизенгаузен, к тому времени камер-фрейлина императрицы Александры Федоровны — жены Николая I.
Императрица, носившая до замужества имя Каролины, была родной дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и ее выбор камер-фрейлины не был случайным. Придворные поражались тесной и теплой дружбе между императрицей и ее фрейлиной. Говорили, что все это основывалось не только на глубокой привязанности и взаимной симпатии, но имело под собою и более прочный фундамент. Утверждали, что еще в 1820 году, когда сестры Тизенгаузен путешествовали по Европе, в графиню Екатерину Фердинандовну влюбился прусский король Фридрих-Вильгельм III, тот самый, с которым дед Екатерины Кутузов познакомился еще весной 1798 года и который подарил Михаилу Илларионовичу свой портрет. Утверждали, что король сделал предложение графине Екатерине Тизенгаузен, но получил отказ.
Внучка Кутузова не согласилась стать королевой Пруссии, хотя к Фридриху-Вильгельму, как к человеку, испытывала добрые чувства. Поговаривали, что Феликс Эльстон — воспитанник Елизаветы Михаиловны Хитрово — был не сыном графини Форгач, а внебрачным ребенком Екатерины Тизенгаузен и прусского короля.
Этим досужие великосветские сплетники и объясняли дружбу императрицы со своей фрейлиной.
Во всяком случае, Екатерина Тизенгаузен не выходила замуж и с 1833 года до самой своей смерти прожила в Зимнем дворце.
Старшая сестра Екатерины — Долли Фикельмон — скончалась 10 апреля 1863 года, лишь на шесть лет пережив своего престарелого супруга графа Фикельмона. Что же касается мальчика, вокруг которого витала столь романтическая легенда и которого звали Феликс Николаевич Эльстон, то в 1836 году он поступил в Артиллерийское училище и по окончании его был оставлен в Артиллерийской академии. В 1842 году его перевели в лейб-гвардии конную артиллерию, а в 1849 году назначили адъютантом военного министра графа А. И. Чернышева и потом оставили при нем же для особых поручений. Он участвовал в Кавказских войнах и в обороне Севастополя, был награжден многими орденами, пожалован землями и высокими чинами.
В 1856 году Феликс Эльстон женился на графине Сумароковой и по указу Александра II присоединил к своей фамилии — Эльстон фамилию жены и ее графский титул, став графом Сумароковым-Эльстон. Он умер 30 октября 1877 года в должности командующего войсками Харьковского военного округа в чине генерал-лейтенанта и генерал-адъютанта. Всю жизнь ему сопутствовала скрытая, но трогательная забота невидимых покровителей, хотя в службе его было немало таких коллизий, на которые человек трусливый и просто осторожный не решился бы.
Его сын, Феликс Феликсович в 1891 г. стал князем Юсуповым, женившись на княжне Юсуповой, род которой пресекся в мужском колене в том же 1891 году. В 1915 г. Феликс II, как все его звали, стал главноначальствующим над Москвой, будучи генерал-адъютантом и генерал-лейтенантом Свиты. Сын его Феликс III — в 1914 г. женился на племяннице императора Николая II, великой княгине Ирине Александровне. Он вошел в историю России после того как накануне 1917 года убил Григория Распутина. Эмигрировав за границу, князь Феликс Юсупов умер в Париже в 1967 г.
Такие далекие последствия имел матримониальный союз внучки Кутузова Екатерины Тизенгаузен с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III.
IX. САМОДЕРЖЦЫ Любовные истории царского дома. 200 новелл…
В 1999 году вышли в свет еще две мои книги, где Восточная Пруссия и Кенигсберг также фигурируют, как места, связанные с важными историческими событиями, происходившими в России.
В первой из этих книг, названной «Самодержцы. Любовные истории царского дома», содержится три новеллы, действие которых происходит, как и в прежних, В Кенигсберге и Приблатике. Эти новеллы называются: «Герцогиня Курляндская», «Эрнст-Иоганн Бирон» и «Император Александр и королева Луиза». Я поместил их в «Русско-Прусских Хрониках», ибо и они составляют несколько страниц истории нашего края.
Герцогиня Курляндская
Анна Ивановна была второй дочерью царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой. Она родилась в Москве 28 января 1693 года и сразу же попала в обстановку весьма для нее неблагоприятную. Отец постоянно болел, а мать почему-то невзлюбила Аннушку, и она оказалась предоставленной самой себе да опеке богомольных и темных нянек и приживалок.
Уже в детстве девочке сказали, что она вовсе и не царская дочь, потому что Иван Алексеевич бесплоден, а отцом ее является спальник Прасковьи Федоровны Василий Юшков. (Спальником называли дворянина, который стерег сон царя или царицы, находясь в покое рядом с опочивальней.)
Когда девочка подросла, к ней были приставлены только два учителя: учитель немецкого и французского языков Дитрих Остерман — брат вице-канцлера барона Андрея Ивановича Остермана — и танцмейстер француз Рамбур. Из-за этого Анна Ивановна осталась полуграмотной и в дальнейшем не очень-то увлекалась науками. Девочка была рослой — на голову выше сверстников, — полной и некрасивой.
После скоропостижной смерти мужа она, как мы уже знаем, навещая Петербург, делила свои сердечные привязанности с разными соискателями ее любви, но в Митаве ее серьезным поклонником, а потом и фаворитом стал мелкий дворцовый чиновник Эрнст-Иоганн Бюрен.(В России его звали Бироном, да и он сам называл себя так, настаивая на своем родстве с французским герцогским домом Биронов.)
Впервые Бирон появился перед герцогиней Курляндской в двадцать восемь лет. Его отец — немец-офицер — служил в польской армии, но, кажется, не был дворянином. Во всяком случае, когда Анна Ивановна попыталась добиться признания своего фаворита дворянином курляндскии сейм отказал ей в этом. Что же касается матери будущего герцога, то ее дворянское происхождение бесспорно.
Эрнст Бирон был третьим сыном. В юности он стал студентом Кенигсбергского университета, но не закончил его, потому что чаще чем в университетских аудиториях сидел в тюрьме за драки и кражи. Двадцати четырех лет он приехал в Петербург и попытался вступить в дворцовую службу, но не был принят из-за низкого происхождения. В 1723 году Анна Ивановна женила своего фаворита на безобразной, глухой и болезненной старой деве Бенгине-Ютлибе фон Тротта-Трейден, происходившей, впрочем, из старинного и знатного немецкого рода.
Однако женитьба ничего не изменила в отношениях герцогини и фаворита. Более того, когда 4 января 1724 года у Бирона родился сын, названный Петром, то сразу же поползли упорные слухи, что матерью мальчика была не жена Бирона, а Анна Ивановна. Когда мальчик подрос обнаружилось его сильное сходство с Анной Ивановной?
Между женитьбой Бирона и поездкой в Москву с Анной Ивановной произошло несколько амурных историй, связанных со сватовством, но ничем не кончившихся. Одна из историй — в высшей степени романтическая. Однако все по порядку. После скоропостижной смерти мужа Анны Ивановны, герцога Фридриха-Вильгельма, Петр I решил выдать юную вдову замуж еще раз.
В 1717 году претендентом на ее руку был герцог Саксен-Вейсенфельскип Иоганн-Адольф, но сватовство расстроилось. Не состоялся брак и со следующим женихом — принцем Карлом Прусским. Затем, еще при жизни Петра 1. в качестве претендентов появились четыре германских принца, но дальше брачных переговоров дело не пошло.
Наконец, в сентябре 1725 года, через полгода после смерти Петра I, Анне Ивановне, бывшей тогда в Санкт-Петербурге. сообщили о новом суженом блестящем кавалере, храбреце и красавце, покорителе дамских сердец от Варшавы до Парижа — графе Морице Саксонском, внебрачном сыне польского короля. К тому же он был на три года моложе невесты, перешагнувшей тридцатилетний рубеж. Поэтому, еще не увиден графа Саксонского. Анна Ивановна заочно влюбилась в него. Ее не смущало, что Мориц слыл не только выдающимся бабником, но и столь же замечательным дуэлянтом, мотом и картежником, за которым к моменту сватовства накопилась куча долгов. Анну Ипанонну не останавливало и то, что граф Саксонский по рождению не был августейшей особой. И. казалось, что полдела уже сделано; однако и на сей раз ни брачных переговоров, ни сватовства не последовало, хотя потенциальная невеста делала все, что было возможно.
Прошло около года прежде чем Мориц решился на активные действия со своей стороны. Будущий знаменитый маршал Франции и выдающийся военный теоретик, отличавшимся дерзостью и быстротой маневра, он и при осуществлении грядущей матримональной операции избрал именно такой образ действий.
Бросив все свои версальские дела и утехи, собрав со своих богатых парижских любовниц и уже сильно обедневшей матери псе, что только мог, он помчался в Митаву.
Чтобы стать мужем Анны Ивановны, Морицу надлежало получить согласие дворянского курляндского сейма, имевшего право выбирать герцога по своему усмотрению. И здесь счастье сопутствовало Морицу — его избрали герцогом. Дальше волеизъявление сейма подлежало утверждению королем Польши и российской императрицей, так как Курляндия по юридическому статусу зависела от этих двух стран. Казалось, что отец Морица, занимавший трон Польши, несомненно утвердит его избрание, но не туг-то было: политика взяла верх над родительскими чувствами, и Август II воздержался от одобрения.
И уж совсем никаких надежд не мог связывать Мориц с русской императрицей, поскольку ситуация не соответствовала ее политическим планам: Екатерина I решила, что герцогом Курляндии должен стать Меншиков, который и отправился в Ригу с внушительным кавалерийским отрядом. В Митаву же для переговоров с сеймом приехал Василий Лукич Долгорукий — влиятельный член Верховного тайного совета и опытный дипломат.
Вскоре в Митаву приехал и Меншиков, где встретился со своим соперником на курляндский трон. Желая сразу же поставить Морица на место, Меншиков первым делом спросил:
— А кто ваши родители?
Мориц ответил вопросом на вопрос:
— А кто были ваши?
Курляндское дело кончилось в конце концов ничем для обоих соискателей. Причем, Мориц потерпел двойное фиаско: он не только лишился перспективы завладеть троном, но и получил отказ в своих матримониальных намерениях. Последнее же обстоятельство связано с комическим эпизодом, более смахивающим на фарс.
В Митаве Мориц жил во дворце своей невесты, в одном из его крыльев. Ожидая благополучного исхода сватовства, пылкий кавалер не оставлял без внимания и молодых придворных красавиц. Одной из его пассий оказалась фрейлина Анны Ивановны, которую граф Саксонский среди ночи провожал домой. Во дворе замка лежал глубокий снег, и Мориц понес свою любовницу на руках. Внезапно он споткнулся, поскользнулся и упал, выронив фрейлину в снег. И вдруг он услышал пронзительные женские крики. Это кричала испуганная фрейлина и еще кто-то другой. Оказалось, что Мориц упал, споткнувшись о спящую пьяную кухарку с черной дворцовой кухни. Обе женщины, испугавшись, стали пронзительно и громко кричать. Во дворце возник переполох, проснулись его обитатели и в том числе Анна Ивановна, получившая очевидное доказательство того, каков ее жених.
И все же, несмотря на скандал, Мориц остался в Митаве. Неизвестно сколько бы он жил там, если бы туда ни пришли четыре русских полка, присланных специально для того, чтобы изгнать докучливого претендента на курляндский трон. Мориц бежал из замка, на рыбацкой лодке переправился через реку Лиелупе и затем добрался до Данцига.
Так завершилась очередная неудачная для Анны Ивановны попытка замужества.
Все это рассказано для того, чтобы читатель мог представить, кого ожидал в России императорский трон, кого пригласили в Петербург не очень-то дальновидные верховники.
Как бы то ни было, но будущая российская императрица, выехав из Митавы 29 января 1730 года, 10 февраля приехала в Москву, объявленную покойным Петром II, как уже упоминалось, единственной столицей России.
Эрнст-Иоганн Бирон
Вернемся теперь к началу царствования Анны Ивановны, когда она, сокрушив верховников, стала самодержавной императрицей.
Укрепляя доставшуюся ей власть, Анна Ивановна восстановила Сенат, а 18 октября 1731 года по инициативе Остермана был образован Кабинет министров «для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел, подлежащих рассмотрению императрицы». Кабинет министров обладал широкими правами в области законодательства, управления. суда и контроля за всеми государственными учреждениями в столице и на местах.
В его состав вошли три кабинет-министра: граф Гавриил Иванович Головкин, родственник Натальи Кирилловны Нарышкиной, канцлер при Петре I и президент Коллегии иностранных дел; князь Алексей Михайлович Черкасский, сенатор и один из активнейших врагов верховников; и граф Андреи Иванович Остерман, фактический руководитель русской внешней политики во все годы правления Анны Ивановны.
В 1735 году по указу императрицы подписи трех кабинет-министров равнялись ее собственной. После смерти Головкина его место в Кабинете занимали последовательно Павел Иванович Ягужинский, Артемий Петрович Волынский и ближайший сподвижник Бирона Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. По мастным прерогативам Кабинет министров стал верховным учреждением государства, отодвинув Сенат на второе место.
Сделавший более прочих для укрепления самодержавной власти Анны Ивановны офицер-преображенец Семен Андреевич Салтыков, родственник императрицы по ее матери — Прасковьи Салтыковой, на следующий же день после переворота стал генерал-лейтенантом, а вскоре и генерал-аншефом. Кроме того он получил придворный чин гофмейстера и имение с десятью тысячами душ.
Теперь и Бирон мог приехать к своей возлюбленной, что он вскоре и сделал.
Анна Ивановна снова перенесла столицу в Петербург и со всем двором переехала на берега Невы, оставив Салтыкова генерал-губернатором и Главнокомандующим Москвы, а 9 февраля 1732 года пожаловала ему титул графа.
И все же Салтыков не стал первым сановником империи. Им несомненно являлся обер-камергер Эрнст-Иоганн Бирон, пока еще остававшийся Бюреном.
И тогда в Митаве, и в Москве и в Петербурге. Бирон и его семейство всегда жили в одном дворце с Анной Ивановной. И до женитьбы Бирона, и после, спальни герцогини Курляндской и ее фаворита находились рядом и соединялись дверью. Так стало и в России. Казалось бы, фаворит обязан был сохранять абсолютную верность своей государыне или, во всяком случае, скрывать от нее свои похождения. Однако не тут-то было. Правда, первое время Бирон был осторожен и не подавал императрице поводов к ревности. Но когда Анна Ивановна стала стареть и все чаще болеть, он увлекся по-прежнему влиятельной конфиденткой — доверенной подругой и наперсницей Елизаветы Петровны, уже знакомой нам Маврой Егоровной Шепелевой, которая после смерти Анны Петровны возвратилась из Киля в Петербург и снова перешла к цесаревне Елизавете в прежнем качестве фрейлины. Шепелева была умна, богата, но некрасива, хотя последнему ее качеству мало кто из мужчин придавал значение, вполне довольствуясь двумя первыми. Кроме того она слыла большой искусницей в альковных делах, а эту сторону женского нрава мужчины всегда считали наизначительнейшей. Что же касается ее влияния на Елизавету Петровну, то здесь Мавра Егоровна не имела себе равных.
Этого в совокупности оказалось достаточно, чтобы Эрнст Бирон, имевший свои виды на цесаревну, стал любовником Шепелевой, а вскоре искренне, насколько мог, полюбил ее.
Анна Ивановна знала об их романе, сердясь, называла Шепелеву Маврушкой, но ничего поделать не могла, хотя однажды не постеснялась прибегнуть к помощи нелюбимой кузины, чтобы образумить изменника. В одном из немногих писем Елизавете Петровне раздосадованная Анна Ивановна писала: «Герцог и Маврушка окончательно опошлились. Он ни одного дня не проводит дома, разъезжает с нею совершенно открыто в экипаже по городу, отдает с нею вместе визиты и посещает театры».
Разумеется, амурные похождения фаворита были не самым важным его делом: для Бирона на первом месте всю жизнь стояла «одна, но пламенная страсть» — обладание властью. Все иные свои стремления, увлечения и привязанности он ставил в прямую зависимость от того, способствуют ли они достижению его главной цели — безграничной, практически, самодержавной власти. Он хорошо понимал, что одного влияния на императрицу, хотя бы и беспредельного, недостаточно, как недостаточно и признания его первым сановником империи со стороны российских министров и фельдмаршалов. Он желал, чтобы о его власти знали и при важнейших иноземных дворах.
Курляндское захолустье не способствовало его известности в Европе. Но когда Анна возвысила его в России, она вслед за этим выхлопотала ему у австрийского императора титул графа и. наконец, наградила фаворита орденом Андрея Первозванного. Иноземные дворы, союзные России, заметили временщика, и последовали примеру Австрии, поднося ему ордена и иные знаки отличия.
После того, как Эрнст-Иоананн в 1737 году стал герцогом Курляндским, французский герцог Бирон учтиво поздравил своего самозванного родственника, но все же спросил, в каком родстве находятся их герцогские династии. Эрнст-Иоаганн не ответил на это письмо.
Следом за фаворитом приехали в Россию и два его брата.
Старший из них — Карл — еще в ранней молодости вступил в русскую службу, но вскоре попал в плен к шведам. Он бежал из плена и, вступив в польскую армию, дослужился до подполковника. Как только Анна Ивановна стала императрицей, Карл приехал в Россию, был удостоен чина генерал-аншефа и должности военного коменданта Москвы. Однако образцом дисциплины военный комендант не был: из-за постоянных драк в пьяном виде он получил так много ран и увечий, что стал инвалидом и вследствие этого оказался неспособным к службе.
Младший брат герцога — Густав Бирон — приехал в Россию тоже из Польши. Сначала ему был дан чин майора гвардии, а потом, очень скоро, и генерал-аншефа. Густав не отличался ни умом, ни храбростью, и если бы ни его знаменитый брат, то о нем не осталось бы следов в истории.
Крушение фаворита повлекло за собою арест и ссылку обоих его братьев, которые и потом разделяли участь Эрнста-Иоаганна.
Император Александр и королева Луиза
Решительно меняя, как ему вначале казалось, внешнеполитический курс России, Александр сменил и одного ее руководителя — графа Панина на другого — графа Кочубея.
Тридцатитрехлетний Кочубей был решительным сторонником нейтральной, независимой России, которая, по его мнению, не должна была связывать себя никакими военными союзами.
В записке, поданной Александру, Кочубей писал: «Россия достаточно велика и могущественна пространством, населением и положением, она безопасна со всех сторон, лишь бы сама оставляла других в покое. Она слишком часто и без малейшего повода вмешивалась в дела, прямо до нее не касавшиеся. Никакое событие не могло произойти в Европе без того, чтобы она не предъявила притязания на участие в нем. Она вела войны бесполезные и дорого ей стоившие. Благодаря счастливому своему положению император может пребывать в дружбе с целым миром и заняться исключительно внутренними преобразованиями, не опасаясь, чтобы кто-либо дерзнул потревожить его среди этих благородных и спасительных трудов.
Внутри самой себя предстоит России совершить громадные завоевания, установив порядок, бережливость, справедливость во всех концах обширной империи, содействуя процветанию земледелия, торговли и промышленности. Какое дело многочисленному населению России до дел Европы и до воин из нее проистекающих? Она не извлекла из них ни малейшей пользы».
Однако концепция Кочубея не просуществовала и года: 20 мая 1802 года Александр отправился в свою первую заграничную поездку, — в Пруссию. Эта поездка стала причиной того. что между русским императором и прусской королевской четои установилась прочная и нежная дружба, которая впоследствии явилась одним из побудительных мотивов вступления России в воину с Наполеоном.
Во время пребывания в Мемеле. — писал Адам Чарторижскии, бывший с царем и царицей в этой поездке, — «Королеву всегда сопровождала ее любимая сестра, принцесса Сальмская, теперешняя герцогиня Кумберландская, о которой скандальная хроника могла бы порассказать многое. Присутствие принцессы уменьшало строгость этикета, оживляло разговор и придавало более интимный характер их встречам: принцесса была прекрасной поверенной тайных помыслов своей сестры; она была бы готова и на более существенную помощь сестре в этих делах, если бы в этом встретилась надобность. После одного из свиданий с Прусским Двором, император, в то время сильно увлекавшийся кем-то другим, рассказывал, что серьезно встревожен расположением комнат, смежных с его опочивальней, и что на ночь он запирает дверь на два замка, из боязни, чтобы его не застали врасплох и не подвергли бы слишком опасному искушению, которого он желал избежать. Он даже высказал это обеим принцессам. причем был более откровенен, нежели учтив и любезен».
Александр приехал в Мемель 10 июня, а уехал 16-го, но всего за одну неделю он, буквально, свел с ума синеокую двадцатишестилетнюю красавицу-королеву, в свою очередь пленившую царя восторженностью души и вспышками веселого кокетства, сочетавшимися с глубокой заинтересованностью сложными проблемами жизни и редкостной начитанностью. Несмотря на молодость (царь был на год моложе Луизы). Александр пустил в ход все: пламенную мечтательность, которая выходила у него такой естественной, хотя никогда не была искренней, желание послужить идеалам человечности, пылкое стремление к славе, намерение стать на защиту угнетенной Европы, готовность каждый момент спешить на помощь последним из последних, забыв о своем высоком сане, повинуясь только чувству гуманности. Это была тонкая игра со стороны «прельстителя». Она достигла цели. Один из эпизодов, произошедший на глазах Луизы, раскрывает то. как Александр доказывал свою гуманность и отрешение спешить на помощь. «Был кончен один из танцев, — писала Луиза в своем „Дневнике“, — император отдыхал, сидя рядом со мной, мы разговаривали. Вдруг все устремились к окнам. спрашивали: „В чем дело?“ Говорят: „Кто-то утонул“. Как ветер Александр бросился вниз, чтобы помочь. Это был маленький мальчик, которого уже успели вытащить из воды. Я вижу в окно, как император возвращается с мальчиком восьми или девяти лет на руках. Войдя, он сам дает ему чаю, который тот пьет с удовольствием. И приходит ко мне будто ничего не случилось. Я говорю ему о том, как он добр, как я растрогана. „Всякий сделал бы это на моем месте“, — отвечал он».
На другой день после отъезда Александра Луиза, воспользовавшись отъездом в Петербург курьера, отправила вслед императору письмо. «Я тщетно буду стараться изобразить вам горе, в которое поверг меня ваш отъезд. Он был ужасен. Только надежда увидеть ваше императорское величество через два года несколько утешила меня».
А через месяц Луиза получила письмо от своего брата, принца Георга, в котором он восхищался красотой Альп. Луиза отвечала ему письмом от 13 июля 1802 года: «Я не видела никаких Альп, но я видела людей, или лучше сказать человека в полном смысле этого слова, который воспитан альпийским жителем (по-видимому, имелся в виду Лагарп) и знакомство с которым дороже мне, чем все Альпы мира. Ибо Альпы не могут ничего делать, а он действует, распространяет вокруг себя счастье и благословление каждым своим решением. Каждый его взгляд создает кругом счастливых людей, осчастливленных его небесной добротой. Что я говорю об императоре, об единственном Александре, ты, конечно, понял с первых же слов». Что же касается Александра, то его видимое увлечение королевой Пруссии многие считали «платоническим кокетничаньем» и «политическим флиртом», ибо во взаимоотношениях с женщинами Александра более увлекало тщеславие, чем удовлетворение страсти. Хотя следует признать, что и удовлетворение страсти порой принимало у рано избалованного женскими ласками прекрасного и женственного принца извращенные формы. Писатель-эмигрант Лев Дмитриевич Любимов, анализируя отношения Александра с его сестрой Екатериной Павловной, заметил: «Всех женщин любил Александр Павлович и, похоже, тою же любовью, что и прочих, сестру свою, блистательную великую княгиню Екатерину Павловну».
И вместе с тем Александр далеко не всегда добивался физической близости с женщинами, которые нравились ему. «В числе тех женщин, с которыми проводил он целые вечера, к которым его тянуло, — имеются вовсе некрасивые, вовсе немолодые, на чью добродетель он посягать был отнюдь не намерен. В том-то и дело, что он любил всех женщин, паче всего любил женское общество — и, так как расточил он свой пыл, по-видимому, преждевременно, в бесчисленных похождениях, — очень часто сознание, что победа зависит от его доброй воли, вполне удовлетворяло его, почему и заходить слишком далеко казалось ему излишним.».
И потому не следует преувеличивать воздействие на Александра прусской королевы, хотя симпатия к ней и сыграла свою роль в сближении двух дворов Петербургского и Берлинского. И все же Чарторижский, четыре года спустя, писал Александру: «Интимная дружба, которая связала Ваше императорское величество с королем после нескольких дней знакомства, привела к тому, что Вы перестали рассматривать Пруссию, как политическое государство, но видели в ней дорогую Вам особу, по отношению к которой признавали необходимым руководствоваться особыми обязательствами». Но до войны из-за Пруссии, или, тем более, в пользу Пруссии, дело пока еще не дошло, Александр все еще оставался верен идее превращения России в правовое либеральное государство в духе тех идей, которые внушил ему Лагарп, хотя практика государственного управления часто показывала утопичность такого подхода к внутренним российским делам.
Поздней осенью 1803 года в Петербург из своего имения Грузино вернулся по вызову Александра Аракчеев, а 3 декабря того же года «Негласный комитет» собрался на свое последнее заседание.
В этих двух событиях современники увидели знамение того, что недолгая эпоха либерализма закончилась, не протянув и трех лет.
X. ФЕЛЬДМАРШАЛ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ БАРКЛАЙ де ТОЛЛИ Жизнь и полководческая деятельность…
В том же году вышла и первая обширная биография фельдмаршала, князя Михаила Богдановича Барклая де Толли, написанная мною для Военного издательства. Барклай, начавший войну 1812 года министром военных сухопутных сил России и командуя самой большой русской армией — 1-й Западной — возглавлял ее действия в наиболее тяжелый период войны — с июня по 17 августа 1812 года. Принявший у него армию Кутузов, продолжил единственно возможную тогда тактику борьбы с Наполеоном — тактику отступления, продолжая стратегическую линию своего предшественника.
После смерти Кутузова, Барклай вновь возглавил русскую армию и в марте 1814 года привел ее в Париж. Долгое время его имя подвергалось незаслуженной хуле и лишь теперь он занял в русской историко-военной литературе такое же почетное место, как и Кутузов, и Багратион, и другие великие полководцы и отчизнолюбцы. В период, предшествующий 1812 года 38-летним генералом, Барклай блестяще проявил себя в Восточной Пруссии в первой схватке с Наполеоном в 1805–1807 годах. Этому периоду и посвящен раздел о его полководческой деятельности в книге «Русско-Прусские хроники».
Первая схватка с Наполеоном
Изменение внешнеполитического курса. — Вторая война с Наполеоном. Сражение под Пултуском. — Арьергардные бои под Гофом. — Битва под Прейсиш-Эйлау. — Ранение Барклая. — Оценка событий и взгляд в будущее. Встреча с Александром I. — Поражение под Фридландом. — Возникновение «мирной партии», возглавляемой цесаревичем Константином. — Тильзитский мир и резонанс, вызванный им в русском обществе
Став императором, Александр I немедленно прекратил войну с Англией. Это могло повлечь за собой обострение отношений с Францией. Поэтому Александр одновременно заключил мирные договоры с каждой из этих стран.
По Амьенскому мирному договору, подписанному 27 марта 1802 г. между Англией с одной стороны и Францией и ее союзниками — с другой, война между ними прекращалась, и на короткое время в Европе наступил мир.
Бонапарт между тем чувствовал себя некоронованным владыкой чуть ли не всей Европы. Он уничтожил независимость пятидесяти германских вольных городов и нескольких десятков маленьких государств, усиливая за их счет те германские государства, которые стали его вассалами, — Баварию, Баден, Вюртемберг.
Бонапарт бесцеремонно вмешивался в дела Италии, объявив накануне подписания мира в Амьене, в январе 1802 г., образование Итальянской республики, президентом которой был провозглашен он сам. Французы навязали Швейцарии новую конституцию, по которой она стала полностью зависеть от них. Постепенно вновь стали обостряться англо-французские противоречия. В мае 1803 г. они привели к разрыву дипломатических отношений и возобновлению состояния войны между Англией и Францией. Наполеон сосредоточил на берегу Ла-Манша в районе Булони 200-тысячную армию предполагаемого вторжения на Британские острова.
В мае 1804 г. указом Сената Наполеон Бонапарт был объявлен императором французов, а затем привезенный в Париж римский папа Пий VII короновал его. Это был последний акт отречения Великой французской революции от своих освободительных целей.
Россия не могла безучастно относиться к захватнической политике Наполеона и возможному усилению Франции на Балканах и в Причерноморье. Поэтому правительство Александра I принимало ответные меры, которые включали преобразования в вооруженных силах.
Для рассмотрения всего «нужного и полезного ко введению или отмене во внутреннем устройстве сухопутных войск» по приказу Александра I была учреждена Воинская комиссия. Она должна была определить общее положение и численность войск в целом и по родам, численность полка и роты, вопросы снабжения продовольствием, обмундированием и вооружением пехоты и конницы, а также рассмотреть и другие вопросы.
Возглавлял комиссию великий князь Константин Павлович, а в ее состав входили М. И. Кутузов, Д. П. Волконский, А. П. Тормасов и другие видные военачальники. В 1801–1802 гг. комиссия выработала ряд предложений, которые улучшили и укрепили армию.
В связи с изменением структуры сухопутных сил изменились нумерация полков и их названия. 9 апреля 1801 г. 4-й егерский полк был переименован в 3-й егерский. Это название полк носил четырнадцать лет, и Барклай был его шефом до 1 сентября 1814 г., когда шефы были оставлены только в полках гвардии.
Одновременно правительство Александра I увеличивало численность войск, совершенствовало вооружение, строились новые и модернизировались старые мануфактуры, фабрики и заводы, производившие оружие и военное снаряжение.
Приближение военной опасности, исходящей от Наполеона, к границам России, покорение большинства германских княжеств и государств, арест и расстрел Наполеоном одного из Бурбонов — герцога Энтиенского заставили Александра I пойти на решительное сближение с противниками императора французов, что привело к разрыву дипломатических отношений с Францией.
В апреле 1805 г. был заключен новый союз Англии о Россией, в августе к нему присоединилась Австрия, а затем Швеция и Неаполитанское королевство. Пруссия отказалась войти в состав третьей коалиции.
Узнав, что русские и австрийцы выступили против Франции, Наполеон отдал приказ своей 200-тысячной «английской» армии при 340 орудиях оставить лагеря у Ла-Манша и выступить в поход к Рейну. Армия получила приказ кратчайшими дорогами форсированным маршем идти к Дунаю, чтобы сокрушить австрийцев до подхода к ним русских.
Наполеону удалось заманить под Ульмом 40-тысячную армию австрийского генерала Мака в ловушку и 19 октября Припять от него капитуляцию.
В это время 40-тысячная русская армия под командованием М. И. Кутузова была еще в 270 километрах от Ульма и не могла оказать помощи австрийцам.
Существует гипотеза, что австрийцы, составляя планы кампании 1805 г., не приняли во внимание разницы в календарных стилях Западной Европы и России. И, таким образом, ошиблись на 12 дней в определении даты, когда русская армия должна была подойти к Дунаю.
Кутузов, имея перед собой огромную вражескую армию, умело отступил к Зноймо в Моравии, пытаясь соединиться с шедшим к нему 35-тысячным русским корпусом Ф. Ф. Буксгевдена и остатками австрийцев (25 тыс.). Опыт и военный талант помогли ему избежать поражения.
В это время Барклай-де-Толли был в армии, находившейся под командой Л. Л. Беннигсева и стоявшей между Литвой и Польшей. Армия насчитывала 30 тыс. человек. Однако она не сразу смогла выступить на помощь австрийцам. Прусский король, чтобы не обострять отношения с Наполеоном, отказался пропустить русские войска через территорию страны. Однако, когда французский корпус маршала Бернадота, следовавший в Австрию, срезал маршрут и проследовал через Пруссию у Ансбаха без всякого на то разрешения, Фридрих Вильгельм III разрешил и армии Беннигсена проследовать через прусские земли на помощь Кутузову, но время было упущено.
Кутузов был намерен отступать хоть до Галиции, лишь бы соединиться с войсками Беннигсена, но находившиеся при армии Александр I и австрийский император Франц. генералы Ф. Вейротер, А. А. Аракчеев, П. П. Долгоруков высказались за генеральное сражение.
Возражения Кутузова не были приняты царем, которого поддержали генералы его свиты, и сражение состоялось там и в то время, где и когда Кутузов этого не хотел, — 2 декабря 1805 г. под Аустерлицем. Сражение было проиграно. Александр во всем обвинил Кутузова и всю жизнь не прощал ему Аустерлица.
Для Барклая 1805 год был годом терпения: ему не пришлось сражаться самому. Тяжелый осадок в душе остался, когда пришли вести о потерях под Аустерлицем. Русские потеряли убитыми и ранеными 21 тыс., австрийцы — около 6 тыс. человек.
Оказавшись в вынужденном бездействии, Барклай все чаще задумывался над секретом побед Наполеона и приходил к выводу, что его тактика и стратегия сильно отличаются от всего того, что почиталось как священное и неприкосновенное полководцами других стран.
Он отметил, что в отличие от прежних военачальников Наполеон не считает главным захват и удержание крепостей, городов и территорий, а прежде всего стремится к разгрому армий противника. Исходя из этого, Барклай сделал вывод, что главным средством для достижения победы Наполеон считает генеральное сражение и сосредоточивает для проведения его превосходящие силы. Если же общее число вражеских войск превосходило его силы, то он бьет их по частям, причем скорость передвижения войск Наполеона и их маневренность достигают максимума.
Изучая стратегию Наполеона, Барклай видел, что наступление он считал основным видом полководческого искусства и решающим способом достижения победы. Причем в наступлении равным образом активно и энергично использовались и пехота, и кавалерия, и артиллерия, их взаимодействие было доведено до наивысшей степени эффективности и совершенства.
Анализируя кампании Наполеона, Барклай пришел к выводу, что в борьбе с ним нужны какие-то иные, новые стратегия и тактика, которые могли бы нейтрализовать его военные принципы. Однако пока еще он не мог ответить на вопрос, какой должна быть эта новая стратегия и тактика.
После разгрома Австрии Наполеон объединил шестнадцать немецких государств, расположенных по границе с Францией, в так называемый Рейнский союз и объявил себя его протектором.
На престол Неаполитанского королевства он посадил своего брата Жозефа, а королем Голландии сделал своего другого брата — Людовика.
Все это побудило европейские державы в сентябре 1806 г. объединиться в четвертую коалицию. В нее вошли: Россия, Англия, Швеция и Пруссия.
В начале октября прусский король Фридрих Вильгельм III потребовал отвести французские войска за Рейн. Наполеон отказался. Началась еще одна война.
14 октября в двух одновременно произошедших сражениях — при Иене и Ауэрштедте — французы разгромили прусскую армию, а через две недели Наполеон уже въехал в Берлин. Отсюда он двинулся навстречу русским, 22 октября вступившим на территорию Пруссии.
Именно Пруссия и стала для Барклая полем первых сражений с войсками Наполеона. Тогда же на первый план вновь выступила фигура Л. Л. Беннигсена.
В 1805 г. он не успел прийти на помощь Кутузову — ч корпус Беннигсена дошел до Бреслау, когда было получено известие о том, что 26 декабря в Братиславе австрийцы и французы подписали мирный договор. Войска Беннигсена возвратились в Литву, а он там был назначен к новому месту службы: на турецкую границу.
В октябре 1806 г. Беннигсен вновь вернулся на западную границу, получив под свое начало четыре дивизии численностью 67 тыс. солдат и офицеров при 276 орудиях. Эти войска располагались вдоль по Неману между Гродно и Юрбургом (ныне Юрбаркас Литовской ССР) с главной квартирой в Гродно. Однако, когда Беннигсен прибыл в Гродно, его войска уже ушли вперед. Он вскоре догнал их и вступил в командование.
Назначение Беннигсена командиром корпуса произошло накануне разгрома пруссаков под Иеной и Ауэрштедтом, фактическое вступление в должность через месяц после этого.
К этому времени от более чем 100-тысячной прусской армии остались около 15 тыс. солдат в офицеров, сведенных в отряд, находившийся под командованием талантливого и смелого генерала Лестока, да два крепостных гарнизона — в Грауденце (ныне польский город Грундзендз) и Данциге (Гданьск, ПНР).
Изменение обстановки привело к изменению роли и корпуса Беннигсена, и его самого: из командира отдельной вспомогательной части он превратился в командующего главными силами, стоящими лицом к лицу с неприятелем. Однако у Беннигсена не было качеств для достойного выполнения такой миссии. Он не мог быть главнокомандующим, хотя страстно желал этого.
Прекрасно понимая, что Беннигсен совершенно не пригоден для выполнения новой роли, Александр послал к нему своего личного представителя генерал-адъютанта графа Петра Александровича Толстого, поручив ему контролировать действия Беннигсена и быть посредником в сношениях с прусским королем.
Дипломат и военный, участник и русско-турецкой войны 1787–1791 гг., и Польской кампании 1794–1795 гг., и Итальянского похода 1799 г., П. А. Толстой занимал в последние годы пост петербургского военного губернатора и командира лейб-гвардии Преображенского полка.
В обязанность Толстому вменялось контролировать все отдаваемые Беннигсеном приказания и распоряжения, чтобы они не поставили войска в затруднительное положение и не «скомпрометировали достоинство русской армии».
1 ноября русские войска перешли у Гродно через Неман и к 11 ноября расположились у Остроленки, Здесь-то и нагнал свои дивизии Беннигсен. Этими дивизиями командовали опытные, испытанные в боях генералы граф А. И. Остерман-Толстой, Ф. В. Остен-Сакен, князь А. Н. Голицын и А. К. Седморацкий. Беннигсену был подчинен и прусский корпус генерала Лестока.
Ареной предстоящей борьбы был гигантский равносторонний треугольник. Южной его вершиной была Варшава, западной — крепость Торп (Торунь) и северной — Кенигсберг.
В Кенигсберге остановились бежавшая из Берлина прусская королевская семья и двор. На западе театр военных действий прикрывался широкой Вислой, на юго-востоке — рекой Нарев. Весь этот район был перерезан массой рек и речушек, покрыт ручьями, озерами и болотами. В первые дни кампании ливни и неожиданная оттепель превратили Пруссию в океан грязи. Совершенно невозможно было тащить орудия, и потому множество их было брошено. Застревали даже экипажи офицеров. Солдаты шли по колено, а иногда и по пояс в воде и грязи.
Войскам Беннигсена удалось продвинуться на 50 верст севернее Варшавы и занять позиции под Пултуском. Дивизия Седморацкого разместилась в предместье Варшавы — Праге, корпус Лестока — в Торне. В авангарде войск Беннигсена шел отряд генерал-майора М. Б. Барклая-де-Толли. Он состоял из полка егерей, полка пехоты, пяти эскадронов легкоконного польского полка, двух полков казаков и батареи конной артиллерии. Всего около 5 тыс. человек.
Основные силы отряда Барклая должны были занять окрестности Плоцка и Плонска и цепями казачьих разъездов по возможности прикрыть пространство между Вислой и Торном. Часть сил должна была перейти на западный берег Вислы и, образовав патрули, собирать сведения о движениях французов. Всеми войсками на Висле командовал Лесток, подчинявшийся Беннигсену.
Все было благоприятно для союзников, кроме резкой нехватки продовольствия. «В Плоцке от Барклая скрыли значительное количество хлебных запасов… когда он был в величайшем затруднении, как и чем продовольствовать свой отряд. Только в ту минуту, когда мы собирались покинуть Вислу, ему открыли этот склад, оказавшийся очень значительным, но недостаток времени и перевозочных средств не позволили вполне перевезти эти запасы», — писал впоследствии Беннигсен.
Наряду с острой нехваткой продовольствия положение осложнялось и тем, что между Л. Л. Беннигсеном и назначенным к нему в резерв генералом Ф. Ф. Буксгевденом, командовавшим тоже четырьмя дивизиями, с самого начала возникли серьезные разногласия.
По приказу царя Буксгевден был назначен в резерв к Беннигсену, но не подчинен ему по команде, что и послужило для Буксгевдена основанием для непризнания старшинства над собой Беннигсена. К тому же Буксгевден был старше Беннигсена по производству в последний чин и считал это обстоятельство решающим. На театр военных действий подходили и резервы под командованием генерал-лейтенанта И. Н. Эссена 1-го. Всего, по подсчетам А. И. Михайловского-Данилевского, собралось 159 900 человек при 624 орудиях.
Армий было три, а единого командующего не было, и при глубокой взаимной неприязни Беннигсена и Буксгевдена надеяться на согласованные действия не приходилось.
Генерал П. А. Толстой имел от императора еще одно задание согласовывать приказы обоих командующих и обо всем случившемся докладывать лично Александру I.
Однако такое положение дел нельзя было считать нормальным: царь, находившийся в Петербурге, был лишен возможности быстро реагировать и оперативно вмешиваться в постоянно меняющиеся ситуации — пока фельдъегери привозили и отвозили почту, война могла быть проиграна. Получая донесения Толстого, Александр I оказывался в затруднительном положении. Сам принимать решения он остерегался, а найти замену не поладившим друг с другом генералам не мог. Кутузов был в опале. О нем император и слышать не хотел. «Трудно описать то замешательство, в котором я нахожусь, — писал он П. А. Толстому. — Кто среди нас — тот человек, который вызывает всеобщее доверие и который соединяет в себе военные таланты со строгостью, веобходимой для поста командующего? Я такого человека не знаю!»
В конце концов выбор царя остановился на шестидесятидевятилетнем фельдмаршале графе М. Ф. Каменском — ветеране Семилетней войны и русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
Суворову в 1799 г., когда он совершил знаменитый Швейцарский поход, тоже было 69 лет, но Каменский не был Суворовым. Каменский писал царю, что он слишком стар для службы в армии, что он не может держаться в седле, не может читать карту и не видит того, что подписывает.
Каменский, прибыв в армию Буксгевдена, не дожидаясь подхода к нему армий Беннигсена и Эссена, сам двинулся навстречу Беннигсену к Пултуску.
Узнав, что русские занимают позиции между Вислой и Наревом, Наполеон перенес ставку в Познань, поближе к Варшаве. Он намеревался выбить русских из Праги — предместья Варшавы, а пруссаков из Торна. С этой целью он планировал пересечь Вислу на двух главных направлениях, обойти противников справа или слева либо же окружить их.
Он двинул свой правый фланг (Мюрат и Даву) к Варшаве, левый фланг (Ней, Беосьер, Бернадот) — к Торну и центр (Ожеро, Сульт) — к Висле на направлении к Плоцку. Ожеро и Сульт должны были перейти Вислу как раз там, где стоял авангард Барклая.
Кавалерия Мюрата без боя заняла Варшаву. Ней яростным штурмом взял Торн. Маленький корпус Лестока отошел на восток. Отступление Седморацкого и Лестока повлекло за собой отход всех русских сил. Приказ об этом Беннигсен отдал 2 декабря 1806 г. Не защищая Вислу, Беннигсен оставил Пултуск и отошел к Остроленке, поближе к дивизиям Буксгевдена, которые шли ему навстречу. Авангард Барклая теперь превратился в арьергард, прикрывающий отступление.
Барклай приказал казакам переплыть через Вислу, которая уже покрывалась льдом, и внимательно следить за передвижениями и действиями противника. Казаки захватили пленных, и те рассказали, что корпуса Ожеро и Сульта стоят на месте и не собираются преследовать отступающего Беннигсена. Барклай сообщил об этом Беннигсену, и тот отдал приказ повернуть обратно к Пултуску. Оттуда Беннигсен продвинулся еще дальше на запад, к реке Вкра.
С началом наступления войск Беннигсена отряд Барклая снова стал авангардом армии, задачей которого была защита переправ через Вкру у деревень Колозомб и Сопочин. Здесь 24 декабря и атаковал Барклая корпус маршала Ожеро. Так как наступление французов шло широким фронтом, то для русских создалась угроза окружения.
Напрасно Барклай ждал обещанных подкреплений: они завязли в болотах и не подошли вовремя. Барклай сражался до самой ночи, сдерживая много часов целый вражеский корпус, но в конце концов должен был отступить в направлении Новемясто.
Наполеон хотел первым достичь Пулутска, чтобы не дать русским переправиться через Нарев, но русские опередили французов и первыми заняли Пултуск. Как ни спешил корпус маршала Ланна, пройдя сорок пять километров за день, отряд Багговута все же обогнал его.
В десять часов вечера 25 декабря в Пултуск прибыл фельдмаршал Каменский. Он согласился с диспозицией Бепнигсепа и отдал необходимые распоряжения Буксгевдену на предстоящее сражение с французами.
Однако ночью произошло нечто совершенно необъяснимое: в три часа Каменский вызвал к себе в спальню Беннигсена и вручил ему приказ об отходе всех войск в Россию.
Что же произошло?
Либо Каменский впал в состояние временного умопомешательства, либо он просто-напросто испугался, не верил в успех и хотел избежать неминуемого, с его точки зрения, позора.
Проливает свет на обе эти версии фактический материал, приводимый Л. Н. Толстым в романе «Война и мир». В нем один из героев романа — Билибии сообщает князю Андрею о сильнейшем гневе и обиде фельдмаршала Каменского, в которые тот впал, когда узнал, что среди привезенных курьером из Петербурга писем от государя нет ни одного для него — главнокомандующего. Обиженный и расстроенный старик пишет приказ Беннигсену: «Я ранен, верхом ездить не могу, следственно и командовать армией. Вы корд’арме (авангард армии (фр.) — Прим. авт.) ваш привели разбитый в Пултуск: тут оно открыто, и без дров и без фуража, потому пособить надо, и так как вчера отнеслись к графу Буксгевдену, думать должно о ретираде к нашей границе, что и выполнить сегодня».
В романе приводится и письмо Каменского царю. «От всех моих поездок, пишет он Александру, — получил ссадину от седла, которая сверх прежних перевязок моих сидеть мне мешает верхом и командовать такой обширной армией, а потому я командование оной сложил на старшего по мне генерала графа Буксгевдена… советовав им, если хлеба не будет, ретироваться ближе во внутренность Пруссии, потому что оставалось хлеба только на один день, а у иных полков ничего, как о том дивизионные командиры Остерман и Седморацкий объявили, а у мужиков все съедено; я и сам, пока вылечусь, остаюсь в гошпитале, в Остроленке. О числе которого ведомость всеподданейше подношу, донося, что если армия простоит в нынешнем биваке еще пятнадцать дней, то весной ни одного здорового не останется.
Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран. Всемилостивейшего дозволения вашего о том ожидать буду здесь при гошпитале, дабы, не играть роль писарскую, а не командирскую при войске.
Отлучение меня от армии ни малейшего разглашения не произведет, что ослепший отъехал от армии. Таковых, как я, — в России тысячи».
Перед отъездом из Пултуска Каменский вручил Беннигсену приказ «состоять в команде графа Буксгевдена» и «иметь ретираду на нашу границу».
Однако отступать немедленно Беннигсен не мог и не решился, так как обстоятельства требовали оборонять Пултуск, чтобы выиграть время для сбора всех сил, разбросанных вокруг. При этом он ни о чем не сообщил Буксгевдену и скрыл от него приказ Каменского.
В 10 часов утра, в дождь, 26 декабря русские увидели приближающиеся колонны корпуса маршала Ланна, Войска Беннигсена стояли между Пултуском, находившимся слева, о рощей — справа. Оконечностью правого фланга, спрятавшегося наполовину в лесу, командовал Барклай. В его команде состояли: 77-й Тенгинский пехотный полк, три полка егерей и пять уланских эскадронов. Подчиненные ему казаки находились в километре впереди с большей частью кавалерии.
Слева от Барклая стояла 3-я дивизия Ф. В. Остен-Сакена, а дальше располагалась 2-я дивизия А. И. Остермана-Толстого. Для защиты самого Пултуска был назначен отряд К. Ф. Багговута.
Артиллерия Ланна открыла мощный огонь по русскому центру, а затем две дивизии и кавалерия двинулись в атаку. Багговут отступил, но на помощь ему пришел Остерман-Толстой и восстановил положение. Затем последовала ожесточенная атака на позиции Барклая.
«В то время, как кипел упорный бой на левом крыле. — писал впоследствии Беннигсен, — маршал Ланн направил несколько колонн на наше правое крыло. Он прошел по кустарнику и с большою стремительностью атаковал наш авангард, бывший под командой Барклая и прикрывавший наш правый фланг».
Барклай был вынужден отступить перед стремительной атакой. Французы ворвались в рощу, захватили батарею, но скоро оставили ее — русские отбили пушки. Тем не менее им пришлось оставить батарею и отступить под новыми ударами французов.
Барклай просил Остсн-Саксна, командовавшего правым флангом, о подкреплении, по тот подкреплений дать по смог. Тогда Барклай послал своего адъютанта Бартоломея к Беннигсену, и на помощь ему были присланы три батальона Черниговского полка, а затем двинулся Литовский пехотный полк. Русская артиллерия правого фланга поддержала огнем пехоту, которую Барклаи повел в штыковую атаку, неприятель вынужден был отойти.
Несмотря на то что на помощь Ланпу подоспела свежая дивизия из корпуса Даву, противник был опрокинут и поле боя осталось за Барклаем. В этом необычайно упорном сражении ранен был Ланн и четыре его генерала.
Под Пултуском погибло три с половиной тысячи русских и две тысячи двести французов. Беннигсеп получил 50 тыс. рублей и орден Георгия 2-й степени, Барклай — орден Георгия 3-й степени. Такие же ордена получили Багговут и Остерман-Толстой.
Беннигсен писал: «Я обязан отдать здесь генералу Барклаю-де-Толли должную справедливость, что своим замечательным образом действий в этом сражении он еще более укрепил ту репутацию, которою уже пользовался в армии».
Действительно, более всего в армии говорили о подвигах Барклая и Остермана-Толстого. А о собственных заслугах более всего говорил сам Беннигсен. Он сильно преувеличил свою победу, написав царю, что разбил самого Наполеона, напавшего на него с превосходящими силами, хотя сам Наполеон в бою не участвовал. Он находился в 20 верстах к северу от Пултуска — в Назнельске. Однако самореклама Беннигсена сыграла свою роль: он был назначен главнокомандующим. Но об этом несколько позже.
А между тем Наполеон со всеми своими войсками объявился неподалеку от Пултуска, французские авангарды уже через несколько часов после того, как хвастливая реляция была отправлена царю, вышли в тыл русским, а победитель Беннигсен начал отступление.
Большую часть своих сил Наполеон отправил на северо-запад, к Голымину, где, как он считал, сосредоточены главные силы русских. Когда же он понял, что ошибся, было уже поздно исправлять положение. Под Голымином стояли лишь 4-я и 7-я русские дивизии Голицына и Дохтурова.
Под натиском корпусов Даву, Ожеро и Сульта эти дивизии, оказывая французам упорнейшее сопротивление, медленно отступали и утром 27 декабря соединились с армией Буксгевдена.
Беннигсен узнал об этом в полночь и решил, что к северу or Пултуска его позиция будет сильнее. Оставив Пултуск, так тяжело ему доставшийся, он отошел к Остроленке. Переправившись через Нарев, Беннигсен приказал сжечь мост, хотя на другом берегу в это время находился Буксгевден с половиной своих войск.
Таким образом, оказалось, что войска двух генералов вынуждены были следовать по разным берегам Нарева и соединились лишь через несколько дней у Тыкочина, где еще оставался не разрушенный мост.
Войска месили грязь днем и мерзли по ночам, когда прихватывал мороз. Продовольствия по-прежнему не было. Мародерство и дезертирство не уменьшались. Даже в квартиру самого Беннигсена не раз заглядывали желающие поживиться едой или теплыми вещами.
30 декабря армия выступила из Тыкочина к Иоаннисбургу. На пути следования Беннигсен получил рескрипт Александра I о назначении его главнокомандующим. Это случилось 13 января 1807 г. Рескрипт был полон похвал в его адрес. Однако подлинные чувства император выразил в письме к П. А. Толстому: «Я дрожу от выбора, который я сделал, считая, что так лучше… Затруднение, в котором я нахожусь, трудно описать». Это письмо цитирует Л. Н. Толстой в «Войне и мире».
Теперь под началом у Беннигсена оказалось 150 тыс. человек при 624 орудиях.
Передышка на зимних квартирах продолжалась не более двух недель. Прусский король сумел убедить Александра, что французы не привычны воевать в условиях суровой зимы и надо переходить в наступление.
Земля промерзла, реки а озера покрылись льдом. Противники находились друг от друга на расстоянии нескольких дней пути. Неожиданная атака могла кончить дело в пользу русских.
К. Маркс и Ф. Энгельс в статье «Беннигсен», написанной ими для американской энциклопедии, следующим образом оценивали события, произошедшие в конце 1806 — начале 1807 г., и роль Беннигсена в этих событиях.
«В начале кампании 1806–1807 гг. он командовал одним из корпусов первой армии, находившейся под начальством Каменского, вторым корпусом командовал Буксгевден. После тщетных попыток прикрыть Варшаву от французов, он был принужден отступить к Пултуску на Нареве и здесь, 26 декабря 1806 г., сумел отразить атаку Ланиа и Бернадота, ибо значительно превосходил их численностью, так как главные силы Наполеона наступали на вторую русскую армию. Беннигсен отправлял Александру хвастливые донесения и, с помощью интриг против Каменского и Буксгевдена, вскоре добился назначения главнокомандующим армией, которой предстояло действовать против Наполеона».
14 января 1807 г. в Биале Бвннигсеп принял главное начальство над армией. Он решил наступать в Старую Пруссию. В боевом расписании генерал-майор Е. И. Марков был назначен командовать авангардом правого крыла. Под его началом находилось б тыс. солдат и офицеров.
Генерал-майор Барклай-де-Толли командовал авангардом левого крыла из трех егерских полков, одного пехотного, двух казачьих, полка гусар, а также роты копной артиллерии, что составляло около 6 тыс. человек.
16 января 1807 г. русские войска двинулись на запад, пробиваясь сквозь глубокие снега и метели. Три авангарда шли впереди трех колонн. Ими командовали генералы М. Б. Барклай-де-Толли, К. Ф. Багговут и Е. И. Марков.
Бенпигсен узнал об изолированном положении двух корпусов противника, которыми командовали маршалы Ней и Бернадот, и решил встать между ними. 24 января штаб Беннигсена прибыл в Хайльсберг. В этот же день Барклай сообщил, что эскадрон гусар Изюмского полка и 60 казаков под командой подполковника Веригина под Пассенгеймом обратили в бегство два эскадрона врага и взяли в плен двадцать девять драгунов и двух офицеров.
Эпизод этот неприятно поразил маршала Нея. На следующий день, 25 января, маршал писал генералу Груши: «Вчера я получил, мой дорогой генерал, ваше донесение о деле, происходившем под Пассенгеимом… Выразите командовавшему в Пассенгейме офицеру все мое неудовольствие по поводу такого преступного образа служения».
Ней вышел со своих зимних квартир еще до того, как Беннигсен начал движение вперед. Русские разведчики обнаружили его войска в Гуттштадте, на полпути между Млавой и Кенигобергом.
Столкнувшись с разведкой русских, войска Нея быстро повернули назад. Авангард Бериадога был также отброшен русскими и поспешно отступил, соединившись с Неем.
28 января в пять часов утра генерал-лейтенант Н. А. Тучков сообщил, что неприятель за ночь внезапно отступил из Сонненбораа к Торну. Поэтому Бениигсен приказал Тучкову двинуться на Либемюль, а Барклаю-де-Толди с авангардом левого крыла овладеть Остероде и, заняв его, принять все меры к тому, чтобы удержать, выслав сильные разведывательные отряды по дороге к Гильгенбургу. Однако потом приказ был изменен и Барклаю было предложено занять Алленштайн (ныне Ольштын, ПНР) и удерживать его как можно дольше.
Беннигсен расположил свои войска между Фрейштадтом и Зебургом, прикрыв дорогу на Кенигсберг, где были сосредоточены большие запасы продовольствия.
Наполеон решил перехватить инициативу и, обойдя левое крыло русской армии, отрезать ей пути отступления к России, прижать к Висле, а затем уничтожить. Об атом плане были извещены маршалы, чьим корпусам предстояло участвовать в осуществлении операции.
На счастье, два фельдъегеря, ехавшие с планом кампании к маршалу Бернадоту, попади 1 февраля в руки русского кавалерийского разъезда из войск, которыми командовал П. И. Багратион.
Последний немедленно отослал в штаб Беннигоена захваченную депешу и плененного казаками французского офицера. В депеше сообщалось, что главные силы французов на следующий день должны выйти во фланг русской армии, к Алленштайну.
Сам Багратион, не дожидаясь приказа, снялся с места и форсированным маршем двинулся к Янково на соединение с главными силами.
Однако Беннигсен, получив известие от Багратиона, ничего не предпринял, и вследствие этого весь левый фланг русской армии оказался под угрозой уничтожения. К тому же французы захватили мост через реку Алле, что заставило русских бросить почти все обозы.
Спасаясь от разгрома, русские войска спешно двинулись к Вольфсдорфу. Колонны шли по пояс в снегу, по узким лесным дорогам. Участник этого ночного марша Денис Давыдов впоследствии напишет: «При наступлении ночи армия наша отошла к Вольфсдорфу, оставляя для прикрытия сего отступления арьергард генерал-майора Барклая-де-Толли. Барклай поднялся вслед за армиею, но на пути был атакован превосходными силами, целый день сражался, потерял много, особенно при Деппепе, но к вечеру примкнул к армии, стоявшей уже на боевой позиции при Вольфсдорфе».
Немногие знали тогда, что своим спасением они обязаны арьергарду, отбивавшему во время марша яростные атаки французов. А события развивались следующим образом. Отправив Бенпигсену сообщение о движении главных сил Наполеона к Алленштайну, Барклай немедленно послал два кирасирских полка Военного ордена и Малороссийский, — а также Курляндскпй драгунский полк навстречу неприятелю, приближающемуся из Клапкендорфа.
Противник подходил силою от 40 до 50 эскадронов, а позади еще шла большая колонна пехоты. Русская кавалерия имела лишь два орудия на копной тяге, против которых было выставлено 8 тяжелых орудий. Поэтому Барклай со всеми своими войсками вынужден был отойти по дороге на Янково и встал в трех верстах перед позициями главных сил.
В это же время казаки обнаружили движущийся к Янково корпус маршала Нея. Узнав об атом, Беннигсен приказал к следующему утру всем войскам идти к Янково, а Барклаю прикрывать большую дорогу из Алленштайна в Янково, которая вела к центру русских полиций.
В результате упорного боя в ночь на 4 февраля русская армия вынуждена была отступать к Прейспш-Эйлау. Чтобы противник не догадался об отходе, Барклаю было приказано продолжать атаки неприятеля, для чего ему была придана еще одна дивизия.
Важно отметить, что в сражении под Янково непосредственным начальником М. Б. Барклая-де-Толли был П. И. Багратион, командовавший всем арьергардом. Под его началом были отряды генералов Барклая, Маркова и Багговута.
4 февраля с большим опозданием войска Остен-Сакена выступили из Янково в Вольфсдорф. Выпавший глубокий снег сильно мешал движению. «Впрочем, благоразумные распоряжения начальников, находчивость и прекрасный образ действия генералов, находившихся в арьергарде, удовлетворяли всему необходимому», — писал потом Беннигсен.
Багратион поручил Барклаю прикрывать отступление армии с позиций при Янково, а потом движение первой и второй колонн. Едва Барклай миновал Янково, как подвергся нападению со стороны французов. Однако противнику не удалось ни прорвать фронт Барклая, ни обойти, ни опрокинуть его. Только к десяти часам утра, когда вся вторая колонна отошла, начал отход к окрестностям Анкердорфа Барклай, где стояли пять его батальонов. Соединившись с ними, Барклай остановил наступление противника и вечером благополучно прибыл на левый фланг главной позиции, успешно прикрывая ее всю ночь. Правее его двигался отряд генерала Маркова, в котором находился сам Багратион, а еще дальше шел отряд Багговута.
«Благоразумные распоряжения генералов, бывших в наших ариергардах, и храбрость наших войск, неоднократно ими обнаруженная в этот день, делают величайшую честь русской армии. Они дали возможность нашим колоннам спокойно стать на позицию в Вольфсдорфе и предотвратили те потери, которым мы могли бы подвергнуться в этот день», — отмечал впоследствии главнокомандующий Беннигсен.
5 февраля рано утром армия двинулась из Вольфсдорфа двумя колоннами. Барклай, как и накануне, прикрывал движение правой, или первой, колонны. Он спокойно прошел половину пути, по в окрестностях Фреймарка увидел отряд неприятеля, приближающийся к нему со стороны деревни Лаунау. Это был авангард корпуса Даву.
К вечеру завязалась перестрелка. Барклай понял, что противник намерен обойти его слева и занять лес, находящийся в тылу русских главных сил.
Барклай тотчас же направил к лесу 1-й и 20-й егерские полки и опередил французов. Шесть батальонов его егерей сильным ружейным огнем остановили неприятеля, и отряд Барклая благополучно прошел через лес, вскоре достигнув деревни Боден, что и было ему предписано. Здесь он остановился и, прикрыв левый фланг главных сил, отбивал атаки наседавших французов.
В последующем французы не раз пытались отрезать Барклая от главных сил, но он умело маневрировал, выставляя на опасные направления то пехоту, то кавалерию, то артиллерию и не давая ни окружить себя, ни перерезать пути отхода.
Беннигсен прислал ему приказ держаться как можно дольше, чтобы главные силы армии сумели занять позиции для решительного сражения.
Скоро ожесточенность французских атак усилилась. Это объяснялось тем, что к войскам прибыл император, чтобы взять командование в свои руки. Эта новость скоро стала известна Барклаю и обеспокоила его. А в это время Багратион с отрядами Маркова и Багговута после ожесточенного боя также отошел к главным силам русской армии.
Почти все свои войска французы бросили против первой колонны, и Беннигсен приказал Барклаю занять позиции у деревни Гоф и стоять там до тех пор, пока главные силы не выстроятся в боевой порядок.
Через час туда подошли большие силы французов. Барклай послал полк егерей вправо — занять покрытую кустарником возвышенность. Однако едва полк занял позицию, как перед ней появилась сильная колонна неприятельской пехоты. Влево Барклай послал 5-й егерский полк, который огнем остановил несколько вражеских батальонов.
Понимая остроту обстановки, Багратион послал на помощь Барклаю 20-й егерский и Костромской пехотный полки с батареей конной артиллерии.
Сам Барклай с Изюмским гусарским полком и несколькими орудиями подошел к мосту через реку Алле, не давая французам захватить переправу. В жестоком бою французы были отброшены от моста, но не надолго. Был тяжело контужен генерал Дорохов, а противник усилил натиск. В конце концов Барклай был вынужден оставить Гоф. Отход был осуществлен организованно, превосходящим силам противника не удалось сбить войска Барклая с занятых ими полиций. К этому времени главные силы Бепиигсена вышли из-под удара.
В ночь на 7 февраля русская армия двинулась двумя колоннами от Ландсберга к Прейсиш-Эилау (ныне Багратионовск Калининградской области). Наполеон хотел отбросить русских к Кенигсбергу и прижать к заливу Фришгаф.
Беннигсен, не понимая замысла противника, совершал нервные бессмысленные передвижения, более всего опасаясь окружения. По мотивам, неясным и сегодня, а тем более непонятным тогда, он вдруг решился на генеральное сражение.
Прибыв в Преисиш-Эйлау, Беннигсен приказал занять позицию по другую, восточную, сторону города, с его точки зрения, более удобную, чем ранее намечавшаяся им позиция под Ландсбергом. Здесь он и хотел дать Наполеону генеральное сражение. Силы противников были примерно равными: французы имели 70 тыс. солдат и офицеров, русские — столько же.
Русские войска располагались вдоль гребня холмов за городом Преисиш-Эйлау. Два последних дня они не получали никакого довольствия. Отряд Барклая, голодный, обескровленный, потерявший две тысячи своих товарищей, промерзший и промокший, получил задание не пропустить французов через город и держаться перед Преисиш-Эйлау с запада.
«По прибытии князя Багратиона с его отрядом к общему составу армии, писал впоследствии Беннигсен, — генералу Барклаю было поручено занять город егерскими полками его отряда и защищать его. После четырех часов дня неприятельская армия показалась перед нашею позицией и стала выстраиваться в боевой порядок, но находилась еще вне наших пушечных выстрелов. Впрочем, один корпус подошел ближе и так сильно атаковал город, что генерал Барклай, видя, что его теснят со всех сторон, принужден был ограничиться занятием садов, окружавших город со стороны расположения нашей армии. Но чтобы неприятель не имел возможности занять днем местность, находящуюся между городом и нашею позициею, я приказал генералу Сомову с девятью батальонами, стоявшими в резерве, взять обратно город, сообщив то же самое приказание генералу Барклаю.
Геперал-майор Сомов повел атаку со стороны кладбища тремя колоннами: левая колонна была на время остановлена неприятелем, но другие две колонны проникли в город, пробились штыками по улицам и, наконец, генерал Сомов со своими девятью батальонами сумел соединиться в городе с отрядом Барклая, который в то же время проник в город с другой стороны и дошел до главной его площади. Оба эти генерала общими усилиями выбили неприятеля из города с довольно значительною потерею убитых, раненых и взятых в плен».
С наступлением сумерек Барклай организовал и возглавил последнюю кавалерийскую атаку. Он попытался выбить французов из церкви и с кладбища, где расположилась ставка Наполеона. По одной из версий, казаки едва не прорвались к ставке императора французов, но были отброшены.
Последовавшее затем сражение при Прейсиш-Эйлау отличалось невиданным упорством. Его участник Депис Давыдов писал в очерке «Воспоминание о сражении при Преисиш-Эйлау»: «Черт знает, какие тучи ядер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших, и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими!
То был широкий ураган смерти, вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание, продолжавшееся от полудня 26-го до 11 часов вечера 27-го числа…
Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен был к городу, занятому войсками Барклая, и ружейный огонь из передних домов и заборов побежал по всему его протяжению нам на подмогу, но тщетно! Неприятель, усиля решительный натиск свой свежими громадами войск, вломился внутрь Эйлау, Сверкнули выстрелы его из-за углов, из окон и с крыш домов; пули посыпались градом и ядра занизали стеснившуюся в улицах пехоту нашу, еще раз ощетинившуюся штыками. Эйлау более и более наполнялся неприятелем. Приходилось уступить ему эти каменные дефилеи, столько для пас необходимые. Уже Барклай пал, жестоко раненный; множество штаб- и обер-офицеров подверглись топ же участи, пли были убиты, и улицы завалились мертвыми телами нашей пехоты».
Барклай возглавил одну из очередных кавалерийских атак и был ранен пулей в правую руку между локтем и плечом. Потерпи сознание, он упал с коня и был вытащен из-под копыт унтер-офицером Изюмского полка Сергеем Григорьевичем Дудниковым, который и отвез его на перевязочный пункт, где передал адъютанту Михаила Богдановича поручику Бартоломею. Позже за спасение Барклая-де-Толли Дудников был награжден знаком военного ордена Георгия.
Беннигсеп впоследствии так записал в воспоминаниях! «Этот храбрый и славный генерал был принужден покинуть поле сражения и перебраться, к великому сожалению всей армии, в Кенигсберг для излечения своей раны».
Когда Барклай пришел в сознание, он услышал оглушительную артиллерийскую канонаду. Это русская армия начала второй день сражения. Ей ответили французские батареи: продолжалась битва под Прейсиш-Эйлау.
Весь день прошел в артиллерийской дуэли. Было около 26° мороза при сильном ветре. Наполеон ждал Нея и досадовал, что не приказал прибыть к Эйлау Бернадоту. Ней подошел лишь к десяти часам вечера. Казалось, русские победили. «К русским пришли подкрепления, а у нас боевые снаряды почти истощились. Ней не является, а Бернадот далеко: кажется, лучше идти им навстречу», — вспоминал впоследствии французский генерал Жомини.
В это время Беннигсену сообщили, что корпус Ноя появился на его правом фланге. В одиннадцать часов вечера он собрал генералов на совет. Они настаивали на продолжении битвы, но Беннигсен, опасаясь быть окруженным, приказал отступить к Кенигсбергу. В полночь войска начали сниматься с позиций.
Оставив поле сражения, Беннигсен доложил Александру I, что победа осталась за ним. Александр I ответил Беннигсену: «На Вашу долю выпала слава победить того, кто еще никогда не был побежден» и вместе с письмом послал «победителю непобедимого» рескрипт о награждении его орденом Андрея Первозванного и ежегодной пожизненной пенсией в 12 тыс. рублей.
В честь битвы при Прейсиш-Эйлау 31 августа 1807 г. была учреждена и памятная наградная офицерская медаль в виде позолоченного бронзового Георгиевского креста на георгиевской же ленте. На его лицевой стороне была выбита надпись: «За труды и храбрость», а на оборотной стороне — «Победа при Прейсиш-Эйлау 27 янв. 1807 г.».
Несмотря на отход русской армии с поля боя, битва при Прейсиш-Эйлау явилась ее несомненным стратегическим успехом. Потери каждой из сторон составили от трети до половины участвовавших в сражении, что свидетельствует о крайне ожесточенном характере боя. Было ранено 9 русских генералов и 7 французских, в том числе маршал Ожеро. Один французский генерал был убит.
Наполеон стоял под Эйлау восемь дней, а потом тоже отошел, предложив Беннигсену перемирие, на которое русский главнокомандующий не согласился.
В статье Маркса и Энгельса «Беннигсен» содержится следующая оценка сражения при Прейсиш-Эйлау: «В конце января 1807 г. он предпринял наступательный маневр против войск Наполеона, стоявших на зимних квартирах, и чисто случайно избежал ловушки, устроенной ему последним, после чего между ним и противником произошло сражение при Эйлау. Эйлау пал 7 февраля, главное же сражение, которое Беннигсену пришлось принять, чтобы остановить ожесточенное преследование со стороны Наполеона, разыгралось 8 февраля. Стойкость русских войск, прибытие пруссаков под командованием Лестока и медлительность, с которой отдельные французские корпуса прибывали на поле боя, сделали победу сомнительной. Каждая из сторон претендовала на право считаться победительницей, по как бы то ни было, по словам самого Наполеона, битва при Эйлау была самым кровопролитным из всех его сражений». Маркс и Энгельс оставили и статью, посвященную М. Б. Барклаю-де-Толли. Их оценка деятельности Барклая представляет для нас немалый интерес. «Его военная слава, — писали Маркс и Энгельс, — берет свое начало с 1807 г., когда во главе русского авангарда он с величайшей доблестью защищал Прейсиш-Эйлау, оказывая длительное сопротивление на улицах, в церкви и на кладбище этого города».
Под Пултуском, Гофом и Эйлау зародилось боевое содружество Барклая с Багратионом, Дохтуровым, Тучковым — будущими военачальниками и героями Отечественной войны 1812 г. Здесь же он столкнулся и со своими грядущими противниками — маршалами Даву и Ланном, их генералами, офицерами и солдатами.
Под Эйлау Барклай убедился в том, что Наполеон может быть остановлен, и в борьбе с ним нет никакой фатальной предрасположенности в его пользу.
Барклая перевезли в Мемель (ныне город Клайпеда Литовской ССР), где было не так много раненых, как в Кенигсберге. Жена Барклая Елена Августа с приемной дочерью Каролиной тотчас же выехала в Мемель. По существовавшей тогда традиции солдаты, унтер-офицеры, а иногда и обер-офицеры, если у них не было свободных денег, лечились от ран в военных лазаретах. Штаб-офицеры и генералы лежали на частных квартирах в более комфортных и спокойных условиях.
Барклая поместили на частную квартиру, где вместе с ним жили приехавшие к нему жена и приемная дочь. Лишенный возможности активно действовать, лежа в чистой и удобной постели, Барклай чаще всего думал о том, как развернутся события далее, искал ответа на вопрос: «Что делать, если Наполеон когда-нибудь вторгнется в Россию?»
Эта мысль не давала ему покоя, заглушала испытываемые им физические страдания. Опытный сорокапятилетний генерал понимал, какую угрозу представляют французские войска, стоящие в ста верстах от русской границы. Барклай знал, что у России недостанет сил и средств, чтобы задержать или отбросить их, если они начнут поход на его родину.
После длительных размышлений, не сразу, Барклай пришел к выводу, что Наполеон может потерпеть поражение только тогда, когда удастся если не навязать ему свою волю, то хотя бы противопоставить стратегии и тактике Наполеона нетрадиционные решения.
Предварительные первые самые общие контуры стратегического плана противостояния Наполеону Барклай изложил в беседах с навещавшим его видным прусским чиновником, будущим историком Бартольдом Георгом Нибуром, занимавшим в то время должность финансового советника при премьер-министре Пруссии Гарденберге.
Прусский король и его семья жили в Мемеле. Пруссаки были союзниками русских, и у Барклая не было оснований скрывать от Нибура свои соображения, будоражившие его мозг. Об этих беседах стало известно из воспоминаний главного интенданта французской армии генерала Матье Дюма.
«В случае вторжения его (Наполеона. — Прим. авт.) в Россию следует искусным отступлением заставить неприятеля удалиться от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем с сохраненными войсками и помощью климата подготовить ему, хотя бы за Москвою, новую Полтаву».
Эта идея легла затем в основание стратегической концепции первого периода войны 1812 г., которую неотступно проводил Барклай. Однако от возникновения концепции до ее реализации пройдут целых пять лет, произойдут события, утвердившие Барклая в правильности его военно-теоретических изысканий.
А между тем в феврале — марте 1807 г. Александр I считал одной из главнейших внешнеполитических задач всемерное укрепление союза с Пруссией. 27 марта Александр известил Беннигсена о своем выезде в действующую армию и о намерении вести в Мемеле переговоры с Фридрихом Вильгельмом III.
1 апреля Фридрих Вильгельм встретил русского императора в пограничном местечке Поланген, и на следующий день оба они приехали в Мемель. 4 апреля монархи провели смотр прибывшей из Петербурга гвардии. При этом Александр поклялся в неизменной верности Фридриху Вильгельму III, воскликнув со слезами на глазах: «Не правда ли, никто из нас двух не падет один? Или оба вместе, или ни тот, ни другой!»
Александр и Фридрих Вильгельм решили проследовать в деревню Бартенштайн, где находилась главная квартира Беннигсена. По пути Александр I заехал в Мемель и 6–7 апреля находился там. Здесь он узнал, что Барклай находится в Мемеле и что состояние его здоровья оставляет желать лучшего.
Дело в том, что хирург-немец, которому показали раненого Барклая, предложил произвести ампутацию руки, а личный врач генерала А. В. Баталии настаивал на операции, но ни в коем случае не ампутации. Время шло, а ни то ни другое не делалось. Узнав об этом, Александр послал к Барклаю своего личного врача лейб-медика Джеймса Виллие.
Виллие вынул из раны 32 мелкие косточки. Ему ассистировала тринадцатилетняя Каролина, воспитанница Михаила Богдановича, так как в момент визита Виллпе дома не оказалось более никого. Барклай не проронил ни звука.
После операции к Барклаю пришел Баталии, и в то время когда он сидел у постели Михаила Богдановича, раненого навестил Александр I.
До этого Барклай всего дважды видел Александра I, но никогда не разговаривал с ним. Едва ли визит царя был простым актом вежливости. Александру нужны были помощники, приданные, с незаурядными способностями, и он их искал.
Барклай отвечал этим требованиям, он был честен, смел, прямодушен и обладал широкими познаниями в военном дело. Александра при встрече с Барклаем могли интересовать как его личные впечатления о минувшей кампании, так и его воззрения на самое существо и формы ведения войны о Наполеоном. Присутствовавший при встрече Барклая с царем Баталин называет лишь одну тему, затронутую в разговоре. Александра интересовало подробное описание хода сражения при Прейсиш-Эйлау и анализ всего там происшедшего. Баталин не упоминает о том, высказывал ли Барклаи царю хотя бы самые общие, самые предварительные соображения о возможных новых стратегических принципах в борьбе с Наполеоном. Царь интересовался, не нужна ли Барклаю материальная помощь, на что последний ответил, что ни в чем не нуждается. На самом же деле Барклаю при отъезде из Мемеля нечем было расплатиться за квартиру, и он ждал от своего двоюродного брата — бургомистра Риги — денежного перевода. После ухода царя жена тут же стала пенять Михаилу Богдановичу, «зачем он не признался в своем бедственном материальном положении».
А положение Барклая и впрямь было незавидным. Не имея крепостных, усадьбы и земли, он жил лишь на жалованье, которое при его большой семье оказывалось недостаточным. Еще в 1801 г. Барклаю царем была обещана аренда земли за государственный счет, но вопрос этот долго не решался. В 1802 г. лифляндский военный губернатор писал, что Барклай-де-Толли до сих пор не пользуется арендой и «но неимуществу своему даже детей своих воспитать, как должно, не в состоянии».
В июне 1803 г. Барклай просил о воспомоществовании. «Никогда не стал бы утруждать и просить милости монарха, — писал Барклай, — коли совершенное мое неимущество меня к тому не принуждало. Не имея никакого собственного имения, не могу я достичь желаемой цели — воспитание малолетних моих детей, и сверх того, чувствуя от понесенных в войне трудов приближение старости моей, беспокоит меня то жалостное состояние, в котором я, может статься, и скорости должен буду оставить жену и детей моих».
После визита царя к Барклаю дела его переменились к лучшему. То ли Александр вспомнил о прошении Барклая, то ли выяснил у своих чиновников, каково подлинное состояние генерала, отказавшегося от всякой помощи, но в тот же самый день Барклай получил звание генерал-лейтенанта и был награжден сразу двумя орденами — Анны I класса и Владимира 2-й степени.
Орден Анны I класса — темно-красный крест из «рубинового» стекла с девизом «Любящим справедливость, благочестие и веру» — вручался вместе с серебряной звездой и красной лентой с желтой каймой.
Орден Владимира представлял собой золотой крест на шею, и к нему давалась еще серебряная звезда с девизом «Польза, честь и слава». Тогда же любимый полк Михаила Богдановича — 3-й егерский был награжден серебряными трубами. Именно после этого визита карьера Барклая стремительно пошла вверх. Царь надолго сохранил к нему свое расположение, назначив его через три года военным министром.
Однако сразу же вернуться в строй Барклай не мог: раны на руке зажили лишь через год и рука частично лишилась подвижности до конца его дней. Из-за этого изменился и почерк Барклая, сделавшись крупным и неразборчивым.
Пока Барклай лечился в Мемеле, французы и русские на четыре месяца разошлись по зимним квартирам, прекратив военные действия.
17 апреля император и король прибыли в Бартепштайн, в главную квартиру Беннигсена. Пока Александр и Фридрих Вильгельм осматривали войска, министры иностранных дел России и Пруссии бароны Будберг и Гардепбсрг готовили текст предстоящей конвенции.
26 апреля в Бартенштайне была подписана русско-прусская конвенция о союзе, в статье 4 которой Александр I обязался употребить все усилия, чтобы не только восстановить власть прусского короля в областях, занятых французами, но и обеспечить Пруссии территориальные прибавления при заключении мира с Францией. После расставания Александр поехал в Тильзит, Фридрих Вильгельм — в Кенигсберг.
В конце апреля Барклай был назначен командиром 6-й дивизии вместо умершего генерала Седморацкого, и Александр I написал Михаилу Богдановичу: «Я уверен, что сие назначение примете Вы новым знаком моей к Вам доверенности».
Весной 1807 г. Наполеон начал наступление в Восточной Пруссии. 10 июня произошло сражение под Хайльсбергом, которое русские хотя и выиграли, но исход его никак не мог отразиться на общем положении сторон.
В это время цесаревич Константин приехал в Тильзит (ныне город Советск Калининградской области) и стал горячо убеждать Александра в необходимости вступить в переговоры с Наполеоном. Александр оставался непреклонным и приказал цесаревичу возвратиться к армии.
14 июня 55-тысячная армия Беннигсена заняла позицию западнее Фрндланда (ныне город Правдинск Калининградской области). В тылу русской позиции протекала река Алле. Армия Наполеона насчитывала 85 тыс. солдат и офицеров. После упорного боя русская армия начала отступать по мостам, сильно разрушенным огнем французской артиллерии. Потеряв около пяти тысяч человек убитыми, утонувшими и пленными, русские войска оставили поле боя.
16 июня во время смотра 17-й дивизии генерал-лейтенанта князя Д. И. Лобанова-Ростовского в Олите Александр получил известие о поражении русских войск под Фридландом, посланное ему Беннигсеном. В конце донесения Беннигсен высказывал мнение о необходимости вступить с Наполеоном в мирные переговоры.
Александр разрешил Беннигсену «сие исполнить, но с тем, однако, чтобы вы договаривались от имени вашего». Причем поручение вести переговоры было дано не Беннигсену, но специально для того посланному генерал-лейтенанту Д. И. Лобанову-Ростовскому.
Одновременно с ответом Беннигсену царь послал и рескрипт об его отставке с поста главнокомандующего и замене И. Н. Эссеном 1-м.
В это время Александр I еще не знал, что Эссен 1-й тяжело ранен под Фридландом и не может принять командование.
Император окончательно разуверился в Беннигсене, но заменить его теперь, после ранения Эссена 1-го, было некем, и царю, скрепя сердце, приходилось терпеть этого человека дальше, хотя, как он признавался позже, «его нисколько не уважают среди армии, все находят его вялым и лишенным энергии».
После Фридланда в штабе Беннигсена, как никогда прежде, распространились уныние и пораженческие настроения. Прусский генерал представитель Фридриха Вильгельма III в штабе Беннигсена фон Шладен докладывал премьер-министру Гарденбергу: «Офицеры за столом генерала Беннигсена свободно говорили о необходимости скорейшего заключения мира; кажется, никто из них не представлял себе, что император может думать иначе, и в общем, эти господа были уверены в том, что они сами в состоянии осуществить свой план, даже если император не будет согласен с ними».
Тот же фон Шладен сообщал Гарденбергу чуть позже, что возглавляет эту так называемую «мирную, или французскую, партию» брат императора великий князь цесаревич Константин Павлович. Среди его сторонников оказался даже любимец армии П. И. Багратион, написавший Константину письмо, свидетельствовавшее о его поддержке мирных усилий цесаревича.
Константин настаивал на личной встрече двух императоров — русского и французского — для заключения мира. Слухи о возможности предстоящей встречи все ширились, и «мирная партия», сосредоточенная в штабе Беннигсена, чувствовала себя все увереннее. Русскому же обществу было невозможно примириться с мыслью, что опаснейший враг, с которым вот уже два года идет война, может вдруг стать союзником.
Этому противоречило все — десятки тысяч погибших, прежние союзные договоры с Австрией, Англией, Швецией, только что подписанный в Бартенштайне трактат с Пруссией, наконец, логика хозяйственного развития и внешнеторговая ориентация на Великобританию и ее рынок.
Но царю противостояла реальная сила: армия в руках Беннигсена, интригана и заговорщика, находящегося к тому же в теснейшем контакте с братом царя.
В Петербурге, где Наполеона давно считали антихристом, Беннигсена воспринимали не иначе как предателем. Однако, не зная, на что решится царь, сановники и генералы выжидали и лишь немногие стояли за бескомпромиссное продолжение борьбы с Наполеоном. В числе последних были Барклай-де-Толли и раненый Остерман-Толстой.
Однако известность Барклая в армии еще не была столь громкой, а авторитет столь значительным, чтобы он мог всерьез восприниматься как соперник Беннигсена и уже том более великого князя Константина Павловича. Тем не менее о его решительно антифранцузской позиции стало известно и главнокомандующему, и цесаревичу. Случись это до визита Александра I в Мемель и до его личного визита к Барклаю, его оппозиция могла бы вызвать у брата царя лишь пренебрежительную улыбку. Совсем по-иному воспринималось это теперь, когда за Барклаем стала укрепляться опасная репутация одного из любимцев царя.
Константин Павлович воспринял позицию Барклая не просто как вызов, по увидел в этом враждебный выпад, направленный лично против него. С этого момента и до самого конца жизни Барклая между ним и великим князем Константином установились отношения стойкой взаимной неприязни. Под влиянием разных обстоятельств их взаимоотношения сглаживались, становились не столь острыми, но никогда не были уважительными.
Выбирая между сторонниками мира и теми, кто стоял за продолжение войны, Александр до последнего момента не знал, что для него предпочтительнее. И все же перспективы мира оказались для него более заманчивыми. Наполеон предлагал разделить мир на две империи — Восточную и Западную. Восточную он отдавал Александру, Западную оставлял за собой. Русскому императору в создавшихся обстоятельствах это казалось приемлемым, если учесть, что в случае продолжения войны Александр мог потерять трон. И тем не менее в душе царь оставался непримиримым врагом Наполеона.
Хорошо информированный барон Г. А. Розенкампф, близкий к Н. Н. Новосильцеву, одному из самых доверенных лиц Александра, вспоминал впоследствии: «Неблагоприятный исход сражения при Фридланде произвел очень сильное впечатление на государя. Так как его армия была слишком слаба, то он решился еще раз умилостивить грозу, и последовавшее затем свидание в Тильзите разом изменило всю его политику.
Достоверный свидетель рассказывал мне, что император за день перед тем, как решиться на последнюю перемену своей политики, сидел несколько часов один, запершись в комнате, то терзаемый мыслию отступить в пределы своего государства для продолжения войны, то мыслию заключить сейчас же мирные условия с Наполеоном.
Граф Толстой, обер-гофмаршал, был единственный, с которым он в это время говорил. Конечно, этот ловкий царедворец посоветовал государю то, что, по мнению его, являлось наиболее приятным Александру.
Толстой хорошо видел, что император подобно тому, как и при Аустерлице, находился под сильным впечатлением видимой опасности; великий князь Константин Павлович был также не из храбрых; Беннпгсен не Вселял к себе большого доверия… Барклай единственный не советовал заключить мира и утверждал, что возможно продолжать войну. Но этот дальновидный муж не обладал даром сильно высказывать свои мнения и доказать их; однако император не забыл некоторых высказанных им мыслей. Все это было делом нескольких часов, и государь в сильно возбужденном состоянии переходил от одного решения к другому».
Наконец Александр решился. Причины того правильно изложены Г. А. Розенкампфом. Победоносный неприятель стоял у границ империи с огромными силами, которые могли увеличиться за счет сторонников независимости Польши.
7 июля два императора встретились в плавучем павильоне, установленном на плоту посередине Немана неподалеку от Тильзита. Смысл «ритуала» встречи состоял в том, что ни один из императоров не был ни хозяином, ни гостем. Они встретились на порубежной реке, как бы между границ двух империй.
Александра I сопровождали Константин Павлович, Беннигсен, министр иностранных дел барон Будберг, князь Лобанов-Ростовский и генерал-адъютанты Ливен и Уваров. Беседы же Наполеона и Александра происходили один на один. Они обедали, катались верхом, гуляли по берегам Немана, обменивались сувенирами и клятвами во взаимном уважении и совершеннейшей искренности, а в это время их дипломаты Талсйран и Куракин готовили текст договора, существенно влиявшего на всю систему международных отношений в Европе.
7 июля мирный договор между Францией и Россией был подписан. По нему Пруссия теряла около половины территории и населения. Ее земли по левому берегу Эльбы переходили к Вестфальскому королевству, вновь созданному и отданному под протекторат Франции. Город Котбус с прилегающими к тему землями передавался Саксонии, Данциг, захваченный Пруссией в 1793 г., объявлялся вольным городом. Белосток передавался России.
Все остальные земли, оказавшиеся под скипетром прусских королей в связи с разделами Польши, образовывали Варшавское герцогство — вассальное государство в системе империи Наполеона, связанное унией с Саксонией. Александр I обязался признать изменения политической карты Европы, произведенные Наполеоном, и обещал быть посредником в мирных переговорах Франции с Англией.
Отдельные статьи касались положения, сложившегося в Средиземноморье. Александр I признавал суверенитет Франции над Ионическими островами и обещал отозвать в Россию находящийся там русский флот.
Встречные уступки Наполеона были гораздо скромнее. Он брал обязательство восстановить герцогства Саксен-Кобургское, Мекленбург-Шверинское и Ольденбургское, принадлежащие родственникам Александра I по женской линии, и выплатить денежные компенсации некоторым германским князьям.
Основной текст договора дополнялся секретными статьями, в соответствии с которыми Россия и Франция обязались совместно вести войну против любой державы. Имелась в виду прежде всего Великобритания. Оговаривалось, что в случае отказа ее правительства от принципа свободы мореплавания, посредничества Александра I в англо-французских переговорах, возвращения захваченных французских колоний Россия порвет дипломатические отношения с этой страной. Соответственно столь же категоричным было и требование новых союзников по отношению к Турции: если Турция откажется от французского посредничества в переговорах с Россией, то Франция вступает в войну с ней на стороне России.
9 июля был подписан франко-прусский мирный договор, сразу же окрещенный «карательным трактатом». Кроме территориальных изменений, уже зафиксированных во франко-русском договоре, Пруссия обязалась сократить армию до 40 тыс. человек, уплатить Наполеону контрибуцию в 100 млн. франков.
Возвратившись в Петербург, Александр обнаружил здесь оппозицию своей новой политике, значительно большую, чем он мог бы предположить, находясь в Тильзите.
В какой-то мере Александр сгладил один из острых углов, уволив в отставку Бенвигсена, но этой уступки «английской» партии было явно недостаточно. Против сближения с Францией были мать вдовствующая императрица Мария Федоровна, любима л сестра царя Екатерина Павловна. Достаточно широкой была оппозиция среди патриотически настроенного духовенства, дворянства и купечества.
Если сражение под Эйлау принесло чувство удовлетворения, если Аустерлиц и Фридланд считали скорее несчастьями, чем поражениями, то к Тильзиту отнеслись как к национальному позору и неслыханному бесчестью. В высшем обществе родилась волна ненависти ко всему французскому: французские оперы шли при почти пустом зале, послов Наполеона, сначала генерала Савари, а затем сменившего его генерала графа Коленкура, не принимали почти ни в одном аристократическом доме Петербурга. Большой успех у публики имела драма Владимира Озерова «Дмитрий Донской» за патриотические монологи и призывы к отмщению, которые с чувством произносили со сцены актеры. Война с Наполеоном прекратилась на полях сражений, но продолжалась в умах. Предчувствие смертельной схватки с Наполеоном охватило все русское общество.
Адъютант П. И. Багратиона поэт Денис Давыдов так писал об этом времени: «1812 год уже стоял среди нас, русских, как поднятый окровавленный штык».
Заключение Тильзитского мира повлекло за собой перемены в правительстве: министром иностранных дел вместо барона А. Я. Будберга стал граф Н. П. Румянцев, военным министром 13 января 1808 г. был назначен граф А. А. Аракчеев. Несколько раньше Александр I приблизил к себе М. М. Сперанского, возглавившего с 31 октября 1807 г. министерство внутренних дел.
«Благоразумный Сперанский, меняясь с обстоятельствами, потихоньку, неприметным образом, перешел из почитателей Великобритании в обожатели Наполеона, из англичанина сделался французом. Сия перемена в правилах и в образе мыслей была для него чрезвычайно полезна, ибо еще более приблизила его к царю», — утверждал потом Н. К. Шильдер.
Сближение Александра I со Сперанским произошло в поездке для инспектирования войск, переданных от Беннигсена Буксгевдену. 11 октября 1807 г. царь и Сперанский уехали в главную квартиру Букогевдена в Витебске и 22 октября возвратились обратно. Во время этой поездки Александр I и решил заменить министра внутренних дел графа В. П. Кочубея М. М. Сперанским.
Эта перемена свидетельствовала о реформаторских намерениях императора, ибо со Сперанским различные слои русского общества связывали надежду на либерализацию самодержавного режима и рассчитывали на изменения не только во внешней, но и во внутренней политике Александра.
Итак, обозревая жизнь Барклая в 1801–1807 гг., мы видим, что он стал довольно известным во всей русской армии военачальником. Он проявил свои способности в оборонительных сражениях под Пултуском и Гофом, показал себя мастером арьергардных боев, отличился под Прейсиш-Эйлау, заслужив похвалу Наполеона, проявил высокие образцы тактического мастерства и военного искусства.
Размышления Барклая о выработке стратегического плана борьбы с Наполеоном свидетельствовали о том, что он серьезно готовился к руководству широкомасштабными боевыми действиями. Тильзитский мир он воспринимал как временную меру укрощения Наполеона, необходимую в условиях обострившихся отношений с Турцией и Швецией.
Ближайшее будущее показало, что в лице Барклая русская армия получила еще одного талантливого военачальника, а страна — патриота и государственного деятеля, которому оказалось по плечу решение больших и трудных военных и политических задач.
X. ВЕРНОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ Исторический роман
От автора
Чтение романа покажет Вам, уважаемый читатель, сколь отличается художественное произведение от научной публикации, с которой Вы только что познакомились, хотя и время, в них описанное, и герои, участвующие в одних и тех же событиях, те же самые.
Книга вторая КАНУН
Глава первая МЕЖ ВОЙНОЙ И МИРОМ
Изгоняя из армии и государственных учреждений тысячи неугодных офицеров и чиновников, Павел одновременно осыпал милостями и возвышал близких и преданных ему людей. Особенно быстро пошли вверх друзья Павла из его гатчинского окружения — Аракчеев, Ростопчин, Кутайсов, братья Куракины.
На первом месте у императора была армия, и особенно гвардия, и главнейшей заботой Павла было укрепление ее самого верхнего эшелона.
Только за первый год своего царствования Павел вручил фельдмаршальские жезлы восьми генералам. Это были двоюродные братья Салтыковы — Иван Петрович и Николай Иванович, Чернышев, Эльмпт, Мусин-Пушкин, Каменский, де Бройль и Николай Васильевич Репнин — генерал-губернатор в Литве и одновременно командующий Литовской дивизией, в которую входил и полк Барклая.
Суворов, последний фельдмаршал Екатерины, только ахал, всплескивая руками и отпуская сардонические сентенции, когда слышал имена Эльмпта или де Бройля. Да и как было реагировать иначе, если за треть века своего правления Екатерина Великая пожаловала в фельдмаршалы всего семь человек! И среди них Румянцев, Потемкин и Суворов — вечная слава России, солдатские идолы и демиурги Победы.
Вскоре после того, как Барклай получил патент на генеральство, в Поланген приехал Репнин.
По двум прежним инспекциям он знал, что 4-й егерский — хорош, но между первым и вторым приездами в полк произошла с егерями Барклая существенная метаморфоза: два года назад это был один из лучших полков его дивизии, год назад — безусловно лучший.
Столь опытному генералу, как Репнин, было ясно, что в первый раз он видит полк, такой же как и многие другие, в котором все виды обучения и деятельности солдат и унтер-офицеров доведены до совершенства, но не более. Во второй раз Репнин увидел перед собой людей, которые понимали, что они делают, как нужно это делать и зачем все это совершается.
Фельдмаршал знал, что за тем, как обустроен полк, как живут солдаты и офицеры и особенно за их обучением, командир полка не только постоянно следит, но и почитает приобщение подчиненных к солдатской науке своим важнейшим делом.
Если в других полках все начиналось с обучения рекрутов — неграмотных деревенских парней, чаще всего против воли оказавшихся на службе и потому воспринимающих военную службу как барщину, а то и как двадцатипятилетнюю каторгу, — то Барклай начинал с того, что сам уезжал на рекрутские пункты и там отбирал своих будущих подопечных.
А когда рекруты приходили в полк, то занятия с ними проводились под его наблюдением. Барклай не уставал повторять, что искусный начальник ласковым обращением легко может возбудить в рекрутах бодрость духа и охоту к службе.
Он запрещал долго держать рекрутов на ученье, велел давать им частый отдых и разъяснять, что и как надлежит делать, проявляя терпение и кротость.
Всяческие оскорбления, а тем более наказания рекрутов за неуспехи в учении были в 4-м егерском категорически запрещены.
Если в других полках рекрутов учили азам военного дела полгода, то в полку у Барклая срок этот был продлен до девяти месяцев.
Барклай помнил, какими нелегкими были даже для него, крепкого, сильного, грамотного юноши, к тому же пришедшего в армию не только по желанию, но и по страсти, первые месяцы службы. Чего же можно было требовать от рекрутов, попавших в полк подневольно, как куры в ощип?
И начиналось обучение с Богом проклятой экзерциции, которая, опять же Ему и благодарение, занимала в 4-м егерском не более половины учебного времени, тогда как у других — почти весь день, от «повестки» и до «зори вечерней».
И то, занимаясь экзерцицией, больше обучали егерей движениям, применяемым в походных и боевых построениях, и потому учили маршировать вперед, вбок, накось и назад, тихо, посредственно, скоро и весьма скоро.
Они должны были уметь «без замешкания и проворно заполнить во фронте места упалые и все действа с оружием, какие надлежит во время сражения скоро и безо всякого замешательства».
Рекрута должно было приучить к житью в солдатской артели, где на практике они постигали, что слова «артель» и «рота» оказывались столь близкими. Они и были однокоренными, происходящими от древнего — «ротитися», означающего «товарищество за круговою порукой, братство по присяге и клятве, где все за одного и один за всех», и назывались еще и дружиной, и согласом, и общиной, и товариществом, и братчиной.
В роте было общее хозяйство, общий котел, общая казна, а в беде круговая порука и один ответ. И потому И семью, садившуюся за один стол, на Руси называли артелью и жили в уверенности, что артелями живут муравьи и пчелы и что артелью города берут. Да и само слово «рота» в древней Руси означало «клятва, присяга», а отсюда и воинский отряд, связанный ею.
В роте, как и в большой крестьянской семье, младшие беспрекословно подчинялись старшим — ветераны были и отцами, и дядьками, и старшими братьями вчерашних рекрутов, а господа офицеры имели спрос с артельного старосты, как барин спрашивал с приказчика. И потому были роты подобны разным семьям: одни изобильны и счастливы, другие — просто упорядочены, иные же — скудны и бесталанны. Однако не было ни в одной из них тиранства и самовластия, ибо артель являлась общиной, то есть тем же крестьянским миром, где высшим мерилом и высшей христианской и крестьянской добродетелью почиталась справедливость.
А так как Барклай, христианин-пуританин, с самого детства почитал справедливость вершиной нравственности и сам был образцом соблюдения того, что в полно м объеме называется моральным кодексом, то и полк его был большой дружной артелью, и это-то и определяло успехи 4-го егерского в службе.
Князь Репнин, не только старый генерал, но и потомственный русский помещик, прекрасно понимал, что такое сельская крестьянская община — артель и что такое армейская крестьянская община — рота.
Однако же, проведя третью инспекцию 4-го егерского, он остался не просто доволен тем, что увидел в полку, — он был восхищен. Репнин был опытным военным и хорошо отличал бездушную муштру от искусной выучки и мертвый автоматизм — от живой лихости и веселого молодечества, когда каждый солдат более всего желает, чтоб он сам, и его товарищи, и их унтер-офицер выглядели бы лучше всех, а унтер-офицеры хотят того же для всей своей роты и из кожи вон лезут, чтобы никак не подвести своего ротного, тот же, в свою очередь, душою болеет и за подчиненных, и за своего батальонного.
И когда во всех батальонах дело обстоит так — а так именно дело и обстояло, — то и стрельбы, и учебный бой, и даже вахт-парад превращались в захватывающее, радостное зрелище, настолько увлекательное и красивое, что Репнину, повидавшему за полвека военной службы сотни боев, маневров и парадов, искренне казалось, что он ничего подобного на своем веку не видал.
Окончив инспекцию и распрощавшись с Барклаем, Репнин сказал своему адъютанту:
— Меня уже не будет на свете, но пусть вспомнят мои слова: этот генерал много обещает и далеко пойдет.
Репнин уехал в свой мир большой политики, больших страстей и больших интриг, а Барклай, делая свое дело, ограниченное рамками полка, мог только наблюдать за всем происходящим за этими рамками.
Барклай неотрывно следил за тем, как Суворов идет по Италии.
4 апреля фельдмаршал прибыл к армии и, приняв командование в Валеджо, через десять дней занял две крепости. Еще через два дня разбил на реке Адда корпус молодого талантливого генерала Жана-Виктора Моро, а еще через два дня занял Милан.
Эти победы и темпы были ничуть не хуже тех, что показал здесь ровно три года назад Бонапарт. Взяв затем еще пять крепостей, в начале июня Суворов разбил на реке Треббия тридцатишеститысячную армию генерала Жака Макдональда. Так впервые услышал Барклай имя этого шотландца — волонтера Республики, с которым потом предстояло ему скрестить оружие.
Много лет спустя русский посол в Париже генерал Петр Андреевич Толстой рассказал Барклаю об одном разговоре, который произошел между ним и маршалом Макдональдом во время приема в Тюильри:
«Хоть император Наполеон не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Треббии. Эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру, — меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов.
И, указав на толпу придворных, Макдональд прибавил:
— Не видать бы этой челяди Тюильрийского дворца, если бы у вас нашелся другой Суворов».
Впрочем, и многие иные имена французских военачальников, как и Моро, разбитого Суворовым накануне, тоже стали известны в России именно летом 1799 года.
Моро вновь появился в хронике итальянской кампании, когда пришло известие об еще одной победе — при Нови. Сражение, длившееся пятнадцать часов, было необычайно упорным. В самом его начале погиб французский командующий генерал Жубер, тогда-то и сменил его Моро, дравшийся до конца, но все же вынужденный отступить к Генуе.
За эти победы 8 августа 1799 года граф Суворов-Рымникский был пожалован титулом князя Италийского.
И как раз в эти самые дни обо всем происходящем в Италии узнал Бонапарт, который уже более года находился в Египте. Высадившись у Александрии 2 июля 1798 года, он уже 20 июля разгромил у пирамид мамелюков — гвардию султана — и начал свой победоносный поход по тем путям, которыми некогда шел Александр Македонский. Год продолжалась эта фантастическая феерия, как вдруг в конце июля 1799 года Бонапарту в руки попала газета, из которой он узнал, что Суворов появился в Италии, разбил лучших генералов Франции и движется к Альпам. «Италия потеряна! Все плоды моих побед потеряны! Мне нужно ехать!» — сказал Бонапарт и приказал быстро и тайно снарядить четыре фрегата и пятьсот отборных солдат.
В эти же дни Бонапарт получил письмо министра иностранных дел Франции Талейрана, где он писал: «Суворов каждый день торжествует новую победу; покоритель Измаила и Варшавы, впереди которого летит фантастическая слава, ведет себя, как проказник, говорит, как мудрец, дерется, как лев, и поклялся положить оружие только в Париже. Франция гибнет, не теряйте времени».
В то же самое время Суворов повернул свои войска на север и двинулся в недалекую отсюда Швейцарию, куда уже пришел корпус Римского-Корсакова, оставив войска австрийцев в Италии под командой семидесятилетнего фельдмаршала-лейтенанта Михаила Меласа, впрочем, человека энергичного и смелого.
Суворов повел свою двадцатидвухтысячную армию кратчайшим путем — через занятый противником заснеженный высокогорный перевал Сен-Готард.
13 сентября после третьего штурма Сен-Готард был взят. Тогда в русских газетах впервые появилось имя генерал-майора князя Петра Ивановича Багратиона, командира авангарда армии Суворова и в Италийском и в Швейцарском походах. Однако только партикулярная публика слышала о нем впервые.
Барклаю же довелось слышать не только о самом Петре Ивановиче, но и об его отце — полковнике Иване Александровиче, командовавшем Псковским карабинерным полком еще до того, как Барклай начал служить в нем. Потом узнал он о поручике Петре Багратионе, который под Очаковом за храбрость был произведен Потемкиным сразу же в капитаны, слышал он о Багратионе и во время Польского похода, но судьба не сводила их, а вот теперь узнал генерал-майор Барклай, что и Багратион, бывший на четыре года младше его, тоже уже генерал и при Сен-Готарде сыграл главную роль, внезапно атаковав противника с тыла.
На следующий день прогремел знаменитый бой у Чертова моста, и эхо выстрелов у маленькой швейцарской деревни Урзерен разнеслось по всей Европе.
Узкий тоннель длиной в шестьдесят метров прикрывал этот мост, переброшенный на высоте более двадцати метров. Егеря обошли его с двух сторон и прорвались по нему на север.
Одновременно с вестью о последней победе Суворова пришло известие и о поражении тридцатитысячного корпуса Римского-Корсакова под Цюрихом. Сообщения об этих событиях были напечатаны в одних и тех же номерах газет, ибо произошли в один день — 15 сентября.
И в этих же сообщениях встретил Барклай и еще одно имя — Аидре Массена, дивизионный генерал Франции. Новым для Барклая оно не было — о Массена впервые заговорили тогда же, когда и о Бонапарте.
Более того, Бонапарт и Массена сначала заявили о себе при осаде Тулона, потом вместе совершили Итальянский поход, и Массена все время был рядом со своим идолом, командуя в Италии авангардом его армии. В январе 1797 года в битве при Риволи Массена был соавтором победы и только из-за того, что командовал войсками, осаждавшими Рим, не ушел с Бонапартом в Египет.
Разбив Римского-Корсакова, Массена тут же бросился по пятам за армией Суворова и через четыре дня догнал ее арьергард. Но повторения цюрихского успеха не произошло — арьергардом командовал старый боевой генерал Андрей Григорьевич Розенберг, который не только отбил все атаки французов, но и более двух тысяч их взял в плен.
Через три дня Розенберг догнал главные силы и вместе с Суворовым двинулся на штурм хребта Панике, обледеневшего, засыпанного снегом, ибо в альпийском высокогорье уже наступила зима.
Подробных описаний перехода через Панике не было, но Барклай представлял, каково идти армии через горы высотою в три версты, каково тащить артиллерию по обледенелым карнизам, над пропастями, ежеминутно ожидая схода камнепадных и снежных лавин. Наконец пришло сообщение, что армия Суворова вырвалась из Швейцарии и пошла на северо-восток, к России.
Размышляя над тем, почему только Суворов сумел победить выдающихся генералов Республики, Барклай пришел к выводу, что здесь французская коса нашла на русский камень, а пожалуй, даже более того — Суворов клин французский выбил клином русским, еще более крепким. Французы презирали каноны старой военной науки, они и в войне были революционерами. Их неграмотные генералы — неграмотные в смысле военной классики: вчерашние сержанты, адвокаты, булочники и бочары — обладали смелостью невежд, готовых сокрушить во славу Франции любую твердыню. Для них не было ничего невозможного, и они презирали расчет и осторожность, считая их оборотной стороной трусости. Поэтому излюбленным жанром боя революционных генералов была атака, а наиболее распространенным качеством тактики — дерзость. Их солдаты были энергичны, отважны, шли налегке, делали без обозов такие переходы, какие не могли и примерещиться закоснелым австрийским военачальникам, и потому, упав на войска императора Франца как снег на голову и мгновенно бросившись в штыки, санкюлоты повергли их в ужас и в бегство.
Как ни парадоксально, но фельдмаршал, князь и граф Суворов главнокомандующий рабов, наряженных в солдатские шинели, и рабовладельцев-помещиков, носивших офицерские и генеральские мундиры, исповедовал ту же тактику и те же принципы ведения войны, что и генералы санкюлотов: его армия, как и армия противников, тоже не знала слова «невозможно», делала переходы по сорок верст в сутки и, грянув как гром среди ясного неба, с марша бросалась в штыки.
Суворов в глазах всех иноземных военачальников воевал не по правилам, как, впрочем, и голодранцы французы. И потому поражения, понесенные от французов, и пруссаки, и австрийцы, и все прочие противники считали какой-то необъяснимой загадкой, граничащей с чертовщиной. А победы Суворова над французами и вовсе не пытались анализировать, объясняя его успехи фантастическим везением и редчайшим, необычайно благоприятным для него стечением обстоятельств.
Однако же факт остался фактом — армия Суворова прошла сквозь Альпы, как проходит штык сквозь соломенное чучело, и вырвалась на австрийские долины. Но вскоре русские вынуждены были уйти из Швейцарии, и скорее из-за австрийцев, чем из-за французов. Глава австрийского правительства барон Тугут, великий недоброжелатель России, а следовательно и Суворова, стал искать пути к сепаратному миру и для предварительного доказательства серьезности своих намерений приказал австрийским войскам покинуть Швейцарию, бросив союзников один на один с превосходящими силами противника.
Узнавший о кознях союзников Павел тут же разорвал союз с Австрией и приказал Суворову вести армию в Россию, увенчав его в конце октября званием генералиссимуса всех российских войск, «высшей степенью почестей», как выразился он в приказе.
Но не только военные действия в Италии и Швейцарии занимали осенью 1799 года русских военных.
7 сентября в окрестностях голландского города Бергена высадился русский морской десант. Им командовал Иван Иванович Герман, тот самый, которому Павел поручил следить за Суворовым.
Герману не довелось выполнить поручение императора, ибо его же волею был Иван Иванович вместе со своим восемнадцатитысячным корпусом отправлен на помощь еще одним союзникам русских — англичанам, воевавшим против французов в Голландии.
Высадившись на берег, Герман, не проведя разведки, назначил на следующий же день штурм Бергена. Однако и этого ему показалось мало: он решил захватить город внезапным ночным ударом и атаковал Берген в ночь на 8 сентября.
Дерзость нападающих была необыкновенной, и французы, потеряв четырнадцать орудий и более тысячи пленными, отступили в центр города.
Но здесь французы не только остановили нападающих, но и самого Германа взяли в плен.
Ему дозволено было написать Павлу письмо о случившемся с ним, и пленный генерал обвинил во всем коварных англичан, не поддержавших его в нужный момент, а более всего — их главнокомандующего герцога Йоркского Фридриха, сына английского короля Георга Третьего.
На место Германа был послан Кутузов. Но пока он еха;1 из Петербурга в Голландию, в Гамбурге догнал его фельдъегерь императора с приказом перевезти остатки русских войск в Англию, а весной возвратиться с ними в Россию.
Еще через три дня Кутузов получил новый рескрипт —.. о назначении его военным губернатором Литвы, командиром же русских войск становился посол в Англии, генерал от инфантерии Семен Романович Воронцов.
Разумеется, что тогда Барклай всех этих подробностей не знал, они стали ему известны много позднее, но о военной стороне неудачной экспедиции в Голландию был осведомлен. Довелось услышать ему — и этот слух потом полностью подтвердился, — что русские войска перевезены были англичанами на остров Жерзей — место гиблое и голодное — и там пребывали в состоянии более жалком, чем пленные французы.
Это почти переполнило чашу терпения Павла — он понял, что в Италии и Швейцарии русские, как обезьяны, таскали из огня каштаны для австрийцев, а в Голландии — для англичан. Но идея восстановления монархии во Франции, все еще полностью владевшая Павлом, не позволила ему окончательно порвать союзнические узы, и он приказал всем русским войскам до весны оставаться в Европе, остановившись в тех местах, где их настигнет его приказ.
И все же колебания Павла были велики, а решения его, как всегда, непредсказуемы, и через три недели после предыдущего приказа последовал новый — всем войскам идти домой немедленно.
14 января 1800 года армия Суворова пошла в Россию. Суворов в дороге захворал и, сдав команду Розенбергу, сам остался в Кракове.
А затем Барклай узнал о болезни Суворова. Генералиссимус занемог еще в Праге, в Кракове почувствовал себя уже совершенно больным и велел ехать в имение свое — в Кобрин.
Здесь его стал лечить присланный от Павла лейб-медик Вейкарт, здесь же получил он несколько писем от императора, в которых Павел превзошел самого себя, называя Суворова героем и утверждая, что русские солдаты потому и побеждали, что он руководил ими.
Стараниями пяти врачей, нескольких преданных ему друзей, среди которых был и Багратион, Суворов стал поправляться и готовиться к поездке в Петербург. Вскоре же стало ясно, что ожидается не простая поездка в столицу, а триумфальный въезд легендарного героя и победителя генералиссимуса всех российских войск, Светлейшего князя Италийского, графа Суворова-Рымникского.
Уже стали говорить о подготовке в Петербурге церемониала высокоторжественной встречи, утверждая, что не только пушечными залпами и колокольным звоном встретит столица великого полководца, но даже будут построены в честь его Триумфальные ворота, как вдруг поползли один за другим совсем противуположные слухи: что генералиссимус попал в новую государеву опалу и что никакой встречи ему не будет.
А между тем больной старик через силу ехал в Петербург, останавливаясь не только в городах и на почтовых станциях, но и в деревенских избах, если не мог дотянуть до очередной запланированной стоянки.
Бывало, что, остановившись на ночлег, больной сетовал среди стонов, что не умер еще в Италии. Ехал он так медленно, что дорога от Риги до Петербурга, которую почта проходила за трое суток, заняла у Суворова две недели.
Он въехал в Петербург 20 апреля поздно вечером, уже зная, что никакой встречи не будет, и почти крадучись проехал к Митеньке Хвостову, мужу его племянницы Авдотьи Горчаковой, которого он любил пуще иных за доброе сердце и участие в его семейных и денежных делах.
Через полмесяца Барклаю стало известно, что Суворов безнадежен: у него ослабла память, он с трудом узнал даже Багратиона, на старых ранах его открылись язвы и началась гангрена.
А потом пришло сообщение, что 6 мая он умер. Ни одна газета ни словом о том не обмолвилась, но народная молва передавала эту печальную весть из уст в уста, и скоро в далеком Полангене тоже ее узнали. И еще многое, что случилось при его похоронах.
Рассказывали, что громадные толпы петербуржцев собрались на Крюковом канале, возле дома Хвостова, что сотни экипажей стояли на набережных Фонтанки и Екатерининского канала и из-за великого множества народа не было к дому Хвостова ни проезда, ни прохода. Говорили, что провожали полководца четыре полка: три армейских пехотных, в том числе и любимый его Фанагорийский, и Конногвардейский, а на улицах, по которым несли его гроб, стояли все жители Петербурга.
Рассказывали, что Павел с небольшой свитой стоял на углу Невского и Садовой и, когда увидел гроб, слезы побежали у него по щекам, он повернулся и тихо пошел пешком в Зимний.
Говорили, когда поднесли гроб к чугунным воротам Александро-Невской лавры, то они почему-то оказались закрыты на огромный замок. Открытой была лишь калитка в воротах. Решили проносить гроб через калитку. «Узка, не пройдет в нее Александр Васильевич», — стали говорить собравшиеся. Тогда повернулся к ним гренадер-фанагориец, старый ветеран, которому выпала честь нести гроб генералиссимуса, и сказал: «Это Ляксандра-то Васильевич не пройдет? Везде проходил». И гроб Суворова прошел.
Его похоронили в Благовещенской церкви, возле левого клироса.
Прошло полгода, и Барклай по делам службы был вызван в Петербург, в Военную коллегию. Однако, когда он явился, ему приказали прежде доложить о прибытии петербургскому военному губернатору фон дер Палену.
Пален принял Михаила Богдановича с присущим ему радушием. Он расспросил Барклая и о службе, и о родственниках, особо тепло отозвавшись о кузене Барклая Августе, с которым, как оказалось, был Пален в дружбе с давних времен, еще когда был наместником.
В свойственной ему открытой манере Пален посетовал на немалые трудности службы, когда приходится ему навлекать на себя гнев государя, отводя его от других. Не называя имен, рассказал он и о двух-трех генералах, которых удалось ему вернуть в службу, и, тяжело вздохнув, добавил:
— Ей-богу, земляк, с легкой душой уехал бы я куда-нибудь хоть на дивизию, если б не воля государя, который непонятно почему держит меня возле персоны своей, то жалуя очередным орденом, то ставя у дома моего караул с гауптвахты.
Барклай молча слушал, не выражая ни сочувствия земляку, ни порицания государю.
Петр Алексеевич, выспрашивая, о многом говорил и сам, выказывая в разговоре полное единодушие с Барклаем, но о том, для чего вызвал к себе, так ничего и не сказал. Разница в летах в полтора десятка лет и в чинах на две генеральские ступеньки — не позволила Барклаю спросить Палена о причине вызова, и ушел он от военного губернатора в легком недоумении.
Остановился он, как и всегда, в доме Вермелейнов. Приходя домой, Барклай явственно ощущал полный контраст этого тихого оазиса — герань на подоконниках, комнатки, пропахшие чабрецом и мятой, и ласковый кот Мур, валявшийся на мягких половиках, — с тем грозовым, встревоженным, полным опасностей миром, который начинался за порогом, где каждый миг угрожал какой-нибудь неожиданной бедой.
А в этот приезд ощущение того, что над Петербургом сгустились тучи и вот-вот должен был прогреметь гром и засверкать молнии, не покидало Барклая ни на минуту с тех самых пор, как встретился он с первыми знакомцами и сослуживцами.
С кем бы Барклай ни увиделся, всякий норовил рассказать ему какую-нибудь историю о неслыханном произволе императора, об унижениях и обидах, наносимых им уважаемым и почтенным людям, о нескончаемой череде опал, когда ссылка в деревню почиталась неслыханной милостью, отдача под арест на гауптвахту — обычным делом и даже заточение в крепость не считалось чем-то ужасным, ибо была еще и Сибирь, и шпицрутены.
Более всего напугало и озлобило всех дело штабс-капитана Кирпичникова, которого по пустяковому поводу разжаловали в солдаты и уже в новом звании прогнали сквозь строй в тысячу человек. И хотя несчастного едва не забили насмерть полгода назад, история эта была у всех на устах и сейчас, потому что отныне ни один офицер не мог считать в безопасности ни свою честь, ни даже свою жизнь.
Шел Рождественский пост, ни балов, ни машкерадов не было, театры были закрыты, солнце садилось в четыре часа пополудни, и от всего этого Петербург был еще мрачнее, чем обычно.
Барклаю прочитали стишок, ходивший по рукам и конечно же нигде не опубликованный:
Правление умы заводит, Последний раб царю вслед ходит; Коль пьяницы султаны, Тогда имам, купец, солдат — все пьяны.Старые русские поговорки «Рыба тухнет с головы» и «Каков поп, таков и приход» оправдывались в царствование Павла в полной мере, ибо все маленькие деспоты в губерниях и уездах, подражая своему Великому Принципалу, терзали подданных без зазрения совести, и своеволие чиновных самодуров бурным половодьем растекалось по России, превращая ее в царство ничем не ограниченного произвола.
И конечно же в столице беспрерывно рождались все новые и новые слухи о заговорах, крамоле и комплотах против государя. Особенно усилились они после того, как на глазах у всего города стал расти не по дням, а по часам диковинный рыцарский замок — Михайловский. И уже то, что яму под фундамент начали копать среди зимы, чего никогда на Руси не бывало, говорило о чрезвычайной поспешности сей необычной стройки. А за полтора месяца до приезда Барклая в Петербург — в день архистратига Михаила, святого покровителя государя — замок освятили, и Павел переехал в него, несмотря на то что внутри высоких покоев и бесчисленных путаных коридоров был могильный холод и сырость.
Огромные камины жарко топились беспрерывно и день и ночь, но по углам залов сверкал лед, а стены покрывал иней.
Барклай несколько раз проходил мимо замка, окруженного каменными брустверами, многочисленными караульнями и глубоким рвом, через который было переброшено пять мостов.
Из-за всего этого дворец более напоминал либо фортецию, либо тюрьму.
Барклай с интересом прочитал надпись, шедшую по фризу замка: «Дому твоему подобаеть святыня Господня въ долготу дней», и, прочитав, сосчитал буквы в надписи — их оказалось сорок семь. Он сделал это, потому что знакомый ему офицер, показавший крамольное стихотворение, шепнул также, что недоброжелатели государя распускают по Петербургу слух: число букв в надписи на фризе замка равно числу лет, которые суждено прожить его хозяину. Павлу же шел сорок седьмой год.
Барклай, запрокинув голову, еще стоял у замка, как Вдруг кто-то сзади легко коснулся его локтя. Он повернулся и узнал Беннигсена. На его эполете увидел Михаил Богданович три звезды генерал-лейтенанта.
— Сорок семь? — вместо приветствия сказал Леонтий Леонтьевич, давая ясно понять, что и ему известно еретическое пророчество государевых недоброжелателей.
— Так точно, ваше превосходительство, — ответил Барклай обескураженно: тон ответа не соответствовал его манере поведения, но и вопрос был настолько неожиданным, что заставил его смутиться, и эта уставная форма ответа вырвалась сама по себе.
Ясно было, что разговор этот Беннигсен начал именно таким образом неспроста: заданный вопрос звучал как пароль, которым обменялись два заговорщика.
Они не виделись десять лет, и Беннигсену было о чем рассказать Михаилу Богдановичу.
Леонтий Леонтьевич поведал, что во время похода в Польшу судьба свела его с Валерианом Зубовым, и потом Беннигсен сопутствовал ему и в Персидской экспедиции.
Два года назад стал он милостью государя генерал-лейтенантом, но через шесть месяцев после того был отправлен в отставку.
Беннигсен сказал, что никаких видимых причин для отставки не было, и, значит, существовали причины, ол взора его скрытые, коими он полагал немилость государя к братьям Зубовым, своим покровителям.
Беннигсен рассказал, что Павел вначале был сердит на князя Платона за вечное нерасположение фаворита к нему но когда увидал его рыдавшим над усопшей Екатериной растрогался и, утешая Платона Александровича, сказал: «Надеюсь, что и мне будете так же верно служить, как и ей служили».
Чуть бахвалясь своею близостью с бывшим фаворитом, Леонтий Леонтьевич поведал провинциалу о том, что знали только в Петербурге.
Павел купил Платону за сто тысяч великолепный особняк на Морской, велел отделать его как дворец, купил ему прекрасных лошадей и роскошные экипажи и все это подарил в день рождения.
Посетив князя Платона в тот же вечер в новом доме, Павел поднял бокал шампанского и сказал: «Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего доброго».
Однако вскоре наветами недоброжелателей, обвинивших Зубова во многих злоупотреблениях, допущенных им в минувшее царствование, был он выслан за границу.
Вернувшись недавно в Петербург, был Платон Зубов снова прощен государем и теперь, сказал Беннигсен, ждет и брата Валериана, который тоже прощен государем, но пока еще живет в какой-то своей деревне.
— А что Николай? — спросил Барклай. — Он где?
— Здесь, в Петербурге, — коротко ответил Леонтий Леонтьевич и почему-то, как показалось Барклаю, опасливо и настороженно скользнул по нему взглядом. — Ну, — сказал Беннигсен затем, — может быть, и ты расскажешь мне о своих делах? — И это старое «ты» прозвучало в его устах как утверждение их давнего товарищества, когда существовали меж ними отношения старшего и младшего, окрашенные, однако же, дружеским расположением.
Барклай коротко рассказал о прошедшем десятилетии, сказал о деле, по которому приехал в Петербург, упомянув и о визите к Палену. Последнее обстоятельство почему-то особенно заинтересовало Леонтия Леонтьевича, но когда он узнал, что больше Барклай с Паленом не встречался, интерес его как-то угас, и расстались они почему-то уже не столь сердечно, как встретились.
Вскоре после этой встречи, подгадав к Рождеству, Барклай уехал к себе в полк.
Там немного погодя узнал он с совершеннейшей достоверностью, что с Дона на восток ушли неизвестно куда и неизвестно зачем сорок тысяч казаков.
Говорили, что повел их в беспримерный зимний поход атаман Платов, о котором приходилось слышать Барклаю разное, даже и то, будто был он недавно посажен в секретный каземат Петропавловки.
А вслед за тем пришла и еще более нежданная, громоподобная весть — в ночь с 11 на 12 марта 1801 года скоропостижно, от апоплексического удара скончался император Павел Петрович. Так говорилось в присланном в полк Высочайшем Манифесте, который подписал новый император всероссийский Александр.
По старому государственному регламенту, по получении такого Манифеста следовало учинить присягу на верность новому монарху, что и было незамедлительно совершено.
Сразу же дошли до Полангена и слухи о совсем иной причине смерти Павла Петровича — о заговоре. И среди тех, кто был среди зачинщиков и руководителей заговора и убийц государя, стали называть Палена и Беннигсена.
Однако же среди тех, кто сменил на вершинах власти любимцев покойного императора, их не было, зато появились новые имена — генерал-прокурора Беклешова, канцлера графа Панина, государственного казначея барона Васильева.
Через месяц после того узнали, что донцы Платова идут обратно и что их поход, целью которого, как стало известно, была Индия, благоразумно прекращен молодым государем.
А потом одна за другой посыпались еще более отрадные новости. Александр отказался от притязаний на Мальту и уже через три месяца утвердил конвенцию о дружбе с Англией.
Еще раньше были восстановлены дипломатические отношения с Австрией, и, подчеркивая незыблемость старой дружбы с домом Габсбургов, в Вену поехал прежний посол — граф Алексей Кириллович Разумовский.
Одновременно Александр протянул руку дружбы и Франции, прекратив все войны, доставшиеся в наследство ему от безумного отца.
А осенью 1801 года на посту канцлера вместо старика Панина появился и новый руководитель внешнеполитического ведомства — граф Виктор Павлович Кочубей, олицетворявший новую эпоху в иностранной политике России, ибо он призывал императора не заключать более никаких военных союзов, ограничившись лишь торговыми соглашениями.
Среди военных потомок легендарного Кочубея пользовался дурной славой якобинца и, что еще хуже, несгибаемого миролюбца. А что может быть для военных вреднее и гибельнее канцлера-миротворца?
Вступив в должность, Кочубей с согласия Александра разослал российским послам во всех странах такой меморандум: «Россия достаточно велика и могущественна пространством, населением и положением. Она безопасна со всех сторон, лишь бы сама оставляла других в покое. Она слишком часто и без малейшего повода вмешивалась в дела, прямо до нее не касавшиеся. Никакое событие не могло произойти в Европе без того, чтобы она не предъявляла притязания на участие в нем. Она вела войны бесполезные и дорого ей стоившие. Благодаря счастливому своему положению император может пребывать в дружбе с целым миром и заняться исключительно внутренними преобразованиями, не опасаясь, чтобы кто-либо дерзнул потревожить его среди этих благородных и спасительных трудов. Внутри самой себя предстоит России совершить громадные завоевания, установив порядок, бережливость, справедливость во всех концах обширной империи, содействуя процветанию земледелия, торговли и промышленности.
Какое дело многочисленному населению России до дел Европы и до войн, из них проистекающих? Она не извлекла из них ни малейшей пользы».
Такой взгляд на важнейшие предметы для бытия России был близок молодому императору, в первые же дни своего царствования надевшему на себя мантию миротворца и предпочтившему мечу лавровую ветвь. Но все мирные намерения рухнули, не просуществовав и года.
20 мая 1802 года Александр отправился из Петербурга в первую свою заграничную поездку. Путь государя лежал в Мемель, к любезному его сердцу прусскому королю Фридриху Вильгельму III и его очаровательной супруге Луизе, которую не только придворные льстецы называли «волшебницей и феей».
24 мая царь с небольшой свитой приехал в Ригу, побывал в театре и на балу, данном в его честь, а потом до трех часов ночи читал государственные бумаги. На следующее утро уже в семь часов видели его ездившим по городу верхом, в девять — на вахт-параде. К полудню был он в старом орденском замке, принимая офицеров рижского гарнизона, а после того — на обедне в соборе. В обед принял он в замке дворян, купцов и бюргеров Риги, получив в подарок серебряный кубок, из которого почти сто лет назад пил в этом же зале Петр Великий. После обеда осмотрел царь крепость, ратушу, приюты и богадельню, а потом посетил водяную мельницу, библиотеку и музей. Оказавшись на мельнице, пожаловал Александр и в дом к мельнику, а в библиотеке попросил позволения почитать собственноручные письма Лютера.
В восемь часов открыл император бал, на котором танцевало сто пятьдесят пар, и, расточая улыбки и коммплименты, до полуночи танцевал и сам, а потом снова до трех часов ночи читал и писал и уже в семь утра был в церкви, где крестил сына генерал-майора Языкова, названного в честь крестного отца Александром.
Проведя смотр Таврического гренадерского полка, откушал государь чай в доме гражданского губернатора Рихтера и отправился дальше — в Митаву.
В Полангене ожидали визита Александра, но он проехал южной дорогой и уже 29 мая прибыл в Мемель.
А обо всем, что случилось в Риге, в Подангене тут же узнали и из писем родственников, и от приехавших из Курляндии факторов и искренне радовались тому, что наконец-то на российском престоле оказался столь добрый и трудолюбивый царь.
Приехал Александр в Мемель — город, соседний с Полангеном и отделенный от него границей более чем условной, через которую и торговцы, и иные партикулярные граждане ходили безо всякого стеснения, ибо Пруссия была державою дружественной и «контрабандный» товар был здесь большою редкостью. И приходили из Мемеля в Поланген новости о пребывании там их императорского и их королевских величеств столь же скоро, сколь скорой оказывалась фельдъегерская почта.
Однако, зная о чисто внешних событиях, которыми сопровождалась встреча, — о балах, парадах, прогулках, обедах, — почти никто, кроме двух-трех десятков ближайших к монархам придворных, не знал, что Александр буквально потерял голову из-за прусской волшебницы и феи.
С этих пор царь перестал рассматривать Пруссию как политическую единицу, как государство, у которого могут быть свои, отличные от России цели, задачи и интересы, и стал смотреть на нее сквозь магический кристалл своего восторженно-влюбленного отношения к Луизе.
Отсюда по отношению к Пруссии у Александра появились особые мерки, и все это в конце концов привело Россию к последствиям сколь непредвиденным, столь и трагическим, которые дали о себе знать не сразу, зато весьма основательно.
Вернувшись в Петербург, Александр, кроме массы дел по внутреннему переустройству империи, должен был разобрать и не меньшее количество дел внешнеполитических. Здесь в центре вновь оказалась Франция. 2 августа 1802 года всенародным плебисцитом, при котором миллионы голосов были поданы за Бонапарта и лишь восемь тысяч — против, он был избран пожизненным консулом Франции.
Дальнейшее движение Бонапарта к укреплению единоличного господства над собственной страной и к установлению почти столь же авторитарной гегемонии над почти всеми другими государствами Европы оказалось стремительным и неотвратимым.
Превратившись в диктатора с неограниченными правами, Бонапарт оформил свою власть так, как уже многие столетия не удавалось никому в мире: 2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам он сам возложил себе на голову императорскую корону, приняв титул императора французов.
Новый император не был в глазах европейцев мудрым философом-миролюбцем, каким остался в анналах истории, например, Марк Аврелий: он явился перед ними в пурпурной тоге Юлия Цезаря, с мечом, обагренным кровью германцев, бриттов и склавинов. Остановить его могла только объединенная Европа. Она и сплотилась в Третью коалицию, состоявшую из России, Австрии, Англии и Швеции. 28 июля 1805 года подписанием союзного трактата Россией и Австрией создание Третьей коалиции было завершено.
И стало ясно, что новая большая война — не за горами.
Глава вторая ОТ АУСТЕРЛИЦА ДО ЭЙЛАУ
Об эту пору Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов жил в своем житомирском имении Горошки, подаренном ему покойной государыней Екатериной Алексеевной за последний Польский поход.
Приехал он сюда не по своей воле. Всему перед тем с ним случившемуся была своя история.
11 марта 1801 года, в последний день жизни и царствования Павла Петровича, был он зван к государеву столу. Ведено было прийти и старшей его дочери Прасковье Толстой, кою император любил и даже двум ее сыновьям был крестным отцом. Из-за приязни государя, а также, разумеется, и из-за заслуг Михаила Ларионовича была Прасковья статс-дамой императрицы Марии Федоровны.
За ужином собралось вместе с сидевшей во главе стола августейшей четой девятнадцать человек. Были старшие сыновья государя с их женами, прелестными молодыми дамами — Елизаветой и Анной, была пятнадцатилетняя дочь государя Мария, а из молодых статс-дам, кроме Прасковьи, сидела среди гостей графиня Пален. Мужа ее не было, по-видимому, из-за великих забот, от которых не знал он покоя ни днем ни ночью. Было и еще с полдюжины других придворных.
Кутузову показалось, что, вопреки обыкновению, государь заметно пьян и более, чем всегда, сумрачен. Кутузов обратил внимание и на то, что столь же сумрачен и очень печален был цесаревич Александр.
Потом государь повеселел, стал шутить с дамами, особенно охотно с Прасковьей, и в разговорах с гостями не обошел и отчего-то загрустившего сына.
— Не болен ли ты? — спросил государь участливо.
— Благодарю вас, ваше величество, я чувствую себя хорошо, — как всегда, почтительно, но сильно побледнев, ответил Александр.
— А я сегодня видел неприятный сон, — сказал Павел. — Мне приснилось, что на меня натягивают тесный парчовый кафтан и мне больно в нем.
После этих слов Александр побледнел еще более. Павел первым встал из-за стола и пошел к себе в спальню. Еще не дойдя до двери столовой, он остановился возле Кутузова и сказал, смеясь:
— Погляди, Михаила Ларионыч, в зеркало. Кутузов взглянул, увидел в нем отражение государя и свое собственное и вопросительно посмотрел на Павла.
— Странное зеркало, я вижу в нем свою шею свернутой, — сказал Павел и загадочно усмехнулся.
И с тем, как-то театрально всем поклонившись, ушел. На следующий день Кутузов узнал, что государь мертв. Он конечно же не поверил ни одному слову Манифеста — слишком тесны были его связи с дворцом, слишком умен и многоопытен он был, чтобы принять за чистую монету сказанное в Манифесте. И все же то, что во главе заговора стоял Пален, а особенно то, что о заговоре знали и Александр и Константин, оказалось и для него неожиданностью, причем крайне неприятной, ибо здесь налицо было наряду с низким коварством и гнусным предательством еще и нечто худшее, такое, что Кутузов, солдат и христианин, оценил не просто как преступление, но и как величайший смертный грех, ибо было содеянное не только цареубийством, но и, что еще хуже, отцеубийством.
И все благородные поступки нового императора — амнистию, уничтожение Тайной канцелярии, пенсии вдовам, призрение сирот, возвращение в службу изгнанных Павлом офицеров и чиновников и многое другое — Кутузов воспринимал как стремление заглушить муки совести сына-отцеубийцы.
И летом того же года император отослал в курляндские имения Палена, лишив его поста петербургского военного губернатора, и назначил на него Кутузова.
Кроме основных обязанностей военного губернатора, пришлось Кутузову заниматься и множеством иных. Он встречал иноземных принцев, принимал меры по охране колодников, когда отправили их сплавлять лес для Петербурга, отдавал под суд изуверов-помещиков, посылал гусар и казаков ловить в уездах столичной губернии бродяг и беглых, искоренял азартную карточную игру, кою государь совершенно не терпел, считая ее «открытым грабительством, когда бесчестные хищники одним ударом исторгают у несчастных достояние предков, веками службы и трудов уготованное», а также следил и за тем, чтоб нс было в полках дуэлей и иных нарушений порядка, спокойствия и благочиния.
И вот в сонме этих забот и непрерывных беспокойств не придал он особого значения тому, что у графини Салтыковой сбежал ее крепостной человек, тупейный художник, мастерством коего она очень дорожила. Ловкого парикмахера так и не нашли. Графиня пожаловалась на нерасторопность Кутузова государю, и тот бегство одного крепостного человека возвел в абсолют и всю деятельность петербургской полиции, которая Кутузову подчинялась, признал негодной.
Тот же час Кутузов был смещен, и на место его прибыл генерал-адъютант граф Комаровский, а через неделю он и вовсе был от службы отставлен.
Кутузов вспомнил, что случившееся поразило его: он не ждал от царя такой неблагодарности, не видел в допущенном проступка столь значительного, чтоб можно было за него карать так строго его, старого, израненного генерала, у которого было огромное семейство, о чем государь прекрасно знал.
Он уехал в Горошки и поселился там в своем доме, стоящем на холме неподалеку от церкви. Внизу протекала тихая, красивая речка Икша, а из окон видны были неохватные дали — луга и леса до самого окоема.
Здесь погрузился он в тот мир, который любил более всего: в мир нив и пажитей, на которых зрели хлеба и пасся скот; в мир ласковых восходов и тихих закатов; в мир трудолюбия, бесхитростности, составлявших в совокупности то, что зовут иногда деревенской идиллией, а порой и пастушеской пасторалью, но что на самом деле и представляет подлинную гармонию человеческого бытия, ибо человек и природа сливаются здесь в единое целое.
И когда бродил Кутузов по полям и лесам, или стоял в церкви, или предавался филозофическим раздумьям, то нередко приходила к нему мысль, что не военачальником надо было ему становиться, а быть простым, обыкновенным помещиком, какими были его многочисленные псковские родственники, ибо не знал он большей радости, чем семья — дочери, внуки, жена, зятья, и уж конечно огонь домашнего камина не променял бы он на бивачные костры, у которых собирались его мужественные комбатанты.
Порой признавался он себе, что, должно быть, становится старым, что все труднее ездить ему в седле, что болят суставы — обычная болезнь всех ветеранов, многие годы проведших под дождем и снегом. И все же в глубине души затаилась у него обида на государя — слишком бесцеремонно и безжалостно отлучил его от армии, которой сердце его принадлежало не менее, чем жене и детям.
Но чем дольше жил он в деревне, тем чаще новый образ жизни стал выявлять свои изъяны: эконом хотя и был в своем деле профессор, но против его ума и сноровки недоставало ему хотя бы наполовину честности, и мужики на поверку оказались не буколическими пейзанами, а нерадивцами да бражниками, не упускавшими к тому же случая непременно что-нибудь стянуть.
Управляющий другим его житомирским имением, Райгородком, был и вовсе мошенник, и оттого деревенская жизнь становилась для Кутузова и вовсе несносной.
А потом дела оказались и совсем дрянными — и выходило, что вести дипломатические дела при султанском дворе и даже командовать корпусом проще, нежели управлять хозяйством в простой сельской экономии.
Устроить винокурню на восемь котлов не мог он целый год, завести порядочную пивоварню тоже не удалось, стоял недостроенным и селитренный заводик, и пришлось продавать строевой лес на вырубку, а отходы от лесоповала, смешав с травой, пережигать на потацК Но все это денег почти не давало, а Екатерина Ильинична и дочери — статс-дамы и фрейлины — требовали все больших сумм, и от всего этого пришел Михаил Илларионович в состояние, близкое к отчаянию.
Невольно вспоминал он и Суворова в Кончанском, и многих иных, оказавшихся в свое время в отставке: Кнор-ринга, Буксгевдена, Беннигсена, даже Палена.
Ко всем бедам пал на него и Божий гнев. А как иначе следовало расценить то, что дважды за три года выгорало большое село его Райгородок, где кроме тысячи домов сгорело сто лавок и сорок кабаков? Как отнестись к тому, что из тех же трех лет два года были неурожайными и он раздал мужикам даром и хлеб, что был приготовлен на продажу, и сено, и солому, не считая немалых денег на погорельцев? Как было понимать, что прямо из дома кто-то из слуг украл шкатулку с десятью тысячами рублей?
И вдруг примчался в Горошки фельдъегерь и вручил ему ордер — быть на государевом смотре.
Смотр обернулся маневрами, причем одною стороной командовал царь, а другою — он, Кутузов.
Было у каждой из сторон по двенадцать Полков, и государь маневрами остался доволен, но заключительным смотром командовал уже не Кутузов, а Константин Павлович, и дело кончилось устною высочайшею благодарностью, после чего, окрыленный было надеждою, полководец вынужден был отъехать в свои деревни варить пиво и пережигать на поташ траву и деревья.
И уже казалось ему, что теперь пробудет он в Горошках этаким уездным Цинциннатом — скромным, доблестным гражданином, презревшим свет и удалившимся в деревню. Казалось, что и умрет он здесь, среди местных знатоков Священного Писания, отставных секунд-майоров, необычайно гордых знакомством с ним, и их жен — провинциальных львиц, перебрасывавшихся с его высокопревосходительством французскими любезностями.
А ему до чертиков надоели и побитые молью секунд-майоры, и захолустные жеманницы, и соседи-помещики, чья жизнь проходила на конских ярмарках, в спорах с прасолами и перекупщиками, в карточных играх, псовых охотах и истинно русской богатырской потехе — вечном борении с зеленым змием.
Конечно же он, как и за пять лет перед тем Суворов, неотрывно следил за всем, что происходило и в Петербурге, и в других столицах, читал газеты, но более всего узнавал из множества приходящих к нему писем.
Он знал, что Бонапарт, став императором, еще более укрепил и увеличил свою армию, собрав ее на берегах Ла-Манша, в Булони, чтобы в один далеко не прекрасный для англичан день перепрыгнуть из Франции на Британские острова и поставить гордый Альбион на колени. Он чувствовал, что гроза сгущается и молнии вот-вот сверкнут. И когда услышал он звон колокольчика фельдъегерской тройки, то знал уже наверное — это за ним.
И, все же порядочно волнуясь, сломал он печати на конверте и, напрягая зрение, прочел: «Михаил Ларионо-вич! Избрав Вас к командованию Первою армиею, в австрийские пределы вступить долженствующую, были понуждены мы к сему испытанным благоразумием и усердием Вашим, искусством, соединенным с храбростию, и известною любовью Вашей к славе Отечества… Александр».
Он ехал к Могилеву, а уже фельдъегери государя и фельдъегери из его пятидесятитысячной 1-й армии, называвшейся также и Подольской, спешили ему наперерез с приказами, донесениями, письмами, сообщая, где теперь его колонны, которым 23 августа надлежало выйти к границе с Баварией. Кутузов читал депеши, которые посылали ему командиры колонн — Багратион, Витгенштейн, Дохтуров, Милорадович, обстрелянные боевые генералы, побывавшие и в Италии, и в Швейцарии, и в Польше, и в Швеции, дравшиеся под знаменами Румянцева, Потемкина и Суворова, бывавшие и его соратниками, и был уверен, что противнику несдобровать.
Почти столько же бумаг получал он и от военно-полевой службы пятидесятитысячной 2-й армии, называвшейся Волынской, командующим которой был соратник Суворова по подавлению пугачевского бунта Иван Иванович Михельсон, побывавший с тех пор во многих кампаниях.
31 августа Кутузов пересек русско-австрийскую границу и через девять дней в местечке Мысленице догнал армию.
Здесь получил он от австрийского императора строжайший приказ ускорить движение. Император требовал увеличить дневные переходы в два раза, обещая удвоить фуражный рацион лошадям, ибо пехоту везли на телегах, и артиллерия шла на конной тяге, и кавалерия, само собой, тоже шла на лошадях.
Михаил Илларионович чуть вздохнул, Прочитав столь странную сентенцию, и в самых осторожных выражениях поделился с королем Францем своими предположениями, что резвость не всегда прибывает в той же пропорции, что И рационы.
На деле же и прежние, одинарные рационы в армию не поступали. Провиант для солдат шел и того хуже, пушки были неизвестно где — по-видимому, там же, где и бомбы к ним, ибо ни пороха, ни снарядов тоже не приходило.
Застряли где-то в пути лазареты, кажется, заблудились команды ремонтеров со сменой лошадей, исправно поступали только приказы Гофкригсрата, и из-за всего этого Кутузов поехал в Вену. Аудиенция у императора была короткой и практически бесплодной.
Кутузов быстро возвратился к армии, назначив местом сбора всех войск Браунау.
Самым же полезным в его визите было то, что он узнал, где находятся и куда идут корпуса Наполеона, ибо, как только Бонапарту стало известно о выступлении русских войск, его войска пришли в движение.
Булонский лагерь, создававшийся Наполеонов на берегах Ла-Манша два года и представлявший смертную угрозу Англии, прекратил свое существование в считанные дни. Стоило только Напплеону получить известие, что армии Кутузова и Михельсона отправились на помощь Австрии, как он тут же отдал приказ идти на Вену.
Большая армия, насчитывающая более двухсот тысяч солдат и офицеров, была построена в семь корпусов и отдельную когорту Старой гвардии.
Во главе корпусов шли лучшие военачальники Наполеона, получившие звания маршалов Франции накануне его коронации. Это были Жан-Батист Бернадот, Луи-Никола Даву, Никола-Жан Сульт, Жан Ланн, Мишель Ней, Пьер-Франсуа Ожеро и единственный среди них дивизионный генерал, но все же будущий маршал — Огюст Фредерик Мармон.
Почти всю кавалерию, сорок четыре тысячи всадников, вел маршал Иоахим Мюрат, зять императора, женатый на сестре его Каролине.
Корпуса двигались с точностью хорошо отлаженного часового механизма. Они шли разными дорогами, но график их движения был так отработан, что в один и тот же день они оказались почти в одной точке на берегу Дуная, вокруг крепости Ульм.
Кутузов ехал в Браунау, когда вдруг получил известие, что идти к Ульму его армии уже поздно — 20 октября, а по русскому юлианскому календарю 8-го, Макк капитулировал, сдав всю свою армию.
Кутузов был поражен, когда в Браунау в его штабе появился и сам фельдмаршал Карл Макк фон Лайберих.
За обедом, устроенным в его честь, Макк рассказал, что Наполеон, получив из его рук шпагу и акт о капитуляции, долго и дружески беседовал с ним, после чего отпустил из плена под честное слово. Макк сказал всем сидящим за столом генералам, что превосходящие силы противника со дня на день могут оказаться у Браунау и окружить русскую армию.
Кутузов точно так же оценивал создавшуюся обстановку, и потому 1-я армия начала отход, ставя перед собою задачу соединиться со 2-й армией Михельсона.
Кутузов, назначив в арьергард Багратиона, стал отходить по южному берегу Дуная на восток, а князь Петр Иванович вскоре же столкнулся с авангардом наполеоновских войск и повел с ними упорные бои, давая главным силам спокойно и в порядке совершать ретираду.
Кроме двух армий, отправленных в Австрию, в Литве и Белоруссии стояла еще одна — армия Беннигсена. Она зыла почти обсервационной, то есть наблюдающей. Обсервационные армии чаще всего выдвигались на границу к. соседнему государству, которое было ненадежным или колеблющимся, чтобы наблюдать за его армией и не дать противнику использовать территорию этого государства для нападения.
Таким государством на сей раз была Пруссия. Чтобы нейтрализовать ее, армия Беннигсена развернулась в Литве и Польше, а из Кронштадта в Штральзунд и к острову Рюген вышла эскадра с шестнадцатитысячным десантом под командой генерала графа Петра Александровича Толстого — друга императора Александра и командира Преображенского полка.
Барклаю в новой войне вновь досталась роль постороннего свидетеля, обреченного на то, чтобы следить за войной. Хотя его полк тоже считался в походе, но все еще стоял в Полангене, ожидая приказа к выступлению.
Егеря Барклая входили в тридцатитысячную Третью армию Беннигсена, но армия не могла двинуться с места, потому что Фридрих Вильгельм, до смерти боявшийся Наполеона, не разрешал русским, сокращая путь к Ульму, пройти по территории Пруссии.
И лишь когда на землю Пруссии вступил без всякого на то разрешения корпус маршала Бернадота и пошел к Дунаю, как по своей собственной территории, король разрешил и Беннигсену перейти прусскую границу. 3-я армия повернула на юг, направляясь через Пруссию и Польшу к единому пункту сбора с армиями Кутузова и Михелъсона.
Александр, отслужив 9 сентября в Казанском соборе молебен, отправился в действующую армию, чтобы через сто лет после Петра Великого впервые стать во главе русских войск и повести их в бой.
Однако перед тем решил он заехать в Берлин к Фридриху Вильгельму, чтобы все же склонить его к участию в войне с Наполеоном.
Еще не склонив прусского короля к союзу, Александр переподчинил 2-ю армию генералу от инфантерии Буксгевдену, отправив Михельсона в Молдавию, где назревала новая война с турками.
Кутузов, узнав о произошедшей перестановке, остался доволен и ею. Фридрих Буксгевден, на русский лад писавшийся Федором Федоровичем, был тремя годами младше Кутузова и учился в одном с ним кадетском корпусе, потом пути их пересеклись под Вендорами и Браиловом, где был Федор Федорович тяжко ранен и награжден первым своим Георгием. После того воевал он со шведами, и за битву при Роченсальме снова стал Георгиевским кавалером. Отличился он и при штурме Праги, за что Суворов назначил его комендантом Варшавы.
В день коронации возвел его Павел в графское Российской империи достоинство, но вскоре оказался он I немилости и был отправлен в деревню.
На собственную свою погибель назначил государь на место Буксгевдена фон дёр Палена, а верный Федор Федорович, ничего не подозревая, жил в своем имении, пока не произошла «коронная перемена», после чего был он возвращен в армию.
Теперь Буксгевден встал под команду Кутузова. Депеша о перемене в командовании 2-й армии пришла и в штаб Беннигсена, а оттуда узнал о том и Барклай. Он немало слышал о Буксгевдене, особенно о делах его при Роченсальме, но служить у него под началом Барклаю не пришлось, да и пока что лично его и 4-го егерского это не касалось, и Михаил Богданович просто принял к сведению известие о Буксгевдене, подумав только: «Если доведется быть с ним в деле, то и увижу, каков он и на что горазд».
А пока происходило все это, стало известно, что 13 октября Александр с триумфом въехал в Берлин, но на том победы его и кончились: Фридрих Вильгельм подписал секретную конвенцию о том, что Пруссия примыкает к Третьей коалиции, но воевать с французами пока не будет.
С тем и покинул Александр Берлин и помчался к императору Францу и своим армиям, что находились в австрийских владениях.
Обо всем этом Барклай узнавал вдали от театра военных действий и мог лишь переживать за государя, за Кутузова, за Буксгевдена.
С опозданием на две недели узнал он об арьергардных боях у Ламбиха, у Амштеттена, у Сен-Пельтена. Узнал он с тревожною радостью и о том, что 30 октября, у города Кремса, Кутузов одержал победу над маршалом Эдуардом Мортье, а вскоре же и о том, что Мюрат без боя занял Вену, откуда австрийский император бежал в Ольмюц, куда приехал Александр и где соединились обе русские армии.
У Барклая отлегло от сердца — по его подсчетам союзные войска превосходили противника чуть ли не в полтора раза. Как вдруг в конце ноября подобно грому среди ясного неба прогрохотало: Аустерлиц!
Весть об этом пришла в штаб Беннигсена, когда его армия подходила к Бреслау, преодолев уже две трети пути. А как только остановился штаб в самом городе, то стали приходить сначала слухи, потом письма с теми же вестями, наконец появились газеты. Правда, в них содержались известия, угодные правительству и потому с разговорами и слухами не во всем согласные.
Однако, сколь ни противоречивы были эти толки, Вскоре стало ясно, что под Аустерлицем произошла катастрофа и что русская армия потерпела такой разгром, Какого не знала она уже сто лет со времен Нарвы.
Говорили, что во всем виноваты австрийский гснерал-хвартирмейстер Вейротер, представивший двум императорам план предстоящего сражения, и сам государь, не послушавшийся Кутузова, который предлагал в сражение не вступать, пока не подойдут дополнительные силы.
Государь велел начинать, Кутузов возражать не осмелился, и бой начался.
Наполеон страшным и стремительным ударом на господствующие Праценские высоты захватил их, втащил туда свою артиллерию и буквально расстрелял армию союзников.
Потеряв только убитыми тридцать тысяч человек и почти все орудия, союзники побежали.
Говорили, что государь плакал, что он едва не попал в плен и перемирие с победителями заключал один Франц, чья столица была в ста верстах от Аустерлица.
Потом от людей, близких ко двору, довелось Барклаю узнать, что аустерлицкая катастрофа сильно изменила характер Александра: он стал подозрительным, строгим, не терпел возражений, не хотел знать правды, а из всех приближенных слушал одного лишь Аракчеева. Но поражение все же не образумило его до конца, и он решился продолжить борьбу с Наполеоном.
Тем более что Наполеон, поставивший Австрию на колени и находившийся на вершине могущества, заключил с Англией мир и перекроил карту Германии, создав из шестнадцати немецких государств так называемый Рейнский союз и объявив себя его протектором. Он посадил на престол Неаполитанского королевства своего брата Жозефа, на престол Нидерландов другого брата Людовика, а союзным ему владетелям Баварии и Вюртемберга дал титулы королей.
В сентябре 1806 года для нового противостояния Наполеону возникла еще одна коалиция — Четвертая, — в которую вошли: Россия, Англия, Швеция и Пруссия.
Наполеон начал с Пруссии. 14 октября 1806 года в один день он сам и маршал Даву в двух сражениях, происходивших при Иене и Ауэрштедте, наголову разгромили прусскую армию.
Тотчас же на помощь Пруссии двинулась армия Беннигсена. Теперь она состояла из семидесяти тысяч солдат и офицеров, имея около трехсот орудий.
4-й егерский был назначен в авангард и шел во главе армии. 22 октября Барклай в районе Гродно перешел через Неман и спустя неделю достиг Остроленки. Ареной предстоящей борьбы был гигантский равносторонний треугольник, северной оконечностью которого был Кенигсберг, западной — Тори и южной — Варшава. Район этот прикрывался полноводными реками: на юго-востоке — Наревом, на западе — Вислой, и был перерезан сотнями рек, речушек и ручьев, покрыт низкими лугами, болотами и озерами.
И Пруссия, по словам Наполеона, превратилась в океан непролазной слякоти, будто Господь создал, в дополнение к четырем стихиям, еще одну грязь.
Солдаты шли по пояс в воде, орудия тонули, и вытащить их было невозможно — постромки рвались, и лошади, выбиваясь из сил, могли кое-как тащить лишь обозные телеги и офицерские экипажи.
Во время этого марша Барклай узнал, что Наполеон вступил в Берлин, а прусский король мечется по своей стране, переезжая с семьей и кучкой придворных из города в город.
Наконец бездомный монарх добежал до Мемеля, самого восточного города своего королевства, расположившегося на русской границе и одновременно на берегу Балтийского моря. Если бы предстояло совершить вынужденное морское путешествие, это было бы удобно.
К началу зимы на театре военных действий оказалось три армии Беннигсена, назначенного ему в резерв Буксгевдена и резервной Эссена-первого.
В их рядах было сто шестьдесят тысяч человек и около тысячи орудий, но главнокомандующего не было. И даже поэтому противостоять Наполеону они не могли.
Александр прекрасно понимал, насколько уязвима в этом отношении его армия, но остановить выбор на каком-либо генерале не решался. Кутузов после Аустерлица вновь оказался в опале, а никакой равноценной замены ему не было.
В конце концов царь назначил главнокомандующим семидесятилетнего фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского.
Барклай в эти дни стоял в Плоцке, а его пятитысячный отряд прикрывал многоверстный фронт между Торном и Вислой. Пикеты Барклая рыскали по западному берегу Вислы, собирая сведения о движениях французов, а еще более — отыскивая провиант и фураж.
Вскоре Барклай получил известие, что прямо на него идут корпуса маршалов Сульта и Ожеро. Одновременно ему сообщили, что вся армия Беннигсена начала отступление и, таким образом, его отряд из авангарда превращается в арьергард.
12 декабря Ожеро вступил с отрядом Барклая в бой. Михаил Богданович волновался, не зная, как выдержит он новое испытание огнем, ибо то, что было когда-то, отделялось от сегодняшнего дня двенадцатью годами мирной жизни, и ему самому, а тем более его солдатам либо давным-давно, либо вообще ни разу не доводилось слышать никаких иных выстрелов, кроме тех, что раздавались на стрельбищах.
Но бой начался, и волнение как рукой сняло.
На сей раз плыть пришлось весь день, да и река оказалась бурной французы навалились плотно, почти со всех сторон, и Барклай больше всего опасался окружения. Однако и уходить он не мог, потому что знал наверное на помощь ему идут подкрепления. Но помощь завязла где-то в болотах, и с наступлением темноты он отдал приказ отступать.
По дороге он нагнал 2-ю дивизию генерал-лейтенанта Остермана-Толстого, шедшую к Пултуску, куда сходились главные силы армии и куда устремился, наперерез им, корпус маршала Ланна. Но русские опередили его и в девять часов утра пришли в Пултуск. Барклай же в город не входил — он занял позиции западнее его и стал ждать противника на оконечности правого фланга, спрятав в лесу четыре находившихся в его команде пехотных полка и пять эскадронов улан.
Близко к ночи в Пултуск прибыл главнокомандующий. Он еще с дороги послал депешу, попросив никакой встречи ему не делать, и потому появился в штабе почти незаметно.
Сбросив заячий тулупчик, что был по-стариковски натянут поверх шинели, Михаил Федотыч проскользнул в кабинет Беннигсена, где ждал его и Буксгевден. Первым делом рассмотрели они диспозицию предстоящей завтра баталии, и Каменский решениями Беннигсена остался доволен. Буксгевдену же приказал немедленно ехать к войскам, указав ему быть в Макове, в десяти верстах от Пултуска.
Была уже полночь, стоял изрядный мороз, но Буксгевден не хотел начинать отношения с главнокомандующим с непослушания и скрепя сердце вышел в холодную тьму. А Беннигсен и Каменский разошлись по своим дортуарам.
Вдруг в три часа ночи дверь в спальне Леонтия Леонтьевича тихонечко растворилась, и он, проснувшись, увидел на пороге незнакомого офицера с горящею свечою в руке.
Офицер, изрядно смущаясь и почти шепотом прося прощения за доставленное неудобство, представился адъютантом главнокомандующего и попросил пожаловать к фельдмаршалу в опочивальню.
Беннигсен спросонья не понял, о чем идет речь, и спросил грубо:
— Да в уме ли ты, братец?
— Так точно, ваше высокопревосходительство, я-то в уме, — с некою двусмысленностью, уже уловленной приходящим в себя Беннигсеном, проговорил адъютант и настойчиво повторил: — А вы, ваше высокопревосходительство, все же извольте к господину главнокомандующему пожаловать.
И с тем ушел. А следом за ним пошел к старому чудаку и Леонтий Леонтьевич.
Адъютант ждал за дверью и пошел впереди, освещая ему путь. Подойдя к комнате Каменского, он открыл дверь и остался стоять в коридоре.
Фельдмаршал, уже одетый в мундир и сапоги, сидел на разостланной постели, держа в руках какую-то бумагу.
— Вот, ваше высокопревосходительство, приказ по армии. Сим объявляю я об отходе всех войск в Россию.
Беннигсен подумал, что ослышался, затем сразу же решил, что фельдмаршал сошел с ума, но тут же сообразил, что если это и так, то ему-то все случившееся в профит, ведь тогда командующим остается он.
— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! — по уставу отрубил Беннигсен. — Когда прикажете огласить приказ?
— Да вот поутру и огласите, Леонтий Леонтьевич, — проговорил Каменский устало. — Ну да Бог с вами. — И вяло махнул рукой, показывая, что разговор окончен, — Мне еще надобно к государю о сем писать.
Беннигсен ушел к себе и стал читать приказ. «Я ранен, верхом ездить не могу, следственно, и командовать армией. Вы корд’арме ваш привели разбитый в Пултуск: тут оно открыто, и без дров, и без фуража, потому пособить надо, и так как вчера отнеслись к графу Буксгевдену, думать должно о ретираде к нашей границе, что и выполнить сегодня». «Бред какой-то», — подумал Беннигсен и стал читать дальше: «Генералу от кавалерии Беннигсену состоять в команде графа Буксгевдена».
«Разве можно оглашать перед армией такую галиматью?» — подумал Леонтий Леонтьевич и решил, что приказ этот он утаит, чтобы не вносить в умы ненужную сумятицу, тем более что поутру предстоит генеральное сражение.
Но человек предполагает, а Бог располагает, и Господу было угодно, чтобы сам главнокомандующий учинил на прощание не то что сумятицу, а настоящее светопреставление.
Чтобы проводить фельдмаршала, велел Беннигсен выстроить гренадерский батальон. Граф появился перед ним в заячьем тулупчике, с головою, повязанной бабьим платком.
Затем он взошел в коляску, но вдруг велел подвести ему коня и, взгромоздившись с помощью адъютанта в седло, закричал:
— Солдаты! Вас предали и продали! Все потеряно, и вам лучше бежать домой. Я убегаю первым!
После чего дал коню шпоры и помчался прочь, а за ним покатила коляска с адъютантами.
В этот же самый день разгорелось сражение за Пултуск. Прямо на центр русских позиций шли две дивизии Ланна. На острие их атаки стоял отряд генерал-лейтенанта Багговута, но и по отряду Барклая тоже наносился удар.
Французы шли стремительно и безостановочно, их не мог остановить ни ружейный, ни артиллерийский огонь.
«Да, это не турки и не поляки», — подумал Барклай, хотя среди и тех и других встречал он немало смельчаков. Его егеря не могли сдержать солдат Ланна и оставили батарею.
Тогда он сам повел их в контратаку, прибегнув к наиболее сильному русскому средству — удару в штыки. Бой закипел по всей позиции, на помощь егерям подошли полки Черниговский и Литовский, силы противников и их бесстрашие оказались равными, они дрались до темноты и разошлись только из-за того, что уже не видели друг друга.
Это был первый случай, когда французы не смогли сломить противника, и именно со дня сражения под Пултуском для наполеоновской армии начался отсчет полууспехов.
Так же храбро и стойко дрались и в дивизиях Остермана-Толстого, и в дивизии Остен-Сакена, стоявших на соседних участках.
Поскольку поле боя осталось за русскими, Беннигсен сообщил Александру о своей победе, причем написал, что побит им не маршал Ланн, а сам Наполеон.
А Наполеон, «разбитый» победоносным Беннигсеном, но ничего о том не подозревавший, стоял в двадцати верстах от Пултуска и через четыре часа после того, как гонцы с победной реляцией помчались в Петербург, вышел в тыл новоиспеченному триумфатору. Беннигсену не оставалось ничего иного, как начать ретираду.
Отступление длилось две недели, но 2 января, получив рескрипт Александра о награждении Георгием 2-й степени и пятьюдесятью тысячами рублей и, что самое важное, о назначении главнокомандующим, Беннигсен остановил армию и через два дня пошел навстречу противнику, который неожиданно начал отступать.
Начинался новый, 1807 год. Глубокие снега лежали вокруг новогодних елок, метели обвевали их со всех сторон, и сквозь сугробы и вихри шли по лесам Восточной Пруссии десятки тысяч заиндевевших солдат, и покрытые инеем косматые лошади тащили обледеневшие обозы и пушки.
В тот же день новый главнокомандующий назначил Барклая командиром авангарда левого крыла.
…Теперь уже семь полков — три егерских, пехотный, гусарский, два казачьих — и рота конной артиллерии назначались ему в команду.
Первая сшибка произошла 12 января. Барклаю привели двух пленных французских капитанов, обескураженных случившимся. Он спросил у пленных, почему их войска отступают, и один из них сказал, что не знает, а второй предположил, что это — маневр, и когда корпуса соберутся в одном месте, то тогда-то и произойдет генеральное сражение. Барклай мысленно согласился с пленным. Он и сам так думал, потому что излюбленным приемом и, более того, одним из важнейших принципов тактики Наполеона было движение корпусов поблизости друг от друга и мгновенное создание мощного кулака в любой подходящий для удара момент.
И стало быть, распыление сил, французам противостоящих, было для их противника делом смертельно опасным.
Так оно и случилось: 22 января главные силы Наполеона вышли во фланг армии Беннигсена, пытавшейся наступать в Старой Пруссии, Авангард Барклая тут же превратился в арьергард и первым столкнулся с противником.
Шеститысячный отряд был атакован силами, втрое его превосходящими, дрался целый день, но на следующее утро все же отступил к местечку Янково.
Сюда же чуть раньше прибыл со своей дивизией Багратион. Барклай немедленно явился с докладом к нему, чтобы занять место, которое определит ему князь. Прямо в дверях встретил его курносый чернявый малыш поручик щегольском лейб-гусарском мундире, как оказалось, адъютант Багратиона.
Докладывать не пришлось — услышав голос Барклая, Петр Иванович сам вышел из соседней горницы.
Уединившись, генералы коротко рассказали друг другу о событиях последних дней. Барклай был немногословен, потому что, как следовало из начавшегося меж ними разговора, Багратион внимательно следил за его отрядом и знал обо всем с ним произошедшем. Зато Багратион поведал ему то, чего не знал почти никто.
Оказывается, 20 января к Багратиону привезли двух взятых в плен курьеров, перехваченных с какими-то важными бумагами.
— Я ведь французскому не обучен, — вдруг признался Багратион, нисколько, впрочем, не смущаясь, а даже будто бравируя, — и потому и эти бумаги тоже попросил перевести. — И вдруг крикнул: — Денис! Зайди!
Чернявый поручик тут же возник в дверях и, лихо звякнув шпорами, с веселой готовностью и привычным обожанием воззрился на своего командира.
— Скажи-ка, Денис, как в той депеше, что переводил ты пару дней назад, именовали друг друга маршалы Бертье и Бернадот?
— Бертье поименован был князем Невшательским и герцогом Валанженским, а Бернадот — князем Понте-Корво, ваше превосходительство. Багратион отпустил адъютанта и продолжил:
— Хорошо, что адъютант мой не по годам во многом сведущ и депеша эта — от начальника штаба Наполеона к командиру корпуса. А дальше выяснилось, что в бумаге изложен план всей нынешней кампании и что по плану сему завтра утром начнут главные силы во главе с самим Наполеоном движение на Алленштайн во фланг моей дивизии. Я тут же отослал и депешу и пленных в штаб армии, но ответа ждать не стал, потому как донесли мне, что Сульт и Гюйо захватили мост через Алле и вот-вот выйдут в тыл мне. Я и пошел сюда, чтобы не оказаться окруженным.
Завтра, Михаил Богданович, начнем мы отход к Вольфсдорфу, и я попрошу вас, как и прежде, быть в арьергарде и прикрывать наши главные силы.
На следующее утро, едва рассвело, дивизия Багратиона тремя колоннами двинулась к Вольфсдорфу, а отряд Барклая, перекрыв дороги, встал на пути французов.
До десяти часов утра были его солдаты в перестрелке с неприятелем, а потом пошли следом за Багратионом.
Барклай впервые командовал отрядом из семи пехотных и кавалерийских полков, где была и артиллерия, что делало его войско похожим на маленькую армию, состоящую из всех родов войск. Отряд подобен был и французскому корпусу. Эта универсальность отряда позволяла Барклаю применять то стрелков-пехотинцев, то казаков, то егерей, то кавалеристов, выдвигая на наиболее опасные участки артиллерию.
Построив свои войска уступом и выдвинув вперд изюмских и ольвиополъских гусар, Барклай приказал поставить между конными полками пушки и стал сдерживать натиск неприятеля, медленно пятясь на север, то останавливаясь и контратакуя, то снова отходя за дивизией Багратиона.
В первый день отличил он похвалой артиллеристов князя Яшвиля и кавалеристов князя Щербатова.
Во второй день отбил он натиск на свой левый фланг двух полков из корпуса Даву, остановив их сильным ружейным огнем егерей.
В третий день в деле были все его войска, ибо французы уже теснили отряд с трех сторон и все время пытались выйти в тыл к нему. Наконец встали его полки у деревни Хоф и приняли бой, длившийся до темноты. И, так как отряд его был подобен маленькой армии, баталия под Хофом во всем напоминала генеральное сражение — первое генеральное сражение в его жизни, которое он все же не проиграл, хотя и потерял больше двух тысяч человек и оставил поле боя неприятелю.
Потом битву под Хофом справедливо расценили как самое важное арьергардное сражение в этой кампании.
И то, как Барклай провел этот бой, тотчас же сделало имя его знаменитым во всей армии.
В середине четвертых суток подошли его полки к маленькому городку Прейсиш-Эйлау, где уже сосредоточились главные силы армии.
Городок этот стал центром концентрации русских войск не по зрелому стратегическому размышлению, а лишь в результате давления сиюминутных событий и чувств, чему способствовали и недостаток провианта, и невозможность дальнейшего отступления, ибо армия была вконец измучена беспрерывными ночными переходами и, наконец, неутихающим желанием Беннигсена дать бой самому Наполеону.
Утром 25 января дивизия Багратиона и отряд Барклая подошли к Эйлау. За четверо минувших суток войска Беннигсена беспорядочно маневрировали вокруг города, останавливаясь и занимая то одну, то другую позицию, то вдруг снимаясь с места и уходя на другие пункты, пока наконец не расположились вдоль гребня холмов западнее Эйлау.
Егерям Барклая Беннигсен поручил занять город и не пускать в него неприятеля. Получив приказ, солдаты, промерзшие и промокшие, голодные и вконец измотанные, вошли на узенькие улицы Эйлау. Здесь хотя бы можно было по очереди забегать под крыши домов и сараев и, сменяя друг друга, греться у костров, а то и в домах обывателей.
К четырем часам дня семидесятитысячная армия Наполеона подошла к городу и начала выстраиваться в боевой порядок.
Подготовка к сражению длилась до следующего полудня. В двенадцать часов 26 января корпуса Сульта, Ожеро и Даву начали движение в сторону русских позиций.
На Прейсиш-Эйлау шел корпус Сульта. Его пехота еще не подошла к окраинам, как четыреста французских орудий открыли огонь и по городу, и по позициям Беннигсена.
Такой канонады русским слышать еще не доводилось. А когда французам ответило столько же русских пушек, то показалось, что внезапно обрушилось небо. Барклай, увидев вражеских пехотинцев прямо перед своими позициями, вспомнил Вильно. Ситуация складывалась так же, как и там, только тогда, двенадцать лет назад, наоборот, поляки-конфедераты отбивались на улочках Вильно от его егерей.
И чем дальше шел бой, тем все более оправданным становилось сравнение: наполеоновские егеря выказывали себя отменными вояками, а их натиск был не слабее, чем у его солдат в Вильно.
За ними следом, столь же безостановочно, шли тиральеры — легкие стрелки, прекрасно владеющие своими карабинами.
Его солдагы, безмерно уставшие за последние дни, не успевшие прийти в себя после Хофа, оставляли один дом за другим, отдавая неприятелю улицу за улицей.
Меж тем быстро темнело, и когда сумерки сгустились, то все его солдаты оказались в загородных садах, широкой полосой отделявших Эйлау от холмов, перед которыми стояли главные силы Беннигсена.
Ночью главнокомандующий, не успевший в первый день сражения предпринять что-либо серьезное, приказал направить на помощь Барклаю девять батальонов генерал-майора Сомова, сосредоточив их под покровом темноты на окраине Эйлау, возле кладбища.
Едва рассвело, как Сомов начал атаку. Три его батальона хотели пройти через кладбище, но, встретив неожиданно сильное сопротивление, остановились.
Как потом выяснилось, на кладбище был командный пункт Наполеона, а он всегда охранялся более чем надежно.
Зато другие шесть батальонов ворвались в Эйлау и пошли навстречу полкам Барклая, которые одновременно с ними двинулись на штурм города с другой стороны.
Теперь уже оборонялись солдаты маршала Сульта, но два других корпуса Ожеро и Даву, — обойдя город, вышли к позициям Беннигсена. Бой закипел по всей линии, но все же напряжение его было наибольшим на улицах Эйлау.
Тучи шрапнели и ядер пролетали над головами солдат, прыгая и ревя, снося все, что попадалось на их пути. Сульт бросил на город все свои силы, и французы вломились на улицы Эйлау.
Их встречали огнем из-за всех углов, из окон и с крыш. В узких дефиле каменных улиц пехота шла друг на друга в штыки, устилая мостовые трупами, но не отступали ни на шаг ни та, ни другая сторона.
Видя, что пехота стоит неколебимо, Барклай собрал в кулак два гусарских полка и повел кавалеристов в атаку на кладбище.
Потом ему передали, что эту его атаку отметил Наполеон и даже спросил у стоявшего рядом Бертье:
— Кто возглавляет эту атаку? Она проходит с мужеством и мастерством.
Начальник штаба затруднился ответом, и тогда Наполеон сказал:
— Кем бы ни был этот генерал, он еще заставит говорить о себе, и мы еще узнаем его.
Наполеон часто оказывался пророком, оказался он им и на этот раз.
Барклай, скакавший в первых рядах своих гусар, вдруг почувствовал неожиданный толчок и на всем скаку вылетел из седла. Затем почувствовал сильный удар о землю и потерял сознание.
Очнулся он в санях на сене, голова его покоилась у кого-то на коленях. Сверху светили холодные звезды, тело от ушиба сильно болело, а левая рука, туго забинтованная в деревянный лубок, горела огнем.
Он повернул голову и увидел лицо человека, на коленях у которого лежала его голова. Барклай узнал в нем своего адъютанта — поручика Бартоломея.
Адъютант заметил, что генерал очнулся, и, улыбнувшись, приложил палец к губам.
— Ну, что там? — спросил Барклай слабым голосом.
— Вас ранило вчера вечером. Когда я повез вас, вся армия наша стояла на позициях неколебимо. — Как это случилось?
— Вас ранило в руку артиллерийскою гранатой. Вы потеряли сознание и упали с коня. Было это во время кавалерийской атаки, и вас могли бы затоптать наши же кони, если б не вытащил вас изюмский гусар Дудников. Дудников? — переспросил Барклай. — Изюмец? Помню его — однополчанин мой. Служили мы у Беннигсена. — И, помолчав, добавил: — Проследите, чтоб наградили его. — Слушаюсь, — сказал Бартоломей и продолжил: — Он же доставил вас в лазарет, где сделали вам перевязку и велели мне везти вас в Кенигсберг.
— Кто же командует там ныне?
— Генерал-майор Сомов.
— Хорошо, Бартоломей, спасибо, — проговорил Барклай и закрыл глаза.
Глава третья СКИФСКИЙ ПЛАН
Утром приехали они в Кенигсберг. Весь город был забит ранеными, и Барклай велел ехать дальше, в Мемель. Его решение объяснялось тем, что от Гроссхофа до Мемеля можно было добраться за двое суток, а Барклай понимал, что рана его серьезна и лежать ему в Мемеле придется долго.
Квартиру в Мемеле нашли сразу же, положили его в чистую, теплую постель, и он мог бы спокойно выздоравливать, если бы не тревога за оставленную им армию. Однако беспокойство, к счастью, оказалось напрасным, уже через два дня узнал он, что, хотя Беннигсен еще весь следующий день жестоко дрался с неприятелем и только в полночь оставил поле боя. Наполеону на сей раз не удалось одержать победу над русскими.
Потом привезли в Мемелъ множество раненых и с ними графа Павла Андреевича Шувалова, единственного, кроме Барклая, генерал-майора, попавшего на излечение в Мемель.
Бартоломей вскоре навестил Шувалова, и тот рассказал, что под Эйлау было ранено, кроме него и Барклая, еще семь русских генералов, а какими были потери, он не знает, но в его отряде пало только убитыми более трети солдат.
Чуть позже Барклай узнал, что и русские и французы потеряли по двадцать пять тысяч человек, и если такой итог можно было считать победой, то чьей именно — представлялось спорным.
А еще через три дня приехали к нему Елена Августа и одна из ее воспитанниц — пятнадцатилетняя Каролина Гельфрейх.
Приехал и его личный врач Александр Васильевич Баталин, еще раз осмотрел руку, но вынимать мелкие осколки и крошечные обломки раздробленных костей не рискнул, больше уповая на компрессы и лекарства.
А рука все болела, но и ампутировать ее Барклай не разрешал, надеясь на то, что организм возьмет свое и он выздоровеет.
Он непрестанно размышлял о том, что страшный враг стоит в пяти переходах от границы России, а надежного средства остановить, а тем более разгромить его нет.
И хотя Беннигсен удостоился наград и милостивого письма государя, где он назвал Леонтия Леонтьевича «победителем того, кто еще никогда не был побежден», Барклай не был спокоен и постоянно искал ответа на самый важный для любого генерала вопрос: как быть, если Наполеон направится в Россию и его войска пойдут к Москве?
И вдруг случилось нечто, что потом всю жизнь считал он неким чудом, которым Господь вознаградил его, послав своим ангелом-провозвестником тридцатилетнего датчанина Бартолъда Нибура!
После того как Наполеон взял Берлин, прусская королевская чета укрылась от ужасных треволнений в тихом, тогда еще далеком от войны Мемеле.
Вместе с Фридрихом Вильгельмом и Луизой бежали и некоторые придворные, среди коих был и Бартольд Георг Нибур, бывший директор Берлинского банка.
Случилось так, что в Мемеле оказался и бывший прусский министр финансов барон Генрих Штейн, и лейбмедик короля доктор Генслер, все трое дружившие между собой. Царственный скиталец, разумеется, тут же прислал своего врача раненому союзному генералу, и с тех пор Генслер стал часто бывать у Барклая, осматривая раненую руку и помогая доктору Баталину лечить ее.
Как и всякий хороший врач, Генслер не только лечил немощную плоть своего пациента, но и исцелял его душу бальзамическими сентенциями, проявляя и глубокомыслие и изрядную образованность не только в медицине.
Как-то упомянул он и о своем давнем друге Нибуре, умудрившемся вывезти из Берлина целую телегу книг. Барклая это удивило и заинтересовало, и он спросил, а нельзя ли попросить у господина экс-директора банка какую-нибудь из книг не финансового характера? — Да у него финансовых книг совсем немного, в основном же собирает он сочинения исторические, — ответил Генслер и пообещал в следующий свой визит привести к Барклаю забавного банкира, который больше служит музе Клио, нежели богу Гермесу. И вскоре в квартире Барклаев появился тридцатилетний блондин, чем-то напоминающий Михаилу Богдановичу поэта-романтика Магнуса Людера. После первого своего визита Нибур стал приносить Барклаю книги и с видимым удовольствием беседовать с ним о своем всепоглощающем увлечении историей. Барклай всегда ощущал недостаточность домашнего образования, во многом однобокого и часто случайного, и всегда предпочитал умную беседу праздному застолью, а ученый разговор ставил превыше многого иного, отчего и стал Нибур в доме раненого генерала не просто частым гостем, но и завсегдатаем.
Барклай узнал, что Бартольд Георг Нибур был сыном Карстена Нибура, известного путешественника, долгие годы странствовавшего по Аравии и Палестине за счет датского королевского двора.
Отправился он в Аравию обыкновенным военным ин-женером, а возвратился признанным ученым, специалистом по истории, географии и языкам Ближнего Востока.
Выйдя в отставку, Карстен Нибур переехал в маленький датский городок Мельдорф.
С ним вместе переехали в Мельдорф жена и двухлетний сын — будущий знаменитый историк Бартольд Нибур. В семье он получил прекрасное образование, изучил множество языков, окончил Кильский университет.
Когда было ему всего тринадцать лет, произошла революция во Франции, но, в отличие от многих просвещенных молодых людей, это событие не произвело на Бартольда такого впечатления, как на многих людей его круга.
Уже тогда, воспитанный на уважении законов древне-римского и древнегреческого, Нибур воспринял революцию как мятеж черни, который, как это было и в дохристианские времена, должен был привести к разрушению гражданского порядка, к грядущему господству тирании или торжеству охлоса. И то и другое было для него прологом грядущего варварства.
Когда Бартольду исполнилось восемнадцать лет, возле Бойе появился его шурин Фосс, женатый на сестре Бойе и занимавшийся переводами Гомера. Фоссу очень понравился юный ученый Бартольд Нибур, прилежный, талантливый и вдумчивый, подающий большие и небезосновательные надежды. Фосс познакомил Бартольда и с другими поэтами и историками древней Эллады, особенно приохотив юношу к «отцу истории» Геродоту.
Нибур так увлекся Геродотом, что не только стал переводить его книги на немецкий язык, но и комментировать великого историка, что представляло немалую трудность, требуя массы усилий и времени.
Поступив в университет, он стал жить у друга своего отца знаменитого врача Генслера.
В семье Генслера жили сестры его жены, и впоследствии на одной из них — самой младшей сестре фру Генслер, Амалии, он женился.
К этому времени французская революция уже перешагнула через границы своей страны.
Уже прогремели первые победы Бонапарта, и общество все более и более поляризовалось, либо приветствуя революцию, либо проклиная ее. И сам великий Гете, ставший свидетелем разгрома контрреволюционных войск в битве при Вальми, воскликнул: «С этого места и с этого дня начинается новая эпоха всемирной истории!» Но, сказав это, он не встал на сторону революции, с горечью заметив, что мир разделился надвое и трещина прошла через его сердце.
А Бартольд по-прежнему был врагом парижских санкюлотов и, увлекшись философией, пришел к выводу, что те из философов, которые защищают революционеров, употребляют во зло таинства своей науки, чтобы с ловкостью фокусников изобретать софизмы для оправдания самых гнусных бесчинств и преступлений. И потому не защитник революции Фихте волновал Нибура, а его старинные и искренние друзья Аристотель и Цицерон. И потому же писал он в одном из писем: «О, если бы я мог приобресть хоть половину мудрости Цицерона и умел в выражении ее хоть немного приблизиться к величию его выражения!»
В двадцать лет Бартольда пригласил к себе датский министр финансов граф Шиммельман и попросил занять у него место секретаря.
Его служба у министра финансов вскоре принесла Бартольду неожиданные и пышные плоды — в 1805 году он получил предложение занять пост директора Берлинского банка, перейдя на службу к прусскому королю Фридриху Вильгельму III.
Он приехал в Берлин накануне французского вторжения в Пруссию. 14 октября 1806 года, когда в один день прусская армия была разбита — при Йене и при Ауэрштедте, королевская семья и вместе с нею Нибур уехали в Мемель.
В Мемеле Нибур стал служить по комиссариатской части.
Все свободное время Нибур занимался изучением языков — на сей раз славянских, русского и польского.
И как раз в разгар этих ученых занятий грянула битва под Прейсиш-Эйлау, а вслед за нею в Мемеле появились раненые русские.
И вот однажды, беседуя с Барклаем, завел Нибур речь о работе, которая увлекала его более всего, — о переводе им главного труда греческого историка Геродота, названного «отцом истории».
Нибур сначала рассказал Барклаю о Геродоте и о его знаменитом творении — «Истории», состоявшей из девяти книг.
Он сказал, что в одной из книг, четвертой, названной «Мельпомена», описан поход персидского царя Дария на скифов, живших в степях между Черным морем и Каспием.
— И может быть, вам будет интересно узнать о скифах, тем более что, как мне известно, в России почти ничего не знают ни о Геродоте, ни о скифах. — Да, — согласился Барклай, — я, во всяком случае, ничего о том не слышал.
Вскоре Бартольд зашел к Барклаю с небольшой книгой В руках и, напомнив о недавнем разговоре, принялся читать. Барклай узнал, как персидский царь Дарий переправился через Дарданеллы, называвшиеся тогда Геллеспонтом, и вторгся в Европу. Скифия начиналась у самого устья Дуная и тянулась на сотни верст до Меотиды и Танаиса, коими следует считать Азовское море и реку Дон.
— Я долго и тщательно измерял пространства Скифии, — сказал датчанин, и у меня получилось, что занятое ими пространство представляло почти правильный квадрат, каждая сторона которого равнялась примерно четырем тысячам стадий. Стадия же, — пояснил Нибур, — равнялась примерно одной сажени. И значит, стороны этого гигантского квадрата равнялись примерно семистам верстам каждая. В землях скифов жило множество племен, но почти все они, несмотря на разные наречия и образ жизни, отличались мужеством, жестокостью, презрением к опасностям и стойкостью к невзгодам. Были среди скифов и оседлые племена, жившие в поселениях и немногочисленных городах-крепостях, были и кочевники, существовали и совершенно дикие, поедающие человеческое мясо.
Одно из многолюдных племен носило имя «будины». Они имели светло-голубые глаза и рыжие волосы. Будины жили в деревянных городах и соседствовали с племенем похожих на них гелонов — жителей лесов, хлеборобов и воинов.
Затем, перестав рассказывать, Нибур стал читать Геродота — строку за строкой:
«Когда Дарий с семисоттысячным войском вторгся в Скифию, скифы решили вовсе не давать настоящего открытого сражения, но, разделившись на два отряда, отступать со своими стадами, засыпать попадающие на пути колодцы и источники и истреблять растительность».
— Постойте, — перебил его Барклай. — Перечитайте, пожалуйста, это место еще раз.
Нибур прочел снова фрагмент «Мельпомены», почему-то заинтересовавший раненого, и продолжал читать историю грандиозного похода огромного и сильного войска, обреченного на поражение жертвенным замыслом свободолюбивых дикарей.
И еще один фрагмент труда Геродота попросил Барклай прочитать ему дважды. Второй фрагмент звучал так: «Следует хорошо обдумать, каким бы образом обеспечить наше возвращение, — сказал Дарий. — Бедность этого народа была мне известна достаточно еще раньше, по слухам; теперь на месте я убедился в том вполне. Нужно уходить назад, пока скифы не пришли еще на Истр с целью разрушить мост».
Барклай попросил прервать чтение и замолчал, закрыв глаза. Потом зачем-то спросил Нибура, под какими номерами в труде Геродота значатся эти отрывки?
Нибур, не понимая, для чего ему это, ответил, что помещены они в книге четвертой «Мельпомена» и что скифский план, состоявший в том, каким образом будут уничтожены персы, Геродот изложил под номером 120, а последующий под 135-м.
— Прекрасно, — откликнулся Барклай. — Значит, 120 и 135. Прекрасно.
Но Нибур, хотя и не понял, что все это значит, почувствовал, что сегодняшней лекцией раненый русский генерал доволен более, чем любой из предыдущих.
Услышанное не давало Барклаю покоя. Он расспрашивал Нибура о скифах, как только тот появлялся. И узнал, что некоторые ученые считают их предками русских, что были они столь же храбры и неприхотливы и никогда не покорялись врагу. Узнал и то, что страна их была огромна, и полчища завоевателей еще из-за этого не могли захватить ее.
Все это намертво засело у него в голове, и он почемуто все время возвращался к рассказу Геродота. Однажды ночью Барклай почти не спал. Он все время думал о войне, о том, что будет, если французы войдут в Россию. А когда сон одолевал его, то снилась какая-то несуразица: будто идет по русским дорогам наполеоновская армия, а навстречу ей идут не регулярные полки егерей гусар, не артиллерия, встречающая ее огнем, а скачут на битву с неприятелями длинноволосые лучники, одетые звериные шкуры, на маленьких косматых лошадях. «Это же скифы!» — узнает их Барклай, и на смену полукошмару приходит облегчение: скифы победили самого Дария, побьют и Бонапарта.
Пробудившись под утро, еще до сумерек, вспомнил он приснившееся и подумал: «Вот к чему приводят навязчивые размышления. Нет минуты, когда бы не думал я о скифах, о Бонапарте, о России, о будущей войне, и вот все это сплелось вдруг во сне воедино, а ведь в этой-то фантасмагории и скрывается, наверное, ответ на вопрос: „Что предпринимать, если война? Каким образом действовать?“»
А потом весь день думал о том же и вдруг понял, что ответ на мучающий его проклятый вопрос дан скифами много веков назад. И что другого ответа нет, потому что ответила уже сама История.
В конце марта в Мемеле заговорили, что вскоре сюда должен прибыть царь, и через несколько дней стало известно, что в Поланген для встречи Александра выехал Фридрих Вильгельм.
21 марта взволнованные горожане встречали союзных монархов, едущих единственной большой улицей к старому замку.
В последующие два дня оба монарха демонстративно показывались на улице только рядом и только улыбаясь.
Затем император и король уехали из Мемеля на смотр прибывшей из Петербурга русской гвардии.
Барклаю рассказали, что Александр был очень растроган, увидев своих молодцов-гвардейцев. Он не мог представить себе, чтобы кто-нибудь во всем белом свете победил их.
Но тысячи таких же чудо-богатырей видел он мертвыми и покалеченными под Аустерлицем, а значит, и этих героев мог побить неистовый корсиканец. И все же только он и только они могли, защитить несчастного короля-изгнанника. Необыкновенное чувство горячей любви к своему коронованному брату пришло на смену первому переживанию, и Александр воскликнул со слезами на глазах:
— Не правда ли, никто из нас двоих не падет один! Или вместе, или ни тот-ни другой!
Потом вновь Мемель был взбудоражен возвращением в город императора и короля.
25 марта Лина Гельфрейх, побывав в городе, рассказала Барклаю, что государь навестил раненого генерала Шувалова, и Михаил Богданович подумал, что, может быть царь заглянет и к нему, ведь и он и Шувалов были единственными генералами, лежащими в Мемеле. Но тут же пришло к нему и сомнение: хотя и он и Шувалов — оба генерал-майоры, да все же для государя они меж собою не ровня: Шувалов — граф, в третьем колене царедворец, а кто он?
Вновь раздумавшись и о себе самом, и. о войне, отвлекаясь все время на боль в руке, заснул он поздно и проснулся от того, что услышал, как кто-то вошел в его комнату. Он знал, что здесь должна быть жена, и потому продолжал лежать с закрытыми глазами.
— Доброе утро, мадам, — услышал он чей-то знакомый голос и открыл глаза.
На пороге стоял высокий голубоглазый тридцатилетннй красавец генерал в светло-сером дорожном сюртуке, держа в руках шляпу с плюмажем.
«Государь!» — узнал в генерале царя Барклай.
Царь, шагнув в комнату, остановился перед вставшей. с канапе Еленой Августой, судя по выражению ее лица, не узнавшей Александра, и, церемонно склонив голову, поцеловал ей руку.
Барклай тут же попытался сесть, но гость жестом остановил его и ласково проговорил:
— Здравствуйте, Михаил Богданович.
И от этого домашнего «Михаил Богданович» Барклаю тотчас же стало легко на душе и показалось, что не царь пожаловал к нему с визитом, а заглянул повидаться его соратник, проездом оказавшийся в Мемеле.
Когда же ответил он: «Здравия желаю, ваше величество», Елена Августа покраснела и, не зная, куда девать глаза, пропела на плохом французском, что ей надобно сказать прислуге, чтоб накрывали на стол, ежели его величество соблаговолит откушать в их доме чаю.
И выпорхнула за порог, к удовольствию обоих собеседников. Государь сел в кресло, в котором обычно сидела Елена, и с ласковой заботливостью стал расспрашивать о ранении, о том, кто и как лечит Барклая, как чувствует он себя, а потом попросил рассказать и о последнем деле под Эйлау.
Здесь Барклай стал докладывать царю, как если бы довелось ему отдавать рапорт по команде, языком военного, без липших эмоций, правдиво, но и не скрывая собственного отношения к произошедшему. Александр слушал внимательно, изредка переспрашивая его или уточняя отдельные детали и эпизоды сражения. Затем спросил, что думает его генерал о дальнейшем, и Барклай, с присущей ему откровенностью и прямотой, рассказал обо всем, о чем думал, оказавшись в Мемеле.
Более же всего говорил он о своем «скифском плане», и царь неожиданно стал выспрашивать его о разных сторонах такого грандиозного и необычного прожекта, так же, как только что разузнавал он подробности недавнего сражения под Эйлау.
Присутствие царя обязывало Барклая говорить языком стратега, и он говорил, что в России нет генерала, который мог бы соперничать с Наполеоном в искусстве полководца, что когда он на поле боя, то уже одно это стоит двух лишних корпусов. Барклай говорил, что нужно взять в союзники себе стихию — бескрайние просторы, холода, бездорожье, беззаветность народа все те условия, которые свели бы к нулю полководческие таланты Наполеона, добавив к этому войну без правил и без пощады, когда сжигались бы хлеба, отравлялись колодцы, каждый мужик стал бы ратником, а весь российский люд стал бы ополченным народом.
— Тогда, — говорил Барклай, — пришлось бы противнику десятки тысяч своих солдат оставлять в гарнизонах, чтобы противостоять ополченцам, десятки тысяч отдать в конвои, которые сопровождали бы обозы с боевыми припасами, фуражом и провиантом. И их число все более возрастало бы по мере того, как главные силы неприятеля уходили все дальше от операционного базиса и, соответственно, постоянно уменьшались. Пространство, государь, всосало бы армию захватчиков, сколь велика бы она ни была, ибо нет и не может быть армии, способной захватить территорию от Немана до Волги.
Александр слушал Барклая молча, но с большим вниманием и видимым интересом.
— Что ж, — спросил он наконец, — как далеко, полагаете вы, можно было бы ретироваться?
— Да хоть до Казани, государь. Главное в войне — победа.
Александр ни о чем более не спрашивал, но на прощанье сказал, что награждает его сразу двумя орденами — Анной первого класса и Владимиром второго. Любимому же его 4-му егерскому полку жалует он серебряные трубы.
От чая царь отказался, отговорившись занятостью, и огорченная этим Елена ушла к себе в комнату.
А Барклай лежал в постели и перебирал в уме только что случившуюся неожиданную беседу, вспоминая, что говорил он Александру, о чем расспрашивал его царь, какой отклик находили в государе его слова.
Вдруг услышал он звонок дверного колокольчика, и вслед за тем в комнату вошла тринадцатилетняя Лина.
— Дядюшка, — сказала она, — к вам доктор.
— Проси, — ответил Барклай, ожидая увидеть кого-нибудь из прежних его эскулапов, но в дверях появился незнакомый человек с докторским саквояжем и, учтиво поклонившись, представился:
— Джеймс Виллие, лейб-медик его величества.
Осмотрев рану, Виллие попросил в помощь себе кого-нибудь из слуг, но оказалось, что Елена, уходя спать, всех их отпустила в город, и ассистировать стала Лина.
Девочка принесла кувшин теплой воды, чистые полотенца и делала все, о чем просил ее доктор, время от времени закрывая глаза, ибо все происходившее казалось ей ужасным.
А Виллие, достав щипцы и нож, разрезал руку в нескольких местах и стал сначала вытаскивать крохотные кусочки железа, а затем передвигать осколки кости.
Кровь текла безостановочно, у доктора и больного на лицах выступил пот, но дядюшка не издал ни звука, и это заставляло Лину держаться из последних сил и усилием воли отгонять головокружение и тошноту.
…Когда Елена Августа вошла в комнату мужа, он спал и чему-то счастливо улыбался.
В конце апреля Барклай, быстро поправившийся после удачной операции, получил новое назначение — начальником 6-й дивизии, находившейся в резерве. Одновременно стал он и генерал-лейтенантом, что говорило о дружеском расположении Александра.
Сам же царь, подписав в ставке Беннигсена соглашение с прусским королем о союзе, уехал к войскам, стоящим в Тильзите.
Летом Наполеон начал новую кампанию. Его войска двинулись от Эйлау к Фридланду, находившемуся в двадцати пяти верстах к северо-западу от Эйлау.
2 июня армии Беннигсена и Наполеона столкнулись. Наполеон отбросил русских к реке Алле, огнем артиллерии разрушил мосты через нее и погнал на другой берег сбитый с позиции корпус двадцатисемилетнего генерал-лейтенанта князя Андрея Горчакова.
Следом за ним побежал и корпус Багратиона. Если исход боя под Эйлау можно было трактовать как ничейный, то итог Фридландского сражения был однозначен — новая победа Наполеона, бесспорная и абсолютная. Через день Александр получил от Беннигсена донесение, кончавшееся просьбой о дозволении вступить с Победителем в мирные переговоры.
Александр и сам уже понимал, что воевать с Наполеоном дальше он не может, но престиж России и его собственный не позволяли ему выступать в унизительной роли побежденного. И он разрешил Беннигсену переговоры о мире начать, но делать это не от его имени, а от своего собственного — побитый генерал мог просить пардону у победителя, а он, император, — нет.
Барклай вновь оказался не в действующей армии, но, будучи уже начальником дивизии и генерал-лейтенантом, попал в число военачальников, которым были доступны сведения о многом, что происходило и в главной квартире Беннигсена, и в ставке Александра, разместившейся в Шауляе.
Он знал, что офицеры штаба Беннигсена, собиравшиеся за столом у своего главнокомандующего, не только говорили о необходимости заключения прочного мира, а не просто перемирия, но и советовали своему начальнику, как подвигнуть на это и самого царя. Среди этих миролюбцев совершенно неожиданно оказался и князь Багратион, которого никак нельзя было заподозрить в трусости.
А в Шауляе вокруг императора тоже возникла мирная партия, возглавлявшаяся цесаревичем Константином.
Барклай был решительным противником и Беннигсена и Константина Павловича, но сила была не на его стороне, и он не мог повлиять на царя.
12 июня Александр подписал перемирие, согласившись на следующий же день встретиться в Тильзите с Наполеоном.
Чтобы с самого начала создать видимость равенства, решено было ни Александру, ни Наполеону не ездить на чужую территорию.
Вчерашних противников разделял Неман, и Наполеон Приказал на середине реки поставить большой плот, а на нем — шатер, где и должна была состояться встреча двух императоров.
На западном берегу была выстроена Старая гвардия, и Наполеон, прежде чем погрузиться на барку, проскакал меж рядами своих сподвижников, окруженный свитой и конвоем из четырехсот всадников, сверкающих шитьем парадных мундиров, оружием и орденами.
Восторженный рев ветеранов слышен был за несколько верст, и свита Александра, наблюдавшая за всем с противоположного берега, испытывала почти те же чувства восхищения, что и комбатанты Наполеона. Сам же царь был подчеркнуто холоден и спокоен.
Когда обе барки одновременно подошли к плоту, то все увидели, как Наполеон обнял Александра и вслед за ним вошел в шатер, учтиво пропустив царя вперед. Императоры оставались с глазу на глаз два часа, и за эти два часа решилась судьба множества миллионов людей во всей Европе.
Прусский король, оставшийся на русском берегу, ждал, что его позовут принять в переговорах участие, но так и прождал напрасно, и лишь на следующий день Наполеон удостоил его краткого свидания, не пригласив даже к обеду, который давал он в честь Александра.
Вслед за тем Наполеон попросил Александра приехать в Тильзит, и они несколько дней не разлучались, стараясь обольстить один другого, обменивались сувенирами и клятвами во взаимной дружбе и безграничном уважении.
Прогулки, обеды и беседы следовали непрерывною чередою, в то время как их министры иностранных дел готовили договор, не только перечеркнувший несколько последних запятнанных кровью страниц общей истории, но и перевернувший в головах миллионов современников все те давно уже устоявшиеся представления, которые, казалось, были столь же незыблемы и категоричны, как и понятия «справедливость», «честь» и «Отечество».
Александр согласился отдать половину Пруссии узурпатору-корсиканцу. Он согласился создать зависимое от, Наполеона герцогство Варшавское, образованное из земель, отошедших к Пруссии по трем разделам Речи Посполитой. С его согласия Фридрих Вильгельм сокращал свою армию до сорока тысяч человек, брал обязательство выплатить Франции контрибуцию в сто миллионов франков и подписать с Наполеоном союзный договор.
Все клятвы о дружбе с прусским королем были забыты, и несчастная Пруссия оказалась распятой на кресте.
Но мало того, Александр отдал христианские княжества Молдову и Валахию османам и заключил с неверны-. ми мир. Он изъявил готовность стать посредником в мирных переговорах между Францией и Англией, конечно же держа в них сторону своего заклятого врага.
Боже мой, что же произошло после того в Петербурге! Вдовствующая императрица-мать Мария Федоровна и любимая сестра императора Екатерина Павловна, прозванная за ум и характер Екатериной Третьей, были решительно против тильзитского сговора.
Желая успокоить противников Тильзитского договора, Александр, вернувшись в Петербург, отправил в отставку Беннигсена, назначив главнокомандующим генерала от инфантерии Буксгевдена, человека непростой судьбы, знавшего и взлеты и падения, но всегда возвращавшегося ко дворцу.
Причиной тому полагали его блистательный марьяж, когда он, двадцатипятилетний капитан, бедный дворянин с острова Эзель, женился на дочери князя Орлова, матерью которой была сама императрица. Тотчас же стал Буксгевден флигель-адъютантом своей августейшей тещи, однако это не заставило его укрыться во дворце от военных бурь — был он и в Шведской кампании, и в Польской, отличившись при штурме Праги, и был самим Суворовым назначен первым комендантом Варшавы, При Павле был он военным губернатором Петербурга, уступив свое место Пале ну, и, как и многие, познал горесть несправедливости и унылость отставки. Возвращенный в армию Александром, перенес он аустерлицкий разгром. Его военная судьба была столь типична для большинства офицеров и генералов, что делала Федора Федоровича всем понятным и близким человеком.
Но и это не спасло Александра от критики, переходящей в хулу. Вскоре после того, как Александр отбыл в Петербург, поехал туда и Барклай. Он должен был доложить министру военно-сухопутных сил генералу от инфантерии Сергею Кузьмину Вязьмитинову, как идет формирование его дивизии. Барклай нашел столицу необычайно возбужденной, более того, сверх меры взбудораженной всем произошедшим в Тильзите.
Он не помнил, когда бы, увидев человека в форме генерала, люди с подчеркнутым презрением отворачивались от него.
Однажды подвыпивший молодой купчик бесцеремонно остановил его на улице, ухватив за рукав, и сказал:
— А что, барин, и не срамно тебе, битому, по улицам ходить? Уж снял бы муницию-то, надел бы какое статское платье, небось бы и не узнал никто, что служишь ты в аникином войске.
Другой бы дал наглецу затрещину, а Барклай сдержался. И не потому, что был он всегда хладнокровен и спокоен, а потому, что купчик говорил то, что испытывал и он сам. И Барклай только сухо ответил:
— За битого, любезный, двух небитых дают. И еще скажу тебе: цыплят по осени считают.
Но в общем-то петербуржцы считали мир в Тильзите неслыханным позором и потому все, от мужиков до аристократов, всяк по-своему, демонстрировали ненависть ко всему французскому и презрение ко всем мундирникам — от государя до рядового солдата.
Французская опера стояла пустой, зато переполнен был театр, где шла русская драма «Димитрий Донской», полная патриотических монологов и призывов к отмщению. Весь спектакль гремели аплодисменты, зрители кричали «ура!», и занавес поднимался десять раз.
Аристократические салоны были закрыты для французских дипломатов, а княгини и графини сменили французские шляпки на русские платочки.
Барклаю сказали, что когда государь прибыл на молебен в Казанский собор, то ему пришлось идти через толпу угрюмых и озлобленных подданных, словно сквозь строй.
А по городу гуляли слова, сказанные адъютантом Багратиона Денисом Давыдовым, тем самым, с которым довелось Михаилу Богдановичу встретиться в штабе накануне отхода к Эйлау: «Может, будет это год десятый, а может, двенадцатый, да только уже сегодня стоит он среди нас, как поднятый и окровавленный штык».
А дело, по которому приехал он в Петербург, завершилось и скоро и успешно, — Вязьмитинов докладом о состоянии дел в дивизии Барклая остался доволен и сказал, что ее начальник может оставить за себя того, кого сочтет нужным, а сам должен переехать в Петербург на лечение.
И хотя Вязьмитинов сделал вид, что это он сам предлагает Барклаю переехать в Петербург, чувствовалось, что и здесь истинным виновником нового сюрприза является Александр.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
За время, прошедшее с 1950 года, когда в газете «Калининградская правда» появилась моя первая небольшая статья, я опубликовал более тридцати книг и свыше четырехсот заметок, статей и очерков. Многие из них, как Вы, уважаемый читатель, смогли убедиться, были посвящены русско-прусским отношениям и таким сюжетам и коллизиям, которые представляют взаимный интерес для двух великих народов, долгое время живущих рядом и активно взаимодействующих друг с другом. На протяжении восьмисот лет эти отношения были самыми разными, но в конце-концов и русские и немцы пошли одной дорогой — дорогой мира. И, дай Бог, чтоб эта дорога была бесконечной.
Калининград, 1999Примечания
1
Его прозвище — «Постум» или «Погробок» произошло от того, что Владислав родился после смерти своего отца — короля Чехии и Венгрии Альбрехта Габсбурга.
(обратно)2
Акт (лат.) — законченная часть драматического произведения или театрального представления, а также часть жизни человеческой, ибо чем иным, как ни драмой, является вся жизнь наша. — В. Б.
(обратно)3
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» — католическая молитвенная формула, с которой обычно начинались устные и письменные проповеди и книги, имеющие религиозное или нравоучительное содержание. (Далее все изречения отцов церкви, пословицы, поговорки и иные латинские вокабулы и фразы будут даваться напрямую в русском переводе. — В. Б.)
(обратно)4
«Индекс запрещенных книг» начали издавать в Ватикане в 1559 г. В нем перечислялись книги, за чтение которых верующих ожидали различные кары, вплоть до отлучения от церкви. — В. Б.
(обратно)5
Эти галеры с прикованными к веслам осужденными назывались турецким словом «каторга», а гребцы на них «каторжанами». — В. Б.
(обратно)6
Цитируемый де Маром источник нами не разыскан. Скорее всего, фрагмент заимствован автором из какого-то недошедшего до нас апокрифа — то есть произведения, не включенного в канон. Апокриф (греч.) — тайный, сокровенный. — В. Б.
(обратно)7
Точно таким же принципом руководствовался один из самых правдивых мемуаристов, дипломатов и путешественников XVI в. барон Сигизмунд Герберштейн. По-видимому, де Мар читал его «Записки о Московитских делах», изданные в Вене в 1549 г., ибо последняя цитата буквально совпадает со словами Герберштейна.
(обратно)8
К сожалению, и это стихотворение мне никогда ранее не встречалось. Можно только предполагать, что оно относится к циклу стихов, создававшихся печальными провансальскими менестрелями, когда этот жанр, в свое время радостный и жизнеутверждающий, стал все более трансформироваться в элегически-упадочнический, угасая вместе с породившим его социальным слоем — беднеющего, уходящего с исторической сцены мелкого провинциального рыцарства. — В. Б.
(обратно)9
Имя Василиска носил всего лишь один Византийский император, правивший очень недолго — всего полтора года с 9 января 475 г. до конца августа 476 г. (см.: Советская историческая энциклопедия (далее СИЭ). М., 1963. Т. 3. Ст. 459). Его недолговременное правление отличалось мягкостью и милосердием. И неверно было бы делать его имя нарицательным, полагая, что именно от него идет традиция называть «Василиском» фантастических драконов или змей, как объясняет смысл слова «Василиск» В. И. Даль, не связывая, впрочем, его с именем императора Василиска. См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 1. С. 167. А что касается пап, то ни один из них не носил такого имени. См.: СИЭ. Список пап и антипап. М., 1967. Т. 10. Ст. 810–811. — В. Б.
(обратно)10
Де Map, по-видимому, не знал историю православной церкви. Первым равноапостольным (правда, не духовным лицом, а светским князем), причисленным к лику святых, стал еще в XI в. киевский князь Владимир креститель Руси. Святым и равноапостольным был и Александр Ярославович Невский. — В. Б.
(обратно)11
В официальном перечне пап и антипап нет ни одного, кто носил бы такие имена. По-видимому, де Map прибегает к иносказанию (см.: СИЭ. Т. 10. Ст. 810–811). Вместе с тем, как и в случае с Василиском, в истории Византии есть император из династии Ангелов, правившие с 12 сентября 1185 г. до 13 апреля 1204 г. Первый из них — Исаак II Ангел захватил власть в Константинополе путем дворцового переворота, последний — Алексей V Мурдзуфл, потерявший трон в результате захвата Константинополя весной 1204 г. крестоносцами и образования ими на часть Византии Латинской империи во главе с графом Фландрским Балдуином IX. Всего же в Византии было пять Ангелов, а в Ватикане ни одного. — В. Б.
(обратно)12
И здесь де Map снова что-то путает, скорее всего, намеренно. В списках пап нет ни Василиска Великого, ни Илии Святого, тем более что папы, как правило, носили итальянские имена. — В. Б.
(обратно)13
Дальше во многих местах рукописи проскальзывает определенное вольнодумство де Мара, так как католическому священнику не должны были казаться одинаковыми схизматический византийский счет «от сотворения мира», языческий счет «от греческих календ» или же ортодоксальный отсчет от рождества Христова. И в новой и в новейшей истории мы находим подтверждение тому же. Французские якобинцы вели отсчет времени от 22 сентября 1792 г., когда Конвентом была провозглашена Республика. И на их календаре годы обозначались так же, как и у нас: 1-й год Республики, 2-й год Республики и т. д., пока Наполеон после тринадцати лет 1 января 1806 г. не вернул французам старый календарь. Равным образом и у нас сегодня на календарях пишется: «7-й год Великой Октябрьской социалистической революции», ибо наша новая жизнь началась с 25 октября 1917 г. — В. Б.
(обратно)14
Даже сан Великого магистра в Кенигсберге и других германских землях — в Империи, в Ливонии, так же, как и Пруссии, захваченных «псами-рыцарями», как окрестил их Маркс, переиначили на немецкий лад и называли «гроссмейстерами», соответственно и назначенные гроссмейстерами руководители местных филиалов Ордена на местах назывались Магистрами, но вскоре также и их перекрестили на немецкий лад, и из Магистров они превратились в «Ландмейстеров» или «мастеров» и стали называться Магистр (мастер) в Ливонии, магистр (мастер) в Империи и т. д. Отзвуки этого, по-видимому, сохранились в наше время, например, в Шахматной федерации. Мы часто являемся свидетелями того, насколько по средневековому архаична и строго централизована структура этой организации и какие нравы царят в ней. И неудивительно, что гроссмейстеры и мастера вступают в сговоры со светскими властями, не признают правомочными решения ФИДЕ — своего рода папской коллегии кардиналов, в которой роль Великого Понтифика исполняет небезызвестный Флоренсио Кампоманес, а его викария — сын Звездных Сфер Виталий Севастьянов. — В. Б.
(обратно)15
Эпитимия, или епитимья, вид наказания не только за идеологическую ошибку, но и вообще за нарушение канонов и предписаний — от молитвы и поста до отлучения от церкви и даже смертной казни. Однако де Map не прав, когда пишет, что эпитимия налагалась только на ученого-богослова. Эпитимию налагали и на монахов, и на священников всех рангов, и очень часто на мирян, если их духовный отец узнавал о каких-либо прегрешениях не только против церкви, но и из-за не соблюдения житейских правил, то, что мы в свое время назвали бы моральным или бытовым разложением и т. п. — В. Б.
(обратно)16
Вагантами — по-латински это слово означает «бродячие», во Франции их называли «голиарды», странствующие певцы и актеры, часто недоучившиеся школяры и студенты, слагавшие вольнодумные и эротически-гедонические стихи, которые они перелагали на музыку и сами же исполняли, аккомпанируя себе на виоле, лютне или гитаре — тогда четырехструнной. Часто песни вагантов носили остросатирический характер, направленный против современного им общества, пораженного ханжеством, мздоимством, лицемерием. Диапазон сатиры вагантов было очень широк — от песен воров и проституток до обличения папы и кардиналов.
См. также: Ваганты. М., 1975 (некоторые современные музыковеды усматривают аналогии творчества вагантов с тем, что сочиняют сегодня так называемые барды. Я не сторонник И. В. Сталина, последние годы — особенно, но мне кажется глубоко справедливой его мысль, высказанная в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом. Людвиг попробовал было сравнить И. В. Сталина с Петром Великим, но И. В. Сталин категорически отказался от такого сравнения, заявив, что Петр отстаивал интересы помещиков и купцов, а он Сталин — отстаивает интересы трудящихся, да и эпохи, в которые оба они трудились, совершенно несовместимы и несравнимы. В результате всего сказанного товарищ Сталин резюмировал, что «исторические параллели всегда рискованны». (См.: Сталин И. В. Сочинения. М., 1951. Т. 13. С. 104.) И потому я не вижу оснований сравнивать творчество Б. Окуджавы, А. Галича или В. Высоцкого с песнями вагантов. Не потому, конечно, что и те и другие сами сочиняли и стихи и музыку, сами и пели и аккомпанировали себе, и не в том даже, что средневековые конформисты относились к ним почти так же, как и конформисты сегодняшние, а потому, что несопоставимы две эти эпохи — там умирающее средневековье, а у нас самая передовая в мире общественно-экономическая формация. — В. Б.
(обратно)17
Так называли Лютера, потому что именно в Виттенберге он жил и там же был и похоронен. Даже город Виттенберг называли Лютерштадт, так что напрасно обвиняют бывшее руководство нашей страны, что именно при В. И. Ленине, и особенно при его последователях, началось переименование городов, как, например, Ленинград, Сталинград, Андропов, Устинов, Молотов, Киров и т. п. — В. Б.
(обратно)18
Кварта — мера объема жидкости около литра. — В. Б.
(обратно)19
Путаны — здесь женщины легкого поведения. Что же касается термина «гитана», то по-испански это означает — цыганка. Непонятно, что имел автор в виду, то ли намекая на музыкальность цыганок, то ли на их легкий нрав. В. Б.
(обратно)20
«Комедия дель арте» — комедия масок, в которой действовали традиционные герои — печальный, нескладный Арлекин, жадный и влюбчивый Панталоне, грубиян Пульчинелло и др. — В. Б.
(обратно)21
«Доброе утро», «спасибо», «пожалуйста» (фр.). — В. Б.
(обратно)22
Конфирмация, или таинство миропомазания, акт, совершаемый епископом над детьми от семи до двенадцати лет в знак их введения в члены религиозной общины, своего рода признание их религиозного совершеннолетия. — В. Б.
(обратно)23
Вольноотпущенниками назывались в Древнем Риме рабы, освобожденные своими господами — рабовладельцами. — В. Б.
(обратно)24
Латифундист — итальянский крупный помещик. — В. Б.
(обратно)25
Монте-Сперанца (ит.) — Гора надежды. — В. Б.
(обратно)26
Портомоя (др. ит.) — прачка, «прати» (др. ит.) — стирать (устарелая форма). — В. Б.
(обратно)27
ВКП(б) — как разъясняет эту аббревиатуру Вольф де Map далее, означало «Всеитальянская Конфедерация Паладинов (борцов)», которая была составной частью III ВКЛ — III Всемирной Католической (кайфолической) лиги. Это разночтение — католическая — кайфолическая — де Map объясняет далее. Здесь же отметим, что ни из каких других источников мы не знаем ни о ВКП (б), ни о III ВКЛ, ни о других региональных сектах, входящих в эту полумифическую организацию. — В. Б.
(обратно)28
Ротонда (ит.), ротондус (лат.) — круглая постройка, перекрытая куполом, часто с колоннами. В Италии получила широкое распространение в эпоху раннего Возрождения. Часто использовалась как парковая постройка типа беседки. — В. Б.
(обратно)29
Редукция (лат.) — «привожу обратно». Так назывались поселения рабов-индейцев в иезуитском государстве в Парагвае. О нем де Map пишет во II капители рукописи. Почему этот термин приведен здесь, не совсем понятно. По-видимому, то, что происходило в итальянской деревне после смерти Илии, на пятый-шестой год Понтификата Василиска Великого, напоминало «редукцию», то есть возвращение к тому времени, так называемого «военного кайфолицизма», когда у крестьян даром отбирали хлеб, вино и фрукты, а еще одно из допустимых предположений может состоять в том, что положение населения в «редуцированных» итальянских деревнях в какой-то мере напоминало положение индейцев-гуарани в парагвайских поселениях-редукциях. В. Б.
(обратно)30
Видимо, производное от слова «лепра» (гр.) — проказа, т. е. «больные проказой». — В. Б.
(обратно)31
Довольно странное прозвище для священнослужителя, хотя в эпоху Возрождения гуманисты часто давали друг другу или присваивали себе не совсем обычные прозвища. «Эринацид» (лат.) — означает «еж», и, возможно, это прозвище отражает его колючий, неуживчивый характер, а может быть, и то, что, как говорится, голыми руками ежа не возьмешь и голым задом на ежа не сядешь. — В. Б.
(обратно)32
Зефир (др. гр.) — у древних греков теплым западный ветер. У поэтов-гуманистов эпохи Возрождения и раннего Ренессанса, вообще легкий, нежный ветерок. — В. Б.
(обратно)33
Эол — бог ветров в древнегреческой мифологии; мифический основатель племени эолийцев, внук Зевса, сын Элликл и нимфы Орсеиды, родоначальник всех древнегреческих племен.
(обратно)34
Арфа (как объясняет Большая советская энциклопедия (см.: БСЭ, 3 изд. М., 1970. Т. 2. С. 274) — «щипковый инструмент древнего происхождения… применяется как оркестровый, ансамблевый или сольный инструмент». Какому из двух Эолов принадлежала Эолова арфа, БСЭ умалчивает, как, впрочем, и о многом ином. — В. Б.
(обратно)35
Здесь латинское слово «пурус» — «чистый» не следует путать с термином «пуритане», означающим название одной из ветвей протестантизма, получившей развитие в Англии, — В. Б.
(обратно)36
Берксерьер — слово из древнескандинавского языка, означающее «бешеный», «одержимый», «неистовый». — В. Б.
(обратно)37
Опять Герберштейн. См.: Герберштейн. Указ. соч., там же — В. Б.
(обратно)38
Апокрифы (гр.) — тайные, секретные сказания, не признанные священными, но популярные в средние века среди верующих католиков. — В. Б.
(обратно)39
Де Map ошибается — Гог и Магог — имена не двух сыновей сатаны, а двух диких народов, нашествие которых должно предшествовать Страшному суду. — В. Б.
(обратно)40
Реконкиста (исп.) — «отвоевание» — освобождение Испании от владычества мавров, длившееся с 718 до 1492 г. — В. Б.
(обратно)41
Лас-Навас-де-Толоса — деревня в Испании, возле которой король Арагона Альфонс VIII в 1212 г. нанес сокрушительное поражение маврам. — В. Б.
(обратно)42
Пассионария (исп.) — пламенная. — В. Б.
(обратно)43
Последнее замечание де Мара свидетельствует о том, что он совершенно не знал русской истории. И это тем более странно, что с Герберштейном он все-таки был знаком, но, по-видимому, читал не все его «Записки о Московии», а только «Вступление», откуда и взята была им фраза, на которую он дважды ссылается в своей рукописи. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: до конца XVII в. в Европе о России знали меньше, чем о Южной Америке. — В. Б.
(обратно)44
Наркотик (гр.) — одурманивающий. Слово это не нуждается в пояснении, ибо современный читатель не может не знать его смысла и значения из-за необычайной популярности не столько самих наркотиков, сколько из интереса к ним журналистов. — В. Б.
(обратно)45
Сераль (тюрк.) — в странах Востока женская половина дворца, где жили жены и наложницы восточных владык. Другое название — гарем. — В. Б.
(обратно)46
Такой странный жест означает у народов Востока условное обозначение, что тот человек, которому он адресован, — безумен. — В. Б.
(обратно)47
И снова де Map что-то путает. Орден Ассасинов, существовавший в Иране в XI–XIII вв., окончательно прекратил свое существование в 1273 г. Едва ли хоть какая-то его часть могла дожить до эпохи Возрождения. См.: Строева Л. В. Уничтожение монголами государства Исмаилитов в Иране // Уч. зап. ЛГУ. 1954. № 179. — В. Б.
(обратно)48
Брандер (нем.) — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами и служившее для поджога вражеских кораблей, с которыми оно встречалось под действием ветра или течения. На реках брандеры применялись для сожжения мостов.
(обратно)49
Боковые заграждения — плавучие заграждения из бревен, тросов, плотов, преграждающих вход в порт или гавань; сетевые заграждения дополняют боковые, представляя собою металлические сети, опущенные в воду; комбинированные заграждения — сочетание боковых и сетевых заграждений. При подходе своих кораблей в заграждениях образовывались проходы, но здесь моряки Дувр-Харбора, по-видимому, не ожидали, что среди союзных судов могут оказаться и вражеские брандеры. — В. Б.
(обратно)50
Фужер (фр.) — большой бокал на высокой ножке. — В. Б.
(обратно)51
Ром (англ.) — крепкий спиртной напиток из перебродившего сока сахарного тростника. Сомнительно, чтобы знаменитый артист налил ром в фужер, ибо ром из фужеров не пьют. Здесь либо де Map снова что-то путает, либо Шарль Каплер был большой оригинал. — В. Б.
(обратно)52
И здесь де Map проявляет дремучее невежество и глубокое неуважение к истории России и Монголии. В Новгороде и Пскове издавна были известны такие социальные институты, как Вече, в Московском царстве — поместные Соборы, а в братской Монголии, уровень развития которой, к сожалению, был ниже, все же власть ханов не была абсолютной, ограничиваясь советом, а самих ханов выбирали на съездах советов феодальной знати — курултаях. — В. Б.
(обратно)53
Парсуна (строит.) — от «персона» — портрет. — В. Б.
(обратно)54
Васо — сокращенное от Василиск. На Корсике это было широко распространено. Так, например, корсиканское имя Виссарион сокращенно произносилось как Бесо, Михаил — Миха, Иосиф — Coco, Владимир — Ладо.
Тот же обычай есть и у нас. Георгия ласково называют Жора, Александра — Шура или Саня, Иннокентий — Иннюта или Кеша и т. д.
В III части своей рукописи де Map ссылается на недошедшие до нас и неизвестные современным историкам анонимные мемуары, приписываемые им дочери папы Василиска.
Де Map называет эти мемуары, или записки, что вероятнее, пишет, что когда кардинал Лауренцио приходил в жилые покои ее отца — папы Василиска, то она, будучи на половину корсиканкой, называла кардинала дядя Лаврик, что свидетельствует, что имя Лаурсицяо тоже имело свою сокращенную ласкательную форму. — В. Б.
(обратно)55
Капут (нем.) — конец, кончина. — В. Б.
(обратно)56
Вяще (др. ит.) от «вящий» — великий, знающий. — В. Б.
(обратно)57
Позднее тоже часто прибегали к аббревиатуре. В ваше время из русского языка перешли в другие языки такие всемирно известные слова, как «колхоз», «ГУЛАГ», «ГПУ» и др. — В. Б.
(обратно)58
Пантократор (др. гр.) — вседержитель, созидатель Вселенной. Что же касается термина «Теургия», то он крайне редко встречается в средневековой литературе. По аналогии с термином «Демиург» — в первоначальном смысле слова «свободный мастер, художник», во втором смысле — творец, созидатель можно толковать термин «Теургия» как сложное слово, состоящее из двух слов: «Те», то есть «Теос» (др. гр.) — бог и «ургия» — служба, сравни с «литургия». Таким образом, де Map считал «Великий хорал» неким сверхбожественным песнопением, своего рода опоэтизированном сверхценной идеи. В средние века такого рода проявления были присущи крайне оголтелым религиозным фанатикам. В наше время само понятие «сверхценной идеи», как, например, идеи, способной перестроить мир на каких-то новых, нетрадиционных началах, относится к области клинической психиатрии. — В. Б.
(обратно)59
Здесь «Лапидарий» — от латинского «Лапидус», что означает «краткий». Де Map часто прибегает к простонародному сленгу той поры, что делает временами его изложение живым и увлекательным, приближенным к языку нашего времени. По-видимому, де Map испытал на себе сильное влияние светской — чуть было не написал «советской» литературы, ибо время, когда он работал над своей рукописью, уже было временем позднего средневековья и Европа стояла на пороге Нового времени. — В. Б.
(обратно)60
Здесь в тексте у де Мара непереводимая игра слов. Можно перевести, как мы и сделали, «для других нужд», можно и «по нужде», имея в виду употребление книги в «ретирадных», как тогда говорили, местах, что по-русски толкуется, как «нужное место» или просто «нужник». — В. Б.
(обратно)61
И здесь де Map что-то путает. Библейская страна, где жили самаритяне (самаряне), находилась в Центральной Палестине. Их центром был город Самария, основанный ок. 875 г. до н. э. (др. евр. город Шамрон, ныне селение Себастия в Иордании). Самаритянами город был заселен в 722 г. до н. э. после захвата Шамрона Ассирийским царем Саргоном II. Разрушен в 107 г. до н. э. иудейским царем Иоанном Гирканом. В 60-х гг. до н. э. восстановлен римлянами. В Себасту переименован чуть позже царем Иродом. Членам городской общины Самаритян были присущи доброта и человечность, что нашло отражение в известной притче о добром Самаритянине и в легенде о Самаритянке (см.: СИЭ. М., 1969. Т. 12. Стр. 506–507). Что же касается долины реки По, то никакой Самарии и Самаритян там никогда не было. — В. Б.
(обратно)62
Бона Сперанца (лат.) — Добрая Надежда. Возможно, именно в честь этой святой португальский король Жуан II назвал так мыс Бурь, открытый португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем в 1487 г.
Хеннит Р. Бартоломеу Диаш открывает мыс Доброй Надежды. Неведомые земли. М., 1963. Т. IV. С. 401–409. — В. Б.
(обратно)63
Де Map неплохо знал Библию и точно воспроизводит фрагменты ветхозаветных сюжетов, о которых упоминал Эмиль Хубельман. Пять аморейских царей и семья грешника Ахана были побиты камнями в библейской притче о Иисусе Навине (см.: Книга Исхода, 24, 13; Книга Чисел, 11, 28 и др.). — В. Б.
(обратно)64
Квази (лат.) — как будто, псевдо (гр.) — ложь, приставка, соответствующая русскому «лже». — В. Б.
(обратно)65
Каббала (др. евр.) — предание, средневековая религиозно-мистическая «наука», утверждавшая, что основой всего сущего является единый Бог, а мироздание зиждется на 10 цифрах и 22 буквах еврейского алфавита. Каббала допускала и переселение души. — В. Б.
(обратно)66
Магия (лат.) — чародейство, волшебство, колдовство. Делилась на белую магию — колдовство с привлечением божественных сил и на черную магию — колдовство с помощью нечистой силы. Магия частично основывалась и на каббале. — В. Б.
(обратно)67
Пуркуа па? (фр.) — почему бы нет? — В. Б.
(обратно)68
Кварта (лат.) — четверть, единица объема жидких и сыпучих тел объемом около 1 литра. — В. Б.
(обратно)69
Друкарь — наборщик и печатник в средневековых типографиях, специальность, возникшая после изобретения Гутенбергом в 1440 г. европейского книгопечатания. — В. Б.
(обратно)70
Вибурнум (лат.) — калина. Об имени кардинала Михаила вы узнаете далее. — В. Б.
(обратно)71
И здесь Вольф де Map снова что-то путает. В Швейцарии никогда не было такого кантона, можно предположить, что это местное нарицательное наименование какой-то части какого-то кантона. Хотя название вполне романское. «Лат», скорее всего — «Латинская», «Галлия» — Франция. Откуда можно предположить, что это, скорее всего, группа небольших бедных хуторов, которые представляли собою предмет насмешек у сытых богатеев — поселян и бюргеров крупных богатых городов. Нечто отдаленно напоминающее принятое в дореволюционной России уничижительно-пренебрежительное название Украины «Хохляндия» или Эстонии «Чухляндия». — В. Б.
(обратно)72
Орден Кармелитов относится к числу так называемых «нищенствующих орденов». Орден был основан во второй половине XII в. в Палестине, на горе Кармель — отсюда и название. Его монахи занимались миссионерством и сбором подаяний. Затем кармелиты перебрались и в Европу. — В. Б.
(обратно)73
Пьемонт — историческая область на севере Италии. По территории Пьемонта протекает самая большая река Италии — По. Пьемонтцы шутливо называют ее «Итальянской Миссисипи» или «Итальянской Волгой», ибо последние — самые крупные реки Северной Америки и Европы. Жители долины По — свободолюбивы, трудолюбивы и талантливы. В их чертах соединились лучшие качества итальянцев. В разных городах, стоящих на реке По, родились известные всему миру великий итальянский новеллист Макс Кнехт, знаменитый певец Теодор и др. — В. Б.
(обратно)74
У де Мара в рукописи встречается тройное написание: «Католики», «кафолики» и «кайфолики». Сначала я принял это за небрежность или описки, но потом понял, что эти названия не разнобой и не случайность, хотя по старости лет или еще почему-либо де Map не выдерживает строгости в их употреблении и пишет порой, как Бог на душу положит. — Д. Б.
(обратно)75
И здесь Вольф де Map сильно путает историю. Известно, что созданный с благословения папы Иннокентия III Орден Меченосцев, официально называвшийся «Братья Христова воинства», получил свое название от того, что на белых плащах орденских братьев были изображены мечи. Орден был основан в 1202 г. и прекратил свое существование в 1237 г., после того как был разгромлен в Прибалтике объединенными силами литовцев и земгалов, а его остатки слились с Тевтонским орденом в Пруссии. О каких меченосцах идет речь в его рукописи — непонятно. — В. Б.
(обратно)76
Провиденциальный (лат.) — провидение, отсюда — провиденциализм религиозно-идеалистическое воззрение, пытающееся рассмотреть в каждом явлении, факте и даже имени предопределенный смысл, приписываемый божественному провидению. — В. Б.
(обратно)77
Илия (др. евр. — «Бог моя Яхве») — в Ветхом завете (см. 3 и 4 Книги Царств) — пророк, единственный во всем Израильском царстве, смело вступивший в борьбу и с царями, и с жрецами. Илия вошел в Ветхозаветную историю как чудотворец, одаренный почти божественной властью, и великий пророк, устами которого глаголет Бог. Илия предсказывал будущее, и что бы он ни предрекал, все сбывалось. В христианской традиции и истории он представлен как аскет, взятый в конце концов живым на небо прилетевшей за ним огненной колесницей. С тех пор в мифологии многих народов Илия-пророк считается повелителем грома и молнии, раскатывающим по небу в огненной колеснице. — В. Б.
(обратно)78
Филистер (нем.) — ханжа и обыватель. — В. Б.
(обратно)79
Коллаборационист (фр.) — предатель родины, конфедерация и веры, сотрудничавший с «Черными ландскнехтами» во время Второй Великой Религиозной войны. — В. Б.
(обратно)80
Бадья (ст. ит.) — ведро. — В. Б.
(обратно)81
В древности каждая буква алфавита имела свое числовое значение. В средние века христианские богословы, подсчитав таким образом имя римского императора Нерона, получили число 666, которое, по Апокалипсису «Откровению Иоанна Богослова», — считалось числом «Зверя» — Антихриста. Василиск, получивший духовное образование, не мог не знать этого и потому именно так и пошутил со своим земляком и другом. — В. Б.
(обратно)82
Корсиканское народное блюдо шашлык в дальнейшем получило распространение и в других регионах Италии. Лет шесть назад было популярно и в нашей стране, особенно в Закавказье и Средней Азии. Приготовлялся шашлык из кусков баранины, нанизанных на вертел. Затем баранина поджаривалась на углях или небольшом огне. — В. Б.
(обратно)83
Жальгирис (литов.) — название места исторической битвы, в которой в 1410 г. объединенные силы литовцев, поляков и русских разгромили Тевтонский (Немецкий) орден. Поляки и русские называют эту битву Грюнвальдской, немцы — сражением при Танненберге, литовцы — битвой при Жальгирисе. Де Map, по-видимому, ошибается, называя награду «Крестом Жальгириса», ибо так мог называться литовский орден, а польский, скорее всего, был бы назван «Крест Грюнвальда». — В. Б.
(обратно)84
Ватиканская, да и вообще католическая, бюрократическая волокита навеки вошла в историю как недосягаемый образец, которому нет аналогов в мировой истории. В этом читатель убедился, узнав о процедуре подготовки документов и самой процедуры для вступления в Ватиканскую Академию, в этом же мы убеждаемся, прочитав бесхитростный рассказ де Мара об оформлении бумаг, необходимых простому провинциалу — будущему семинаристу. Забегая вперед, скажу, что в капители III, где де Map описывает свое поступление в семинарию, нарисованная им картина просто повергает и ужас и наводит бесконечное уныние, напоминая какой-то гротеск, хотя сохранившиеся во многих архивах Европы так называемые «Анкеты», заполнявшиеся тогда при поступлении в семинарию или на любую службу, подтверждают истинность слов автора рукописи. — В. Б.
(обратно)85
Кафедра (гр.) — стул, скамья. В средневековой Европе не только возвышение в церкви, откуда произносились проповеди, но и название церкви, в которой служил епископ, занимавший епископский «стул» — трон. Отсюда и название кафедральный собор. — В. Б.
(обратно)86
Здесь вновь подтверждается справедливость только что сделанного нами комментария о бюрократизме бесчисленных ватиканских чинуш. — В. Б.
(обратно)87
Далее в рукопись де Мара оказалась вшита довольно толстая тетрадь, по формату чуть меньше самой рукописи, — следует, впрочем, отметить, что из-за неоднократного включения самых разных посторонних источников — чужих рукописей, дневника Сперотто, конспектов лекций и т. п. — «Заговор в Ватикане» представляется в археографическом и источниковедческом отношениях предметом довольно сложным, но от того и более интересным и, главное, более правдивым, так как подлинность материалов, оказавшихся в рукописи в качестве вкраплений, вызывая множество недоуменных вопросов, в целом не вызывает никаких сомнений в их истинности. — В. Б.
(обратно)88
Ты и ты. Вы оба должны подождать здесь до утра (нем.).
(обратно)89
Вы можете здесь спать (нем.).
(обратно)

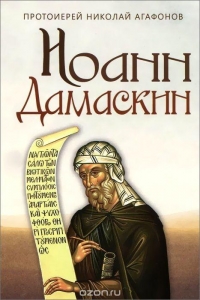
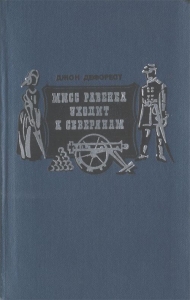

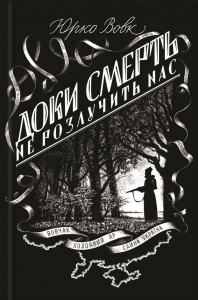
Комментарии к книге «Русско-прусские хроники», Вольдемар Николаевич Балязин
Всего 0 комментариев