Владислав БАХРЕВСКИЙ Отрочество Ивана Санина
Повесть
ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ГОРЫ
Вышел со двора — и на горах.
А горы все земляничные. Ягоды у самых ног, но Ваня не кидается срывать, набирать, лакомиться. Как можно такое диво порушить?
Много ли убудет от горсти сорванных ягод? Убудет! Алые, благоуханные огоньки хвалят Господа. Всякая земляничка — творение Божие.
Горы, где полого, где круто сбегают в пойму речки Лакныш.
Травы уж такие зелёные, такие счастливые, словно дождались глаз твоих и вздохнули благодарно. От радости душа белая, как белый свет. Вот и солнце белое. До того белое — посмотреть на него невозможно.
А как же хорошо, как тревожно рекой пахнет! Вольный дух текучих вод сильнее земляничного.
На другом берегу реки — терем. В тереме соседи живут, дворяне Кутузовы. У Кутузовых сын, Ванин сверстник — Борятя, а сам Ваня — дворянин Иван Санин. Иван Иванович, потому что батюшка — Иван.
— Ванечка! Ягодок покушай! — нянька держит перед барчонком пригоршню отборных, наливных…
— Сам! — Ванечка сердито хмурит брови. Нянька с мысли сбила. Не додумал важное, вот только что?
Дом, сад, церковь. Село Язвищи. Язвищи — поместье Саниных. Родовое.
Вон о чём думалось! Село и барский дом стоят на горе, а на самом-то деле на равнине.
Ваня поднимает глаза к небу. Ни облачка, ни перышка. Синева бездонная. За этой синевой, на небесной горе, выше которой не бывает, — Дом Господа. Возле Дома Господа райский сад. И возле их дома сад, яблоневый.
Видят ли святые люди, что там, за синевою? Спросить бы у дедушки Григория, он теперь инок Герасим. Но дедушка в лесу живёт, в монастыре.
— Ванечка, ягодки ждамши тебя истомились!
Ваня берёт ягоду. Одну, но вся земляничная гора теперь в нём. Сам он — частица горы, поймы, речки, солнца, неба.
Чудо у Бога. Утвердить бы чудо и на земле. Пусть будет с ним, с Иваном Саниным, с доброй нянькой Пелагеей, с матушкой, с батюшкой, с Борятей Кутузовым.
Ваня осеняет себя крестным знамением и ликует: крепче печати нету!
НАШЕСТВИЕ
Стучит, стучит сердечко. Семья Саниных идёт в церковь, в Дом Бога. Трое маленьких на руках нянюшек, но даже малые в праздничном платье. У Бога, в Доме Его, — праздник на все времена.
Нынче молятся иконе Богородицы «Нерушимая Стена». В сердце Вани любовь и великое изумление. В этот самый час, в этот самый миг во всех соборах, во всех церквях, да и в часовенках — сколько их на русской-то земле! — поют едино.
— «И ты, Владычице, не напрасно именуемая Нерушимой Стеной, будь для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творити мне, воистину некоей преградой и Нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний».
Ваня поёт молитву, следуя за отцом, голос Ивана Григорьевича чудо как хорош, ведёт за собой и певцов клироса, и всех прихожан. У матушки пение серебряное, придвигает к себе старшего сына, и у Вани из глаз — слёзы. Его душа устремляется к алтарю. Все души в храме, крестьянские, господские, причта, нищей братии сливаются над престолом — и теперь это одна пресветлая душа православного народа. Ваня спиной чувствует Нерушимую стену. Она то же, что крылья у ангелов.
А поутру гонец из Москвы: на коня садись, дворянин Санин! С оружием. В Суздаль поспешай. Казанская орда хана Улу Махмета Владимирскую землю грабит.
Матушка ни слезинки не уронила. Взяла в Красном углу икону Спаса, и все Санины приложились к святому Образу.
— Храни, Господи, в походе и в сражениях отца детей моих, мужа моего, защитника дома и жизни.
Иван Григорьевич с двумя слугами, все верхами с запасным боевым конём, с гружёным доспехами, оружием, едой выехали за ворота, и дом радостной жизни тотчас стал домом тихого ожидания.
Матушка нищих в тот день кормила. Нищие по земле русской из конца в конец ходят, всё знают.
Ваня с нищими за столом сидел, из одного горшка щи хлебал, много чего услышал про хана Улу Махмета.
— За грехи наслал Господь яко саранчу — орду казанскую! — говорил крошечный, но с бородой до колен старичок, посаженный нищими во главе стола. — Саранча — осьмая казнь фараона египетского.
— За что нас казнить? — смиренным голосом, не поднимая глаз от ложки, молвила нищенка, — Я в Киеве была, в Литовской земле, в самих Карелах! Наш народ у Бога не срамнее других. Наш народ тише, а жизнь у него горше.
— За митрополита Исидора терпим! — сказал сурово маленький старичок. — Исидор-еретик продал православную Русь Папе римскому. На красную мантию польстился. Он теперича кардинал!
— Исидор — сатанинский хвост. А народ-то причём? Ты Христа не продавал, я не продавала. На отрока погляди! — нищенка указала на Ваню. — Экий ясный свет в его глазках. За что малых детей наказывать?
— За что, спрашиваешь? — осерчал старичок, — Князь Дмитрий Иванович Донской — меч и щит Московского царства — пятьдесят лет тому отошёл ко Господу, и все полвека сыновья да внуки воистину великого князя смертным боем дерутся друг с другом. Города грабят, церкви жгут!
— Грех ровесник Адаму и Еве! Молимся плохо, — сказал нищий с удивительным радостным лицом и тоже на Ваню показал, — на них упование! На детскую молитву. Без детских молитв давно бы окочурились. Наша Русь — древняя, а до сих пор — дитя. Ты, отроче, помолись за нас!
Нищий встал, отёр бороду, трижды поклонился Ване.
— Зачем отрока смущаешь? — насупился старичок. — Лучше расскажи нам, откуда он взялся, татарский Навуходоносор? Ты ведь сам был пленником казанского хана!
— А как же! — просиял щеками, глазами. — Всё претерпел!.. Я у батюшки Макария, игумена обители Желтоводской, в истопниках подвизался. Послушание у меня такое было. Я дровокол не из худших!
— Ты о хане расскажи!
— Хана Улу Махмета видел, вот как тебя. Золотых халатов не носит. А глаза у него — как две стрелы. Глянет — и ты уже раб.
— Не мудрствуй, говори, что знаешь о вороге.
— Что знаю? Золотая Орда. У ордынских царевичей жизнь переменчивая. Улу Махмет — внучок грозного Тохтамыша. Посадили его на трон, а ему показалось мало быть хозяином в Сарае. Пять лет бился за Узбекский улус, а потерял всё своё царство. Изгоем скитался. Навёл на татар литовские полки, его отец хан Джеляль был другом Витовта. Вернул себе царство, да ненадолго. Убежал в Крым, в Крыму ханствовал. Был другом турецкого султана Мурада. Да токмо власть многим всласть, и в Крыму Махметку с ханской кошмы ссадили.
Ваня дышать перестал, не пропустить бы что. Сколько нищие-то знают! А радостный всё веселился.
— Думаете, куда наладился ордынский царь из Крыма? Московскому князю служить. Белев себе испрашивал. Города не трогал, в юртах жил, в шалашах. А зима в тот год уродилась морозная. Улу Махмет за тепло готов был верной дружбой платить, но Василию Васильевичу хан был приятелем, когда в Сарае сидел. Вместо привета послал на татар Шемяку с большим войском. Шемяка и есть Шемяка. По дороге русские сёла пограбил. Улу Махмет ну никак войны не хотел. На коленях, на паперти молил русского Бога о благодати. Обещал Шемяке накрепко: как вернёт себе власть в Сарае, в тот же день освободит Русь от дани, будет ей вечным другом.
— Господи! — ахнула нищенка. — Хороший, знать, человек, татарин-то!
— Улу Махмет — слову верный. Да только князь Василий был далеко, а Шемяка позарился на золото. Был слух, хан увёз казну Золотой Орды. А войска у хана — трёх тысяч не было. Чего золотишком не поживиться. Шемяка под рукой имел сорок тысяч!
— Господи! Господи! — пожалела хана нищенка.
— Бог правду видит! — засмеялся весёлый рассказчик. — Побил хан Шемяку. Но в Белеве не долго сидел. Переждал зиму и ушёл на Волгу. Казань построил. А за обиды уже через год отомстил Москве.
— Это мы помним! — сказала братия. — Хан Москву десять дней в осаде держал. Кремля не взял, но город сжёг.
— А на обратной дороге, — прозвенел колокольчиком рассказчик, — Желтоводский монастырь батюшки Макария под корень разорил! Крестьян да монахов в Казань увёл!
— Чего же ты всё радуешься? — изумились нищие. Рассказчик снова засмеялся.
— Живой! Не съел меня татарин. А батюшку Макария хан возлюбил. Я сам видел, как они по саду гуляли. Улу Махмет недолго держал нас в плену. Четыре сотни людей отпустил домой с батюшкой. Но слово взял: не селиться на Жёлтых водах. Сказал батюшке: * Земля нижегородская отныне — улус Аллаха! Русь велика, найди себе, старче, иное место для молитвы. Сокровенное».
— Тебя послушать: хан — золото! — старичок ладонью по столу хлопнул в сердцах.
— Велика беда казанская, — сказала братия. — Ох, велика! Татары рязанскую землю пограбили, мордовскую. Хан в Нижнем Новгороде теперь сидит. На Владимир глазами разбежался.
Нищие поворотились к Ване.
— Твой батюшка защитит нас от злого татарина. Молись. И мы помолимся.
Поднялись, возблагодарили Господа за хлеб, помянули добрым словом дающих. Батюшку раба Божьего Ивана, матушку — рабу Божию Марину, всех детушек, весь род Саниных.
В СКИТУ
Накормить нищих дело богоугодное. Чем ещё жена поможет мужу, коли муж в полку, в сражениях? Слёзы лить страшно. Не приведи Господи беду наплакать.
Подхватила матушка Марина всех своих четырёх, ненаглядных, поехала в скит к старцу Герасиму.
В скиту церковка на дюжину молящихся, а страх перед казанским царём уже докатился до Волока до Ламского. Из города, из сёл, из деревень шли православные к монахам поискать заступничества Пречистой Матери. Будет воля Божия, укроет Милостивая Своим спасительным покровом стариков и детей, и самую жизнь от злой войны.
Матушку Марину с малыми ребятами отец Герасим к певцам поставил, а Ваню взял за руку, привёл в лес.
— Вот тебе храм Господний! — руки простёр, указывая небо и строгие, похожие на церкви ели. — Молись. Коли сердце отворено Богу, Бог придёт в твоё сердце. Меня, грешника, помяни. Вырастешь, поставишь храм выше этих ёлок. Молись и Бог даст.
Старец ушёл, а Ваня не смел поднять глаз на ели. Ни единого звука в лесу. Птицы замерли, слушают, как стучит отрочье сердце.
— Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! — сказал слова молитвы одними губами.
Глаза поднимались по елям, а ели шатёр за шатром, а в поднебесье росток вершинки будто перст указующий. Голову пришлось запрокинуть — высоко!
«Аминь!» — крикнуло Ванино сердце.
И его услышали. Малой малости не переменилось на земле, но Ваня знал: его услышали. Попросить Господа о батюшке не успел. Да ведь и не знал, какие слова надобно сказать, но сердце уже получило ответ: батюшка скоро будет дома.
Иван Григорьевич воротился в Язвищи жив-здоров. Всем семейством стояли обедню, молились радостно, но праздника в душах не было.
Забота и тревога смотрела на детей глазами батюшки.
До войны дворянину Санину не дали доехать, перехватили на дороге Шемякины разведчики. Князь галичский Дмитрий Юрьевич Шемяка весною приходил с войском к Мурому на помощь великому князю Василию Васильевичу. Тогда они побили орду хана Улу Махмета. Но теперь Шемяка оставил Москву один на один с Казанью, а Василий Васильевич не успел собрать войско в Суздале. Имея всего полторы тысячи ратников, сразился с казанцами под стенами Ефимьева монастыря. Побил, погнал и — угодил в засаду.
Великий князь московский — пленник! Шемяка несчастью Василия Васильевича радовался так, будто сам положил Москву на лопатки. Послал хану благодарение, просил не пускать внука Дмитрия Донского на волю.
— Шемякина правда — не Богова! — сокрушался Иван Григорьевич, Ваня головкой на материнских коленях лежал, кудряшки матушка ему расчёсывала. — Маринушка! Уберёг нас Господь! Князь Дмитрий Юрьевич меня с дъяком Дубенским хотел послать в ханскую ставку, в Курмыш. Платья достойного у меня не нашлось. Дубенского-то перехватили московские воеводы.
Матушка охнула, а у Вани перед глазами явилась ель, похожая на храм Божий.
— Шемякина затея пустая. Улу Махмету нужна сильная Москва, о власти над всей Ордой промышляет. Ему союзник нужен. Возьмёт с Василия Васильевича окуп и отпустит. Двести тысяч запрашивает.
— Двести тысяч! — ужаснулась матушка, — Москву что ли князь продаст? Где такую казну сыскать?
— С народа три шкуры сдерут.
— Сдерут, — согласилась матушка.
Ваня представил себе дворовых людей без кожи. Заплакал.
Получилось так, как Иван Григорьевич говорил. На Покров отпустил хан Улу Махмет великого князя Василия Васильевича. Мало того, с князем из Орды выехало служить Москве пятьсот мурз и два царевича, сыновья Улу Махмета — Касым да Якуб.
— Виданное ли дело!? — сердито удивлялся Иван Григорьевич. — Московские дворяне — татары!
ЖЕМЧУГ МАЛОЙ РЕКИ
— Ванечка! Ванечка! Порадуйся! Поиграйся! Наши мужики наловили, наши бабы заморили.
В светлице, на лавке в двух деревянных вёдрах — жемчуг. Горох русалочий.
Светят потаённо, застенчиво, этак дворовые девицы улыбаются господам. Девицы и замаривают жемчужины — во рту держат по два часа, потом на груди, чтоб человеческого тепла набрались.
— В Локныше-то совсем бедно, — вздохнула нянюшка. — А в малых лесных речушках вон сколько! За лето наловили. Красота бережения.
Ваня погрузил руки в жемчуг. Глазам ласково, рукам ласково. Наклонил голову, коснулся жемчуга щекою.
— Нянь! А кто жемчуг-то приберёг?
— Господь Бог! Всё на белом свете от Бога… Девицы-красавицы тебе рубашку к Троице жемчугами разошьют. Как ангел будешь!
Ваня отпрянул от вёдер.
— Нянь! Ангелы бестелесные!
— Голубчик! Ты наш ангел, домашний. Ты — дитё, а дети у Бога чина ангельского.
В светлицу пришли дворовые женщины, принялись разбирать жемчуг. В одно сито окатный, круглый, в другое — половинчатый, в третье — уродец, туда же большие жемчужины. С голубиное яйцо попадаются! Ване — играться — отсыпали в глубокую чашку.
Брал жемчужину за жемчужиной, держал на ладони, подставлял солнечному лучу. О каждом человеке Бог ведает и о каждой жемчужине ведает.
Девицы, работая, разговоры завели. Одна сказала:
— Мне нонча деревня наша приснилась. Весь день работаешь, и во сне работала.
— Слава Богу! — порадовалась за девицу нянюшка. — Гулять во сне по деревне нехорошо, всё состояние потерять можно, а работа — к прибыли, к доброму здоровью.
— А я, Господи помилуй! — стыдный сон видела, — призналась Настенька, самая молодая из девиц. — У меня груди девичьи, а снились уж такие полные, аж носить было тяжело.
— Опять к добру! — истолковала сон нянюшка. — Долгая жизнь будет, а к старости так ещё и богатая.
— Ну, а коли что к печали приснится, к худу, к смерти — неужто спасения нету? — спросила рукодельница Агафья, примеряя Ване рубашку.
— Бог милостив! — вздохнула нянюшка, — От всех зол наших, от всех бед лучшее лекарство — подаяние. Молитва — дойдёт ли, нет? Это как молиться. А за милостыню Господь наградит.
— Верно! — обрадовалась Настенька. — Наши господа щедрые нищих обувать, одевать, кормить, потому и живут в богатстве, в согласии.
Вдруг вся светлица услышала:
— А сколько нужно подать милостыни, чтоб баскаки не ходили по нашей земле?
Ваня стоял с пригоршней жемчуга, протягивал диво иконам. Нянюшка слезами умылась.
— Ванечка! Господин ты наш пригожий! Ангел! Поспеши, радость наша, к матушке, она, чай, уж заскучала без тебя.
Ваня на порожке запнулся, на иконы посмотрел: «Услышит ли Господь, ежели все русские люди милостыню подадут? Ежели все дети, коли они ангельского чина, попросят Иисуса Христа вызволить православных из плена Орды?»
Прошёл по двору, за ворота и в церковь. На паперти сидели нищие. Семья погорельцев. Старуха, молодуха, малые дети. Детей было шестеро.
Никто руки не протянул, и Ваня даже обрадовался, у него ничего не было с собой.
Служба давно кончилась. Ваня подошёл к иконе «Спаса», поцеловал. Поцеловал икону Богородицы с младенцем. Поцеловал образ Иоанна Златоустого, во имя святителя крещён. Заступник и водитель.
Вышел Ваня из церкви, а старуха делит ломоть хлеба, чтоб всем деткам досталось.
Будто свечечку в сердце Ванином Ангел его зажёг. Снял однорядку, рубашку, снял чоботы, положил перед погорельцами и домой побежал.
Навстречу нянюшка. Увидала дитё голенькое, босое, а на дворе-то осень — в ноги барчонку повалилась.
— Что стряслось?
— Погорельцам милостыню подал.
Тут на крыльцо матушка вышла. Нянька Пелагея на коленях к барыне поползла.
— Пощади, госпожа! На малое время оставила Ванечку. К тебе он пошёл…
Ваня упорно глядел в землю.
— Я милостыню погорельцам подал. Матушка обняла сыночка.
— За доброе сердце не казнят.
И вдруг все замерли, как в заколдованном царстве. Повернул Ваня голову, а мимо церкви, через Язвищи — татары. Возы скрипят и столько, знать, добра везут, что лень грабить.
Обмерло село. Очнулось, когда татары за околицей скрылись. Матушка подняла сына на руки, поцеловала в глазки.
— Не твоя ли, сынок, милостыня избавила нас, грешных, от неминучей беды?
Тут дверца в воротах хлопнула, явилась пред очи госпожи погорелица, матушка шестерых дитятей. Рубашку и чоботы подаёт.
— Прости, боярыня! От изумленья опешили, не вернули сразу, а потом — баскак по селу шёл.
— Откуда вы?
— Изба наша стояла возле Крестовоздвиженской церкви.
— Вот что матушка! Милостыню назад не берут, — строго сказала барыня. — От господина моего да от меня, от детей моих будет тебе сверх Ваниной милостыни — воз хлеба и полтина денег на избу.
Тут все и расплакались. От милости матушки барыни, от чуда спасения, о котором и подумать не чаяли, от любви к Господу Иисусу Христу, к Заступнице Богородице, и по себе, сирым, но Богу-то угодным!
— Это не баскак нас миновал! — объяснил домочадцам Иван Григорьевич, был он спокоен, но лицом бел. — Это пожаловал в своё имение Кара-мурза. Вот какого соседа обрели милостями великого князя Василия Васильевича. Беда от Москвы.
Замерло сердечко у Вани. От Золотой Орды — беда, от Москвы — беда, кто же даст покой их Язвищам?
СУД
Год прожили неспокойный, но прожили. На Преображение Господне Иван Григорьевич Санин давал суд своим мужикам и бабам. Погода хорошая, на крыльце поставили два стула, большой для господина, малый его старшему сыну, семилетнему Ивану Ивановичу. Перед началом суда нянюшки вывели к народу и трёх младших Саниных. Последыша кормилица на руках держала.
— Детей моих ради, — обещал Иван Григорьевич, — судить буду по всей правде, а посему зла на меня и на детей моих не затаивать!
Для начала разобрал дело о наследстве братьев. Двое старших пахотную землю оставили за собой. Забрали четырёх лошадей, полдюжины коров, стадо овечек и две избы, старую и новую. Третьяку досталось болото и четыре борозды пахоты. Дали ему телегу, сани, два хомута, а лошади не дали. Годовалую тёлку не пожалели, петуха с курами. Иван Григорьевич младшего спросил:
— Что же ты помалкиваешь? Тебе досталась банька для жилья да коза. Справедлив ли такой делёж?
— Господин! — поклонился младший брат судье. — Мне гусей ещё дали, вожжи, узду, кафтан и сапоги! Коли станет невмоготу, оденусь, обуюсь, взнуздаю гусей, куда-нибудь да отнесут.
Среди баб смешки пошли. Мужики, кто улыбается, а кто и насупился. Вот она неправда! Но что барин скажет.
А барин думал. Долго думал, все насторожились. Вздохнул Иван Григорьевич.
— На первый погляд, дело явное. Но коли землю поделить поровну, вместо одного богатого будет у нас в Язвищах четыре нищих семейства. Годится ли такая правда в правды?
Бабы охать, мужики креститься.
— Вот мой суд, да простит меня Господь, коли правду попрал, — объявил Иван Григорьевич. — Землю поделить велю заново между старшими братьями. Но четвёртая часть урожая с каждой половины пойдёт на кормление младших братьев. Ты, Третьяк, мужик степенный, справедливый. Беру тебя в свою дворню, будешь за амбарами смотреть, будешь собирать мою долю с мужиков. А ты, гусиный наездник, силой не обижен, умом, как погляжу, востёр. Пойдёшь в ученики к кузнецу. Так-то! — повернулся к Ване. — Сын, согласен с отцом?
— Согласен, батюшка! — личико строгое, а в голосе слёзы. Положил отец руку на руку сына: чуткое сердечко. Бабы тоже слёзы утирали: за их господ только Бога молить.
Следующее дело опять было о наследстве. Поставили перед Иваном Григорьевичем двух невесток. Остался им от свекрови сундук. Сундук под замком, ключа не нашли, но невестки разодрались люто. Скалками друг друга лупили.
— Что в сундуке лежит, знаете? — спросил барин баб. В один голос ответили:
— Не ведаем, господин!
— А скажите мне, скалкой прибить до смерти можно?
— Коли в висок попадёт, смертушки не миновать! — сказали мужики. У Ивана Григорьевича бровь круто вверх пошла.
— Вот вам, родственнички, мой указ. Отнесите сундук в Покровскую церковь, се будет ваш вклад. Каждой по сарафану да по овчинной шубе, от меня. И.мера белой муки да круг масла. Блинов напеките себе и детишкам в удовольствие.
Третьими судились соседки. Баба прибила камнем курицу, забредшую в огород. В отмщенье обиженная ссекла серпом голову соседского гуся. Вилами друг другу грозились.
Грозным стал добрый барин.
— Зло плодите! Чтоб поумнели, всех кур и всех гусей у шабров зарезать и устроить общие поминки по глупым распрям.
Тут все собравшиеся судиться отступили прочь в толпу. Впрямь поумнели. А Иван Григорьевич брови-то аж сдвинул.
— Отчего никто не захотел суда над убийцей отца семейства из сельца нашего Скирова? А ведь ещё двое калеками стали: один глаза лишился, у другого рука сохнет.
— Грешны, барин! Уж такое вот приключилось! — мужики крестились, в затылках чесали. — За пойменный луг схватились, кольями-то все махали.
Поднялся Иван Григорьевич со стула, грянул, аки гром:
— Чтоб в разум вошли, чтоб я из-за дури и злобы душ не лишался, а ваши дети — кормильцев — будет вам порка. Сначала мужики Скирова порют мужиков Язвищ, а потом мужики Язвищ порют мужиков Скирова. Для первого раза — будет вам лоза, по тридцати ударов. А ежели опять дело пойдёт у вас к побоищу, идите сразу ко мне на двор, кнутом пороть друг друга. А с поймой так положим: год одни косят, другой год — другие.
Перекрестился на престол церкви и объявил:
— Как перепорете друг друга, приходите к общей трапезе великого праздника ради.
Взял Ваню за руку, оба поклонились народу, ушли в хоромы.
ГОСТИ ИЗ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО
Мягко стелет февраль. Ночью буран стены ломит, а поутру тишина, снег, как младенец. От белых полей света больше, чем от солнца.
Такое светоносное половодье, будто Русь не на земле — на небесах. Беззаботным людям да малым ребятам — весело, но мудрые призадумывались. Ночное кипение снегов вещало им о потаённом борении добра и зла.
Наждали-таки несчастье! Галицкий князь Дмитрий Шемяка, с тверским да Можайским князьями обманом, без приступа, взяли Москву, Шемяка нарёк себя великим князем Дмитрием III. Страшное свершилось дело, но сказать, чтоб совсем уж воровское! По древнему русскому праву не отпрыскам Дмитрия Донского, а его брату Юрию Звенигородскому, отцу Шемяки, должно было сидеть в Москве.
Разыгралась смута, князь Юрий искал правды в Золотой Орде, но московские подачки и посулы были богаче. Не преуспел, взял Москву силой, да только новый порядок наследования высшей власти был на Руси от Бога. Недолго обременял великий стол князь московский Юрий Иванович. Господа Иисуса Христа и он любил — строитель дивного Савво-Сторожевско-го монастыря. Вот и призвал Всевышний раба Божия к себе. Наследникам образумиться бы! Но худое дело отца переняли сначала старший сын Василий Юрьевич, такой же неудачник, а ныне младший — Шемяка.
Молва не ведала, куда подевался великий князь Василий Васильевич. Колокола заупокойно не звонили. Стало быть, жив. А коли жив, не сегодня — завтра жди войны.
Домашняя война злей татарского набега. Татарам лишь бы сливки слизать, а свои в своей же кадушке готовы дно вышибить. Коли не мне пиво, пусть всё в землю уйдёт, без остатку!
Для Ивана Григорьевича Санина весть о перемене власти была горше сполошного колокола. Приказал лошадей держать запряжёнными. Где чего затеется, тотчас везти семью в скит, в глушь. От греха.
А грех вот он!
Дошла до Волока Ламского новая чёрная весть: московский князь Василий Васильевич Пресветлый отныне Тёмный. Шемяка ослепил своего врага. Великий князь на богомолье был в Троице. И не великий он ныне. В Углич увезли. Где же Тёмному с Московским царством управиться?
В те дни в Язвищах по дороге в Москву остановились на ночлег приятели Ивана Григорьевича, четверо новгородцев. Ваня, хоть и в малых летах, но был за столом. Наследник.
Новгородцы не жалели Василия Васильевича Тёмного.
— Поделом ему! — сказал самый величавый из гостей. — У зла эхо долгое. Катилось-катилось и аукнулось. Не Василий ли Васильевич десять лет тому назад ослепил двоюродного брата своего Василия Юрьевича, коего ныне Косым кличут?
— Что о них горевать! Пусть поскорее истребят друг друга. Наше время пришло! — розовощёкий молодой новгородец пугал Ваню чёрными без блеска медленными глазами. Подождал, не скажет ли кто чего и прибавил:
— С Дмитрием Юрьевичем с Шемякой Великий Господин Новгород вернёт свою славную волю. Натерпелись от Москвы.
Иван Григорьевич, глянув на сына, сказал осторожно:
— За Василия Тёмного — князья и бояре Патрикеевы, Ряполовские, Кошкины, Плещеевы, Морозовы и весь народ. Углическому страдальцу верны Стрига-Оболенский да Фёдор Басенок — воеводы из лучших на русской земле.
— Велики заступники! Басенок уж на цепи сидит. За московского великого князя Дмитрия Юрьевича — Тверь, Рязань, могучий Новгород! — Розовощёкий мрачный новгородец насупился до того сурово, будто в битву шёл.
— А за кого Иона, епископ рязанский, митрополит названный? — не спросил, сказал Иван Григорьевич.
— Церковь почитает Москву. Ей тот хорош, кто сидит на столе великого князя! — Величавый усмехнулся, но все задумались.
Двое других гостей были монахи.
— Что вы скажете об Одноуше? — спросил молчунов розовощёкий. Отвечал старец, говорил тихо, но его слушали.
— Одноуш — мирское прозвище Ионы. Владыка много претерпел в жизни. От людей, от князей, от царьградского патриарха. Верно сказано: пуп земли для владыки — Москва.
— И слава Богу! — Возрадовался величавый. — Пусть Москва, коли наша! Москве с Великим Новгородом ни в кои времена не сравниться. Наши купцы знамениты от Ганзы до Югорской, от полнощных стран Скандинавии до Царьграда, до Астрахани! Югорские соболя, Святого Ледовитого моря моржовые бивни — почитаются во всём белом свете новгородским красным товаром.
Иван Григорьевич, хоть и хозяин, не стал поддакивать гостю.
— Еретика Исидора-митрополита потому, знать, встречали у вас, в Новгороде, с великим почётом, что вёз в Рим московскую пушнину и прочее — на двухсот возах!
У Вани сердечко сжалось, как бы ссоры не вышло. Монах-старец вздохнул сокрушённо.
— Се — правда истинная. Богатых Новгород любит. Но, чтя митрополита всея Руси, мы верили: владыка едет в Рим постоять за веру наших отцов. Веру во Христа Великий Новгород принял от апостола Андрея Первозванного, ранее Византии. От нас апостол пошёл к грекам. Византии в те древние годы был не царством, а деревней.
— Неча нам за дружеским столом поминать отступника! — Погасил спор величавый гость.
— Тяжкое время, — монах-старец осенил себя крестным знамением. — На митрополию Иону избрали после смерти Фотия, пятнадцать лет тому назад. Увы! Царьградский патриарх не признал наречение. Поставил в митрополиты Литвы и всея Руси смоленского епископа Гервасия, потому что грек. Гервасий помер, поехал Иона в Царьград за благословением, а вернулся в свите Исидора. Патриарх в митрополиты всея Руси опять своего поставил, грека.
У Вани глаза слипались. То и дело проваливался в сон, а говорили очень важное. Очнулся от благодушного смеха величавого новгородца.
— Греки многомудрые. Чего с них взять? Великое их царство смутой разорено. На Московию надежда невелика, сама под Золотой Ордой, вот и поклонились папе римскому.
— Сие — дело их совести, — сказал старец. — Но Исидор на Флорентийском соборе подписал унию за всю православную Русь. Суздальского епископа Авраамия тоже принудил руку к унии приложить.
— Бог с ним, говорю, с Исидором! — осерчал розовощёкий новгородец.
— Верно! Иона примет нашу сторону. В монахи он постригся в Галиче, а Галич удел Шемяки. Епископом был в Рязани. Рязань Москве не подруга.
— Как Бог скажет, так и будет, — молвил всё время молчавший монах.
— Золотое слово! — обрадовался величавый новгородец. — Мы идём к великому князю Дмитрию Юрьевичу с миром и за миром. Да будет покой на русской земле.
И тут дремлющего Ваню отнесли в спаленку. Он был согласен с молчаливым монахом, сказал засыпая:
— Да будет покой на русской земле!
Брега Тавриды 2009 04


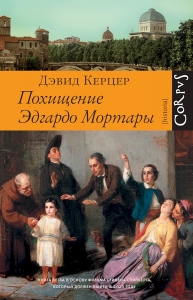
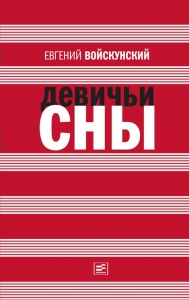
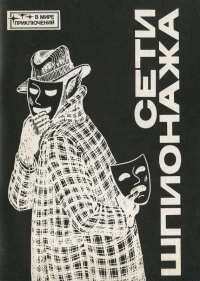
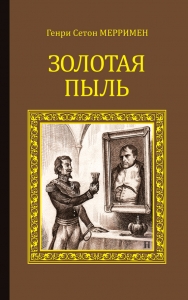
Комментарии к книге «Отрочество Ивана Санина», Владислав Анатольевич Бахревский
Всего 0 комментариев