Сергей Жемайтис Клипер «Орион»
Рану, нанесенную родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца.
Виктор ГюгоНа рейде
Которую неделю день и ночь над плоскогорьями Корнуэлла полз серый поток тумана, медленно стекая с обрывистых скал в Ла-Манш. В заливе Плимут-Саунд туман был так густ, что корабли, истошно завывая и звоня в рынды, расходились в опасной близости, не видя друг друга.
В Корнуэлле обычно стоит мягкая зима — «медленная весна» называют ее местные жители. Но в 1918 году настоящая весна задержалась где-то по ту сторону Ла-Манша, на полях последних ожесточенных битв, хотя исход мировой войны был уже давно предрешен, как и приход солнечных дней в Корнуэлл.
С юго-запада подул ветер. Туман заклубился, потрескался. Ослепительный поток солнечных лучей хлынул на воды залива.
Медленно отодвинулась влажная завеса с берегов залива Плимут-Саунд, открыв удивительную панораму гигантского морского порта с сотнями кораблей всех классов, от огромных линкоров, многопалубных лайнеров и громоздких «торгашей» до грациозных парусников, буксиров, катеров, рыбацких шхун и яхт. Над портом стоял гул машин, иногда прорезаемый ревом сирен и гудками паровых катеров. Отходили от причалов низко осевшие морские гиганты с палубой, заставленной пушками и танками, у борта розовели лица солдат в грязно-зеленой форме. А неутомимые буксиры волокли к освободившимся причалам только что пришедшие суда, влажные, точно покрытые потом. От мостовых приморского города поднимался пар. Весело разбрызгивали лужи по брусчатке колеса кэбов и копыта лошадей, кэбмены распрямили спины, согнутые непогодой. Невесть откуда взявшиеся воробьи горланили в ветвях деревьев. Еще недавно пустынные улицы ожили, особенно близ порта, где в многочисленных пабах (пивных) коротали недолгий отпуск торговые и военные моряки. Солнце выманило их из-за дубовых столов и высоких стоек, заставило на время оставить кружки с пивом.
У пивной «Счастливый ветер» с закопченными, вросшими в землю стенами и вывеской, на которой был изображен фрегат, идущий фордевинд, то есть подгоняемый ветром, дующим в корму, собралась толпа моряков и с интересом наблюдала за парусными учениями на клипере, стоявшем на рейде недалеко от норвежца-десятитысячника.
Для моряков парусные учения в порту, где тысячи знатоков следят за каждой эволюцией и ставят свои оценки, были своеобразным цирковым представлением. Зрители понимали, что сейчас этим ребятам на реях, пожалуй, не легче, чем при свежем ветре, и старались по заслугам оценить их акробатическую работу.
— Не так уж плохо работают эти русские, — сказал приземистый матрос с военного корабля, не выпуская изо рта фарфоровую трубку в виде причудливо изогнувшейся сирены. — Как они ловко управились с верхним грот-марселем! Боюсь, что даже я со своими ребятами не намного бы перекрыл их, когда ходил на «Дублине».
— У каждого был свой «Дублин», — грустно заметил пожилой моряк с сизым носом. — Да не все плавали на «Фермопилах». — Упомянув знаменитый клипер, он настороженно умолк, тщетно ожидая вопросов.
— Что-то долго копаются с грот-трюмселем, — небрежно проронил молодой щеголеватый матрос с торгового корабля, явно стараясь показать, что и он понимает толк в парусном деле.
— Да-а, грот-трюмсель — это не стул в пабе, — опять заметил грустный моряк, но и на этот раз никто не обратил внимания на его слова, наверное, потому, что в них было явное стремление найти сочувствие к его особе, в результате которого он мог бы выпить сегодня лишнюю кружку.
Грот-трюмсель — верхний парус на грот-мачте — самой высокой на клипере. Человек, скользивший по грот-трюм-рее, на сорокаметровой высоте казался темной черточкой. Прошло еще с десяток секунд, и грот-трюмсель затрепетал под легким бризом.
— Тебя бы туда проветриться, — сказал моряк с сиреной в зубах, обращаясь к щеголеватому моряку, — ты бы скорей управился, конечно, если бы голова не закружилась.
Вокруг засмеялись. Молодой моряк презрительно повел плечами, а пожилой, вздохнув, проворчал:
— Посмотрел бы я, как вы удержался там в шторм, когда кажется, что мачта с тобой имеете летит прямо к дьяволу и никогда не выпрямится. — Старый моряк насмешливо посмотрел на щеголеватого матроса. — Вот тогда у некоторых штаны мокнут не только от морской воды.
Моряки опять засмеялись. Когда смех утих, матрос с фарфоровой трубкой сказал:
— Русские не только могут с парусами управляться, они и с царями неплохо управляются — своего сбросили, а он у них сидел, как принайтованный, и говорят еще, к тому же родственник нашему Джорджу.
— Георгу Пятому, — поправил матрос с торгового судна. — У нас о короле надо говорить почтительно, здесь не Россия.
— Я с полным почтением отношусь к Джорджу, а вот тебя хочется почему-то трахнуть под нижнюю челюсть.
Их помирили без особого труда, и разговор продолжался, но теперь уже о судьбе русского царя и его родственных отношениях с Георгом V,
Щеголь с торгового корабля сказал:
— Наш король не может допустить, чтобы так обращались с его родственниками.
— Ну конечно, — матрос с трубкой подмигнул. — Плохой пример для королей. Боится, как бы мы что-нибудь не предприняли в этом роде.
В толпе послышались голоса:
— Нам не впервой.
— Однажды срубили голову одному королю.
— Они еще не срубили.
— Судя по всему, голова плохо держится у русского царя.
— Это вы не о революции во времена Кромвеля? — морщась, спросил молодой моряк и боязливо оглянулся.
— Кромвеля? — спросил старый моряк.
— Ну да. Ты что, не слыхал о Кромвеле?
— Как не слыхал! Был такой барк, я еще чуть было не нанялся на него, и хорошо сделал: бедняга налетел на рифы в Коралловом море… Почти никто не спасся…
— Кромвель — это… — начал было молодой, но моряк с трубкой перебил:
— Слыхали и про Кромвеля! Так ведь тогда вместо одного короля другой сел! И до сих пор у нас королевская власть. — И, подмигнув, добавил, кивнув на вывеску пивной, где красовалось изображение фрегата: — Наш король как этот фрегат — для красоты. Настоящие короли, у кого вон те пароходы, линкоры, земли и деньги. Что, не правда?
Кто понимающе усмехнулся в ответ, кто кивнул, вздохнув, а молодой матрос сказал:
— Я уже говорил, что короля не следует задевать.
— Кто его задевает, просто жаль беднягу. Незавидное у него положение. Сидит как сыч в своем Букингемском дворце, в паб ему пойти нельзя, с девочками потанцевать тоже не разрешается. Кислое дело. А тут еще с родственниками неприятности.
Вокруг засмеялись и, тут же забыв о короле, несколько минут смотрели молча, как вспыхивали на солнце и свертывались паруса на реях русского клипера.
— Все! Просушили парусину, — сказал матрос с трубкой.
Никто не расходился, так как вскоре от борта клипера отчалил вельбот и, дружно подгоняемый на диво тренированной командой гребцов, помчался к берегу. Подошли еще моряки и несколько рабочих из доков и принесли свежие новости о русском клипере. Каким-то путем стало известно, что «Ориону» запрещен выход из порта.
Эта весть вызвала общее возмущение.
— Как! Не пускать корабль на родину, когда там революция! — воскликнул моряк с трубкой. — Между прочим, кое с кем я встречался из этих русских, — доверительно сообщил он, — парни так и рвутся домой.
— А груз-то у них знаете какой? — с отчаянием в голосе спросил старый моряк и был наконец вознагражден всеобщим вниманием. — Оружие у них в трюмах. Мне говорили знакомые грузчики. Вначале клипер намеревались направить во Францию, да раздумали. Сейчас изменили курс, говорят, целая эскадра готовится к походу в Россию.
— Тем более! — Моряк с трубкой выхватил сирену изо рта и потряс ею над головой. — Наши лорды испугались, что винтовки попадут в руки большевиков.
Многие не знали, кто такие большевики, и моряк с трубкой охотно объяснил:
— Неужели не понятно, что большевики — значит большинство. Большинство народа! Конечно, ото не люди с деньгами, не лорды и прочие, а вот как мы с вами.
— Но ведь еще идет война, — раздался неуверенный голос молодого матроса, — большевики подыгрывают немцам, и если оружие попадет к ним, то сами знаете, что будет.
Матрос с трубкой пристально посмотрел на него:
— Постой-ка, парень! А ты, случаем, не член парламента? Или, может, помощник лорда-адмирала? Или сам адмирал? Ну-ка, ребята, давайте посмотрим, нет ли у него под робой адмиральского мундира.
Толпа дружно захохотала.
Высокий тощий моряк подошел к матросу с трубкой и положил ему руку на плечо. Он все время как-то безучастно присутствовал в толпе, ни разу не улыбнулся, не издал одобрительного возгласа, и только иногда в его глазах мелькали любопытные искорки и тут же гасли.
— Идем, Гарри, под крышу, а то я весь просох на солнце, да и сквозняком прохватило.
— Погоди, Арт. Сейчас, — сказал матрос с трубкой. — Как будто они идут к адмиральской пристани. Хотелось бы мне посмотреть, как лорд-адмирал будет выворачиваться наизнанку, когда его припрут русские к самому фальшборту. Все-таки союзники. На них вся война на суше держалась. И вдруг арестовали!.. Впрочем, ты прав, Арт. Пошли обсудим это дело за кружкой пива. В ночь отходим. Через три часа надо быть на «Грейхаунде». Когда теперь еще посидим в пабе да потянем холодного пивка?
— Может, придется потянуть холодной морской воды со льдом, — промолвил мрачный Арт.
— Ну это когда еще будет! — сказал Гарри. — А пока выпьем чего погорячей. Вечно ты, Арт, со своими пророчествами.
— К этому надо быть всегда готовым… рано или поздно. Лучше, чем… вот так, — сказал пожилой моряк.
— Э, да ты, видно, крепко сел на мель, старик? — сказал Гарри, выбивая трубку о каблук. — Идем смоем морскую соль. Идем, идем. Хватит монеты на дюжину галлонов пива и еще на виски останется. Ты ведь знаешь порядок: настоящий моряк не берет с собой в плавание лишнюю тяжесть.
Толпа стала расходиться. Компания моряков торопливо скрылась в гостеприимно распахнутой двери пивной «Счастливый ветер».
После учений
Клипер «Орион» был еще совсем новым кораблем. Его построили перед самой войной в одном из доков шотландского порта Абердина. Несколько лет «Орион» служил учебным судном, на нем проходили практику воспитанники Морского корпуса, а на третий год войны, после больших потерь в торговом флоте, им стали пользоваться как транспортом для перевозки военных грузов. Он мало чем уступал знаменитым «чайным клиперам», а по маневренности превосходил их, так как на нем установили паровую машину.
«Ориону» везло. Он ни разу не повстречался с немецкой подводном лодкой, хотя совершил несколько рейсов между британскими и французскими портами, ходил и в Америку по самым опасным морским дорогам, где сторожили немецкие подводные лодки. Новый рейс предполагался во французский порт Брест. «Орион» взял полный груз для русского экспедиционного корпуса во Франции. В это время резко изменилась политическая обстановка в мире в связи с тем, что революционная Россия вышла из войны. Командир клипера капитан второго ранга Воин Андреевич Зорин обратился с рапортом к начальнику Плимутского порта адмиралу сэру Эльфтону, требуя разрешения выйти на родину. Адмирал долго тянул с ответом, наконец прислал распоряжение немедленно сдать груз в плимутской военной гавани и ждать дальнейших указаний. На это командир клипера ответил, что за груз, находящийся в трюмах «Ориона», заплачено русским золотом, клипер принадлежит России, какая бы власть в ней ни существовала, и он, командир, требует, чтобы ему не чинили препятствий при выходе из порта.
Прошло две томительные недели, и адмирал прислал ответ, в котором со сдержанной яростью писал, что транспорт «Орион» (явное стремление уколоть русский военный корабль) по соображениям, связанным с войной и обязательствами союзников, временно задерживается в порту королевского флота Плимут. О чем уведомлено русское военное министерство (которого уже не существовало) и на что получено его согласие. При изменении обстановки плавания в британских водах, а также в водах Северной Атлантики транспорту немедленно будет дано разрешение покинуть Плимут с надежным эскортом (явный намек на то, что «Орион» включен в экспедиционный корпус).
Получив эту бумагу, командир, пользуясь хорошей погодой, провел парусное учение и вместо со своим старшим офицером отправился в Плимут к адмиралу сэру Эльфтону требовать немедленного разрешения покинуть порт.
Большинство матросов и офицеров с нетерпением ожидали возвращения вельбота, но внешне каждый в меру сил и характера старался не проявлять своих чувств. Вахтенный офицер мичман Стива Бобрин, или Белобрысенький, как его звали потихоньку матросы, с подчеркнуто равнодушным видом ходил по шканцам, поглядывая на старую крепость и парк. За парком стоял дом, где жила Элен — продавщица из магазина перчаток. Сколько перчаток накупил Стива! Теперь он мог не заботиться о них всю жизнь. Стива был не прочь и дальше поддерживать торговлю отца Элен, но… пожалуй, он был одним из немногих, кто не отказался бы еще постоять в Плимуте.
Козырнув вахтенному офицеру, прошел старший боцман. Павел Петрович Свиридов обходил корабль, осматривая его после учений, хотя и знал, что все «сделано по чести», но усидеть в своей каюте он не мог. Хотелось отвести душу с матросами, поговорить о доме, ругнуть английские порядки. Но вдруг, не дай бог, какая оплошность! Нет! Такого боцман не мог допустить, да еще в чужой стране. Боцман считал, что «клиперок» — частица России. И уж она-то, эта частичка, здесь, на чужбине, должна выглядеть в полной форме.
Пышноусый, приземистый, с непомерно широкой грудью, на коротких кривоватых ногах, боцман словно катился но палубе. Он с озабоченным видом поглядывал на матросов, не спеша заканчивающих приборку палубы, драивших медные пластины на ступеньках трапов, поручни, укладывающих концы в красивые бухты или уже закончивших приборку на своем участке и теперь «точащих лясы». Заметив такую праздную группу, боцман окидывал ее молниеносным натренированным взглядом из-под нависших бровей, а заодно и всю окрестную палубу, ухитряясь увидеть все на ней до мельчайших подробностей, и по его широкому медно-красному лицу, выдубленному ветрами и солнцем всех широт, мелькало что-то похожее на улыбку и исчезало, как тень от набежавшего облака. Полнее высказывать свое одобрение Павел Петрович считал недопустимой слабостью, которая может плохо повлиять на его матросов и даже привести к самым ужасным последствиям.
Палуба отливала матовой белизной, сверхчистота ее еще больше бросалась в глаза благодаря угольно-черным линиям пазов между тиковыми досками, залитыми варом. Сверкала на солнце медь поручней на трапах, канаты уложены в бухты так, как будто их никогда больше не придется разворачивать, дубовый планширь фальшборта, в меру протертый олифой и лаком, отливал медовой желтизной.
На матросах надеты парусиновые рубахи и такие же штаны разной степени чистоты, но вполне опрятные для рабочей одежды людей, вечно имеющих дело с просмоленными канатами. И тут было все в порядке.
Боцман словно проглаживал взглядом мачты от палубы до клотиков со всеми стеньгами, штагами, фордунами, вантами, парусами, убранными к реям. Все это он делал по многолетней привычке и еще по непреодолимому стремлению полюбоваться завершенной работой, выполненной так, что сердце замирало от сладостного чувства удовлетворенности. Так любуется взыскательный художник своим произведением, отыскивая в нем изъяны и не находя их.
Корабельный кот Тишка, серый, непомерно толстый, осторожно взбирался по вантам на грот-рей. В солнечную погоду он любил там на парусине коротать свой досуг.
— Прямо марсовый! — сказал боцман матросам, с восторгом наблюдавшим за своим любимцем.
Фок-мачта, особенно ее верхняя часть, привлекла его внимание больше других сооружений на палубе клипера. Боцман остановился, задрав голову, подбоченясь и широко расставив ноги.
— Ишь ты чертенок, — пробормотал он и улыбнулся так широко и простодушно, будто увидел внука, играющего на пригорке.
На фор-марсе — крохотной площадке, устроенной на головокружительной высоте, примостился Лешка Головин. Юнга сидел, свесив ноги с марса, и, держась руками за фор-брам-ванты, разглядывал порт и город. Как ни благоволил боцман к мальчишке, но это был непорядок. Хотя Лешке и разрешили сегодня работать на фок-мачте в паре с марсовым матросом Зуйковым, отбой учений давно сыгран, и Лешка должен находиться на палубе. И все же боцману не хотелось лишать мальчишку удовольствия, очень уж, должно быть, красив был город и все вокруг с такой высоты.
— Эй! На фор-марсе!
— Есть, на фор-марсе! — донесся сверху звонкий голос Лешки.
— Не зевать!
— Есть, не зевать!
— Как там, не возвращается вельбот?
— Еще нет!
— Смотреть!
— Есть, смотреть!
Павел Петрович покатился к баку, где его, притихнув, ждали матросы, они улыбались, поняв незамысловатую хитрость боцмана.
— Лясничаете?
— Такое наше дело, Петрович, — ответил за всех Зуйков и, протянув кисет, спросил: — В чем матросу удовольствие? — И сам ответил: — Покурить и еще душу отвести с друзьями. Кури, Петрович, нашего.
— Не откажусь. У тебя табак хоть ворованный, да всегда не плохой.
— Вот потому и не плохой! Свой-то подешевле норовишь приобрести, а когда уворуешь, то выбираешь получше, ведь не враг себе.
Во время стоянки в американском порту Зуйков вернулся с берега пьяный, волоча огромную кипу виргинского табака, и уверял, что это подарок от «союзников». По его словам, которым, зная Зуйкова, конечно, никто не поверил, какие-то «славные ребята», не то французы, не то американцы, с ним гуляли и в знак дружбы преподнесли подарок, полпуда весом. Командир лишил Зуйкова берега на весь рейс, табак приказал «списать» за борт, что и было сделано с величайшей неохотой, хотя и не полностью, и этот позорный остаток давно скурили на баке возле обреза с водой, а боцман не упускал случая, чтобы в педагогических целях не упомянуть об этом. Зуйков же, к удовольствию команды, всегда находил остроумный ответ.
— Ох, Зуйков, Зуйков, вижу, не оставил ты своп мысли. Капитан мягок с виду, а если еще раз допустишь такое свинство, то попадешь в хоромы за железными дверьми.
— Ну уж теперь нет, Павел Петрович. Завязал накрепко.
— Пошто так сразу?
— Почему же сразу? Время было обдумать.
— Ну и как же? Прямо так и завязал? Или совесть заговорила, или наш отец Исидор убедил?
— Исидорка тут ни при чем, да и совесть тоже. Да я никогда бессовестно и не поступал. Что табачку с берега прихватил, так для ребят, там его целая гора была.
— Не твой, не трогай!
— Все это так, Петрович. Спьяну. Теперь и пить брошу, конечно, не сейчас, а вот как придем домой да спишусь совсем на берег. Я решил строиться, хватит в бедноте ходить. Такой пятистенок отгрохаю, парня в город учиться повезу. Теперь, говорят, можно будет.
— Хоромы отгрохать хочешь? — спросил высокий статный моряк четвертого года службы Назар Брюшков.
— И отгрохаю!
Матросы притихли. Боцман, потупясь, покусывал ус, приминая заскорузлым пальцем золу в трубке.
— Старый куда же дворец-то денешь? — Брюшков засмеялся, но его никто не поддержал.
— Да запалю! Ей-богу, подожгу со всех четырех углов свою старую избу, где горе горевали все мои деды и прадеды. Пусть горит ясным огнем, как наша старая жизнь.
— Ты что же, капиталы нажил на морской службе? — Брюшков повел глазами, ища сочувствия. Все настороженно молчали.
— И я наживал, да не много мне досталось окромя мозолей. Отец мой наживал тоже, и дед, и прадед. Так, если все наши мозоли сложить, выходит, что они капиталом и оборачиваются. Вот приедешь, бог даст, в свои Бобриковы Прудки, а там и оттяпали твою землю кулацкую да помещицкую…
— Это уж само собой, — кивнув, сказал матрос первой статьи Громов, худощавый, жилистый, черноглазый.
— Кто же это оттяпает мое нажитое?
— Найдутся! — Зуйков подмигнул. — Охотников много, и не только на твою землю, дележ повсеместно пойдет. Верно я говорю, Громов?
— Верно, Спиря. Все будет как надо, кто что заслужил.
— О! Слыхал?
Брюшков куснул тонкие губы:
— Интересно посмотреть, как ото по заслуге чужое будете делить и как мы вот так и отдадим за здравие живешь! И не ты ли, Спирька Зуйков, главным делильщиком будешь? Не твои ли голоштанные сродственники?
— Может, и мои. Таких, брат, Зуйковых, да Ивановых, да Громовых ух как много! Насиделись на мякине. Хватит.
— Ну этого мы не боимся. И нас немало. Все на ком держится? На справном мужике, а не на безлошадном прощелыге.
Зуйков блеснул зубами:
— И лошади будут, и земля будет. Вот вчера на берегу, в пивной, наши ребята зашли с «торгаша», ну, слово за слово, разговорились, как же — свои, тоже от тоски мрут на этих островах. Они амуницию должны доставить для нашей пехоты, а куда везти ее, эту амуницию, теперь и не знают, и кому ее передать, то ли белым, то ли красным. У них тоже заковыка не хуже нашей. Так вот они и говорят, что заваруха у нас — сердце радуется! Помещичьи усадьбы жгут, почище чем в пятом году, землю делют, ну и скот, конечно, тоже.
— Ну, нам этого бояться нечего. Мы еще не помещики. Правда, справное хозяйство имеем. Сам знаешь, батрачил у нас. И видел моих братьев да отца, попробуй сунься, они тебя так наладят, что ляжешь и не встанешь. — Брюшков зло засмеялся.
— И у нас тоже кое-кто дома остался. Царя-то они вашего сшибли! Что, не удержали Николку? Эх, дисциплина мешает, да и Петрович тут, а не то бы…
— Ты постой, Зуйков, не мели зря. — Громов взял его за плечо. — Постой. — И повернулся к Брюшкову: — Вот что, друг, знай, что вопрос этот насчет земли, фабрик и вообще насчет собственности уже решенный.
— Кем это, позволь спросить, решенный? Кто за нас решает?
— Партией решенный!
— Партией? Братцы! — он развел руками. — То царь решал, а теперь партия. Что это за партия?
— Партия большевиков. Не придуривайся, небось слыхал! Власть теперь в России чья? Или тоже не слыхал?
— Как не слыхал, от тебя же, голоштанника, и слыхал. Да слух-то еще не власть, не закон. От этих слухов только голова пухнет. Я слухам не верю. Известно, кто их пущает! Что наш командир смотрит? За такие разговоры прежде в Сибирь, а не то и на перекладину!
Матросы, а их находилось на баке более десяти человек, заговорили вес разом. Большинство стало на сторону Громова и Зуйкова. Вопрос о земле был острый, больной, и страсти разгорались, но боцман вовремя вмешался:
— Отставить! Зуйков, не хватай Назара за грудки! И ты, Брюшков, разожми кулачища. Что, давно в канатном ящике не сидели? И вы, братцы, не ярьтесь. Службу знать надо и уважать свое место. Не на сходе. Не забывайте, что мы военные моряки! Сила России! Да если мы вот так себя ведем, когда дело жизни решать надо, то что же там делается, в деревне, в городах? — Он покачал головой. — Стыдно, братцы!
Матросы притихли. Боцман продолжал уже мягче:
— Что же мы грызться станем на чужой земле? Где наше товарищество? Наши матросы чем всегда брали? Дружбой! Глянь-ка на норвежца, матросня уже зырит. Стыд!
Зуйков вдруг залился звонким смехом и на недоуменные взгляды товарищей сказал, вытерев рукой слезы:
— Сдохнуть надо, братцы! Здеся на английской воде русскую землю делим! Впрямь, как бабы у колодца.
Матросы дружно засмеялись, а затем заговорили, перебивая друг друга:
— Ведь правда, братцы!
— Дома разберемся.
— Дома-то еще — ой-е-ей какие дела будут.
— Дела-делишки опять поделят мужицкие излишки.
— Дадут тебе излишки!
— А что?
— Выпорют, как в пятом году.
— Ну уж нет, дудки!
— Теперь, конечно, другое дело.
— Вот доберемся…
Подошли машинист Мухта и кочегар Свищ. Мухта был черен, как жук-древоточец, его лобастая голова ушла в непомерно широкие плечи, смотрел он исподлобья; Свищ выше его на целую голову, гол по пояс, на шее у него моталось белое махровое полотенце, его костлявый торс сплошь покрывала татуировка: тут были и девицы в разных позах, и корабль с раздутыми парусами, и львиная голова с ощеренной пастью. Руки переплетали змеи, в центре тощей груди расположился двуглавый орел с надписью под ним: «За веру, царя и отечество». На левой руке между витками тела кобры нанесено множество женских имен. Художественные вкусы, интимная сторона жизни Свища, его политические убеждения — все можно было прочитать не только на его верхней части туловища, но и на нижней, сейчас скромно задрапированной полотняными штанами. Так, после февральской революции, прочно укрепившись на платформе анархизма, Свищ вонзил в орла красный кинжал, на клинке которого стояло: «Смерть мировой буржуазии», ниже по синеватым рисункам краснела еще пара лозунгов: «Анархия — мать порядка» и «В борьбе обретешь ты право свое». Последний начинался на животе и заканчивался на спине.
Мухта прикурил и стал возле обреза, молча глядя на плавающие окурки, чувствовалось, что он с большим трудом переносит общество «безыдейных» матросов. Анархист-бунтарь, он жаждал деятельности по переустройству мира, в котором будут сброшены все оковы власти и человеческая личность станет абсолютно свободной. Мухта пробовал внушить идеи анархизма матросам, но встретил такое непонимание, обнаружил столько буржуазных взглядов и, главное, не раз в пылу дискуссии был бит, что до поры до времени замкнулся в себе, копя ненависть и презрение к этой темной массе.
Мухту, казалось, баковое общество не заметило, зато Свищ был встречен улыбками.
— Ну как, Гоша, анархия? — спросил Зуйков, подмигивая матросам.
— Порядок! — Гоша оттолкнул плечом Феклина, протискиваясь к фитилю. — Возьми лево на борт, пропусти человека к огню. Уважать надо, братишка, кто к огню тянется и к топору. А ты раскорячился у обреза, будто пырнуть в него хочешь.
Феклин не остался в долгу:
— Не больно костями пихайся! И что такое с тобой, Гоша? Харч у всех равный, все ребята в теле, только ты один как веха на рифе али шкилет?
— В мясе ли дело! — Гоша затянулся так, что засвистело у него в легких, и изрек: — Дух важен в человеке. Во! — Он шлепнул ладонью по двуглавому орлу. — Вы што? Поели — да на бок, свисток — и вы, как обезьяны, но реям или снасти трекать, вот и вся ваша идеология. Да еще разговоры о нищенской вашей собственности, землице там да полудохлой худобе. Вот и жиреете, а мы духом живем, горим душой за вас, охмуренную массу.
Все покосились на Мухту, но никто не сказал ни слова. Гоша продолжал:
— Насчет анархии, братва, не советую зубоскалить, придет еще ее час, и вы тогда прозреете и возьметесь вместе с нами, идейными анархистами, очищать землю от сора и накипи. И потому, братва, бросьте языки точить, а точите ножи и топоры, ну и не забывайте, что есть у нас винторезы и пушки. Готовьтесь, одним словом… Мухта кивнул, но не сказал ни слова. Гоша продолжал, ободренный молчанием матросов и кивком своего идейного руководителя. Он повел рукой на восток:
— Там, братва, уже идет легкая заварушка, Николку помели и прочих паразитов, и тут бы добивать буржуазию и учреждать всеобщую республику, без всякой власти, так сказать, раскрепощение души производить и протчее, а они вводят новую власть! Сначала Керенский — гнида буржуазная, потом Советы. Там будто есть и наш брат, да все равно власть, а раз власть, опять угнетенье личности… Потому, братцы матросики, — он подмигнул правым, потом левым глазом, — держи ножички за голяшечкой, придем домой, пощекочем горлышко! Так что скорей надо на арену битвы! Что касается наглей фракции, то мы за то, чтобы идти в Архангельск или в Мурманск, пусть с английской контрой, там у себя мы им покажем, когда поднимем свое знамя!
Мухта проронил, не поднимая головы:
— Черное знамя, в знак гибели всякой власти и буржуазии.
Старший боцман, побагровев, рявкнул:
— Заткнись, сучья анархия!.. — Он выругался еще крепче, затем уже мягче продолжал: — Сколько раз предупреждал, что никакой агитации, разговор по душам — другое дело, а чтобы бунтовать на корабле, за это, брат, можешь сильно пострадать.
Мухта, с остервенением бросив окурок в обрез и смачно плюнув, ушел.
Гоша Свищ, глядя ему вслед, заголосил:
— Вы, гражданин боцман, не сучьте идею анархизма. И не имеете права, милорд, затыкать рот, как я есть на баке и свободный от вахты человек. Между продчим, мы, машинная команда, как-то сразу поняли, где идейная правда, вы же, как отсталый слой, возитесь со своими вшивыми парусами…
Боцман вскочил:
— Что? Вшивыми! Да я тебя за это переломлю, как щепку!.. Я тебе дам милорда! Самого в короли произведу!.. — Боцман сел, утирая со лба выступивший пот. — Паруса ему, видишь ли, вшивые, сам ты вшивый, конца гнилого не стоишь.
Свищ осклабился:
— И за что такой шухер? Ну, высказал идею, ну, вам не нравится из-за отсталости и буржуазной заразы…
— Я тебе дам заразу, — уже совсем мягко сказал Павел Петрович, — кончай политику, она у нас во где сидит, эта политика! — боцман хлопнул себя по затылку.
— Как же в таком случае свобода слова?
— Я тебе дам такую свободу!..
— Ну это, положим!.. — петушился Свищ.
— Я тебе положу, ты выпросишь у меня или ребята подкинут. Как, ребята?
— Чего не подкинуть! — отозвалось сразу несколько голосов.
Гоша расплылся в улыбке и сделал общий поклон:
— Не будем обострять страсти. Закончим дискуссию и перейдем к более веселому текущему моменту. Ну ее к дьяволу, политику! Поговорим о другом интересе, о женском поле. Ну чего ощерились? Интересно? Только должен вам сказать, что в женщине разобраться трудней, чем в политике. Она тебе и анархизм, и социализм, и черт те что. Боюсь, не хватит у вас… — он покрутил пальцем у виска, чем вызвал негодующие голоса:
— У тебя больно мною!
— Черт размалеванный!
— Давай катись к себе в преисподнюю.
— Пусть еще побрешет, ребята.
Свищ пожал плечами:
— Если не интересно, я закончу на этом выступление на баке.
— Давай, давай!
— Крой, Гоша!
— Большинство — за! Продолжаю, но должен заявить, что насчет брехни — пардон. Как идейный анархист-боевик, вранье считаю излишним, и все есть чистая правда. — Он подбоченился. — Нравлюсь я женщинам, что поделать, как я есть Дон-Жуан! Не слыхали? Жил такой мальчишечка на Молдаванке да еще я. Видали, сколько ил было! — он покосился на свою левую руку. — Сто десять особ, самых раскрасавиц. Вчера еще одну встретил, не наколол, места ужо нет на руке, придется вот здесь, на орле, красным пустить.
— Вот про баб — это куда ни шло, — сказал боцман, — только смотри не охальничай, меру знай.
— За кого вы меня принимаете, господин, гражданин, товарищ старший боцман?
Боцман с улыбкой покачал головой:
— Ну и ну, нанизал титулов.
— Чтобы не ошибиться, выбирай любой, хотя стоит тебя величать товарищем, ты хоть и не наш, а близко стоишь к большевикам, вот эти, — он кивнул на Громова и Трушина, — совсем тебя в свою большевистскую веру обратили…
— Опять? — спросил боцман.
— К слову пришлось, перехожу вплотную ко вчерашней встрече, но прежде разрешите заметить, что баба здешняя вроде сухой тарани, вяленной на ветру, а встретил я настоящий помпончик. Везет мне. Еще когда ходил на «Европе» — пассажирском из Одессы в Лондон…
Феклин перебил:
— По одесской бухте, и тот буксир назывался «Дельфин» и был чуть поболе нашего баркаса.
Свищ, с состраданием посмотрев на вестового и не удостоив его ответом, продолжал:
— Там, на «Европе», не было мне покою от женщин, заметьте, боцман, — женщин, а не баб. Все пассажирки наводили на меня лорнеты.
— Что, что? — спросил Зуйков.
— Стекла такие на палке, для деликатности обращения. Опять же письмами забрасывали, смех что писали, ну и насчет прочего… приходил из плавания на полусогнутых…
Громов сказал:
— Мозги у тебя, Свищ, на полусогнутых ходят. Пакостный ты человечишко, а еще мир хочешь перестроить на свой лад.
— Пойдем от греха, — сказал Трушин, — а то руки чешутся, да марать неохота, и Петрович здесь — неудобно драку затевать.
— Интеллигенция! — со злобой глядя им вслед, сказал Свищ, вложив в это непонятное ему слово гадкий смысл. — Подались совещаться, как вас, братишки, околпачить, обольшевичить!
— Но-о, опять! — прикрикнул боцман.
— Совсем нет. К слову пришлось. Продолжаю. Я, братцы, вчера мамзелю Белобрысенького узрел. Вон он ходит по шканцам, как именинник, о ней мечтает, а не знает, что с ней у него дело кранкель!
Все невольно посмотрели на шканцы, где виднелась белая сверкающая фигура Стивы Бобрина. Свищ, поощренный вниманием, продолжал:
— Иду я, братцы, вчера по какому-то там стриту, мету клешем по панели. Со мной Коська Бураков увязался, тот, что наколки делает, артист, художник. Зашли в кеб. Взяли по кружке темного. Потом еще. Мне хватит и двух для развлечения, а Коська так и присосался к третьей, как телок к вымю, ну а мне пива мало, общество надо, женское общество. Были там две Мери, да, как я вам сказал, — вобла воблой, да еще одна без зубов. Ну и, хватив джину, вышел я на мостовую, прошелся слегка, смотрю, магазинчик, а в окне перчатки. Заглянул я в стекло и вижу, братцы, вашего гардемарина и такую красотку, что ради нее все капиталы отдашь и не пожалеешь. Белобрысенький эдак перчатку меряет, а сам ее прямо ест глазом, зараза.
— А она? — спросил Зуйков.
— Она что? Сначала на него щерилась, а потом, как меня увидала, так и впилась, глазищи — во. Ну, прямо млеет девка. Бери и завертывай в бумажку.
— Завернул? — спросил Феклин.
— Сегодня будет дело. Кто, братцы, одолжит полфунта?
— Бог подаст, — сказал боцман.
Матросы дружно засмеялись.
Свищ, криво усмехнувшись, обратился к Брюшкову:
— Выручай, Назар, процент положу больше прежнего!
— Ты сначала два отдай и проценты.
— Отдам, ростовщик несчастный. Ну?!
— Не проси.
— Эх, мелкий вы народ, копеешный, нету у вас этого… самого… морского перцу.
— Иди к своим анархистам, — посоветовал Феклин, — им денег не надо, вот и дадут.
— Не дадут, гады. Не дозрели еще до полной свободы от капиталу, да ладно, пойду в картишки перекинусь, может, повезет.
Боцман пригрозил:
— Смотри, вещи проиграешь, в канатный ящик посажу.
— Эх! — Свищ махнул рукой. — Что канатный ящик против ее всей фигуры и расчудесных глаз!.. Прощай, орлиное племя! — Он пошел по палубе, вихляясь всем телом.
После ухода Свища несколько минут на баке говорили о нем как о пустом, никчемном человеке. Павел Петрович заключил:
— Одним словом, морская вошь — не боле. — И вернул аудиторию на серьезные рельсы, сказав:
— Учения как будто прошли по всей форме.
Матросы стали живо обсуждать учения и все-таки ухитрялись вставлять словцо о доме, земле, новых порядках.
Зуйков сказал при всеобщем поощрительном внимании:
— Учения, братцы, были не простые. Наш-то, Мамочка, показал им, что стоим, стоим, ждем у моря погодь, а вдруг возьмем да и распустим крылышки. Сейчас оп там все как есть выложит ихнему начальству, скажет, что нету такого закона, чтобы корабль Российского флота как бы в плену держать! Насиделись в таком плену и дома. Теперь будя!
Все посмотрели на берег.
Боцман, задрав голову, спросил вполголоса, но так, что было слышно и на юте:
— Эй, на марсе?
— Есть, на марсе!
— Что там на берегу?
— Вельбот стоит у стенки. Наши на ихнем извозчике давно уже уехали, и все нету.
— Не зевать там!
— Есть, не зевать!
Лешка Головин, держась одной рукой за топенант, сияющими глазами глядел вокруг. С высоты все было иным — и море, и берег, и беспорядочно разбросанный город, и корабли. Лешка попытался представить себе, что летит над заливом, как чайка, но это сравнение он сразу отбросил, не нравились ему крикливые попрошайки. Вот если бы превратиться в альбатроса! И лететь, распластав крылья! Лешка часами следил за альбатросами, тщетно стараясь подметить, когда они машут крыльями. Лешка еще ничего не знал о восходящих потоках воздуха и считал, что альбатросы да еще буревестники обладают таинственным секретом и потому могут плавать в воздухе, не махая крыльями. Он мечтал когда-нибудь разгадать этот секрет, на зависть всем морякам взмыть в небесные просторы, как эти удивительные птицы.
В гавани у бесконечных причалов стояло множество судов, среди них выделялся огромный транспорт, на него по сходням двигалась серо-зеленая масса: шла посадка солдат. Поблескивали стволы винтовок, каски.
Солдаты не особенно интересовали Лешку, при виде пехотинцев он всегда испытывал жалость и приятное чувство превосходства. Внимание мальчика больше всего привлекала военная гавань. Там сейчас помимо подводных лодок стояли два крейсера и несколько тральщиков. У доков, как скала, застыл линкор, серый, в ржавых подтеках, с развороченной палубой. На дальнем рейде дрожали в мареве эскадренные миноносцы. Два буксира вытягивали из гавани американский транспорт.
Юнга презрительно усмехнулся. Как и все «парусники», он недолюбливал пароходы, особенно когда они обходили их клипер, и в душе завидовал быстроходным эсминцам и крейсерам. И все-таки ничего лучше не было на свете, чем клипер «Орион». Мальчик знал, что Орион — созвездие, и мог даже показать, где находятся три его самые яркие звезды. Само название говорило ему о необыкновенном, недостижимом. Он ни разу еще не встречал корабля, носившего имя звезды, и это также играло немаловажную роль в утверждении исключительности «Ориона» в сознании мальчика.
Лешка любил смотреть на свой корабль со стороны: с берега или со шлюпки, когда его можно сразу весь охватить взглядом. Низко сидящий в воде, со стремительными обводами корпуса, с мачтами, немного откинутыми назад, что придавало кораблю горделивую осанку. Однажды, еще в Севастополе, Лешка заболел и не пошел в рейс, а вышел из госпиталя в день возвращения «Ориона». Впервые он увидел свой корабль летящим под всеми парусами. К глазам мальчика подступили слезы восторга при виде такой красоты, изящества и вольной силы.
Прежде юнга старался скрывать свою любовь к кораблю, потому что никто из взрослых особенно-то не выказывал к нему своих нежных чувств. О клипере принято было говорить ласково-покровительственным тоном: «Наш клиперок», «Ориошка», «Стоющая посудина» или как-нибудь еще в таком же роде. Только однажды мальчик услышал восторженные слова об «Орионе» от взрослого человека, который раскрыл перед ним всю его романтическую прелесть и предсказал его трагическую судьбу.
Из Бреста в Плимут шли в караване торговых судов под эскортом четырех миноносцев. Транспорты старой постройки еле плелись, делая не больше 8 узлов. Дул свежий попутный ветер, и на лаге клипера накручивалось до 12 узлов, и то при неполной парусности.
«Орион» шел в кильватер головному миноносцу, а когда тот разворачивался и уходил, делал круг, словно овчарка, собирая и подгоняя свое стадо, клипер ложился в дрейф и поджидал тихоходные паровики, командир, к восторгу матросов, не уравнивал с ними скорость. Вот тогда Воин Андреевич и сказал слова о клипере, навсегда запавшие в сердце Лешки Головина.
Командир сидел на мостике в кресле, сплетенном из бамбука, и читал книгу, иногда перебрасываясь парой слов с вахтенным офицером, да поглядывал на бизань: не заполощут ли паруса. Он хорошо знал, что такого не может случиться, когда у штурвала матрос первой статьи Громов и вахту несет старший офицер, и все же он не мог побороть привычки, находясь на мостике, всегда наблюдать за парусами. К тому же вид парусов, наполненных ветром, доставлял ему неизъяснимое удовольствие.
Лешка стоял на юте и, облокотясь на планширь фальшборта, любовался эволюциями эсминцев, ему было обидно, что «Орион» так не сможет, зато и они вот так не смогут, как он: сдала машина — и болтайся, пока не выловят. Лешка улыбнулся, найдя уязвимое место у быстроходных эсминцев.
Командир поманил его пальцем:
— Ну-ка, голубчик, мамочка моя.
Лешка подбежал как положено, вытянулся, взял под козырек.
— Вольно, Головин! — Командир оглядел юнгу и остался доволен и опрятностью в одежде и бравым видом… Похвалил: — Молодцом выглядишь, мамочка. Вижу, любишь службу?
— Так точно!
— Оглушил, голубчик. Ну, зачем так гаркать? Отвечай нормальным голосом. Говори, да или нет. Так нравится?
— Да! Очень нравится. Лучше, чем в экипаже.
— Ну вот и прекрасно. И мне нравится. Да и как может быть иначе?
— Не могу знать!
— Опять! Говори по-человечески. — Командир ободряюще улыбнулся.
— Не знаю.
— Вот-вот… Видишь ли, Алеша, нам всем выпало завидное счастье ходить на одном из последних настоящих кораблей. — Командир поднял палец: — Парусный корабль — сын океана и ветра! Две могучие и прекраснейшие стихии как бы созданы для того, чтобы человек мужал, дружа и борясь с ними, делался лучше, чище, благородней. Ты, наверное, заметил, Алеша, что на парусных кораблях меньше плохих людей?
— Совсем нету!
— Если бы… Ну, иди, через три минуты будут бить склянки, а тебе, знаю, заступать на вахту.
— Вместе с Зуйковым, впередсмотрящим, гражданин капитан второго ранга!
— Так смотри зорче, юнга, и не завидуй тем, кто ходит на паровых судах. У них, безусловно, есть свои преимущества, как у автомобиля перед лошадью, да лошадь ведь живая, так и парусник. — Командир вздохнул и продолжал: — И как дань времени, у нас тоже стоит небольшая машина, при шторме она бесполезна, зато обеспечивает кораблю маневренность при безветрии.
— Можно выйти из штилевой полосы?
— Молодец! Вот именно! Кроме того, машина греет пас. На старых-то парусниках было ужасно холодно осенью, сыро.
— Теперь благодать, — совсем осмелел Лешка.
Командир оставил без внимания последнее замечание мальчика и, думая о своем, продолжал:
— Ты за свою жизнь еще находишься на всяких кораблях: и на паровых, и еще на каких-нибудь, с разными машинами, только знай, что не раз вспомнишь «Орион». Ну иди, Зуйков ждет…
Зуйков долго молчал, прищурившись, глядя вперед, затем хмыкнул, покрутил головой:
— Хитро загнул Мамочка наш и про коня, и про автомобиль, и про клиперок наш. Сын ветра, говорит? И взаправду, ветер ему родной отец, только с норовом, когда ласков, а когда, будто спьяну, норовит шею свернуть… — Он посмотрел на своего юного напарника, ударил его по плечу: — И вот ты, вижу, никак, раскумекал, к чему он все это гнул?
— Как не раскумекал? Понятно все.
— Понятно, да не очень. Все это к тому, Алексей, что он виды на тебя имеет, в школу хочет определить, а пока смекалку твою испытывает. Поверь моему слову, что будешь ты мичманом, а не то и повыше. Может, при новой власти всем трудящимся матросам чины станут раздавать, как ты думаешь?
— Нет, дядя Спиря. Ну, если тебя вдруг назначат капитаном, то как ты курс проложишь? Или в шторм команду подашь?
— Подать-то подам… Да нет уж… мне бы скорей домой, в деревню… Там, Алексей, судя по всему, шторм на полные двенадцать баллов…
Лешка встал, цепко держась босыми ногами за решетчатую площадку. Мачта раскачивалась, ветер разноголосо пел в такелаже и посвистывал в ушах. Мальчик подумал: «Что, если пробежать до нок-фор-брам-реи, как это делал иногда Зуйков? Но Зуйков, повернувшись, возвращался или садился на нок верхом, а я вот так раскину руки и взаправду полечу. Я тоже сын океана и ветра. Сделаю круг над „Орионом“, потом полечу над бухтой, над городом. Вот ахнут англичане…»
К действительности Лешку вернул голос унтер-офицера Бревешкина, непревзойденного «словесника». Унтер давно наблюдал за юнгой, ему тоже нравился смелый мальчишка, и у него так и чесался язык гаркнуть на него, просто так, для поощрения и поднятия духа, да по палубе проходил боцман, а Бревешкин знал службу. Сейчас боцман лясничал на баке, а унтер отвечал за всю фок-мачту и, следовательно, за Лешку Головина, торчавшего на ней и готового каждую секунду сорваться и грохнуться о палубу. Лешка, раскинув руки, стоял уже на одной ноге и, казалось, чудом сохранял равновесие. Веснушчатое лицо Бревешкина побагровело, глаза округлились. Матросы, следившие за ним, оставили работы и замерли в выжидательных позах.
По бухте пронесся нечеловеческий, прямо-таки звериный рык. Будто крупный хищник выходил на охоту, оповещая окрестности о своих недобрых намерениях.
Прочистив горло, унтер рявкнул:
— На марсе… — И затем последовала рулада из ругательств, переплетающихся самым неожиданным образом с упоминанием святых апостолов, лешкиных родственников, бегучего и стоячего такелажа, плимутской бухты, города, Британских островов и дна морского. Переведя дух, он приказал: — Вниз, пулей! — И закончил новым невообразимо нелепым словоизвержением.
Матросы по-разному оценивали «художественность» Бревешкина: положительные, степенные люди из верующих высказывали явное неодобрение, были и восторженные поклонники его таланта, и завистники, старавшиеся умалить его «мастерство», приводя примеры вроде: «Это что, вот когда я ходил на „Керчи“, там боцман извергался, так извергался, мороз по коже брал — до чего ловко, собака, нанизывал».
Неодобрительно покачивая головой, матрос первой статьи Громов подошел к Бревешкину:
— Разрешите обратиться, гражданин унтерцер!
— Давай обращайся… Что там у тебя?
— Да ничего особенного, а только насчет вашей ругани несусветной хочется напомнить, что командир строго запретил лаяться.
— Что-о?! — рявкнул было Бревешкин, да сразу осекся под смелым взглядом матроса первой статьи. — Ты что, порядка не знаешь? — начал он непривычно-просительным тоном, крякая и сбиваясь на каждом слове. Уж больно большим влиянием стал пользоваться Громов среди матросов, особенно из бедняков и рабочих, а таких на клипере насчитывалось больше половины всего рядового состава… — Ты не очень-то лезь с выговорами. Как-никак все же сам понимаешь, что я не кто-нибудь!
— Мое первое начальство. Это мне известно, и я вам по службе всегда подчиняюсь.
— Ну, а сейчас что липнешь? Уж и слова сказать нельзя? Какой моряк может обойтись без словесности? Тем более что командир на берегу, а некоторым господам офицерам даже нравится «морское слово». — Он кивнул в сторону вахтенного офицера. — Белобрысенький даже в книжечку записывает, когда кто произнесет что позабористей. И сейчас строчит. Видишь? А ты говоришь! Понимать надо! Что же, теперь, при новой власти, если она и завелась гдей-то, так онеметь моряку? Язык вырвать?
— Зачем языка лишаться? Говори, а не бреши. Ты на военном корабле, а не в царевом кабаке.
Это уже было слишком. Громов совсем «прижал его к фальшборту». Да и матросы посматривали с усмешкой, ожидая, как вывернется унтер, как спасет свое достоинство в глазах команды. Бревешкин сжал кулаки.
Громов предупредил:
— Не распаляйся. Руку подымешь, не спущу. Так отделаю, что собой не налюбуешься.
— Ты что, бунт затеял? А?! — Унтер-офицер набрал воздуху в свою непомерно широкую грудь, готовясь дать «залп из всего главного калибра» и хоть этим отвести душу, да только сказал:
— Эх, Иван Громов, не попадался бы ты мне на склизкой палубе, недолго и до греха.
— И правда: поскользнешься, не дай бог, в шторм.
Бревешкин смерил противника взглядом, соображая, кого он имеет в виду, кто поскользнется? И решив, что Громов наконец признал авторитет начальства, сказал примирительно:
— Вот так-то лучше. — И рявкнул в небо: — На марсе?
— Есть, на марсе!
— Ах ты сын обезьяны и жирафы! Кому сказано — вниз!
— Есть, вниз!
— Постой!
— Есть, постой!
— Как на берегу?
— Извозчик подъехал, в ём наши!
— Вниз жива! Держись всеми четырьмя!
— Есть, жива!
Бревешкин довольно осклабился и выпятил грудь: все-таки за ним осталось последнее веское слово, культурненькое, прямо как с барышней разговор вел. При случае припомнит он этому большевику, как учить старше себя по званию.
Визит к адмиралу
Адмирал сэр Вильям Эльфтон сидел в своем обширном кабинете, заставленном шкафами, моделями парусных и паровых судов, на которых он ходил в свое время. За его спиной всю стену занимала карта мира в проекции Меркатора. Все материки, острова, включая атоллы и мельчайшие рифы, лежали на бледно-голубом фоне, испещренном обозначениями глубин и линиями главнейших морских путей. В тех местах, где прошли морские сражения, стояли красные флажки, черными флажками обозначались места, где были потопленные немецкими подводными лодками корабли союзников.
По краям адмиральского стола, покрытого зеленым сукном, высились стопки папок, в которых содержались все сведения о судах военных и торговых, стоявших в гаванях и доках порта, запасах угля, нефти, различных товаров в многочисленных складах военной гавани, запасных частях для двигателей, боеприпасах, списки команд военных судов, счета различных фирм и еще множество бумаг — ими обрастает всякое современное предприятие, в котором участвуют многие тысячи людей и машин.
Адмирал давно понял и скрытый смысл, заключенный в строках многих, казалось бы, совсем безобидных отчетов или донесений. В них военные чиновники старались снять с себя ответственность и переложить ее на плечи своих коллег, а чаще всего на плечи своего адмирала, поэтому сэр Эльфтон очень редко заглядывал в какую-либо из папок, их приносили по традиции и ровно через час уносили. Адмирал предоставлял право разбираться в этом ворохе бумаг и выносить решения своим заместителям и многочисленным начальникам служб, что они и делали без видимого ущерба для дела.
Адмирал подписывал только приказы, письма и отчеты о работе порта, посылаемые в Лондон первому лорду адмиралтейства сэру Уинстону Черчиллю.
Несмотря на преклонный возраст, лорд Эльфтон сохранил прекрасную память и без труда запоминал названия всех кораблей, стоящих у стенок причалов, на рейде, в доках, находящихся в рейсах (из тех, что приписаны к его порту) или покоящихся на дне морском, чем втайне гордился и любил щегольнуть при случае.
Без стука, неслышно ступая по мягкому ковру, к столу подошел капитан с одутловатым лицом, один из менее удачливых сослуживцев адмирала, вышедший в запас, но в войну вернувшийся на флот. Он числился заместителем адмирала по административным делам и заведовал его секретной перепиской.
— Отличная погода, сэр, — сказал капитан, положив на стол несколько сколотых скрепкой листов синеватой бумаги, густо покрытых машинописным текстом.
— Весна, Стаддард.
— Да, сэр.
— Что-нибудь важное?
— Думаю, да, сэр. Кавалерист иногда пишет дельные вещи.
— Как ни странно, Стаддард.
— Да, сэр.
Оба заговорщицки переглянулись. Кавалеристом они называли первого лорда адмиралтейства Уинстона Черчилля. Они очень хорошо знали всю подноготную этого необыкновенно удачливого человека.
Начинал Уинстон незавидно. Учился из рук вон плохо. С трудом окончил школу и был настолько слабо подготовлен, что пришлось навсегда оставить мечту о юридическом образовании. Раздосадованный Рандольф Черчилль, отец Уинстона, считая сына слабоумным, решил пустить его по военной части — и опять неудача: два раза юноша проваливался на приемных экзаменах в пехотное училище; пришлось идти в кавалерийское, где к сыну лорда не предъявляли особенно жестких требований. По окончании кавалерийского училища молодой офицер был направлен в 4-й гусарский полк, находящийся в Индии. Основным занятием в этом привилегированном полку была игра в поло.
Неожиданно в 23 года этот недоучка и прожигатель жизни написал книгу о колониальных войсках, хорошо встреченную и критикой и читателями.
Военный корреспондент, участник англо-бурской войны, он попадает в плен к бурам, которые чуть было его не расстреляли. Бежит из плена и сразу приобретает громадную славу чуть ли не национального героя, потому что в эту пору английских неудач в войне с бурами побег из плена молодого журналиста был умело использован прессой как пример «доблести» истого англичанина.
Затем началась его головокружительная карьера политического деятеля. И наконец, бывший кавалерист стал первым лордом адмиралтейства — морским министром, имея очень смутное представление о море и кораблях, что не помешало ему перед самой войной провести реформы, благодаря которым королевский флот Великобритании сразу вырвался вперед среди всех флотов мира: Черчилль перевел военные корабли с угля на нефть и увеличил главный калибр артиллерии на крейсерах и линейных кораблях с 13,5 до 15 дюймов. Все же для истых моряков он оставался кавалеристом. Единственное, что несколько мирило моряков с первым лордом адмиралтейства, так это его родословная: Черчилль происходил по прямой линии от адмирала-пирата Френсиса Дрейка — немаловажное обстоятельство для англичан, где так чтут традиции.
— Вообще в этом циркуляре нет ничего нового, сэр, если не считать, что от разговоров мы переходим к делу, — сказал капитан с одутловатым лицом, сгребая папки с непрочитанными бумагами.
— Совсем не плохо для любителя игры в поло.
— Все-таки сказывается влияние моря, сэр.
— Если Темза превратилась в морской залив…
— Возможно, сэр… — Капитан вышел с грудой папок.
Адмирал устало взглянул на первый лист, и в его водянистых глазах появилось что-то похожее на любопытство. Пробежав предписание, адмирал повернулся и стал глядеть на карту. Сначала он мысленно проделал путь из Плимута в Архангельск, затем в Баку и наконец во Владивосток.
Адмирал поднялся из теплого кожаного кресла и болезненно поморщился, когда услышал сухой треск в коленных суставах. Под его адмиральскую одежду сразу стал просачиваться промозглый холод, поселившийся на веки вечные в каждом английском доме. Кабинет адмирала не был исключением, хотя в камине и тлела горка углей. Разминая подагрические ноги, адмирал подошел к камину, набрал в совок из ящика углей, высыпал их на угасающий огонь и стал думать, с удовольствием прислушиваясь к потрескиванию кусков кардифа.
Циркуляр из адмиралтейства радовал адмирала. В нем предписывалось немедленно приступить к подготовке судов для экспедиционного корпуса, посылаемого в Россию. «По требованию народа и его законного правительства, — как говорилось в циркуляре, — мы должны оказать помощь нашему союзнику в установлении в России законной власти». Слова «законной власти» были подчеркнуты красным карандашом. Адмирал долгие годы командовал кораблями в колониальных водах и помогал приходить к власти многим «законным» правительствам и сметал огнем пушек селения, в которых народ восставал против этих «законных» правительств. Адмирал без иронии воспринимал этот удобный термин. «Законный», — следовательно, удобный, необходимый для правительства его величества короля Англии Георга V, который также был очень удобен для подлинных властителей Англии, среди коих числил себя и адмирал сэр Вильям Эльфтон.
Адмирал вложил большую часть своих денег в акции Ленских приисков, приносивших весьма приличные дивиденды, его также прельщал русский лес. Невообразимые пространства русского Севера, покрытые корабельной сосной, лиственницей, березой — и все это, почти ничего не стоившее на месте, превращалось в золото на берегах Британских островов.
Надо отдать дань справедливости, адмирал думал не только о своих доходах, но и величии Британии. Он знал, что война расшатала устои империи. В Индии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в африканских колониях идет пока еще медленное брожение, возникают партии с программой борьбы за независимое существование. Англия еще сильна, она выходит победительницей в войне и, безусловно, отторгнет от Германии часть ее колоний, но как поднялась Америка! Янки накладывают руку на весь мир. Американский посол в Петрограде Френсис из кожи лезет, чтобы убедить своих либералов в правительстве о необходимости оккупации русской территории войсками союзников без согласия на то большевиков. «Нам надо быть первыми в этой необходимой акции, и мы будем первыми! Русская нефть, лес, золото, пшеница, дешевая рабочая сила необходимы истощенной войной Британии!» Адмирал прошелся от камина к шкафу с толстыми кожаными фолиантами и, взглянув на модель клипера, стоящего на шкафу, вспомнил о русском корабле, доставлявшем ему столько неприятных минут в последние дни.
«На нем закупленное русским царем оружие. Так пусть оно и послужит для восстановления рухнувшего трона, — подумал адмирал, и впервые его тонкие губы растянулись в подобие улыбки. — Добиваться цели средствами врага!» Он задумался над тем, считать ли Россию врагом или по-прежнему союзником, И решил, что к ней надо относиться как к обширной колонии и вести традиционную английскую политику по формуле «разделяй и властвуй». Как в Индии. В России есть силы, которым можно передать оружие с «Ориона». Адмирал с удовлетворением подумал, что им уже предприняты подготовительные меры к включению русского клипера в экспедиционный корпус: в последнем уведомлении командиру клипера он давал ему понять, что выход его из Плимутского порта связан с изменением ледовой обстановки в Северной Атлантике. Не трудно было догадаться, что ему в ближайшее время придется идти в Мурманск или в Архангельск.
Вошел розовощекий лейтенант Кристофор Фелимор. Глаза его сияли. Лейтенант переживал волнующие и сладостные минуты: Элен — самая прекраснейшая из девушек — вчера согласилась стать его женой. Все остальные события в мире потеряли для Кристофора Фелимора всякое значение. Только Элен, она одна заполнила мысли и сердце лейтенанта королевского флота.
Увидев адмирала стоящим спиной к камину, лейтенант пожалел этого старого подагрика, особенно за то, что у него была сварливая жена, тощая, с лошадиным лицом и неприятной манерой подергивать жилистой шеей.
— Русские моряки, сэр, просят принять их, — вызывающе весело сказал Фелимор, не в состоянии сдержать клокотавшую в нем радость.
Адмирал с любопытством посмотрел на своего обыкновенно подчеркнуто корректного адъютанта и спросил:
— Когда? Надеюсь, не сию минуту.
— Они уже здесь, сэр. И боюсь, что на этот раз вам придется их принять. Они очень достойные и симпатичные люди, сэр.
Адмирал побагровел, но сдержался:
— И вы не нашли предлога, чтобы избавить меня от их общества?
— Мне показалось, что вы изменили к ним отношение, сэр.
— Лейтенант Фелимор!
— Да, сэр?
— Вы идиот!
— О, сэр! — простонал лейтенант Фелимор. Он все время ждал минуты, чтобы вручить адмиралу рапорт о намерении жениться, и сейчас почувствовал, что эта минута отодвигается все дальше и дальше. Чтобы исправить положение, он сказал:
— Я передам им, что вы слишком заняты, сэр.
— Какая находчивость! Неужели вы не можете понять, что мои частные замечания и характеристики бывают далеки от официальной точки зрения. Они не всегда определяют политику. Тем более политику нации!
— О да, сэр! — Фелимор несколько воспрянул духом и предложил: — Лучше я им скажу, что вы уехали в Лондон, сэр.
— Хоть к черту на рога!
Эта внезапная вспышка гнева неожиданно вызвала в душе лейтенанта протест, давно дремавший где-то в глубине сознания. Он представил себе, что их разговор слышит Элен и видит его жалкую фигуру, осыпаемую градом оскорблений.
— Я думаю, лучше в Лондон, сэр, — сказал он вдруг холодно и надменно. И на вопросительный взгляд сбитого с толку адмирала, пояснил: — Не следует русских посвящать в такие интимные подробности, сэр.
— Подите вон, лейтенант, — устало сказал адмирал.
— Прекрасно, сэр, — в полном отчаянии прошептал незадачливый адъютант, чувствуя, что никогда еще так низко во падал в глазах своего адмирала. И если бы он не сказал «прекрасно» вместо «да, сэр», и на этот раз адмирал оставил бы без внимания его очередной промах, но в этом «прекрасно, сэр» старый подагрик, пронизываемый резкими болями во всех суставах и в. пояснице, усмотрел явный вызов и сказал уже повернувшемуся к дверям лейтенанту:
— Нет, погодите, черт возьми!..
Командир клипера «Орион» капитан второго ранга Воин Андреевич Зорин и его старший офицер капитан-лейтенант Николай Павлович Никитин ждали в приемной адмирала. От дивана и стульев с высокими спинками пахло старой кожей и застоявшимся, кисловатым табачным дымом. Здание было старое, средневековое, непомерно толстые стены не пропускали звуки с улиц города и порта. Через узкие стрельчатые окна с закопченными стеклами виднелась облупившаяся стена, сложенная из серого известняка.
Через приемную проходили капитаны кораблей, шип-шандеры, портовые чиновники, с нескрываемым любопытством поглядывая на русских моряков.
Капитан клипера сказал:
— Интересно бы узнать историю этого дома, наверное, принадлежал какому-нибудь негоцианту-пирату и, когда требовалось, офицеру его величества короля или королевы английской.
Они прошли по выщербленному паркету и остановились перед давно не топленным камином. На мраморной доске камина тускло поблескивал бронзовый бюст адмирала-пирата сэра Френсиса Дрейка.
— Возможно, вот и сам бывший хозяин дома, — сказал старший офицер. — Символическая фигура! Такие, как Дрейк, создали Англию. И я читал в Большой британской энциклопедии, что теперешний первый лорд адмиралтейства — прямой его потомок.
— По женской линии. Возможно, мамочка моя, и у адмирала Эльфтона найдется не менее достойный предок.
— Если так, то мы зря тряслись в кебе. — Старший офицер посмотрел на часы: — Ждем уже четверть часа. Видимо, на политических весах Россия уже стала весить гораздо меньше. Англия же всегда считалась только с весом и силой.
— Да, голубчик Николай Павлыч, есть такой грех у наших союзников. Кстати сказать, сила и вес лежат в основе всякой политики. Англичане ведут ее наиболее нагло и откровенно, прикрываясь только словоизвержениями в парламенте о спасении мира от революционного пожара, вспыхнувшего в России.
— Бедная и несчастная Россия!
— Представьте, я не считаю ее таковой. Была бедной и несчастной, а сейчас поднимается во весь роет, расправляет крылья.
— Не дадут.
— Трудно. Ох как трудно ей приходится.
— С другой стороны, если хоть сотая доля правды о большевиках доходит до нас, то надо задуматься, Воин Андреевич. Возможно, стоит чем-то пожертвовать, чтобы восстановить порядок и демократию?
— Вы, моя мамочка, осторожный и сомневающийся человек, привыкший к коварству морской стихии, верите только картам, лоту, секстану и хронометрам.
— Не всегда.
— И правильно делаете. Но в народ надо верить.
— Хотелось бы. Но мы-то с вами дворяне, и в монархии было высшее проявление наших идеалов.
— Однако мы иногда отправляли к праотцам неугодного монарха, мамочка моя.
— Все это так, Воин Андреевич. Вместо одного царя мы сажали на престол другого, а теперь? Что будет теперь? Кого мы посадим? Или он сядет сам, без нашего согласия?
— Я верю, что Россия выберет образ правления, достойный своего народа.
— Какой вы оптимист! — с долей зависти сказал капитан-лейтенант и вновь посмотрел на часы.
Воин Андреевич сказал примирительно:
— Ничего, подождем. Адмирал человек занятой, сотни две судов в гаванях. Идет война. Подождем. — Он повел глазами в сторону бюста Френсиса Дрейка: — Физия серьезная у этого джентльмена. Гениальный был моряк, ничего не скажешь. И если разбойничал, то ведь время было такое. Знаю, знаю, что скажете, — он поднял палец, — и сейчас не лучше и вместо Южной Америки потомки Дрейка не теряются на Востоке?.. Эпоха разбоя продолжается, мамочка моя. И мне кажется, что там, дома, сделали первую решительную попытку изменить отношение между людьми и странами. Здесь весьма разбираются в ситуации, мобилизуют общественное мнение, чтобы придать интервенции вид священной войны за демократию, и нас с вами втягивают в эту авантюру.
— Вот здесь я с вами согласен полностью.
— И хорошо, мамочка моя. Я ведь тоже не ортодокс, очень далеки мы от событий. То все, что творится дома, начинает выглядеть в идеальном свете, то вдруг начитаешься английских газет, и сердце мрет.
Капитан-лейтенант как-то печально улыбнулся и вздохнул.
Тяжелая дубовая дверь, ведущая в кабинет начальника порта, приоткрылась, и в приемную выскользнул лейтенант Фелимор, щеки его пылали. Только закрыв за собой дверь, лейтенант Фелимор осознал по-настоящему, что произошло в кабинете адмирала. «Вылетел как пробка. Ну и пусть. Какое у него было лицо! — лейтенант силился улыбнуться. — Пропала карьера! Хотя ничего еще не потеряно. Меня никогда не прельщала береговая служба. Этот сухопутный адмирал угрожал назначить меня на первый захудалый корабль, уходящий в самую рискованную экспедицию. А я ему: „В королевском флоте нет захудалых кораблей, сэр“. Он чуть не упал от такой дерзости. Ничего, Элен поймет. В крайнем случае буду торговать перчатками в ее магазине», — сделал он неожиданное заключение и, печально улыбаясь, остановился перед русскими моряками. И они тоже улыбнулись, глядя на его взволнованное юношеское лицо.
— Джентльмены, адмирал весьма сожалеет… — он перевел дух. — Он не может принять вас, джентльмены. Весьма неотложные дела.
Командир клипера и старший офицер переглянулись. Воин Андреевич сказал, четко выговаривая английские слова:
— Мы тоже весьма сожалеем, что еще раз обратились к его высокопревосходительству адмиралу сэру Эльфтону.
Отдав честь, русские направились к выходу так решительно, что группа английских морских офицеров, столпившихся посреди приемной, невольно раздалась, уступая им дорогу.
Лейтенант, помедлив в нерешительности, бросился за ними:
— Еще одну минуту, джентльмены. — Лейтенанту Фелимору захотелось загладить неприятность, как-то смягчить ее, облечь в корректную форму. Он догнал их: — Адмирал срочно выезжает в Лондон. Уже выехал. Перед отъездом он просил довести до вашего сведения, что в случае изменения обстановки он немедленно отдаст распоряжение о выходе клипера «Орион» из порта… Надеюсь, вы правильно меня поняли, джентльмены?
— Вполне, как не понять, — ответил командир клипера.
Молчавший все время старший офицер сказал так громко, что все невольно притихли и повернули головы:
— Передайте вашему патрону, что мы приходили не просить, а требовать уважительного отношения к России и русским, с которыми англичане, лучшие из англичан, дрались плечом к плечу против общего врага.
Воин Андреевич поморщился и сказал по-русски:
— Этим их не проймешь, мамочка моя.
— Да, вы правы, — согласился старший офицер. — Для них нужны не слова… Вы намерены нам еще что-то сообщить? — спросил он лейтенанта.
Фелимору было жаль этих русских, с таким достоинством выдержавших унизительный отказ в приеме. И его положение было не лучше, пожалуй, еще хуже, и это сближало его с ними. Ему захотелось дать им дружеский совет, и он сказал доверительно:
— Если желаете знать мое мнение, то Россия сейчас не то место, куда следует спешить, джентльмены.
Командир клипера ответил:
— К большому сожалению, наши мнения сильно расходятся, лейтенант. Мы считаем, что революция в России нам не безразлична, так же, как и все то, что делается сейчас на родине. И если вы читали сегодняшние утренние газеты, то вам должно быть известно, что войска новой России побили немцев под Нарвой и Псковом. В то же время на остальном театре военных действий успехи союзников гораздо скромнее. — Сказав все это по-английски, командир клипера добавил по-русски: — Вот так-то, мамочка моя.
У бедного лейтенанта Фелимора до того были взвинчены нервы, что в непонятной фразе и особенно в интонации, с которой она была сказана, он уловил оскорбительную насмешку. Не нравилось ему и язвительное сообщение о победе большевиков. Лейтенант Фелимор считал себя патриотом и был убежден, что если и будет достигнута победа над немцами, то только благодаря несокрушимой мощи английского флота и армии. После слов командира лейтенант постарался придать своему лицу «каменное выражение», которое так нравилось Элен, и пошел к выходу, несколько отстав от русских. Он решил до конца сохранить корректную вежливость, которая тоже нравилась его Элен. Тем более что сегодня вечером он должен будет рассказать ей об этом дне со всеми мельчайшими подробностями.
Когда они поравнялись с дубовой дверью, командир клипера остановился и, подмигнув лейтенанту, взялся за ручку и резко распахнул дверь настежь.
Лейтенант издал возглас, похожий на крик раненой чайки. Где-то в душе у него еще тлела надежда, что его шеф сменит гнев на милость, а теперь, встретившись взглядом с адмиралом, он понял, что все кончено. Увидев русских, адмирал не изменился в лице, он посмотрел на них невидящим взглядом и склонил голову к столу.
Фелимор закрыл дверь, прошептав:
— Джентльмены, ведь это ужасно…
Воин Андреевич воскликнул со смехом:
— Невероятно, мамочка моя! Чудеса! — И обратился к лейтенанту: — Не знаю, как вы, молодой человек, а я только что видел самого адмирала сэра Вильяма Эльфтона! Или у меня начались галлюцинации?
Пунцовый лейтенант сосредоточенно молчал, бывшие в комнате свидетели этой сцены тоже осуждающе молчали или сдержанно улыбались,
— И мне показалось, что за столом работает какой-то военный моряк, — сказал старший офицер клипера. — И в этом нет ничего удивительного. В каждом приличном английском доме, особенно в таком древнем, как этот, должно жить хоть одно привидение. Ваше мнение, лейтенант?
— Сюда иногда заглядывает тень самого Френсиса Дрейка, — ответил опять махнувший на все рукой лейтенант под одобрительный шепот и смех английских моряков. — Последний раз его видели перед самой войной. Что же касается адмирала, то он уже подъезжает к Лондону.
— Боюсь, как бы мы не стали для вас причиной больших неприятностей. Пожалуйста, извините.
— Ну что вы… пустяки… Мне давно хотелось оставить канцелярию и перейти на корабль. И я только буду благодарен, если адмирал пойдет мне навстречу. Этим в какой-то степени я буду обязан вам. И мне остается поблагодарить вас, джентльмены.
— Какая уж там благодарность, когда посыплются шишки, да еще с такой… высоты.
Лейтенант проводил русских, моряков до ожидавшего их кеба и сказал, пожимая руки:
— Должен вам сказать, джентльмены, что у меня свой взгляд на все, что здесь происходит.
— Вот это одобряю. Каждому человеку, мамочка моя, необходимо всегда, при всех обстоятельствах иметь свой взгляд на вещи и говорить правду, находясь адъютантом не только при адмирале Эльфтоне или привидении Френсиса Дрейка, аи при самом господе боге!
— Пока мне предоставят последнюю должность, я бы хотел встретиться с вами, джентльмены, только при других, более свободных для меня условиях, и доказать свое искреннее к вам расположение. Всегда к вашим услугам Кристофор Фелимор!
Кебмен хлестнул длинным кнутом тощую рыжую лошадь, она рванула с места и, пробежав футов сто, поплелась усталым шагом. Возница повернулся к седокам:
Пегги всегда к воротам порта сбавляет скорость. Потому что порт в противоположном конце от ее стойла. Вот домой она бежит довольно охотно в надежде получить порцию овса. Но я вам должен сказать, что по большей части ее надежды не оправдываются. Плохо у нас с продовольствием. Когда окончится эта война? У меня двое сыновей служат в королевском флоте. Джек — на «Канопусе», а Чарли — на «Отранто».
Возница говорил без умолку. Он знал, что русскому клиперу отменили разрешение на выход в море, и искренне сочувствовал.
Воин Андреевич поддерживал разговор, чтобы не обидеть симпатичного старика, и в то же время слушал язвительные замечания старшего офицера по поводу пресловутой английской вежливости.
— Такого унижения я не испытывал еще никогда в жизни. Действительно, адмирал держался как выходец с того света, как он посмотрел сквозь нас! И ни тени угрызений совести, смущения! И этот юнец хорош! Нашелся: Дрейк, говорит. Дух пирата! Нет, всеми силами надо стремиться покинуть «гостеприимных» союзников и — домой! Надо действовать немедленно! Сегодня же!
— Вы, мамочка моя, не горячитесь. И адмирал, и этот симпатичный лейтенантик, наверное, неплохие люди, да служба у них собачья. Разве не чувствуете, что тут политикой пахнет? А раз политика, то и не такие привидения являются. Я думаю, что. адмирал здесь не при чем. Все исходит из Лондона от первого лорда адмиралтейства. Сэр Черчилль — хитрющий и умнейший политик. В нашей революции он усматривает величайшую опасность для всей цивилизации. Читайте, мамочка, газеты!
— Мы только и делаем, что читаем газеты. Организуя интервенцию в Россию, они, естественно, боятся, что наш груз попадет не в те руки. И в этом случае я тоже с ними не могу не согласиться.
— Вполне резонно, мамочка моя, мы тоже не хотим, чтобы наше оружие попало бог знает кому. Но оружие нужно фронту. Наши солдаты без винтовок, стрелять нечем, патронов нет! Наверно, и подлинно прогрессивные силы, ну, те, за которыми народ, лучшие люди России, — тоже плохо вооружены.
— Кого вы имеете в виду?
Воин Андреевич задумался. Он никогда не был революционером. Потомственный моряк, дворянин, он превыше всего ставил силу и честь русского флота и, размышляя о будущем России, представлял ее как величайшую морскую державу. Как реально мыслящий человек, он также понимал, что морское могущество немыслимо без мощной промышленности и высокого уровня всего народного хозяйства, а следовательно, и серьезной перестройки николаевской России. Политический строй он представлял смутно, целиком доверяя прогрессивным силам. Он верил в здравый смысл русского народа и был глубоко убежден, что если он взялся за дело, то выполнит его как надо. И даже образно сравнивал государство с кораблем, который нуждается в серьезном ремонте. И русские корабельные мастера сменят рангоут, заделают пробоины, соскребут ракушки с подводной части, просмолят и, если надо, то и заменят командира, — словом, выполнят все «по фор-Ste», как говорят матросы.
Последний вопрос смутил Воина Андреевича.
Действительно, кто эти прогрессивные силы и настоящие «корабельные мастера»? Он не особенно доверял газетным сообщениям, в которых большевики изображались в самом неприглядном свете. То, что они делали, не походило на «ремонт», они ломали старый корабль вместе со стапелями. «Так, может, они хотят построить новый? Или ломают не только они, но и старая команда корабля, которая хочет, утонув, ничего после себя не оставить?»
— Может, вы считаете прогрессивной силой большевизм? — насмешливо щурясь, спросил старший офицер.
— Что вы все большевиками меня попрекаете? Никакой я не большевик, вы это прекрасно знаете и не можете не знать, что в ругани по их адресу надо разобраться. Все, что здесь пишут о большевиках, рассчитано на обывателя, на собственника, который боится за свои капиталы и безропотно снесет повышение налогов, деньги от которых пойдут на «крестовый поход» против большевиков. Но ведь давно известно, «что русскому здорово, то немцу смерть». А, мамочка моя! — Воин Андреевич заливисто засмеялся, довольный, что так ловко вывернулся из трудного положения.
Старший офицер только пожал плечами.
Между тем кебмен осадил Пегги и так закончил свою речь, длившуюся с малыми перерывами от управления портом до причала:
— Я понимаю, джентльмены, что с вами поступают самым свинским образом все это время, да и сейчас, я вижу, обошлись с вами тоже не так, как надо. Это не только мое мнение, джентльмены. Пока я вас ждал возле управления военным портом, то мимо проезжал Томми Глассон, может быть, вам встречался рыжий кебмен на белом мерине, конь у него не особенно завидный, моя Пегги против него — королева, зато сам Томми стоящий парень, так вот Томми и сказал мне, что ему хочется всыпать нашему адмиралу и даже самому первому лорду адмиралтейства за такие штучки… Благодарю вас, джентльмены, но здесь больше на целый шиллинг!
— Это для Пегги, — сказал Воин Андреевич. — Королева должна прилично питаться.
— Она и так не в обиде на меня, но, если вам угодно, мы с ней выпьем по лишней кружке пива. Да, да, джентльмены, иногда я балую мою девочку кружечкой пивка, для бодрости, сами подумайте, какие у нее радости?
Матросы на вельботе гребли, выжидательно посматривая на свое начальство, гребли с азартом, как на призовых гонках. Рулевой Трушин при каждом гребке подавался вперед, а когда матросы заносили весла, то откидывался назад, — точно соразмеряя время, затрачиваемое гребцами на каждое усилие.
Когда проходили мимо миноносца, ожидавшего разрешения войти в док, старший офицер улыбнулся, вспомнив кебмена:
— Простой извозчик, а в курсе всех политических событий. И если исключить некоторую грубость, то судит он вполне правильно. Вот что значит дух демократии, привитый с детских лет, ах как нам далеко до такого состояния! Я имею в виду народ, конечно, простой народ.
— Наши глубже смотрят в корень вещей. Кое-какие сведения доходят и до меня о диспутах на баке. Знают, что хотят, и, по слухам, уже кое-чего добились там, дома, а здесь одна видимость. Вся эта демократия так же влияет на ход истории, на события, мамочка моя, как крик вон тех чаек на погоду. Погода делается где-то там, — командир неопределенно махнул рукой, — а политические события — в Лондоне. Так что будем сидеть у моря и ждать погоды.
— Ожидание не всегда лучшая из возможностей…
Воин Андреевич пристально посмотрел на своего старшего офицера, многозначительно крякнул, затем перевел взгляд на сосредоточенные глаза гребцов, внимательно взглянул на орлиный профиль рулевого и сказал:
— Славный денек. Февраль, а уже полная весна, да и местная зима насквозь пропитана весной. Вот только туманы иногда наносит, но здесь они довольно редки. Вообще в Корнуэлле прекраснейший климат, мягкий, теплый. Трушин!
Рулевой перестал раскачиваться, но не повернул головы к командиру, продолжая зорко, по уставу глядеть вперед.
— Трушин, как, по-твоему, погода установится?
— Наверное, нет еще, покуражится малость. По чайкам видно, да и вон по тем облакам, что, как кисель, нависли. Да нам и на руку, ваше высокоблагородие, гражданин капитан второго ранга, — рулевой сверкнул ослепительными зубами.
Гребцы тоже заулыбались.
Полное лицо командира, обрамленное сероватыми баками, приняло хитроватое выражение.
— Посмотрим, посмотрим, — сказал он, постукивая пальцами по планширю. Матросы, хорошо знавшие своего командира, подметили затаившуюся тревогу в его серых глазах.
Предсказание рулевого Трушина исполнилось, хотя барометр и держался на «Ясно»: с холмов Корнуэлла в залив пополз зеленоватый туман. Корабельный кот Тишка, прикорнувший было на теплой парусине грота, нехотя спустился по вантам на палубу и затрусил на камбуз.
Новые осложнения
Яркая электрическая лампа под зеленым абажуром, свисающая с потолка салона, освещала морскую карту, разостланную на столе. Старший офицер провел остро отточенным карандашом вдоль линейки и отодвинул ее на контуры обрывистого берега. Тонкая линия курса от мыса Пенли на западной оконечности залива Плимут-Саунд пролегала между скалами Эддистон и банкой Вест-ратс, затем под прямым углом уходила в просторы Атлантики.
Командир клипера стоял возле своего помощника, почесывая щеку.
— Пожалуй, — сказал он, — наивыгоднейший курс в данной обстановке, но дальше минные поля.
— Обойдем.
И карандаш старшего офицера проложил путь в обход минных полей, минуя предательские банки на приличном удалении от мысов Лизард и Лендз Энд, мимо кладбища кораблей у островов Силли.
Старший офицер встал, критически оценивая свою работу, затем вопросительно посмотрел на командира.
— Пожалуй… — сказал командир. — Только бы продержался туман.
— Это одно из условий.
— А сколько этих условий?
— Многовато, Воин Андреевич.
— Надо их свести к минимуму.
— Каким образом?
— Действовать решительно!
— Постараемся. И да поможет нам бог.
Командир стал ходить по зеленой ковровой дорожке от стола к двери, заложив руки за спину, как привык ходить на мостике. Он был одет по-домашнему, в шлепанцах, в рубашке голландского полотна, и в этом наряде выглядел совсем штатским человеком, а никак не моряком, тем более что его салон тоже больше походил на кабинет ученого… По стенам шкафы с книгами, на них чучела морских птиц, на полках раковины южных морей.
Старший офицер находился в полной форме, только за работой он позволил себе расстегнуть китель, но тотчас же застегнул крючки, как только поднялся из-за стола. Его не покидало тревожное чувство ответственности за людей, за корабль и особенная, непривычная боязнь, что все пойдет прахом, «Орион» под конвоем на буксире приведут в порт как военный трофей. Усилием воли старший офицер прогнал эту мысль. Их замысел мог провалиться, как он убеждал себя, только благодаря случайности.
И он стал, уже в который раз, мысленно проходить по белому полю карты, испещренному цифрами глубин вдоль скалистого побережья Корнуэлла, минуя островки, предательские рифы, банки, мели, проскальзывая мимо постов на берегу, незаметно расходясь с патрульными миноносцами…
— Жарковато, — нарушил молчание командир, подходя к открытому иллюминатору. — Наш стармех изрядно греет. И это не плохо. Я приказал топить, а не то заплесневеем в Англии. Матросы тепло любят, да я и сам грешен, тоже предпочитаю достаточную температуру. А туманчик изрядный, и какой-то у этого английского тумана запашишко особенный. Вы не находите? Ну что вы, мамочка, все на нее не налюбуетесь?
— Надо бы вот здесь взять на полмили мористей. Если пойдем в отлив, то…
— Да нет, все правильно. Хоть и в отлив, под килем футов десять останется. Сбросьте китель. Чайку выпьем. Феклин! Что там у тебя?
— Пакет, ваше высокоблагород… Ах, виноват, нет-нет да «благородие» с языка срывается. Вот пакет, гражданин капитан второго ранга. Только что портовый катер доставил. Вахтенный начальник приказали вам передать. — Феклин замер, вытянув шею. Пока он бежал с пакетом, все встречные матросы бросали шепотом:
— Ты там не зевай.
— Краем уха прихвати.
— Как и что… Сам знаешь…
— Знаем. Не учи! — неизменно отвечал Феклин и сейчас медлил у дверей в надежде уловить, о чем бумага от Бульдожки — так почему-то прозвали матросы адмирала, не видев его ни разу.
— Посмотрим, что пишет адмирал, — сказал командир, разрезая ножницами конверт. — А ты, Феклин, иди распорядись насчет чайку да принеси к чаю…
— Есть, к чаю! Коньяку или бурдо? — осведомился вестовой, выражая всей своей складной фигурой горячее стремление выполнить этот приятный приказ.
— Ямайского рому, — сказал командир, вытаскивая из конверта бумагу.
— Рому?! — как эхо, повторил Феклин — и остался стоять у дверей, полураскрыв рот.
— Да, рому. Живо!
— Есть, живо!
— Ну?
— Кажись, и ром был…
— Кажись?.. Ого, да здесь целое послание. Вот что значит наступить начальству на любимую мозоль. — Командир прищурился и, как все дальнозоркие люди, далеко отставив руки с бумагой, стал разбирать английский текст приказа, покачал головой. — Сдать груз. Ну и ну! Читайте, Николай Павлович, а то я к вечеру слабею глазами. Ну а ты что стоишь? Или опять ром выпил?
— Никак нет. Как можно? Сейчас представлю! — И, повернувшись кругом прищелкнув каблуками, Феклин вылетел из салопа и первым делом поведал ожидавшим его на юте Громову и Трушину: — Ну, братцы, я продержался сколь мог и все подметил: Сам-то, Мамочка наш, говорит мне: «Сообрази насчет рома, Феклин» — и конверт распатронивает. Надо идти, как положено, а я засомневался насчет рома.
— Выдул ром-то? — спросил Трушин.
— Да не. Разве самую малость. Это я чтобы продержаться в каюте, а сам слушаю да смотрю, как и что.
— Кончай молоть, Илья, — осадил его Громов. — Что в бумаге?
— Бульдожка груз требует, чтобы сдать его ему.
— Ну?
— Ну, а наши сумневаются насчет сдачи и мозгуют в другую сторону, курс уже проложили, чтобы домой, значит.
— Ты что, видал карту? — спросил Громов.
— Как зашел, а она у них на столе разложена и на пей курс. Из бухты право руля и вдоль берега, в обход, значит, ихних островов, а там их столько понабросано, так что надо глаз и ухо востро держать, да они провели — любо-дорого смотреть.
Громов хлопнул вестового по плечу: — Так держать, Феклин! Давай насчет рома действуй и посматривай. Пошли, Роман, дело есть.
— Это насчет чего, братцы? — полюбопытствовал Феклин. — Дело-то?
— Да так, между прочим. Время придет — узнаешь, да не вздумай лясничать насчет этого ни с Грызловым, ни с Брюшковым, да и Бревешкина поостерегайся. Ну, посматривай, Илья!
Феклин обиделся. Будто он сам не знал, с кем можно делиться секретами, а с кем нельзя, но его больно задело высказанное ему недоверие.
— Тоже мне, посматривай! — проворчал он. — И у них тайны да секреты.
Как из-под палубы, появился унтер-офицер Бревешкин.
— А, Илья Фомич! Наше вам!
— Бывай здоров, Никон Кузьмич.
— Нет, ты постой!
— Не могу. Командир требует.
— Со мной, так командир, а с этой шпаной есть время лясы точить? С чем они к тебе приставали? Поди, насчет бумаги выспрашивали?
— Да, Никон Кузьмич, но я и сам ничегошеньки не знаю.
— Вот и врешь, сын вши и собаки, — перешел на свой постоянный язык Бревешкин.
— Не собачьтесь, Никон Кузьмич. Бывайте здоровы и не кашляйте! — Феклин побежал в буфет, напутствуемый самым немыслимым набором ругательств.
Когда Феклин вернулся с подносом, на круглом столе красного дерева уже не было карты, командир и его помощник сидели в креслах и, к явному неудовольствию Феклина, часто переходили с русского на английский. Все же вестовой, словно опытный детектив, по обрывкам фраз, выражению лиц, интонациям понял, что разговор вертится вокруг распоряжения Бульдожки. Само распоряжение, отпечатанное мелким шрифтом, лежало на столе, и вестовой, неодобрительно взглянув на непонятные буквы, в знак полного презрения поставил на него сухарницу.
— Феклин! — окликнул его командир.
— Есть, Феклин!
— Ты что же, мамочка моя, так непочтительно относишься к письмам сэра Эльфтона? Дай-ка сюда!
— А по мне, ей самое место под сухарями, кляузная, поди, писулька? Вот, пожалуйста. А что в ней?
— Так ведь уже знаешь? Хоть и не сведущ в английском. По глазам вижу.
— Догадываюсь немного, потому, сами знаете, какие каши мысли.
— Знаю, братец. И хотя на бумаге написано «Секретно», для команды в ней секрета нет.
— Груз хотят снять, а нас под арест?
— Да, Феклин. Спасибо, мамочка, мне покрепче… Рому достаточно.
Разговор между капитаном и его помощником продолжался, они вносили коррективы в свой план, учитывая распоряжение адмирала. Оно состояло всего из десяти неполных строк:
«Февраль 25.1918. 5 ч. пополудни
Командиру клипера „Орион“, капитану II ранга Зорину.
Предлагаю:
1. Завтра к 11 до полудня перейти из гавани Хамоэйз в гавань Саттон-Харбор и передать имеющийся груз оружия на транспорт „Виктория“.
2. Командиру клипера после передачи груза на транспорт „Виктория“ прибыть в управление порта для получения дальнейших инструкций.
Начальник порта адмирал Эльфтон».Первый параграф распоряжения не являлся новостью, второй же оказался коварной неожиданностью.
— Адмирал бьет в солнечное сплетение, — сказал старший офицер, — хочет сломить. Если мы повинимся…
Командир перебил:
— То, как говорят китайцы, «потеряем лицо», а по-русски — совесть и честь! Я откажусь выполнять его распоряжения!
— Тогда адмирал, основываясь на старых союзнических соглашениях, приравняет ваш отказ к открытому бунту и будет действовать согласно законам военного времени. В лучшем случае из дипломатических соображений, чтобы не поднимать шума, нас снимут и назначат других командиров.
— Вполне возможно!
— И даже не англичан, возьмут из нашего резерва при русском консуле, там есть несколько морских офицеров.
— Но матросы! Неужели они согласятся?
— Не все. Большинство согласится, лишь бы уйти домой, а некоторые, как Бобрин, Новиков, Куколь, и по идейным соображениям. Вы же знаете, что на клипере в миниатюре происходит что-то похожее на подготовку революции, хотя вы как «монарх» расцениваетесь гораздо выше, чем Николай Второй.
— Он еще в состоянии шутить, а я совсем вошел в отчаянность и тоску, как говорят матросы, после всех напастей. Неужели он догадался? Ну и хитрая Бульдожка, как называет его Феклин. И все-таки я не верю, что нет у нас выхода!
Они встретились взглядами и поняли друг друга без слов.
— Вместо вас, Воин Андреевич, завтра поутру съеду на берег я, а вы с богом. Постараюсь усыпить их бдительность, даже, если вы разрешите, дам понять, что мы пересмотрели свое отношение к событиям в России. Так, неопределенно, туманно, чтобы выиграть время.
— Не стоит, Николай Павлович. Знаете, как все может обернуться? В таком деле нельзя идти на компромисс. И какие мы с вами дипломаты? Лучше будем соблюдать достоинство.
— Да, Воин Андреевич, вы правы. Ну их к дьяволу, не стану фиглярничать.
— Бот, вот, мамочка моя, вот это правильно. Но вы-то знаете, на что идете? Может, придется не один месяц, а год ждать, пока подвернется оказия на родину, да и корабль вы любите и плавание такое предстоит?
— Выхода нет, Воин Андреевич: или вы, или я. Больше некому.
— Да, да, вы или я. А если вы примете командование, то не хуже меня справитесь, а может быть, и лучше.
— Об этом не может быть и речи. Если мне удастся усыпить их бдительность, то идите с богом, а обо мне не беспокойтесь. Между нами говоря, я остаюсь в большей безопасности.
— Милый вы мой! Ну зачем об этом? Я-то ведь все знаю: могли сейчас сидеть в Севастополе на теплом месте или командовать крейсером, а пошли ко мне. Не машите руками. Так ведь?
— Да, относительно теплых мест у нас с вами одна точка зрения. Не скрою — остаюсь с тяжелым сердцем. Тут мы говорили о долге, так в этом я понимаю свой долг и уверен, что вы поступили бы так же.
— Что говорить. Спасибо, Коля. Оставим это. Я же тебя знаю — не уступишь. И мне негоже покидать корабль в такую минуту. — Командир вытащил платок и долго тер глаза, ворча, что английский уголь дает мельчайшую копоть, и она, смешиваясь с дымом, лезет в глаза даже в каюте.
Вконец расстроенный Феклин, задев подносом о косяк двери, вышел из салона.
Николай Павлович сосредоточенно пил горячий чай, не глядя на командира, который наконец спрятал платок — и улыбнулся.
— Знаете, кто бы с удовольствием остался? — спросил он, расплываясь в улыбке.
Невольно улыбнулся и Николай Павлович:
— Понятия не имею.
— Стива Бобрин!
— Да! Ведь у него на берегу Элен — продавщица перчаток!.
— Говорят, у него каюта забита перчатками?
— Как-то заглядывал, везде коробки, перевязанные разноцветными ленточками.
Оба засмеялись так громко, что пораженный Феклин заглянул в салон и, довольный, что все уладилось, закрыв дверь, побежал искать своих друзей, чтобы сообщить им о чрезвычайных событиях в салоне. Шутка ли сказать: сам Мамочка заплакал после каких-то английских слов, смысл которых ему, Феклину, яснее ясного.
— А чем черт не шутит, может, вы еще догоните нас при выходе из залива! — уже совсем бодро сказал командир. — Как увидите, что мы снялись и все благополучно, садитесь на катер и платите любую сумму. А?
— Попробую, да боюсь, поставят соглядатая.
— А вы с ним вместе, может, из него марсовый получится;
— Постараюсь, только из-за меня не задерживайтесь ни секунды. Погода сейчас неустойчивая, надо ждать со дня на день западного ветра.
— Тогда и туман разгонит и навстречу подует, застрянем в канале. Туман нам сейчас ох как нужен.
— Так что не ждите. Не догоню у мыса Болт-Хед, идите без меня.
— Да, да, что делать, придется. Кто первым доберется до Севастополя, тот…
Командир в раздумье повертел чайную ложечку и сказал:
— Ну, если первым доберусь до Севастополя — о семье не беспокойтесь.
— Возможно, мне удастся скорее увидеть наших, то и вы знайте…
— Да, да, отсюда ближе… Деньги возьмите в английских фунтах и в долларах.
— Благодарю… Запас угля у нас достаточный…
Они опять стали разбирать возможные препятствия, опасности, неожиданности и при выходе из гавани, и в Ла-Манше. Если продержится туман, решено было уходить днем, если же туман рассеется — то ночью. Этих «если» набиралось множество, и на них надо было находить ответы в нескольких вариантах.
Феклин несколько раз подходил к предусмотрительно не прикрытым дверям и поспешно шел сообщать приятелям, что «все сидят, мозгуют, и хоть еще полбутылки рома, но ни-ни, значит, дело серьезное». Наконец он услышал, как старший офицер сказал:
— С Адамсом я договорился, помните, шкипер с буксира, что проводил нас сюда по каналу, он и потянет назад. Симпатичный человек. Он, мне кажется, догадывается, в чем дело. Говорит, что проникся уважением к России и ко всем русским, особенно его привлекают большевики. Почему-то он и нас считает за большевиков.
— Ну какие мы большевики? Так, ищущие странники. Дайте вашу руку и выпьем за успех.
Побег
Настало утро. Иногда, словно сквозь кисею, просвечивал белесый кружок солнца и скрывался за пеленой тумана, закрывавшей верхние реи клипера. Матросы занимались утренней приборкой и обсуждали приказ Бульдожки. Сообщение Феклина еще вечером обошло все кубрики, вызывая возмущение матросов. Сейчас, механически выполняя знакомую работу, матросы с нетерпением ждали, поглядывая на ют: там в кают-компании, по сообщению того же Феклина, шло совещание офицеров. За длинным столом в кают-компании сидели все офицеры клипера, кроме Николая Павловича, который ушел на вельботе за буксиром и должен был остаться на берегу. Его стул, по правую руку от командира, был не занят, но прибор стоял на столе. В кают-компании, как за царским столом, каждый сидел на раз и навсегда установленном месте, только продвижение по службе могло изменить и место за столом, что происходило очень редко.
На своем стуле между старшим офицером и судовым врачом сидел корабельный священник иеромонах Исидор — молодой и пышущий здоровьем, с задорным блеском в глазах, любивший рассказывать анекдоты и первый оглушительно хохотавший. В это утро и он сидел молча, с аппетитом жуя бифштекс с кровью, и, поглядывая на гардемарина Стиву Бобрина, вздыхал и только раз шепнул, подмигнув:
— Грехи наши, юноша, к чему они приведут?
— Я уже высказывался на этот счет, — многозначительно ответил гардемарин и переглянулся с артиллерийским офицером Новиковым, тот кивнул, опуская глаза в тарелку и вяло ковыряя кровоточащее мясо. Новиков страдал какой-то болезнью желудка, но, чтобы не вызвать обидных улыбок, отказывался от всякой каши и ежедневно, особенно по утрам, мучился за столом.
Завтрак прошел вяло, в сосредоточенном молчании и ничего не значащих замечаниях о погоде и вчерашних газетных новостях.
Командир отодвинул недопитый стакан:
— Феклин!
— Есть, Феклин!
— Выйди и закрой поплотней двери с той стороны.
— Ест, закрыть с той стороны, — с неохотой повторил вестовой, ненароком пропустив слово «поплотней».
— Граждане и господа офицеры! — Командир, зная взгляды некоторых своих подчиненных относительно новой формы обращения, щадил их самолюбие и всегда называл по старой традиции господами. — Вчера вечером я довел до вашего сведения распоряжение начальника Плимутского порта, а сейчас намерен сообщить мое решение относительно дальнейшей судьбы экипажа и корабля.
Я решил не подчиниться незаконному распоряжению английского адмирала, направленному на умаление чести и достоинства военно-морского флота России. Груз мы должны доставить в один из наших портов, и мы это сделаем, граждане офицеры. Мы не можем также согласиться, чтобы нас использовали как силу против свободы нашего народа, как карателей. Придя на родину, мы сами разберемся, за кем правда, и станем на сторону истинных патриотов России.
Довожу до вашего сведения, что старший офицер клипера капитан-лейтенант Никитин по долгу службы и из благородных побуждений временно остается на берегу, его должность заменит вахтенный начальник лейтенант Горохов.
Прошу, друзья, выполнять свой долг, как надлежит русским офицерам и как требует морская дисциплина. Все!
— Аминь! — громко заключил отец Исидор и добавил весело: — Иного и ожидать было бы грешно и непотребно.
Все встали. Стива Бобрин опять встретился с мрачным взглядом артиллерийского офицера и улыбнулся. Новиков презрительно сжал губы и пошел к двери.
Гардемарин, не в силах сдержаться, тихо сказал отцу Исидору:
— Только дисциплина мешает мне высказать все, что я думаю по этому поводу.
— И правильно делаете, отроче. Думайте что хотите, не мешайте только делу и сами ему способствуйте. — Он захохотал, глядя на обескураженное лицо Стивы Бобрина.
Еще Феклин не успел сообщить матросам со всеми подробностями и комментариями о приказе командира, как всех потрясло новое чрезвычайное событие: с берега вернулся вельбот, на дне его под брезентом лежал связанный унтер-офицер Бревешкин, назначенный старшим команды вельбота.
Матросы, не любившие этого сквернослова, получившего неожиданное повышение от прежнего старшего офицера, поощрявшего наушников и горлохватов, заметили необычное поведение «унтерцера». Когда шли к причалу и на вельботе находился старший офицер, Бревешкин, по обыкновению выслуживаясь перед начальством, таращил глаза и задал такой темп, что гребцы обливались потом. Замечено было, что он часто хватается за грудь, хотя никогда не страдал никакими болезнями, кроме похмелья. Когда старший офицер побывал на буксире и, простившись со всеми, сошел на берег, Бревешкин неожиданно предложил зайти в пивную и «тяпнуть» по кружке.
Марсовый Зуйков, ходивший гребцом на вельботе, рассказывал у грот-мачты:
— Когда он, значит, предложил пойтить в ихний паб, ну мы прямо очумели. Переродился человек, чудеса, да и только. А паб этот, ну вот, сами знаете, пять шагов от причальной стенки. Идем. А он в дверях замешкался, всех пропускает. Всегда хам хамом был, а тут нате — вежливость проявляет. Ну и стал я за ним глядеть. Уж и к пиву не подхожу. Смотрю, побежал, гад, от пивной собачьей рысью, я за ним. Осенило меня тут, что он за пазухой камень держит. Догнал, а он и говорит мне: «Ты что это, Спиридон Лаврентьич, хвостом держишься, я, говорит, тут к одной здешней куме хочу завернуть, иди себе, говорит, и выпей за мое здоровье». И шиллинг мне сует, подлюга!
Нет, говорю, идем назад. Он заматерился да за грудки. Тут ребята подошли на крик, и повели мы его, милягу, к вельботу, а он дорогой бумагу и выбросил, письмо на английском наречии к Бульдожке, что мы, дескать, домой навостряемся. Кто-то из наших господ офицеров настрочил и подговорил Бревешкина, да его и подговаривать не надо, он вроде Брюшкова с Грызловым на царя молится. Вот такие-то наши, братцы, дела, чуть было не пропала вся наша задумка…
Строились и предположения, кто написал донос и отправил его с Бревешкиным. Под сильным подозрением у матросов были гардемарин Бобрин и его хмурый приятель артиллерийский офицер Новиков.
Между тем подошел буксир с толстым шкипером на крыле мостика.
— Карашо! Давай, давай! — весело кричал он матросам, принимавшим канат с буксира. — Очень карашо! — Это был мистер Адамс, он знал всего с десяток русских слов и мастерски ими пользовался.
Паровым брашпилем выбрали якорную цепь. Якорь втянули в клюз, взяли на стопор. И «Нептун», так назывался буксир мистера Адамса, выпуская невероятное количество дыма и пара, давая частые гудки встречным судам, потянул клипер из-под стен древней цитадели.
Командир не покидал мостика, поглядывая за корму, хотя в нем росла уверенность, что удастся выйти в Ла-Манш. Николай Павлович оказался прав, сказав на прощание, что момент для побега необыкновенно удачен. В это утро уходил караван судов во Францию. На брандвахте знают «Орион» как военный транспорт и пропустят без придирок. В Английском канале будет сложнее, но, бог даст, обойдется…
С вельботом старший офицер прислал записку, что транспорт «Виктория», который должен был принять груз с «Ориона», еще дня два — три будет стоять под выгрузкой, следовательно, можно рассчитывать, что не так скоро станут разыскивать клипер.
Все эти утешительные вести меркли, как только мысли Воина Андреевича возвращались к предательскому письму. Перепуганный насмерть Бревешкин назвал имена офицеров, приказавших передать письмо в военный порт или на улице первому английскому офицеру. Бревешкин сидел в карцере, а Бобрин и Новиков находились под арестом в своих, каютах.
У командира сжалось сердце при виде портового катера, направлявшегося прямо к «Ориону». Катер прошел мимо. Еще большую тревогу вызывала канонерская лодка, но и она прошла вблизи, направляясь к докам. Опять в голову полезли различные «если»: что, если к адмиралу дошла копия письма; что, если он сам догадался и за нами следят, предупреждена брандвахта; что, если вон на том буксире солдаты идут к нам. Катер с солдатами держал курс к городу Девонпорту, и вконец расстроенный командир сказал поднявшемуся на мостик вахтенному начальнику лейтенанту Горохову:
— Невероятное, черное дело, Игорь Матвеевич!
— Да, я что-то не припомню о таком деле да флоте.
— Хорошо, что пока обошлось. Вот он, непредвиденный случай, который мог все потопить! — Воин Андреевич стал молча прохаживаться по мостику, думая, кто же теперь станет нести вахту. «Придется мне делить с Игорем Матвеевичем. Этим подлецам и ногой не дам ступить на мостик», — решил он и, улыбнувшись, по обыкновению, после горьких раздумий сказал:
— Придется нам с вами нести двенадцатичасовую. А, мамочка моя? Вот дела! А как вы думаете, если Свирину доверить? — высказал он неожиданно мелькнувшую мысль.
— Павел Петрович — дока насчет парусов, редкий моряк, я многому научился у него.
— Вот и отлично. И как мне раньше в голову не пришло? Правда, поступок крамольный — боцману доверить офицерскую вахту!
— Да, конечно…
— Хотя сейчас в России те же боцманы и матросы флотом правят. Как мы недооценивали способности рядовых людей, хотя знали, что из их среды вышли и князь Меньшиков и Ломоносов… Кастовость заела… Позвольте, позвольте… Никак, нас миноносец догоняет? Хотя нет сигналов остановиться.
Миноносец прошел в опасной близости от левого борта, подняв сильную волну.
— О, чтоб вас… сыны Альбиона! — командир беззлобно выругался. — Эх и надавал бы я вам по мордасам за такие штуки! Чуть буксир не порвался по их милости.
Пока лишь этой небольшой неприятностью обошлось рискованное плавание по заливу Плимут-Саунд.
Туман рассеялся, оставив золотистую дымку над морем и холмистыми берегами залива. Чтобы помочь «Нептуну», командир приказал пустить машину, и ход увеличился до семи узлов.
Военное министерство, «в связи с трудностями снабжения» отменило традиционную чарку, но после двух революций командир клипера пренебрег приказом бывшего министра, к тому же в числе грузов на клипере находилось двадцать тонн чистейшего спирта, предназначенного для медицинских нужд, и он восстановил традиционную чарку, чем несказанно поднял и без того свой высокий авторитет среди команды.
Боцманы просвистели к чарке. Торжественно вынесли медную ендову с водкой. Матросы благоговейно выпивали и, закусив ржаным российским сухарем, шли к своей артели есть щи, дух от которых разносило далеко за борта клипера. Запах щей уловили и на рыбацком боте, дрейфовавшем с обвислыми парусами. Команда бота — старик и трое подростков, вытянув шеи, казалось, старались заглянуть в бачки со щами.
— Ишь ты бедолаги, — сказал Громов, — голодные, поди. Тоже и у них не у всех сладкая жизнь, хоть и богатая страна.
— Это кому как в жизни повезет, — солидно вставил Брюшков, зачерпывая ложкой щи. — Не нами такой порядок установлен. Искони так и на всей земле: есть и богатые, и бедные.
Зуйков сказал, облизав ложку:
— Все свою кулацкую линию гнешь, Назар. А линия эта кончилась, братец мой. Новая линия началась у нас, Назарушка. — Он прищелкнул языком и подмигнул.
Выпитая водка, сытная еда расслабили враждующие стороны, и спор велся вяло, добродушно. Каждый сознавал собственную правоту и поэтому снисходительно относился к мнению другого.
— Для кого новая линия нужна, а кто и на старой проживет, — ответил Брюшков, тоже облизав ложку и положив ее на брезент. — Кому какая линия нравится. Нам и по старой жить да жить. А ваша новая неизвестно куда приведет. Ты вот все агитируешь; то долой, другое долой, монарха по шапке.
— Совершенно правильно, — подтвердил Зуйков.
— Как бы эта правильность кривдой не обернулась. Не зря англичане забеспокоились. Дескать, у союзников произошло затмение ума и надо им мозги вправить, пока не поздно.
— Пусть за свою голову беспокоятся. Как бы мы им не вправили.
— Ты, Спиря, как заяц во хмелю. Где уж там вправлять. Вот догонят… — Брюшков замолчал, почувствовав, что перехватил.
— Э-эх, — Зуйков постучал ложкой по голове Брюшкова, — совсем нет у тебя понятия! Такое накликаешь.
— Себе постучи! — Брюшков отбросил руку Зуйкова, но дальше этого не пошел, чувствуя, что вся артель не на его стороне. — Слова не скажи…
— Говори, да не заговаривайся…
В разговор вступил сосредоточенно жевавший баталер Невозвратный. Как унтер-офицер да еще хранитель припасов, он мог есть в своей баталерке «персональный» борщ, в котором ложка могла стоять, но предпочитал общество матросов, где и жидковатые щи казались вкусней. Говорил он мало, больше слушал, усмехаясь и покачивая головой, но если уронит фразу, то к ней прислушивались. Лука Лукич снискал к себе почтительное отношение как человек честный и не пустобрех.
— И-их, братцы мои, — сказал Лука Лукич, покачивая головой, — видали вы того мальчонку на баркасе, ну что с краю стоял? Ну вылитый мой Ванька. Одногодок он с нашим Лешкой, ешь, ешь, Алексей, сил набирайся, как-то там у нас?
Лешка улыбнулся с полным ртом.
Разговор перешел на самую больную и любимую тему — о доме, о близких, об урожае, земле, скотине — обо всем, от чего были оторваны все годы войны.
Левый берег давно скрылся. По-весеннему грело чужое солнце, припекая спины моряков. Сильней запахло разогретой смолой, сырой парусиной, солью.
Убрали бачки. Матросы тут же на палубе легли отдохнуть положенный уставом час. Скоро все уснули на выскобленной добела палубе, подложив под голову свернутый бушлат.
«Нептун» с «Орионом» обогнали низко сидящий транспорт. На его палубе, загроможденной повозками, походными кухнями, расположились солдаты, стояли они и у фальшборта, образуя розовую линию лиц. Солдаты с завистью поглядывали на палубу парусника со спящими матросами, и не один из них подумал: «Выйдет корабль в Английский капал, поднимет паруса и полетит, как вольная птица, по океанским волнам, от войны, от смерти». Любой из них, не задумываясь, поменялся бы местами с русскими моряками.
Не знали они, что для русских только началась самая кровопролитная из войн и что спокойствие и мир на корабле только кажущиеся.
Унтер-офицер Бревешкин сидел в карцере — крохотной каютке, рядом с подшкиперской, в ней хранилась старая парусина и отслужившие свой срок канаты. Вся эта рухлядь, как говорил старший боцман Свирин, и не нужна, а выбросить жалко, да и матрос, если попадет ненароком, то хоть отоспится на мягкой подстилке.
«Это тебе не канатный ящик, а настоящий салон», — обыкновенно заканчивал Петрович, когда речь заходила о карцере.
В этом-то «салоне» и томился унтер Бревешкин. В карцере не было иллюминатора, а только зарешеченное окошко в дверях. Бревешкин не отходил от окошка и жаловался на свою разнесчастную судьбу сторожившему его часовому Грицюку.
— Только подумай, братец, в какое дело втравили меня господа офицеры. Снеси, говорят, письмо, десять фунтов получишь. И все было бы по форме, если бы не этот Зуйков… — Последовало ругательство, длившееся не меньше минуты.
— Во брешет! — Грицюк поскреб затылок и, опершись на винтовку, терпеливо ждал. Его смуглое лицо выражало усталость и скуку. Такое выражение оно приняло, как только его «забрили», и, лишь когда разговор заходил о доме или когда вечерами в хорошую погоду подвахтенные пели, Павло Грицюк становился совсем другим человеком, с лица сходила скука, усталость, глаза блестели, а вялые мускулы наливались силой.
Выдав «заряд» по адресу Зуйкова, Бревешкин пригрозил переломать ему все ребра и, вдруг сникнув, спросил:
— Как там матросы? Поди, озверели?
— А ты думал похвалят?
— Вот подлецы, мало их пороли в пятом году, поросячьих сынов, — последовало новое длиннейшее ругательство, а затем вопрос: — А что мне сулят эти каторжные души?
— Да ничего такого. Толкуют, что спишут за борт.
— За борт?
— Да. Если полевой суд не расстреляет.
— Да ты что?
— Да ничего. За измену всегда вешали, а тут просто расстрел. Скажи спасибо.
В словах Грицюка чувствовалось безразличие, скука и уверенность, что судьба заключенного решена раз и навсегда, а следовательно, и толковать об этом нечего. В довершение всего часовой посоветовал:
— Ты бы с отцом Сидором поговорил трошки, все он ближе к богу, мабуть, какой совет даст, что делать твоей окаянной душе, когда она полетит в ад. Может, и тебе в рай можно? Как-нибудь боком?
От таких слов у Бревешкина помутилось в глазах, и, расточая проклятия, он упал на гнилую парусину и завыл протяжно, по-звериному.
Стива Бобрин переносил не менее жестокие муки. В отличие от Бревешкина, которого страшило только наказание, гардемарин еще страдал нравственно, понимая всю тяжесть своей вины. Воспитанный в старых морских традициях, высоких понятиях о долге и чести, он знал, что совершил подлость, с каких бы позиций ни подходить к его участию в этом деле.
«Пуля в лоб, только пуля, — подумал он со слезами на глазах. — Бедная Элен. Она никогда не узнает о моем бесславном конце». Стива Бобрин никогда не признавался себе, что одной из причин, причем главных, побудивших его раскрыть намерения командира, было желание остаться с Элен, заходить к ней в магазин и…: покупать перчатки. Боже, сколько у него уже этих перчаток! Элен смеялась, передавая ему очередную покупку:
— Мистер Бобринкс, зачем вам столько перчаток? Вы думаете открыть свой магазин на клипере? Эти перчатки так хорошо подойдут вашим матросам тянуть канаты, драить палубу… — И она смеялась, блестя жемчужными зубами, и так многообещающе смотрела на него. — О, Стив Бобринкс…
В самом деле, сколько у него этих перчаток? Вестовой принайтовил целую гору к переборке, они под кроватью, на полках, на диване.
Гардемарин раскрыл первую попавшуюся под руку коробку, там лежали крохотные палевые перчатки. Стива смотрел на них, воскрешая образ Элен, и слезы падали на нежную замшу, оставляли на ней темные пятна…
Лешка Головин взобрался на фок-рей — нижнюю рею — фок-мачты, удобно устроившись там, наслаждался видом спокойного моря и с любопытством рассматривал встречные суда, более быстроходные, обгонявшие «Орион». Плимутский канал в этот погожий день напоминал оживленную дорогу. Из Ла-Манша прошли три транспорта и одно госпитальное судно с огромным красным крестом в болом квадрате на борту, повязки раненых белели на всех трех палубах бывшего лайнера. Перегнал крейсер, его броня лоснилась свежей краской под цвет моря. На сероватой воде до горизонта застыла флотилия рыбацких судов, вид у них был безмятежно праздничный, и Лешке захотелось очутиться на одном из них и порыбачить на английский манер. Вдали показалась яхта с необыкновенно высокой мачтой и огромными парусами, она походила на бабочку. «Кто же на этой яхте раскатывается? — невольно подумал мальчик и заключил со вздохом, подражая Зуйкову: — Кому война, а кому малина, раскатываются на яхтах, какой-нибудь буржуй, наверное, или лорд».
В Ла-Манше из океана пошла пологая зыбь, клипер солидно закивал своим непомерно длинным утлегарем. Слева показались скалы, а на них крепостные сооружения. Лешка опять вздохнул: ему захотелось полазить по этим скалам и стенам форта, а заодно забраться и на маяк, ярко освещенный солнцем, он издали казался не таким уж высоким, и Лешка был уверен, что забежит на самый фонарь одним махом.
«Вот так ходишь, ходишь по морям и только издали видишь необитаемые острова», — заключил Лешка, считавший, что на таких голых скалах не сможет долго прожить ни один- человек, кроме него, Алешки Головина.
«Нептун», предупредив гудком, сбавил ход. На баке боцманы под руководством Петровича отдали буксир, и английские матросы в цветных свитерах на корме «Нептуна», казалось, нехотя потянули его из воды.
Лешка мигом скатился по вантам и побежал на ют. По палубе расхаживать не полагалось, каждый выполнял свою работу по расписанию у мачты или на реях, а по палубе, выполняя приказание, передвигался только бегом.
Мистер Адамс прибыл на борт клипера на поданном ему вельботе. Это внимание растрогало шкипера, и так расположенного к русским морякам, и совсем уже привело в восторг, когда командир пригласил его к себе и Феклин с сожалением в душе поставил на стол красного дерева бутылку с остатками ямайского рома. Хозяйственный вестовой не понимал, зачем зря тратить такой ценный продукт на английского шкипера, который получит свои шиллинги и был таков, а у них путь дальний, и ром ох как пользителен в холодные ночи, да и не только в холодные.
— За благополучный приход на вашу родину! — провозгласил мистер Адамс и выпил по-русски — залпом.
Прощаясь, он посоветовал командиру клипера не ложиться сразу на правильный курс но крайней мере до темноты.
— Благодарю, мистер Адамс!
— Такие пустяки, капитан. Все честные люди должны помогать друг другу. И если позволите, еще один совет?
— Буду благодарен, мистер Адамс.
— Это маленькая хитрость. Ночью пусть ваша команда не говорит по-русски.
Воин Андреевич улыбнулся:
— На каком же языке?
— Лучше пусть совсем молчат, особенно при подходе сторожевого катера. Лучше вы ведите переговоры. Скажите: «Мария» идет с балластом в Калькутту. Ничего, что эта старая леди еще торчит у пирса в Саттон-Харборе. Они-то не знают. А «Мария» одного с вами типа и тоннажа, только, конечно… — шкипер развел руками и изобразил на своем лице прехитрую улыбку, из которой можно было, по его мнению, заключить, как далеко «Марии» до настоящего корабля, каким является «Орион». — На сторожевиках не будут придираться, «Мария» так «Мария», этот парусник они знают, а в темноте не разглядят различия, дело сторожевиков — ловить немцев и помогать своим.
Мистер Адамс выпил еще стопку рому и, совсем расчувствовавшись, сказал:
— Хороший капитан выслушивает все советы, а делает по-своему, как подсказывает случай, находчивость, знание моря и опыт. Лучше всего не встречаться со сторожевиками и мелями. Пусть всегда под килем будет четыре сажени…
Шкипер не взял ни на пенни больше положенных 18 шиллингов за провод по каналу. На прощание Адамс, к неописуемому изумлению и радости Феклина, подарил ему складной ножик, правда, без одного лезвия, зато оставшиеся два вестовой сразу оценил как «первейшую сталь».
— И среди них встречаются стоящие люди, — говорил Феклин немного спустя, хвастаясь подарком, — такого не жалко и ромом угостить, это тебе не Бульдожка.
— Правда, не своим, — заметил Громов. — Ты-то хоть его отдарил чем-нибудь?
— Подходящего ничего не было, а он уж больно торопился…
Не поднимая парусов, клипер медленно двигался навстречу волне. Па марсах стояли наблюдатели и смотрели, не покажется ли позади быстроходный катер. Обгоняли различные суда, но ни одно не подходило к борту. Стемнело. Командир приказал поднять паруса и не зажигать ходовых огней.
Квадрат 34
Немецкая подводная лодка У-12 шла, зарываясь узким носом в фосфоресцирующие гребни волны. На черном безлунном небе ярко горели звезды. Капитан и несколько офицеров, свободных от вахты, вышли подышать чистым воздухом. Внизу вдоль борта, держась за леер, стояли матросы, которым командир подводной лодки капитан-цурзее барон фон Гиллер в знак поощрения тоже разрешил подняться из душных отсеков. Жадно дышали люди. Дышала и сигарообразная субмарина, раскрыв свой единственный люк, глухо урчали дизеля, заряжая аккумуляторы.
Отдыхали и люди и их хитроумное сооружение. Днем они хорошо поработали. В 13 часов в перископ увидели английский транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн под охраной двух эсминцев. Транспорт перевозил пехоту для Западного фронта, где уже много недель шло одно из самых ожесточенных сражений. И немцы, и их противники изнемогали, бросая в огонь последние резервы.
Выпустив торпеду, капитан-цурзее следил за ее молочно-белым следом, то исчезающим, то вновь вспыхивающим на синей воде. Увидав столб воды, закрывший носовую часть транспорта, капитан приказал убрать перископ и уходить в глубину. Отдавал приказание он ровным, по-всегдашнему жестким голосом, как будто ничего особенного не произошло.
Опустившись почти на предельную глубину, лодка повисла с выключенными двигателями.
В это время на поверхности разыгрывалась одна из многочисленных трагедий, происходивших в те годы на поре.
Нос транспорта стал медленно погружаться в воду. Оголилась корма с бешено вращающимся винтом. Давя людей, по палубе покатились пушки, танки. Зеленоватые фигурки солдат сыпались за борт, метались по палубе. Воду вокруг судна покрыли головы тонущих людей. На крыле мостика, еле удерживаясь на нем, так круто он поносился, стоял капитан транспорта и через мегафон тщетно пытался унять панику среди солдат и заставить их перед тем, как прыгнуть в воду, надеть спасательные пояса. Матросы, штурманы, машинная команда героически помогали капитану погасить панику. Мало кто из них оставил судно, была еще слабая надежда, что переборки в трюмах выдержат напор воды, подойдет помощь, команды миноносцев возьмут к себе на палубу много людей, остальные продержатся на поясах, кругах, в шлюпках. Хотя сейчас все шлюпки, которые удалось спустить, перевернуты или полны воды, но, как только люди успокоятся, воду можно откачать… Многие же и не думали о своем спасении, верные долгу, как их капитан.
Барон фон Гиллер разгадал тактику эсминцев. Выждав двадцать минут после взрыва последней глубинной бомбы, он приказал всплыть и в перископ увидел агонизирующий транспорт, застывший в нелепой позе. Недалеко от него находились эсминцы с множеством спасенных солдат на их палубах. И все-таки в воде их, казалось, совсем не убыло.
Эсминцы стояли, подставив борта для смертельного удара. Необыкновенная удача!
Бледное лицо немецкого офицера, обрамленное черной бородкой, выражало при этом только деловую озабоченность. Его лодка, спрятав перископ, пошла под водой к эсминцам. Затем на расстоянии тысячи метров от них высунула перископ, и барон фон Гиллер, рассчитав угол атаки, приказал ударить по ним двумя торпедами.
На этот раз сигнальщики на эсминцах вовремя заметили перископ и следы торпед, миноносцы ринулись в разные стороны, топя своих соотечественников. Все же одна торпеда попала в трюм транспорта, набитый ящиками со снарядами. Транспорт разорвало на куски, и через минуту на его месте крутились воронки. От взрыва под обломками погибло множество людей, не успевших отплыть от корабля, но все же человек триста еще держались на воде. Барон фон Гиллер и на этот раз увернулся от глубинных бомб.
Вторую неделю рыскала У-12 по невидимому квадрату, подстерегая и пуская на дно все суда, принадлежащие англичанам и французам. На ее счету было даже одно госпитальное судно. Фон Гиллер был ярым сторонником тотальной войны, необыкновенно убедительно обоснованной учеными и генералами кайзера Вильгельма. В одном из таких трудов давались выкладки, из которых становилось ясно, что глупая сентиментальность, основанная на морали «неполноценных» народов, предписывающая щадить раненых, приносит непоправимый ущерб тем, кто следует этому правилу. Цифры показывали, что больше половины раненых очень скоро становятся в строй и наносят урон тем, кто их недавно пощадил.
Таким образом, девятьсот раненых, не считая экипажа и медицинского персонала, фон Гиллер навсегда вычеркнул из списка возможных врагов императора Вильгельма.
Новая удача — английский транспорт. На нем погибло не менее двух с половиной тысяч. Тихоходный пароход был набит солдатами. Хотя в последней сводке англичан и говорится, что «потери незначительны… Вовремя подоспевшие миноносцы спасли всех, кто находился в воде и в шлюпках».
Капитана-цурзее барона фон Гиллера распирало от гордости за свои подвиги. Он один с горсткой матросов и несколькими помощниками-офицерами уничтожил ценностей врага на сотни миллионов фунтов стерлингов и убил не менее четырех тысяч человек. Такая продуктивность под силу только дивизии!
— Какая жалость, что одна торпеда не достигла цели, — сказал капитан-цурзее.
— О да! — проронил штурман Глобке. — На войне так много неожиданностей. О, Германия… — После этих слов Глобке начал ровным голосом рассказывать об удивительных пейзажах на Рейне, о покое и умиротворении, охватывающих душу немца, когда он смотрит на величественную реку, виноградники, сады и красивые черепичные крыши мыз… Лейтенант Леман, отличавшийся непочтительностью к старшим по званию и должности, перебил штурмана.
— Я считаю, — сказал он, сдерживая волнение, — что люди, чудом оставшиеся в живых, заслуживают милосердия.
Капитан-цурзее ответил, будто хлеща по щекам лейтенанта:
— Бабья мягкотелость. Чушь! Слова не солдата, а дамы-патронессы!
На мостике затаили дыхание, ожидая, что ответит на этот раз лейтенант Леман. Помедлив, тот сказал:
— Обвиняя меня в бабьей мягкотелости, вы, герр капитан-цурзее, упускаете из виду, что именно я стрелял в госпитальное судно, и в транспорт, и в миноносцы, и в рыбаков, и во все, что мы отправляли на дно морское, а души людские в рай. После таких мук господь, если он не придерживается ваших взглядов, должен взять их в райские кущи.
— Оставьте бога и рай в покое! Здесь я ваш бог. По моей воле вы стреляли, и довольно плохо, если дали уйти этим англичанам.
— Ну раз я следовал только вашей всевышней воле, то по этой воле и остались целы миноносцы. — Леман нервно засмеялся.
Фон Гиллер умел владеть собой, по-актерски меняя наигранный гнев на скорбную мягкость, от которой у подчищенных темнело в глазах. Он сказал с грустными нотками в голосе:
— Все мы устали, всем нам нелегко, настолько нелегко, что подчас мы говорим совсем не то, что следует говорить немцу и военному моряку. — Капитан-цурзее улыбнулся, довольный своей так ловко построенной фразой, достойной военачальника, не поддавшегося минутному гневу и показавшего подчиненному его место. — Какая ночь, господа! — продолжал он, крепче сжимая поручни, так как лодку стало класть с борта на борт. — Какие звезды! Мы должны помнить, — он повысил голос, чтобы слышали матросы, стоявшие внизу, — что под звездами сражаются наши отцы и братья, спят наши жены, дети, матери, сестры. — Фон Гиллер умолк, прикидывая, какую он даст аттестацию лейтенанту Леману.
— О, Германия! — повторил штурман Глобке и. стал рассказывать о своем поместье на берегу Рейна. Если можно назвать поместьем крохотный клочок земли с пятью яблонями и виноградником в двадцать квадратных метров. Говорил же Глобке о своей земельной собственности, как о целом королевстве.
Рулевой зазевался, лодка рыскнула, и волна ударила о борт, окатив всех, кто находился на палубе.
— Сменить рулевого и в карцер! — приказал капитан-цурзее.
Молча стоявший на мостике вахтенный офицер повторил приказание и спустился в люк. Очень скоро он вернулся, доложил, что приказание выполнено, и затем передал на словах только что перехваченную радиограмму.
Англичане радировали открытым текстом: «Всем судам королевского флота: при встрече задержать русский клипер „Орион“ и доставить, если потребуется силой, в любой из портов Англии или союзных стран».
— Как приятно слышать о скандале в стане врага, — сказал фон Гиллер. — В данном случае мы поможем англичанам, если увидим это «созвездие». — К капитану-цурзее вернулось хорошее настроение и желание взять реванш в споре с лейтенантом-торпедистом.
— Я знаю, что лейтенант Леман готовится возразить мне и по привычке отвинчивает зажимы у спасательного круга. По вашей милости мы потеряли уже три круга, и стоимость их будет вычтена из вашего денежного довольствия. Вы разоритесь, лейтенант.
— Ах да, извините. Да, у меня с детства привычка что-нибудь вертеть… Вот уже готово, и, если позволите, я выскажу свои аргументы.
— Слушаю ваши неопровержимые аргументы.
— Видите ли, всегда противники наших врагов считались нашими друзьями. Тем более что вы сами говорили о возможности заключения сепаратного мира с Россией.
— Что значат чьи-то мнения? На войне существует только приказ нашего кайзера Вильгельма, инструкции и приказы командования. Их никто не отменял, и Россия остается нашим врагом номер один, и мы будем поступать с ее морскими силами соответствующим образом, дорогой мой лейтенант.
— Как вам угодно, — ответил лейтенант, интонацией выражая несогласие с мнением командира.
— Угодно не мне, а уставу и приказам!
— Как будто я всегда подчинялся им.
— Вообще да, — смягчился фон Гиллер, — если бы не ваш язык, вы были бы отличным офицером с большой перспективой. Возможно, вас и с этими недостатками ждет неплохое будущее. — Он засмеялся, поддержанный штурманом и вахтенным офицером, и окончательно пришел в хорошее расположение духа.
— Не унывайте, Курт Леман, мы еще повоюем с вами — ха-ха, каков каламбур! — повоюем с вами! Мы и так делаем это ежедневно, каждую свободную минуту.
Опять все засмеялись, за исключением Лемана. Капитан-цурзее продолжал вкрадчивым голосом:
— Как человек объективно мыслящий, я не могу не согласиться с одним положением, высказанным вами, лейтенант.
— Да, мой капитан? — настороженно спросил Леман.
— Относительно использования разногласий в стане наших противников. Наш кайзер не упустит возможностей ослабить их силы. Но надо учесть, что прежней России, с ее сильной прогерманской партией уже нет. Сейчас там анархия, нечто более худшее, чем Парижская Коммуна. Россия становится угрозой для всей цивилизации. Нельзя забывать об этом, друг мой! Но предоставим вопросы политики кайзеру Вильгельму и его дипломатам. Наше дело способствовать проведению в жизнь предначертаний высшей власти. В минуты же отдыха, в перерывах между битвами мы должны уметь находить прекрасное и наслаждаться им, этим прекрасным. Например, господа, как хороша данная ночь, это суровое, но покорное нам море, этот фейерверк из зеленых брызг, вылетающих из-под форштевня…
Лейтенант не дал капитану совсем впасть в сентиментальный тон, сказав:
— Революции обновляют мир.
— Что?!
— Они необходимы, мой капитан…
— Кому необходимы? Вам? Или, быть может, мне? Не думаете ли вы, лейтенант, что и Германии нужна революция?
— Не ловите меня на слове, капитан-цурзее, я с достаточным уважением отношусь к существующей власти. Я говорю вообще, основываясь на фактах истории.
— Если говорить об исторических фактах, то все революции кончались укреплением монархии! И только монархия, основанная на принципах национального духа, может вести к прогрессу. Вы не согласны?
Наверное, дерзкий лейтенант снова довел бы своего командира до белого каления, да из рубки доложили, что гидроакустик слышит приближение корабля, идущего встречным курсом. Судя по работе машин, это миноносец, скорость не менее восемнадцати узлов.
Натренированная команда быстро исчезла в стальной утробе. Захлопнулся люк. Затихли дизеля. На субмарине готовились к атаке. В носовом отсеке лейтенант Леман, сторонник гуманных методов войны и революций, приказал матросам зарядить торпедные аппараты.
Матрос, стоявший у левого аппарата, сказал, улыбаясь:
— Там, наверное, сейчас вся команда спит, а подвахтенные играют в домино, вот потеха будет…
— Молчать, Мюллер! Ты находишься на ответственнейшем посту, и если будешь отвлекаться, то можешь на секунду позднее выпустить торпеду, она пройдет мимо цели, и десятки тысяч марок пропадут даром. Мы не оправдаем надежд, возложенных на нас кайзером!..
Мюллер вытянулся. Уж он-то не прозевает. «Кайзер Вильгельм останется доволен», — говорила нагловатая улыбка на его самодовольном лице.
«Борзая»
Эскадренный миноносец «Грейхаунд» мчался без огней по ночному Атлантическому океану, держа курс на юго-запад от островов Силли. Лейтенант Кристофор Фелимор нес вахту, стоя на крыле ходового мостика, до боли в глазах от встречного ветра вглядывался в темное летевшее на него море, стараясь рассмотреть на нем силуэт парусника: «Грейхаунд» гнался по следу русского клипера.
Лейтенант вошел в рубку, проверил курс, похвалил рулевого и стал смотреть вперед через стекло. В рубке разливалось приятное тепло. Палуба нервно вздрагивала, и Фелимору пришла новая мысль, что современные машины похожи на живые существа, которым передается неудержимое стремление человека к каким-то неведомым рубежам.
«Грейхаунд» старался изо всех своих паровых сил, выжимая полные двадцать узлов.
Лейтенант стал думать об Элен.
Узнав о его неприятностях по службе, она только вздохнула, затем, когда он в лицах изобразил сцену с адмиралом, смеялась до слез, а в заключение сказала, что любит его еще сильнее и ее идеалом всегда был настоящий моряк, а не береговая крыса, что эта крыса не относится к нему, так как ей известно, что на берегу он остался не по своей воле, а затем глаза ее подозрительно заблестели и она призналась, что боится за него. Утешая ее, он описал, в каком жалком состоянии находятся остатки немецкого флота, и признался в своем заветном желании участвовать в морском сражении, чем испугал Элен и заслужил ее горячий поцелуй.
В тысячный раз признав, какая необыкновенная девушка встретилась на его пути, он стал мысленно составлять ей письмо, не упуская ни одной мелочи, давая меткие характеристики своим сослуживцам и особенно упирая на свои первые блестящие успехи. Это ему пришла мысль взять на борт русского офицера с «Ориона», оставленного заложником в порту.
Капитан О’Брайнен, посмотрев на Фелимора рыжими глазами, сказал:
— Черт возьми! Вы правы, есть смысл прихватить с собой этого русского, хотя, держу пари на что хотите, он не укажет нам курс своего парусника. И правильно сделает. В противном случае я никогда не позволил бы ему ступить на палубу «Грейхаунда». При всем при том он может оказать нам неоценимую услугу, если мы чудом встретим клипер. Я видел вашего русского приятеля. Он производит впечатление вполне благоразумного человека. У меня жесткие инструкции из Лондона. Клипер не должен, по млению джентльменов из адмиралтейства, удрать с оружием и передать его в сомнительные руки. Лейтенант Фелимор, вы парень с головой, хотя о вас адмирал говорил далеко не лестные вещи…
Получив распоряжение явиться на миноносец, Николай Павлович посчитал, что его отправляют в Лондон. Затем у него появились смутные подозрения, когда он увидел, что миноносец идет на запад, и, наконец, он возмутился до глубины души, когда лейтенант Фелимор под честное слово открыл ему назначение рейса.
— Все-таки я объяснюсь с командиром миноносца, — сказал капитан-лейтенант, — не бойтесь, я вас не выдам. Но я вправе знать, куда и с какой целью меня транспортируют на корабле его величества.
О’Брайнен извинился, без обиняков сказал о цели рейса и не сделал никаких предложений. Они распили с ним полбутылки «Белой лошади», обсуждая последние сообщения из действующей армии и морские сводки.
Только расставаясь, О’Брайнен сказал:
— Поверьте мне, коллега, я многое бы дал, чтобы не встречаться с вашим клипером. Будем надеяться, что так и случится. А если произойдет чудо, то постарайтесь внушить своему командиру, что необходимо иногда подчиняться здравому смыслу.
— Здравый смысл — понятие очень емкое. Командир клипера — мой друг, я его знаю с Морского корпуса и не могу упрекнуть в отсутствии у него здравого смысла.
— Все же на его месте я бы не стал ложиться в дрейф на виду у береговых батарей и чего-то ждать в течение двух часов, когда дорога каждая минута.
— Он поджидал меня.
— Тогда другое дело. Благородно! Приношу извинения и прошу забыть о пашем разговоре. Все будет отлично. Я почти, уверен, что мы не догоним ваш корабль и, совершив легкую прогулку, вернемся в Плимут или в Портсмут.
Поднявшись на палубу, Николай Павлович, придерживая фуражку, посмотрел на покачивающийся небосвод и с облегчением вздохнул: миноносец и клипер пока шли расходящимися курсами. Но это еще не значило, что клипер в полной безопасности. У преследователя слишком большое преимущество в скорости, и оп каждую минуту может изменить курс. И действительно, небесный свод круто развернулся на девяносто градусов. Николай Павлович представил лист карты и две движущиеся точки. Возможно, под утро они если и не встретятся, то пройдут совсем недалеко друг от друга.
Ветер пронизывал шинель старшего офицера, а он, не чувствуя холода, подсчитывал в уме вероятность встречи.
— Да, черт возьми! — сказал оп по-русски и подумал: «Но ведь к утру они смогут изменить курс, и не один раз».
Но эта обнадеживающая мысль не особенно обрадовала его, тем более что, по его наблюдениям, назавтра должен был выдаться ясный безветренный день и клипер будет виден за много миль.
Над головой, на ходовом мостике, послышались шаги, а затем прозвенели четыре двойных удара в рынду — восемь склянок — конец последней вахты. Начались новые сутки. Как хотел в эти минуты моряк, чтобы его корабль находился далеко-далеко от берегов Европы. Николай Павлович бросил взгляд на узкую палубу, на ней нелепо темнели лотки торпедных аппаратов, угадывались стволы орудий, вся она казалась загроможденной ненужными вещами, и вновь мысленно перенесся на свой клипер. При таком ветре, слегка накренясь на правый борт, он режет форштевнем океанскую волну. Поет ветер в снастях. С мостика только угадывается упруго натянуто е полотно нижних парусов, а верхние парят где-то в небе, застя звезды.
Вахтенные матросы сидят на палубе у мачт или у фальшборта., доносится их говор, смех, протяжная песня, от которой замирает сердце. «И откуда у этих мужиков и рабочих, одетых в матросскую форму, берется эта нежность, тонкое понимание красоты и чувство родины.?» — не раз спрашивал себя капитан-лейтенант и, так и не разгадав, относил к одной из загадок русской души.
Старший офицер клипера, как и его командир, остались в числе немногих приверженцев парусного флота. И чем больше они понимали его обреченность, тем сильнее любили свой корабль.
…С восьмым ударом в рынду на мостик миноносца поднялся офицер, заступающий на вахту. Скоро по трапу спустился лейтенант Фелимор. Он был весел и возбужден. Вахта прошла прекрасно, а сейчас он закусит в кают-компании и выпьет пару стаканов чаю с коньяком. Нет, лейтенант не жалел, что променял спокойную чиновничью жизнь на бесконечные вахты на мостике «Грейхаунда».
Заметив Фелимора, Николай Павлович намеревался перейти на другой борт, несмотря на поздний час ему не хотелось спускаться в каюту, а также задерживать лейтенанта после вахты. Фелимор заметил его:
— О, мистер Никитэн! Приятная ночь, не правда ли?
— Да, славная ночь, хотя все портит чрезмерная скорость вашей «борзой».
— Что вы! Мы идем средним ходом. Можем выжать еще узлов пять — шесть. Вы не привыкли к таким скоростям?
— Нет, почему же, при свежем ветре и у нашего клипера довольно приличная скорость. Но там совершенно иное ощущение скорости…
Фелимор предложил зайти в кают-компанию. Никитин поблагодарил и сказал, что побудет на палубе. Как ни хотелось Фелимору горячего чая с коньяком, он, чувствуя себя хозяином, да еще виноватым перед гостем, увлек его за рубку.
— Вот здесь совсем тихо, — сказал Фелимор. — Вы будьте великодушны и еще раз извините меня за опрометчивый, если хотите, бестактный, глупый поступок. Сейчас, все обдумав, я понял, что не имел права выступать с такой инициативой, не посоветовавшись с вами.
— Я уже высказывал вам свое отношение. Но сейчас этот поход стал даже мне нравиться.
— Вот и прекрасно! Какой вы груз сняли с меня! Последнее время я наделал невероятное количество глупостей. И знаете почему?
— Конечно нет.
— Я женюсь, мистер Никитэн! — Фелимор сделал это признание, как посвящение в величайшую тайну, открытие которой должно объяснить наконец мистеру Никитэну истинную причину появления его на миноносце.
— Я не вижу связи между этим действительно важным событием и…
— И всем остальным?
— Да, мистер Фелимор.
— Знаете, мне и самому еще не все ясно. После согласия Элен стать моей женой со мной что-то произошло и я стал совершать просто невероятные поступки. Когда сейчас я вспоминаю, что наговорил сэру Эльфтону, мне становится не по себе. Элен назвала мое состояние «припадком искренности». Изумительно верный диагноз. Не правда ли, мистер Никитэн? С вами этого никогда не бывало?
Никитин не успел ответить простодушному Фелимору. Из кормы миноносца вырвался столб пламени. Капитан-лейтенант почувствовал, как у него онемели ноги от чудовищного удара в подошвы и он, как во сне, поднимается в воздух.
Очнулся Никитин под водой и опять, как во сне, инстинктивно затаив дыхание, стал выгребать на поверхность. Вынырнув и отдышавшись, стал сбрасывать шинель, и опять это делал, еще не отдавая себе полного отчета, что произошло и почему он очутился в воде. Просто знал и учил этому матросов, что, очутившись в воде, первым делом следует освободиться от стесняющих движения вещей. В борьбе с шинелью окончательно пришел в себя и понял, что произошло. Он чуть не захлебнулся, пока ему удалось сбросить шинель. Вода была холодной, но он не чувствовал этого, работая руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности, и оглядываясь вокруг в надежде найти обломок или спасательный круг. Под руку попало весло. Он лег на него грудью, весло тонуло, но это уже была опора на первое время. Шла довольно сильная зыбь. Поднявшись на гребень волны, Никитин увидел футах в десяти дверь и поплыл к ней. Нашел ручку и, ухватившись за нее, понял, что может держаться так довольно долго, пока не онемеют руки. И тут впервые почувствовал, как холодна вода.
Все это время он прислушивался, стараясь услышать чей-либо голос. Стояла жуткая, пугающая тишина. «Ни одного. Бедный Фелимор», — подумал он и понял, что оглох. Он не слышал ни ветра, ни шума волн. Ударил рукой но воде и не услышал всплеска.
— Час от часу не легче, — сказал он, не слыша своего голоса, и стал трезво обдумывать свое положение. Самое большее, если он продержится на этой двери до рассвета, и то, если привяжется к ручке ремнем. Вода не больше пятнадцати градусов, она вытянет из него все тепло, лишит подвижности, закоченевшие руки перестанут слушаться…
«Лучше не думать об этом, а бороться. Надо найти что-либо посолидней: обломок шлюпки, пояс…» И он стал толкать дверь, с каждым рывком подвигаясь на несколько дюймов.
«Так, пожалуй, лучше, — подумал он. — Сила у меня еще есть. Что с моими ушами?» Он тряхнул головой и вдруг почувствовал, как из ушей вылилась «горячая» вода и он стал с трудом различать голоса моря. И как будто где-то далеко-далеко — крик тонущего. Николай Павлович, прислушиваясь к замирающему голосу, стал энергичней толкать свою дверь туда, откуда доносился крик.
— Да сюда же, сюда! Боже мой, куда вы плывете? — услышал он совсем ясный и как будто знакомый голос справа от себя и увидел силуэт человека, стоящего по пояс в воде.
— Ну что вы, что с вами? Плывите ко мне, я в лодке. Ну, пожалуйста…
«Фелимор! Славный Фелимор!» — пронеслось, как луч света, в сознании Никитина.
Фелимор стоял в притопленной спасательной шлюпке совсем рядом и протягивал руку. Он помог Никитину перебраться через борт.
Шлюпка еще зачерпнула воды, но осталась на плаву: по ее бортам были вделаны запаянные баки с воздухом. Поплавки надежно держали ее на поверхности.
Они сели друг против друга на банки и, взявшись за руки, долго молчали.
— Какой ужас! — первым заговорил Фелимор.
— Я плохо слышу, говорите громче.
— Наверное, мы налетели на мину? — прокричал Фелимор.
— Можно не так громко, ко мне возвращается слух. Неужели все погибли?
— Не знаю. Я слышал слабый крик, но скоро он стих. Я звал всех плыть ко мне. Я еще покричу.
Фелимор несколько минут кричал, но никто не отозвался.
— Видите? — спросил он со слезами в голосе.
— Может быть, кто-либо еще держится, но потерял временно слух, как я. Давайте проверим, нет ли пробоин в боте.
Они ощупали под водой борта и днище.
— Как будто нет, — сказал Фелимор.
— Давайте вычерпывать воду. Вот тут в рундуке вместе с аварийным запасом есть что-то вроде котелка и ковш.
Они стали вычерпывать воду и работали минут пять, потом услышали глухой шум машин. Фелимор, набрав полную грудь воздуха, хотел было позвать на помощь. Капитан-лейтенант вовремя остановил его и шепнул, чтобы он пригнулся.
Из темноты, надвигаясь на них, показалось темное возвышение, потом низко сидящий в воде корпус подводной лодки. Лодка прошла совсем близко, запахло нефтяной гарью. На мостике вырисовывались два силуэта. Послышалась неразборчивая немецкая речь.
Когда лодка скрылась и урчание дизелей стихло, Фелимор прошептал:
— Так, значит, нас потопила субмарина?
— По всей вероятности.
— Конечно. Убийцу всегда тянет на место преступления.
Они продолжали вычерпывать воду, стуча зубами от холода. Ее оставалось уже по щиколотку, когда Фелимор поставил черпак на банку и полез в кормовой рундук, шепча: «Какой я идиот!» Покопавшись там, он вытащил большую флягу.
— Виски, мистер Никитэн! Нет, у меня отшибло разум. Я же только вчера проверял на этой шлюпке неприкосновенный запас. — Он отвинтил пробку и протянул Никитину: — Глотните, капитан. Вот так, теперь я… Какой напиток! И везет же нам с вами!
Затем они разделись, вдвоем выжали одежду так, что потрескивали нитки. Одевшись, съели банку мясных консервов и выпили по глотку виски.
— Не думал, что буду ужинать здесь, что все так случится, — сказал Фелимор, зевая и лязгая зубами. — Мне так хотелось чаю с коньяком. Сейчас я бы не отказался от стакана воды. Как хочется пить! А вам?
— Очень.
— А ведь в шлюпке был анкерок с водой.
— Как еще она осталась цела.
— И мы с вами.
— Чудом. Мне так не хотелось спускаться в каюту.
— Представьте, а я прямо умирал от желания поесть, выпить крепчайшего чая с коньяком и растянуться на койке. Признаться, вспомнил Элен. Вы и она спасли меня. Ведь если бы я зашел в салон, то уже не выбрался бы из него. Бедная девочка, спит сейчас и ничего не знает. А через несколько дней вдруг сообщат ей, что я пропал без вести! Какой ужас! Она-то знает, что такое пропасть без вести на море!
Никитин стал, утешать лейтенанта, сказав, что через сутки — другие сюда придет помощь. У них есть продукты и, может быть, пойдет дождь — и у них будет вода. Даже без воды они продержатся неделю. Утешая лейтенанта, он не заметил, как тот уснул, сидя на днище и положив ему голову на ногу.
Никитин с трудом разбудил его:
— Спать нельзя! Простудитесь!
— Ничего, ничего…
— Да вставайте же! Застынете, умрете. Оставите свою Элен!
— Элен! Что? Да, да я совсем замерз. Боже, как холодно!
— Вставайте, двигайтесь! Вот возьмите весло, на счастье, его хорошо закрепили под банками, гребите им.
— Да, да… Что со мной? Ударьте меня по щеке… Я сплю стоя. Упаду за борт. Но нет! — он тряхнул головой… — Что это?
На юге небо озарилось малиновым светом. Прошло довольно продолжительное время, и докатился глухой раскатистый грохот.
Фелимор сказал:
— Еще одна жертва! Эта хищница опять кого-то потопила.
— Похоже, — ответил Никитин. — Взрыв милях в десяти от нас. Вот и появилась работа, которая помешает нам уснуть.
— Да, мы идем на помощь! Немедленно! — горячо воскликнул Фелимор, окончательно стряхнувший с себя сонливость. — Где это ваше весло? Если есть одно, то могли уцелеть все шесть. Были весла и на других шлюпках. Сейчас мы осветим море. Какой я идиот, сам положил в рундук ракетницу в брезентовом мешке и банку с патронами. Я думаю, мы не привлечем субмарину?
— Скорее всего, там подумают, что к погибающим подходит помощь, и уйдут под воду, если совсем не потеряли голову от необыкновенной удачи. Потопить два корабля, да еще ночью!
— Есть! Все на месте. Каким молодцом был Гарри Смит, все положил, как я ему приказал, да он и сам знал свое дело. Стреляю!
Хлопок выстрела, и высоко в небе загорелась ракета. Медленно опускаясь на парашютике, она ярко осветила место катастрофы.
Первое, что бросилось им в глаза и заставило быстрей забиться сердце, это человек на перевернутой шлюпке. Он лежал поперек киля, безжизненно свесив голову, руки его и ноги находились в воде. С каждым движением шлюпки на волне он то немного сползал головой вперед, то опять подавался назад. Совсем недалеко от шлюпки плавало весло. Фелимор подтянул его багром.
Ракета погасла.
До второй шлюпки было футов сто. Они выпустили еще три ракеты, пока добрались до нее, по пути подобрав еще одно весло.
Матроса с большим трудом сняли с киля шлюпки. Неожиданно он мертвой хваткой уцепился за леер, протянутый вдоль наружной стороны борта и местами прихваченный к нему скобками, чтобы очутившемуся за бортом было за что ухватиться и легче забраться в шлюпку. Никитину пришлось раздеться и, спустившись в воду, перерезать леер, а затем заплыть на другую сторону и, поддерживая голову матроса, помочь Фелимору перетащить его в свою шлюпку.
При свете ракет Фелимор, стоя на банке, пытался увидеть еще кого-либо из спасшихся при взрыве. Но среди обломков дерева, плавающей ветоши, масляных пятен, переливающихся зловещими цветами, не было никого.
Матрос окоченел и, видимо, был сильно контужен. Ему влили в рот виски, и тут он сделал первые осмысленные движения, ухватившись за флягу и не выпуская ее из рук. Флягу пришлось отнять.
— Это ты, Арт? — спросил матрос, еле ворочая языком. — Где это мы так с тобой нализались?
Его раздели. Крепко растерли и одели в мокрую выжатую одежду, дали еще выпить и оставили, посадив спиной к борту, а сами взялись за весла.
Скрипели уключины. Тяжелая шлюпка, рассчитанная на шесть гребцов, еле двигалась к югу, слегка подгоняемая слабым северо-западным ветром.
Гребцы молчали, экономя силы.
В голове матроса, раскалывающейся от боли, медленно восстанавливалась картина катастрофы. Они со вторым офицером лейтенантом Кэртоном заступили на вахту. Арт принял руль, а он, по обыкновению, вышел на крыло мостика, чтобы проверить, не горят ли ходовые огни. Да, они ходили без огней, чтобы не выдать себя немцам. Он перевесился через поручни, и тут его швырнуло за борт. Описав дугу, он врезался в упругую, как резина, воду. По крайней мере, так ему показалось.
— Ну как себя чувствуешь? — спросил Фелимор.
— Сравнительно неплохо. У меня такое чувство, будто мною выстрелили из пушки и пробили стену. Какая шишка, вы не заметили?
— Нет! Да ты не Гарри Смит?
— Кому же еще быть, сэр? Я и есть старший матрос Гарри Смит, а вы тот самый новичок, что насолил в пудинг адмиралу? Ну конечно, вы и есть. А второй — бродяга Арт? Что, Арт, дружище, жив? Как ты, бродяга, ухитрился выбраться из рубки? Не иначе тоже пробил лбом переборку?
Узнав, что Арта нет в шлюпке, сказал:
— Бедный Арт. Хотел после войны устроиться в зоологический сад, он так любил всяких зверей. Арт был совсем одинок. До войны его жена уехала с Томом Буритоном в Австралию… А куда мы идем?
Старший офицер «Ориона» сказал о взрыве, Гарри Смит заметил с сомнением:
— Вряд ли мы доберемся вовремя на такой галоше. Да и веслами вы двигаете, как ребята в пабе ногами после доброй выпивки. Я бы мог кое-что сделать, если бы из головы вылить свинец. Да и цела ли голова, может, одни осколки остались? Нет, голова на месте, только вроде бы увеличилась. — Помолчав, спросил:
— Вы, сэр, русский?
— Да, Смит, русский.
— Вас заманили к нам на «Грейхаунд» для приманки, как наживу для тунца.
— Смит!
— Я, лейтенант, уже двадцать лет, как Смит. — Он сильно захмелел, и у него заплетался язык. — Вы нам сразу понравились. И мы про вас все знаем, лейтенант: и знаем, кто живет у цитадели, все знаем…
— Смит, вы бы взяли третье весло.
— Почему не взять.
Раздался храп.
— Пусть спит, — сказал Никитин, — толку от него никакого. Замечаете, как повеяло теплом?
— Мне уже жарко становится.
— И я согрелся. Да у нас с вами ведь шерстяное белье. Шерсть даже мокрая греет.
— У меня егерское белье! — похвастался Фелимор, занося весло. — Элен подарила четыре пары, специально для ночных вахт.
Небо на востоке побледнело. Ветер почти стих, а зыбь стала сильней.
— У меня такое ощущение, что мы все время гребем в гору и не двигаемся с места, — сказал Фелимор, подняв весло и ложась на валик.
— Да, мы устали, — сказал Никитин. — Очень устали. Пора отдохнуть. Все-таки несколько миль осталось позади.
Фелимор спал, едва удерживаясь на банке. Капитан-лейтенант уложил его рядом со Смитом, а сам опять взялся за весла, уже не чувствуя усталости, автоматически занося и опуская весла в воду. Он несколько раз засыпал на несколько секунд и тут же просыпался. Чтобы прогнать сон, он умылся и смочил волосы водой. Голова немного прояснилась, и он греб еще с полчаса, отдохнул минут пять и снова стал мерно работать веслами, удивляясь, откуда у него берутся силы. Не раз приходило в голову оставить, казалось, безнадежную попытку спасти утопающих, если они еще живы, но он прогонял эту недостойную мысль.
Наконец силы совсем оставили единственного гребца, и он остался сидеть, глядя на валы, гладкие во впадинах и подернутые легкой рябью на вершинах. Одолевал сон. Все тело обмякло, веки сами закрывались, и тогда он видел сны, продолжавшиеся несколько секунд, но казалось, что они занимали целые дни.
Чтобы скоротать время, он заглянул в кормовой рундук и нашел там компас и шлюпочный лаг. Счетчик лага укрепил на корме, а лаглинь с вертушкой выбросил за борт и опять стал грести.
Проснулся Смит. Открыл глаза и снова закрыл их. Так он лежал с минуту, вспоминая, что с ним приключилось, затем, пожелав капитан-лейтенанту доброго утра, умылся и спросил:
— Так и гребли всю ночь? Лейтенант, наверное, скис за мной следом.
— Нет, прилег совсем недавно.
— Хорошо, кэп. Вам хватит окунать весла, давайте я помахаю. Ложитесь. Надо сказать, у нас шпангоуты не из мягких, а рыбины вылетели. Надо было подобрать, они-то уж не утонули. И пресной воды, я смотрю, тоже нету, хотя анкерок я сам только вчера наполнил отличной водой. — Он покрутил головой, удивляясь, как два офицера оказались такими непредусмотрительными людьми. Просто бочонок с водой вылетел из шлюпки, и он наверняка плавал среди обломков. Уж он-то бы ни за что не тронулся с места, пока не убедился, что на поверхности не осталось ничего путного. Ворча себе под нос и ощупав голову, он взялся за весла.
— Держись прямо на юг, — сказал капитан-лейтенант, — вот компас.
— Есть, кэп, держать на юг. Как только покажется Южный полюс, сразу разбужу вас.
— Смотри не пройди мимо, — в тон ему, улыбаясь и уже засыпая, ответил Николай Павлович.
Гарри Смит, оставшись в одиночестве, сделал несколько гребков, опустил весла и, пробравшись к рундуку, достал флягу с виски. Поболтал, открутил пробку, понюхал, задумался и, не сделав ни полглотка, со вздохом закрутил опять. Гарри Смит слыл хорошим товарищем, честным парнем. Оп знал, что о нем так думают люди, да и сам считал, что они нисколько не ошибаются, и не захотел разочаровывать ни себя, ни все человечество.
Заметив цифры на лаге, матрос стал грести, вкладывая все силы. Сделав ровно сто гребков, оставил весла и, взглянув на лаг, поморщился: «Сто ярдов! Нет, такими темпами мне не добраться до места второй катастрофы. Сколько же надо сделать гребков, чтобы пройти пять или сколько там еще миль, может быть, целых десять? Ведь пас могло снести течение, да еще, на мое счастье, ветер переменился и тянет теперь с юго-востока». И решив, что нецелесообразно тратить силы, Гарри Смит разделся, расстелил сырую одежду на банках, а сам, поворачиваясь то спиной, то грудью, стал греться на весеннем солнце.
Вчерашняя катастрофа, гибель корабля и друзей уже далеко отошли в прошлое для Гарри Смита. Сын рыбака, он, сколько себя помнил, всегда слышал о смерти в море. Почти все его пожилые родственники, да немало и молодых, погибли в Северном море, в Атлантике или в Ла-Манше, и он был уверен, что найдет свой конец в море, считая это вполне естественным. «Где же быть погребенным моряку, как не на дне океана», — говорили в семье Смитов. Он даже находил, что гибель от взрыва, да еще среди ночи — очень милостивая, просто приятная смерть. Вот хотя бы взять его. Ничего страшного. Даже приятно было лететь за борт и погрузиться в сон. Вот так бы и не проснулся, если бы эти два олуха не догадались пустить ракету. Не следует думать, что Гарри Смит не чувствовал благодарности к своим спасителям, не колеблясь ни на мгновение, он рискнул бы для них жизнью. «Олухов» они заслужили по той простой причине, что не разыскали среди обломков анкерок с водой. А пить так хочется, глядя на непомерное количество воды вокруг.
Есть не хотелось. Только пить. Без всякой надежды найти что-нибудь стоящее Гарри Смит стал рыться в мешке с консервами, лежавшем в носовом рундуке. Его он получил от баталера и не глядя швырнул туда, старательно закрыв дверцы на все задвижки. В мешке лежали банки с яркими наклейками: мясные консервы. О, удача! — банка с лимонным соком. Но это ведь, должно быть, очень крепкий сок, в чистом виде сожжет все внутренности, надо разводить водой. «Что, если морской попробовать? Только уже в крайнем случае».
Он посмотрел на небо. Облачность стала гуще. «Вот бы дождя! Выпил бы не меньше галлона дождевой воды. Баталер поскупился, а ведь мог бы положить с десяток банок фруктовых консервов или ананасного сока, я уже не говорю о пиве. Хотя кому в голову могло прийти, что я да вот еще два офицера сыграем за борт. Постойте, друзья! Вот и овощные консервы, в них-то есть вода, я где-то читал, что в овощах девяносто восемь процентов воды. Десяток банок! Это уже кое-что, греха не будет, если я съем одну банку».
Он вытащил из кармана матросский нож, привязанный шпагатом за дужку на рукоятке к поясному ремню. Гарри Смит уже предвкушал, как припадет к банке и вытянет все ее содержимое. Из банки со свистом вырвался отвратительно пахнувший газ. «Вот чем пас кормят лорды из адмиралтейства», — подумал матрос и проколол острием ножа другую крышку — у банки со спаржей, но и она полетела за борт, сопровождаемая проклятиями.
Все десять банок оказались испорченными.
Гарри задумался. Пить так хотелось, что скручивало все его внутренности и подступала тошнота. И он проколол банку с лимонным соком, зачерпнул немного забортной воды и, долив сока, выпил. «Противно, но ничего, если не вырвет. Все-таки вода попала в брюхо».
Далеко за горизонтом показался дым. Матрос вскочил на банку. Дым скоро рассеялся, и опять вокруг пустынное море.
Проснулся Фелимор, а за ним Никитин.
Гарри Смит уже надел просохшую одежду и, пожелав доброго утра, доложил:
— Ветер юго-восточный. Прошел около ста ярдов и бросил грести: бесполезное дело при таком ветре.
— Все-таки надо пройти оставшиеся пять миль, — сказал капитан-лейтенант.
Фелимор его поддержал.
— Если надо, то я готов, — как ни в чем не бывало согласился матрос и, рассказав про находку тухлых консервов, предложил перед работой выпить морской воды с лимонным соком.
— Противный, я вам скажу, напиток, чуть лучше касторки, но пить можно. Я уже хлебнул немного, и ничего, только мутит сильно, да терпеть можно.
Они выпили на троих банку лимонного сока, слегка разбавив его морской водой.
— Вот это напиток получше, а то я, наверное, хватил почти чистой морской воды, — сказал Гарри Смит и не преминул попрекнуть начальство: — Как это мы не нашли анкерок с водой, вода там была первый сорт, да Арт еще вылил в нее литр красного вина.
— Помолчите, Смит, — взмолился Фелимор.
— А вы не огорчайтесь, лейтенант. Ночь выдалась не из приятных, тут не только анкерок, целый корабль потеряли. Сколько народу погибло! Арт ведь предчувствовал…
— Хватит!
— Да, лейтенант, не будем вешать нос, кому что написано на роду…
— Умоляю, Смит, замолчите.
— Вы знаете, лейтенант, молчать в нашем положении тоже не сладко, такие мысли полезут, что хоть за борт.
— Вот ты добиваешься этого.
— Совсем нет. Я бы для поднятия духа, будь здесь старшим, предложил по глотку из фляги.
— Пить еще сильнее захочется, — сказал Николай Павлович, вставляя весло в уключину.
— Я не думал, что русские такой упорный народ, — проворчал себе под нос Смит, нехотя поднимая весло. — Грести — тратить последние силы…
Фелимор, с надеждой оглядывавший море, сказал срывающимся от волнения голосом:
— Корабль! Парусник! Или мне кажется?
Над синим, всхолмленным океаном медленно проплывали белоснежные паруса.
— Они нас не видят! — чуть не плача, сказал Фелимор. — Где ракетница? Есть ли еще патроны? Смит, стреляй!
Смит стал посылать в небо ракету за ракетой.
Капитан-лейтенант встал во весь рост и, глядя затуманенными глазами на приближающийся клипер, торжественно сказал:
— «Орион»! Как он попал сюда, когда должен быть в это время милях в ста западнее?
На паруснике заметили потерпевших бедствие. C левого борта в шлюпку поспешно садились гребцы. На ванты, на реи, на палубу высыпали все вахты и в напряженной тишине всматривались в крохотную посудину и трех людей. Внезапно, будто по команде, все замахали бескозырками, закричали ободряющие слова, засмеялись. Вахтенные уже находились на своих местах, так как знали, что сейчас последует команда «Лечь в дрейф». Этот маневр провели молниеносно, и вдруг с марса раздался звонкий голос Зуйкова:
— Братцы, да там наш Николай Павлович!
Неожиданное известие привело в оцепенение матросов: откуда мог взяться их старший офицер здесь, посреди моря, когда все знали, что он остался «под залог у Бульдожки».
— Да ей-богу, он! Ну, смотрите, тот, что справа гребет! Вот и наши подошли, на буксир берут.
И тут все узнали своего старшего офицера и, уже не раздумывая о том, как он очутился в этой шлюпке, грянули «ура».
Командир первым в бинокль увидал своего помощника, дивясь не меньше матросов, строя различные предположения и не веря, что это его старший офицер. Ведь бывают на свете удивительные сходства. Все же он приказал опустить парадный трап, и, когда Николай Павлович в помятом костюме, без кителя, счастливый, отвечая на приветствия матросов, ступил на нижнюю площадку трапа, Воин Андреевич бросился к нему навстречу и под восторженный рев матросов обнял и расцеловал в колючие небритые щеки.
Когда командир выпустил его из своих объятий, старший офицер поздоровался с матросами, поблагодарил за теплую встречу, пожал руку и обнял вахтенного начальника Игоря Матвеевича Горохова, своего вестового, доктора Пушну, отца Исидора, который, благословив его, сказал:
— Вы появились, как Иона из чрева кита. И сами спаслись и товарищей вызволили. Поистине неисповедимы пути господни. Вспоминается мне случай из монастырской жизни…
— Извините, отец, если можно, потом, а сейчас разрешите вам представить моих друзей…
Фелимора увели в кают-компанию. Гарри Смита матросы со смехом и шутками — на камбуз.
Старший офицер задержался с командиром на мостике, сказав о том, что следует пройти миль пять-шесть к югу, где, по всей видимости, ночью затонул корабль.
— Это ваш?
— Да нет, наш северней. Там никого больше не осталось в живых.
— Игорь Матвеевич, распорядитесь. А вы отдайтесь на попечение своего Чиркова — и ко мне, мамочка вы моя!
Клипер забрал ветра и пошел к югу.
На всех марсах стояли матросы, обозревая пустынный океан. Командир наградил Зуйкова двумя золотыми и велел объявить, что назначает еще золотой тому, кто первым увидит людей в море.
Зуйков с Лешкой Головиным стояли на одном марсе и сосредоточенно смотрели вдаль по носу клипера.
— Нам, Алексей, еще один червонец не помешает, — говорил Зуйков, — перво-наперво тебе надо купить товару на настоящие сапоги, чтоб форм был со скрипом из настоящего французского шевра. У Брюшкова есть товар… Чтой-то маячит правей утлегаря.
— Нет, дядя Спиридон, это гребешок волны.
— Оно и есть волна…
Помолчав, Зуйков сказал:
— А наш-то Павлыч на шлюпке удрал от Бульдожки. И где ходу взял? На веслах ведь в такую даль пришел?
— Наверное, в течение попал.
— О! Самый раз угадал! Течение морское такой силы бывает, так прет, что только держись. Значить, оп курс знал и наперерез клиперу шел. Вот что такое наука! И ты, Алексей, смотри учись, как домой вернемся.
— Еще как буду учиться.
— Надо, брат, нам с тобой на верпую дорогу становиться: мне — с землей, тебе — с наукой, а не то вот так всю жизнь будем распускать чужие паруса.
Мечты о будущем захватили их, и, хотя они не отрывали взгляда от водной глади, мысли их витали далеко. К действительности матроса и юнгу вернул ликующий голос Назара Брюшкова.
— Слева по носу люди в море! — завопил он чуть не с клотика.
Увидели темную точку посреди блестящего круга на воде и десятки других глаз, в том числе и Зуйков с Лешкой, да промолчали: как ни обидно было, а первенство приходилось признать за Брюшковым.
— Пропал наш золотой, — горестно заметил Зуйков. — Вот ведь везет же человеку, во всем ему удача. Да и как сказать — удача. Мы вот с тобой мечтаниями занимались, а он, проклятущий кулак, как ястреб, сидел над нами и зенки таращил, только и думал про золотой.
— Ну и пускай, подумаешь…
— Правильно, Алексей, будут сапоги! Деньги у нас есть! Шутка сказать — два золотых ни за что ни про что отхватили. Надо и честь знать. А то других кулаками корим, а сами того не лучше. Главное, несчастных в воде заметили. Будь то Брюшков или Грызлов, хоть самые расподлющие люди, а видно, и им, хоть не часто, из-за корысти, а выпадает фарт на доброе дело.
Мимо них спустился по вантам сияющий Брюшков и бросил:
— В четыре глаза не усмотрели. Эх, народ!
— Давай, давай скатывайся! — послал ему вдогонку Зуйков и сказал юнге: — Пошли вниз, команда была. Да и время нам на вахту заступать, сейчас в рынду ударят. Мы сегодня с тобой у русть-линей стоим. Не вахта — малина при такой-то погоде.
Игра в кости
Редкая, прямо-таки невероятная удача сопутствовала командиру подводной лодки У-12. После стольких «хороших» дней ему повезло даже ночью: вражеский эсминец, словно чуя свою смерть, шел прямо на субмарину. Почти в полной темноте фон Гиллер атаковал эсминец и потопил его метким ударом торпеды. Обыкновенно эсминцы не ходят поодиночке. Фон Гиллер прождал полчаса следующую жертву. Убедившись, что это был единственный корабль, выполнявший какое-то важное поручение, командир поздравил команду с новой победой и приказал пересечь квадрат 34 по диагонали и подзарядить аккумуляторы на полную емкость. В полученной шифровке сообщалось, что днем здесь пройдет караван американских транспортных судов под эскортом миноносцев и одного крейсера.
Начался второй час новых суток. Фон Гиллер готовился: отойти ко сну, но он знал, что после нервной напряженности долго по заснет, если не проведет хотя бы полчаса на воздухе, и второй раз за эту ночь поднялся на мостик. Вылез из люка и лейтенант Леман. Фон Гиллер сказал:
— Вы сегодня действовали прекрасно. Секунда промедления — и англичанин увернулся бы от торпеды.
— Что мне еще остается, как действовать прекрасно?
Фон Гиллер усмехнулся:
— Скоро ничего не останется от вашего скепсиса и самокопания. Все это от возраста, лейтенант Леман. В ваши годы и я стремился разрешить «проклятые вопросы», пока не понял, что я тевтон, человек, принадлежащий к высшей расе, миссия которой утвердить на земном шаре настоящий порядок! Определить место каждой расе, каждому народу, учтя его жизненные силы и возможность развития. Вы не могли не заметить, лейтенант, читая книги и газеты и особенно данные статистики, что на земле становится тесно и некоторые народы, не имея на это никаких прав, занимают непомерно большие территории.
— Например, славяне?
— Вы очень догадливы, лейтенант. Именно славяне! Мы должны по возможности сократить их численность и территорию. Это касается и некоторых других стран и национальностей. Но для осуществления великой миссии обновления мира мы должны его завоевать. Что не удалось сделать ни Александру Македонскому, ни Наполеону, то сделаем мы, хотя их задача была несравненно легче. Вы не согласны?
— Нет, почему же! Все так заманчиво! Прекратятся войны, и остатки человечества станут жить спокойней.
— Да, покой, только не для всех.
Капитан-цурзее помолчал, зевнул и сказал с чувством превосходства, которое никогда не покидало его:
— Вам, вижу, трудно усвоить все величие идеи.
— Да, герр капитан. Хотя величие идеи я чувствую. Все же сейчас, сопоставляя факты действительности, не могу представить, когда все это произойдет. Тем более что завоевание мира как будто не осуществляется. Военные действия, например, по моим наблюдениям, не похожи на закономерные явления. В них множество непредвиденных случайностей.
— Случайности должны работать на нас!
— Возможно, когда-нибудь люди научатся управлять случайностями. Пока же война с целью завоевания мира мне кажется похожей на игру в кости. И эту партию мы проигрываем…
— Что? У вас пораженческие настроения, лейтенант! На моей субмарине!
— Что вы, капитан-цурзее! Разве я не хочу победы? Не добивался ее вместе с вами? Но понимаете, невольно приходят сомнения, все так неопределенно, зыбко…
Капитана взорвало вялое сопротивление лейтенанта, к тому же пора было идти спать, и он, жалея, что нет свидетелей его явной победы в этом споре, заключил не без торжества в голосе:
— В голове у вас зыбко! Оставьте в покое спасательный круг, не то мы опять его потеряем, прикрутите зажимы. Бросьте раз и навсегда эту дурную привычку. Прикручивайте и идите вниз, завтра у нас предстоит нелегкий день.
— О да, капитан-цурзее, как всегда…
Капитан-цурзее барон Фридрих фон Гиллер только занес йогу над люком, а лейтенант Леман взялся за барашек зажима, как лодка задела бортом свинцовый колпак плавучей мины. Триста килограммов взрывчатого вещества, заключенные в сферическом теле мины, мгновенно превратились в огненный таран, и стальная субмарина переломилась, как картонный футляр.
Мальчишеская привычка неуравновешенного лейтенанта Лемана спасла и его, и командира подводной лодки. Никто не выскочил из узкой горловины люка. Лодка скрылась под водой еще быстрей, чем при самом удачном выстреле исчезали в морской пучине ее недавние жертвы.
Лодка затонула в одиннадцати милях к югу от места гибели «Грейхаунда». И здесь два человека цеплялись за жизнь. Лейтенанта Лемана взрывной волной отбросило вместе с кругом, и он выпустил его из рук только при падении, вынырнув, он почти сразу его нашел. Вблизи тонул Фридрих фон Гиллер, плавал он плохо и без одежды, а сейчас еле держался. Леман подплыл к нему и схватил за ворот свитера, когда его командир намеревался скрыться под водой.
— Это вы? — спросил он, кашляя и отплевываясь.
— Я, герр капитан.
Фон Гиллер пережил непередаваемые мгновения возвращения к жизни. Скоро оп уже совсем пришел в себя, влез в спасательный круг, предоставив лейтенанту возможность держаться сбоку за одну из веревочных петель. И они прислушивались, не раздастся ли еще чей-либо голос, уже решив, что не отзовутся: круг не выдержит большей нагрузки, он слабая опора и для двоих.
— Вы не ранены? — наконец спросил тихо фон Гиллер.
— Нет, а вы? — так же тихо ответил лейтенант.
— Ранен, у меня отнялась нога. Я побуду еще в круге, затем отдохнете вы, не надо так нажимать на него, работайте ногами, это согреет вас. Не так энергично! Боже, вы меня утопите!
— Вы также поддерживайте плавучесть руками.
— Я ранен. Ну хорошо. Попробую. Нет… Страшная боль.
— Я тоже, кажется, ранен.
— Кажется только, а я… о боже! — Он застонал.
Никто из них не был ранен. Между ними начиналась звериная борьба за жизнь. Более опытный захватил единственное средство спасения и теперь всеми силами, ложью, мольбами удерживал его.
Из топливных цистерн вылилась нефть, и нефтяная пленка покрыла все вокруг. Волны сгладились, заблестели, отражая свет звезд.
— Вы поищите себе что-нибудь, — сказал фон Гиллер, — вдвоем мы долго не продержимся. Не найдете, плывите ко мне. Не может быть, чтобы ничего больше не всплыло.
— Нет. Я плохо плаваю. Лучше всего, если вы вылезете из круга. — Леман стал отплевываться: нефть попала ему в рот.
— Тогда я сразу пойду ко дну. Моя нога совсем не действует. Ты совсем утопил меня. — Капитан-цурзее перешел на «ты». — Работай ногами!
— Вы также.
— Не могу. Боль в ноге. Не сгибается.
— Возможно, вывих? — спросил лейтенант. — Дайте я ощупаю колено.
— Не смей! Утопишь!
Они оба скрылись под водой. Вынырнув, долго отплевывались. Затем наступило враждебное молчание. И тот и другой экономили силы, но барону было легче держаться на поверхности, к тому же кисти его рук находились над водой, а руки Лемана были погружены в холодную воду,
«Он долго не продержится, — думал барон фон Гиллер, — руки одеревенеют, и тогда надо только оттолкнуть его ногами. Что, если он, как все утопающие, схватит меня в последнюю минуту и не выпустит». Барон не спускал глаз с лейтенанта, угадывая каждое его движение. Если бы у барона был нож, он, не задумываясь, всадил бы его в Лемана. «А теперь надо все предоставить воде и самому Леману, конечно, этот слюнтяй долго не протянет. Только бы он не вздумал попытаться отнять крут. Конечно, из его затеи ничего не выйдет, но я потеряю много сил. Сейчас надо отвлечь его от агрессивных намерений».
— Лейтенант?
— Да…
— Как ты себя чувствуешь?
— Отлично…
— Вот и прекрасно.
— Для вас?
— Я рад твоей стойкости.
— Рад… Ну и радуйтесь.
— Давай но «ты». Несчастье сломало служебные преграды.
— «Ты» — слишком интимно. Вы не такой человек, с которым… хочется… на «ты»… даже… в такую… минуту…
— Да?
— Именно.
— Странно…
— Не трогайте мои руки. Они еще держатся. Внезапно Леман захохотал. Капитана бросило в жар.
«Сошел с ума», — подумал он и стал успокаивать вкрадчивым голосом:
— Но, но, Леман. Успокойтесь. Уже утро. Мы продержались пять часов. Скоро придет каравап, и нас подберут.
Леман продолжал смеяться жутким хлюпающим смехом.
— Да успокойтесь, что с вами?
— Ничего… Не беспокойтесь… я не сошел с ума… Все в порядке. Помните, я говорил об игре в кости.
— Да. Что в этом смешного?
— Судьба… обыграла нас… У нее семь!.. У нас… двойка… Разве… не… смешно?..
— Что поделать. Будем держаться. У тебя шерстяное белье?
— Да… По… Холодно… Только… вот…
Он внезапно просунул руки в круг, и оба они опять погрузились в холодную, пахнущую нефтью воду.
— Как ты неосторожно, — сказал капитан-цурзее после долгого молчания. — Хотя бы предупредил. Можно было захлебнуться. Хорошо, держи так руку, но тебе ведь неудобно. Лучше за петлю. Вот и хорошо. Смотри! Всходит солнце!
— Последнее солнце… Вы хотите пнуть меня ногами? Предупреждаю!
— Откуда у тебя такие мысли?
Леман только усмехнулся:
— Когда будете захлебываться… в вонючей нефти… вспомните госпитальное судно… транспорт с солдатами… рыбацкую шхуну… людей, спящих на миноносце. Мы с вами слишком малая плата за все…
Последние два часа они молчали, все силы уходили на то, чтобы не выпустить круг. Фон Гиллер забылся в дремоте, руки его ослабли, и он чуть было не нырнул в отверстие круга. Его обезумевший взгляд встретился с глазами Лемана и уловил в них насмешку.
— Держитесь лучше, кэп, — сказал еле шевеля губами Леман.
Когда они увидели паруса клипера, а затем и сам корабль, похожий на сказочное видение, Леман сказал, с трудом ворочая языком:
— Выиграли… Хотя, если они узнают, кто мы…
— Молчите!
Леман помотал головой.
Уже слышались слова команды, скрип уключин. Фон Гиллер, подобрав затекшие ноги, изо всех оставшихся сил толкнул ими в живот лейтенанта, и тот скрылся под нефтяной пленкой.
Матрос первой статьи Зуйков и юнга Лешка Головин наблюдали за этой сценой с марсовой площадки.
Зуйков сказал, покачивая головой:
— Ведь он, собака, утопил своего. Секунда до спасения оставалась, а он даже руки ему не протянул и, видал, будто даже отстранился от него, словно отпихнул.
— Ослаб он, дядя Спиридон, видишь, без памяти везут.
— Слаб! В такую минуту, Алексей, сила в человеке прибывает, он-то в круге спрятался, а того наруже оставил. Ведь видел, что тот на ладан дышит, и уступил бы середку. Или схватил бы его за рубаху да продержал малость, а он только о себе думал. Плохое это дело, парень, когда только о себе думка, да еще вот так, в таком положении. Ты наперво о товарище думай, а если тонуть, так вместе. Ведь секунд какой-то оставался. Наш-то капитан-лейтенант двоих спас, о себе не думал, да этот Гарька, английский матрос, Феклину сказывал, что всю ночь на помощь шел, как только взрыв заметил, так и за весла взялся. Один греб, тоже контуженый весь. Вот наш Невозвратный тоже тонул в Цусимском бою, когда их броненосец пошел на дно, и, говорят, раненого товарища спас. Очутились они с ним рядом в воде, за одну койку ухватились, а тот раненный в руку, кровью исходит, так Невозвратный перевязать его ухитрился в воде своей рубахой, а потом привязал его к койке и все голову ему над водой держал, чтобы не захлебнулся. Утешал человека, мысли ему отвлекал на хорошее, дескать, помощь обязательно будет, вот уже подходит, а вокруг только волны да кое-где еще головы матросские на воде видны. И дождались. помощи. И сам спасся, и товарища спас. Это мне рассказывал не сам Лука Лукич, о его дружок на берегу, еще в Севастополе, а сам Невозвратный об этом деле не говорит. Да что говорить, хвастаться, в том и виден человек. Так-то, Алексей. Вот как должон поступать русский, да и всякий моряк и прочий человек, если он человек! Смотри, чернобородый-то прикидывается! Дескать, худо мне, без памяти я, а где мой напарник — не знаю. Известное дело. Ты заметь себе, Алексей, что это пакостное дело. Не слыхал я, чтобы наш матрос в беде товарища бросил. Самый лядащий и тот совесть знает. Если только Бычков, да и тот в бога верует, побоится душу сгубить.
— Что такое душа? — спросил Лешка.
— Душа-то? — Зуйков почесал переносицу, глядя на четкую линию горизонта. Лешка задал ему нелегкий вопрос. Сам Зуйков никогда не задумывался над этим, считая, что душа — нечто неотъемлемое от человека, запрятанное где-то внутри. Но сейчас требовался прямой ответ, и Зуйков, наморщив лоб, повторил: — Душа-то? Это, брат, каждому ясно, что такое. Ну, какой ты человек, если из тебя душу вынуть? Пенек пеньком будешь. Душа, брат, дадена каждому человеку, чтобы, значит, он от скотины отличался. Хотя я думаю, что и у другой скотины тоже душа есть. Вот у нас с братом был мерин, бывало, скажешь: «Плохи наши дела, Макарка», а он так разумно посмотрит, заржет, дескать, какие уж там дела: овса и след простыл, сено до последней жменьки съедено, одна солома, да и та с крыши, трухля трухлей… Вот тебе и душа, брат. — Решив, что им дан исчерпывающий ответ, Зуйков посмотрел на ладонь правой руки и сказал: — Поджила совсем, скажу Петровичу, чтобы ставил на марс, а то захирел я впередсмотрящим, да попрошу, чтобы и тебя отдал мне в ученики. Ведь там, на мачте, хоть и жуть берет в шторм, а человеком себя чувствуешь. Она, стихия, рвет, мечет, мачты валит, а ты ей наперекор паруса ставишь али вяжешь. Сейчас, Алексей, самое время уходить из этого гиблого места. Где два судна смерть нашли, там и третьему не миновать. Но да ты не бойся. Наш Мамочка не прозевает.
«Орион» снимался с дрейфа. Матросы разбежались по реям ставить убранные паруса. Зуйков, стосковавшись по настоящему делу, поднялся на фор-брам-рей и побежал на нок — конец реи. Лешка с восторгом наблюдал за его акробатической работой.
— С марсов и салингов долой!
Зуйков вернулся на марсовую площадку к Лешке. Он тяжело дышал.
— Совсем обленился да нашей работенке. Уф! Сердце зашлось. При такой-то погоде! Вот что значит ваньку валять. Да ничего, оно так всегда, когда лодыря гоняешь или малость перепьешь на берегу. — Зуйков обвел привычным взглядом горизонт, посмотрел вниз. Под ногами катилась зыбь, палуба ушла в сторону, на ней матросы казались коротышками. Ветер в снастях завел нескончаемую, многоголосую песню. Зуйков кивнул своему напарнику: — Сейчас «Ориоша» наберет ветру, разгонится для поворота. Во, пошел бодрей! Руль лево на борт! Гика-шкот тянуть!.. — Зуйков был очень доволен, когда его команду повторял вахтенный офицер, а за ним и боцманы. Клипер совершил поворот, лег на другой галс и пошел на юго-запад, пересекая Атлантический океан, спеша уйти подальше от наезженных морских дорог.
Зуйков, поудобней устроившись но крохотной площадке, впал в благодушно-мечтательный тон:
— Смотри, Алексей, и запоминай, как мы с тобой тут сидим, примостившись, и сам черт нам не брат. Вот за это и люба мне морская служба. Ну что я видал в своей деревне? Мало чего, хотя край у нас хороший. Только тесный. Будто вся земля в кулаке сжата. И никогда, даже во сне, не видал такого простору, и нету ему ни конца ни краю, если правда, что земля круглая, как коленка.
— Как шар, — поправил Лешка.
— Ну, что шар — я не верю, а так, вроде круга.
— Станьте на шар, и тоже круг будет под вами.
— Чудно! Шар и висит ни на чем. Прямо ума не хватает, чтобы поверить.
— Смотри-ка, дядя Спиридон, там по носу тоже шар.
Зуйков ахнул и завопил:
— Мина прямо по носу, лево руля!
Сыграли боевую тревогу. Все вахты стали по своим местам. «Орион» снова лег в дрейф. Из каюты вышел мрачный артиллерийский офицер. К его приходу с длинноствольной пушки сияли брезентовый чехол, подняли снаряды из погреба. Со второго выстрела с грохотом и пламенем взлетел столб воды и долго оседал на взбаламученное море.
— Братцы, что делается! В косяк угодили! — крикнул кто-то из матросов, и все увидели, что том, где оседала водяная пыль, море побелело от всплывшей кверху брюхом рыбы.
В этот день на клипере ели сардины в жареном и вареном виде, да еще кок Мироненко засолил целую бочку.
Случай с миной завершил исключительные события последних дней, а Зуйкову с Лешкой Головиным необыкновенно повезло. Помимо благодарности перед лицом всей команды, выстроенной на шканцах, матрос первой статьи Зуйков и юнга Головин получили от командира по два золотых.
— Ну, Алексей, — сказал Зуйков, — теперь у пас денег куры не клюют. Будут тебе сапоги со скрипом, а мне конь! За двадцать рублей в наших местах можно купить такого конька, что закачаешься и не упадешь, и на телегу со сбруей останется.
Три чужестранца
Лейтенанта Кристофора Фелимора и старшего матроса Гарри Смита команда клипера приняла очень тепло. Как все спасенные, они пользовались жалостливой заботой матросов. Лейтенанта они нашли совсем не гордым, хотя и «белой кости», но человеком, чувствующим благодарность.
— И остановится и поговорит, хоть и непонятное бормочет, а видно, что понимает русского матроса, — говорил Феклин, который больше всех общался со спасенными офицерами.
Особенно по душе пришелся им сбой брат Гарри Смит, которого они сразу окрестили Григорием, а вскоре стали звать ласкательно — Гриней. Они сразу разгадали его простецкую натуру рубахи-парня. Из бота Смит захватил с собой флягу с остатками виски, и, когда привели его на камбуз, он стал угощать всех, кто был вокруг, стараясь никого не обделить, а сам лихо выпил стопку водки, крякнул и сказал: «Карашо!» — чем привел в восторг своих спасителей. Смит с первых дней включился в судовую жизнь, пристав ко второй вахте, тянул снасти наравне со всеми и оказался хорошим такелажником.
Разместить на корабле двух офицеров оказалось делом не простым. Лишних помещений не было. Каждый квадратный фут жилой площади был рассчитан строго по штатному расписанию. Старший офицер, на которого ложилась деликатная обязанность предоставить помещение в течение многомесячного плавания гостям, находился в затруднительном положении, к тому же две каюты занимали арестованные гардемарин Бобрин и артиллерийский офицер Новиков, а вселять к другим офицерам против желания- хозяев старший офицер не хотел. Фелимору он предложил разделить с ним свою каюту, но тот отказался. Барона фон Гиллера приютил на время старший механик.
Командир сказал своему озабоченному помощнику:
— Не печальтесь, голубчик, все придет на круги своя. Давайте вашего Фелимора поместим к Стиве.
— Думал об этом. Да тот ведь под арестом.
— Смягчим наказание: арест снимем, но к службе не допустим. Пусть потерзается. Так что переселяйте к Стиве. У него есть диван. Поместятся. Люди молодые, привычки у них еще не устоялись, не то что у нас с вами, да и у прочих. Помимо всего, я преследую еще и определенные цели на такое сожительство. Чисто педагогические.
— Фелимор — отличный юноша, — с облегчением согласился старший офицер. — Он мне понравился еще у адмирала и особенно после катастрофы. Чудный мальчик! Я предлагал ему вообще остаться у меня, да он наотрез отказался и просил поместить к матросам.
— Представьте, что то же самое сказал и мне, когда я предложил ему свой салон. Может, от него кое-что перепадет и нашему гонористому Стиве. Ну вот, все и обошлось. Что касается барона, то человек он, видно, со сложным характером и навязывать его никому не следует. Пусть пока поживет у добрейшего Андрея Андреевича. Может, кому и приглянется…
Феклин, уловивший краем уха отрывки разговора начальства, не замедлил передать новость на баке. Вестовой Бобрина Сила Нефедов сосредоточенно выслушал сообщение, смачно плюнул в обрез с водой, бросил туда окурок и пошел докладывать своему непосредственному начальнику.
— Так что теперь мне придется двоих нянчить, — мрачно заключил Сила Нефедов и, оглядев каюту, заставленную коробками с перчатками, покачал головой. — Вот и уложим его на эти ящички. — За что был обозван болваном и послан ко всем чертям.
На это Сила Нефедов только издал горестный звук — что-то среднее между вздохом и зевком. Он искренне сочувствовал гардемарину и, как это ни странно, по-своему любил этого барчука со скверным характером.
— Ну что стал как истукан! Пшел! Нет, постой! Позови Невозвратного!
Когда пришел баталер, гардемарин сказал:
— Вот забери отсюда часть моих коробок, да смотри, чтобы крысы не прогрызли. Отвечаешь головой!
— Эх, гражданин, ваше благородие, если мы головы будем терять из этих штучек-дрючек, то цена нам грош в базарный день.
— Но, но, поговори мне! Живо в канатный ящик сыграешь!
— Вы сами сначала из-под ареста освободитесь, а потом уж меня прячьте в ящик.
Стива взялся за голову, застонал и, пересилив себя, или, как оп любил выражаться, «наступив себе на горло», сказал:
— Голубчик, Лука Лукич, прошу, умоляю, унеси ты эту дребедень.
— Ну это другой разговор. Вот эту кипу я возьму, а остальное пусть ваш вестовой доставит…
Диван освободили, и Фелимор вошел в свое новое жилище. Гардемарин, щеголяя знанием английского языка, сделав широкий жест, сказал:
— Мистер Фелимор, я рад вас принять в своей скромной каюте, конечно, это не салон в апартаментах нашего командира, но я счастлив поделиться тем, что имею.
Фелимор поблагодарил и сказал, что командир предлагал ему свой салон, а старший офицер свою каюту, да он не захотел их стеснять и вообще хотел бы пожить среди матросов.
— Напрасно… Все же я рад… Вам понравился портрет этой девушки? — спросил он своего гостя, который впился в портрет продавщицы перчаток, висевший над диваном. — Как вы находите? Прелесть! Не правда ли? Ваша соотечественница!..
— Элен?! Боже мой! Бывают же на свете такие странные вещи!
— Вы ее знаете? — удивился Стива Бобрин. — Давно?
— Больше года. Хотя мне кажется — всю жизнь. Не удивляйтесь! Мне Элен говорила о вас, — сказал Фелимор и улыбнулся, заметив по углам знакомые коробки. — Так вы и есть тот русский моряк, любитель перчаток? — Да, но позвольте. Вы, вероятно, ее брат?
— Нет, жених! — ошеломил Фелимор бедного Стиву. — Элен Брейди моя невеста. Она так хорошо отзывалась о вас, только она никак не могла понять, зачем вам столько перчаток? Я сказал, что вы покупаете их для всей команды клипера. И она так смеялась, представив себе ваших матросов в палевых перчатках.
Гардемарин сжал голову руками, бормоча по-русски:
— О женщины, коварные созданья! Подавать такие надежды и так обмануть. Но ничего! — Он перешел на английский: — Я дарю вам этот портрет, пусть он напоминает вам о вашей возлюбленной. Мне он не нужен. Это мой первый фотографический опыт. Я могу вам презентовать и негатив, и вы сможете отпечатать хоть тысячу таких снимков. Поздравляю вас и желаю, чтобы дела мисс Брейди и впредь шли так же успешно.
— Благодарю, мистер Бобрин. Я ваш вечный должник, ваш друг вернул мне жизнь, а вы дарите образ Элен. Как мне его недоставало! Все осталось в каюте «Грейхаунда». Что же касается ее торговых дел, то они никогда больше не достигнут такого блеска.
Стива Бобрин очень долго не мог оправиться от удара, нанесенного ему гостем. В каждом взгляде Фелимора он чувствовал насмешку. Особенно его выводило из себя, когда этот счастливчик искоса посматривал на оставшиеся в каюте коробки с перчатками.
— У меня было более высокое мнение о корректности англичан, — пожаловался гардемарин своему товарищу по несчастью артиллерийскому офицеру Новикову.
— Ах, перчатки! И ты хорош. Истратить столько денег! Влезть по уши в долги только потому, что ему показалось, что девица от него без ума. Профессиональное кокетство, мой милый. Что же касается корректности этих бриттов, то должен сказать, по этой части им нет равных. Вот и капитан фон Гиллер согласен со мной.
Бывший командир подводной лодки на это заметил, четко выговаривая английские слова:
— Я не жил в Англии, англичан я видел только взлетающими в воздух и некоторое время плавающими на поверхности. Действительно, они держались корректно. Никто не пытался без приглашения проникнуть в мою субмарину.
— Довольно остро! — сказал Новиков, и все трое захохотали.
Фон Гиллер по просьбе Новикова был помещен в его каюту, тоже сравнительно просторную, с диваном, как и у Стивы Бобрина. Подозрительный, желчный артиллерийский офицер, основательно прощупав гостя, нашел, что пленный приторно вежлив, нагловат, считает себя представителем расы господ, которой в конце концов будет принадлежать весь мир. Во всякое другое время Новиков на высокомерие ответил бы тем же, а сейчас он посчитал, что фон Гиллер — настоящий клад, что таких людей следует всячески привлекать на свою сторону. Такие союзники помогут разгромить большевиков и восстановить монархию в России, не гнушаясь применением любых средств.
— Немецкие ландскнехты всегда служили русским царям, — сказал он Стиве Бобрину, — пусть еще послужат, а там мы им дадим такое мировое господство, что тошно станет. А пока он нам нужен, не то что твой британец.
— Ни рыба ни мясо, — согласился Стива. — До мозга костей испорчен своей гнилой демократией и еще возомнил, что неотразим и что Элен его невеста!
— Разыгрывает. Типичный английский юмор. Слишком невероятное совпадение. И ты поверил?
— Вначале — да. Но теперь — нет… Я еще вернусь в Плимут, сделаю им очную ставку и посмотрю, куда денется его пресловутая корректность…
Стива никак не мог примириться, что Элен будет принадлежать другому.
Команда сразу невзлюбила немецкого офицера. Он проходил мимо матросов, делая вид, что не замечает их, или презрительно щуря глаза. Прошел слушок, пущенный Зуйковым, что «немец укокошил приятеля», что не могло не отразиться на репутации капитана-цурзее среди экипажа клипера. Прежде чем освоиться с новым положением на клипере, барон Фридрих фон Гиллер пережил немало страшных минут, переходя от надежды к отчаянию. Увидав парусник и отправив лейтенанта Лемана на дно, капитан-цурзее чуть сам не выскользнул из спасательного круга и не последовал за ним, узнав в подходящем вельботе русских моряков. Цепенея от ужаса, он думал, что, как только русские узнают, что он немец, да еще командир подводной лодки, его немедленно или расстреляют, или сбросят за борт. Сам он поступал так же и находил это вполне разумным и оправданным высшими соображениями, стоящими неизмеримо выше «слюнявого гуманизма». Не раз утопающие молили его о помощи, и он мог взять несколько человек или хотя бы бросить им пару спасательных кругов, но ни разу даже и не подумал об этом.
Очень скоро фон Гиллер понял, что попал к людям с совершенно другой психологией, другими моральными нормами. Не понимая ни слова, по интонациям он чувствовал участие, звучащее в голосах людей. И даже когда они узнали, что он офицер и командир подводной лодки, то не ощутил у них явной ненависти. Офицеры выражали к нему подчеркнутое дружелюбие и сочувствие как к достойному противнику и собрату по профессии. Отношение к нему матросов его не интересовало.
Пригласив к себе, командир клипера сказал ему:
— Так вы тот самый знаменитый подводник, о котором так много писали ваши газеты, а также англичане и французы?
— Возможно. Я — солдат. Сражался, как мог, оружием, вверенным мне кайзером Вильгельмом! — высокопарно ответил фон Гиллер.
— Что же, будем считать, что вы ни при чем и во всем виноват ваш кайзер, если мы можем винить его величество. Все же у вас были условия пересмотреть многие позиции относительно войны и мира.
— Я потомственный военный и воспитан считать войну и все, что связано с ней, естественным делом. Да, я потопил много судов, но опять же — война есть война!
— Формально — да, а на поверку — пустая фраза, оправдывающая всякие гадости, да не будем об этом. Нам здесь ничего не решить. Располагайтесь. Поместитесь в каюте нашего артиллерийского офицера. На вас распространяются все права военнопленного, хотя можете чувствовать себя как в своей семье. У нас совсем иные отношения к врагам поверженным.
Все страхи разом прошли. Фон Гиллер, вымытый, накормленный в кают-компании, в чистом белье, в выстиранной и отглаженной русским матросом Феклиным форме офицера немецкого подводного флота, забыл все недавние тревоги.
Через неделю после спасения потерпевших катастрофу командир клипера устроил ужин, посвященный этому событию.
Отец Исидор наспех прочитал благодарственную молитву, выслушанную по привычке, большинство сидящих за столом были неверующие, да и сам иеромонах нередко говаривал своему приятелю старшему механику Андрею Андреевичу Куколю, что «иногда сильно обуреваем грузом сомнений насчет веры христовой».
Большее впечатление произвела речь Воина Андреевича, произнесенная на английском языке, на котором все сидящие за столом говорили, кроме отца Исидора и старшего механика, им переводил Стива Бобрин. Командир сказал:
— Дорогие друзья! Мы, люди, посвятившие себя морю и ежеминутно рискующие жизнью, ценим и любим жизнь. Вот почему мы так горячо откликаемся, когда нам выпадает счастье оказать помощь на море другому моряку и особенно спасти товарища. И надо сказать, что такое счастье выпадает не часто. Особенно то чудо, что произошло с нашими друзьями. Остаться живым при взрыве корабля, да еще быть спасенным случайно проходившим парусником. Это ли не чудо! Мы оказали услугу не только нашим союзникам, но и недавнему противнику капитану-цурзее барону фон Гиллеру. Теперь, господин капитан, вы, надеюсь, окончательно покончили с войной, и мы счастливы, что можем оказать вам гостеприимство, как и вы, безусловно, оказали бы его нам, окажись мы в таком же положении.
Изобразив на своем лице признательность, капитан-цурзее, опустив веки, кивал головой. На миг, слушая командира, он представил себе, как бы взлетел на воздух этот изящный корабль со всеми своими парусами. Ему еще не приходилось топить клипера. «Если бы не эта дурацкая мина, какое было бы зрелище!» — думал он и, улыбаясь, поднял высоко бокал.
— Дорогие друзья! — продолжал командир клипера. — Давайте выпьем за всемирное товарищество, за скорейшее окончание войны, когда можно будет, не опасаясь ни мин, ни торпед, ни пушек, ходить по всем морским путям! Ваше здоровье, капитан-цурзее барон фон Гиллер! Лейтенант Фелимор!
Поздно ночью в каюте барон фон Гиллер сказал Новикову:
— У вашего капитана опасные мысли, он сектант или большевик, сторонник всемирного братства. Наверное, он подразумевает под братством коммуну!
— У него голова забита всякими слюнявыми идеями, — ответил Новиков. — По его милости мы очутились в этом сумасшедшем рейсе.
— И хотя я обязан жизнью такому странному поступку вашего капитана, не могу не согласиться с вами, обер-лейтенант.
— Пока лейтенант, барон!
— Прошу прощения, лейтенант, я согласен, что, исходя из высших соображений, вы должны были идти в Мурманск, в Архангельск, куда англичане готовят десант против большевиков. Я каждый день слушал сообщения английских и американских агентств. Вопрос этот решен. В то время как вы направляетесь во Владивосток, который захвачен большевиками.
— Какая осведомленность! — желчно заметил Новиков. — Вы что, уже побывали в штурманской?
— Да, заглянул. Пока клипер держит курс в Карибское море.
— Вот видите! Возможно, мы идем в Южную Америку.
— Не шутите, лейтенант! Ваш капитан рвется в Россию, он говорил мне, что в такое время долг каждого русского — быть на родине. Раз в Россию, то Балтика для вас закрыта. Север — тоже, в Черное море вас не пропустят сейчас ни англичане, ни турки, ни мы. Остается только Владивосток.
— Совершенно точно. Туда мы и идем. Только вы заблуждаетесь, дорогой капитан-цурзее, что мы сидели сложа руки. — И он рассказал о неудавшейся попытке раскрыть подготовку побега англичанам.
— Приношу извинения. Вы и ваш друг действовали в верном направлении, только непродуманно. Письмо должен был доставить один из вас.
— Нам не разрешили съехать на берег.
— О-о! Командир не так прост!
— Да, он из тех, кто притворяется простаком и либеральничает с матросами. У него ложное понятие о долге русского дворянина! Он считает себя чуть ли не декабристом, сторонником широкой конституции, так называемой свободы, в то время как русским мужиком всегда управляли и будут управлять только при помощи палки, петли и винтовки!
— Очень здравый взгляд! Именно только твердость и еще раз твердость могут спасти вашу страну. Я уверен, что в скором времени ошибка вашего почтенного капитана будет исправлена.
— Каким образом? — Артиллерийский офицер даже вскочил с койки, где лежал, положив ноги в сапогах на одеяло.
— Уверяю вас, еще не все потеряно, дорогой лейтенант. Поверьте мне! Даже, казалось бы, в самом безнадежном положении находится выход. Примером может служить случай моей катастрофы и моего спасения, — закончил он торжественно и загадочно.
— Если бы… — Артиллерийский офицер открыл рундучок в углу за диваном и вытащил бутылку и две стопки. — Выпьем по такому случаю. За надежду, барон!
Мечты и действительность
Клипер, слегка накренясь, скользил по ультрамариновому океану. Стояли ясные, солнечные дни. Иногда кот Тишка, вытянувшись, спал на солнцепеке возле камбуза или еще где-нибудь, не заботясь о том, что на него могут наступить. Кот занимал привилегированное положение на Корабле и пользовался этим.
Каким-то непостижимым образом Тишка чувствовал приближение шквала. Поднимался, потягивался, точил когти и шел походкой баловня на камбуз. Действительно, шквал налетал.
Проходили минуты, и яркое солнце снова слепило глаза, от палубы поднимался пар, ставились паруса, и клипер, отряхнувшись от воды, как большая птица, продолжал свой бег. Кот выходил из укрытия принимать солнечные ванны.
С каждым днем становилось теплее. Матросы сбросили бушлаты и надели свободные парусиновые робы. Люди повеселели, чаще раздавался смех, а по вечерам на баке матросы пели.
Командир клипера, по своему обыкновению, несколько часов проводил на мостике в бамбуковом кресле, читая «Величие и падение Рима» Ферреро, когда вахту нес старший офицер.
Николай Павлович расхаживал от борта к борту, только машинально и по привычке посматривая, не заполощут ли кромки парусов. Ветер дул ровно, горизонт — чист. И у него невольно появлялись мысли о вечной гармонии, и казалась нелепой война миллионных армий, которые где-то сейчас стремятся уничтожить друг друга, чтобы кто-то получил большую власть, завладел чужой землей, нефтью, золотом, чтобы его заводы выпускали больше чугуна и стали, чтобы он мог беспрепятственно продавать свой товар в других странах и получать большие прибыли. И чтобы невообразимо большие массы людей лишались крова, страдали и умирали, им настойчиво вдалбливали в голову, что они совершают подвиг, сражаются за веру, царя и отечество.
И только в России происходит что-то другое. Там стремятся начать организацию мира на других основах. На равенстве и братстве между людьми. «Но это ведь невозможно, — думал Николай Павлович, — в истории было немало примеров, когда в такое же движение приходили народы, когда наряду со стремлением Рима, например, завоевать мировое господство возникла религиозная идея, христианство. И к чему все это привело? Христианство завоевало полмира, а люди не стали счастливее».
У штурвала стояли матросы первой статьи Громов и Трушин. Они тоже думали о чем-то своем, держа клипер точно на курсе. От их крепких, сильных фигур веяло уверенностью, смелостью. Капитан-лейтенант с обидой подумал: «Они что-то такое знают, чего ни я, ни Воин Андреевич не знаем. Вот он роется в истории народов и там ищет ответ».
Николай Павлович еще несколько раз прошелся от борта к борту и спросил командира:
— Ну что нового пишет ваш Ферреро?
Воин Андреевич поднял голову от книги:
— Удивительные вещи, мамочка моя. Какая великая наука — история! Если бы мы учитывали исторический опыт и не повторяли ошибок прежних поколений, то какой рай воцарился бы на земле. Но даже отбрасывая такую возможность и принимая во внимание несовершенства человеческие, зависть и корысть, полезно читать такие книги, в них находишь и ответ и некоторое утешение, что «все придет на круги своя». Вот если разрешите, я прочту кусочек. Здесь говорится о положении в Римской империи после гражданской войны при императоре Августе.
Он стал читать, далеко отставив книгу:
— «Все вздохнули наконец свободно. Последние тучи бури рассеялись с горизонта; снова заблестело голубое небо, обещая мир и радость. Со всеми ужасами революции — тиранией триумвиров, военной анархией, возрастающими налогами — было покончено. Сенат снова начал заседать регулярно; консулы, преторы, эдиллы, квесторы опять принялись за свои прежние обязанности; снова провинциями стали управлять друг за другом назначаемые по выбору или жребию из консулов и преторов, кончающих свою должность. После стольких лет раздора, ненависти и резни Италия была наконец в согласии, по крайней мере в своем преклонении перед Августом и традициями Древнего Рима». — Каково?
— Дал бы бог, чтобы и у нас все окончилось хорошо, — сказал старший офицер, — только, где мы возьмем Августа?
— Найдутся. Во времена великих перемен рождаются и великие люди. Надо только, чтобы была вера в этого человека, в его мысли, идеи. Как у римлян в эпоху Августа. Вот еще кусочек: «Никто не сомневался, что Август распространит по всей империи мир и благоденствие, восстановит религию в храмах и справедливость в судах, исправит нравы и отомстит за поражения, испытанные Крассом и Антонием в Парфии».
Матрос отбил четыре склянки. Рулевые сменились. Заметив, что Громов не раз усмехался при чтении отрывков из Ферреро, старший офицер спросил его:
— Ты что, братец, не согласен, что вот так же и у нас все образуется?
— Образуется, да не так, гражданин капитан-лейтенант. Снова царя народ посадить не позволит. Там ведь, в Риме, смуты и раздоры, видно, были между правителями?
— Да, конечно, шла борьба за власть между приверженцами различных партий, как и у нас в России сейчас.
Командир поправил:
— Пожалуй, не совсем так. Да, была борьба, но только между патрициями, которых поддерживал народ.
— Значит, дрались из-за места на престоле? — спросил Громов.
— Да, и Август победил, — сказал командир.
— У нас другое дело. Мы не хотим ни Августа, ни Николая, никого из царей и Керенских. Власть должна быть народная, а земля и заводы и все — тоже народное.
— Это само собой, — подтвердил Роман Трушин, стоя навытяжку и снисходительно улыбаясь. Ему было странно слышать, что такие ученые и умные люди не могут понять простых и ясных истин, что революция совершилась в России не для того, чтобы одного царя заменить другим, пусть даже очень смекалистым, не чета Николаю Второму.
— Проверьте уровень воды в льялах! — приказал старший офицер.
Матросы бросились выполнять приказание.
Командир с помощником переглянулись.
— Откуда это у них? — спросил старший офицер. — Такая уверенность и чувство превосходства. Наверное, они правы. То, что было пригодно для Римской империи в период ее расцвета, то неприемлемо для нас. Я уже думал об этом, и мне пришла мысль сравнить паше время с первыми веками нашей эры, когда зародилось христианское учение. И все-таки за девятнадцать веков отношения между людьми мало изменились. В странах Востока, в Индии, Африке, еще существует рабство, на которое снисходительно смотрят англичане, французы, бельгийцы, да и мы, грешные.
— Вы думаете, что коммунистическое учение ждет участь христианства?
— Исторический опыт заставляет сомневаться.
— Сомневаюсь и я, а вот они знают и не сомневаются. — Воин Андреевич кивнул на застывших у штурвала матросов. — Матрос Громов и кондуктор Лебедь растолковали им, в чем разница между христианством и социализмом. Там — обращение к душе и совести и сохранение всех прежних отношений между людьми, а у коммунистов — отрицание всех форм угнетения и обобществление средств производства. Там равенство на небе, а у них — на земле. Вот, мамочка моя, в чем главная разница! Строки же об Августе я процитировал как доказательство того, что и после самых жестоких бурь наступает хорошая погода.
Матросы у штурвала сдержанно улыбнулись.
Воин Андреевич строго взглянул на них, затем перевел взгляд к трапу и увидел, что по нему поднимается одна из самых интересных личностей на «Орионе», радист Лебедь. На его костлявой фигуре мешком висела форма унтер-офицера. Он был рыж, веснушчат, весь он источал веселое благодушие. Нельзя было не улыбнуться, глядя на этого никогда не унывающего человека. Каждый день к двум часам, если не было ничего срочного, радист поднимался на мостик или, смотря по погоде, заходил в командирскую каюту с новостями, полученными в течение суток.
Радист, расплываясь в улыбке, поднял руку к уху, словно намеревался почесать его.
— Разрешите доложить, гражданин капитан второго ранга!
— Вы опять забыли надеть фуражку, Герман Иванович?
— Представьте, да. Эта фуражка изведет меня окончательно. Если я когда-нибудь отличусь и мне будет полагаться медаль или какая-нибудь еще награда, то прошу вас, вместо всех наград отдайте приказ, что я могу ходить без фуражки.
— Но вы и так ходите без нее.
— Да, но я нарушаю порядок.
— Совершенно верно. И я нарушу порядок, если отдам такой приказ. Ну что у вас там?
— Если относительно порядка, то он не вечен. Извините, а что касается новостей, то кое-что набралось за истекшие сутки. Английские, французские агентства, а также немцы передают о мелких стычках на Западном фронте. По всей вероятности, кайзер Вильгельм готовит большое наступление. Германия еще сделает попытку вернуть инициативу, используя ослабление действий наших русских войск на Восточном фронте.
Радист обладал абсолютной памятью и никогда ничего не записывал.
— Возможно, возможно. Ну, а дома как?
— Положение в стране необыкновенно сложное и тяжелое для Советской власти. Все западные агентства пишут о крахе большевиков в ближайшие месяцы и даже дни. В стране всего не хватает. Они смакуют несчастья нашей родины. Ленину и его товарищам приходится решать необыкновенно трудные задачи, чтобы сохранить завоевания революции.
В Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Токио реакционеры подготавливают общественное мнение, чтобы начать интервенцию в Советскую Россию и с севера, и с юга, и с востока. В «Нью-Йорк таймс» помещена статья Чарльза Невилла, в которой доказывается необходимость помочь русским союзникам восстановить порядок в своей стране.
— Так, так. Все это мы читали в лондонских газетах. Ну, а что хорошего?
— Есть и хорошее. Советские войска вновь заняли Конотоп и развивают наступление на Ромны. Советскими войсками занят Екатеринодар.
— Поразительно! — сказал старший офицер. — Как они могут при таком положении воевать и одерживать победы? Отчаяние обреченных. А что будет дальше, когда вся мощь союзников обрушится на голодную, плохо вооруженную армию красных?
Улыбка не сходила с лица радиста все время, пока он передавал содержание перехваченных сообщений, при последних словах улыбка застыла на губах, и он сказал:
— Мы не одиноки.
— Ну кто же с нами? Кто? — спросил старший офицер, в то время как командир, закрыв историю Рима, в раздумье смотрел на размеренно бегущие за бортом волны.
— Рабочий класс всего мира. Солидарность пролетариев всех стран! — торжественно ответил радист и добавил: — И последнее самое важное сообщение, — он полузакрыл глаза и прочитал на память: — «Семнадцатого марта в Екатеринославе открылось заседание Второго Всеукраинского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Собралось свыше тысячи делегатов. Из них 401 большевик, 414 левых социал-революционеров, украинских социал-демократов 100». Далее много пропущено, но резолюцию удалось принять. Съезд вынес резолюцию, в которой сказано следующее:
«Второй Всеукраинский съезд Советов, являясь выразителем воли украинской демократии, постановляет, что украинский трудовой народ будет бороться против завоевателей и душителей революции, против империалистов всего мира, но вместе с тем примет через свои полномочные органы все меры к прекращению войны и выработке приемлемых для трудящихся условий мира.
Съезд выражает уверенность, что трудовой народ Украины, идя рука об руку со всем рабочим классом России, для защиты революции объединившись в международном социалистическом конгрессе с рабочими всего мира, выйдет из тяжелого положения при пожаре мировой революции». Вот этот документ тоже говорит кое о чем, — закончил радист.
— Гм. Скажите, как сильно сказано! — Командир поднялся и прошелся по наклонной палубе. — Тысяча делегатов — это немала, это целая Рада. Представители миллионов. Хочется верить. Ох, как хочется верить, что выстоят. Ну и все?
— Да. Есть еще кое-что, пока несущественное.
— Именно?
— Перехватил новую шифровку из Южной Америки.
— Ну южноамериканцы пас мало интересуют. Я все забываю, что шифровки — ваше увлечение.
— Необыкновенно интересно разгадывать эти ребусы. Вы знаете, в принципе они просты. Ключ к ним дал Эдгар По. Помните рассказ «Золотой жук»?
— Да, как же. Ну, хорошо. Все?
— Почти. Я еще хотел доложить, что ваше сообщение о гибели «Грейхаунда» и У-12 передано.
— Сообщили, кто остался жив?
— Сообщил. Добивались, кто передал.
— Ну, а вы?
— Отстукал: «Летучий голландец».
— Ох, Лебедь, Лебедь, вы всегда с фокусами. Будут искать теперь в справочниках Ллойда такой корабль. Вот теперь, видно, запас информации у вас исчерпан?
— Да, но я хотел доложить, что в рубку опять приходил немецкий подводник.
— Ну?
— Всем интересуется, просит, чтобы я научил его работать на ключе, хотя мне кажется, он уже умеет это и без моей помощи,
— От скуки. Поймите его положение. Ему хоть как-то надо убить время. Стучать на вашем аппарате ему не давайте. Но запретить ему бывать в радиорубке как-то неудобно. Вот так, голубчик.
— Есть, гражданин капитан второго ранга, но если позволите, то я скажу, что барон производит впечатление человека с тройным дном.
Командир засмеялся.
— С тройным. Что-то очень сложная конструкция. Про людей или, вернее, чемоданы с двойным дном — слыхал, а с тройным — впервые, да еще у немецкого барона.
— Видите ли, разница та, что двойное дно легче обнаруживается. Тройное — гораздо труднее.
— Ну хорошо, хорошо, попробуйте заглянуть в него поглубже, это по нашей части.
Старший офицер извинился и отвел командира в дальний угол мостика:
— Воин Андреевич, я согласен с мнением нашего телеграфиста. Барон всюду сует свой нос
— Ну, ну, Николай Павлович., разве можно так относиться к военнопленному? Он офицер. У него есть понятие о чести. К тому же он и дворянин. Нет, нет, прошу явно не выражать ему антипатии. В нас, мамочка моя, еще сидит воспитанная за годы войны неприязнь к немцам. Я сам иногда ловлю себя на том, что начинаю думать, что без него было бы поспокойней. Хотя так судить о человеке несправедливо. Вы не находите?
— К сожалению. Я посадил бы его под арест или воспретил ходить в места, непозволительные для посторонних.
— Нет, нет, нельзя так. Ах, я не отпустил еще радиста. Герман Иванович, спасибо, дорогой, ловите там все, что можно, особенно, что делается во Владивостоке. С новостями, как всегда, ознакомьте весь экипаж.
Сказав «есть», радист опять было поднес руку к уху, да, вспомнив о фуражке, сделал волнообразный жест, с трудом повернулся и пошел провожаемый улыбками всех, кто находился на мостике.
Прежде чем пройти на бак, где его тоже ждали подвахтенные матросы и унтер-офицеры, он заглянул к себе в радиорубку. Там он застал барона фон Гиллера и Лешку Головина. Пленный сидел за столом радиста, надев наушники, и сосредоточенно слушал. Увидев кондуктора, фон Гиллер закивал головой, заулыбался, не снимая наушников. Радист резким жестом приказал снять наушники, что тот неохотно и сделал.
Радист сказал по-немецки:
— Я несколько раз просил вас не трогать ничего в моей каюте.
— О, извините, герр кондуктор. Вы же разрешали мне иногда слушать голоса эфира. Такая невинная вещь. Прошу еще раз извинить, я ухожу, и все же с разрешения вашего любезного командира я буду еще изредка заходить к вам. — Он усмехнулся и ушел.
— Алешенька, милый мой, скажи, долго этот фон барон стучал на моем ключе?
— Да как вы ушли, дядя Герман, так он и начал тирикать, а сам таким ласковым притворился, все зубы мне скалит. Почему они у него все золотые?
Радист осмотрел свою аппаратуру и сказал без улыбки:
— Передатчик включен.
— Вы думаете, что он своим передавал что-нибудь?
— Пока не знаю. Пошли на бак и давай с сегодняшнего дня закрывай рубку на ключ. А ты вообще присматривай за ним.
— Давайте, дядя Герман, будем присматривать, а то, сами знаете, наведет подводную лодку.
— Здесь не должно быть подводных лодок. Мы порядочно отошли от берегов Европы и от рейсовых линий. Лодки караулят на караванных путях и на подходах к портам.
Юнга улыбнулся:
— Вот и хорошо, что так далеко отошли. А то я порядком струхнул, когда вы вошли и начали его крыть по-немецки. Вот, думаю, сижу, как дурак щерюсь на его золотые зубы, а он погибель на нас наводит. — Лешка сдвинул брови. — Все же что вы про него полагаете? Ненадежный мужик, да?
— Вот именно, Алеша, ненадежный, а время еще военное.
— Ну это конечно. И хоть кругом вода да небо, а все-таки как они английский миноносец подсидели, сами тоже нарвались. Ну а нам зевать нельзя. Вы знаете, что Зуйков говорит?
— О чем?
— Про грабли.
— Нет, не знаю.
— Раз в год и грабли стреляют.
— Очень мудрая пословица, поэтому, Алексей, давай смотреть в оба.
— Давайте!
На том порешив, они закрыли двери на ключ и отправились на бак.
Тем временем ликующий барон фон Гиллер пришел в каюту артиллерийского офицера. Новиков, по обыкновению, лежал на койке, уставившись в потолок, не поворачивая головы, спросил:
— Ну как, удалось хоть сегодня?
— Наконец-то! После страшного удара, нанесенного мне судьбой, эта капризная богиня вновь обратила ко мне свой благосклонный лик.
— Что-то слишком витиевато вы стали изъясняться, барон. Не похоже на вас.
— Да, я, как правило, не многословен и склонен говорить просто. Но мне сейчас хочется запеть. Немыслимая удача! Я разговаривал с рейдером, это «Хервег»! Как я — и ожидал, он возвращается от берегов Бразилии. Латиноамериканцы после наших временных неудач на фронте…
— Временных ли?
— Вы хотите сказать?..
— Что ваша песенка спета. Но не будем терять время в напрасном споре, тем более мы никак не можем повлиять на исход войны…
— Вполне разумно.
— Итак?
— Да, после наших временных неудач на Западном фронте латиноамериканцы отказали нам в снабжении.
— Предложили интернироваться?
— Да, но капитан Рюккерт никогда не пойдет на это. После стольких славных дел и вдруг — сдаться! Нет, подобное не в немецком духе.
— И ваши сдавались за милую душу, что-то я не слыхал у вас ни одного случая подобного бою нашего «Варяга».
— «Варяг», что это?
— У меня нет настроения читать вам лекцию о славнейших страницах русского военного флота. Продолжайте, барон.
— Хорошо, только не перебивайте меня, прошу вас.
— Ладно, барон, не буду перебивать вас и напоминать вам о печальной судьбе флота Германии.
Капитан-цурзее показал золотую полоску зубов и передернул плечами, его отличное настроение прошло. Он сказал холодно:
— «Хервег», видимо, следует к берегам Африки, а может быть, и в Океанию. Сейчас мы идем встречными курсами. «Хервег» находится от нас в тысяче миль.
— Скорость?
— Не менее пятнадцати узлов.
— Да мы делаем около десяти при слабом ветре.
— При благоприятных обстоятельствах мы встретимся к исходу вторых суток.
— Допустим — на третьи.
— При условии, если будем ежедневно сообщать координаты и все изменения курса. Конечно, лучше бы связываться чаще. Мне сообщили, поняв, в каком я положении, что радисты на «Хервеге» будут дежурить круглосуточно, настроившись на нашу волну.
— Больше одного раза в сутки вам не удастся вести передачу на свой «Хервег».
— Согласен. Тем более что радист, кажется, что-то подозревает или питает ко мне националистическую вражду. Он чуть не застал меня за работой на ключе.
— Чуть — не считается. Плохо, барон, что вы не смогли внушить ему более нежных чувств.
Барон нахмурился и сказал:
— Я не сообщил вам еще об одном важном обстоятельстве, лейтенант.
— Час от часу не легче. Что еще?
— Когда я работал на ключе, в каюте находился юнга. Конечно, я постарался ему внушить, что просто учусь, практикуюсь. Все-таки он мог что-то заподозрить и передать радисту, с ним у него приятельские отношения.
Новиков сел на койке:
— Барон!
— Да!
— Позвольте вам заметить, что вы напрасно радовались. Судьба опять повернулась к вам задом. Мальчишка не так прост, как вам кажется. И этот проклятый радист еще не мало причинит нам неприятностей. Вот кого бы я списал за борт с десятком — двумя в придачу.
— Хорошая мысль, только ее пока трудно осуществить.
— Все трудно. Надо подумать.
— Что, если включить в дело ваших сообщников из нижних чипов и этого гардемарина?
— Говорю, надо подумать. Что же касается Бобрина, то он вчера ходил вымаливать прощение и получил его, негодяй и трус. Испугался, что лишится милости нашего социалиста-командира.
— Вы ему ничего не сообщали о рейдере?
— Ну что вы!
— Очень хорошо. Только напрасно вы так отзываетесь о Бобрине. Он сейчас будет нести вахту и знать все изменения курса, скорость. Как нельзя лучше иметь на ходовой вахте своего человека. Мне часто заходить в штурманскую каюту нельзя. Я только хотел вас просить повлиять на вашего Друга Бобрина, в то время как он опередил нас.
— Все это так, да я не переношу мягкотелых. Лебезит, скотина. Но пусть служит и им, и нам.
— Только нам. Вам, дорогой герр Новикофф, в данной ситуации следует проявлять больше дипломатии.
— Каким образом?
— Хотя бы не возбуждать подозрений, скрывать антипатию к окружающим. В этом есть сущность всякой политики, мой дорогой друг.
Новикова коробил поучающий тон и подчеркнутое превосходство, сквозившее во всем облике барона.
Новиков проворчал:
— Ну ее к дьяволу, вашу политику. Я человек желчный, меня считают злым, и не без оснований. Давайте разделим обязанности: политику — вам, а на мою долю останется вся грязная работа.
— Почему же грязная. Я бы сказал — оперативная.
— Камуфляж, барон! Давайте хоть с глазу на глаз называть вещи своими именами. Измена никогда не считалась благородным действием.
— Что вы! Какая измена? Наоборот! Мы стремимся предотвратить измену, не дать большевикам воспользоваться оружием.
— И поэтому я, русский офицер, связываюсь с представителем враждебного государства? Ха-ха, милый мой. На всех языках такое действие называлось изменой, а ваше — шпионажем со всеми вытекающими последствиями, включая «пеньковый галстук». Так что давайте, как говорят матросы, «потянем грота-шкот», другими словами, выпьем!
Барон силился улыбнуться, но только приподнял верхнюю губу. Ему все больше не нравился его сообщник, позволяющий ставить себя на одну доску с ним, бароном, человеком высшей расы, старшим по званию. Капитан-цурзее прикрыл веки, чтобы сосредоточиться и не дать вырваться наружу накипавшему гневу. Наконец он улыбнулся, не скупясь, показал все зубы, мысленно подтрунивая над самим собой: «Эх, Фридрих, только что учил высшей дипломатии этого пьяного скифа, а сам чуть не снизошел до унизительной ссоры с ним. Натяни туже нервы, Фридрих».
Барон сидел, откинувшись на спинку зеленого дивана. Рассеянный свет, отраженный от поверхности моря, ярко освещал его лицо, безжалостно обнажая все недостатки кожи, сеть морщин под глазами, седину в волосах. И все же лицо его можно было назвать красивым: черты лица были правильными и сейчас, когда он расслабился, даже приятными. Новиков звякнул стаканами, барон опять стал самим собой: на лицо опустилась высокомерная маска с плотно сжатыми губами и презрительным прищуром глаз.
— Не слишком ли вы много пьете, герр Новикофф?
— Не ваше дело, барон. Берите и пейте сами, тем более что сейчас мы идем обедать.
— Но ведь и там вы будете пить?
— А как же! И вы тоже. Там особая статья. Ну давайте за процветание нашего союза! Вот так! Пить вы почти научились… Ух и хороша! Мы везем чистейший ректификат, и баталер разбавляет со знанием дела.
Гиллер спросил с деланным участием.
— Вы не боитесь стать алкоголиком?
— А я уже и есть алкоголик, а вот кто вы? Попробуйте ответить на этот вопрос! — Новиков последнее время быстро пьянел. — Духу не хватит. Самое трудное назвать себя своим именем, то есть познать самого себя. Я вот познал: никчемный человек и вдобавок алкоголик. Вы же считаете себя слепленным из другого теста. Да, ведь вы принадлежите к расе господ, как изволили однажды сказать. Русские дворяне тоже были расой господ, а что получилось? Не пожимайте плечами. Дело серьезное. Вы когда-нибудь слышали о бронтозаврах? Господствовали миллионы лет — и пшик…
В двери постучал вестовой:
— Обедать, ваше благородие!
— Знаю, болван… Идемте, капитан-цурзее, и не пыжьтесь, как индюк. В целях большой политики вы должны держаться рубахой-парнем.
Новиков, не заметив, перешел с английского языка на русский.
Барон зло улыбался.
На встречных курсах
Радист снял наушники и подмигнул Лешке Головину, который с благоговением наблюдал за работой этого удивительного человека. Если Зуйков был лихим матросом и Лешкиным наставником и воспитателем, то радист Лебедь относился в сознании мальчика к людям непостижимых возможностей, был настоящим волшебником. Он управлял таинственными силами, которые в одно мгновение связывали его с любой точкой земного шара, будь она на воде или на суше. Герман Иванович пытался объяснить мальчику, что в его работе нет ничего таинственного и он только научился управлять прибором, вырабатывающим электромагнитные импульсы, и импульсы эти тоже просты в своей сущности. Но Лебедь не отличался педагогическим талантом, и после каждой его научно-популярной лекции мальчик только убеждался, что судьба его свела с необыкновенным человеком, вся его «простая» наука похожа на волшебный фокус, непостижимый для простого смертного.
— Ну вот, Алексей Сафронович, — сказал радист, показывая мальчику листок с группами цифр, — еще один ребус. Немцы продолжают посылать шифровки кому-то в море, а с корабля посылают ответ, вот он, — радист показал другой листок с цифрами.
— Ну и пусть посылают, а нам-то что?
— Нельзя, Алексей Сафронович, проходить мимо загадочных явлений. Весь смысл жизни в разгадке загадок, которые ставит нам природа и наши двуногие собратья, то есть мы сами задаем друг другу.
— Да, конечно, — глубокомысленно согласился юнга. — Загадки и я люблю разгадывать. — Он пристально посмотрел на радиста и покачал головой.
— Ты что, Алексей Сафронович, так неодобрительно покачал головой?
— Никак я вас не могу понять. Ведь вы такой умнющий, все помните, страницу прочитаете — и уже готово, как стих, знаете, а вот фуражку опять забыли надеть.
— Когда это?
— Вчера.
— Хочешь, я тебе открою тайну? — сказал радист и такую состроил смешную гримасу, что юнга покатился со смеху.
— Хочу, очень, — сказал он, вытирая глаза и готовясь вновь расхохотаться над «тайной».
Неожиданно Герман Иванович сказал совершенно серьезно и как-то застенчиво улыбаясь:
— Не забываю я надевать эту проклятую фуражку, а нарочно не надеваю. Не идет она мне. Какой-то я в ней несолидный.
— Смешной! Матросы покатываются, когда вы в фуражке.
— Вот видишь. Кому приятно быть смешным? Французы говорят, что смех убивает.
— Вас-то не убивает, вы сами всегда веселый, за это вас все и любят.
— На самом деле я никогда не унываю. Такой у меня характер, и мне нравится поддерживать в людях бодрость и веселье. Хочешь еще одну личную тайну?
Юнга кивнул.
— Я, Алексей Сафронович, совсем не военный человек, не моряк, хотя море люблю, особенно океан. Я счастлив, что мне пришлось совершить такое плавание, и вот сейчас мы идем дорогой чайных клиперов. Об этом я мечтал еще мальчишкой, не всем, как тебе, выпадает счастье в пятнадцать лет совершить такое путешествие. Затем, когда учился в университете, тоже мечтал о дальних странах. И все-таки, Алеша, когда-нибудь я твердо осяду на земле. Буду сидеть в большой комнате — библиотеке и решать задачи.
У мальчика вытянулось лицо:
— Задачи? Да кто решает сам задачки, когда не заставляют? Вы не смеетесь?
— Нисколько, Алексей Сафронович. Не как в школе, посложней, вроде вот этих строчек с цифрами, или изучать незнакомые языки, а еще лучше разгадывать языки неизвестные.
— Как это — неизвестные? Никто их но знает — тогда откуда они и взялись?
— Когда-то очень давно жили пароды и исчезли с лица земли. Войны, болезни, ряд других причин — и их не стало.
— Всех до одного?
— Кое-кто остался. Несчастные люди бежали из родных мест, рассеялись по свету, но осталась их письменность.
— Интересно-то как!
— Были этруски в Греции, критяне на острове Крит, народ майя в Америке, на острове Пасхи, и ни один человек не может прочитать, о чем они писали на своих глиняных пластинках, каменных плитах, на деревянных дощечках или на стенках сосудов.
— Вот вы и прочитаете! Может быть, там что-нибудь такое, про сокровища, про клады! А?
— Сокровища? Может, и, сокровища, а теперь посиди спокойно, а я подумаю над цифрами.
— Ладно, дядя Герман. Посижу, только скажите, цифры на каком языке надо разгадывать.
— На немецком. Их надо превратить в немецкие слова.
— Ясно, вы говорили, в чем дело. Превращайте, а я еще раз посмотрю книжку.
Мальчик стал переворачивать страницы толстого учебника, а радист, будто забыв о загадочных цифрах, уставился на приборную доску.
Лешка вяло перелистывает книгу с непонятными формулами и рисунками, а сам думает: «Разве так решают задачи, да еще на немецком языке, тут на русском-то нелегко, а на немецком, наверное, и того труднее; слава богу, я знаю, как это делается: четыре класса окончил в Севастополе, надо про себя повторять, лоб морщинить или хотя бы грызть карандаш — тоже здорово помогает, а он улыбается и уставился в одну точку. Нет, так дело не пойдет».
— Дядя Герман!
Молчание.
— Дядя Герман!
— Тсс, — Герман Иванович поднял палец и перевел взгляд с приборной доски на иллюминатор. Внезапно он схватил карандаш, стал писать непонятные слова и тут же их зачеркнул.
Лешка неодобрительно покачал головой и, чтобы понапрасну не расстраиваться, вышел из каюты и нос к носу столкнулся с унтер-офицером — Грызловым.
Унтер осклабился и, звякнув в кармане ключами, сказал:
— Алексей, божий человек. Науку постигаешь? Давай, давай, хорошее дело. Да только и службу не забывай. Ты в подвахте сейчас?
— Так точно, гражданин унтерцер!
— Молодец, иди на воздух, нечего здесь в духоте вертеться.
— Есть! — Алешка козырнул, повернулся кругом и побежал по коридору к трапу, думая: «А сам-то чего здесь околачиваешься».
На баке он нашел Зуйкова, курившего в большой компании матросов. Здесь находился и Гринька Смит, переодетый в полотняную робу русского матроса. К зависти многих матросов, он курил свою фарфоровую трубку в виде русалки и уже начинал жадно прислушиваться к разговорам: он уже понемногу стал понимать русскую речь. Свободные от вахты расселись вокруг обреза с водой, куда бросали окурки, стряхивали пепел и выбивали золу из трубок. Мальчик рассказал о радисте, решающем задачи, и встрече с Грызловым.
— Говоришь, ключами в кармане звенел? — спросил Громов. — Что за ключи?
— Не знаю.
— Пусть звенит, как собака цепью, — махнул рукой Зуйков. — Они теперь хвост поджали, как мы от Бульдожки вырвались. Так, говоришь, решает?
— Решает, дядя Спиридон. Только разве так решают: уставился в стенку, а потом в иллюминатор, и все.
— Для него и стена — книга. — Зуйков прищелкнул языком. — Во мужик! Ледащенький такой с виду, а в голове ума на три линкора хватит. Куда ни придем, хоть к французам, хоть к англичанам, хоть черт те к кому, а ему все равно, со всеми разговоры ведет, как будто там родился. И фамилия у него такая чудная — Лебедь, а сам рыжий, вот после этого иди и разберись в человеке, — неожиданно закончил Зуйков.
— Скоро с вестями придет, — сказал Трушин. — Чтой-то там у нас сегодня, братцы, дома делается?
Еще минут десять после ухода гонги радист сосредоточенно смотрел в одну точку, видя только цифры в различных комбинациях. Они роились у него перед глазами, выстраивались рядами, перескакивали с места на место и опять становились в немые строки.
С третьего курса физико-математического факультета он стал писать работу о теории чисел, у него родилось тогда несколько оригинальных идей, которые он сейчас пытался применить, разгадывая немецкий шифр. Задача оказалась чрезвычайно трудной, а трудности всегда привлекали его. Он вытащил таблицу, на которой каждая буква немецкого алфавита повторялась по сто раз, и, поворачивая ее, принялся насвистывать какую-то веселую мелодию.
Дверь приотворилась, и в щель заглянул Феклин:
— Герман Иваныч! А Герман Иваныч!
— Феклин! Заходи, друг, и садись.
— Нельзя, Герман Иваныч. Командир и капитан-лейтенант ждут. Время-то вышло! Как бы нагоняй вам не схватить.
— Вот спасибо, брат, иду, иду. Только минутку. Сейчас. Важное, брат, дело, скажи им. Сейчас. Нет, не то, ну идем.
— Фуражку наденьте. Опять взбучка будет.
— Ничего, какая там фуражка, я потерял ее еще в Бресте.
— Вот дела! Потерял! Ну и смехота! Только вы не козыряйте без фуражки. Получается, будто мух ловите!
— Мух, говоришь? Смехота?
— Прямо цирк устраиваете. Зачем дверь стали закрывать? Никак, воры завелись?
— Хуже, Феклин…
На мостике кроме командира и старшего офицера находились барон фон Гиллер и лейтенант Фелимор. Клипер. шел фордевинд — слабый ветер дул прямо в корму, палуба была ровной и только слегка поднималась и опускалась на малой волне. Над задней частью мостика, где стояло командирское кресло, растянули тент, и Воин Андреевич, укрытый от солнца, благодушно спорил с Фелимором и Гиллером о причинах возвышения Рима и приведших его к падению.
Фелимор считал, что Рим просто состарился.
— Как отец, он воспитал другие народы, они выросли, окрепли и отпали от империй, и Рим состарился, одинокий, всеми покинутый, и умер.
Воину Андреевичу очень понравилась точка зрения английского лейтенанта.
— Просто! В конце концов так оно и есть, да вы не учитываете сложнейших событий, характеров войн, возникновения христианства, влияния отдельных человеческих личностей на ход исторического процесса. И нельзя не согласиться, что возраст тоже сыграл немалую роль. Все имеет свой конец. Вы не согласны, капитан-цурзее?
— Да, совершенно не согласен. Гибель всех великих империй происходила исключительно из-за мягкотелости правителей и правящих партий.
— Мягкотелость? — Воин Андреевич даже приподнялся в кресле. — Если римские императоры, такие, как Сулла, Нерон, да и все двенадцать цезарей отличались мягкотелостью, то что же тогда назвать жестокостью?
— Отдельные акции римских императоров носят частный характер, христиан тысячами сжигали на крестах, уничтожали в римских цирках, а христианство процветало. Народам, завоеванным римлянами, предоставлялось право самоуправления, что приводило к восстаниям. Вспомните восстание в Иудее в 66 году, подорвавшее впервые римское могущество. Необходимо было создать режим, при котором восстания невозможны.
— Что за режим?
— Диктатуру патрициев. Уничтожить все неполноценные народы, и в первую очередь всех до одного евреев, пролетариев, паразитические народы, вроде цыган. Остаться должны были только лучшие из патрициев, не затронутые идеями равенства, и плебеи как основа нации, из которых следовало формировать все подсобные органы власти. Покончить с демократией для рабов и подвластных народов. Все они или уничтожаются, или делаются послушной живой машиной. Для них единственный закон, карающий за всякое нарушение дисциплины, только смерть. Я уверен, что при такой организации Рим просуществовал бы еще много веков.
— До каких же пор? — спросил старший офицер.
— Пока не появился бы народ, действительно достойный управлять миром.
— Тевтоны?
— Да!
— Вы как будто сделали такую попытку, — сказал старший офицер, — и, как видите, из нее ничего не вышло, кроме бесчисленных жертв и невиданных разрушений.
— Еще ничего не известно.
— Вы надеетесь на победу?
— Да. Даже если не сейчас, то через десять, двадцать лет!
Командир прервал спор, сказав:
— Страшная у вас философия, герр капитан-цурзее. Беспардонное рабство какое-то. Государство палачей. Нет уж, такое не получится. Надо уничтожпиь всю цивилизацию, чтобы создать подобное безобразие.
— Возможно.
— М-да, но вот, слава богу, идет наш ученый радиотехник, он же математик и лингвист, несет нам последние новости. Каких только ужасов вы ни наговорили, а не испортили настроение. У меня такое состояние, что мы ушли далеко, далеко от всех треволнений и несчастий и находимся сейчас где-то на другой планете, а когда вернемся домой, то там все и образуется. И вам станет неудобно за такие несообразные мысли, капитан-цурзее.
Фон Гиллер, сверкнув золотыми зубами, сказал многозначительно:
— Как часто мы ошибаемся в своих расчетах.
— Вот это уже из другой оперы, капитан-цурзее. Но послушаем вестника эфира.
Радист сделал попытку доложить по уставу, и на этот раз командир остановил его и даже не сделал обычного замечания о головном уборе.
— Ну что новенького? Говорите по-английски, Герман Иванович.
— У меня есть сообщение, с которым, может быть, не следует всех знакомить?
— Ну, батенька мой, какой это секрет, если он летает по воздуху? К тому же мы изолированы от всего мира. Ничего, говорите.
Старший офицер неодобрительно покрутил головой.
— Немецкие войска начали наступление на Одессу. На Западном фронте без перемен. Английская радиостанция из Лондона ищет корабль, сообщивший о гибели «Грейхаунда».
— Вы промолчали?
— Да.
— Правильно сделали. Ну а что-нибудь о Москве, Петрограде удалось перехватить?
— Нет. Я был занят другим, мне кажется, очень важным для нас делом, — радист посмотрел на барона фон Гиллера, с подчеркнуто невозмутимым видом пощипывающего свою дегтярно-черную бородку.
— Продолжайте, Герман Иванович.
— Несколько дней, как я слежу за одной радиостанцией в Тихом океане. Она приближается к нам и четыре раза в сутки ведет переговоры с Гамбургской станцией.
— Говорите, приближается?
Фон Гиллер с нескрываемым интересом слушал.
— Да, с каждым сеансом передачи сигналы слышатся явственней.
— Идет встречным курсом?
— Да.
— Передает шифровки? Не поддаются?
— Пока нет.
— Не срабатывает система?
— Трудно, но есть подходы к решению.
— Ну вот и хорошо. Используйте вашу теорию чисел, а мы пока изменим курс. Для нас не так уж важно, что содержится в цифрах шифровок. Надо уйти от зла и сотворить благо. Сколько, вы думаете, миль до этой станции?
— Шестьсот, восемьсот.
— Для нас весьма нежелательная встреча. Будь это даже простой грузовик, на нем также может находиться пара пушчонок. Как вы думаете, герр капитан-цурзее, могут быть пушки на вашем транспорте?
— Возможно. Хотя если это транспорт, то опасности нет никакой. И немецкий ли он? Скорее всего — американский. Мы находимся в южноамериканских водах. Возможно, бразилец?
— Шифр немецкий, — сказал радист.
— Но вы могли и ошибиться?
Радист пожал плечами, а командир сказал:
— Ошибки здесь быть но может. Наш радиотелеграфист дока по части шифров, не перепутает. Судя по хорошо налаженной связи, к нам приближается если не транспортное судно с важным грузом, то один из уцелевших рейдеров или субмарина.
Барон фон Гиллер ответил, сопровождая речь золотозубой улыбкой:
— Сомневаюсь. Как вы знаете, почти все наши крейсера, выполнявшие роль рейдеров, погибли, а немецкие субмарины никогда еще не были в широтах, где ходят только парусники.
— Береженого и бог бережет. Николай Павлович, давайте изменим курс по второму варианту и поставим лисель-спирты и трисели. Как думаете? Ветерок дивно хорош!
— Есть, изменить курс по второму варианту и поднять лисель-спирты! — весело повторил приказание старший офицер: добавочные паруса — лисель-спирты были его слабостью. Тогда клипер одевался во всю свою парусину и был чудо как хорош, если смотреть на него со стороны. И старший офицер, подойдя к перилам мостика, подал команду звучным голосом:
— По местам!..
Фон Гиллер, покусывая губы и улыбаясь, наблюдал, с какой непостижимой ловкостью матросы работают на реях и, главное, делают это с охотой, весело. Он подумал: «То же самое, так же и даже лучше они могли бы выполнять при другом капитане, хотя бы при мне. Улыбку на работе я бы карал плетьми, как было у них, кажется, до отмены крепостного права, я читал, что русские тогда были непревзойденными моряками».
Фон Гиллер искоса посматривал, как поворачивалась картушка компаса, пока наконец не остановилась на курсе.
«Восемь румбов», — определил он. На восемь румбов южнее взял «Орион». И теперь, слегка накренясь на левый борт, бежал почти прямо на юг, уходя от роковой встречи.
Фон Гиллер медленно направился к трапу. Радист, склонившись, слушал командира, расплываясь в улыбке. Все это было весьма кстати. Затем этот рыжий большевик пойдет знакомить матросов с новостями и вести агитацию среди них.
Он пошел быстрее. Фон Гиллер боялся упустить необыкновенную удачу. Надо же было так совпасть обстоятельствам, что как только он надел наушники, то через какую-то минуту — другую услышал знакомые позывные. Он знал о печальной участи «Хервега». Крейсер, лишенный баз, доживал свои дни. С небольшим запасом угля, без продовольствия, он скитался по нейтральным портам Южной Америки и везде получал отказ в снабжении. В Аргентине, Чили, Бразилии капитану «Хервега» предлагали убежище до окончания войны, и только с условием, что он выходит из игры.
«Орион» начинен продуктами. В его бункерах двести тонн угля. Немного для крейсера, да все же лучше, чем ничего. Рейдер выйдет на азиатские линии и там отбункируется, захватив один из английских транспортов.
Ключ от каюты радиста, доставленный Новикову унтер-офицером, лежал в кармане у фон Гиллера.
В коридоре встретился ему вестовой командира клипера, спешивший на бак, потом показался тот самый унтер-офицер, что принес ключ. Грызлов осклабился и сказал:
— Действуй, ваше благородие! Я здесь помаячу. Чуть чего — стукну, — Грызлов постучал по стенке. Взял у Гиллера ключ, открыл двери радиорубки. — Давай, сатана нерусская.
Гиллер понимающе закивал головой:
— Карашо. Карашо.
В радиорубке он сразу надел наушники и удивился, не услышав характерного потрескивания и шума. Нет, рубильник был включен. Гиллер стал искать причину повреждения. Скоро он догадался, что дело тут не в повреждении, просто радист отключил ток от батарей или где-то прервал цепь. Провозившись минут десять, он открыл стол радиста и сразу увидел листок с шифром.
Забыв обо всем, он полез в карман и вытащил книжку в черном кожаном переплете. Да, он не ошибся. Это был знакомый шифр. Он уже расшифровал первую строчку, как раздался стук в дверь. Фон Гиллер бросился из радиорубки.
Унтер-офицер Грызлов закрыл дверь на ключ и сказал, насмешливо щурясь:
— Ну что, передрейфил? Тоже мне секретчик! Язви те в печенки.
— Постой, отдай ключ. Там мой блокнот! — срывающимся голосом забормотал фон Гиллер, стараясь вырвать ключ.
Грызлов его оттолкнул:
— Уйди, дура нерусская! Слышишь, Лебедь уже топает, стало быть. На нас зырит.
По коридору торопливо шел радист и, подозрительно оглядев Грызлова и немца, спросил:
— Вы ко мне, герр Гиллер?
Всегда находчивый и смелый до наглости, барон на этот раз растерялся. Пробормотав что-то себе под нос, он кинулся к Новикову. Влетел в ого каюту и остановился, тяжело дыша. Новиков, по обшеггопечшю, лежал на койке. Не поворачивая головы, спросил:
— Ну?
— Все погибло! Хотя нет! Вставайте!
— Говорите толком и без нервов, как полагается нормальному сверхчеловеку.
— Извините… Прошу вас, встаньте и немедленно идите к этому радисту. Только от вас теперь все зависит. Там я оставил свой блокнот. Но встаньте же!
— И не подумаю, пока не объясните, что за блокнот и зачем вы его там оставили.
— Вы меня убьете и сами погибнете.
— Ну положим. Я слушаю.
— Да, да, я опять погорячился. У меня был блокнот.
— В черном кожаном переплете? Хотя вы ни разу мне его не показывали, я знал о его существовании.
— Так вы проверяли мои карманы?
— Барон! — Артиллерийский офицер сел. — Я видел его мельком в ваших руках.
— Извините. Мы теряем время. Да, тот самый. Только эта книжечка да часы остались у меня после катастрофы. Книжка сохранилась, потому что лежала в резиновом чехле, часы остановились, да их починил ваш матрос.
— И у нас есть дельные люди.
— О да! Безусловно. — Барон фон Гиллер стал сбивчиво рассказывать, как он оставил блокнот на столе радиста.
— Шляпа! — заключил Новиков, вставая с кровати. — Вам нечего было терять, когда этот рыжий социалист приглашал вас в свою каюту.
— Приглашал? Ах да!
— Вы могли снова войти туда и взять свой драгоценный блокнот. Даже отнять и затем уничтожить или отдать мне. Так говорите, там шифр? Час от часу не легче! И вы меня не посвятили, что у вас имеется шифр?
— Не хотел подвергать риску.
— Не хотел! Ну и в историю мы попали. И как он у вас очутился? Я думал, вы поддерживали связь открытым текстом.
— Да, открытым. Шифр у меня был записан на всякий случай и как память. Война скоро кончится. Для посторонних это просто таблица цифр — не больше, но там мои записи, фотографии. Вот что меня тревожит, а шифр они не разгадают и ничто не заставит меня его раскрыть.
— Этого и не потребуется теперь. Радист сделает ото и без вашей помощи.
— Вы шутите?
— Нисколько. Этот комический с виду субъект — человек огромных способностей. Он давно пытается найти ключ к вашему шифру, просто из спортивного интереса, а тут такая находка! И говорите, в столе шифровки с рейдера?
— Да, да! Идите! Может, вы возьмете его.
— Сомневаюсь, но попробую.
— Не останавливайтесь ни перед чем!
— Легко сказать…
Все это время Грызлов стоял у дверей каюты, с интересом прислушиваясь к «горготанию» начальства, и ждал дальнейших распоряжений.
Новиков приказал:
— Не выпускай его до моего прихода!
Унтер-офицер Грызлов и барон фон Гиллер остались вдвоем. Грызлов стоял, заслонив своей кряжистой фигурой весь дверной проем. Барон то садился на диван, то вскакивал. Наконец, взяв себя в руки, он остановился против унтер-офицера и вперил в него свой ненавидящий взгляд, чтобы навсегда запомнить это скуластое, насмешливое лицо. Барон Фридрих фон Гиллер никому не прощал неуважительного к себе отношения, тем более оскорблений, да еще от нижнего чина.
Через несколько минут Новиков вернулся и, мотнув головой, отпустил унтер-офицера. Прежде чем уйти, Грызлов подмигнул и, скорчив гримасу, развел руками:
— Совсем того наш помощничек.
— Не тебе судить. Марш!
— Ключ! — прошептал барон фон Гиллер.
Забрав у Грызлова ключ от радиорубки, Новиков сказал, пряча его в карман:
— Заходил я к Лебедю. Вашей книжки уже нет на столе, и кондуктор держится настороженно.
— Вы даже не попытались дознаться, где она, и отнять?
— Там находились матросы, да если бы их и не было, то я никогда не пошел бы на такое сомнительное предприятие.
— Надо идти на все!
— Вот и идите. Я не могу бессмысленно рисковать головой. Не надо было уши развешивать.
— Майн гот! Не говорите со мной так. У нас общее страшное несчастье! Надо что-то предпринимать, не то будет поздно!
— Без паники, барон. Постарайтесь найти объяснение, каким образом ваша книжка попала в радиокаюту. Возможно, вы ее потеряли или ее похитили?
— Вы думаете, поверят?
— Конечно нет. Но у вас должна быть оправдательная версия или как там это называется на языке высшей дипломатии? Короче говоря, врите поскладней. Ну что вам они могут сделать?
— Шифр! — со стоном в голосе сказал барон фон Гиллер.
— Только шифр меня и беспокоит, остальное — пустяки. Найдите версию поубедительнее, для чего вы списали его себе! Ясно, что у вас не было заранее предусмотренной цели пробраться на русский флот, тем более таким рискованным способом. Надо надеяться, что обойдется, как принято говорить у нас. — «Обойдется» он сказал по-русски. — И надо принять контрмеры. И прежде всего — выпить, не хотите?
— Нет!
К барону медленно возвращалась надежда, что все действительно обойдется, а вместе с надеждой и прежняя самоуверенность. Он сказал, брезгливо следя, как его сообщник палил и выпил стопку водки:
— Надо немедленно действовать, принимать контрмеры, как вы справедливо только что сказали.
— Бр-р! Хороша! Продолжайте, барон.
— Следует обезвредить радиста. В противном случае я не смогу держать связь с крейсером. Мне надо час ила два, чтобы найти место размыкания в цепи. Иначе…
Новиков повалился на койку и сказал, потягиваясь:
— Проклятый социалист. Что-то у меня стало шуметь в голове от одной рюмки.
— К сожалению, вы пьете не по одной.
— Отставить! Вы что, предлагаете списать его за борт? Это можно. Хотя…
— Лучше всего…
— Можно, да сложновато. На палубе всегда матросы, а в иллюминатор его не просунешь. Надо сработать чисто.
— Тогда следует вывести его из строя хотя бы на сутки.
— Из строя? Пожалуй, можно. Недавно матроса из моего расчета снесли в лазарет, блоком задело.
— Меня не интересуют другие матросы!..
— Оставьте этот заносчивый тон, барон, а не то пошлю ко всем чертям и вас, и ваш рейдер. Ведь, если хотите знать, я сейчас занимаюсь этими гадостями из одного самолюбия. И вообще, вы действуете мне на нервную систему, о чем я не раз уже говорил вам. В вас так и сквозит собственное превосходство, а в чем оно — вы и сами не знаете. Просто в излишнем тевтонском самомнении.
Барон фон Гиллер скрипнул зубами:
— Извините…
— Вот это другое дело.
— Я так взволнован и огорчен, мы можем упустить неповторимый случай, и тогда этот прекрасный корабль попадет к большевикам.
— Я уже не знаю, что лучше.
— Но, но, не будем ссориться. Дайте вашу честную руку и будем верными до конца нашим принципам и законам дружбы.
— Ну понесли шелуху. Хорошо. Я поговорю с нужными, людьми, а вы пока не шляйтесь по кораблю и не заглядывайте ни на мостик, ни в штурманскую.
— Причина, герр Новиков?
— «Утерянная» книжка и шифр!
— Я верю в свою звезду. Не тревожьтесь за меня.
Новиков с удивлением окинул ого взглядом:
— Редкий вы тин. Все же советую сидеть со своей счастливой звездой и никуда носа но высовывать. Ишь как положило на борт из-за этого рыжего пентюха.
— Пентюха? — не понял барон фон Гиллер. — Что это за термин? Так называется его должность по-русски?
— Сами вы пентюх. А еще высшая раса. Сидите и не рыпайтесь — это тоже по-русски. Счастливо оставаться.
Развалясь на диване, капитан-цурзее стал неприязненно думать о Новикове. Артиллерийского офицера явно начинали мучить сомнения. Он мог в любой момент совершить непоправимый поступок, и все из-за славянской мягкотелости, склонности к самоанализу и раскаянию. «Что, если он сейчас псе рассказывает капитану? Кается? Как тот гардемарин. Нет, тот раскаивался с долью, чтобы добиться своего. Вполне извинительное „раскаяние“. Новиков же может пойти на все, без всякой выгоды для себя, даже во вред себе и особенно мне. Как я мог оставить шифр? Что мне может быть за это, если еще и Новиков раскается? По законам военного времени — расстрел! Но эти люди не смогут, по посмеют убить меня, особенно капитан, он слишком мягок для этого, если бы все зависело от старшего офицера, тог бы но задумался ни на секунду. Слава богу, что он не вручил мою судьбу такому человеку. Я всегда верил в свою звезду, даже когда очутился за бортом субмарины».
Капитан без тени сожаления подумал о несчастном лейтенанте Лемане, найдя в нем сходные черты с некоторыми русскими на клипере, и вывел заключение, что такой тип людей враждебен ему по своей природе. Затем он стал думать о том миге, когда матросы на марсе заметят «Хервег» и командир клипера вынужден будет сдаться на милость победителя. И все благодаря находчивости, верности долгу и высокой цели, которой он, Гиллер, служит и будет служить всегда.
Барон Фридрих фон Гиллер под монотонный плеск волн уснул. Ему приснилось, что он, овеянный славой, вернулся в милую сердцу Германию. Запруженные народом улицы, цветы. В разгар триумфа послышался знакомый омерзительно-насмешливый голос, от которого по коже побежали мурашки и выступил пот на лбу:
— Спите? Самое время для сна, как вы однажды верно заметили.
Он открыл глаза и, еще находясь под властью сна, спросил:
— Ах, вы? Ну как, удалось?
— Скоро захотели. Пока ведется подготовка. Слышите?
— Да, какой-то мягкий стук. Что это?
— Конопатят палубу на баке.
— Какое ото имеет отношение к нашим планам?
— Прямое. После того как швы проконопатят, их заливают варом.
— Варом? Расплавленным?
— Нет, замороженным.
— Не шутите! Я понимаю. Расплавленный вар — неплохое средство. Если к тому времени ваши люди не подвергнутся агитации.
— Не бойтесь, они сами неплохие агитаторы.
— Отлично! — Гиллер прислушался к мелодичному шуму волн за бортом. — Ветер стих.
— Удивительная погода. Ветерок ровный. Мы делаем до десяти узлов в сторону от курса вашего рейдера и можем изрядно натянуть ему нос.
— Теперь он и ваш.
— Нет уж! Я действую из политических и принципиальных соображений, но никогда не перейду полностью в стан врага. Просто на данном отрезке времени наши интересы совпали.
— Мне нравится ваша прямота. Похвально! Вы достойный противник и верный друг.
Новиков усмехнулся.
Барон, глядя в иллюминатор, не видел этой усмешки и продолжал, поощренный его молчанием:
— Наши разногласия и мелкие ссоры — результат нервного состояния. У меня лично никогда не были так напряжены нервы, как сейчас. Даже в самые страшные минуты!
— Все это лирика, барон. И так как теперь работают на нас силы, которыми мы не можем руководить, — он поднял палец, — ее величество судьба, то не плохо бы нам выпить за успех…
В это время над головой послышался топот, встревоженные голоса матросов, вызывавших доктора.
Новиков приоткрыл дверь и позвал вестового. Чирков не отозвался.
— Чирков! — рявкнул Новиков. И, опять не получив никакого ответа, сказал: — Он там, на месте происшествия.
Барон фон Гиллер нервно потер руки и сказал:
— Да, вашим людям можно иногда доверять. Кажется, удалось, если…
— Что «если»?
— Если его не положат в радиокаюту.
— Не бойтесь, у нас прекрасный лазарет. Вы сами могли убедиться в этом.
— Да, но мне думалось, что только для офицеров.
— Перед болезнью и смертью все равны.
Фон Гиллер сделал неодобрительную гримасу и положил руку Новикову на плечо:
— Помните, дорогой артиллериум офицер, что люди не равны — вот истина, которую не понимают социалисты. Только четкая грань между людьми приводит к порядку и счастью.
Новиков снял его руку со своего плеча:
— И я за порядок, против хаоса и беззакония, поэтому иду на все тяжкие и вот ввязался с вами в сомнительную авантюру.
— Никаких сомнений! Сомнения — яд! Они лишали силы титанов. Все будет отлично! Только — никаких сомнений. — Гиллер заходил по каюте, сжимая бороду в руке. Остановился и, вперив взгляд в своего собеседника, проговорил, прислушиваясь к шуму на палубе: — Пройдет немного времени, и вы поймете все значение наших с вами усилий, первых шагов на пути к достижению великой цели.
— Оставьте, барон, ваш тон чревовещателя и «великие цели». Цель у нас пока далеко не великая — изуродовать весьма приличного человека.
— Приличного? Он или еврей, или у него предками были евреи. Поверьте мне!
— А вы можете поручиться за своих прабабушек?
— Что за вопрос? Неужели вы не считаете., бестактным бросать, пусть даже в шутку, такие обвинения?
— Ах, оставьте, барон. — Новиков прислушался к шагам на палубе: — Кажется, мы сделали паше черное дело. — Он выглянул в дверь. Мимо проходил бодрой походкой вестовой командира клипера.
— Феклин!
— Я, ваше благородие! — весело ответил вестовой, упирая на «ваше благородие», и добавил совсем панибратски: — Здравия желаю! Погодка — лето летнее. По нашим местам только сохи готовят, а тут хоть урожай собирай.
— Ладно, сохи… Ты моего остолопа не видел?
— Харитона Чиркова?
— Как будто не знаешь, о ком спрашиваю. Где он? Пошли его ко мне немедленно!
— Есть! Да только он в лазарете сейчас.
— Что он там делает?
— Малость варом задело. Брызги, сами знаете, от вара, если прилипнут, только с кожей отстанут. Да вы не бойтесь, у него пустяк, меня вон тоже задело, да я только поплевал на локоть, а его бинтуют. Другому больше попало, все ноги обдало.
— Кому?
Артиллерийский офицер был первым слушателем, которому Феклин рассказывал о происшествии на баке, и потому старался передать все как можно точнее.
«Хоть и с душком их благородие, — подумал матрос, — а вот остановил, расспрашивает по-хорошему, и то правда сказать, какое ему утешение от этого чернобородого немца-зануды, ишь как глаза на меня пялит и зубами сверкает».
— Заходи в каюту и говори, только короче.
— Можно и покороче, — с обидой сказал Феклин. — Нам как вам угодно, короче так короче. От длинноты, конечно, какой толк, ваше благородие, одна трескотня.
— Ну?
— Если короче хотите, так его варом ошпарили, ваше благородие. Ну как водится после конопатки, вар разогрели. Народу на баке, сами знаете, как на сходе, да тут еще нашего Германа Ивановича позвали, он лясы точит про всякие новости, про земельный, значит, декрет да про окончание войны, какая, значит, жизнь настанет для нашего брата.
— Хватит про жизнь. Сильно ошпарили?
— По первое число. Хоть на руках теперь ходи. Грызлов, стало быть, нес котел, хотя не его это унтер-церское дело, у Гаврикова отнял и сам понес. Ну и споткнулся, вар-то и на палубу, кому на ножки, вот мне на руку.
— Хорошо, Феклин, иди. Только непонятно мне, почему у тебя такая рожа веселая? Твоего первого дружка-приятеля в лазарет снесли, ноги обварили, а ты, как именинник, весел?
— О каком вы дружке, ваше благородие?
— Конечно, о кондукторе Лебеде. Жаль человека, он способный, как теперь мы будем жить без его новостей.
Феклин залился смехом:
— Ну, ваше благородие, скажете тоже! Кто это вам наклепал такую напраслину? Герману Ивановичу хоть бы хны! Ведь Грызлов, когда споткнулся на ровном месте и котел с варом стал ронять на Германа Ивановича, а Трушин как пнет котел ногой, да прямо на Бревешкина. Ух к взвыл младший боцман! Заматерился так, что наши полегли было, а потом глядят: у него со штанами кожа с коленок сходит. Заплакал, и так жалостливо, прямо по-человечески и говорит: «Так мне и надо, свинье собачьей, верблюжьему выродку, сучьему потроху». Ну мы его взяли и, как малое дите, отнесли в лазарет. Вот так оно случилось, а вы — Лебедь! За Лебедя мы во как стоим! Да если бы Грызлов, не дай бог, на него вылил, то растоптали бы в лепешку — и за борт. Так что разрешите идти, ваше благородие?
— Постой! Так и сказал «сучий потрох»?
— Не только, «потрох» — самое, так сказать, нежное у него слово. Совесть, видно, пробудилась, письмо, к Бульдожке вспомнил!
— В этом не его вина.
— Как не его? Весь клипер знает про письмо.
— Он действовал по моему приказу. Я за все и отвечаю. Письмо писал я! Понял?
— Как не понять. Разрешите идти?
— Постой. — Артиллерийский офицер помолчал, покусывая тонкие губы. — Видишь ли, брат, я знаю, что говорят про меня среди матросов, не все, конечно, но разговор идет, что я чуть не предал клипер, и не могут понять, что я хотел избавить вас от длительного ненужного похода, вернуть в Россию самым коротким путем.
— Теперь Россия России — рознь, — сказал Феклин и посмотрел на немца. Барон фон Гиллер, развалившись на диване и брезгливо поджав губы, смотрел в иллюминатор.
— Я хочу, чтобы розни не было, — сказал Новиков и тоже покосился на барона.
— И мы за то. Кому нужны рознь да свара? Да только дело это наше, не английское, сами и разберемся.
— Ты большевик?
— Нет еще, сочувствующий только. Вот как придем домой, поприсмотрюсь, и если нету лучшей партии, то и запишусь в большевики.
Новиков сказал тихо, с яростью:
— Вон! — И устало опустился на койку. Он молчал, пока барон фон Гиллер но спросил:
— Дурные вести, герр лейтенант?
— План не удался. Радист невредим. В рубашке родился.
— Как-как? В какой рубашке?
— Неужели не понятно: не на того вылили.
— Проклятье! И вы целых пятнадцать минут выслушивали это известие от матроса, который смеялся над вами? Позор для офицера!
— Замолчите, барон. Мне все это начинает надоедать, особенно ваши диктаторские замашки, о чем я уже имел честь уведомить вас.
— Но вы понимаете!..
— Вполне. Если говорить начистоту, то даже испытываю облегчение, узнав, что все так получилось. Чем дальше мы уходим от берегов Европы, особенно от Англии, тем наша затея все больше вызывает сомнений. Впервые вот сейчас, разговаривая с вестовым, я задумался: а что будет со всей командой, когда нас захватит капитан Рюккерт? В лучшем случае нам разрешат воспользоваться шлюпками, и то я сильно сомневаюсь.
— Слово офицера!
— Пустой звук. Знаете, что про вас говорят матросы?
— Понятия не имею и не интересуюсь мнением ваших матросов.
— Зря. Они говорят, что вы утопили своего друга. Стоило вам протянуть руку, и он бы остался жив.
— Он не был мне другом, жалкий нытик. Погиб потому, что не хватило воли продержаться еще несколько минут. Я тоже потерял силы, у меня окоченели руки, но, как видите, выстоял!
— Находясь в центре спасательного круга. Почему вы не уступили его, хотя бы на последние минуты? Ну, хватит! Вы вынудили меня, и я напомнил об этом досадном случае. Человек многогранен… Признаться, некоторые ваши грани у меня но вызывают симпатий.
— Так вы прекращаете борьбу, когда спасение так близко? Подумайте о ваших убеждениях, о данном слове, о чести офицера!
— Вот эти-то привитые с детства понятия и мешают мне продолжать. Давайте ликвидируем нашу организацию. Пока, и посмотрим, как будут развиваться события, особенно в английских и голландских колониальных водах. Впереди Голландская Индия, Сингапур, Гонконг.
— У меня нет ничего, кроме горьких слов и возмущения. Все же я постараюсь понять вас. Но у меня есть еще один план. Я гарантирую успех. Сегодня ночью мы с вами входим к радисту, связываем ого, и я передаю сведения на крейсер. К утру, развив максимальную скорость, он догонит нас. Вы слушаете меня?
Новиков выругался по-русски и отвернулся к стенке. Полежав так несколько минут, он повернулся к разъяренному барону:
— Не горячитесь, мой друг. На клипере только и разговору, что о вашей забывчивости. Ваш блокнот стал предметом пристального изучения. Так что поберегите энергию для объяснения с капитаном. Он хотя и добр и с виду — шляпа, но вы его еще не знаете. Не каждый бы решился на побег из Плимута и так блестяще прошел по Английскому каналу среди сторожевых кораблей.
— Объяснения? — сникая, спросил фон Гиллер. — О каких объяснениях вы говорите? Шифр?
— Именно. Уже идут разговоры среди офицеров. А теперь сядьте и молча обдумывайте, как будете выкручиваться. Я тоже хочу собраться с мыслями, мне, по всей вероятности, придется выступать в качестве свидетеля.
— Почему вы молчали?
— Не находил нужным. И по правде говоря, слегка жалел вас, не хотел расстраивать раньше времени. Теперь пришла пора подумать. Надеюсь, вы займетесь этим молча, а я тем временем немного отдохну в тишине.
— Какой эгоизм! — искренне возмутился барон фон Гиллер и уставился в иллюминатор.
— Вот и прекрасно, — сказал по без злорадства артиллерийский офицер.
Новиков оказался прав. Вечером пришел Феклин и, не скрывая радости, сказал:
— Ваше благородие, передайте своему квартиранту, что командир требует их на ферменную разделку. Ишь щерится, сукин кот! Сейчас ты у нас пощеришься.
Сердце у капитана-цурзее часто заколотилось, когда он вошел в кают-компанию. Во главе стола сидели командир, старший офицер, старший механик, радист, весело глядевший на вошедшего. Здесь же находились и другие офицеры, отец Исидор, несколько матросов. Скоро зашел и артиллерийский офицер и сел, понурив голову, на свое место за обеденным столом, рядом с гардемарином Бобриным, у которого был удивленно-испуганный вид.
Фон Гиллера подвели к «скамье подсудимого» — ящику из-под консервов, специально принесенному для этой цели, так как на корабле не было переносной мебели, все столы и стулья намертво привинчены к палубе.
— Садитесь, подсудимый! — четко сказал радист по-немецки.
— Все ото весьма странно. Какой-то фарс, — высокомерно сказал капитан, опускаясь на ящик. Раздался треск. Матросы засмеялись. Холодок пробежал по спине барона от этого смеха, он тоже слабо улыбнулся и, ища сочувствия, обвел взглядом присутствующих. Сочувствия он не обнаружил, только любопытство и холодную враждебность. За спиной у него стали два матроса. У них винтовки с примкнутыми штыками. Он вспомнил, что эти матросы шли за ним от самых дверей каюты, но тогда он не придал этому значения: корабль был военный и он часто видел матросов с винтовками.
Дело принимало скверный оборот, и он попросил командира объяснить, что все это значит. Тот ответил по-русски, а радист перевел:
— Вы находитесь в суде военного трибунала в качестве обвиняемого.
Фон Гиллер выразил недоумение: только сегодня он и все присутствующие здесь офицеры разговаривали с ним по-английски и великолепно понимали друг друга.
— Переведите: утром вы находились почти на правах члена нашего экипажа, хотя формально и являлись военнопленным, а сейчас мы обвиняем вас в шпионаже в пользу Германии и потому относимся к вам как к подсудимому. По законам нашей страны подсудимый может давать показания на своем языке, чтобы облегчить свою защиту.
Фон Гиллер далеко не был трусом, по сейчас перед явной угрозой смерти он еле держался на «скамье подсудимого» и попросил воды.
У него спрашивали имя, фамилию, год рождения, местожительство до призыва на флот, семейное положение — все как на суде. Старший офицер зачитал короткий обвинительный акт:
— Вам предъявляется обвинение в шпионаже и попытке нанести ущерб и даже уничтожить корабль и людей, которые спасли вас от смерти. Суд располагает доказательствами виновности подсудимого, бывшего командира немецкой подводной лодки У-12 капитана-цурзее барона Фридриха фон Гиллера.
Вызывались свидетели: юнга, матрос Феклин и еще радист, он же переводчик; были зачитаны четыре расшифрованные телеграммы, в одной из которых давались указания рейдеру захватить русский военный клипер «Орион» и действовать в отношении экипажа по своему усмотрению.
Вторая шифровка была донесением командира крейсера Рюккерта о том, что он «сближается с русским судном и захватит его в ближайшие сутки».
Третья шифровка — тоже донесение в штаб имперского флота — сообщала о печальном состоянии крейсера, потерявшего скорость вследствие изношенности машин и котлов, ограниченных запасов продовольствия и пресной воды.
В четвертой шифровке, переданной с подводной лодки У-32, курсирующей у берегов Британии, капитан Берман доносил об успешном потоплении тральщика.
Обвиняемый не признал себя виновным и довольно логично опроверг все обвинения. Он не знал и не мог знать, что где-то в океане находится крейсер, принадлежащий германскому военному флоту, телеграммы о русском клипере переданы, как заявил радист, Гамбургской радиостанцией. Последнее лишь свидетельствует о блестяще поставленной морской разведке, к которой он, капитан-цурзее фон Гиллер, к сожалению, не имеет никакого отношения. Что же касается того, будто оп мог передать координаты клипера, то, во-первых, он их ire знал, а во-вторых, он не умеет пользоваться радиоаппаратом в такой степени, чтобы передавать телеграммы. То, что он иногда надевал наушники, чтобы послушать «шумы в эфире», так на это дано разрешение командиром клипера. Что касается обвинения в укрытии шифра, то он, как офицер немецкого флота и честный патриот, не обязан был раскрывать эту тайну, в противном случае он стал бы изменником своей страны. К тому же в его записной книжке находился по полный шифр, а только часть его, он хотел переписать его весь, как намять о войне, зная, что она скоро окончится, и успел переписать только часть, катастрофа субмарины помешала осуществить это намерение. Шифр полностью восстановил уважаемый радиотехник, что надо считать далеко не заурядным явлением, и он поражен способностями этого выдающегося математика…
В конце судебного заседания подсудимый совсем оправился и на вопросы стал отвечать с улыбкой и сбивал свидетелей ловко поставленными контрвопросами.
— Прямо, как змея, из рук выскальзывает, — раздался голос Зуйкова. — Да что с ним время тянуть…
Командир призвал Зуйкова к порядку и объявил, что суд уходит на совещание для вынесения решения.
В своем салоне, за круглым столом, Воин Андреевич сказал:
— Плохие мы судьи. Обвинения рассыпаются. Нет неопровержимых улик. Я почти не сомневаюсь, друзья мои, в его виновности. Все же мы не можем оставить без внимания то обстоятельство, что обвиняемый не по своей воле попал к нам, и поэтому отпадает обвинение в «проникновении в воинское подразделение с умыслом сбора секретных сведений». Действительно, у него находилась часть шифра, но с ее помощью трудно составить вразумительное донесение. Даже невозможно! И хотя Герман Иванович уверяет обратное на основании своих действительно недюжинных математических способностей, все же подобное уверение не может служить доказательством в суде. Очень зыбко построены наши обвинения в том, что он проник в служебное помещение, то есть в радиорубку, с целью передачи шпионских сведений. Дело в том, что я разрешил ему посещать Германа Ивановича и слушать там в его наушники. Затем эта злосчастная записная книжка. Он говорит, что мог забыть свою книжку в прежний приход в каюту или потерять ее. То, что он так небрежно обращался с записной книжкой, якобы не придавая ей особой ценности, тоже говорит в его пользу. Понимаю, друзья, что вы сейчас думаете, слушая мою якобы оправдательную речь. Но мы обязаны строжайше подойти к решению о виновности. Безусловно, человек он не вызывающий особых симпатий, и все же так нельзя. Ведь мы должны или оправдать, или повесить его на рее как шпиона.
— Он бы нас не помиловал, — сказал старший офицер.
Старший механик Андрей Андреевич Куколь развел руками:
— Действительно, загвоздка! Будто бы и виноват, а улики зыбкие. Злосчастный шифр ведь у него неполный, да и никто не подтверждает, что он сочинял по нему телеграммы, так что я целиком согласен с мнением Воина Андреевича и думаю, что у нас пока нет оснований применять строгие меры. Вот так, господа! — Андрей Андреевич вспотел от волнения и стал вытирать лицо и лысину большим серым платком.
Старший офицер встал:
— Я все же считаю его виновным и требую смертной казни по закону военного времени. Такая мера необходима и для острастки наших соотечественников — авторов письма к адмиралу, а также как мера повышения дисциплины среди матросов, той части, что группируется вокруг Грызлова, Бревешкина, Брюшкова к. других, связанных с Новиковым.
— Я против таких мер, — сказал командир, закрывая лицо руками. — Получается, что мы следуем теории террора, выдвинутой этим бароном. Наш народ другой закваски. Может, вы и правы, Николай Павлович. Да не будем осквернять наш «Орион» черной тенью повешенного. На этот счет есть разные мнения, пусть это суеверие, да мы, моряки, суеверный народ. Давайте ограничим ему возможность передвижения по кораблю. Словом, выразим свое недоверие и спишем на берег при первой возможности. Дьявол его побери со всеми потрохами!
Этой сбивчивой и нелогичной защитной речью и была решена судьба барона фон Гиллера.
— Благодарите своих тевтонских богов, — сказал ему Новиков, когда они вернулись в каюту. — Основания у них были, чтобы вздернуть вас на рее, барон!
— Не радуйтесь: если бы они решили меня вздернуть, то и вы составили бы мне компанию.
Новиков пожал плечами и спросил устало:
— Почему я до сих пор терплю ваше общество?
— Мы родственные души, лейтенант. Да! Только вы немножко хлюпик. — Последнюю фразу он произнес по-русски и захохотал.
Длинное лицо Новикова с запавшими щеками вытянулось еще больше, он с неприязнью смотрел на хохочущего циника и думал, почему он, русский офицер, честный до недавнего времени, с безупречной репутацией, терпит этого человека, и не только терпит, а помогает ему в таком черном деле, увяз в нем и не находит выхода? «Пусть у меня благородные побуждения, но, как говорит отец Исидор, „злом не сотворишь добро“, хотя ведь наказывают же преступников и даже детей с целью исправить их. И все-таки, если говорить без обиняков, весь наш замысел благодаря причастности к делу Гиллера принял подлое направление».
— Именно подлое! — сказал по-русски Новиков и с ненавистью посмотрел на своего сообщника.
Барон внезапно оборвал смех.
— Извините, дорогой друг, за неуместное веселье. Сказывается нервный спад после пережитых минут. Действительно, мне грозила петля. И вот все позади! Я догадываюсь о ваших мыслях. Вы не правы, я лучше, чем иногда кажусь. Давайте забудем обо всем, что произошло. Отдадимся на волю судьбы и ее всегдашнего спутника — случая.
Ровный ветер
Близился восход солнца. В иллюминаторы матросского кубрика, открытые с наветренного, борта, вливались прохладный пропитанный запахами моря воздух и свет еще дремлющего океана. Во впадинах между волнами от густого синего, почти черного цвета гребни отливали перламутром, отражая цвет еще еле теплящейся зари. Дневальный ходил между рядами подвесных коек и с нетерпением ждал, когда пробьют склянки и он заорет ликующим голосом: «Падые-о-ом!» А пока, чтобы не вздремнуть за рундуком у трапа, он ходит между покачивающихся коек и отгоняет сон думами о доме, о дружках, что спят, разметавшись на пробковых матрацах, свесив вниз руки, стонут во сне.
Дневалил Роман Трушин. К морю он относился с недоверием, побаивался его, но человек он не робкого десятка и свои сомнения насчет моря прятал в себе. Любил он больше всего на свете степи, где родился в цыганском таборе, кочевал по неоглядным далям Таврии. В юности его потянуло в город, и он ушел. Все родные его перемерли от какой-то непонятной болезни, остался он да еще несколько цыган, приставших к другим таборам. А он подался в Одессу. Несколько лет лудил котлы, чинил примуса, потом поступил на завод. На призывной комиссии попросился «поближе к лошадям», но воинский начальник — толстый веселый человек — захохотал и сказал:
— Дурак, зачем тебе возиться с обозными клячами. Иди на флот. Во флоте ни одного цыгана нет. Еще до адмирала дослужишься. Пишите на флот!..
И стал Роман Трушин моряком. Парусный корабль Трушин полюбил. Что-то в нем было необузданное, буйное, он напоминал степного скакуна, летевшего напропалую через овраги и холмы с развевающейся гривой. Дух захватывало у Романа, когда он висел на рее над кипящей водой и, стиснув зубы, убирал, ставил паруса, брал рифы. Иногда, качаясь на рее, он пел дикие цыганские песни под аккомпанемент ветра, свистящего в снастях.
Плавать Роман не умел.
…Море пылало, впитывая цвет неба и зари. В кубрике стало совсем светло. Трушин выключил лампочку над трапом, прислушался к торопливым шагам боцманов на палубе. И вот в утренней тишине разлился медный звон рынды. Трушин сверкнул зубами и гаркнул во всю мочь: «Паадые-ом, соколики!» И только что мирно спавшая сотня людей слетела с коек, одевалась, сворачивала койки, переговариваясь глухими спросонья голосами.
— Ух и рявкаешь ты, Ромка, будто цыганским кнутом хлещешь, — сказал Зуйков, сворачивая койку в тугой цилиндр. — Прямо звон в ушах.
— Люблю голос показать, да здесь негде, разве на баке за песней да в шторм на рее. Быстро, моряки, быстро коечки в колбаску, без складочек! — гаркнул он и стал помогать Лешке Головину свертывать жесткую койку.
— Спасибо, я сам!
— Сам с усам. На, да живо на палубу! Охота последнему быть?
Большое помещение сразу стало казаться нежилым, и в него ворвались гулкие голоса волн и ветра.
На палубе шла ежедневная утренняя приборка.
Закатав штаны до колен, босые шеренги матросов терли торцами и без того белоснежную палубу, двое со шлангами смывали песок и мыльную пену, а за ними еще одна шеренга лопатила, выжимала досуха воду с поверхности палубного настила. Драили каждую медяшку так, чтобы она горела, как золотая. Словом, в разгаре та «кромешная» приборка, какая бывает только на военных кораблях. На «Орионе» сохранились еще традиции старого парусного флота, когда пятно на палубе или зеленый налет на медном поручне вгоняли в тоску боцманов и считались подлинным позором.
Запели боцманские дудки: «Становись!» Матросы в две шеренги выстроились на шканцах. На мостике появились офицеры в белоснежной форме, сверкало золото на рукавах и потопах. Вахтоппын начальник отдал рапорт командиру:
— На корабле все обстоит благополучно, личный состав в полном наличии, в госпитале — один человек, скорость клипера двенадцать с половиной узлов. За истекшие сутки пройдено двести шестьдесят миль.
Новый день на «Орионе» начался.
Вахтенные коротают время у своих мачт, впередсмотрящие не спускают глаз с ослепительной дали. Океан плавится на солнце, вспыхивают гребни волн. Ветер свежий, ровный. «Орион» несет все свои паруса. Поставлены даже лисель-спирты, вынесенные на тонких «деревьях», принайтованных к концам рей. Свежий, ровный ветер звенит в тугой парусине и в снастях. Белокрылый клипер легко скользит по синей воде, словно берет разбег перед взлетом, и кажется, стоит ему сделать еще небольшое усилие, и он оторвется от поверхности океана.
Старший офицер с главным боцманом обошли весь корабль. Везде образцовый порядок, старший офицер доволен, но не выражает своих чувств: так и должно быть на приличном военном корабле.
На юте матросы заняты такелажными работами. С ними Гарри Смит. Совсем недавно английский матрос считал себя хорошим такелажником, но, попав на клипер, с удивлением обнаружил, что отстает по всем статьям от русских моряков. В паре с матросом Чирковым он плетет мат. Гарри Смит вспотел от напряжения и задетого самолюбия. Чирков, ободряюще подмигивая и добродушно улыбаясь, все время его поправляет, стараясь передать очень хитрый и новый для Гарри способ плетения.
Прислонившись спиной к бухте манильского троса, дремал кочегар Гоша Анархист. Приоткрыв один глаз и глядя на Зуйкова с Лешкой Головиным, которые тоже плели мат, Свищ процедил сквозь зубы:
— Плетете коврик, а зачем?
Зуйков ответил:
— Чтобы ты, Гоша, идучи в гальюн, не посклизнулся и ножку себе не повредил.
— Поскользнусь — встану. Я к тому веду, что не время сейчас коврики плести.
Зуйков спросил:
— Ножи точить?
— В точку! Как говорит Мухта — готовить орудия уничтожения. Наш шарик земной должен быть чистеньким от старья и этих штучек-дрючек. Мы должны все старое уничтожить.
— Голышом остаться?
— Может, и голышом, кто хочет. Полная свобода личности.
Лешка прыснул. Матрос, сшивавший парус, замер с иглой в руке, с недоумением глядя на Свища. У матроса было круглое веснушчатое лицо и наивные голубые глаза. Он робко спросил:
— Взаправду при анархии будут телешом ходить?
— Замри, швея! Девкой бы тебе быть, модисткой. Ишь в краску вдарился. При настоящей анархии в шелк оденешься. Дура!
— В шелк? Шелковая форма будет?
Лешка захохотал.
Зуйков покачал головой:
— Беда с тобой, Гоша, мусором набил тебя твой Мухта.
Свищ ухмыльнулся и, закрыв глаз, погрузился в дремоту.
Зуйков сказал:
— В прежнее время, говорят, таких обормотов под килем протягивали. Привяжут к концу, заведут с носа, протянут — и будто помогало.
Свищ открыл глаз:
— Да?
— Сам не видал, Петрович сказывал.
— Учтем. Может, когда кое-кого и протянем…
Из своей каюты поднялся на палубу отец Исидор. У него кудлатая голова, рыжеватая окладистая бородка, он широкогруд, кряжист, крепко стоит на толстых ногах.
— Батя, давай сюда! — кричат матросы. — Подсоби, отец!
Матросы бросопят рею.
Отец Исидор сбрасывает подрясник и в исподнем, похожий на подгулявшего мужика., пропившего одежонку, берется за канат и тянет изо всех сил, будто один хочет повернуть грот-рей под нужным углом к ветру.
— Шли бы вы лучше, отец, в матросы, — сказал Зуйков, когда снасти закрепили. — Мужик вы во какой, загребным вас посадить — вальки бы ломали.
— Сила во мне, робята, есть. Что говорить. В деревне вырос, что пахать, что косить — помогал отцу. Поп он у меня был многодетный. И мне попом нарек быть, да только вышел я не сухопутным попом, а морским. Дано мне, грешному, поручение направлять по путям господним пьяниц записных да матершинников отъявленных. Не ропщу я, ибо сам грешен. Судьба, видно, такая. Каждому она дана — судьба… А работу люблю, тоскую по ней. Слышите, еще команда! За какую веревку теперь тянуть?
Матросы дружно засмеялись. Стива Бобрин, которому после «амнистии» капитан вновь поручил заведовать грот-мачтой, покусывал губы.
Зуйков стал поучать отца Исидора:
— Веревок у нас нету, батя. Все это снасти да фалы, тросы да брасы, ванты, горденя, галсы да леера, а вам все веревка! Чему же вас в семинарии учили? Сидите, батя, команда не нам, это приказ лиселя убрать.
Отец Исидор засмеялся вместе со всеми:
— И правда, сын мой, на море пустили, а никакой морской науки не дали вкусить, думали, что я одни души ваши буду спасать. Ну я как могу стараюсь, да вы вместо церкви как на берег, так в кабак да к девкам…
Отец Исидор и матросы прислушались: доносилось тихое торжественное пение. Поли на камбузе: старший кок Мироненко, младшие Куциба и Коваль. Слова было трудно разобрать: что-то о вечной любви казака к Галине или Оксане, о Днепре пли чарующих ночах где-нибудь на Полтавщине.
Мотив песни брал на душу. На всем клипере стало необыкновенно тихо. Замолкли голоса, только снасти под ветром гудели, аккомпанируя певцам, да журчала волна за бортом.
Изменился ветер, «Орион» сильно накренился на левый борт и все так же бежал к югу. На лаге накручивались пройденные мили.
Часто, тревожно затрезвонила рында. Боцманы вторят ей в свои серебряные дудки: «Боевая тревога». Матросы с винтовками становятся вдоль бортов, выкатывают на палубы пулеметы, орудийный расчет снимает брезентовые чехлы с пушек на баке и корме. Скоро звучит всем отбой, кроме артиллеристов. Артиллерийский офицер проводит стрельбы.
Выпущены два снаряда. Всплески у горизонта показали разрывы. Матросы довольны: все-таки своя артиллерия. Если покажется немецкая подводная лодка, то можно постоять за себя. После стрельб орудийный расчет стал чистить орудие.
Артиллерийский офицер торопливой походкой, слегка сутулясь, прошел через весь корабль на ют, там в каюте старшего механика игорный клуб. Скоро туда направился и отец Исидор, тоже любитель перекинуться в картишки «по маленькой».
На палубе показался барон фон Гиллер в сопровождении матроса-конвоира — вестового Стивы Бобрина — невзрачного с виду матроса, небольшого роста, с испуганным выражением лица. Человек он крайне молчаливый и необыкновенно любопытный.
Барон смотрел «сквозь всех», будто он один на палубе.
Подошел к фальшборту и минут пять стоял, вперив взор в горизонт, затем начал ходить возле камбуза, заложив руки за спину, подчеркнуто показывая, в какое положение он поставлен, что он заключенный, и хоть не чувствует за собой никакой вины, но подчиняется, как дисциплинированный офицер.
Барон фон Гиллер снова воспрянул духом. Он хорошо знает, что теперь находится в полной безопасности, и уверен, что еще представится случай или бежать, или захватить корабль. Вчера Стива Бобрин сказал, что радист докладывал командиру, что слышал позывные рейдера. По всей вероятности, командир крейсера получил приказание уйти в тропики, и он также избегает «проторенных» морских дорог.
Барон досадовал, что, слишком уверенный в скорой встрече с «Хервегом», не сообщил командиру крейсера о цели плавания «Ориона».
В дни неудач, когда нервы у обоих были напряжены до предела, оп совсем было поссорился с артиллерийским офицером. Теперь, с большим тактом играя на слабостях самолюбивого офицера, он восстанавливал отношения, уверял при каждом удобном случае, что у них общие враги и одна цель, что командир не считается с убеждениями людей, верных присяге, и что Новиков, по существу, такой же пленник, как и он, барон фон Гиллер, и поэтому они должны держаться «плечом к плечу». Артиллерийский офицер поджимал тонкие губы, усмехался, и, хотя не верил в дружеские чувства барона, все же ему было — приятно, что нашелся человек, который понимает его намерения и дает им верную оценку. В конце концов он стал ему необходим и как умный собеседник и как собутыльник, хотя капитан-цурзее пил «деликатно» и читал рацеи о вреде алкоголя.
Прошел лейтенант Фелимор, первым, как положено по чину, приветствовал пленного капитана. Барон фон Гиллер церемонно ответил на приветствие и сделал замечание по поводу отличной погоды. Фелимор чем-то, наверное молодостью и резкостью суждений, напоминал несчастного Лемана и потому был до крайности неприятен барону. И все же барон расточал ему самые лучезарные улыбки и всегда, как и Новикову, подчеркивал сходность их судеб, намекая на необходимость держаться вместе. Фелимор делал вид, что не понимает намеков.
Возле пленного изнывал от тоски вестовой, жадно ловя разговоры матросов. Больше всего он любил, сидя в стороне на баке и покуривая махорку, слушать бойких на язык товарищей, и особенно радиста, когда тот сообщал «телеграммы». А сейчас он весь день, как привязанный, ходит за немцем, хорошо хоть ночью подменяют: часового ставят.
— Ну как твой младенец, ножку не занозил? — окликнул Зуйков.
Матросы покатываются от смеха.
— Как ты теперь нянька, то холь его и ласкай да грудью корми.
Вестовой махнул рукой и стал делать знаки барону: пора уходить, скоро обед, и вообще неподходящее место они выбрали для прогулки.
Барон фон Гиллер, сохраняя невозмутимую холодность в лице, медленно пошел к трапу, за ним засеменил вестовой, болезненно морщась при каждом новом взрыве смеха.
Кок Мироненко пронес на мостик пробу. Он в белоснежном фартуке и таком же колпаке, надеваемом только для этих торжественных минут. Его полное лицо с отвислыми усами лоснилось от пота, он выступал осторожно, чтобы, боже упаси, не расплескать борщ. Кок благополучно ступил на мостик, не пролив на палубу ни одной капли. Навстречу ему поднялся командир, подошел и старший офицер. Кок протянул деревянные ложки. Оба зачерпнули янтарного борща, отхлебнули и, посмотрев друг на друга, сказали одновременно: «Мда». Затем зачерпнули еще по одной ложке. Попробовали и разварной пшенной каши.
— Очень вкусно! — одобрил командир. — Можно подавать.
Круглый лик Мироненко залился счастливым румянцем.
— Спасибочки, — говорит он певучим баритоном, будто не он сварил вкусные щи, а командир.
Кок ушел.
— Отличный человек, — сказал командир. — Лирик по натуре. Какой голос!
— Мог бы петь в опере, как Шаляпин.
— Вот видите? А кто Шаляпин? Кто Горький?
Оба задумались. История Рима лежит на палубе у ног командира. Воин Андреевич смотрит на ровный след клипера, теряющийся в волнах. Погода стоит прекрасная, как всегда в этих широтах, ветер гонит корабль к экватору.
За видимым спокойствием и даже беспечностью командир скрывает глубокую тревогу. Англичане высадились в Мурманске. Японцы готовятся оккупировать, Сибирь, немцы захватили Украину. Что будет с Россией, пока он, обойдя землю, придет во Владивосток?
На «Орионе» также неспокойно. Здесь теперь уже явно определились две враждебные партии. В каюте радиста и открыто на баке собирается кружок, сочувствующий социал-демократам, вернее, большевикам. Там у них верховодят Лебедь и Громов. Приверженцы монархического строя во главе с Брюшковым тоже проводят сходки в кубриках и на палубе. Новиков негласно возглавляет всю эту организацию и вербует новых членов среди машинной команды. Машинисты пухнут от безделья, вот и возомнили себя спасителями отечества. Даже добрейший Андрей Андреевич Куколь вчера за ужином закатил целую речь о «незыблемости самодержавия в России».
«Запретить? Будет еще хуже. Будут собираться тайно. Что же происходит? Почему на этой крохотной частичке родины, затерянной в океане, происходит то же самое, что и во всей России? Тут какая-то закономерность. Вот я никогда особенно не интересовался политикой. Мир и порядки в нем казались мне тоже незыблемыми. Меня занимало только море, наш флот, наше могущество на море… — Он посмотрел на своего помощника: — И Николай Павлович, сам называвший себя аполитичным человеком, тоже мечется в поисках правильных путей. Вот и сейчас по привычке смотрит за парусами, на горизонт поглядывает, не покажется ли шквальное облачко, а мысли у самого далеко, далеко…»
— Николай Павлович!
Старший офицер вздрагивает:
— Извините, задумался. Слушаю, Воин Андреевич.
— Я вот думаю, как и вы, о всем происходящем и прихожу к выводу, что здесь есть закономерности, которые диктуют события.
— Вы становитесь социалистом.
— Возможно, как и вы. Какие-то изменения во взглядах у нас происходят помимо нашей воли. Теперь революция заставила нас многое пересмотреть, искать объяснения, делать выводы.
Старший офицер, не глядя на паруса и море, почувствовал, что клипер «катится под ветер», и, прикрикнув на рулевых: «Не зевать!» — ответил командиру:
— Да, все мы и здесь будто захвачены каким-то порывом, стремлением выйти из тупика.
— Пожалуй. Тупик? Нет, не то слово… Вы знаете, как цветет бамбук?
— Не приходилось видеть.
— Для народов Южной Азии, Индонезии, Цейлона, Индокитая, Японии ого — бедствие. Бамбук для них, для беднейших слоев населения — прежде всего пища, вы ели побеги бамбука?
— Да, не особенно вкусно, но ничего…
— Для них это кое-что, раз больше ничего нет. И вдруг бамбук начинает цвести и после весь засыхает, гибнет. Когда это цветение будет, никто не знает, разве приблизительно знают крестьяне. Вижу, у вас вопрос: к чему я клоню? А вот к чему. Если бамбук, скажем, с Мадагаскара привезти в Севастополь и посадить в кадку, он станет расти. Красивое растение, я вам скажу, да видели его у меня дома. Но когда приходит время цветения, то он цветет везде в одно и то же время. Также и мой в кадке зацвел и засох, потому что в это время было цветение бамбука на Мадагаскаре. Мы с вами и все они, — он развел руками, — побеги бамбука, взятые и посаженные в кадку из большого бамбукового леса.
Феклин поднялся на мостик, чтобы доложить, что пора обедать, да так и застыл, слушая рассказ командира.
— Феклин, обедать пора? Сейчас, голубчик.
— Так точно! А бамбук, стало быть, так весь начисто?
— Начисто, Феклин.
— Ну а потом?
— Потом снова от семян, от корней пускает побеги, но, хотя и растет быстро, нужно время, чтобы поднялась прежняя роща.
— Ничего, поднимется и у нас. — Феклин понял аллегорию.
От бака послышались удивленные голоса, потом дружный смех, и вот уже смех докатился до бизани. Рулевые вытянули шеи. Командир и старший офицер, невольно улыбаясь, подошли к поручням. По палубе шел кот Тишка с огромной крысой в зубах, ее обмякшее тело с длинным голым хвостом волочилось по палубе. Тишка подошел к камбузу и, выпустив крысу, уселся с усталым видом: крыс он не ел, а охотился за ними из чисто спортивного интереса.
К неописуемому восторгу матросов, в этот момент из камбуза поднялся кок Мироненко с ярко начищенной медной кастрюлей в руках: он нес суп в кают-компанию. Кок панически боялся крыс, а тут остановился, с недоумением глядя на гогочущих матросов, не видя, что у ног еще пошевеливает хвостом серая отвратительная тварь невероятной величины.
— Та шо вы, посказились? — спросил он, подозрительно оглядываясь вокруг. Увидев крысу, он вскрикнул и выронил кастрюлю с офицерским супом.
Мироненко закрыл лицо руками. Палуба по его вине залита жирным супом! Офицеры оставлены без первого блюда! Орущий под самым ухом боцман! И все это на глазах у командира! Такого несчастья еще не случалось с бедным коком за всю ого пятилетнюю службу.
На шум выскочили раскрасневшиеся младшие коки Куциба с Ковалем и, мигом поняв, в чем дело, увели своего чувствительного шефа на камбуз.
— Уморительная и в то же время печальная сцена, — сказал Воин Андреевич. — Вы заметили, что матросы сразу перестали смеяться, как только поняли, что человеку по-настоящему тяжело. Иду есть второе блюдо. Счастливого окончания вахты.
— Спасибо…
С последним ударом в рынду, извещавшим об окончании вахты, на мостик поднялся Стива Бобрин, а за ним лейтенант Фелимор и четыре матроса — рулевых.
Гардемарин каждый день меняет белые перчатки, и, хотя в них очень жарко, отекают руки, он стоически носит их как память о красивой продавщице. Надевая перчатки, он, снисходительно улыбаясь, посматривает на Фелимора — своеобразная месть в духе Стивы Бобрина.
Фелимор стойко переносит ежедневные выпады, хотя ему очень неприятно это подчеркивание каких-то отношений фатоватого офицера и его невесты.
Приняв вахту, гардемарин, заложив руки за спину, стал ходить по мостику, зверем посматривая на рулевых да изредка кидая небрежные взгляды на паруса. Фелимор «берет» солнце секстантом. Проведя обсервацию, он сообщил результаты своему старшему по вахте.
— Хорошо, я проверю, — небрежно бросил Бобрин и погрузился в меланхолическую задумчивость. «Проверю» ой говорит все с той же целью — «уесть английского офицеришку», показать ему его настоящее место, хотя он не раз убеждался, что Фелимор отлично справляется с астрономическими вычислениями и даже заслужил похвалу самого командира.
Гардемарину было над чем подумать. Он твердо верил, что попал в полосу неудач. Провал за провалом следовали во всех его служебных и личных делах. Его бросало в жар, когда он вспоминал недавнее посещение каюты командира.
Новиков с присущей ему оскорбительной манерой убеждал Стиву Бобрина выдержать характер и оставаться под арестом хоть до Владивостока, если раньше клипер не попадет в руки к немцам или англичанам, не ходить с повинной к «этому социалисту». Гардемарин дал слово офицера, что последнее исключено, и даже сделал вид, что оскорблен таким подозрением. И в тот же день пошел к командиру.
Воин Андреевич выслушал ого сбивчивую покаянную речь и сказал устало:
— Хорошо, оставим на время паши разногласия по вопросам политики.
— Навсегда!
— Вы сами не верите тому, что говорите. Слишком часто менять убеждения не следует, а кто так поступает, тот в лучшем случае вызывает сожаление. Хорошо, Степан Сергеевич, можете нести свою вахту вместе с лейтенантом Фелимором. Отличный офицер…
— Разрешите узнать, в качестве кого будет находиться лейтенант Фелимор на моей вахте?
К Бобрину мгновенно вернулась его прежняя самоуверенность, как только он осознал, что прощен и, следовательно, восстановлен в прежних правах.
Заметив перемену во всем облике гардемарина, командир улыбнулся:
— Лейтенанта Фелимора можете считать стажером.
— Стажера к стажеру?
— Какой вы стажер? Я думаю, вам будет приятно находиться в обществе этого симпатичного офицера, и не без пользы к тому же. Вы будете его учить управлению парусами, а он усовершенствует вас в английском языке.
Мягкий тон и улыбку командира Бобрин расценил как проявление слабости. «Конечно, он нуждается во мне. И не сегодня-завтра ему пришлось бы просить меня забыть прежние недоразумения и приступить к службе. Я-то, идиот, поверил слухам». Бобрин, сузив глаза, сказал:
— Мое производство задержано из-за неурядиц в России. Я все еще гардемарин — выпускник старшей роты Морского корпуса. Тоже пока стажер. Конечно, лейтенант Фелимор имеет формально больше прав. Хотя… — голос Стивы Бобрина дрогнул.
— Ну что вы, голубчик! Все обойдется, и вы получите свое офицерское звание, хотя вы и так уже мичман, приказ о вашем производстве должен быть давно подписан, да затерялся в пути. Поймите: война и революция! Придем во Владивосток, я подам новую аттестацию с просьбой присвоить вам внеочередное звание лейтенанта! Ну, ну, мамочка моя. Хорошо. Идите. И забудем наши прежние недоразумения, как хорошо, что вы пришли, и вот мы все уладили, как в лучшие времена.
Гардемарин вышел с высоко поднятой головой, ликуя, что командир сдал все свои позиции и явно искал его расположения.
Воин Андреевич также остался доволен своим разговором с Бобриным. Он всегда стремился найти в человеке хорошие черты и с величайшей радостью находил их. Ему показалось, что Стива Бобрин пережил, перестрадал и понял неправильность своего поступка и теперь искренне раскаивается в нем. Воин Андреевич высоко ценил рвение к службе, и здесь Бобрин приятно изумил его.
«Конечно, мальчишка самолюбив, да кто бы на его месте хладнокровно отнесся к назначению на свою вахту старшего по званию в качестве стажера? Затем надо принять во внимание и задержку с производством, а также дурное влияние артиллерийского офицера. Хотя…» — Воин Андреевич задумался, отыскивая и у Новикова хорошие стороны, и, конечно, нашел их. Новиков исправен по службе, смел, и хотя слывет человеком желчным, злым, но последние неприятные качества имеют вескую причину: у него язва желудка.
Командир с легким сердцем поднялся на мостик, сел в свое бамбуковое кресло и раскрыл «Историю величия и падения Рима».
В это время Стива Бобрин объяснялся с Новиковым в его каюте.
— Поймите наконец, — говорил он шепотом, прислушиваясь к шагам на палубе, — если мы хотим победить, то должны оставить прежние предрассудки.
— Предрассудки?
— Именно! Прежние понятия в нашей игре устарели. От них несет нафталином.
— Все устарело?.. Все к черту? Веру, царя, отечество! Да?
— Как вы можете, Юрий Степанович?
— Сейчас все можно.
— Да! Но только для достижения наших целей. Тут мы должны действовать, как монахи ордена иезуитов.
— Цель оправдывает средства? Все можно?
— Да, Юрий Степанович. Подумайте сами, что бы мы выиграли, если я бы продолжал сидеть под домашним арестом и ждать суда чести? Теперь же я становлюсь боевой единицей и нахожусь в стане врага. Неужели вам не понятны преимущества этого?
Новиков расплылся в язвительной улыбке:
— Не хватило выдержки. Не сегодня, так завтра командиру пришлось бы сменить гнев на милость. Ведь вахту нести некому.
— Разве вы не знаете, что вахтенным офицером хотели назначить боцмана?
— Разговорчики. Сошел бы с позором после первой вахты.
— Если нет?
— Заведовали бы мачтой, и только. Спокойней. Пусть сами отдуваются! Навязали нам ненужный рейс. Нашли время совершать кругосветные плавания, когда там, — он показал пальцем на северо-восток, — там мы и наш груз нужны дозарезу! Ну, ладно. Черт с вами, только не могу не заметить, какой вы сукин сын, дорогой мой Стива. — Он дохнул на него водочным перегаром. — Ну и сообщнички у меня, один другого хлеще. Но вы в одном правы — надо не стесняться в средствах. Вы должны «охладеть» ко мне и барону, постарайтесь снискать дружбу радиста. Путь еще немалый, все может случиться, и вы вместо мичмана можете сразу стать старшим офицером. Выпьем за вашу сногсшибательную карьеру!..
Лейтенант Фелимор с плохо скрываемой тревогой посмотрел на своего сумрачного партнера. Он от души сочувствовал неудачам Бобрина, хотя и не одобрял его действий, включая и ухаживание за своей невестой. Последнее он прощал потому, что понимал, как трудно устоять перед этой необыкновенной девушкой.
— Удивительная погода, мистер Бобрэн, — сказал он, чтобы начать разговор и отвлечь коллегу от неприятных мыслей.
— Что в ней удивительного? Обыкновенное состояние атмосферы в этих широтах. Эх, скорей бы все кончилось!
— Ну, что вы! Такое плавание, все, что с нами случилось, так необыкновенно! Я уверен, что мало людей и кораблей во всей истории мореплавания, с которыми произошло что-либо подобное. Нет, мистер Бобрэн, вы просто не в духе. Это пройдет, останется только наше чудесное плавание. — Он засмеялся от избытка переполнявшей его радости. — Возможно, вы привыкли ко всему, что случается с вашим «Орионом». Хотя разве можно быть равнодушным к необыкновенному? Нет, мистер Бобрэн. Ваш сплин развеют ветры океана, и вы тогда посмотрите на все другими глазами. Ведь только подумать, что все началось для меня с встречи с двумя русскими моряками. Никогда не думал, что именно с ними будут связаны мои самые лучшие дни. Хотя сэр Ольфтон, не плохой в общем старик, уверен, что жестоко наказал меня, и сейчас, наверное, его, беднягу, мучают угрызения совести.
С бака донесся дуэт впередсмотрящих:
— Обла-а-ка! Пра-а-ва по носу-у!
Фелимор умолк, прислушался и спросил:
— Что они поют?
— Про облако на горизонте.
— Ах да! Смотрите! Какое прекрасное облако!
Бобрин усмехнулся:
— Такое прекрасное облако может снести весь наш рангоут. Я давно его вижу, — соврал Стива. — Возможно, пройдет по корме.
— Я увлекся и не заметил. Вы знаете, я очень увлекающийся человек и, как ни странно, открыл это в себе совсем недавно.
— После встречи с Элен?
— Несколько позже. Хотя всегда был, видимо, таким. Мальчишкой убегал в Америку.
— Я тоже!
— О!
Они замолчали, не спуская глаз с облака, превратившегося на глазах в грозную тучу. На палубе стало тихо, матросы без команды заняли свои места, поглядывая на мостик: их взгляды говорили, что самая пора заняться парусами.
— Не успеем, — сказал лейтенант Фелимор.
— Проскочим! — Бобрин и сам видел, что шквальное облако скоро накроет клипер, но все же, чтобы настоять на своем, повторил: — Проскочим.
— Не глупите, убирайте паруса, сэр!
— Знаю, черт возьми!
Срывающимся от волнения голосом гардемарин подал наконец команду:
— Все наверх, паруса убрать!..
Засвистели боцманы, прежде чем передать команду в жилые палубы. Матросы пулей вылетали наверх. На мостик вбежал старший офицер: при команде «Все наверх» он брал на себя управление кораблем. Недовольно поморщившись, Николай Павлович отдавал команды, поглядывая на грозное облако. Стива Бобрин занял по расписанию место у своей мачты и с замершим сердцем тоже смотрел то на облако, то на матросов, которые с необыкновенной быстротой поднимались по вантам, зная, что грозит кораблю, если они не уберут за считанные минуты паруса, и крыли его и всех его родственников до девятого колена, как это умеют делать только русские моряки.
Гарри Смит тоже кинулся к вантам и стал подниматься вслед за Зуйковым на грот-мачту. Зуйков всегда лазил в свое поднебесье босиком, его задубевшие, коричневые подошвы со следами накрепко въевшейся смолы так и мелькали в глазах у Гарри Смита, когда он вскидывал голову.
— Давай, давай, Гринька! — подбадривали его матросы, уже работавшие на нижних реях. — Нажимай!
Гарри Смит добрался до марсовой площадки и остановился, держась за ванты, стараясь не смотреть вниз. Мимо него проскользнул Брюшков, бросив на ходу:
— Что, слаба гайка, это тебе… — Ветер унес окончание фразы.
Гарри Смит не понял ни слова, но уловил явную насмешку, теперь его ничем уже нельзя было остановить, он уцепился за грот-степ-ванты и стал карабкаться дальше, туда, где скрылся из глаз Зуйков. Старший матрос с «Грейхаунда» никогда не служил на больших парусниках и, только попав на «Орион», стал учиться брать рифы на гроте. Наглый взгляд Брюшкова, его тон подстегнули Гарри Смита. Вначале он просто хотел добраться до марса и спуститься со всеми, а сейчас задета была его честь, и он решил подняться до самого грот-трюмселя — верхнего паруса на грот-мачте, чего бы это ему ни стоило, чтобы этот гладкий зубоскал узнал, что и он, Гарри Смит, замешан из крутого теста на морской воде!
Матросы давно разбежались по реям и с кажущейся неторопливостью убирали паруса. Пока Гарри Смит одолел грот-стен-ванты, т. е. две трети высоты грот-мачты, матросы уже спускались на палубу. «Орион» под одним фор-стенга-стекселем, потеряв ход, ожидал шквала, покачиваясь на волнах.
Гарри Смита то прижимало к вантам, то стремительно бросало навстречу падавшему на него морю. Он стал осторожно спускаться. Зуйков задержался возле него:
— Давай, Гринька, под гору легче. Вниз не смотри, снесет, как осенний лист.
Мимо мелькнул Брюшков, крикнув что-то насмешливое.
Стихнувший было ветер ударил клипер с такой силой, что тот сильно накренился. Гарри Смит повис на руках, чувствуя, что сейчас пальцы его разожмутся и он полетит в закипевшую внизу воду. В этот миг Зуйков, напрягшись, юркнул по другую сторону вант, лежа на них, схватил Гарри Смита за рубаху и, притянув к вантам, крепко обхватил за пояс. Рулевые привели корабль к ветру, мачта выровнялась, и Зуйков, весело скаля прокуренные зубы, стал спускаться, в трудные секунды поддерживая Гарри Смита. Старший матрос «Грейхаунда» уже взял себя в руки, на улыбку отвечал улыбкой и кричал:
— Гуд, харош, мистер Спиря! — Но слов его не было слышно: разноголосо свистел ветер, хлестал дождь.
Когда они поравнялись с грот-брам-реей, Зуйков увидел, что нижняя шкаторина паруса полощется по ветру. Ее закрепили плохо или лопнули галсы. Пройдет еще минута — и ветер сорвет парус.
— Давай вниз, а я… — он показал глазами на еле видимую сквозь пелену дождя рею и выждав, когда немного стихнет ветер, перебрался на нее. Гарри Смит полез за ним, и они вдвоем быстро закрепили на рее мокрое полотнище паруса.
По скользкой, уходящей из-под ног, залитой потоками воды палубе они подошли к подветренному борту. Мокрые до последней нитки матросы встретили их одобрительным молчанием и раздвинулись, освобождая место в середке. Гарри Смит опустился на корточки и прислонился спиной к фальшборту, зная, что с этой минуты он уже не гость, а равный среди равных.
Штиль
Все дальше и дальше уходил «Орион» на юг, за сотни миль, держась в стороне от редких в этой части океана островов, с опаской пересекал большие океанские линии, ведущие из портов Латинской и Северной Америки к берегам Африки, Индии, Австралии, Китая. Несколько раз вахтенный матрос на марсовой площадке видел дым на горизонте, а однажды ночью путь клипера пересек залитый огнями пассажирский пароход. Он прошел совсем близко, не заметив «Орион». Радист Герман Лебедь подстроился к волне беспечного лайнера и подслушал его разговор. «Святая Тереза» шла из Рио-де-Жанейро в Коломбо, имея на борту пятьсот туристов.
На верхней палубе оркестр играл танго. Корабль ушел в ночь, но еще долго доносилась хватающая за душу музыка, и казалось, что пухлые тропические звезды раскачиваются в томном танце, шевеля длинными лучами.
Изредка налетали шквалы, внося разнообразие в монотонное плавание, и снова океан сверкал синим пламенем. Паруса почти не давали тени, и, хотя яростно палило солнце, океан умерял зной. Матросы загорели, поправились после забот и волнений в английских и французских портах и после напряженных дней в начале побега. Океанский простор, повседневный труд, дисциплина охладили страсти ярых противников. Они ели из одного котла, спали рядом, вместе тянули снасти или раскачивались на реях, отдавая и убирая паруса. Во время длинных вахт или на баке, покуривая крепчайшую махорку, обсуждали тревожные вести с родины, пойманные «из воздуха» радистом. С виду все отношения приняли прежний характер.
Но только с виду. Опытный глаз сразу бы заметил, что люди уже не те, что были прежде. Разговоры шли теперь не только о доме, близких, а главным образом о судьбе России: как обернется революция и что она даст народу? Неужели и взаправду крестьяне получат помещичью землю, а рабочие — фабрики и заводы? Это были вечные темы баковых бесед. Разговор заходил и о дележе земли: сколько кому придется на душу и как будут поступать с богатеями, ведь они не помещики, а те же крестьяне, только более удачливые. «Со сметкой и без креста», — всегда вставлял Зуйков и поглядывал на покусывавшего усы Брюшкова. Теперь они не ссорились. Зуйков получил строжайший наказ от Громова и Лебедя не заводить свары, а стараться разъяснять людям свою правоту.
«Эх, и дал бы я ему правоту», — обыкновенно говорил Зуйков, но и открытую ссору не лез, только не упускал случая поддеть кулацкого сынка при народе.
Приверженцы старого порядка тоже смущали умы, и не без успеха. Трудно было вчерашним крестьянам и рабочим, большей частью малограмотным, разобраться вдали от родины в необыкновенно сложной обстановке. Многие из них пошли бы за большевиками, уж больно заманчиво было их обещание насчет земли, да вселяли опасливую тревогу разноречивые, тревожные вести из России. Не верилось, что выстоит Советская власть. У всех еще жиги были в памяти события 1905 года, восстание на броненосце «Потемкин», расправа с революционными матросами и крестьянами, делившими барскую землю. Осторожные ждали ясности, чтобы примкнуть к сильной стороне.
Неожиданную позицию занял на корабле иеромонах отец Исидор. Уж кто-кто, а он должен был бы служить верой и правдой царю-батюшке, и вдруг корабль облетел слух, что батя переметнулся к большевикам.
Как-то среди ночи отец Исидор вышел из душной каюты побродить по палубе и посудачить с матросами. У грот-мачты он остановился: матросы шепотом вели спор.
— Нет, братцы, — говорил матрос Худяков, служивший уже девятый год, — не годится такое дело, чтобы зараз все порядки менять. Что кому положено, то и надо соблюдать. Вот я не могу стать, скажем, капитаном или еще кем, не по мне это дело, ума не хватит. Так и с революцией, чтобы, значит, всем равенство. Что я с им буду делать, с этим равенством? Такое напорю, что не возрадуетесь. Так и с землей, с заводами, с торговлей. Ну какой из тебя, Громов, купец или фабрикант? Ну сам подумай?
— В фабриканты я не лезу и из тебя делать помещика нету никакого моего желания, хотя дело не мудреное мужиков угнетать. Ошибка твоя в том, что ты неправильно понимаешь революцию. Мы хотим, чтобы у всех людей были одинаковые права. Да, ты сейчас не сможешь командовать кораблем, а почему? Да потому, что учиться тебе не дозволяли. Учились дворяне да люди с достатком. А вот твои сыновья смогут учиться, если победит народ, и станут и капитанами, и инженерами, и докторами — была бы охота да царь в голове.
— Мои ребята, если удастся свидеться, землю пахать будут, по закону будут жить, как испокон веков установлено, правда, батя, я говорю? Вот пусть отец Исидор нас рассудит. Он человек правильный, пусть рассудит, — сказал Худяков. — Как ты понимаешь, отец, надо ли ломать пашу жизнь или пусть все будет, как было, только чтобы люди бога помнили, чтобы гадостей не делали друг другу? — Худяков замолчал, и все вахтенные у грот-мачты повернули бледные от лунного света лица к отцу Исидору.
Иеромонах сказал:
— В священном писании сказано, что всякая власть от бога, и, следовательно, пугаться нечего, если изменится что в управлении народом и в распределении собственности. Когда-то, в первые века нашей эры, христиане жили обществом и все достатки делили поровну, то есть коммуной, то почему не жить сейчас всем народом так же? Хотя лично я сомневаюсь в подобной возможности. Больно лют и своекорыстен стал человек. Людям, которые хотят жить по справедливости, предстоят жестокие испытания, потому что праведники всегда терпели муки. Лично я на их стороне., хотя мой сан обязывает меня поучать вас смирению и покорности власть предержащим. — Помолчав, он добавил озадаченным матросам: — И я подвержен сомнениям во многом, на чем был воспитан и что опровергается течением жизни…
«Орион» вошел в экваториальную штилевую полосу. Солнце так накаливало палубу, что по ней нельзя было ходить босиком, и ее часто поливали забортной водой. Ветер то надолго стихал, то слабо веял с разных направлений. Командир приказал поднять пары, и клипер с голыми мачтами пошел прежним курсом, делая около шести узлов. Не слышно было привычного свиста ветра в такелаже и шума волн за бортом. В этой тишине каждый громкий звук больно отдавался в ушах, и матросы стали говорить приглушенными голосами. Свободные от вахты теперь днем не задерживались на баке возле обреза с водой, а, наскоро покурив, уходили в кубрик, где хотя и было душно, но все же палуба защищала от неистового солнца, а в открытые с обоих бортов иллюминаторы проходил приятный сквознячок.
В этот изнуряющий день Лешка Головин не находил себе места, работа валилась из рук: он был хороший такелажник, мастерски сращивал концы и вязал маты. Без дела нельзя было сидеть подвахтенному, и он, поторчав на юте, где матросы, вяло перебрасываясь словами, сшивали новый грот, пошел на палубу. Заглянул в камбуз, там коки отбирали пшено на длинном столе, пот градом катился с их лоснящихся лиц.
Старший кок Мироненко с мокрыми, обвисшими усами посмотрел на Лешку и сказал, печально улыбнувшись:
— Во пекло! — И неожиданно затянул унылую песню. В ней сквозила такая тоска, что мальчику стало невмоготу, и он поспешно поднялся на палубу.
Ветерок, создаваемый ходом клипера, приносил обманчивую прохладу. Навстречу «Ориону» шла мертвая зыбь — синие, просвечивающие на вершинах валы отражали свет солнца и пылающего неба, на них больно было смотреть. Юнга в надежде обвел взглядом горизонт: не покажется ли облачко. Но в небе будто стояла золотистая пыль.
Оставалось еще три интересных места на корабле, куда стоило заглянуть: радиорубка, кубрик машинной команды и каюта старшего механика. «Схожу сначала к „дхам“», — решил Лешка и, не откладывая, побежал деловой рысцой на корму: «гулять» на клипере не полагалось.
На мостике под тентом сидел в своем кресле командир и о чем-то разговаривал с вахтенным начальником Гороховым. Лешка пробежал по левому борту и заглянул в каюту старшего механика. Обыкновенно оттуда его быстро выставляли, все же ему удавалось понаблюдать, как играют офицеры на большие деньги, и даже прикинуть, сколько стоит в банке, а потом рассказать на баке матросам.
В каюте старшего механика двери стояли раскрытыми настежь. Шла игра в двадцать одно. Отец Исидор в одной сорочке и кальсонах в синюю полоску метал банк.
— Господи, не оставь раба твоего, — сказал он и смачно шлепнул картой но столу. — Девятнадцать! А у вас!
Новиков швырнул карты и положил золотой на кучку денег посреди стола.
— Ну а вам, Андрей Андреевич?
— Как всегда — рублик, — ответил старший механик и осторожно взял протянутую карту. — Извольте! — Он раскрыл обе карты: — Двадцать одно.
— Безобразие, вы только игру сбиваете, — напустился на него артиллерийский офицер. — Кто идет на рубль, имея на руках туз?
— Такой уж у меня порядок, играю не для выигрыша.
— Истинно мудрая речь. Не в деньгах счастье, — изрек иеромонах и вопросительно посмотрел на третьего партнера — младшего механика Белкина.
— На трешку, отче.
— Благословляю, сын мой.
Машинист выиграл и, захохотав, взял из кучки три рубля.
Банкомет покачал головой:
— Нет чтобы проиграть своему пастырю.
— Так вы ж благословили!
— Благословил? Ты меня благословил, бери и помалкивай, сейчас этот супостат в раззор меня разорит. — Он выжидающе посмотрел на барона фон Гиллера, который шептался с Новиковым. Капитан-цурзее протянул растопыренную ладонь над деньгами.
— Ва-банк!
— Что это он бормочет? — испуганно спросил отец Исидор у артиллерийского офицера.
— Не придуривайтесь, отец, всем понятно, что барон идет на все.
— А ответ есть?
— Не хватит, я отвечаю.
— Ах, вон что! Вдвоем разорить меня задумали? Господь не допустит. На! — Он швырнул карту на стол. — Ну, немчура, вишь, как с одной паршивой марки разыгрался, по миру пустит, сатана нерусская.
Фон Гиллер едва заметно тянул карту.
Все стали следить, как фон Гиллер тянет карту, руки его мелко дрожали. К. нему пришел валет — два очка. Сложив карты, он сделал вид, что глубоко задумался, решая — брать еще или остановиться. Посмотрел на Новикова, тот пожал плечами, что тоже было хитрой уловкой, так как барон фон Гиллер набрал всего десять очков и ничем не рисковал, прикупив еще одну карту. Словно решившись на отчаянный риск, он протянул руку.
Опять барон фон Гиллер томительно долго тянул карту и, взглянув на нее, кивнул: хватит.
— Ну, шельмецы, набрали двадцать, чует мое сердце. Вот! — Отец Исидор шлепнул по столу картой, затем другой, раскрыл первую карту. — Шестнадцать! — сказал он в повел глазами по непроницаемым лицам партнеров. Никто ничем не выдавал, больше или меньше очков набрал фон Гиллер. — Была не была! — Он открыл бубновую десятку: перебор.
— Разорили, антихристы! Ну ничего, а у вас сколько? Четырнадцать? Отцы-святители! Видал, отрок? — обратился он к юнге, стоявшему в дверях. — Вот так, брат, всегда бывает, когда хочешь объегорить ближнего, смотришь, а у самого карман пустой. Уйдем из этого вертепа бесовского облегченные, да зато с чистой совестью.
Отец Исидор надел подрясник и встал.
— В долг поверим, — сказал Новиков. — Куда вы?
— В долг не играю, зачем обременять себя долгами? Да и душно здесь и скверно. Пойду погляжу на мир божий. Ведь вот так сидим в злобе и корысти, столько красоты может пройти мимо глаз наших.
— Что говорит этот жрец? — спросил барон фон Гиллер у. Новикова по-английски.
— Опять впал в полосу раскаяния. Сколько было в банке?
— Восемьдесят три рубля. Получите сорок один рубль. Пятьдесят копеек останутся за мной.
Новиков поморщился, ему претила мелочность барона.
— Оставьте их себе.
— Нет, что вы, мы рисковали одинаковой суммой.
— Ну дьявол с вами. Вам банковать, сейчас ударю на ваш полтинник.
— Пожалуйста. — Барон сдал карты и спросил: — Вы мне что-то хотите сказать, и, кажется, важное? Я вижу по выражению вашего лица.
— Да ничего особенного, опять где-то недалеко ваш пиратский крейсер идет на последних лопатах угля.
— И вы называете такое известие не особенным?
— Что толку. Сейчас он нам не нужен.
— Вы находите? Вас устраивает унизительное положение среди идейных противников?
— Нисколько. Вы забываете, что, пока мы совершаем эту увеселительную прогулку, история работает на нас. Дальний Восток стал сферой притязаний наших союзников…
— Но, господа, — сказал старший механик, — и так жара — мочи нет, а вы ведете разговоры на неизвестном нам языке. Барон, сдавайте. Иду на десятку…
Отец Исидор и Лешка вышли из каюты. Па корме матрос Гусятников рассказывал сказку о солдате Иване и прекрасной царевне Марье, царе Гвидоне и завистливых и бессовестных братьях Ивана. Гусятников рассказывал не спеша, делая большие паузы, когда нюхал табак, чихал и продолжал журчащим тенорком. Сказка была знакомая, матросы много раз слышали ее, но Гусятников каждый раз вводил новые эпизоды.
Журчала маслянистая вода за бортом. Печальная песня, доносившаяся с камбуза, обволакивала клипер грустью.
— Пойдем посидим с матросиками, — предложил юнге отец Исидор, — занятно брешет Гусятников. Сказки у него хорошие, жизненные. О! Слышишь? Иван его хочет не только царевну Марью себе взять, но еще царскую землю поделить промеж мужичков, а братья-то его цареву руку держат. Не хочешь?
— Нет. Я уже знаю, чем кончится.
— Вот и хорошо, коли знаешь. Приятно, когда тебе все известно и огорчений не предвидится.
— Нет, я люблю, когда не известно, что будет.
— Ой, Алексий, божий человек! Опасная эта стезя — неизвестность. Как наше плавание, да и вообще судьба человеческая. Ну иди к своему Лебедю, смутьяну и кудеснику, а я сказочку послушаю.
В радиорубке находилось много матросов, и среди них Громов, Трушин, Зуйков, баталер Невозвратный и Гарри Смит. Матросы расположились на койке, диване и даже на полу. В полнейшей тишине они следили за каждым движением радиста, выражением его лица и прислушивались к еле слышным прерывистым звукам радиосигналов, доносившихся из наушников.
Лешка Головин молча стал у дверного косяка. Радист кивнул ему, снял наушники.
— Ну?.. — не выдержал кто-то из матросов, сидевший в темном углу.
— Ничего особенного: где-то в Бискайском заливе французское судно «Бристоль» посылает «Sos».
— Помоги им господь! — сказал матрос из угла.
Все взволнованно заговорили, обсуждая бедственное положение французских моряков.
— Бискайка — серьезная штука, — сказал в заключение Зуйков. — Нас тоже там потрепало как надо.
Когда все замолчали, радист продолжал:
— К мысу Доброй Надежды идет немецкий крейсер, сигналы его радиостанции очень ясно слышны.
— Ну и пусть себе идет, нам он больно-то нужен, — сказал матрос из угла. — Хоть бы налетел на банку, проклятый, или перевернулся.
Пожелание гибели немецкому рейдеру вызвало протест со стороны матроса Никешина:
— Тоже люди, подневольный люд на ем, как и наш брат, матрос, жизни лишаться никому не хочется. Лучше бы зашел в порт да сдался. Нет, мол, никаких силов больше, примите, ради Христа, до окончания войны.
— Ох и глупый ты дурень, Никешин, — сказал Зуйков. — Ты бы пошел сдаваться на их месте?
— Я-то?
— Ты самый, будь ты капитаном?
Матросы засмеялись, представив низенького, курносого Никешина в роли капитана.
— Чего смеетесь? Может, я и не пошел бы. Присягу-то принимал, и матрос я Российского флота или кто?
Все заулыбались, засмеялись.
— Помалкивай, ребята, — сказал Громов. — Пусть Герман Иванович; доскажет, что там у него в эфире еще за разговоры.
— Удалось мне подслушать «Святую Терезу». Помните, что недавно прошла мимо нас вся в огнях?
— Что-нибудь интересное? — спросил Громов.
— Нет, передает в Рио-де-Жанейро телеграммы от своих пассажиров.
— Во житуха у кого! — сказал Зуйков. — Кругом война, революция, народ страх терпит, жизни тыщами лишается каждый час или минуту, а им прогулка. Турнуть бы их, паразитов, тоже, поди, из своего народа соки тянут. Ну а немец далеко?
— Миль пятьсот от пас к юго-западу. Дела у него, видимо, по-прежнему неважные, все не может встретить грузовой пароход.
— Он его живо бы распатронил: уголь и воду забрал — и болтайтесь на волне на доброе здоровьечко.
— Бог не допустит, — сказал Никешин.
Зуйков усмехнулся:
— Бог! Много ему дела до нас. Не допустит, чтобы немец «торгаша» ограбил, а почему он допускает войну?
— Он знает, что допустить, а чему и воспрепятствовать.
Вмешался Лешка Головин:
— Если бог есть, то с ним надо особый разговор вести, только попы знают как, да и то он их не слушает. Вот сейчас наш отец Сидор банк держал, восемьдесят три рубля у него было в банке, и он все бога поминал, а немецкий барон на что христопродавец, как трахнет по банку и все заграбастал. Прямо мне жалко стало отца Сидора. Последние деньги проиграл. Сейчас с горя сказки на юте слушает.
Когда стих дружный смех, Громов спросил:
— О чем там еще разговор шел?
— Да ни о чем, все о деньгах: иду на рубль, трешку да по банку, правда, Новиков с бароном ведут разговоры, да не по-нашему.
В дверях радиорубки появился Стива Бобрин. Матросы встали.
— Садитесь, братцы, вольно. Я не по службе. Тоже за новостями заглянул. Ну и жара. Третью сорочку меняю. Какие новости, Герман Иванович?
— Особенно никаких.
— Как на Дальнем Востоке?
— Неясная ситуация.
— Прояснится к нашему приходу?
— Возможно.
— Хорошо. Я зайду еще вечером, а вы садитесь, братцы. В ногах, как говорят, пет правды.
— Если бы только в ногах, — сказал Зуйков. — Правды — ее пока нигде нету, ваше благородие.
— Надо добиваться, чтобы была.
— Уж будем стараться, ваше благородие.
— Что ты меня все величаешь благородием?
— А как же?
— Ну, как был приказ командира — гражданином.
— По привычке. Ведь она, привычка, вроде смолы. — Зуйков протянул ладони с въевшейся в них смолой. — Как ни мой, а, пока кожа не слезет, так и будет смола.
Матросы подчеркнуто стояли. Бобрин повел плечами, улыбнулся и ушел, еще раз пообещав радисту, что зайдет вечером.
— Что это он зачастил к вам, Герман Иванович? — спросил Громов.
— Видимо, как и всех, его интересуют новости.
Зуйков сказал, садясь на палубу:
— Три сорочки, говорит, уже сменил да к вечеру еще три сменит, а тебе, Нефедов, стирать.
— Да уж не говори. И стирать, и крахмалить.
— Форс наводит чужими руками.
Матросы поговорили о несправедливости в мирной и военной жизни, припомнили застарелые обиды и снова вернулись к событиям на родине. Громов спросил:
— Как думаешь, Герман Иванович, не задавят там нашего брата, пока мы тут прохлаждаемся?
Зуйков смахнул пот со лба:
— Иван, насчет прохлаждения ты брось, я уж промок насквозь. Давай, давай, Герман Иванович, объясняй положение, затем и преем в твоей каюте.
— Скажу прямо, товарищи, что радостного пока только одно: держится Советская власть, хотя уже множество раз за этот год и в Америке, и в Англии, и во Франции, и во всех других странах буржуазные газеты пророчили, что Советы доживают последние дни. А вот уже идет второй год, как совершилась Октябрьская революция, и народная власть держится, несмотря ни на что. В сообщениях различных агентств, которые мне удается слушать, сейчас тон несколько изменился, Советскую Россию стали считать серьезной опасностью, угрожающей всему буржуазному миру.
— Дрейфят буржуи, стало быть? — спросил Зуйков.
— Боятся мировой революции, — продолжал радист. — Везде плохо живется рабочим, и они сочувствуют нам, русским, и постараются и у себя свергнуть власть капитала.
— Вот здорово было бы, — сказал Зуйков, — везде свой трудовой человек правит, тогда и государств не надо, одна Советская власть везде, ни тебе пачпортов, ни границ! Во бы здорово!
— Это будет, обязательно будет, — заверил радист, — а пока тяжело дома. Там первыми начали создавать новый мир.
— Первая борозда всегда трудная, — сказал матрос в темном углу. — Ну давай, давай дальше, а вы, ребята, не перебивай.
— Сам помалкивай!
— Мне што, я молчу…
Радист вытер платком лицо и продолжал:
— У Советской России теперь есть военный флот, Красная Армия и даже авиация, правда, немного аэропланов, но есть. Недавно об этом сообщали англичане. И еще, товарищи, не надо забывать о солидарности, то есть о сочувствии и помощи рабочего класса всех стран нашей революции. Может случиться так, что те войска, которые они посылают сейчас против большевиков или собираются послать, восстанут и присоединятся к Красной Армии. — Радист перевел дух и сияющими глазами обвел притихших матросов.
Молчавший все время Роман Трушин с силой ударил кулаком по колену и сказал:
— Так если все возьмутся, то никто нас не сломит! Никакая, братцы, сила не сломит. Ходу бы нам только! Ветру! Такого ветру, чтобы мачты гнулись, паруса звенели!
Шторм Петрель
Среди ночи с мостика раздалась команда: «Все наверх, паруса ставить!»
По заведенному порядку, прежде чем повторить команду, боцманы, проиграли прелюдию на своих дудках, затем, наклонившись в люки, гаркнули, не жалея «луженых» глоток, и команду, и добавление к ней: «Пошел, пошел, лодыри! Выходи на ветерок!» Далее следовали слова, мало удобные для печати. Бревешкин, увлекшись, вылил в свою витиеватую импровизацию и высочайших особ, и божью матерь с младенцем, и святых угодников, и, как дань времени, «проклятых» социалистов, анархистов и почему-то букинистов, видно и их считая вредной революционной партией.
Матросы стремглав и тоже весело вылетали по трапам на палубу, уже зная, что кончилась штилевая полоса.
С северо-запада потянул слабый, теплый ветер. Матросы, истомленные жарой и бездельем, бросились к вантам и полезли к мелькающим между снастей чужим звездам. «Орион» пересек экватор, и теперь вместо Полярной звезды сиял Южный Крест, по бокам его сверкали и переливались Райская птица и Летучая рыба, плыл гигантский Корабль, видны были его Киль, Корма и Паруса, и еще множество незнакомых звезд торжественно сияли из черной бездны.
Матросам в эти минуты было не до красот южного неба. В кромешной тьме надо развязывать и вязать узлы, нащупывать уходящие из-под ног перты. Там, в высоте, для них не существовало ничего, кроме невидимых снастей и тугой, рвущейся из рук парусины.
Ветер согнал с лиц апатию, на клипере началась прежняя нормальная жизнь с круглосуточным, привычным напряжением сил, всегдашней готовностью к неожиданностям вроде шквалов и перемены ветра.
Иногда в пустынном океане показывалась стая китов. Гигантские животные совершали переход из южных полярных вод на север, где начиналась весна и уже зеленели поля планктона, суля им обильную пищу. За клипером давно увязались три акулы. Хищницы обыкновенно держались за кормой, но всегда оказывались у борта, как только бачковые вываливали отбросы.
Как-то днем к «Ориону» подошло стадо дельфинов, и акулы исчезли. Дельфины резвились вокруг корабля несколько часов и умчались на юг. На следующее утро акулы заняли свое место за кормой.
Зуйков сказал Лешке Головину, они вместе вязали мат на корме:
— Опять акулье появилось. Нет поганей твари в море, чем акула. Все, проклятая, жрет. Дельфинов испугались было, поотстали и вот опять, вражья сила, увязались за нами. Так и ждут, чтобы кто из нашего брата за борт сыграл. Надо ловлю устроить или пугнуть их из винта, а то, не дай бог… — Он не договорил, чтобы не накликать беды, и вернулся к дельфинам: — Ты, Алексей, никогда не обижай дельфинов. Есть такой народ, что всегда стараются неразумной твари всякую пакость сделать, а ты знай, что дельфин моряку помощник. Видал, какой веселый да смекалистый, какие фокусы выделывал и акулье проклятое живо прогнал. Если в морс упадешь да дельфина увидишь — не бойся. Хотя он тоже зубатый да страхолюдный, он к человеку дружбу питает. Мне один старый наш матрос, Ефим Кругляков, рассказывал, его по болезни на французском берегу списали, а потом домой в Одессу отправили, так Ефим говорил, что с ним был такой случай. Упал он за борт, на учебном судне он тогда ходил, ну и сыграл с похмелья с нока-марса-рея прямо в дельфинью стаю. Круг ему бросили, да не сразу, и он его в страхе да среди волн не увидел, держится из последних сил, одежа намокла, вниз тянет, а тут еще дельфины кругом шастают, то сбоку, то под низом пройдут. Ну, думает, кранты мне по всей форме, заиграют меня морские свиньи, а не то и порвут на части. А дельфины совсем осмелели, носами стали его пихать, ну Ефиму и плохо стало, воды хлебнул и память потерял, должно быть, от страху, а может, похмелье дало себя знать. Ты; Алексей, знай, что если матрос переложит на берегу, то может неприятность иметь и на корабле и за бортом, вот как с Ефимом, да и по себе знаю, так что ты лучше вовсе ее не пей. — Зуйков неожиданно стал говорить о вреде пьянства и никак не мог вернуться к истории с Ефимом Кругляковым. Ему помог Лешка. Перебив его, он спросил, как же спасся Кругляков.
— Да он и сам толком не знает, в беспамятство впал и только в баркасе в себя пришел, когда его из воды вытащили. Матросы, говорит, сказывали, что когда они подошли к нему, то вокруг дельфины так и кишели и, стало быть, тонуть ему не давали. Когда баркас подошел, они оставили Круглякова, и он на дно было пошел, да один из матросов нырнул и вытащил беднягу.
— А дельфины?
— До самого корабля провожали и потом еще долго шли, будто радовались, что спасли матроса. Вот какие дела, Алексей, бывают на море. Да ты тяни, не бойся, не порвешь нитку, на ней акулу можно запросто вытянуть…
Появились вилохвостые качурки. Во множестве они вились вокруг корабля пли плавали стайками. Одна из качурок села на палубу, и к ней с горящими глазами стал подкрадываться кот Тихон. Качурка, почувствовав смертельную опасность, заковыляла было к борту, так как не могла взлететь с палубы, но Тишка схватил ее за крыло. Храбрая птица, к восторгу матросов, наблюдавших за этой сценой, нанесла ему клювом удар по носу, и Тихон, отпрянув, стал выбирать новый угол атаки. На защиту качурки бросился Гарри Смит, но его оттолкнул Назар Брюшков и, прижав ногой крыло к палубе, схватил птицу.
— Маленькая, а кусучая, стерва. Сейчас, Тиша, я ее поукорочу на голову — и ешь себе на здоровье, ишь их сколько развелось без всякой пользы.
Гарри Смит схватил за руку Брюшкова и сказал, показав глазами на качурку:
— Шторм Петрель.
В эти два слова он вложил всю возможную убедительность. «Как можно, неужели ты не знаешь, что это Шторм Петрель?» — говорил его взгляд.
Брюшков оттолкнул его:
— Вот еще заступпик нашелся. Без тебя знаем, что о этой Петрелью делать. Я поймал, моя птица, пошел ты… — он выругался, стряхнул руку Гарри Смита и схватил качурку за шею, намереваясь разом покончить с ней. Гарри Смит ударил его ребром ладони по руке. Брюшков выпустил шею качурки.
— Ты что? — Брюшков побагровел.
Гарри Смит сказал раздельно:
— Плохо! Нет можно!
— Ух и дам я тебе сейчас, если не отстанешь. Ну что он липнет, ребята, по руке бьет?
Вокруг них образовался круг. Раздались голоса:
— Отпусти, Назар!
— Вот еще, крути ей голову!
— Пожалей птицу. Тихон твой и так поперек себя толще.
— Выпусти, выпусти!
— Рви ей голову!
— Уважь! Гришка ведь гость.
— Уважь!
— Вот я его уважу! — В круг протискивался Бревешкин. — Дай ему, Назар, или разучился! А я этой пичуге сам голову скручу, туды ее, в глыбь морскую, в английские острова!
Высоко держа бьющую крыльями птицу, Брюшков ударил Смита кулаком в грудь с такой силой, что тот отлетел к матросам, и они поддержали его, не дав упасть.
Самодовольно улыбаясь, Брюшков протянул было качурку унтер-офицеру, но в этот миг Гарри Смит рванулся к нему и ударил в нижнюю челюсть. Падая навзничь, Брюшков выпустил качурку из рук.
Матросы притихли. Брюшков встал, сконфуженно подкрутил головой, ощупал подбородок.
— Ладно он тебе врезал, — сказал Зуйков. — Парень бокс знает.
— Мы его сейчас по-русски разделаем. — Брюшков рванулся на Гарри Смита, принявшего боксерскую стойку.
— Ну, насчет драки ты оставь! — сказал Громов, становясь между противниками.
— Нет! — крикнул Гарри Смит, пытаясь оттолкнуть Громова, и добавил по-английски, что никому не позволит вмешиваться в его личные дела.
— Не гоноши, Гринька, на берегу стакнитесь, — сказал Зуйков, удерживая Гарри Смита.
Невесть откуда взялся Гоша Анархист и пронзительно завопил:
— Дай ему, Брюшков! Покажи кулацкую силу! И ты, Гринька, не подкачай! Боксом его в рыло, собачью холеру!
Подбежали матросы от фок- и бизань-мачты. Залились боцманские дудки…
За этой сценой некоторое время наблюдал барон фон Гиллер. На палубе появился радист, офицеры. Барон не стал дожидаться развития событий, быстро спустился на жилую палубу, подошел к радиорубке. В двери торчал ключ. Сколько дней он ждал этой минуты и готовился к ней! Каждый день он заменял в давно составленной телеграмме устаревшие сведения.
Опытный моряк, он определял курс и не глядя на компас: днем по солнцу, а ночью по звездам, а три дня назад узнав от Новикова координаты, он интересовался только пройденными милями за сутки и с незначительной ошибкой определял местонахождение «Ориона». За полторы минуты он был в состоянии передать все эти сведения на рейдер, где круглые сутки ждали ого сообщений.
Стрелки приборов вздрагивали: передатчик включен. На столе листки исписанной бумаги — русский текст, колонка цифр — шифровка.
Барон фон Гиллер медлил, прислушиваясь к голосам, топоту ног, доносившихся в открытый иллюминатор. Внезапно все шумы покрыл медный перезвон — боевая тревога.
Барон побелел от охватившей его ярости: все рушилось. Теперь он ничего не успеет сделать, вот уже бегут вниз по трапу. Ему вдруг захотелось броситься на приборную доску, разбить ее, вырвать приборы и топтать их каблуками. Он медленно отошел от стола, гася в себе приступ непростительной слабости. За дверями он уже окончательно пришел в себя и остановился, поджидая радиста. Когда тот подошел, он спросил, раскланиваясь:
— Спешите на свой пост по тревоге?
— Да. — Радист остановился у двери и вопросительно посмотрел на барона.
— Весьма кстати, могла возникнуть крупная потасовка, матросы слишком возбуждены. Такие вспышки следует гасить более решительно.
— Вы только ото и хотели мне сказать?
— Не только. У меня сегодня такой радостный день. Я почти свободен!
— Да, вы без спутника!
— Вот именно. — Барон улыбнулся. — Он так мне надоел, этот безмолвный страж. Войдите в мое положение, мне не с кем сказать слова на родном языке. Мой компаньон, лейтенант Новиков, изъясняется только по-английски, и то в последнее время он впал в меланхолию и много пьет, ругается по-русски или молчит. И только с вами я отвожу душу, как говорите вы, русские. Должен заметить, что в вашем языке есть много выражений, по силе не уступающих латинским.
— Последнее давно замечено, еще Ломоносовым.
— Я не знаю, кто этот Ломоносов, но следует отдать ему должное в наблюдательности. Случаем, у Ломоносова не было предков, хотя бы отдаленных, принадлежащих к немецкой расе?
— Насколько мне известно, Ломоносов — настоящий русский, без всяких примесей.
— Некоторые примеси облагораживают.
— Не все. Особенно в тех случаях, когда человек настолько совершенен, что не нуждается ни в каких улучшениях.
Радист открыл двери своей каюты:
— Проходите!
— По боевая тревога?
— Вы знаете, что радист в данном случае выключен из игры.
— О да! Действительно игра. Как бы хотелось, чтобы все конфликты носили такой характер, не больше.
— Вы стали пацифистом?
— Далеко нет. Не имею права им быть. Я потомственный солдат. Но иногда, вот как сейчас, прихожу к мысли о возможности всеобщего мира, но, увы, после еще многих битв.
Искренний тон гостя насторожил Германа Ивановича, и все же он, усадив его на койку, стал долиться с ним последними новостями: на Западном фронте затишье, но, судя по отрывочным сведениям, там готовится грандиозное сражение, вероятно, последнее в этой войне; немцы почти полностью оккупировали Украину; бывшие союзники усиленно готовятся вторгнуться в Россию и восстановить там порядок; англичане первыми начали интервенцию русского Севера, англичане, японцы и американцы стремятся захватить Дальний Восток.
Барон жадно слушал, опустив глаза, чтобы не выдать своих чувств, и кивал головой. Все это он считал вполне закономерным явлением: восстания рабов всегда подавлялись объединенными силами стран, имеющих более совершенное государственное устройство. Его. пронзило благоговейное чувство к императору Вильгельму, который сумел отторгнуть от России самые ее хлебородные губернии и, конечно, разовьет свой успех.
— Вот видите, — сказал он чуть дрогнувшим голосом, — о мире только можно мечтать, как о детских снах. Сколько еще страданий должно перенести… человечество, — он чуть было не сказал Германия, — прежде чем наступит эра мира и порядка!
— Мы добьемся этого! — твердо сказал радист.
— Вы? — удивился фон Гиллер.
— Да, мы!
— Кто? Неужели, — он показал пальцем вверх, — они?
— Да, и многие из них.
— Коммунисты, или, как их теперь называют, большевики?
— Да, большевики, совершившие великую революцию. А вы кого имели в виду?
— Силы, более организованные, имеющие вековые традиции, пронизанные воинским духом, верностью нации, только они в состоянии создать порядок.
— Неужели вы убеждены в возможности создания мирового рабовладельческого государства?
— Ну конечно! Иначе погибнет цивилизация, как у вас в России.
— Там ничего еще не погибло, наоборот, в России родится действительно повое государство, новое общество!
— У нас разные точки зрения. Будущее покажет, кто из нас прав.
— И очень скоро.
— Тем лучше.
Барон фон Гиллер опять опустил глаза и сказал:
— Не будем ссориться. Судьбы мира зависят не от нас.
— Именно от нас!
— Я по чувствую в себе столько возможностей, чтобы вершить историю, — он сухо засмеялся.
Улыбнулся и радист, положительно ему нравился сегодня барон, похожий на волка, сохранившего все свои повадки, но уже начавшего приручаться, вернее, терпеть своих хозяев: скалившего зубы не с намерением укусить, а только чтобы показать свою непокоренность.
— Наверное, есть и местные новости? — спросил он и горько улыбнулся, стараясь показать, как ему тяжело нести груз своих убеждений и не находить сочувствия и как он счастлив вести простую дружескую беседу с таким симпатичным человеком. — Мы в мирном полушарии, здесь нет войны. Что нового в Индии, Цейлоне? Где мне хочется побывать — так это в Австралии…
— Нет мира и здесь. Вы помните бразильца, который мы повстречали ночью.
— Да, да. Он прошел, как рождественская елка, весь в огнях и с музыкой.
— Его сегодня ограбил «Хервег» — один из последних рейдеров Германии, забрал уголь, продукты, воду.
Фон Гиллер помолчал, чтобы не выдать охватившую его бурную радость, и сказал:
— Как жаль, что и здесь не спокойно. Но что делать этим несчастным людям с крейсера вдали от родины, лишенным всего необходимого? Германии возместит стоимость ущерба, нанесенного бразильской компании.
— Когда?
— После войны, конечно.
— Долго придется ждать. Мой коллега со «Святой Терезы» передал, что они не дойдут до ближайшего порта, если не подоспеет помощь.
Барон фон Гиллер соглашался, вздыхал, качал головой и тщетно ждал, когда радист наконец заговорит о содержании лежащей на столе шифрованной телеграммы, а тот некстати завел разговор о тонкостях берлинского произношения и докучал барону до тех пор, пока не раздался отбой боевой тревоги. Барону фон Гиллеру пришлось поблагодарить за приятно проведенные минуты и уйти, так как радист встал, собрал со стола листки и сунул их в карман: близилось время, когда он приносил последние новости на мостик.
После учений на баке шло обсуждение инцидента у грот-мачты. Все сходились на мнении, что не стоило Назару Брюшкову из-за птицы затевать ссору, а надо было уважить Гриньку. Гарри Смит находился тут же, покуривая из своей фарфоровой наяды. Всякий раз, когда он слышал упоминание о злополучной Петрели или свое имя, переиначенное матросами, то улыбался и произносил несколько горячих, но совершенно непонятных слов, тщетно стараясь объяснить, почему он полез в драку.
Матросы одобрительно отнеслись и к распоряжению командира объявить боевую тревогу.
Пришел Феклин, курильщики расступились, давая ему место у самой кадки с водой, и примолкли, ожидая самых свежих новостей с мостика. Феклин закурил от услужливо поданного фитиля, затянулся, нашел глазами Брюшкова и сказал:
— И безмозглый же ты дурак, Назар.
Матросы повернулись к Брюшкову, тот усмехнулся, повел плечами, ему явно стало не по себе и от замечания Феклина и от чересчур пристального внимания товарищей.
— Ну что вы, ну было. В сердцах ведь, рвет из рук и бормочет. А дьявол его знает, что бормочет.
— Что бы ни бормотал, а он спасенный гость, а если хочешь знать, эта самая Петрель вроде как священная птица для всех моряков. — Феклин крепко затянулся и, для важности немного помолчав, продолжал в напряженной тишине: — Ты, поди, и не слыхал о Великом корабле? — продолжал он терзать побагровевшего Брюшкова.
— А ты сам-то слыхал?
— Слыхал, и ты вот слушай. — Феклин отвернулся от него и, поощряемый вниманием товарищей, рассказал только что услышанную в кают-компании от командира клипера легенду о Шторм Петрели и Великом корабле.
— Стало быть, по всем морям и океанам плавает без задержки круглый год агромадный корабль, и команда на нем — все души погибших, одним словом, утопших моряков.
— Наша братва, значит? — спросил Зуйков.
— И наша, и всякая. Там самые лучшие капитаны вахту несут и матросы тоже. Души, конечно, только, но порядок у них полный.
— При чем же здесь птица? — спросил Брюшков.
— При том, что помалкивай — и узнаешь при чем. А птица Петрель здесь самая главная, потому что без ее помощи никак не попасть на этот корабль. Птица эта всегда в здешних местах за судами вьется, и надо, чтобы каждый моряк заручился ее дружбой, чтобы у каждого была своя, Петрель. И вот когда он отдаст концы, душа его вылетит из тела, начнет искать себе подходящее место, то Петрель тут как тут, лети, дескать, за мной, бедная душа, я тебя устрою. И приводит на Великий корабль, и там принимают морскую душу на полное довольствие. Вот она что за Петрель, братцы! Если с ней по-хорошему, то она к тебе с полным почтением, а если вот так, по-брюшковски, то и она может так устроить, что сыграешь за борт с концом и будет твоя душа носиться по ветру над водой и выть в снастях как неприкаянная. Ну что, понятно теперь тебе, кому ты голову хотел скрутить да за что скандал поднял?
— Ну ее, Петрель твою, ко всем святым апостолам. Сказки все это. А насчет Гриньки — пусть сам не задирается. Я еще с ним поговорю при случае. — Брюшков повел глазами, ища сочувствия.
Унтер-офицер Бревешкин витиевато выругался, но нельзя было понять, то ли он на стороне Брюшкова, то ли сочувствует Гарри Смиту.
Громов сказал Брюшкову:
— Разговору у нас с тобой, Назар, будет еще много, и серьезного разговору.
— Не стращай! Я ведь терплю, терплю, да враз все фалы оборву.
— Тише, Назар, тоже мне страстотерпец нашелся, — сказал старший боцман Спирин. — Тебе и так светит неделя в карцере, смотри, как бы хуже не обернулось, вот тогда натерпишься!
Брюшков плюнул и ушел с бака, расталкивая матросов.
— И еще новости, братцы, — сказал Феклин, — и, прямо сказать, неважнецкие новости. Сейчас только Гурман Иванович говорил командиру, что тот немецкий крейсер начисто обобрал пассажирский пароход, что шел из Бразилии. Угля у немцев не хватает да и харчей не густо, вот они и рыщут где-то впереди по нашему курсу. И это еще не все. Бежали мы от англичан, а они уже во Владивостоке нас поджидают вместе с японцами. Так что, куда ни кинь, всюду клин.
— Клин клином вышибают, — сказал Громов.
— И то правда, Иван, — в тон ему поддакнул Зуйков, — пока мы придем во Владивосток, там наши их наладят. И еще мне, братцы, такая мысля в голову пришла: до чего же ушлый наш командир. Не захотел под англичанами ходить, на своего брата руку поднимать и в такой отчаянный рейс вдарился! Ведь, поди, полгода мы будем доскребаться до своих мест, а там, гляди, все и станет на свое место. Одно слово он у нас — мамочка.
Зуйков вовремя подал нужное слово, матросы стали живо и весело обсуждать новости, принесенные Феклиным. Все сошлись на том, что «наши вышибут англичан». Легенда о качурке некоторых позабавила, других навела на грустные мысли, да и то ненадолго. Стояли удивительные дни вечного лета. Пассат умерял зной. Шквалы далеко обходили путь «Ориона». Океан дышал глубоко и ровно, осторожно передавая корабль с волны на волну. Не хотелось верить, что где-то под этим высоким небом страдают люди, льется кровь, а за ровной чертой горизонта затаилась смерть.
Погоня
«Орион» обогнул мыс Доброй Надежды, пройдя далеко к югу от него, и, подхваченный ураганными ветрами «ревущих сороковых», помчался к востоку. Впервые рангоут клипера подвергался такому жестокому испытанию. Один шторм сменял другой, часто достигая ураганной силы. Океан, белый от пены, день и ночь ревел и грохотал, вздымая и сталкивая гигантские валы. Волны шли и из просторов Антарктики, ударяя в правый борт клипера, и с запада; создавалась невообразимая толчея волн, особенно когда налетали шквалы с дождем или ледяной крупой. Ветер зловеще трубил и выл на разные голоса, тщетно силясь разорвать паутину снастей и сбросить за борт мачты с парусами. Офицеры и боцманы, отдавая приказания, надрывались до хрипоты, силясь перекричать голоса бури.
Командир поднялся на мостик. Он был в черном клеенчатом плаще и теплой шапке с кожаным верхом. На мокром настиле, стараясь не держаться за поручни, что в такую качку было невероятно трудно (зато считалось хорошим тоном), стояли Стива Бобрин и лейтенант Фелимор, тоже в непромокаемых плащах и зюйдвестках, мокрых от брызг и водяной пыли. Гардемарин, двигаясь толчками, подошел к командиру и попытался было отрапортовать ему, но ветер срывал слова с губ и уносил с ликующим завыванием за борт.
Воин Андреевич кивнул головой, давая понять, что не время для рапортов, а ему самому и так все ясно.
Водяной холм серо-зеленого цвета, покрытый причудливым кружевом из пены, надвигался на клипер с правого борта, он подбросил его к грязно-серым тучам, низко мчавшимся над разъяренным океаном. «Орион» легко соскользнул с пологого бока волны и с разгона влетел на гребень вала, бегущего на восток. Широкий пенный след стлался из-под его киля, пена клокотала по бортам, клочьями летела по ветру, когда поднимался из воды его утлегарь с мокрыми клиньями трепещущих кливеров.
У лейтенанта Фелимора сияли глаза из-под мокрых ресниц, он улыбнулся капитану и развел руки, чтобы показать, до чего же прекрасно все вокруг. Он был потрясен грозной и величественной картиной океана, разбушевавшегося здесь тысячелетия назад и с тех пор не в силах остановиться хотя бы на денек. Он много читал о «ревущих сороковых», слышал об ураганах в этих местах от старых моряков и, казалось, представлял себе все, что здесь творится, но сейчас, стоя на мокром пляшущем мостике парусника, видел, что все рассказы не раскрывали и сотой доли всей этой потрясающей картины.
Воин Андреевич понял состояние молодого человека, кивнул ему, обнял за плечи, прокричал на ухо:
— Да, зрелище! Что-то похожее мне посчастливилось пережить во время плавания в Охотском море. Зима. Ветер — одиннадцать баллов!
Фелимор закивал головой, польщенный вниманием командира, но сам подумал, что разве какое-то Охотское море может сравниться с «ревущими сороковыми»? И словно в подтверждение его мыслей, навстречу клиперу ринулась гигантская волна, вернее, водяная стена, она поднялась из бурлящих недр и стремительно летела навстречу клиперу под небольшим углом к его курсу. Считанные секунды оставались до того страшного мига, когда она рухнет на палубу, раздавит и смоет людей и все, что на ней находится.
Казалось, что же ничто, никакой маневр не может спасти корабль. Стива Бобрин крикнул в мегафон, предупреждая людей об опасности, и, хотя никто его не услышал, вахтенные схватились за леера, натянутые от носа до кормы, и с ужасом смотрели на поднявшийся до облаков белый гребень. В пятидесяти саженях от клипера водяная стена рухнула с пушечным грохотом. Корабль задрожал, будто ударился о скалу, и понесся дальше, взлетая и скользя вниз среди водяных холмов и долин, заполненных водяной пылью.
Многие матросы на палубе крестились, с благодарностью поглядывая на мостик, где виднелась приземистая фигура командира в черном сверкающем плаще. Сейчас им казалось, что только командир спас корабль, что он подал команду рулевым, те отвернули в сторону и волна рассыпалась у самого (юрта. И хотя после рулевые уверяли, что никакой команды они не получали и сворачивать было некуда, матросы поднимали их на смех, говоря, что со страху они все позабыли и непонятно, как только штурвал удержался в их руках.
Фелимор перевел дух и крикнул, ни к кому не обращаясь!
— В ней было сто футов!
— Что с вами, успокойтесь! — сказал Бобрин, подходя к лейтенанту. В эти минуты он забыл неприязнь к своему сопернику. После пережитого Фелимор показался ему необыкновенно симпатичным человеком, и ему сейчас хотелось попросить у него извинения и заверить в вечной дружбе.
— Сто! — повторил Фелимор.
Ветер немного стих, и можно было разговаривать, не особенно напрягая голос и слух.
— Вы о чем? — спросил Бобрин.
— Сто футов — волна!
— Ну, положим… — И хотя самому Стиве Бобрину высота волны показалась не меньше ста саженей, он сказал:
— Ну что вы, лейтенант, обыкновенная зыбь. Все дело в том, что нас круто положило на правый борт.
Командир слушал, улыбаясь смотрел на паруса, на белый от пены океан. Пробился солнечный луч, и вода вспыхнула чистым зеленым светом. Зеленую полосу пересек буревестник. Распластав крылья, он мчался, держась у самой воды.
Воин Андреевич задумался, облокотясь на перила мостика.
Уже много дней его мучили неотвязные мысли: правильно ли оп поступает, рискуя жизнью экипажа, вместо того чтобы подчиниться воле событий. Не лучше ли было идти с англичанами в Мурманск, а там действовать смотря по обстоятельствам. Вот сейчас могло произойти непоправимое. Он улыбнулся, найдя этот аргумент детски наивным. Он моряк, и такого рода случаи и связанный с ними риск — вещи самые обыденные. И если случится несчастье, которое он не в силах предотвратить, то в этом не будет никакой его вины. Случается беда и в Финском заливе, а здесь море посерьезней. Он с нежностью подумал о своем корабле: «Какой молодец! Послушен, как отыгрывается на волне. А скорость! Удивительный корабль! Так его и надо было назвать — „Удивительный“».
И снова мысли его вернулись к цели плавания. Куда он приведет клипер? В чьи руки? «Во Владивостоке пока только японцы. Судя по всему, скоро туда прибудут американские и английские войска. Захватят Дальний Восток и Сибирь. Сменят правительство. Если уже не сменили. Выходит — от чего ушел, к тому и приду. Меня встретят там с распростертыми объятиями: доставил оружие и продовольствие „освободителям“. Все усилия, надежды многих людей на клипере пойдут прахом. Какой же выход? Как я должен буду вести себя, когда отдам якорь в бухте Золотой Рог, и будет ли у меня выбор? Дальний Восток велик. Надо высадиться в одной из отдаленных бухт? Уйти на Камчатку? В Николаевск-на-Амуре? Или в Южную Америку и там еще подождать развития событий? Нет, нет, все не то, не то…»
От невеселых мыслей командира вернул к но менее невеселой действительности Стива Бобрин, доложив, что по корме замечен дым. Воин Андреевич вначале не придал этому особого значения, так как «Орион» вышел на линию Кейптаун — Бассов пролив. «Видимо, какой-нибудь англичанин спешит в Австралию за шерстью, — подумал он. — Но тогда какая же у него скорость, если он догоняет нас в такой шторм?» Воин Андреевич попросил у Бобрина бинокль. Космы густого черного дыма стелились по всхолмленному горизонту.
— Многовато дыма для нормального торгового судна, — сказал командир и приказал послать матроса на салинговую площадку.
Через десять минут на мостик прибежал Зуйков и доложил, что тем же курсом, что и клипер, идет военный корабль, видимо крейсер.
— Как утюг зарывается, но ход имеет. Должно быть, нас тоже заметил и дымить стал погуще, — заключил Зуйков, вопросительно глядя на командира. Ему хотелось спросить, не тот ли это немец, о котором так много говорили последние дни, но по тому, как посуровело лицо командира, понял, что сейчас не до разговоров.
— Спасибо. Иди, братец, смотри во все глаза и сообщай обо всем, да не сам, передавай вахтенным голосом, ну если ветер, тогда…
И действительно, ветер унес окончание фразы, завыл в снастях, чуть присмиревшие было волны загрохотали с новой силой. Командир показал глазами на мачты и крикнул на ухо побледневшему Бобрину:
— Будем ставить фор-, грот- и крюй-брамсели, отдайте рифы. Сейчас наше спасение только в скорости!
— Спасение?
— Да, если это немец! Не теряйте время!
Клипер стремительно бросало с борта на борт, мачты гнулись, и казалось, не выдержат и рухнут за борт. И тут боцманы и унтер-офицеры подхватили команду: ставить верхние паруса. В другое время такой приказ показался бы безумным, по сейчас матросы уже знали, что другого выхода нет, и с отчаянной удалью бросились к вантам.
«Орион» пошел быстрее, но стал больше брать воды на палубу. Иногда он ложился так, что концы нижних рей касались набегавших гребней волн. За кормой поднялась и бежала следом гигантская белогривая волна, при взгляде на нее в сердце закрадывался жуткий холод, казалось, она вот-вот настигнет клипер. «Орион» содрогался от непомерного напряжения, убегал от нее. И снова командир проникся нежностью к своему кораблю.
Дым уже отчетливо чернел под серыми тучами. Командир н: шрнил курс. Клипер стал уходить на северо-восток. В скором времени и преследователь лег на этот же курс.
На мостик давно поднялся старший офицер. Он ничем не выражал своих чувств, не давал советов командиру: тот делал все, что можно было сделать. Старший помощник, Стива Бобрин, лейтенант Фелимор стояли, держась за поручни мостика, и смотрели за корму. Командир, с тех пор как были поставлены верхние паруса, ни разу не обернулся, вес его внимание захватили паруса. «Орион» летел в пене и брызгах, круто лежа на правом борту. Качало его сейчас меньше.
На мостике появился радист. Все вопросительно поглядели на него.
— За нами гонится «Хервег». Требует, чтобы мы легли в дрейф.
— Вы не ответили? — спросил командир.
— Нет.
— И не отвечайте. Мы уравняли скорости и даже, кажется, идем быстрей. Сколько на лаге?
— Семнадцать! — ответил Стива Бобрин.
— Для них, видимо, держать такую скорость труднее. Крейсер порядком потрепан, да и угля маловато. Идите, Герман Иванович. Опять вы с непокрытой головой.
Томительно тянулись минуты. Казалось, никогда не кончится этот серый, наполненный воем и грохотом день. Старший офицер вытащил часы.
— Еще час сорок минут… — прошептали его губы. И все поняли, что только через час сорок минут стемнеет.
Опять пришел Герман Иванович, так же без головного убора, и доложил:
— «Хервег» передает, что, если мы не ляжем в дрейф в течение десяти минут, он откроет огонь.
— Десять минут в нашем положении — не малый срок. Молчите по-прежнему. Пусть думает, что у нас испортился радиотелеграф, и это, возможно, даст нам еще несколько минут. Позовите артиллерийского офицера! — приказал он Бобрину.
Когда Новиков пришел и, козырнув, остановился, широко расставив ноги, чтобы не упасть на покатом и качающемся мостике, командир приказал:
— Орудия к бою! На выстрелы крейсера отвечайте огнем!
— Есть, отвечать огнем! — И добавил: — Понимаю!
— Выполняйте! Спасибо, что поняли. — Воин Андреевич повернул ручку машинного телеграфа: «Готовить машину».
Старший офицер одобрительно кивнул.
На западе тучи раздвинулись, алое закатное небо бросило багряные блики на кипящий океан. Дым из труб пиратского корабля взмыл столбом и понесся черным облаком.
Приближался шквал. Командир не отдал обычных распоряжений об уборке парусов, только приказал спуститься наблюдателю с бизани. Все на палубе замерли в ожидании встречи с вихрем. Как поведет себя «Орион»? Что станет с парусами? Дождевая степа и ветер ураганной силы положили «Орион» на борт, и казалось, что ему больше не стать на ровный киль. Матросы, согнувшись, сидели под наветренным бортом, с трудом удерживаясь, чтобы не скатиться по наклонной палубе. Не всем это удалось, и несколько матросов заскользили к противоположному борту, тщетно цепляясь за мокрый настил.
Клипер выдержал натиск. Шквал пролетел, сорвав и порвав в клочья почти все паруса с грот-мачты. По какому-то непонятному капризу бури паруса на фок- и бизань-мачте остались целыми. «Орион» значительно сбавил скорость. Да и ветер стал стихать. Зуйков опять полез на салинг бизани и, еще не добравшись до места, закричал:
— Всего, холеру, видать! Кладет его, как железное корыто! Стреляет из носовой! По нас бьет, сволочь!
Донесся глухой пушечный выстрел. Разрыв снаряда увидал только марсовый и передал, что упал кабельтовых в двух впереди и сильно влево.
— Немецкая точность, — сказал старший офицер, глядя на часы.
Новиков открыл частый ответный огонь из кормовой пушки. Еще несколько снарядов, выпущенных «Хервегом», легли значительно ближе к «Ориону». Неравный поединок продолжался. Для «Ориона» он теперь носил чисто символический характер, как ответ на предложение сдаться на милость победителя. И все-таки после каждого выстрела матросы, притихнув, жадно ловили слова корректировщика и думали: «Вдруг попадем в такое место, что от него только гайки посыплются».
«Хервег» заметно приближался. Тем временем матросы ставили на грот новые паруса. Стихнув было, ветер подул с прежней силой, вырывая из рук матросов парусину, не давая крепить ее к реям.
Командир и старший офицер молча посмотрели друг другу в глаза и без слов поняли, что каждый думает об одном и том же.
…Это было давно, они еще учились в младших классах Морского корпуса. Только пришла весть о геройской гибели «Варяга», и они поклялись всем классом никогда не сдаваться врагу, даже в безнадежном положении, во сколько бы раз силы ни превосходили их собственные. Гибель «Варяга» потрясла и очаровала их, наполнив души упоительным восторгом. И многие из их однокашников уже сдержали клятву на Балтике и Черном море, и вот теперь настал их черед.
Командир приказал вахтенному матросу Трушину:
— Артиллерийского офицера ко мне! Расчет пусть ведет огонь.
— Есть! — Трушин повторил приказание и кинулся его выполнять.
С равными промежутками била кормовая пушка, «Хервег» не отвечал, неумолимо приближаясь к «Ориону».
Артиллерийский офицер, выслушав приказание, полез во внутренний карман кителя и вытащил связку ключей от артиллерийского погреба. Подавая ключи, он сказал, побледнев:
— Я могу справиться лучше. Поверьте, я все понимаю и также считаю своим долгом, как русский офицер.
— Вы изменили взгляды?
— Нет!
— Тогда что же?
— Дело касается чести Российского флота! Я готов умереть вместе со всеми, взорвав клипер!
— Благодарю, Юрий Степанович! По правде — не ожидал. Тем дороже. О смерти говорить еще рано. Вы пока подготовьте все что следует на крайний случай.
— Есть!
— Идите вместе с Николаем Павлычем и матросами. — Он передал ключи старшему офицеру.
Матросы с неимоверными трудностями, обрывая ногти, захватывая кромки парусов зубами, поставили наконец нижние и верхние марсели, и все же «Орион» почти не прибавил хода, так как ветер стал дуть порывами. Скорость клипера упала до восьми узлов, а крейсер, чадя из своих труб, подходил все ближе. До пего оставалось не более четырех миль. С марсовой площадки было видно, как «Хервег», окутанный дымом, сильно брал на палубу воду, иногда его закрывали высокие валил, и казалось, что он утонул, но через секунду — другую выбирался из водяной долины, неумолимо приближаясь к «Ориону».
Орудийный расчет на корме «Ориона» продолжал стрелять, и несколько снарядов, как радостно сообщил корректировщик, взорвались на палубе крейсера. «Хервег» не отвечал.
Старший офицер с Новиковым и матросами Громовым и Трушиным спустились в погреб и, подготовив снаряды к взрыву, перешли в кормовой трюм, где находилось около двух тысяч снарядов среднего калибра. Новиков со знанием дела закладывал толовые шашки между ящиками и подсоединял к ним запалы.
— Вот и все, — сказал он. — Тяните, ребята, провода на мостик. Пусть командир своей рукой отправит всех нас кого к богу в рай, а кого на Великий корабль, некоторых же в преисподнюю.
— Так и всех? — спросил Трушин. Они остановились возле трапа, выжидая, когда выровняется клипер.
— Нет, желающие могут сесть в шлюпки. Наш командир добрый человек.
— Да, зря не даст погибнуть, — сказал Громов. — Все же кому-то придется…
— Страшно? — спросил Новиков.
— Не скажу, чтобы с радостью. Другие были планы, да ничего не поделать. Наша вахта с Романом. Придется до конца на мостике. Ну а вам можно и в шлюпку.
— Нет, я остаюсь.
— Зачем зря голову класть?
— Как знать… Для меня это неплохой выход. Ну, Трушин, давай, пошел наверх!
— Сейчас. Ну и кладет…
Трушин, ступив на трап, остановился и сказал:
— Мне вот совсем не страшно, потому, кажется, что ничего этого не может случиться. Больно нелепо как-то…
Они поднимались по трапу, задерживаясь, когда корабль сильно клало на борт. Впереди поднимался Новиков, за ним матросы, замыкающим — старший офицер.
Капитан-лейтенант Никитин усилием воли отогнал мысли о недалекой смерти, а старался все силы сосредоточить на выполнении долга в том его высшем проявлении, как он его всегда понимал. Сейчас ему казалось, и он внушал себе, что вся его жизнь была для того, чтобы погибнуть и погубить вражеский корабль. Они подойдут к его борту, столкнутся с ним, и в этот миг командир взорвет клипер. И все… Конец всему… Трюм со снарядами находится под мостиком. Они даже не почувствуют боли…
Заметно стемнело. «Хервег» теперь смутно виднелся за кормой. Командир приказал прекратить огонь. «Орион» шел почти с прежним количеством парусов.
— На лаге? — спросил командир.
— Пятнадцать узлов! — ответил Трушин.
— Прекрасно!
— Надо продержаться еще двадцать минут, пока совсем стемнеет. — Старший офицер посмотрел на часы. — Даже пятнадцать. И неплохо бы небольшой шквал.
— Если самый небольшой, — ответил командир, — и без особых потерь. Матросы измучились. Какая отвага! Доблесть! Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали, что при такой погоде можно поставить сорванные паруса, и всего за каких-то сорок минут.
— За тридцать пять, — поправил старший офицер.
Оба подумали: «Обойдется! уйдем!» — но никто, вслух не стал загадывать.
Барон фон Гиллер стоял на палубе возле мостика, с недоумением наблюдая за всем, что происходит на палубе, переходя от надежды к отчаянию. Он не понимал, чем руководствовался командир, бросая вызов во сто крат сильнейшему противнику, зачем это состязание в скорости, артиллерийская дуэль? У него не было сомнений, что «Хервег» догонит клипер и захватит его без всяких условий, в то время как русские могли бы выторговать приемлемые условия для сдачи в плен. При этой мысли барон усмехался, будучи уверенным, что ни одно из условий капитан крейсера — Рюккерт не выполнит. Он саркастически щурил глаза, наблюдая за работой матросов на грот-мачте, уверенный, что, пока они там возятся, «Хервег» подойдет к борту «Ориона».
Крейсер не подходил. Сорванные шквалом паруса заменили новыми, и барон фон Гиллер до боли сжал кулаки: клипер пошел быстрее. Новая надежда — стих ветер. И совсем уже невероятное — они подготовили клипер к взрыву! Он пытался остановить Новикова, когда тот спустился с мостика и быстро пошел к трапу, ведущему в, жилую палубу. Новиков прошел, не оборачиваясь и не проронив ни звука.
— Что уставились? — спросил Новиков, возвращаясь. — Советую и вам подготовиться к переселению на Великий корабль.
— Сумасшедший. Сейчас же перережьте провода! Мы на пороге свободы! Не медлите! Или я сам.
— Вас сбросят за борт раньше времени, и только. Приготовьтесь. Вы верующий, побеседуйте с богом, покайтесь в грехах. Или можете исповедаться у отца Исидора. Он сейчас тем и занят в матросском кубрике.
— Не скальте зубы! Вы… вы… Я задушу вас, если вы посмеете в такую минуту…
— Только сделайте попытку — и не доживете полчаса до законной кончины. — Новиков похлопал по кобуре с наганом. — Надевайте последний раз чистое белье и отправляйтесь наверх. Сейчас каюта — гроб.
В дверях он задержался и сказал:
— К сведению: мы прихватим с собой всех викингов во главе с «Хервегом». У меня более ста тонн взрывчатых веществ. Я вам обеспечил приличное общество в дубовых рощах Одина. Какое будет зрелище! Прощайте.
— Да вы пьяны!
— Как всегда, разве немного больше, и с удовольствием выпью еще. Не хотите? Ну и черт с вами.
Целую минуту ошеломленный барон фон Гиллер простоял посреди каюты. То, что он услышал, никак не вязалось с его представлениями о развитии событий. Он не раз находился на краю гибели и никогда еще не чувствовал так близко свой конец. О других он не думал. Здесь, на русском паруснике, имелась только одна жизнь, действительно представляющая ценность, — жизнь его, барона фон Гиллера, и она должна исчезнуть бесследно! Все кричало в нем, что нельзя допустить рокового исхода. Должен быть, есть спбсоб избавиться от гибели! Находил же он его не один раз! Или избавление приходило по воле рока?
Он попробовал молиться и не смог, чувствуя, что зря теряет время. Надо действовать! Все-таки он попробует перерезать провода. Теперь уже темпо! Надо попытаться! Больше ничего не пришло ему в голову. И вдруг оп увидел, как мимо раскрытых, раскачивающихся от качки дверей проскользнула фигура радиста. И его осенило: «Радио! Он может сейчас передать капитану „Хервега“». Каюта радиста была не заперта на ключ. Аппаратура включена. Стоя, он стал передавать:
«Капитану „Хервега“. Сообщает Гиллер. Клипер подготовлен к взрыву. Опасайтесь подходить к борту…»
В коридоре раздались голоса и шаги. Он отскочил к двери. Мимо пробежали матросы. Барон не стал возвращаться к аппарату, рисковать вторично он не хотел: в такой обстановке с ним больше не станут церемониться. Он вышел из радиорубки, и, хотя клипер бросало и палуба кренилась во все стороны, барон легко преодолел путь до каюты Новикова и, войдя в нее, с усмешкой посмотрел на раскрытый чемодан, на скомканное в нем белье и подумал, что у людей, которые так легко отдаются в костлявые руки смерти, нет будущего. В каюте тускло светила угольная лампочка, плескалась вода в графине, установленном на полочке с глубокими гнездами и для графина и для стаканов. Он налил полный стакан и жадно выпил. Затем растянулся на диване, чувствуя приятную расслабленность во всем теле и горделивый покой в душе. Еще раз он сумел доказать свою необыкновенную волю к жизни. Только он один из многих сотен обреченных на смерть смог отвести удар Рока! Спас и тех, кто достоин жить, и кто — нет. И ни тени сомнения не мелькнуло на его лице. Он усмехнулся, подумав: «Пусть это им будет платой за мое спасение, которым они так кичатся, хотя я уверен, что не погиб бы и без них».
Он закрыл глаза. Запульсировала машина. Диван выровнялся. Качало меньше. «Изменили курс, — подумал он, засыпая. — И никто там, наверху, не знает, чем обязан мне, и никогда не узнает». Ему пришли на память слова Тита Ливия: «Кто презрел пустую славу, тот может добиться истинной». Шепча латинское изречение, он уснул.
Между тем все события развертывались далеко не так, как представлял себе барон фон Гиллер. Капитан «Хервега» Рюккерт, прочитав радиограмму с «Ориона», скомкал ее и швырнул в пепельницу.
— Опять появился этот таинственный агент, — обратился Рюккерт к офицерам, находившимся в боевой рубке. — Я сильно сомневаюсь в его подлинности. По всей вероятности, детская хитрость русских. Первый раз они дали нам ложные координаты и смогли уйти, а сейчас хотят испугать! Дешевый трюк! — Он спросил старшего артиллериста: — Дистанция?
— Пятнадцать кабельтовых.
— А мы зря жжем уголь. И боюсь, что в такой темноте им удастся ускользнуть.
Он приказал ожидавшему начальнику радиостанции:
— Передайте: «Клиперу „Орион“. Немедленно ложитесь в дрейф. Согласие подтвердите немедленно по телеграфу и красными ракетами. Через пять минут — смерть». Все! Идите!
Не получив ответа, капитан Рюккерт махнул рукой, и главный артиллерист, давно подготовив данные для стрельбы, приказал вести огонь из всех пушек левого борта, включая артиллерию главного калибра. Стреляли по площади. Уже через пятнадцать минут после наступления темноты сигнальщики потеряли клипер из виду. Прожекторы тщетно шарили своими ослепительными лучами по поверхности бурного океана. Клипер словно растворился в темноте.
«Орион», поставив все паруса, уходил, круто изменив курс, и все же несколько снарядов легли в опасной близости от его кормы.
Ужинали в этот день на клипере поздно. Все офицеры находились в приподнятом настроении, события дня подействовали на всех, как хмельное вино, к тому же по рукам ходила бутылка рома. Сильно качало, и стаканы с горячим чаем, обернутые салфетками, офицеры держали в руках.
Барон фон Гиллер, с недавних пор снова занявший место за офицерским столом, пересиливая себя, улыбался, когда все смеялись над чьей-нибудь остротой.
Новиков, сидевший с пим рядом, тихо сказал:
— У вас такой вид, как будто вы недовольны, что ваши соотечественники не отправили вас на дно.
— Совсем нет, но мне действует на нервы чрезмерный оптимизм ваших офицеров.
— В этом одно из наших преимуществ. Россия давно бы погибла, если бы принимала близко к сердцу все невзгоды, а их было немало в нашей истории, да и в настоящее время хоть отбавляй.
— Не знаю, не знаю, — неопределенно буркнул барон, отхлебывая из стакана горячий чай с ромом и ломая голову над тем, почему этот идиот Рюккерт открыл огонь.
За столом горячо обсуждали причины появления рейдера в этих широтах.
Старший офицер говорил:
— После ограбления «Святой Терезы», запасшись углем и водой, боясь преследования англичан, он, видно, решил замести следы и вот, используя западное течение и ветер, направился, как и мы, в сторону Австралии, с тем чтобы внезапно появиться в Голландской Индии, или Южно-Китайском море, или в Океании, где еще можно топить англичан. Мы подвернулись ему случайно, и он хотел захватить клипер, может быть зная о нашем грузе. Англичане, безусловно, растрезвонили о нас на весь мир.
— Да, но как они определили на таком расстоянии, что идет именно «Орион»? — спросил старший механик.
— У них довольно высокая мачта, и они были в более выгодном положении в смысле освещения. Конечно, они могли ошибиться, да это для них не имело значения. Парусник подходящих размеров и с каким-нибудь грузом. Они хотели заставить нас идти под дулами орудий, пока море не позволит им окончательно захватить корабль. В лучшем случае они бы высадили нас на один из островков вблизи Явы.
— Плавая среди акул и прочей нечисти, некоторые чада господни перенимают их нравы и обычаи, — сказал отец Исидор, сурово посмотрев на барона.
Барон фон Гиллер спросил у Новикова:
— Что сказал обо мне ваш лохматый жрец?
— Не о вас, а вообще о роде людском. Хотя все это вы можете принять и на свой счет. Он сравнил людей с акулами.
— Благодарю вас. Острота не блещет новизной.
— Не стоит благодарности.
Кроме отца Исидора да артиллерийского офицера, все за столом были подчеркнуто любезны и предупредительны с бароном: он подвергался такой же опасности и даже спал во время обстрела, что было воспринято как проявление твердости духа и доверия к своим русским друзьям.
И команда в большом матросском кубрике не менее горячо обсуждала события дня. Ругали командира «Хервега», возмущались его бессмысленной жестокостью и противопоставляли ему находчивость и геройство своего Мамочки.
— И ведь что главное, братцы, — говорил Зуйков, — он-то, наш, ни на секунду не сдрейфил, посмотрел только на мачты, видит, что выдержат, и дал приказ ставить верхние марселя, и понесся наш «Ориоша» так, что немец со всеми своими машинами только в воду зарываться начал. Вам что внизу смотреть. Вот с марса была картина! Жуть брала, когда на борт дожило.
— Вдруг еще бы один шквал, да посильней — тогда что? — спросил Брюшков.
— Конец тогда! — сказал Громов. — Мачты бы снесло. Да лучше смерть, чем позор.
— Что же в ей, смерти, хорошего? — вздохнул Брюшков.
— Кто говорит. Хорошего немного, если и есть тот Великий корабль, на котором плывут души моряков. Мало охоты быть в его экипаже. И все же если уже выхода нет, то ничего не попишешь. У русских моряков нет обычая флаг опускать перед любой силой. Вот сейчас дома вся свора нас душить бросилась, а флаг не опускает рабоче-крестьянская власть. Тоже, поди, подняла все паруса, какие есть, и бьется со всем буржуйским флотом.
— Бьется ли? — спросил Брюшков.
— Бьется, Назар! Поверь моему слову — бьется.
«Синяя птица»
От восхода до захода солнца на марсовой площадке дежурили матросы, пристально вглядываясь в четко очерченный круг горизонта. Клипер пересекал довольно оживленную линию, по которой шли суда в Голландскую Индию, Новую Гвинею, Австралию, Китай. Дымили пароходы на горизонте, иногда они обгоняли клипер или расходились встречными курсами. «Хервег», видимо, обходил оживленные морские дороги. Но каждый раз, когда с марса доносился тревожный голос матроса, извещавшего о замеченном корабле, только один человек на «Орионе» радовался этому. Клипер снова шел в экваториальной зоне, стояла прекрасная погода. «Орион» нес все паруса, делая около двенадцати узлов. Сейчас встреча с рейдером была бы для него роковой. Фон Гиллер весь напрягался, заслышав голос с мачты, стараясь ничем не выдать своего волнения, и, когда вновь оказывалось, что появился очередной транспорт, барон только стискивал свои золотые зубы. За последние дни и сам, и через Новикова барон фон Гиллер пытался выяснить отношение офицеров к решению командира взорвать корабль. Все, с кем удалось поговорить, превозносили командира, но считали, что действительно тогда не было выхода и они готовы были умереть, теперь же обстановка изменилась, и если их снова нагонит «Хервег», чего не должно случиться, то надо пойти на компромисс. Пусть забирает часть продуктов. «Жизнь дороже английских консервов», — сострил Стива Бобрин.
Барона фон Гиллера изумил ответ лейтенанта Фелимора:
— Я бы сам мог взорвать, — сказал он. — Вот сейчас, при таком солнце и таком чудесном океане, не задумываясь! Разве не прекрасно уйти так из жизни?
— А ваша Элен?
— О, она поняла бы меня и гордилась всю жизнь!
— В чужих объятиях.
— Не говорите пошлостей!
Барон, вскинув голову, молча повернулся к нему спиной и пошел к себе в каюту. Там он застал Новикова лежащим на койке. Сев на диван, спросил:
— Скажите, лейтенант, неужели все офицеры изъявили согласие погибнуть ради прихоти командира?
— Прихоть? Не думаю, чтобы вы не понимали сути дела.
— Да, но в данном случае массовое самоубийство ничем не было оправдано. Никто бы даже не узнал о вашей гибели.
— И вашей, барон. Последнее вас особенно заботит?
— Безусловно. Дурацкая смерть не входит в мои расчеты.
— Мало кто ее учитывает. А вот командир, этот мягкий, прекраснодушный человек, учел.
— Неужели никто не протестовал?
— Вы говорите наивные вещи: протест в бою против воли командира!
— Допустим, у вас железная дисциплина, ну а после?
— После? Ну как не быть разговорам. Конечно, против наш пастор, затем стармех, и, как ни странно, всеми силами поддерживает в этом командира лейтенант Горохов, не говоря уже о старшем офицере.
— Ну а вы?
— Тогда я здорово выпил и все же не раскаиваюсь. Хороший конец! А вы не были настроены? И почему вас так интересует моральное состояние офицеров?
— Когда-нибудь я напишу книгу.
— Представляю, какой вы там нагородите сентиментальной немецкой чепухи…
Зная, с каким нетерпением его компаньон ожидает новой встречи с «Хервегом», Новиков не упускал случая, чтобы не сделать язвительного замечания. Только что повстречался голландец-десятитысячник, белый, с двумя желтыми полосами на черной трубе. Он прошел недалеко, и несколько матросов на его палубе, красивших шлюпку, оставили работу и приветственно махали руками. Вахтенные на клипере кинулись к борту и в свою очередь приветствовали голландских моряков.
Фон Гиллер послал проклятие.
Новиков заметил:
— Оставьте, барон, всякие надежды.
— Откуда у вас такой пессимистический взгляд?
— Наоборот, оптимистический. После обстрела я утвердился в мнении, что нам нечего рассчитывать на пощаду.
— Вы мой друг, и я…
— Не произносите таких кощунственных слов. К тому же, как вам ни покажется странным, я не смог бы оставить вот этих людей низшей касты, как вы изволили их определить.
— Уверяю, что с крейсера стреляли без всякого намерения попасть в нас.
— Скажите другому. Я артиллерист и видел, как кучно ложились снаряды. Они действительно перешли на поражение. Били всей артиллерией, ураганным огнем!
— Но мы живы!
— Не по их воле. Просто не могли попасть. Что-то произошло с крейсером. Зуйков говорил, что его заливало волной. Да наш капитан ловко сманеврировал.
— «Хервег» развил большую скорость и, естественно, стал на себя брать воду.
— Само собой. Но не исключено, что ваш викинг «Хервег»… — Новиков выразительно опустил палец.
— Это невозможно!
Новиков усмехнулся.
Командир снова занял свое бамбуковое кресло. «История величия и падения Рима» лежала в кармане, специально пришитом сбоку кресла. Воин Андреевич теперь редко раскрывал эту книгу. Как ни велика его история, новые заботы отодвинули на второй план события в Древнем Риме. Каждую минуту мог появиться немецкий рейдер или английский поенный корабль.
На «Орионе» имелся полный комплект карт до самого залива Петра Великого при условии плавания через Малакский пролив, но там хозяйничали англичане, надо было пытаться пройти Зондским проливом между островами Суматрой и Явой, пересечь весь гигантский архипелаг Голландской Индии, где поджидают рифы, неизвестные течения, тайфуны, а карт внутренних вод Голландской Индии не было. Несколько лет назад Воин Андреевич проходил Зондским проливом и сейчас восстанавливал в памяти все опасные места.
Ко всему кончалась пресная вода, пришлось ввести жесткую норму. Один из матросов заболел цингой, и врач не ручается, что это последний случай. Надо было во что бы то ни стало запастись овощами и фруктами на первых встречных островах у берегов Суматры.
Старший офицер сказал:
— Пройдем и без карт, Воин Андреевич. Ходили же до нас здесь португальцы, испанцы, англичане.
— Да, Николай Павлович. Им было труднее. Они попадали к неведомым островам среди неведомых морей, а мы пойдем уже не на ощупь. Получаем ежедневно точное время, погодные условия, и все же…
— Безусловно, придется трудновато.
— Как матросы?
— С виду как подобает, и все же чувствуется разложение по классовым признакам. Группа Лебедя — Громова более организованна, дисциплинированна, но, кажется, находится в меньшинстве. Большинство матросов у нас из крестьян, им нужна только земля. Они не прочь отобрать ее у помещиков, поделить, а все остальное оставить как было, не понимая, что такой передел повлечет катастрофические изменения в политической жизни всей страны, и уже в части России это произошло и происходит.
— Словом, как и мы с вами, ждут не дождутся родных берегов.
— Только и разговоров что о доме. Боцман Свиридов говорит, что желание увидеть Россию мирит всех врагов. Посмотрите, как работают Брюшков с Зуйковым на грот-трюм-рее, а ведь их не назовешь друзьями. У них какая-то давняя свара. Брюшков из кулацкой семьи, а Зуйков чуть ли не батрачил у него…
Впередсмотрящие дружно крикнули, что справа по носу замечен парусник. Это была баркентина. Вела она себя очень странно, все время меняла курс. Когда к ней подошел «Орион», то «Блю Бёрд» — «Синяя птица» стала лагом к волне, стремительно раскачиваясь из стороны в сторону. На ее палубе не было ни души.
— Видимо, эпидемия, — сказал командир.
— Да, все шлюпки на месте, — согласился старший офицер.
«Орион» лег в дрейф. Скоро от него отошел вельбот под командой Стивы Бобрина с доктором и лейтенантом Фелимором.
Выполняя приказание командира, Бобрин обошел кругом баркентину, и они с Фелимором тщетно пытались вызвать кого-либо на палубу.
Матросы тихо переговаривались:
— Какой синью борта покрасили.
— Кораблик или совсем новый, или недавно из дока.
— Вдруг там чума?
— Что поделать, не бросать же людей.
— Наш Бородулин в цинге лежит.
— Овощ нужен.
— От холеры и чумы первое дело водка с чесноком. Вот когда мы в Шанхай ходили…
— Разговорчики! — прикрикнул Бобрин.
Первыми поднялись на парусник врач и санитар Карпушин — человек хилый, неспособный нести службу ни на палубе, ни на мачтах и потому определенный в медицину. Он сказал, хватаясь за конец, свисавший с борта:
— Если там чума или что в таком роде, то нам хана, братцы.
Пропело десять минут, и над планширем фальшборта показались головы доктора и санитара. Доктор сказал, растерянно разводя руками:
— Никого нет. Не нашли. Все брошено.
— Вот оказия! — добавил заметно повеселевший Карпушин. — Хоть шаром покати.
Матросы обыскали весь парусник и не нашли никого. На палубе был относительный порядок, люки трюмов закрыты. Видимо, несколько раз волны попадали на палубу и разбросали канаты и даже перебросили несколько концов через борт. В каюте капитана на полу валялось белое шерстяное одеяло и осколки графина. В кубриках матросов тоже большинство коек оказались неубранными, на полу валялись матросские робы. Все говорило, что матросы ночью вскочили с коек и в панике оставили кубрик, потому что в другом случае они должны были одеться, как бы срочно ни потребовались на палубе. Судовых документов не, было, кроме вахтенного журнала. Он лежал в специальном гнезде на переборке у штурманского столика. Последняя отметка в нем была недельной давности. В трюмах, куда не без опаски спустились матросы, находился груз: кожа и шерсть.
На камбузе кто-то похозяйничал: кастрюли катались по полу, видно было, что из котла небрежно доставали кашу с консервами, следы этого блюда были и на плите, и на полу камбуза. В кладовой двери распахнуты настежь. Она почти пуста, и тоже, видно, разграбили ее в спешке; копченый окорок валялся у порога, пол усеян битым стеклом и осклизлыми томатами и огурцами. У носовой надстройки стояло пять бочек с пресной водой, но видно, что их здесь было больше: лежали перерубленные канаты.
— Ну что вы скажете по этому поводу? — спросил Стива Бобрин у Фелимора, останавливаясь посреди палубы. — Как все это понять?
Лейтенант Фелимор сказал:
— В Атлантике в 1872 году при очень похожих обстоятельствах исчезла команда бригантины «Мария Целеста». Вы должны знать об атом необыкновенном случае.
— Что-то припоминаю. В Корпусе слышал, да, да, конечно слышал. Но там не было и спасательных шлюпок, а здесь все налицо!
— Действительно, здесь явное преступление. Судно разграблено! А люди или увезены, или все убиты, — сказал Фелимор.
— По всей вероятности. Любопытно, но чья это работа?
— Для обычных пиратов, что еще водятся в Индонезии, район слишком удален от берегов и лежит на трансокеанской линии.
— Так кто же, по-вашему?
— Я могу только высказывать предположения…
— Ну, конечно, улик нет.
Подошел врач и почему-то шепотом сказал, что на палубе обнаружена запекшаяся кровь и на ней след каблука.
Глядя на этот след, Фелимор сказал:
— Очень похоже на каблук обуви, которую носят на военных судах. И я все больше прихожу к мысли, что здесь побывал «Хервег» и почему-то внезапно скрылся. Я не настаиваю, но уверен, что если рейдер повстречался с несчастной «Синей птицей», то это дело рук его капитана. Мы убедились, на что способен этот человек.
Бобрин иронически скривил губы:
— Не знал, что вы последователь Шерлока Холмса.
— Да, я люблю этого литературного героя, и он, безусловно, нашел бы виновников этого преступления.
— Остается сожалеть, что его здесь нет. Сигнальщик! Передай, братец, что команда покинула баркентину.
На «Синей птице» побывали командир и старший офицер.
— Жуткое дело! — сказал Воин Андреевич. — Действительно, похоже на зверское убийство, и я склоняюсь к мнению лейтенанта Фелимора, хотя не хочется верить, что военные моряки способны на такое…
— Я нисколько не удивлюсь, если все это когда-нибудь подтвердится, — сказал Николай Павлович. — Рюккерт всегда вел себя как пират, вроде Моргана или Дрейка.
— Не приведи бог очутиться в таком положении! — Воин Андреевич, печально нахмурившись, стал наблюдать за матросами, которые поспешно наводили порядок на палубе, крепили паруса, изредка перебрасываясь парой слов, и то шепотом. К ним подошел старший офицер и тоже очень тихо стал давать какие-то указания.
— Жаль оставлять такой корабль, — сказал он, подходя к командиру. — Мы могли получить за него приличный приз. Если бы…
— В том-то и дело, мамочка моя. Мы можем потерять месяц, а то и два, пока будет идти следствие. К тому же не исключена возможность, что на нас наложат лапу союзнички. Лучше всего оставим его в покое и сообщим в Сидней, а также окрестным судам о его местонахождении.
— Представляю, какая начнется гонка за право получить приз.
— И мы кое-какие перья вырвем из хвоста «Синей птицы». Надо взять карты, воду и продукты.
— Я уже вызвал баркас…
Через два часа клипер продолжал свой бег, оставив «Синюю птицу» с ее тайной среди водной пустыни.
Матросы с облегчением вздохнули, когда скрылись мачты несчастного корабля, но еще долго, пока не нагрянули новые события, коротая долгие вахты, в кубриках и на баке главной темой их разговоров была судьба экипажа баркентины.
Яванское море
В ворохе карт, взятых на «Синей птице», нашлись и листы прибрежных вод Больших Зондских островов, Яванского моря до Гаспарского пролива, а дальше тысячу миль надо было идти ощупью, как сказал Воин Андреевич, надеясь на впередсмотрящих, интуицию вахтенных офицеров, погоду и особенно удачу. В мелком Яванском море множество коралловых рифов, которые видны только во время отлива, на пути корабля встречаются россыпи островов и островков, плавание между которыми без карт и лоцмана может окончиться весьма плачевно; подстерегают коварные течения, вызываемые приливами и отливами, ветрами, а также еще многими неизученными причинами. Пока же, пользуясь картами «Синей птицы», «Орион» нес все паруса, подгоняемый восточным муссоном. Этот ветер здесь дует с мая по октябрь, меняя направление с северо-восточного на южное. Погода стояла сухая, ветер не превышал шести баллов. При подходе к Суматре ночами муссон соединялся с береговым бризом и приносил ароматы тропического леса.
Острова появлялись из-под громады кучевых облаков и тонули в океане. Днем — белые, ночью — темные. По величине облака можно было определить размеры острова, еще скрытого за горизонтом.
Командир зашел в штурманскую рубку и застал там старшего офицера, склонившегося лад картой.
— Ищете подходящий островок?
— Да, Воин Андреевич. Что, если мы зайдем на остров Тана Бала или Сиберут?
— А не лучше выбрать местечко поуютней? Заглянуть вот сюда! — Воин Андреевич провел тупым концом карандаша северо-восточнее по россыпи островков и остановился на одном. — Местные жители малайцы называют его «Цветок, растущий из воды». Правда, не совсем меткое название, здесь все острова похожи на цветы или, скорее, на букеты цветов. Семь лет назад мы брали на этом «цветке» воду и фрукты. Тогда я ходил вторым помощником на «Веге». С каким легким сердцем все тогда воспринималось! Совсем было другое время.
На следующий день в одиннадцать часов утра «Орион» лег в дрейф вблизи рифов, окружающих «Цветок, растущий из воды». На островке заметили гостей. Из небольшой бухты вышли два катамарана. Они встретили баркас с русскими моряками и проводили их к берегу по каналу между рифов. К вечеру палубу клипера завалили связками бананов, корзинами с ананасами, бататами, диковинными фруктами.
Клипер ушел, провожаемый лодками рыбаков, которые вышли на ночную ловлю кальмаров.
На рассвете следующего дня «Орион» вошел в Зондский пролив. Как почти всегда в пору муссонов, утро выдалось сумрачное, мглистое, из Индийского океана катились пологие волны. Воздух над водой был неподвижен. И тут сказались выдающиеся мореходные качества «Ориона». Ловя ветер только верхними парусами, он делал около шести узлов. Облака плотно прикрыли горы Суматры и Явы. И все-таки чувствовалось присутствие суши: множество чаек, бакланов, олушей носилось в воздухе или сидело стаями на серой воде. Мимо проплывали стволы бамбука, зеленые пальмовые листья, кокосовые орехи: следы работы недавнего тайфуна. «Орион» миновал целую флотилию катамаранов. Темнокожие рыбаки посылали приветствия, предлагали рыбу — огромных тунцов, которых они с трудом поднимали из лодок. К восьми часам облака поднялись, рассеялся туман и впереди показалась конусообразная вершина горы, она поднималась прямо из воды и терялась в облаках. Герман Иванович, стоявший с матросами у борта, сказал:
— Направо небольшой остров, он сливается с берегом Явы. Видите, низкий зеленый берег, а впереди — вулкан Кракатау. Вулкан этот когда-то наделал шуму на весь мир. Он взорвался во время извержения. Мы скоро увидим северную его часть, по описаниям, сейчас там отвесный обрыв. On образовался во время взрыва, когда в море рухнула третья часть горы, полторы кубических мили! Вы можете представить, какая поднялась волна от такого камушка? Говорят, высота ее была 120 футов и такой силы, что она обежала вокруг Земли.
— Надо же!
— Вот нечистая сила!
— Поди, народу поубивала? — раздались голоса.
— Да, народу погибло много. Смыло много деревень, досталось и тем, кто был в море. Мало того, во время извержения поднялось в воздух столько пепла, он был таким мелким и залетел так высоко, что солнечные лучи задерживались в этой пелене и на земле стало холодней.
— А теперь он не того… — Нефедов замялся, со страхом взирая на каменную громаду, — не грохнет ненароком?
Матросы засмеялись, но как-то невесело, настороженно поглядывая на радиста.
— Сейчас вулкан отдыхает.
Нефедов спросил:
— Сколько отдыхать-то будет?
— Думаю, долго. Может, лет сто, а то и двести.
Нефедов расцвел в улыбке:
— Тогда ничего. Сейчас бы не грохнул. Волна-то, говорить, сто двадцать футов? Надо же так плеснуть!
Матросы уже без всякой опаски стали рассматривать дремавший вулкан. Открылась его северная сторона — гладкая отвесная стена километровой высоты подперла тяжелые облака.
«Орион» проходил самую узкую и оживленную часть пролива. Множество катамаранов, пирог с противовесом и без противовеса шли с Суматры на Яву и в обратном направлении. Буксир тянул баржу, заваленную мешками, — совсем как на реке. Шли навстречу английские и голландские транспорты. Матросов изумил смельчак, пересекавший пролив на крохотной тупоносой лодчонке. Он греб, стоя на корме, длинным единственным веслом, как гребут на Востоке, налегая на него всей грудью. В лодке, видно, находилась вся его многочисленная семья и жалкий скарб. Матросы говорили, глядя на них;
— И куда его гонит!
— Ведь шквал или что — хана!
— Нужда!
— А посмотреть, так здесь просто рай земной.
— Дух какой стоит. И опять теплынь — ни тебе зимней одежды, ни дома настоящего.
— Шалаш, и дело в шляпе!
— Хари к тому же под рукой. В море — рыба, на земле — банан и другая овощь.
Зуйков вздохнул и сказал:
— Шляпа-то дырявая у нашего брата. Везде не мед что крестьянину, что рабочему человеку. Вот тут Нефедов говорил про райское житье, а Худяков про даровой харч. И здесь ничего даром не дают. Земля, как водится, помещичья. Что бы ему не сидеть, этому мужичонке, коли было бы поле, скот и другое хозяйство. Верно, что нужда гонит. И насчет моря тоже: чтобы по-настоящему рыбой заниматься — снасть нужна, а она денег стоит. Вот тебе и выходит — банан вроде нашей дули. И еще я скажу, братцы, насчет ихней райской жизни то, что как кто, а я бы по доброй воле и дня здесь не остался. Ни тебе лета настоящего, ни зимы, один пар да пот. На землю ступишь — змеи, да пауки с кулак, да комар здешний — москит, как пулей, гад, прошибает. Так что всякая нечисть заедает бедняка. Другое дело богатому, он в бунгалах живет за всякими сетками и завесами да за вестовыми. Слуга здесь даровой, как и у наших господ офицеров, — заключил Зуйков при полном одобрении окружающих его матросов.
Подошел сияющий Феклин.
— Ну, братцы, — сказал он многозначительно, — домой повернули, к себе. Прямо на север, — он махнул рукой, — вон там наша сторона. Теперь что ни минута — ближе к дому. Вот пройдем между островами, тут их пропасть, потом попадем в Китайское море, а за ним в Японское, а там и дома. Во, братцы, какие дела!..
На утреннем построении командир повторил слова своего вестового и призвал экипаж напрячь все силы, чтобы скорей прибыть во Владивосток.
Затем он сказал целую речь, первую за все плавание:
— Не думайте, граждане матросы, что ветер, надувая паруса, а пар, вращая винт, несут нас на родину. Нет, друзья мои, без всех наших совместных усилий, особенно без вашего самоотверженного труда нам не сдвинуться с места. Работали вы все эти месяцы прекрасно и, конечно, заслужили отдых. Неплохо бы нам сейчас зайти в порт, а до него рукой подать, и недельку побыть на твердой земле, отдохнуть, кое-что исправить на клипере, да мы не можем. Нас могут задержать местные власти и передать англичанам. Лучше потерпим еще немного и отдохнем дома, а все нужные работы по кораблю выполним на ходу. Думаю, что вы все правильно поймете меня и выполните свой долг так, как выполняли его прежде. — И заключил: — Благодарю на службу, граждане матросы и офицеры!
Матросы ответили дружным: «Рады стараться, гражданин командир!» — а офицеры взяли под козырек.
Весь день обсуждалась на баке речь Мамочки. Всем пришлись по душе слова командира, особенно оценка труда матросов, не избалованных похвалами и наградами.
— Игра в демократизм, — шепнул Стива Бобрин на ухо Новикову по дороге в кают-компанию.
Новиков желчно ответил:
— На игру не похоже. Команду надо ободрить. — И, посмотрев пристально на Стиву, добавил: — А вы, мой друг, балда!
— Позвольте! — обиделся Бобрин. — Как вы можете!
— Могу! Нельзя, мой друг, вот так, с ветерком отметать даже у идейных противников их положительные качества и верные действия. Смотрите, в каком отличном состоянии клипер, люди! А вы — игра! Думать надо.
— Я по понимаю вас…
— Поймете когда-нибудь… Когда и мне все яснее станет.
Старший механик подошел к командиру сразу после роспуска команды и, протянув руку, сказал прочувствованно:
— Как нельзя своевременное слово, Воин Андреевич! Мои машинисты и кочегары совсем было носы повесили, а тут такое обращение к их сознательности и долгу. Хорошее слово вы сказали!
— Я всегда был сторонником суворовского положения, что «каждый солдат должен знать свой маневр», быть участником в деле, а не «механизмом, артикулом предназначенным», как говорил император Павел. Мы часто не представляем себе, Андрей Андреевич, как выросли люди, которыми мы управляем, как поднялось их самосознание. И причиной тому великие события на территории бывшей Российской империи.
— На этот счет, вы знаете, у меня свое, особое мнение, Воин Андреевич.
— Я уважаю его и уверен, что, придя во Владивосток, вы, я и все остальные определимся в отношении своего места во всем, что происходит в мире.
— Дал-то бы бог! — сказал старший механик. — Так хочется, чтобы все было правильно, для общей пользы, а не на погибель и разорение…
— Часто и то и другое происходит в борьбе за эту общую пользу. История великих цивилизаций говорит нам об этом.
— Не знаю, не знаю, Воин Андреевич, я мало читал, да и то все больше о технике, но зачем же идти на разор, ради чего? Жили же мы с вами, и не плохо жили, выполняли свои обязанности, растили детей, чтобы и они вот так же, во славу России и флота нашего трудились.
Воин Андреевич задумался, пристально глядя на проплывавший вдалеке берег Явы.
— Все образуется, — продолжал Андрей Андреевич, — вот отбились мы от крейсера, от такой махины! Даст бог, и дома все обойдется.
Упоминание о счастливом избавлении от рейдера заставило командира улыбнуться, и он в ответ с чувством пожал руку старшему механику. Ни тот ни другой и не подозревали, что совсем недавно, этой ночью, пользуясь кромешной тьмой тропической ночи, рейдер, неся ходовые огни транспортного судна, спасаясь от преследователей, проскочил Зондским проливом. Погоня — легкий крейсер и три миноносца — прошла мимо входа в пролив. Преследователи никак не предполагали, что их «дичь» рискнет войти в Яванское море, все говорило за то, что рейдер рвется в Океанию, где его капитан надеется найти помощь в бывших немецких колониях.
Капитан рейдера Франц Рюккерт, крепко сбитый пятидесятилетний моряк, с сигарой по рту медленно прохаживался по крылу мостика, стараясь не смотреть на воду, чтобы лишний раз не убеждаться, как сдал его «Хервег». Сейчас он вряд ли смог бы померяться силами в скорости с транспортом, не говоря уже о лайнере. Штормы сороковых широт, погоня за клипером, затем уход от преследования вконец истощили запасы угля, машины требовали ремонта, котлы, которые пришлось на пути до мыса Доброй Надежды питать забортной водой, «засолились», подводная часть обросла ракушками — требовался док, И все эти невзгоды обрушились после стольких радужных надежд, вызванных неожиданными сообщениями с русского парусника. Рюккерт так рассчитывал на него, пока не «догадался» о ловкой игре русских. Заменив команду на клипере, он смог бы приспособить его для захвата транспортов на оживленных пароходных линиях, находясь сам в стороне от них. Таким путем до поры до времени можно было полностью отбункироваться, и если ликвидировать и транспорты и их команды, то не оставалось бы никаких следов, а в крайнем случае вся вина падала бы на русских.
Капитан долго жил этой идеей. Его радисты день и — ночь следили, не подаст ли таинственный агент голос. А он молчал до тех пор, пока не создалась прямая угроза захвата клипера, и вконец разоблачил себя, подав глупейшую телеграмму. Рюккерт затянулся сигарой. Неожиданная встреча в «ревущих сороковых» могла все поправить, будь хотя бы тише ветер и выше скорость крейсера. При максимальном ходе в шестнадцать узлов нельзя было состязаться с быстроходным клипером и его командиром, видимо, одним из тех русских фанатиков долга, которые идут на смерть, даже видя свою обреченность. Возможно, он и в самом деле хотел взорвать себя! Поведение командира русского корабля не могло не внушить к нему уважения, и в то же время воспоминание о нем приводило капитана Франца Рюккерта в ярость. Тем более что вопреки твердой уверенности в его гибели клипер чудом остался невредим: радист перехватил передачу с «Ориона» о встрече с «Синей птицей».
Капитан Рюккерт продолжал ходить по мостику. Когда ему докладывали о дыме на горизонте, он, не поднимая глаз, приказывал изменить курс, чтобы избежать встречи. Атаковать транспорт было слишком рискованно: где-то «на хвосте» висели еще англичане, надо во что бы то ни стало сохранять разрыв между ними до ночи, а транспорт мог всполошить еще и голландское военно-морское командование, если его не подняли на ноги те же англичане.
Было десять часов утра, а стояла ужо парниковая духота. Ветер дул в корму со скоростью движения крейсера, и, когда капитан стал раскуривать потухшую сигару, пламя спички не колебалось. Несмотря на страшную жару, Рюккерт не расстегнул даже крючка на тугом воротничке кителя, только часто обтирал лицо платком. Вахтенный офицер вышел из рубки и, доложив по всей форме о полученной десять минут назад шифровке, подал расшифрованный текст. Прочитав, Рюккерт скомкал листок и сказал, ни к кому не обращаясь:
— Проклятые бюрократы… Активизировать действия… — И вдруг неожиданно вскричал: — Как? Чем? — И, бросив на мостик сигару, растоптал ее каблуком и, что уже совсем выходило за все рамки возможного на военном корабле кайзера Вильгельма, смачно плюнул за борт, и, конечно, плевок его пристал несмываемым пятном к борту прославленного рейдера.
В двадцати милях от пролива Гаспар «Ориона» обогнал отряд английских военных кораблей: легкий крейсер и три эсминца.
Воин Андреевич, готовый ко всяким бедам, с облегченным вздохом сказал старшему офицеру:
— Наверное, о нас совсем забыли. И действительно, в мире столько событий. С тех пор как мы покинули Плимут, потоплено с десяток английских транспортов, а тут исчезновение одного парусника, да еще чужого флота. Возблагодарим наших богов-покровителей, мамочка моя! — заключил он с улыбкой, глядя на задымленный горизонт.
— Что их сюда привело? — спросил старший офицер.
— Видимо, идут из Австралии в Сингапур.
— Но скорость не меньше двадцати узлов!
— Действительно, довольно много для простого перехода, тем более что в этих широтах тишь и гладь. Может, спешат на Дальний Восток?..
Их разговор прервал надрывный крик: «Человек за бортом!» И тотчас же: «Еще человек за бортом!»
Первым упал за борт Лешка Головин. Погода стояла тихая, и матросы заменяли некоторые снасти бегучего такелажа, порядком износившегося за длительный рейс. Юнга, как всегда, тоже участвовал в работах. Спустившись по вантам на палубу и уже ступив на планширь фальшборта, он поскользнулся и полетел в воду. За ним с вантов прыгнул Зуйков.
Матросы стали бросать им спасательные круги. Вахтенный офицер подал команду лечь в дрейф. Готовилась к спуску шлюпка.
Вынырнув, юнга ухватился за круг и, глядя на уходивший корабль, подумал: «Ух, влетит мне по первое число. Из-за меня сейчас надо в дрейф ложиться». Первые мгновения он не подумал о грозившей ему смертельной опасности: море кишело акулами.
«Орион» уходил, казалось, ни мало не заботясь о своем юнге, все паруса еще белели на его мачтах. И у Лешки сжалось сердце: «Неужто так и оставят?» Хотя он знал, что этого не может быть, но «Орион» уходил. Гребень волны закрыл корабль, и Лешка остался совсем один. Невдалеке чиркнул по воде плавник акулы. Лешка поджал ноги и крикнул:
— Пошла, тварь проклятая! — И тут он услышал хриплый голос Зуйкова:
— Ляксей! Держись, брат, я сейчас!
— Дядь Зуйков! — крикнул Лешка так радостно, звонко, что другой плавник акулы, совсем недалеко резавший воду, мгновенно скрылся.
Зуйков, тяжело загребая левой рукой, подплыл к юнге:
— Ух, братец, сердце зашлось… Да ничего, сейчас нас вызволят. Только держись, брат.
— Да я ничего. Вы-то зачем?
— Тоже оступился.
— На банановой шкурке?
— На ей, проклятой… Полный рот водищи зачерпнул…
— Кто-то на планширь бросил.
— Брюшков?
— Не знаю. Наступил, нога и пошла.
— Вот и я…
— Врете вы все. Поди, спасать задумали, а плаваете, как топор.
— Правда, не очень, да я знал, что братва кругов набросает.
— Ничего вы не знали. Думали, потону без вас.
— Где там потонешь. Ты ведь вроде рыбы… Я, знаешь, — он снова выплюнул горькую воду, — для компании. Одному-то…
— Да я бы и один продержался… — Лешка подался ближе к матросу и шепнул: — Акулья проклятого здесь…
— Какое акулье? Дельфин это играет. Ты ладошкой по воде хлопай, он и отстанет. Вот так. — И он с силой ударил рукой по воде. Юнга тоже несколько раз с силой опустил руку, а потом спросил: — Раз дельфины, то зачем хлопать? Пускай резвятся, поближе посмотрим, что за рыба? Если бы тонули, а то мы хоть сутки продержимся.
— Да хоть двое! Вода как суп к концу обеда. Только хлебать не хочется. Я вот все думаю, Алексей, кто столько соли в море насыпал?
— Правда! Смотри, совсем близко подходят! Вылитые акулы! Вы зачем, дядя Спиря, нож вытащили?
— Попугать…
Оба замолчали, следя за кругами акул. Они подходили все ближе, уже не пугаясь ни криков, ни ударов по воде.
Шлюпки все не было.
Следя за плавником акулы, Лешка опустил голову под воду и, открыв глаза, увидел, как, чуть не задев ноги, промчалось сероватое тело акулы. Очутившись на поверхности, он тоже вынул на ножен свой матросский нож — подарок Зуйкова.
Матрос кивнул в знак одобрения и сказал, озираясь по сторонам:
— Меть ей в брюхо, если подвернется. Спину не пробьешь. В брюхо… Да нож держи крепче, не то вырвет. Не дрейфь только! Скоро наши будут… Вот я тебе, тварина… — Продев левую руку в петлю круга, Зуйков опустился под воду и проделал то, чему учил юнгу. Акула, перевернувшись кверху брюхом, мчалась прямо на них. Заметив, что человек сам переходит в наступление, хищница чуть уклонилась в сторону и получила острым как бритва ножом удар в брюхо. Зуйков еле удержал в руке рукоятку ножа: с такой силой рванулась вперед акула, оставляя за собой густой кровавый след.
Вынырнув, Зуйков только мотнул головой в сторону и поплыл прочь от этого места, часто оглядываясь и издавая невнятные звуки. Лешка видел все и плыл, не отставая. А в глубине смертельно раненную акулу уже рвали на части ее сородичи, привлеченные запахом крови.
— Куда вы?
— Стой!
— Спиридо-он!
— Ляксе-ей! — разнеслось по воде.
Сидя в шлюпке рядом с лейтенантом Гороховым, Лешка только улыбался. Зато Зуйков, переживший и за себя и за мальчишку, особенно за него, нервно смеялся и говорил без умолку, рассказывая, как они с юнгой отбивались от «проклятого акулья» и невесть сколько пропороли рыбьих животов, не считая ран, нанесенных в другие части тела.
Лешка заговорил, только когда стали подходить к «Ориону»:
— Я сразу узнал, что за рыба кругом шастает. Что я, акулу не отличу от дельфина? Да мне не хотелось пугать дядю Спиридона. На плаву только испугайся — и все! А он, сами знаете, какой пловец…
Зуйков полураскрыл рот, посмотрел на гребцов и залился счастливым смехом, дружно подхваченным всей командой шлюпки, включая лейтенанта Горохова, обычно человека неулыбчивого, как говорили матросы. Лешке еще хотелось сказать, что, не будь дяди Спиридона, ему бы — форменная крышка, да с борта клипера донеслись приветственые крики… Загорелые лица матросов обрамляли борт, и среди них Лешка узнал боцмана, грозившего ему своим заскорузлым пальцем и тоже что-то кричавшего, видно, не особенно приятное для Лешки Головина, и Гарри Смита, сидевшего на конце фор-трюм-реи и тоже изливавшего свою радость:
— Леша! Собачкин сынок! Давай! Давай! — кричал он, махая руками.
Ночью в начале второй вахты радист Лебедь растолкал Феклина и велел ему доложить командиру, что перехвачены важные сообщения.
— Какие, Герман Иванович? — спросил Феклин, вскочил с койки и натягивая штаны.
— Потом, потом. Скоро узнаешь. Буди!
— Опять гонится, зараза?
— Да нет. Иди живей.
— Живей, живей. Что же еще на нашу голову? Постой, он в исподнем не принимает. Хоть тонуть будем. Форму всегда соблюдает.
— Знаю, иди, ради бога!
Феклин, пропустив радиста в каюту командира, остался у неплотно прикрытой двери, придерживая ее, чтобы не хлопала при крене. Из каюты ясно доносился голос Германа Ивановича:
— Англичане догнали Рюккерта, и сейчас заканчивается бой у островов Саут-Натупа. У рейдера дела плохи. Передал открытым текстом: «Погибаю, но не сдаюсь».
— Ну спасибо, мамочка моя. Разодолжили. Мне этот Рюккерт покою не давал. Теперь вздохнем спокойней. Идите отдыхайте. Вижу, вы еще не ложились.
— Мне тоже показалось, что англичане появились неспроста.
Воин Андреевич вышел на палубу. Ложиться уже не было смысла: близился рассвет, да и не хотелось.
Слегка покачивались звезды. Ущербный месяц не гасил их своим тусклым медным светом. Клипер оставлял бледно-зеленую дорогу на опаловой воде. Поскрипывали снасти. Убаюкивающе журчала вода за бортом. Эти осторожные звуки как бы оттеняли необыкновенную тишину ночи, какая бывает только на море да в степи перед рассветом.
— О-остро-ова по носу-у! Пять румбов ле-ева! — перебивая друг друга, прокричали впередсмотрящие.
Самих островов еще не было видно, только темные облака над ними выдавали их присутствие.
— Смотреть не. зевать! — крикнул Стива Бобрин.
«Все-таки из него получится хороший офицер», — подумал командир.
— Есть, смотреть, не зевать!
С бака слышались приглушенные голоса, среди них командир узнал Феклина, передававшего подробности сражения у островов Саут-Натупа. Как ни старался он сообщить «только по секрету», слова его жадно ловили матросы на всей палубе, даже Стива Бобрин, размеренно шагавший по мостику, остановился, а затем стал переводить услышанное Фелимору. Между тем на баке началось обсуждение боя. Все склонялись к тому, что «германцу не сдобровать, хотя и он свое дело сделает».
— Чья там ни возьмет, а не одна сотня морячков уже летит сейчас на Великий корабль, — пророкотал бас баталера Невозвратного. Все притихли, и где-то в вышине раздался печальный крик какой-то птицы.
— Во! Слышали? — спросил Невозвратный.
— Ну, это фантазия, — возразил Феклин. — Мало ли их летает. Вот когда я выходил на палубу, тоже кто-то кричал.
— Они и кричали!..
Разговор перешел на таинственные случаи, немалый запас которых имелся у каждого.
На востоке просочилась сквозь облака алая полоска зари, с каждой секундой она делалась шире, к ней примешались золото и перламутр, облака превратились в огненные горы, они плавились, источая желтые, зеленые, сиреневые потоки спета. Море жадно впитывало в себя краски неба и добавляло к ним еще что-то свое, отчего они становились мягче, нежней и множились миллиардами бликов на невидимых гранях поверхности моря. Пылающая заря захватила треть небесного купола; запылав с неистовой силой, бросив веер разноцветных лучей, она внезапно угасла при появлении большого, слегка вытянутого книзу огненного шара.
Вахтенный матрос торжественно отбил два двойных удара, возвестив начало нового дня.
Голубой Ли
Атуре — было первое, детское имя, которое дала ему мать таитянка. Атуре — маленькая беспомощная рыбка, она старается укрыться от многочисленных врагов под плавающими обломками дерева, пальмовыми листьями или под днищем пироги. Если это имя и подходило к мальчишке, то в самом раннем возрасте, когда он прибегал к ней с разбитым носом или пораненной о коралл или раковину ногой и, всхлипывая, прятал голову в материнских коленях. Очень рано появился у него независимый характер, видимо, под влиянием отца-голландца, который иногда брал его в длительные рейсы на своей шхуне «Розовый лотос». Обыкновенно Христиан ван Фос — так звали отца — обходил мало посещаемые острова, скупал копру, жемчуг и ценные раковины, но поговаривали, что у него есть и другие доходы. К своему отцовству он относился с большим сомнением, по открыто не отрицал его, намереваясь в дальнейшем извлечь из этого немалую пользу, хотя бы используя сына в качестве дарового матроса, а впоследствии и шкипера.
Когда мальчику исполнилось 14 лет, мать дала ему мужское имя — Ремора, что значит рыба-прилипала. Так как юноша обладал необыкновенным упорством и стремлением к стяжательству, а мать его была справедливой и наблюдательной женщиной, к тому же, как всякая мать, она хотела счастья своему сыну, а, как ей было известно, имя человека оказывает немалое влияние на его судьбу, если оно соответствует его внутренним качествам и внешнему облику. И второе имя недолго удержалось за ним. Христиан ван Фос, посвящая Ремору в особенности своей профессии, открыл ему, что помимо скупки копры и жемчуга есть более прибыльные способы заколачивать деньгу. Оказалось, что Ремора уже давно знает об этой стороне дела и не находит в ней ничего предосудительного: все лучшие, то есть богатые люди, о которых он слышал, занимались морским разбоем.
По обычаю «рыцарей удачи», третье имя он выбрал сам и стал называться Ли Чанг (китайское звучание этого имени тоже имело магическое значение: все выдающиеся пираты или были китайцами или носили китайские имена). И наконец, он получил четвертое, последнее имя, которое в скором времени люди на островах Яванского моря, на побережье Суматры, Явы, Борнео стали произносить со страхом и, отправляясь в плавание, молили богов оградить от него в пути.
Однажды Христиан ван Фос захватил в море океанскую трехмачтовую джонку. Трюмы ее были полны китайских шелковых тканей, изделий из лака, серебра и золота. Команда джонки не сопротивлялась, ее капитан — пожилой малаец, казалось, не особенно был удручен потерей всего, в том числе и жизни, потому что он видел в глазах пиратов свою смерть. Он сам показывал товары, называл их цену, как будто имел дело с добрыми покупателями. Улыбаясь, он спустился с фонарем в трюм, поманив за собой Христиана ван Фоса, и тот, пробормотав проклятие по поводу «этих жалких трусов», которые дают себя резать, как бараны, шагнул вниз по трапу. Его соратники с пистолетами и ножами в руках окружили люк, алчными глазами следя, как малаец раскидывал тюки, под которыми стояло несколько бочек с порохом.
Ли Чанг сторожил команду, закрытую в носовом кубрике, но и ему захотелось посмотреть, что за сокровища обнаружились в трюме, он сделал всего несколько шагов, как в лицо полыхнуло пламя. Джонка затонула со всеми своими сокровищами, погибла вся ее команда, закрытая в носовом кубрике. Только три пирата остались в живых: два матроса и Ли Чанг, которого силой взрыва перебросило на шхуну, стоявшую в десяти метрах от джонки. У него довольно скоро срослись переломанные кости ног и руки, зажило лицо, только никакими средствами самым знаменитым знахарям не удалось извлечь из-под кожи голубоватые крупинки пороха. Он унаследовал шхуну и получил последнее, четвертое имя — Голубой Ли.
Шхуна возвращалась от берегов Борнео, когда начался морской бой между «Хервегом» и отрядом английских кораблей. Голубой Ли повел свой «Лотос» на красные сполохи и орудийный гул. Драка, по всей видимости, шла большая, и Ли не без основания рассчитывал на добычу; при такой канонаде кого-нибудь да заставят сесть на рифы, вот тогда-то и можно будет поживиться. Голубой Ли давно мечтал о современном оружии: пулеметах, винтовках и особенно в небольшой пушке. Тогда бы он скоро расправился со своими конкурентами, из-за которых терпел немалые убытки и подвергался излишней опасности: слишком активная деятельность пиратских шаек подняла на ноги местные власти и голландские патрульные суда шныряли и у берегов и в открытом море.
После сильного взрыва стало так тихо, что с берега, до которого было полмили, доносился хор цикад. Голубой Ли благоразумно дождался рассвета и пошел к месту сражения. Там уже никого не было. Всю поверхность моря усеивали обломки Дерева, плавали спасательные круги, большая шлюпка, полная воды, в ней обхватил банку мертвый матрос. Вокруг сновало множество акул. В шлюпке оказалось несколько огромных дыр, держалась она на воде только благодаря бортовым запаянным бакам. Голубой Ли, разочарованный неудачей, хотел уже продолжать путь, как один из его матросов заметил дым костра на пустынном островке. Его заливало во время тайфунов, и потому там никто по жил, кроме крыс, которые во время наводнений отсиживались на вершинах трех десятков пальм. В бинокль Голубой Ли увидел военных моряков, судя по форме, не голландцев и не англичан. Особенно его привлек катер, стоявший в лагуне, а на катере что-то похожее на зачехленный пулемет. Это решило дело. В другом случае Голубой Ли со спокойной совестью прошел бы мимо потерпевших бедствие, но у них имелся пулемет, а может быть, еще что-либо не менее ценное. Ли приказал спустить шлюпку.
Из всего экипажа рейдера на остров высадилось несколько сигнальщиков и дальномерщиков, десять артиллеристов, отражавших атаки миноносцев с бортовых плутонгов, кочегар, лежавший в лазарете, и капитан Франц Рюккерт. Когда тяжелый снаряд попал в машинное отделение и крейсер остановился, капитан приказал спустить катер с левого борта, обращенного к островам и рифам, откуда нельзя было ожидать атаки миноносцев. Такая предусмотрительность спасла и его и еще двадцать человек из шестисот тридцати, числящихся на крейсере. Когда к костру подошел Голубой Ли, Рюккерт пил из кокосового ореха. Напившись, поставил орех на песок и выжидательно уставился на пирата. Голубой Ли, не кланяясь и не выказывая других знаков расположения, прямо перешел к делу и на ломаном французском языке, которому научился от матери, предложил купить пулемет и все оружие, какое есть у белых моряков.
Рюккерт с одного взгляда понял, с кем имеет дело, и, покачав головой, в свою очередь предложил купить у него несколько банок керосина: на его катере по оплошности старшего офицера не оказалось аварийного запаса горючего.
Голубой Ли в свою очередь покачал головой, показав в улыбке все свои великолепные зубы. Нет, у него очень мало керосина, если случится штиль, он не доберется до удобной стоянки и его снесет на рифы.
Голубой Ли постарался выразить глубокое сожаление на своем разбойничьем лице и сказал, что в таком случае он должен оставить остров, но, прежде чем окончательно расстаться, он предлагает подумать о продаже хотя бы пулемета. Он даст за него очень хорошую цену и десять банок керосина, которого, правда, у него сейчас нет, но к вечеру он вернется и доставит его. Теперь Голубой Ли помышлял только о том, как бы вырваться с острова. Он даже поправился, пообещав доставить керосин и так, просто за умеренную плату, а о пулемете, если он так нужен им самим, можно и забыть.
— Никуда ты не пойдешь, — сказал Рюккерт. — Мы пойдем вместе. Ты доставишь нас на остров, где есть люди, деревня. Понял меня? Катер возьмешь на буксир!
Голубой Ли молниеносно сообразил, что этот человек не остановится ни перед чем, и закивал головой, расточая улыбки, стал говорить, что капитан читает мысли людей, что ему самому пришла в голову мысль предложить помощь и доставить в ближайшую деревню, где живут его родственники, там он сможет, если пожелает, остаться на всю жизнь. И еще Голубой Ли сообщил, ударив себя в грудь, что он тоже белый, его отец голландец, а мать француженка и его долг помогать братьям по крови.
Рюккерт мрачно выслушал и окончательно убедился в своем первоначальном мнении о владельце шхуны. Перед тем как покинуть остров, он сказал оставшимся членам своего экипажа:
— Не спускайте глаз со всей этой банды. Это пираты. Если я подам команду — списывайте их за борт…
Голубой Ли, прищурившись, улыбался: он знал и немецкий язык, но нарочно выбрал французский, чтобы иметь преимущество перед этими людьми. Не зря Христиан ван Фос говорил, наблюдая за его успехами:
— У тебя, дьявола, чертовские способности, ты знаешь все местные наречия и языки белых. Надо было отдать тебя в колледж, и вышел бы из тебя священник или важный чиновник, а не то и член парламента. В работе этих парней меньше риска, чем у нас, а доходы побольше…
Уставший тайфун
Погода явно портилась, хотя барометр и стоял высоко. Ветер дул с переменных румбов или совсем стихал. Командиру не нравилось небо: уже несколько дней, как на нем появлялись зловещие признаки надвигающейся бури: вначале рваные перистые облака, затем их сменили густые барашковые и, наконец, — громоздкие кучевые, в просветах которых виднелись облака высоких слоев.
Командир озабоченно поглядывал на небо, часто спрашивал вахтенных и Феклина: «Как давление?»
Что быть сильному ветру, знали и матросы. Они прекрасно разбирались в погодных приметах, и, кроме того, баталер Невозвратный слег в жесточайшем приступе ревматизма, а кот Тихон ушел с палубы на камбуз. Зуйков по этому поводу заметил:
— Если бы еще один Невозвратный со своей ломотой, тогда еще, может, и обошлось бы дело со штормом, а раз Тишка подался к Мироненке, то добра ждать нечего.
Старший боцман покачал головой и сказал осуждающе:
— Ты не пророчь, парень. Что будет, то будет. А накликать беду нечего. Может, оно… — Он посмотрел на небо, на оловянное море и только крякнул.
Прекратились пышные утренние и вечерние зори, похожие на сказочные фейерверки. Теперь восход и закат сопровождали зловещие оранжево-красные и наконец медно-багровые цвета. В воздухе разлилась тяжелая истома. Клипер шел под парами. Командир приказал закрепить паруса и нести одни триселя и фок-стаксель, приготовившись встретить бурю в любую минуту.
Первый порыв ветра налетел с востока. Клипер дрогнул, как от удара, наклонился на левый борт. Натужно завыл, засвистел ветер в снастях. И опять настала недобрая тишина. Сморщенная поверхность моря разгладилась, снова приобрела тусклый, оловянный оттенок. Прошла минута, и упругая невидимая лавина обрушилась на корабль. Море побелело от пены. Хлынул тропический ливень. Потоки воды не успевали сбегать по ватервейсам ж затопили бы палубу, стой клипер ровно на одном месте, но он бросался грудью на волны и, словно отряхиваясь от воды, ложился с борта на борт.
Командир определил «глаз бури» — центр тайфуна находился к западу от клипера и сейчас двигался к Суматре. Надо было, используя по возможности силу ветра, выйти за его пределы или удержаться на месте, пока не промчится тайфун. Сколько у него уйдет на это время? Сутки или неделя? Каков диаметр вихревого потока? Никто не знал.
Как в штормовые дни при прохождении «ревущих сороковых», командир не покидал мостика, но на этот раз у него прибавилось забот. Там были только ветер и волны на безграничном просторе, а под килем — бездна, здесь же в мелком море на поверхность поднимаются сотни коралловых рифов, и не все они еще нанесены на карты. И хотя бы этот пробел был заполнен картографами, все равно в такую бурю невозможно точно определить место корабля, к тому же «Орион» вошел в район, для которого в его штурманской рубке вообще не было карт.
Ветер стал менять направление. Вначале он был попутным, затем стал заходить слева и наконец подул навстречу, перехватывая дыхание и до боли давя на глазные яблоки. Со всех шлюпок ветер сорвал чехлы, а одну шлюпку, с левого борта, унес совсем. Непостижимым образом ветер развязал узлы у канатов, которыми держались бочки с водой, взятые с «Синей птицы», и помог волнам сбросить их все до единой в море.
Настала страшная ночь. Не было человека на клипере, который не подумал бы о смерти. Старые матросы надели чистое белье, готовясь предстать на том свете как и положено настоящему моряку — по всей форме.
На рассвете показался остров. Волны перекатывались через барьерный риф и атаковывали опушку манговых зарослей. На мысе, залитом водой, торчали пеньки кокосовых пальм. Одна, самая упрямая пальма еще держалась, низко пригнув к воде трепещущую крону.
Командир и старший офицер стояли у края мостика и смотрели на остров, казалось, он пляшет между веян, проваливаясь и взлетая к сизо-черному небу. Остров наполнил их тревогой. Они перешли экватор, и здесь преграждало путь множество островов, окруженных коралловыми рифами, банками, мелями. По расчетам старшего офицера, это мог быть остров Педжантан или один из островов Бадас. Старший офицер поделился своими соображениями с командиром.
— Да, да… возможно. Если мы чудом пройдем эти острова, то за ними нас ждет архипелаг Тамбелан. Не будем искушать судьбу… отклонимся к весту.
— Ветер спадает.
— И значительно. — Командиру еще хотелось добавить, что они ловко ушли от тайфуна, да он, как все моряки-парусники, верил в приметы, а не к месту сказанное слово могло обернуться неприятностями, и он промолчал.
«Орион» изменил курс, обходя вытянутую гряду островов, лежащих где-то недалеко впереди. Тайфун умчался к югу, оставив за собой расходившееся море и семибалльный ветер.
На закате еще показался остров и скоро утонул в ночном мраке. Настала ночь, «черная как сажа», говорили матросы. Клипер лежал в дрейфе, терпя сильную бортовую качку. Ночь проходила спокойно, хотя с палубы и доносился отдаленный рокот прибоя. Ветер спал совсем, и в тишине шум прибоя мог быть слышен за пять — шесть миль. Когда уже казалось, что и на этот раз «Орион» вышел из беды, всех поднял на ноги сильный удар в корму. Раздались голоса: «Тонем, братцы!» Но паника быстро улеглась, как только рында забила «Водяную тревогу».
Через час старший офицер доложил командиру о потере винта, пробоине в корме и о том, что заведен пластырь.
— Незначительная пробоина. Помпы справляются, — заключил он доклад и замолчал, ожидая приказаний.
— Будем ждать рассвета. Прибой как будто тише? — Я бы не сказал.
— Ну и темень…
— И духота…
— Парилка, мамочка моя, только веника не хватает. — Бодрый, совсем всегдашний голос Мамочки разнесся с мостика по всему клиперу и лучше всяких увещеваний подействовал на матросов. Скоро и с бака послышался тихий говор и смех. На мостик принесло облачко махорочного дыма. Клипер развернулся носом к волне, качка стала тише и приятней. Мерно стучали помпы, откачивая воду.
Пышная тропическая заря осветила присмиревшее море и недалекий зеленый остров. Остров оказался довольно большой, с удобной бухтой. В ней стояла шхуна, на сахарно-белом коралловом песке виднелись катамараны и катер, вытащенные на сушу перед тайфуном. Сейчас катер сталкивали на воду человек сорок островитян и с десяток европейцев. Над вершинами пальм отвесно поднимались синие струйки дыма.
Воин Андреевич решил зайти в бухту, заделать пробоину, поставить запасной винт, запастись свежими продуктами, а также дать возможность отдохнуть команде на берегу.
От клипера отвалил вельбот под командой Бобрина и с неизменным его спутником лейтенантом Фелимором. Им командир приказал промерить глубины при подходе к острову и в самой бухте. Навстречу вельботу вышел катер. Поравнявшись с вельботом, катер остановился, судя по жестам его команды, островитяне предлагали вернуться на клипер, один из них даже бросил конец, но вельбот пошел к острову.
— Что бы ото значило? — спросил командир, продолжая смотреть в бинокль.
— По всей видимости, они предлагают провести нас в бухту, — ответил старший офицер.
— Возможно. Молодец Стива. Свой глаз лучше… Все же — любезные люди. Прикажите опустить парадный трап…
На катере прибыли командир «Хервега» и Голубой Ли.
— Шмидт. Франц Шмидт, — назвал себя Рюккерт. — Местный колонист. У меня плантации на Борнео, Шторм загнал мою шхуну на этот чудесный остров. Прекрасная бухта… Вы, капитан, говорите — тайфун? Да, пожалуй, его можно назвать тайфуном, только значительно уставшим, сюда довольно редко прорываются тайфуны, это не Южно-Китайское море и не Тихий океан в районе Филиппин и Японии. О, вы хорошо отделались. И вам повезло.
Он хорошо говорил по-английски и даже не перешел на немецкий с бароном, он говорил с ним подчеркнуто холодно, давая понять, что ему, немцу, не понятна роль соотечественника на русском военном судне. Когда командир объяснил, каким способом барон попал на клипер, Рюккерт снисходительно закивал головой и сказал что-то о неисчислимых бедах, причиненных войной. Но незаметно для других они с бароном обменялись взглядами, и в заключение Рюккерт пригласил барона к себе на шхуну.
Голубой Ли всем улыбался, церемонно пожимал руки и с искренним восхищением осматривал корабль. Ничего подобного он еще не видел. Он бывал на голландских и английских парусниках, которые занимались перевозками грузов на местных и дальних линиях, но то были работяги, вроде потных мулов, единственным назначением которых являлась перевозка грузов. Морские мулы! А он стоял на палубе, чище песка, перемытого прибоем, где все служило не только пользе, а также радовало глаз и сердце. И если он сравнивал все виденные им суда с мулами (включая и свой «Розовый лотос»), то это был боевой слон в дни великих праздников… Две пушки — одна на носу, вторая на корме — мечта Голубого Ли, заставили еще сильней застучать его сердце. В довершение всего он поднялся на мостик, остановился там, полузакрыв глаза и представив себе, что не старший офицер ведет сейчас корабль, а он, Ли Счастливый. Так бы он приказал называть себя, в пятый раз изменив имя. И все это может сбыться, только надо будет хорошенько попросить Магомета и деву Марию и богов — покровителей моряков, зажечь на их алтарях жертвенные свечи и пообещать им более существенные дары, если сбудутся его желания.
Между тем клипер, подгоняемый морским бризом, шел к острову: со шлюпки передали семафором, что глубины вполне достаточные и при подходе, и в самой бухте.
Партийное собрание
Бухта действительно оказалась удобной во всех отношениях, ее высокие берега, поросшие густым тропическим лесом, защищали от муссона, и даже недавний ураган не причинил вреда ни шхуне Голубого Ли, ни рыбацкой флотилии. Бухта казалась куском голубого неба, упавшим среди зеленых берегов. Лешка Головин сказал Зуйкову, что хотя бухточка и хуже севастопольской, но, должно быть, рыбная, и, сняв бескозырку, вытащил из-под подкладки моток лески и крючок, в баталерке Невозвратного взял бамбуковое удилище, где оно хранилось, привязанное к пиллерсам. Снарядив снасть, он забрался за баркас и закинул ее с катышком хлеба на крючке. Нажива еще не дошла до дна, как удилище едва не вылетело из Лешкиных рук. С бьющимся сердцем он еле вытащил на борт трехфунтового окуня. Следом за окунем клюнула и попалась на крючок метровая ремень-рыба. Лешка поднял ее уже до палубы, как она, перекусив леску, ушла вместе с крючком. У юнги был запас крючков. Живо подвязав другой, он закинул снова, и опять рыба схватила его на лету. На этот раз попалась удивительная красавица — синяя, с золотыми полосами и большими золотыми глазами, отороченными красными ободками. Рыба с удивлением, как показалось мальчику, смотрела на него, медленно раскрывая рот, словно что-то хотела сказать, а может, и говорила, да так тихо, что Лешка слышал только что-то похожее на скрип. «Золотая рыбка», — подумал Лешка и, осторожно отцепив ее, бросил в воду. «Что же я ничего у нее не попросил?» — спохватился он, да было поздно. Он наловил с полведра окуней и еще каких-то головастых рыб, попалась и ремень-рыба, но золотая больше не попадалась…
— Ты что за катер спрятался? — Лешка узнал голос Зуйкова. — Ишь сколько натаскал. Клюет?
— Как видите.
— Вижу. Смотри-ка, как наша плотва, только пофорсистей будет, — сказал Зуйков, рассматривая только что пойманную рыбу, брошенную в ведро. — Я тебя ищу, ищу. Ты что, команды не слыхал?
Лешка вскочил.
— Какой команды?
— Не тревожься, не для нас, для второй вахты. Перегрузка из кормового, чтобы корму поднять. Всем там делать нечего, только мешаться будем… Наша очередь завтра, а сегодня на берег! Сейчас едем!
Мальчик улыбнулся, глядя в море, куда-то за белую линию прибоя на рифах.
— Вы понимаете, дядя Спиря, я только что поймал золотую рыбку.
— Да ну? Где она?
— Выпустил. Жалко стало. Такой красоты я еще не видал. Вся горит и сверкает…
— Выпустил, говоришь?
— Ага.
— И красивая, говоришь?
— У меня прямо мороз по коже, вот какая!
— Ну и правильно сделал. Иди надевай форму.
Юнга только сейчас заметил, что дядя Спиридон в белоснежных штанах, правда довольно помятых, в форменке, а на ногах — надраенные сапоги.
В баркасе, когда Зуйков рассказал про Лешкину золотую рыбку, Роман Трушин покачал головой:
— Эх парень! Давалось счастье тебе, а ты не воспользовался, взял да бросил его в воду. Надо было попросить чего-нибудь у ней.
— Я уже подумал…
— Сказал бы, золотая рыбка, сделай так, чтобы наш клиперок перемахнул из здешних райских мест до нашего дому. А? Вот было бы дело!
— В другой раз, как только поймаю, закажу ей насчет вашей просьбы, — в тон ему ответил мальчик, в душе которого еще долго жило ощущение, что он соприкоснулся с чудом, хотя вскоре ловил не менее удивительных рыб, но то была первая, ошеломившая его неожиданной красотой и таинственным шепотом.
Баркас с разлету вылетел носом на ослепительный коралловый песок. Матросы выпрыгнули, кто с носа, не замочив ног, а кто прямо через борт в воду — солнце мигом высушит — и остановились, озираясь по сторонам, ощущая неловкость в ногах: земля покачивалась, как палуба.
— Ой, братцы, кладет, как на мертвой зыби! — радостно крикнул Лешка и запрыгал на одной ножке. Внезапно он остановился, заметив, что за ним наблюдают из-за кустов ребята такого же возраста, как и он, и малыши лет трех — пяти, совсем голышом. Лешка пошел к этой притихшей толпе, с любопытством и нескрываемой завистью рассматривающей его парадную форму. Громов сказал, наблюдая за ним:
— Парень уже знакомится с местным населением, надо и нам.
Матросы небольшими группами пошли в разные стороны.
Громов, Зуйков, Трушин и Лебедь постояли немного и тоже стали подниматься на пригорок. Из леса доносился птичий гомон. Трушин мечтательно сказал:
— Пивка бы сейчас холодненького.
— Какое тут пиво, — вздохнул Зуйков. — Дикая местность. Нет, постойте, это что же такое? — Он удивился больше, чем Лешка золотой рыбке, подняв с земли пивную бутылку.
— Должно быть, тот немец привез, что к нам на катере приходил, — сказал Трушин. — Как они быстро с нашим бароном снюхались. Феклин сказывал, что наш Мамочка барона отпускал на все четыре стороны. Война, дескать, между нашими странами кончилась, и ты теперь не пленный.
— А он? — спросил Зуйков.
— Будто попросил, чтобы оставили на клипере до нашего отхода. Дескать, жалко расставаться. С друзьями побыть хочет. И благодарность у него к нам большая. Не хочет так скоротечно смотаться. Не вежливо это, считает.
— Что-то не похоже, чтобы у него к нам большая благодарность была, — сказал Зуйков, вытирая пот с лица, — весь рейс волком смотрел. Вот ведь человек! От смерти спасли, а той самой благодарности у него ни в одном глазу. Может, мы промашку дали, что его не повесили на рее. Хотя… как, Герман Иванович, твое мнение?
— Раз или два ему, наверно, удалось передать на крейсер. Но дело недоказанное. И вешать мы его не имели права. Вообще он странная личность, типичный колонизатор, крепостник вроде наших некоторых помещиков, считает, что все люди делятся на господ и рабов.
— Он, конечно, господин? — сказал Громов. — Белая кость. И у нас есть такие. Вот Новиков, или стармех, или Бобрин, будто иногда люди как люди, особенно механик, и добр, и справедлив, а стоит за царя и дворянский строй и тоже считает нашего брата ниже себя. О тех двоих я и не говорю…
Они вошли в банановую рощицу. Гигантские листья этих травянистых деревьев застыли в неподвижном воздухе, солнце, уже низко склонившееся к западу, пекло немилосердно. За банановой рощей оказалось небольшое поле, засаженное ананасами, бататами, а по краям гигантскими стеблями проса. Дальше, у самого леса, в окружении десятка хлебных деревьев стоял круглый дом с конусообразной крышей. Под навесом возле дома стояла молодая женщина и толкла что-то в большой деревянной ступе… Она улыбнулась и продолжала методично поднимать и опускать свои красивые бронзовые руки, сжимавшие тяжелый пест.
— Воды, что ли, попросить? — Зуйков посмотрел на товарищей.
— Лучше ананас, — сказал Громов. — Сырую воду доктор пить здесь не велел. Еще какую-нибудь лихорадку подхватим без привычки.
Женщина сразу поняла, что хотят эти большие люди в белом, вооружившись ножом, похожим на меч, пошла на поле и скоро вернулась с тремя спелыми ананасами. Она нарезала их на столе большими ломтями, положила на деревянное блюдо и с той же приветливой улыбкой подала Трушину, видно, потому, что он был выше всех ростом и понравился ей больше других. На стол она поставила розовую раковину с мелкой, как пудра, солью. Гости расселись на скамейке вокруг стола и, поглядывая на хозяйку, которая принялась за прерванное занятие, стали есть сочную благоухающую мякоть чудесного плода. Зуйков взял щепотку соли и посыпал ломоть.
— Пожалуй, вкусней! — сказал он. — Никогда не думал, что такой фрукт с солью едят.
И все стали посыпать солью и тоже нашли, что ананас приобретает совсем другой, особенно приятный вкус.
— Давайте еще посидим малость здесь, — сказал Трушин, не спуская глаз с хозяйки, — Чего по жаре слоняться? А здесь и тень, и все — дом.
Зуйков подмигнул:
— Тень, говоришь? Ну что ж, оно и в самом деле не плохо, и ананасы еще не доели, да и поговорить за столом как-то удобней.
— А поговорить надо, товарищи, — сказал радист, — и очень серьезно!
— Да, товарищи, разговор у нас должен быть серьезный, — сказал Громов. — Давай ты, Герман Иваныч, выкладывай свои соображения.
— Хорошо. Вот нас здесь четверо, — начал Лебедь, — четверо единомышленников. Еще ни разу не случалось, чтобы мы расходились во мнениях по принципиальным вопросам. Все мы сторонники пролетарской революции и утверждения власти Советов. То есть стоим на платформе большевиков.
Трушин перебил:
— К чему ты это? Так ведь оно и есть!
— Ты постой, — Громов поднял руку, — продолжай, Герман Иваныч.
— Я все это говорю к тому, товарищи, что надо оформить вашу партийную принадлежность, то есть вступить в партию, и сделать это не трудно, партийная ячейка у нас есть. Вот Иван Матвеевич, — он кивнул на Громова, — и я — члены социал-демократической партии большевиков. Нас пока двое партийных на клипере, и мы долго не ставили вопрос о приеме новых членов но той причине, что люди просто не были готовы к вступлению в партию.
— Да, сознательности у многих не хватало, — согласился Трушин и укоризненно спросил Громова: — Что же ты мне не сказал, что партийный?
— Вот и говорю.
— Думал, и я несознательный? Несозрелый?
— Ну что ты, Роман. Так мы постановили с Германом — молчать до поры до времени, вести работу. А что не сказал, то ты не обижайся, не мое это желание, а партийное. Вот если хотите вступить, то мы рекомендуем вас от всей души.
— Я готов! — сказал Роман Трушин.
— И я, только как это сделать? — спросил Зуйков.
— Довольно просто, — ответил Громов. — Вот тут сейчас мы вас и примем по всей форме большинством голосов, то есть — единогласно. Прямо в равноправные члены. Биография ваша нам известна, приверженность рабочему делу — тоже, и мы голосуем, Герман Иваныч!
Лебедь и Громов подняли руки.
— Единогласно, — сказал Громов, и они с радистом пожали руки новым членам партии.
— Вот нас уже и четверо, товарищи! — сказал Громов. — И у нас есть хороший народ. Давайте вовлечем в нашу организацию Невозвратного, Мироненку, Коваля и Куцибу, Феклшга, Гусятпикова, но это надо делать осторожно, чтобы наши противники не разнюхали. К Владивостоку надо прийти с крепкой партийной ячейкой. Я думаю, человек тридцать у нас будет, а это сила среди неорганизованной массы. Между машинистами и кочегарами тоже есть хорошие ребята, да там все дело портит второй механик лейтенант Нодягин — анархист, сбивает ребят с толку своей дурацкой программой. Пока оставим их в покое, пусть строят свои воздушные замки, может, в будущем одумаются, а мы будем вести свою линию. И еще, товарищи, в отношении тактики хочу сказать: никаких стычек и тем более кулачных боев с монархистами и прочей еще шаткой массой. Будем действовать словом правды. Матрос из простых мужиков и рабочих поймет и к нам пристанет. Ну вот и вся моя речь по первому вопросу. Разнесся тонкий горестный крик и утонул в птичьем гомоне. Крик повторился, и никто, кроме хозяйки и Трушина, не обратил на него внимания. Хозяйка оставила свой пест и быстро пошла, бросив на прощание Трушину тревожный взгляд.
— Второй вопрос — короткий, насчет выбора секретаря нашей организации. Сейчас нас уже много, надо кому-то руководить и отвечать перед партией.
— Предлагаю оставить Ивана Матвеевича Громова, — сказал радист. — Хотя нас было и двое в ячейке, а оп все же являлся старшим и как член партии, и по возрасту. Кто за это предложение? Единогласно!
— Ну вот и все, — сказал Громов. — А где же хозяйка? Надо поблагодарить и, может, заплатить за угощение?
— Она ушла, видно, к соседке, — Трушин махнул рукой, — вон по той тропинке. Там кто-то закричал так жалостливо, она и подалась туда.
— Надо подождать. Или положить деньги да уйти? — предложил Громов.
— Обидится, — сказал Лебедь, — давайте подождем, и пусть Роман ее поблагодарит.
Трушин вспыхнул от удовольствия:
— Ну почему я. Все давайте… Скажем спасибо. Или вот Герман Иваныч на каком-нибудь языке.
— Малайского я не знаю. Ничего, Роман, она поймет. Все засмеялись.
Скоро показалась хозяйка с какой-то женщиной. Они шли очень быстро, почти бежали, а за ними едва поспевал, обливаясь потом, Лешка Головин.
— Вот вы где, — сказал он, обогнав женщин и остановившись под навесом. — Я вас искал, искал и попал в деревню, она тут за лесом возле речки.
— А что случилось? — перебил Громов. — Почему женщины так встревожены.
— Вот я и хотел сказать. С парнем со здешним я пошел в деревню, а он меня привел в дом, ну, вроде шалаша, вот как этот, только похуже, а там человек лежит, умирает, наверное, лицо синее, а на шее шишка, вот здесь. Вот эта женщина, — он показал на спутницу хозяйки, — ревмя ревела, потом другая, вот эта, пришла и стала мне что-то говорить, потом они сюда побежали, и я за ними, потому вижу, дорожка к морю идет, а нам скоро на клипер. А человеку правда совсем худо.
— Нашего бы доктора сюда, — сказал Зуйков, — Видно, впрямь кто-то помирает.
— Действительно, надо вызвать доктора, — сказал радист. — Идемте скорей к баркасу.
Услышав знакомое слово, обе женщины закивали головами и несколько раз повторили:
— Доктэр, доктэр.
— Сейчас, сейчас привезем доктора, а вам за угощение спасибо. — Трушин поклонился хозяйке, и моряки оставили гостеприимную хижину.
Женщина, как потом выяснилось, мать больного, проводила их до самого берега и дождалась, пока баркас не вернулся с доктором.
Ставка — жизнь
Поражает ваша осведомленность, барон, и создается впечатление, что и у меня на борту находился… — Рюккерт хотел сказать «шпион», да, не желая оскорбить гостя, умолк, подыскивая более мягкое выражение, наконец нашел его: — ваш человек, — сказал он с облегчением и уставился на гостя тяжелым холодным взглядом.
— Нет, капитан-цурзее, можете не сомневаться в ваших людях. Мне были известны только отправные точки, а дальше не составляло труда предположить ваши намерения. И весьма странно, что вы не могли разгадать моих намерений. Я по раз рисковал жизнью, а вы чуть не отправили меня к праотцам. Рисковал ради вас, ради нашего общего дела!
— Бросьте высокопарный топ, барон. Сейчас наше общее дело — выжить и вернуться в Германию не с пустыми руками. Что же касается возможности вашего перехода в иной мир, то виноваты вы сами.
— Я?
— Именно. В вашей телеграмме сквозил такой неподдельный страх за свою жизнь. Хотя все это, пожалуй, извинительно, они могли взорвать и себя и нас, так что примите мою запоздалую благодарность. Но перейдем к делу. — Рюккерт довольно резко отвел руку Голубого Ли, подливавшего в глиняные чашки ром. — Достаточно! Хотя подлей! И пей сам и дай нам поговорить! Можешь выйти. Мы давно не виделись. Старые друзья.
Ли закивал головой, расплылся в улыбке, сделав вид, что не понял последних слов.
Они сидели в тесной каюте Голубого Ли. На крохотном столике в углу каюты стояли три серебряные чаши работы индийских мастеров, большая бутыль, искусно оплетенная бамбуком, и серебряное блюдо с ломтями ананаса. Над столом качалась большая, искусной работы клетка с зелеными попугайчиками. Птицы безумолку щебетали, суетились, вылетали ил клетки, садились на стол.
— Черт с пим. Пусть таращит глаза. — Рюккерт махнул рукой в сторону Голубого Ли. — Нам все равно без него не обойтись, и он ни слова не понимает по-немецки. У нас, включая меня и вас, способных держать оружие всего двадцать человек. Этот пират может поставить сотню. Русских, по вашим словам, сто пятьдесят. Силы почти равны, но на нашей стороне преимущество во внезапности и выборе благоприятного момента для удара. Этот метис детально разработал план атаки и, надо отдать ему должное, учел все, включая психологию русских. Например, их доверчивость и непонятное расположите к туземцам. Кстати, он профессиональный пират. Вам не претит такой союз? — Рюккерт отхлебнул из чашки в посмотрел в открытый иллюминатор. В круглой рамс его виднелся угол бухты, клипер с сильным дифферентом на нос. Под высоко поднятой кормой покачивался плот, связанный из стволов бамбука, на нем сидели и стояли пятеро русских моряков и смотрели на гребной винт, медленно спускавшийся на талях.
— Нет, нисколько… — сказал барон фон Гиллер, тоже глядя в иллюминатор. — Такие союзы известны в истории войн.
— Совершенно верно. В отношении права мы можем быть спокойны. На войне так на войне. Вы заметили, как они, надо отдать им справедливость, быстро справились с пробоиной, заделали ее, а сейчас ставят запасной винт? Корабль будет в отличном состоянии. В его мореходных качествах я убедился, да и недавний тайфун также проверил их. — Рюккерт посмотрел на Голубого Ли, сидевшего у порога на корточках, так как два стула, привинченных к полу, занимали его бесцеремонные гости. — Ну что, Ли, тебе все весело? Не боишься русских? В ответ Голубой Ли еще шире улыбнулся: — Нельзя бояться. Надо делать так, чтобы… — он кокетливо опустил глаза, — чтобы меньше шума, больше результат.
— Тут возражений быть не может. Все-таки ты бы лучше ушел. Оставь нас. Все будет, как мы договорились. Иди, иди, Ли!
И опять Ли не понял и сделал попытку долить чашки.
— Не гнать же его в шею перед началом военных действий. Пусть торчит, а мы выпьем. Ли, давай, анкор, ну!
Все трое подняли чаши. Выпили.
— Ну и ром! — Рюккерт облизал усы и взял ломоть ананаса. — Чисто пиратский напиток. Пейте, барон! Когда-нибудь напишете в своих мемуарах об этом эпизоде. И я напишу. Этому рому придется сыграть немаловажную роль в захвате клипера.
— Каким образом?
— Идея нашего хозяина! В день атаки он предложил главе деревни, его агенту, устроить празднество и подлить рому в пальмовое вино. Напиток должен уложить слона, не то что русского матроса, хотя они и славятся лужеными желудками. К тому же кроме рома туда подбавят местного средства от бессонницы.
Барон фон Гиллер впервые с любопытством и какой-то долей уважения посмотрел на Голубого Ли, сказав:
— Интересный экземпляр. Настоящий азиат. После операции надо держаться настороже.
— Безусловно. И… провести вторую операцию. Мы должны выиграть! Нам это необходимо. Мы, в конце концов, имеем на это право, черт возьми! — Рюккерт ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули чашки и бутыль с ромом. — Столько пережито! Столько потеряно! Пусть груз стоит не десять миллионов фунтов, как ты говоришь, а миллион да сто пятьдесят тысяч стоит парусник. Мы выйдем из войны не с пустыми руками. Все ликвидируем здесь! Голландцы купят. А нет — есть Австралия, Япония! В конце концов, мы можем организовать компанию. За процветание нашей компании!
Они выпили, забыв предложить хозяину. Голубой Ли загадочно улыбался.
Барон сказал:
— Надо играть наверняка, очень большая ставка.
— Жизнь! Ставка — жизнь, — подтвердил Рюккерт.
— Сложность в том, что трюмы клипера полны оружия. Кроме того, у каждого матроса — винтовка.
— Положитесь на меня. Мы их не подпустим к борту клипера. У нас договоренность, они действуют на берегу, мы на палубе. И туда будет доставлен, контрабандой конечно, «божественный напиток». Ну вот вы все и знаете. Я вам верю, Фридрих!
— И я вам верю, Франц!
Они допили ром, опять забыв о хозяине. Голубой Ли встал и, склонив голову, прижался к стопке, пропуская их из каюты.
— Не нравится мне этот азиат, — сказал барон фон Гиллер, когда они с Рюккертом поднялись на палубу.
— А я в него влюблен. — Рюккерт засмеялся. — Ну и ром у него, дьявола!
— Нет ли в нем местного снотворного?
— Ну что вы. Мы так же пока нужны ему, как и он нам. Он мне сказал, что лучше всего, когда белые сами дерутся с белыми. Потому и уступил нам честь взятия клипера. Он же знает, что на военном судне не все напьются. Вы что-то еще хотите сказать?
— Вернее, задать вопрос.
— Пожалуйста, Фридрих.
— Франц! Вы уверены, что он не знает немецкий, хотя бы так, как знает французский?
Рюккерт отступил на шаг и медленно повел на собеседника пьяным взором:
— У вас есть подозрения, Фридрих?
— Мне показалось, что для человека, не знающего языка, он слишком внимательно слушал нас.
Рюккерт помотал головой и сказал насмешливо:
— Я идиот, Фридрих. Несчастье сделало меня дураком. Мне тоже показалось, что он, бестия, слушает нас… Помните: послезавтра праздник, а в отношении этого не особенно беспокойтесь, — он кивнул в сторону левого борта, где шкипер отдавал приказания своим матросам, сидевшим в шлюпке. — Не забудьте, что у меня пулемет. И отныне я буду жить на катере. Есть у меня и еще идея, но поговорим на берегу. Идемте, я еду с вами.
Пока шлюпка преодолевала два кабельтова до берега, Рюккерт молчал, теперь он подозревал, что и рядовые пираты так же мастерски скрывают знание языков, как их глава. Только на берегу, оглядевшись по сторонам, он сказал:
— Если операция с клипером сорвется, то мы захватим шхуну…
— Прежде всего надо прибрать к рукам клипер, — сказал барон. — Захват клипера для меня — дело чести и принципов.
— Именно принципов! Мы так решили, и так будет! Не помню, кто это сказал. Кажется, Фридрих Великий. Ба, да ведь и ты Фридрих! Пока еще не великий, но у нас все впереди! Френсис Дрейк тоже вначале был простым капитанишкой. Не будем стоять на жаре, Фридрих Невеликий. Живо ко мне на катер. К черту ром и ананасы! У меня там есть русская водка — подарок русского капитана — и мясные консервы.
— Не могу, Франц. Мы же договорились, что я еще должен быть там, до той минуты…
— Да, да! Именно так, как я приказал. Ты останешься в стане врага и подашь сигнал атаки. Только действуй не так, как прежде. Ха-ха. Но, но, не дуйся. Иди, я благословляю тебя. Я тоже пойду по очень важным делам.
Отдав честь, Рюккерт довольно твердой походкой направился в сторону катера. Никто, кроме его вестового, погибшего на крейсере, не знал, что знаменитый Рюккерт, «железный капитан», как его называли, — запойный пьяница, по прежде оп никогда не пил в море.
— Свинья! — бросил ему вслед барон фон Гиллер.
Праздник в честь бога Шивы
Гости начали съезжаться еще с вечера в канун дня праздника. В бухту вошли четыре катамарана, восемь прау и одна шхуна. Лодки остановились у самого берега, а шхуна отдала якорь недалеко от «Розового лотоса».
Утром к «Ориону», уже принявшему свой прежний элегантный вид, подошел катамаран с делегацией из восьми человек. Ее возглавлял Голубой Ли. В числе приехавших находился и Рюккерт с обрюзгшим лицом, но совершенно трезвый. Он выполнял роль переводчика, хотя не знал ни слова по-малайски. Ему предоставили возможность говорить все что угодно, конечно, в интересах их общего дела. Вся делегация состояла из главарей мелких разбойничьих шаек, приглашенных Голубым Ли для проведения операции по захвату клипера. Он их привез, чтобы заинтересовать в предстоящем деле. И делегаты удовлетворенно кивали головами. Им нравился корабль; судя по осадке, в его трюмах находился полный груз, и если это оружие, то стоимость его очень высока: местные шейхи, вожди племен очень нуждаются в нем. Беспокоило их только большое количество команды, но Голубой Ли разработал хороший план, и эти большие сильные люди выйдут из игры до начала атаки, и самое трудное, что ожидает нападающую сторону, — это сбрасывать их за борт.
Трезвый Рюккерт хмурился и говорил, словно выдавливал из себя слова:
— Вот эти головорезы… попросили меня… передать вам… приглашение на их праздник… Сегодня вечером… Танцы… что-то вроде мистерий о любовных похождениях Шивы… Они благодарны вам за исцеление их сородича… Хотя жизнь для них… не такая уж ценность… — на этом он замолчал и предоставил возможность делегатам изъясняться на местном диалекте и расточать улыбки.
Барон фон Гиллер молча присутствовал при этой сцене, поблескивая золотыми зубами, и, только когда делегация направилась к трапу, он подошел к Рюккерту и сказал:
— До завтра, герр Шмидт.
— А разве вы не будете на празднике?
— Возможно, но недолго. Мне хочется провести последнюю ночь у друзей, у людей, спасших мне жизнь, предоставивших кров над головой.
Рюккерту показалось, что барон переигрывает, и не понравилось, что старший офицер брезгливо поморщился при его слащавых словах.
— Как вам будет угодно, — сказал он холодно и с омерзением подумал, что если не бросит пить, то окончательно перейдет грань и станет законченным негодяем. «Будто я уже не законченный», — подумал он, и его охватило томительное желание выпить, и в этом он видел и избавление от угрызений совести, и добровольное наказание за все свои погрешения. И еще одна мысль возникла в его разламывающейся с похмелья голове: барон в тысячу раз ниже его как личность, хотя и кичится чистотой своей крови и верностью идеалам. «Какие, к дьяволу, идеалы… Их у нас не больше, чем у этих пиратов, только подлость мы научились прикрывать словесной позолоченной шелухой».
Малайцы и тараджи с благоговейным страхом смотрели на Рюккерта. Его багровое лицо, подергиваемое судорогами, являлось для них верным признаком того, что в это время среди них находится богиня смерти Кали и в образе устрашающей богини Бхавани вселяется в этого избранника. Такой человек незаменим в бою, он стоит сотни воинов, и его можно с уверенностью посылать в самые опасные места. Все они в эти минуты уверились, что «краснолицый» — именно тот человек, с чьей помощью они захватят корабль.
— Какие славные люди, — сказал Воин Андреевич, когда катамаран отошел от борта клипера. — А как вам нравится наш барон? Вы заметили, Николай Павлович, как на его лице отразилось даже что-то вроде огорчения, когда он выражал сожаление, что не может побыть с нами.
— Не знаю, не знаю почему, но я все еще не раскаиваюсь в своем мнении относительно барона. И вот сейчас вы уловили в его лице сожаление о предстоящей разлуке, а я — фальшь. Может, потому, что я не люблю сентиментальных немцев.
— И я сентиментален, Николай Павлович, и не вижу в этом ничего зазорного.
— Нет, вы другое. Вы не сентиментальны, а доверчивы, вам нравится открывать в человеке хорошие черты.
— Грешен. Люблю, мамочка моя, и это вы верно подметили. Хотя, не скрою, довольно часто ошибаюсь, и все же во мне не иссякает вера в прекрасные тайники человеческой души.
— Извините, ради бога. Но кому не приятно убеждаться в хороших сторонах окружающих? И я бы хотел, да в данном случае меня преследует мысль, что он все время настороже, что-то замышляет, какую-то гадость, и если не делает ее, то лишь потому, что считает: время еще не пришло.
— Нет, вы неисправимы, голубчик. Вообще вы человек справедливый, недаром вас любят матросы, но в данном случае… Знаю, что вами движет благородная цель оградить всех пас от опасности, хотя какая опасность? Что он может! Ну, хорошо. Завтра он съедет на берег, и у нас воцарится прежнее доброе согласие.
— Я бы его сейчас отправил и на целые сутки приблизил это время.
— Как можно! Такая будет обида. — И, желая переменить неприятную для своего помощника тему, он спросил: — Вы, надеюсь, поедете на праздник?
— Нет.
— Ну вот вы уже и обиделись. Барон — бароном, а праздник — праздником. У нас единственный случай в жизни увидеть действа в честь бога Шивы. Должен вам сказать, что пресимпатичный бог этот Шива. Давайте по очереди. Вначале вы, а потом я. Ну, мамочка моя? Пожалуйста!
— Хорошо, — с неохотой согласился старший офицер. — Извините, сейчас будем подходить к берегу, брать воду.
— Ради бога! Распоряжайтесь!
Старший офицер торопливо ушел, и командир остался один на мостике под тентом, сел в свое бамбуковое кресло, прикрыл пеки и отдался неторопливым мыслям. В то же время on находился и курсе всех событий, связанных с клипером: ловил каждый звук, каждое слово, мгновенно восстанавливая, что кроется за ними. Захрустели звенья якорной цепи: ее травят, чтобы стать ближе к берегу, там в ста саженях от воды доктор, вернее, юнга нашел родник с каменным бассейном, а доктор провел исследование и нашел воду отличной, теперь вода побежит по шлангу прямо в танки и к вечеру заполнит их. Слышался скрип талей, слова команды: тянут такелаж. Мягко шлепнулось что-то тяжело — корзина с зеленью спущена на палубу ловкой рукой матроса, стоявшего на талях.
Он думал о семье, оставленной в Севастополе. Уже больше года, как от жены нет писем. Утешало одно: в Севастополе было тихо, он находился пока за гранью кровавых событий. Но как далеко до него! Из Владивостока туда сейчас не добраться. На Транссибирской магистрали идут бои. Города и станции переходят из рук в руки то белых, то красных, то чехов, то японцев. А там, за Уралом, тоже фронты, бои. На севере — англичане, они же я на востоке и в Черном море. Франция также не отстает — целит на захват юга Украины. Американцы… Они пока действуют осторожно под нажимом демократических сил. Советской России сочувствуют во всем мире рабочие, интеллигенция. Это в какой-то мере сдерживает интервенцию, но надолго ли… Почему Лебедь и Громов уверены в победе?.. «Танечке завтра пять лет!» — неожиданно вспомнил оп и тихо засмеялся, представив розовощекое; золотоголовое существо. На душе у него вдруг стало тихо и радостно, как в первый день пасхи, когда прощены все грехи, а новых еще не набралось.
Бревешкин забористо выругался, подбадривая матросов, тянувших марс-топенант. Старший боцман правит рангоут со шлюпки, передавая приказания при помощи флажков.
С берега прилетела стая огромных лиловых бабочек, похожих на фантастических птиц, они вьются между снастей, словно рассматривают эту непонятную толстую паутину, затем летят дальше, к выходу из бухты: перелетные бабочки — летят на другой остров… Опять мысли командира обратились к далеким родным берегам и трагическим событиям, которые там разворачиваются, и они, эти события, захватят, вернее, уже захватили и его и всех, кто находится на «Орионе». «И как бы ни старались мы делать вид, что все обойдется, пока мы плывем, все станет на свои места, как говорит добрейший Андрей Андреевич Куколь, ничего не обойдется. На родине „зацвел бамбук“, а мы частица земли русской, и нам всем уготована одна судьба».
С берега доносится призывный крик. По ослепительной полоске берегового песка бежит стайка голых мальчишек. У переднего кожа светлее, он выше сверстников и белоголов.
«Да это мой юнга! Каков! Перенял нравы и обычаи туземцев. Гол как сокол! Пусть порезвится. Мальчишке совсем нет удовольствий среди взрослых и вечных вахт. Кто из него выйдет? Моряк? По всей видимости. Надо помочь ему. Пусть получит образование. У него уже опыт взрослого человека. Он повидал больше многих зрелых людей, а поди-ка, что выделывает! Первый бросился в воду! А ведь здесь могут быть акулы. Хотя за ним кинулись и все остальные, а местные знают, где можно купаться, возможно, сюда не заходят акулы. Есть среди этих акульих вод лагуны, куда они никогда и носа не показывают. Почему бы это?» — Воин Андреевич задумался над этой загадкой, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, которые исподволь бередили душу. Он всерьез интересовался биологией моря и читал все, что удавалось достать о жизни в морских глубинах.
Подошел Феклин и остановился в выжидательной позе. Воин Андреевич поднял голову:
— Феклин? Жарко, брат?
— И не говорите, истаял весь. — Для пущей убедительности вестовой вытащил из кармана платок и вытер лицо. — Жара-то, она еще ничего, — продолжал он, пряча платок. — только лучше бы нам уходить отсюда, Воин Андреевич. — Разговор не носил служебного характера, и Феклин позволил себе обратиться по-штатскому.
— Завтра, Феклин.
— Завтра, не сегодня…
— Почему же такая спешка?
— Не нравится мне народ здешний. И этот, порохом обожженный, и его дружки, да и немец, что с нашим бароном все шушукается. Сегодня его прямо спозаранку на шхуну завезли.
— Что же здесь такого? Мы его оставляем здесь с его соотечественником. Ну а местные жители люди другой веры, другого языка, и нам непонятны.
— Все это так, да только если человек сердцем расположен, то самый разнемой и то понятный, а здесь что-то не то. Давеча я на берег съезжал, с одним разговор хотел завести, так он зубы оскалил и так нехорошо засмеялся, прямо мороз по коже. Ну, думаю, тебя к богу в рай и — домой.
— Вечером пойдешь на праздник?
— Надо бы.
— Ничего, иди, повеселись, да только много не пей пальмового вина.
— Ну, это конечно. В гостях напиваться — последнее дело.
Феклин ушел, не сказав самого главного: у того парня с «Розового лотоса», с которым он хотел завести знакомство, за поясом торчала рукоятка револьвера. И что, если у всех у них револьверы, то в случае драки русские матросы окажутся в плохом положении, и он, Феклин, тоже. Конечно, старший офицер «сделает напутствие» насчет драки, да разве утерпишь, если тебя кто смажет. И не было еще такого, чтобы русских матросов безнаказанно задевали на берегу. Вот об этом он и хотел сказать Воину Андреевичу, да вовремя одумался: вдруг командир отменит увольнение, тогда матросня сживет его, Феклина, со свету. Феклин решил, что правильно поступил, не поделившись своими опасениями с командиром.
На мостик забежал на минуту старший офицер и, радостно сообщив, что пресная вода пошла в тапки, убежал распоряжаться по своему обширному хозяйству. Перед обедом пришел, по обыкновению, радист доложить о последних новостях в мире.
— Слышимость очень плохая, — сказал Лебедь, — Европу совсем не слышно. Только ночью удалось поймать Лондон, впервые за все время. Немцы продолжают наступление на Западном фронте.
— Что-то медлят союзники, — сказал Воин Андреевич, — наступление продолжается с конца марта. Наш выход из войны сильно сказался. Успех Германии, видимо, кратковременный.
— Да, Америка наращивает силы в Европе… Подошел отец Исидор с лицом, залитым потом, улыбающийся:
— Снасть тянул, — сказал он, — люблю работу артелью. Успокаивающе действует на душу и много дает в смысле познания людей, нас окружающих. Хорошие у нас люди, Воин Андреевич: хорошей души, незлобивой и многотерпеливой.
— Терпение кончилось, — сказал радист.
— Слушаю тебя, милый, каждый день и в разум не могу взять: неужто вся Россия пошла брат на брата! Если так, то плохо наше дело. Ведь если идет деревня на деревню из-за покоса, или клочка пашни там, или леска какого-то, то бьются до крови, до смертоубийства, а тут вся Россия взялась, да не за колья, а за ружья! — Отец Исидор сокрушенно покачал кудлатой головой и тут же, пожав плечами, добавил: — А нам-то среди такой благодати и тишины не верится, будто дома свара идет. О господи!..
С берега донесся выстрел, через несколько секунд — другой. Прошла минута, и на камнях, загромождавших правый угол бухты, показалась белая фигура, спрыгнула с камней на песок и помчалась по берегу к баркасу, на который матросы заканчивали погрузку фруктов.
— Никак, наш Алешка? — сказал отец Исидор. — Кто это напужал его так, беднягу?
Командир встал, взял бинокль, висевший на спинке кресла. В окулярах он увидел встревоженные лица матросов, затем окровавленное плечо мальчика, лица его не было видно, он стоял спиной и что-то рассказывал. Не закончив погрузки, баркас отошел от берега.
Перевязанный Алешка Головин предстал в кают-компании перед командиром и всеми офицерами клипера.
— Рассказывай, как все было, — приказал командир. — Кто в тебя стрелял и что ты там натворил?
— Ничего, гражданин командир, я не натворил, просто играл с ребятами, купались, раков ловили здешних, ух и раки здесь! Бамбучину перекусывают.
— О раках после.
— Потом мы пошли в лес. После купания. Меня повел тот парень, Ранта его звать, которого наш доктор вылечил. Он все время мне что-то говорил, отведет в сторону от ребят и шепчет, рожи строит, на шхуны и на лодки кивает, а что кивает — понять не могу. И вот повел он меня в лес, потихоньку от ребят, а может быть, сказал, чтобы никто не ходил, ну мы и пошли. Он впереди, а я за ним. Чащоба там, лее перевито, перекручено да еще в гору лезть надо, чтобы тихо, хотя там попугаи орут, аж в ушах звон.
— Все ото очень интересно, но ты покороче, — сказал командир.
— Вы приказали, чтобы все как было… ну вот я и…
Командир махнул рукой.
— Про лес я уже не буду, — продолжал Лешка, — лес у них будто в клубок смотанный. Ну вот, идем. Ранта мне знак дает: дескать, стой, молчи и замри! Ну а я думаю, может, зверь какой там или птица, и тоже тихо-тихо стал. Смотрю между веток, а там полянка, кругом бананы, а возле дома чисто, красная земля притоптанная, ничего не растет, только людей много.
— Что за люди? — спросил командир.
— Разные: и местные и не местные, вроде как на наших, русских, похожие, думаю, что немцы, рыжих человек пять, а другие разной масти, да тоже не местные жители. Как бы военные, только форма у них другая и очень грязная, за такую форму Павел Петрович бы под арест посадил. И там наш барон и еще тот, что приезжал к нам, сидят в тенечке и диво хлещут. Остальные кто сидит, кто лежит, и многие тоже пиво прямо из горлышка тянут. И еще один с винтовкой, тот не пил пива, должно быть, часовой, стоял под хлебным деревом. Еще двое пулемет чистили. Совсем близко от нас, ну шагов десять, и все было бы хорошо, да собака у них оказалась, как залает да кинется на нас! Ну, мы бежать. А они стрелять стали. Ранта упал, я к нему, а у него изо рта кровь, и глаза остановились, а собака уже возле нас и лает и тяпнуть за ноги норовит. И я побег, бросив Ранту. Ну что мне было делать? — Лешка обвел всех глазами. Нет, никто не осуждал. Все сочувственно молчали.
— Тебя тоже там ранили? — спросил старший офицер.
— Нет, уже на берегу. Когда я выбежал на берег, а из кустов человек, вроде как один из тех, только он не гнался за мной, тот, что гнался, потом объявился, а этот, должно быть, на посту стоял, тропу охранял, да Ранта знал, где он сидит, и обошел, а я бежал прямо по тропе, чтобы скорей. Он что-то крикнул, да я не дурак останавливаться, только пригнулся да в кусты, а он как трахнет — и мимо, это он уже меня саданул, когда я через камни перебирался. Пустяк. Кондрат Борисович говорит, что через неделю только след останется от встречи в джунглях. Лес этот джунглями называется, — пояснил Лешка и умолк.
Некоторое время молчали все, потрясенные рассказом юнги. Наконец командир спросил:
— Сколько человек приблизительно ты видел возле хижины?
— Но считал, но много. Местных человек тридцать да немцев — пятнадцать или четырнадцать.
— Почему ты думаешь, что там были немцы?
— Они, как барон, говорили.
— Все разом?
— Ну нет, кто молчал, а у пулемета говорили, пулемет совсем близко от меня стоял. Пулеметчики — один чернявый, а второй с рыжинкой, — вот они и говорили по-немецки.
— Барона ты хорошо разглядел? — продолжал допрашивать командир.
— Барона-то не узнать! Я его сразу узнал и хотел уже окликнуть, да собака бросилась и Ранта побежал, ну и я за ним. Потому что все сразу насторожились и приезжий, дружок нашего барона, как гаркнул на всех, и часовой винтовку поднял, он и убил Ранту. А за что?..
— За нашу доверчивость. Иди, Алеша, спасибо тебе, брат.
Лешка Головин ушел, не веря своим ушам: вместо жестокой взбучки он неожиданно получил благодарность от самого Мамочки.
Как только юнга вышел, командир встал. Встали и офицеры, ожидая приказаний.
— Объявите готовность «один». Продолжать работы на берегу. У родника выставить наряд из десяти вооруженных матросов. Увольнения на берег прекратить. Прошу запять свои места. А вы, Николай Павлович, на минутку останьтесь.
— Вы были во всем правы, дорогой мой, — прочувствованно сказал командир. — Как всегда! Возможно, ото провокация голландцев. Не хотят ли они задержать нас за стычку с туземным населением? Ищут предлог?
— Вряд ли. Скорее всего — местная инициатива.
— Пираты?
— А что вы думаете! Разве представители, приезжавшие нас приглашать на праздник в честь бога Шивы, не смахивали на корсаров?
— Теперь нам все будет казаться подозрительным. Праздники здесь дело обычное. Народ любит повеселиться, благо позволяет климат и дары природы.
— Да… но теперь все это носит уже теоретический характер. Главное, что мы не участвуем в этом празднике. Если бы вы знали, какой у меня спал груз с плеч.
— Вы, может быть, знали больше?
— Нет, только догадки, наблюдения и выводы.
— Действительно, кое-что в них внушало подозрение, но на что они рассчитывали? Вот так, с бухты-барахты захватить военный корабль? Уму непостижимо. Хотя с нами бывало и не такое. Весь наш путь от Плимута, да и раньше, во время рейсов в Брест, все у нас как в романе приключений. Не хватало только пиратов.
— Теперь появились и пираты, и уже есть их первая жертва.
— Жаль мальчика. Погиб он ведь из-за нас. Надо чем-то помочь его родным.
— Есть! Мы с доктором съедем на берег и сделаем все, что в наших силах и что позволяют обычаи малайцев.
— Доктор в этом деле смыслит. Пожалуйста…
Прежде чем уйти, старший офицер сказал:
— С вашего разрешения я больше не пущу на борт ни барона, ни этого Шульца или Шварца.
— М-да, — многозначительно произнес Воин Андреевич и махнул рукой: — Делайте, как считаете нужным…
Боцманы исполнили «райскую музыку», приглашая к ендове с водкой. Прошел обед, во время которого, да и после, располагаясь на отдых, только и разговору было что о Лешкиной встрече в лесу и убийстве Ранты. Запрещение участвовать в празднике на берегу вызвало глухой ропот матросов, уже предвкушавших удовольствие повеселиться на местной вечеринке, как бывало в деревне. Дальше разговоров дело не пошло. Матросы скоро успокоились и даже подозрительно повеселели. Старший боцман скоро дознался, что в корзинах с фруктами оказались бутыли с пальмовым вином и вся вторая и третья вахты крепко приложились к пим. И ему поднесли кружку для пробы. Павел Петрович любил выпить в свободное время, и то на берегу, на клипере пил только положенную чарку. Вино оказалось довольно приятным на вкус, с кислинкой, все же боцман только пригубил и приказал, чтобы «ни-ни, было тихо, выпившие не показывались на палубе, а ложились спать». Тут же он послал наряд из первой вахты, и все вино было конфисковано и сдано в баталерку. О случившемся боцман доложил старшему офицеру, и тот сам прошел по кубрикам. Матросы или лежали вповалку на жилой палубе, или бродили с осоловелыми глазами, жалуясь на одолевавший их сон.
— Немедленно доктора! — приказал старший офицер.
Через двадцать минут доктор докладывал командиру:
— Скорее всего, к вину подмешано снотворное. На отравление растительным ядом пока не похоже. Пульс у людей ровный и только слегка повышенный.
— Сколько человек в таком состоянии?
— Шестьдесят пять. Еще десять пили вино, но немного и стали довольно успешно бороться со сном, когда узнали, что в напитке «малинка» — то есть отрава, как говорят матросы.
— Так вы считаете, что может обойтись?
— Надеюсь. На всякий случай будем давать рвотное.
— Хорошо, Кондрат Борисович. Действуйте энергичней. Они вывели из строя всю вторую вахту!
За час перед закатом солнца на берегу появилась красочная процессия во главе с оркестром, несколько музыкантов в пестрых саронгах дули в раковины и били в барабаны, остальные тянули заунывную мелодию, пританцовывая на влажном песке. Под экзотическую музыку от «Розового лотоса» отвалила шлюпка. В ней помимо четырех гребцов сидели барон и Голубой Ли. Шлюпка направилась к «Ориону».
— Каков мерзавец! — воскликнул старший офицер, подходя к борту.
— Добрый вечер! — приветствовал барон. — Прикажите спустить трал.
Старший офицер ответил с подчеркнутой холодностью:
— Мы не можем вас принять, господин барон.
— Не ожидал этого от вас, капитан-лейтенант. Я приехал проститься и поблагодарить и вас и всех офицеров за все, что вы для меня сделали.
— Вы уже отблагодарили нас достаточно. Желаю весело провести праздник Шивы.
— Так вы не будете на берегу? — с искренним огорчением воскликнул барон.
Старший офицер вспыхнул от гнева, повернулся спиной, хотя ему так хотелось высказать все, что он думает об этом человеке.
— Мне очень жаль, но вы чем-то расстроены… — Теперь в голосе барона слышалась явная насмешка.
— Я все слышал, — сказал командир, когда старший офицер поднялся на мостик, чтобы доложить о разговоре с бароном, — не расстраивайтесь особенно и поругайте меня, как ругали в Корпусе, я, видно, мамочка моя, неисправим. Все мне кажется лучше, чем оно есть на самом деле. Забываю мудрые слова нашего старшего штурмана. Помните, как он часто говорил, что «мало хороших дел проходит безнаказанно».
— Если бы знать…
— О! В этом весь вопрос! Хотя нам положено предвидеть. Вы в этом отношении — прорицатель. Как матросы?
— Спят. Никакими силами доктор не может ни одного добудиться.
— Зелье списали?
— Да, за бортом.
— Вот и отлично… — Командир со вздохом покрутил головой, положение никак нельзя было назвать отличным, заснули еще пятнадцать, а всего вышло из строя восемьдесят человек. Гардемарину Бобрину Бревешкин принес целый кувшин напитка Шивы, как его назвал доктор, и сейчас Стива спит сладким сном.
— Какой закат! — Командир оторвался от невеселых дум. — Усильте посты, пусть механики приготовят прожектор. Матросов — в ружье! Хотя вы псе это уже исполнили.
— Да, распорядился. Тем, кто не пил этой гадости, спать сегодня не придется.
— Вот именно, какой там сон? Где-то в каюте у меня был пистолет. Феклин!
Вернувшись, на «Розовый лотос», барон фон Гиллер сказал Рюккерту:
— Франц! Они все знают. Вернее, догадываются. Этот проклятый мальчишка заставил их насторожиться. Никого из них не будет на празднике.
— Все идет к дьяволу! — Рюккерт сжал серебряную чашу двумя руками с такой силой, что она сплющилась и ром брызнул вверх, залив лицо капитана. Они сидели в той же каюте «Розового лотоса». Голубой Ли на корточках застыл у двери.
— Не совсем, Франц. Напиток Ли свалил добрую половину русских. Ли видел в иллюминатор матросов, лежащих на палубе и в жилом кубрике. Не пей больше, Франц. Ночью потребуется вся ясность твоей головы.
— Атака?
— Да, нас больше в три раза!
— Такое количество и требуется для наступления. Мы пустим теперь наших союзников вперед! Они сами жаждут находиться в первых рядах, будто пронюхали о наших планах. Вначале они надеялись на меня. Представь, они считают, что в меня вселился дух смерти! Неплохо для начала! И знаешь — они правы. В каждом немецком солдате сидит дух бога войны. Фридрих! Мы сегодня с тобой идем на абордаж!
— Хорошо, Франц, только повторяю: не пей больше!
— Да, да… голова должна быть ясной. Ли! Дай мне той настойки на ваших дьявольских травах или водорослях, — попросил он, переходя на французский язык.
Шкипер вытащил из рундука под столом оплетенную бутылку и налил из нее в пустую чашку темно-коричневой жидкости. Рюккерт выпил, покрутил головой:
— Необыкновенно противное питье, но удивительно просветляет голову. Вот я уже почти трезв, Ли!
Шкипер поднял на Рюккерта свой вечно улыбающийся лик.
— Собери немедленно всех своих союзников — главарей лаутоп — так, кажется, малайцы называют пиратов.
— Совершенно правильно. Они давно ждут на палубе…
До поздней ночи светились вершины деревьев по обе стороны долины, где находилась деревня. Там горели костры. Доносился бой барабанов. Время от времени прожектористы бросали на берег луч ослепительного света. На берегу не было ни души. Безлюдные катамараны, выхваченные из тьмы лучом, застыли на неподвижной воде. И на шхунах не замечалось никакого движения. Часовые у бортов клипера, расчеты у орудий коротали ночь, ведя тихие разговоры. Около часа ночи смолкли барабаны, померк свет над деревьями. Мир обволокла безмятежная тишина, с берега доносился только звон цикад, а с гряды рифов перед входом в бухту плыл убаюкивающий шум прибоя. От недавних опасений не осталось и следа, мысли русских моряков вошли в прежнее русло о далекой родине, о близких, о хозяйстве, урожае, который скоро будут снимать бабы, если не потоптали его солдаты: красные или белые, или невесть какие, сейчас на Россию накинулись все народы — и недавние союзники и враги.
Раздался протяжный зевок. Матрос, стоявший недалеко от мостика, сказал:
— Во темень так темень, прямо смола разлитая, а в воде какие-то гады шастают, смотри, как она вспыхивает. И отчего бы это?
— Должно, свойство такое, — ответил другой сонный голос. — Здесь все чудно и страховито. Смотри, будто искры тучей на берегу!
— Ну это понятно: светляк здешний, жук такой. Давеча один залетел, под хвостом у него светится, как свеча. Не видал?
— Не.
— Ну еще будет. — Опять зевок. — Хоть бы луна взошла.
— Месяц только народился. Видишь, за горами светит, только малость позолотил верхушки.
Последовал вздох. Оба помолчали, затем первый сказал:
— Все здесь не то. Сейчас бы ушицы окуневой похлебать да у огонька под тулупом прикорнуть. Дух у нас один какой от трав да от всего…
— И здесь дух дюже пахучий, да…
— Вот тебе и да… О, слышишь? Пойдем поближе, послушаем.
— И так слыхать…
Зосима Гусятников, стоя у борта с винтовкой в руке, стал рассказывать сказку о том, как меньшой крестьянский сын Иван — несусветный дурак и простофиля, — сталкиваясь с людьми и жизнью, умнел не по дням, а по часам и стал задумываться о таких вещах, которые прежде ему и в голову не приходили.
— …И пришел он к царю. Старенький такой, плюгавый царек на золотом троне сидит, стража кругом него с топорами да ружьями, министры стеной стоят, и все так на Ивана смотрят, будто он даже не последняя козявка, а кусок мерзлого дерьма. Царь и спросил Ивана:
— Слышали мы, что ты зуб на нас имеешь. Хочешь бояр да меня, грешного, земли лишить, стражу мою верную мечом порубить, дочь мою Пелагею за себя замуж взять? Правда ли это, говори, собачий сын, потому скоро тебе голову срубят и на кол посадят, и никто твои думки-тайны не узнает, и горько помирать будет, беспутному, с таким грехом невысказанным, непокаянным.
— Все правильно, царь. Холопы твои слово в слово тебе доложили мои мысли. Только не себе одному престол я задумал взять, и землею, и пашнями, и реками, и лугами владеть. Все я задумал поделить меж всеми мужиками. Только дочь твою Пелагею беру за себя, так как она девка на тебя не похожая, к людям жалость имеет и меня любит.
Царь аж посинел. Ртом воздух, как рыба, хватает…
— Эх, Зосима, Зосима Гусятников, — раздался голос Брюшкова, — влипнешь ты со своими сказочками, как гусь в чугунок. Что ни царь у тебя, то последний дурак, справный мужик — мироед.
— Так оно и есть, Назар. Не был бы царь дураком, давно по справедливости землю разделил и мужичка не притеснял, и не было бы теперь свары на земле.
— Без тебя разберутся, кому положено.
Зуйков сказал, позевывая:
— Брось, Зосима, не спорь с ним. Пустое дело. Назар сам из мироедского семейства. Батрачил у них, знаю. За сотню десятин нахапали.
— Трудом да головой. А ты, лодырь, молчи!
— Да я теперь за грех считаю с тобой говорить об этом. Разговором тут одним не возьмешь.
— Да будет вам, — прикрикнул младший боцман Петушков, — давай, Гусятников, да про Пелагею побольше расскажи, какая она из себя и вообще. Гладкая, наверное, да статная. Люблю гладких девок, особенно царских дочерей.
Вокруг засмеялись. Брюшков выругался и замолчал. Подошел вахтенный начальник Горохов.
— Вольно, вольно, ребята. Лясы точите?
— Чтобы сон отбить, — сказал Зуйков.
— Ну, ну. Только слушать получше. Чуть где всплеск — поднимайте тревогу. Полезут, пускайте в ход оружие.
— Да кто полезет-то, Игорь Матвеевич? — спросил Петушков. — Кому жизнь надоела?
— Слыхали, что днем было? Кроме того, подослали нам сонной водки. До сих пор вторая вахта дрыхнет. Чем еще кончится — неизвестно. Вот что значит довериться незнакомым людям.
— То же было бы и с нами, сойди мы на берег, — сказал Зосима Гусятников. — Кто бы не выпил разве? Водка ихняя вроде пива, слабая. Каждый думал хватить как следует.
Вахтенный начальник пошел обходить корабль, а у грота опять потек говорок Зосимы Гусятникова.
Не спали командир и старший офицер. Они после захода солнца не сходили с мостика, вестовые туда принесли им ужин, сейчас командир, по обыкновению, сидел в своем удобном кресле, старший офицер мерил мостик по диагонали. Оба молчали, думая о своем и слушая сказку Гусятникова.
Командир спросил:
— Вы заметили, какую эволюцию претерпел Иван-дурак у Зосимы Гусятникова? Какое влияние на него оказывает информация Германа Ивановича?
— Как-то не было времени…
— А на вахте?
— Не вдавался в анализ его литературного героя.
— Именно литературного. Зосима — художник. И художник, тонко чувствующий веяние времени. Его Иван — народный борец. Все меньше и меньше ему надо самому. Заботится о народе. Себе оставляет только царевну Пелагею. Слышали?
— Пелагею? Действительно, оригинальное имя для царевны. Рассказывал он как-то и о Марье — тоже царской дочери… Меня, Воин Андреевич, тревожит туман. Надо расставить матросов по борту. Мало людей… Я пойду распоряжусь.
— Идите… Феклин! — Пришлось позвать вестового несколько раз, пока он отозвался.
— Виноват. Вздремнул. Все от этого «мухомора» проклятого. Выпил всего полкружки, не боле, а кто хватил по-настоящему, тот до сих пор спит. Везет же людям, — неожиданно заключил он.
— Везет, говоришь?
— Ну а как же! Мы глаза дерем, а они спят, как младенцы.
— Не хотел бы я быть на их месте. Иди умойся, выпей холодного кофе да нам с Николаем Павловичем принеси.
— Есть!..
Кофе прогнал сон. Феклин стал было рассказывать командиру, как у них в деревне зимой ловят налимов, да вернулся старший офицер, и Феклин обиженно умолк, потому что дальше в его рассказе было, как он вытянул из проруби десятифунтового налима.
Воин Андреевич сказал:
— Тропики, жара, акулы, а вот Феклин только что рассказал о зиме, морозе и налимах. Как-то даже прохладней стало.
— Туман конденсируется, — сказал старший офицер, — стопроцентная влажность. Понизилась температура перед рассветом, и вот извольте…
— Ничего, Николай Павлович. Будем надеяться. Да, звезды погасли, и даже светляков не видно на берегу. — Командир нашел в темноте руку друга и крепко пожал. — Обойдется. Через полчаса взойдет солнце.
Тревожно прозвучал, голос матроса:
— Справа по борту всплески!
Второй голос оповестил, что с кормы кто-то крадется по воде к «Ориону».
Старший офицер приказал дать несколько выстрелов вверх. Всплески прекратились на некоторое время, затем послышались вновь, но попеременно с разных сторон.
Туман порозовел, но был так густ, что в трех шагах ничего не было видно.
Внезапно бухта огласилась криками и ударами об воду. Гулкое эхо в береговых округах многоголосо повторяло и усиливало все звуки.
Под этот маскировочный шум к «Ориону» со всех сторон двигалось множество лодок. В каждой находилось от пяти до десяти пиратов. Туман уже начал подниматься, и с лодок смутно проглядывался корпус «Ориона». Лодки остановились в пятнадцати — двадцати саженях, тесно окружив клипер: ждали сигнала Голубого Ли, чтобы разом броситься со всех сторон.
На палубе клипера послышался смех, матросам показалось, что опасность миновала, да и никакой, собственно, опасности и не было. Просто офицеры придумали, чтобы не пустить на берег перед уходом в рейс. И вот сейчас, не спавши, придется карабкаться на реи, отдавать паруса, трекать снасти…
— Ух и дурной же мы народ, братцы! — радостно на весь корабль гаркнул матрос Грицюк. — Так ведь воны рыбалят, рыбу в сети загоняют, помните, как на том острове, где банан брали и другую овощь!
— Помолчи, брат, — сказал Гусятников, — и так все гудит. Хитры, собаки. Никак, вода с весел каплет?
Старший офицер приказал прекратить все разговоры, и на палубе стало тихо, по голоса «рыбаков», удары по воде стали еще сильней, яростней.
Кто-то из матросов уловил плеск весла рядом и громко крикнул:
— Подходят! Близко уже!
И с другого борта донеслись предостерегающие возгласы. Защелкали затворы.
Командир поднес ко рту мегафон и крикнул:
— По местам! Сейчас они полезут на нас! Стреляйте, ребята! Бейте их всем, чем располагаете. Помните, мы защищаем свою жизнь и честь русского… — Его речь прервал выстрел, затем началась частая стрельба, поплыл леденящий кровь заунывный вой корсаров, идущих на абордаж. Они подошли вплотную и, зацепив за планширь крюками на конце легких бамбуковых трапов, карабкались вверх, стреляя из револьверов или норовя ударить ножом. Мало кому удалось при первой атаке спрыгнуть на палубу, да и тут смельчака ждала печальная участь.
С каждой минутой светлело. Туман клочьями поднимался к реям.
— Так их, так их, братцы! — гремел голос командира. — Пусть узнают, как нападать на русских! — Он видел, как матросы бились насмерть уже на палубе, один против двух-трех пиратов. У мостика появился отец Исидор, держа винтовку за ствол. Убегавший от него пират исчез за бортом, и отец Исидор, бросив взгляд вокруг, кинулся на выручку Роману Трушину, который дрался одной рукой с юрким малайцем, его вторая окровавленная рука висела как плеть. Сбив с ног противника Трушина, отец Исидор кинулся к баку, где щелкали пистолетные выстрелы.
— Браво, отец Исидор! — крикнул Воин Андреевич и оглянулся, привлеченный мягким стуком о палубу. Он увидел высокого малайца в одних «лава-лава», его шоколадное тело было мокрым, он, видно, только перебрался через борт. Пират присел на корточки и, молниеносно выпрямившись, занес нож, нацеленный в спину Феклину, который стоял с винтовкой и наблюдал за отцом Исидором. Командир выстрелил в пирата, и он, прокатившись по поручням трапа, упал и замер, неестественно вывернув руку с ножом.
Феклин обернулся, посмотрел на убитого, потом на своего командира с револьвером в руке и прошептал:
— Во проклятый! И как это он подлез?
— Смотреть надо лучше. Не то нас с тобой, как кур, прирежут.
— Теперь уж я… — Феклин взял ружье наизготовку. — И как он, проклятый… Во! — Он приложился и выстрелил в бегущего вдоль борта пирата, промахнулся, тот ловко перемахнул через фальшборт, раздался плеск.
Косые лучи утреннего солнца осветили окровавленную палубу и поверхность бухты, покрытую космами тающего тумана. Несколько матросов, положив винтовки на планширь, стреляли по уплывавшим лодкам. Командир приказал прекратить огонь, а сам спустился на палубу и тут же наткнулся на убитого. Он лежал ничком, раскинув руки, голый по пояс, в коротких штанах. На растрепанных рыжих волосах запеклась кровь.
«Среди них были и европейцы? — удивился командир и вспомнил, что слышал немецкую речь в самый разгар схватки. — Люди Шульца, — решил он. — Возможно, он и сам здесь или за бортом?» На палубе он увидел еще несколько убитых малайцев и одного чернобородого тараджа, очень похожего на барона фон Гиллера. У грот-мачты матросы накрывали брезентом павших товарищей.
Доктор с окровавленными руками поднял бледное лицо if продолжал перевязывать матроса, раненного в плечо, сбоку стоял санитар Карпушин, держа сумку с бинтами.
Раненый матрос улыбнулся командиру:
— Сила их была. Как и отбились в такой темени да тумане, право не знаю. Лезут и лезут, как тараканы из щелей. И ножи у них не приведи господи, прямо косы, а не ножи.
Командир узнал матроса Луконина, тихого, застенчивого человека.
— Молодец, Луконин!
— Чего уж там молодец. — Па серых щеках матроса появился слабый румянец. — Думал, по встречу солнца. А вон оно, жжет уже, а часов, поди, семь…
— Большие потери? — спросил командир у доктора.
— Еще точно не знаю. Пятеро убитых у нас, и человек двадцать раненых. Карпушин, помоги раненому встать.
— Ничего, я сам… — сказал Луконин.
Подбежал, как всегда озабоченный, старший боцман, взял под козырек.
— Вольно. Жив, Петрович? Ну как, страшно было?
— Страх был, конечно, да не очень. Больше я за тех был в тревоге, — боцман боднул головой в сторону нижней палубы. — Думал, не оклемаются…
— Ну и как?
— Живы, черти, Николай Павлович приказал их еще подержать в кубрике, пусть в чувство придут да совестью помучаются.
— Согласен.
Боцман замялся, потом сказал:
— Это, конечно, правильно, да народ с похмелья, некоторым до гальюна есть потребность…
— Ах вот оно в чем дело. Выпускай по очереди…
Командир заметил Лешку Головина: с винтовкой, грязный, в разорванной рубахе, юнга шел по палубе с таким видом, будто вернулся сюда после многолетней отлучки.
— Головин!
Лешка вздрогнул, увидев командира, приосанился и, подбежав к нему, остановился в выжидательной позе.
— И ты воевал? — с удивлением спросил командир.
— Так точно, гражданин капитан второго ранга! Воевал! Все патроны расстрелял! Когда только вы скомандовали, я и начал!
— Рановато, голубчик, ты начал воевать, да время сейчас лихое. Молодец!
— Рад стараться! — Лешка шмыгнул носом вслед командиру, ему так хотелось рассказать, как он, положив винтовку на кнехт, посылал пулю за пулей в подплывающих пиратов, что рядом с ним лежали и стреляли Зуйков, Трушин и еще кто-то, и все же пираты подплыли правей, к форштевню, полезли на клипер, и как там их встретили комендоры, а возле него кто-то дрался и наступал ему на ноги, а он все стрелял, пока не кончились патроны, и хотел уже встать и тоже вступить в рукопашную схватку (как ему сейчас казалось), да почувствовал страшный удар в спину: пират прыгнул на него с фальшборта. Что с ним, этим разбойником, было дальше, Лешка не помнит: в глазах у него помутилось. Зато когда он снова увидал молочно-белый свет и смутные фигуры мечущихся по палубе людей, услышал выстрелы и крики и, не долго думая, хотел вскочить и броситься в драку, то почувствовал, что кто-то схватил его за грудки и держит мертвой хваткой (зацепился рубахой за утку), и как он рванулся что есть силы и стал на ноги, да «пират» куда-то исчез, а то бы…
— Лешка! Курицын сын! — услышал он голос Зуйкова. — Во, братцы, вояка! Как он в них садил!.. Давай сюда! Не ранило?
— Кажется, нет…
Матросы стояли вдоль бортов, вполголоса делясь впечатлениями недавнего боя. Уже доносился смех. Гарри Смит что-то рассказывал лейтенанту Фелимору, потрясая винтовкой. Фелимор в разорванной сорочке, с перевязанной головой стоял подбоченясь, с зажатым в руке наганом. Лейтенант Горохов, оборонявший со своим взводом правый борт, смотрел в бинокль, поставив локти на планширь. Голос старшего офицера слышался с бака. Командир приятно удивился, услышав и скрипучий голос артиллерийского офицера. Ему вечером доложили, что Новиков и Стива Бобрин спят, уложенные напитком Шивы. Новиков проснулся при первых выстрелах и дрался на баке, возглавив орудийный расчет. Подошел старший механик, постаревший за ночь на десять лет. Сказал, что у него убили кочегара Куликова Федора, отца двух детей, что вся его машинная команда билась на юте, есть раненые и он сам в кого-то стрелял, что через час машина будет готова…
Командир подошел к баку, здороваясь с матросами. Зуйков, заливаясь смехом, теперь уже рассказывал, как иеромонах крушил пиратов, его с удовольствием слушали, хотя многие видели сами подвиги своего духовного наставника.
— Я их легонько сгонял с палубы, и только, ну, может, и задел кого ненароком, так ведь война.
— Он и стрелял, братцы! — говорил Зуйков. — Так жарил, что любо-дорого!
— Ну и стрелял, так я же не целился, для острастки, слава тебе господи, не попал.
— Вдруг попал?
— Ну и попал! Одним супостатом меньше. Ты вот зубы скалишь, а невдомек, что я не простой поп, а военный.
Заключительная фраза иеромонаха вызвала дружный смех. Заметив командира, матросы разом замолчали и стали по стойке «смирно». Он поздоровался, и ему дружно ответили.
Вдоль другого борта, пригибаясь, пробежал вестовой старшего офицера Чирков, неся на вытянутой руке белоснежный китель. Николай Павлович в одной рубахе смотрел в прицел пушки. Чирков, тяжело дыша, стал за его спиной. Матросы орудийного расчета, глядя на него, скалили зубы. Новиков стоял сбоку пушки и смотрел в бинокль.
— Фугасным! Зарядить! — прохрипел он.
В это время над головой просвистел рой пуль. На берегу в скалах застучал пулемет. Командир остановился. У его ног ударилась рикошетом пуля, выломав длинную щепу. Три раза подряд ударила пушка, и пулемет смолк.
— Отбой! — сказал Новиков, и в голосе его слышалось сожаление.
— Вот теперь, кажется, все, — сказал старший офицер, подавая руку командиру. За его спиной стоял Чирков, держа китель за вешалку, ветер раскачивал его, и от золотых пуговиц во все стороны летели ослепительные зайчики.
«Белая лошадь»
Главнокомандующий по захвату клипера и его штаб находились на «Розовом лотосе». Отсюда Голубой Ли подал сигнал к атаке. Здесь находились в качестве советников капитан Рюккерт и барон фон Гиллер. Голубой Ли несколько раз пытался направить их к месту боя, по советники предпочли остаться на палубе «Розового лотоса».
Как все морские сражения, бой протекал молниеносно: в течение двадцати минут все было кончено, атаки отбиты с огромным уроном для нападающих. Несколько пустых лодок утренний бриз гнал к выходу из бухты.
Голубой Ли стоял на палубе своей шхуны с таким видом, будто только проснулся и не знает, что здесь произошло. Он даже потянулся и зевнул, а когда по клиперу ударил пулемет, то в притворном испуге бросился за рубку. Пулеметчики сидели в засаде на тот случай, если уцелевшие русские начнут отходить на шлюпках. И вдруг открыли бессмысленную стрельбу. Голубому Ли пришла мысль, что и эта стрельба, приведшая к уничтожению пулемета, и вся операция по захвату судна прошла не без участия потусторонних сил. Кого-то из местных богов он не смог умилостивить. И тут он вспомнил и горько улыбнулся: «Ну конечно, я забыл принести жертвы духам, обитающим в бухте Тихой радости. Теперь все понятно». Он вышел из-за рубки. В скалах у выхода из бухты стояло облако дыма и красной пыли. Голубой Ли пошел в свою каюту, где находились советники.
— Олухи! Проклятые олухи! — с отчаянием сказал Рюккерт, когда эхо от орудийных выстрелов замерло в горах. — Кто им приказывал стрелять, когда все рухнуло, и вот теперь мы, наверное, лишились и пулемета. Кыш вы, проклятые! — Он замахнулся на зеленых попугайчиков, носившихся по каюте. Птицы вылетели в иллюминатор и тут же вернулись назад. Обиженно щебеча, они сели на распахнутую дверцу клетки.
Барон фон Гиллер молчал, сосредоточенно наблюдая в иллюминатор за палубой клипера. Голубой Ли вошел в каюту и подтвердил опасения Рюккерта насчет пулемета. О пулеметном расчете не было сказано ни слова.
— Пфу! — Голубой Ли улыбнулся и развел руками, изображая, как поднялись в воздух камни, деревья, люди и пулемет.
Потерю пулемета Ли переживал во сто крат тяжелее, чем гибель почти всей своей команды. Люди были дешевы, он без труда подберет новых матросов, а вот машину, стреляющую с непостижимой быстротой, достать теперь вряд ли скоро удастся. Голубой Ли стоически отнесся к поражению. Конечно, у него остался горький осадок после крушения стольких надежд. Но он был фаталистом. Боги, руководящие судьбами всего сущего на свете, почему-то покровительствовали белым. Вообще боги уже многие годы часто оказывают предпочтение пришельцам. К тому же on не умилостивил местных духов под. Голубой Ли знал, что счастье переменчиво, дождется и он удачи, а это случалось уже не раз. И притом как смотреть на происшедшее. Он потерял, зато в бою устранены все его соперники. Погибли предводители трех мелких банд и почти все их люди. Теперь у него нет конкурентов в этих водах. Он уже обмозговал, как стать собственником второй шхуны, что стоит по ту сторону клипера. Не много хлопот доставят ему и эти двое самодовольных белых, что задумали обвести его вокруг пальца. После них останется быстроходный катер. А две шхуны и катер — это уже начало большого дела. Надо поскорее, без шума избавиться от этих двоих. Люди они неизвестные в этих краях, никто не станет их разыскивать…
Голубой Ли поставил на стол бутылку виски. Глаза капитана Рюккерта блеснули:
— О, виски «Белая лошадь»! Налей, друг, налей, чертовски хочется выпить после такой ночи. Не везет мне в последнее время на ночные сражения.
Голубой Ли налил две серебряные чаши. Барон сказал, глядя в открытый иллюминатор:
— Они сбросили за борт убитых.
— И правильно сделали. Выпьем, Фридрих!
— Раненых свозят на берег. Ничем не оправданный акт милосердия.
— Согласен. Но выпьем же, черт возьми!
— Подождите, Франц. Один из раненых — ваш матрос.
— Действительно, кажется, Трумер! Мой комендор. Он еще пригодится нам. Потери колоссальны. Уцелел один из пятнадцати. Ну, выпьем за живых!
Они подняли чаши. Барон сказал:
— Надо бы предложить выпить с нами и этому цветному.
— «Белую лошадь»? Что вы, барон! Пусть лакает свою каву или ром.
Ли, улыбаясь и кланяясь, вышел из каюты. На люке, поджав ноги, сидел его помощник и, казалось, бесстрастно паблюдал за всем происходящим на клипере и на берегу. Ночью оп побывал на палубе этого судна, убил матроса и счастливо избежал возмездия, прыгнув за борт. Сейчас он, как и его начальник, прикидывал, что придется на его долю. По крайней мере, он станет командовать второй шхуной, несколько часов назад принадлежавшей человеку из племени бугов.
— Муса! — обратился к нему Голубой Ли.
Помощник остался неподвижен, только чуть скосил глаза в его сторону.
— Муса, там у меня в каюте два белых туана, они слишком мною выпили виски.
— Многие сегодня слишком много выпили виски, — ответил Муса, не двигаясь с места.
— Зато освободилось место капитана на одной шхуне.
Муса встал, спустился в трюм и выбросил оттуда два больших промасленных мешка из-под копры.
Лазурная бухта застыла среди зеленых гор. В воздухе был разлит покой и безмятежное счастье, которые дарует природа в часы своих раздумий. Из деревни доносились дробные удары: хозяйка колотила палкой по колоде, созывая свиней. Гуськом спускались по тропинке рыбаки к своим прау. Клипер, чуть вздрагивая высокими голыми мачтами, выходил из бухты. Впереди на гряде рифов пенился прибой, а дальше, закрывая горизонт, млело перламутровое марево, такое же прекрасное и обманчивое, как лазурь безмятежных вод бухты Тихой радости.
Черная тень
С обнаженными головами стояли матросы на шканцах. На противоположном борту на лючинах лежали зашитые в старый парус тела убитых в бою. Командир сказал речь о погибших во славу Российского флота, назвав по имели каждого, и предрек, что впереди еще не раз придется вставать грудью за правое дело. Отец Исидор, облаченный в ризу, прочитал заупокойную молитву, хор под управлением кока Мироненко пропел «вечную память», и тела скользнули ногами вниз в теплое Яванское море.
Матросы второй вахты с виноватым видом разошлись по своим местам, кляня проклятый «мухомор», подсунутый коварными пиратами, — так они на свой лад окрестили напиток Шивы. Большинство подвахтенных участников сражения спустились отдыхать в жилую палубу, а человек пятнадцать отправились на бак покурить и еще раз обстоятельно обсудить необыкновенное событие. День выдался на редкость хороший, не жаркий, легкий ветерок обдувал палубу. Командир приказал загасить топки, и клипер, распустив все паруса, бежал, делая до шести узлов, море стелилось под ним. С марса прокричали, что видят остров на норд-осте. Матросы повернули головы. Островок повис в дрожащем воздухе, как мираж: кольцо, утыканное пальмами, в кольце — зеркальце лагуны. Сказочник Зосима Гусятников сказал, о чем думали все:
— Худо, братцы, посреди такой благодати концы отдать. Вдалеке от дома, в чужом море.
— Да оно где бы ни пришлось, все не мед, — сказал Роман Трушин. — Меня вот отец Сидор спас, а не то бы…
Зуйков залился смехом:
— Как он их гонял по палубе! Одного сшиб с ног, хотел прикладом ударить, да, видно, пожалел, взял его, как котенка, и за борт швырнул. Да вон и он сам идет покурить с нами.
Подошел иеромонах, встреченный почтительными приветствиями. Ему протянули с десяток кисетов.
— Спасибо, ребята. У меня свой, иноческий табачок, безвредный, только для прочистки нутра от всякой скверны.
Зуйков сказал, давясь от смеха:
— От его табаку тараканы здешние дохнут. Ей-богу, сам видал. Полз по переборке, отец дыхнул, а он с катушек и вниз. Во табак!
Отец Исидор ответил, улыбаясь в кудлатую бороду:
— Наш таракан дюжей, а ихний, басурманский, не терпит христианского духу.
Матросы засмеялись, и не столько от незатейливой шутки иеромонаха, сколько побуждаемые благодушным рокочущим басом и всем видом своего духовного наставника — такого ладного и непомерно сильного мужика, на котором, казалось, совсем случайно очутился подрясник. Его сильные руки крестьянина всегда тосковали по работе, и матросы понимали сердцем, что этот человек одного с ними корня. Сегодня же они убедились, что он еще и человек не трусливого десятка, не один из сидящих сейчас у обреза с водой был обязан ему жизнью. Гигант, заросший волосами, в странном одеянии, неуязвимый для пуль, сметающий все на своем пути, швыряющий за борт людей, как котят, внушал пиратам панический ужас, и те, кто увертывался от его винтовки-дубины и могучей руки, бросались в воду.
Матросы сходились на том, что отец Исидор окончательно решил дело, и, не ввяжись он в драку, пришлось бы еще повозиться малую толику да кое-кому из своих душу богу отдать. На баке разбиралось поведение каждого: от последнего матроса до командира.
Зосима Гусятников сказал:
— Все но-хорошему обошлось. Бились мы как полагается и вот похоронили ребят по морскому обычаю. Командир слова сказал хорошие, каждого помянул, и о чести и славе — все как положено — и предостерег., что, дескать, это вам, матросы, только начало, и придется вам, дескать, класть еще головы за правое дело.
— Как же еще!
— Все по чести, — раздались голоса.
— Кто же говорит, что не по чести. Командир наш — поискать, такого не найдешь, да только не сказал он, что из себя представляет правое дело. За кого биться и голову класть?
— Ты сам пораскинь мозгами, — сказал Громов. — Если у тебя поместья или там завод есть — то и защищай свое состояние. У нас ничего такого нет. Следовательно, дело ясное, за кого идти.
Отец Исидор, глубоко вздохнув, сказал:
— Вы не о войне, а о мире думайте. Смотрите, какая благодать вокруг, море словно шелк. Остров снова показался. Рай земной! У нас под Рязанью тоже места есть не хуже, а почитай лучше. Когда рожь цветет или вечером в сенокосе перепела перекликаются…
Пришел вестовой Стивы Бобрина Сила Нефедов. По обыкновению закурив, он спрятался за спины матросов, жадно прислушиваясь к разговорам, хотя на этот раз он мог вполне сидеть в первом ряду у самого обреза: сегодня на виду у многих он сшиб с фальшборта двух пиратов, не испугавшись ни их истошного воя, ни длинных ножей.
Нефедов о себе и не думал, эпизод с пиратами он воспринимал, как самое пустяшное дело, не заслуживающее внимания.
— Ну, а что мне с ними еще было делать? Обниматься? — сказал он спустя час Феклину, когда тот сообщил, что сам Мамочка заметил, как Нефедов бился на шканцах.
Как всегда, Нефедов болезненно переживал за своего подопечного — Стиву Бобрина и все замечания по его адресу принимал на свой счет. Зуйков, подмигнув товарищам, спросил у вестового:
— Как твой барин, не уснул вдругорядь?
Нефедов махнул рукой и промолчал.
Зуйков продолжал:
— Или перчаточки примеряет?
Неожиданно вестовой заговорил, да так, что все обратились в слух. Обыкновенно на приставания острословов вроде Зуйкова он отвечал междометиями, вздохами да жестами.
— Мой совсем, можно сказать, захирел. Видали, во время панихиды еще форм держал, а как пришел в каюту, сел и за голову взялся. Жалко смотреть. Человек-то он ее плохой. Только очень в нем много барства да зазнайства. Ругать меня принялся: почему не разбудил. Если, говорит, во мне сонная отрава сидела, все равно должен был меня на палубу вынести и под пули поставить. Вот ведь что несет — под пули! Сонного! Позор, говорит, всему нашему бобринскому роду. А тут еще Фелимоша зубы скалит. Невдомек ему, что мальчишка терзается, кроет Фелимор на своем языке и, видно, описывает драку, а сам раненый, ему разбойник по ребрам ножом прошелся, слегка правда. Моему и завидно. Отличиться ведь мог. А оно — боком вышло отличие, а только один конфуз. Тоже надо входить в его положение. Кто он сейчас? Одно слово — ни то ни се. И не офицер, и не матрос, хоть и китель офицерский носит. И что его еще бьет по амбиции, так это то, что он, скажем, меня, евон-ного вестового, не может отделать по первое число, потому как я ему сдачи могу дать, — и под суд меня отдать не имеет права. Гардемарину матрос не обязан подчиняться. Все такие дела ему под печенки подпирают. Приду, говорит, во Владивосток и спишусь в белую армию, потому белое дело — чистое.
После такой длинной и содержательной речи Нефедов «задраил все люки», как говорят матросы. Как ни приставали к ному с расспросами, что он сам намерен делать дома: увяжется ли за своим барином и тоже пойдет защищать «белое дело» или наметил свою стежку, он только нервно попыхивал цигаркой да махал рукой.
День и ночь без устали продолжал свой бег «Орион», одетый в паруса, выбеленные ветрами и солнцем. Ему мешали встречные течения и ветры, штили, два раза в Южно-Китайском море тайфуны захватывали его своими крыльями, а он шел вперед и вперед, и каждую ночь Полярная звезда все выше поднималась над горизонтом. В своем неудержимом стремлении к цели клипер напоминал лосося, который преодолевает все преграды на пути в верховья родной реки.
Все реже вспоминались события, происшедшие в бухте Тихой радости, их затмевали ежедневные сообщения из огромного, неспокойного мира, взбаламученного русской революцией. Еще продолжалась битва на Марне — последнее ожесточенное сражение первой мировой войны с массированным применением танков и авиации, но уже дипломаты и военные стратеги главное внимание уделяли России, где вершилась величайшая из революций, которой суждено было изменить ход истории. Для бывших союзников России большевизм становился страшней кайзеровских армий. Не окончив войну с Германией, они уже перебрасывали свои дивизии на «русский фронт», снаряжали транспорты с вооружением и для своих войск и для русской контрреволюции.
Цусима
Воин Андреевич, обводя взглядом слепящую поверхность моря, сказал:
— Цусимский пролив! Печальные места. Старший офицер, стоявший у нактоуза и тоже смотревший на праздничную синь, ответил:
— Вот и остров Оканосима.
— Да, здесь адмирал Того поджидал эскадру Рожественского.
Воин Андреевич держал в руке конверт. Он вытащил из него с десяток листков тонкий бумаги с синеватым машинописным текстом.
— Вот, пожалуйста! Наконец-то нашлось одно из последних писем моего шурина Левы Стратоновича, о котором я вам говорил. Оказывается, в плимутской суматохе я сунул его в «Лоцию Средиземного моря». А сегодня Феклин нашел совершенно случайно, он у меня книгочей, приносит, мамочка, и говорит сияющий: «Вот, Воин Андреевич, оно, проклятое. Сколько крови попортило ваше письмо. Хорошо, что у нас ничего не теряется». — Воин Андреевич развернул страницы:
— Лева готовит большую работу о русско-японской войне и вот прислал копию записок Клапье де Колонга, добытую им каким-то непостижимым образом. Письмо долго пролежало в Лондоне и полгода у меня на полке. Здесь картина всего сражения 14 мая пятого года. Поразительно точная запись, буквально по минутам, видимо, частью выписка из вахтенного журнала броненосца «Суворов», а остальное по памяти. Как вам известно, капитан первого ранга Клапье де Колонг был флаг-капитаном при штабе адмирала Рожественского, находился при нем на «Суворове», а затем в плену. Если разрешите, я кое-что зачту, или посмотрите сами?
— Лучше вы. Я смогу только ночью, а сейчас как раз время, когда шел бой. Пожалуйста, читайте все подряд.
И Воин Андреевич стал читать, устроившись поудобней в своем бамбуковом кресле.
— «Дни 14 и 15 мая вызывают потребность молитвенно помянуть всех погибших в бою с японским флотом на судах эскадры вице-адмирала Рожественского у острова Цусима — убитых, раненых и уцелевших, доблестно разделивших участь своих кораблей, пойдя на них ко дну Корейского пролива.
В конце апреля 1905 г. II эскадра Тихого океана, следуя с последней стоянки в бухте Ван-Фонг — Французского Индо-Китая — к Корейскому проливу, соединилась в Китайском море с отрядом судов контр-адмирала Небогатова. На дальнейшем переходе имели в море одну погрузку угля с транспортов.
10 мая скончался на „Ослябя“ контр-адмирал Фелькерзам, начальник 2-го броненосного отряда, флаг его но был спущен, о смерти его не оповещалось по эскадре. Тело адмирала, запаянное в металлический гроб судовой работы, пошло ко дну с броненосцем „Ослябя“ — первой жертвой Цусимского боя.
11 мая у Седельных островов отослали все транспорты под коммерческим флагом — разгруженные в Сайгоне, а с запасами — в Шанхай.
Чтобы пройти Корейский пролив 13 мая днем, надо было держать с лишком сутки двенадцатиузловый эскадренный ход; это было очень желательно, так как условия погоды (пасмурность, свежий ветер и состояние моря) были лучшим нашим союзником для прохода Корейским проливом. К сожалению, держать такой ход не могли и этим надеждам не суждено было оправдаться.
Эскадренный ход с 9 узлов увеличили до 10 с расчетом к утру 14 мая подойти к Корейскому проливу.
В день 13 мая, при все той же свежей и мрачной погоде, Адмирал производил эскадренные эволюции специально для обучения отряда контр-адмирала Небогатова.
К вечеру 13 мая погода стала улучшаться. На кораблях отслужили всенощную.
Ужин и чай у Адмирала прошли в напряженном состоянии.
Около 9 часов утра наши аппараты беспроволочного телеграфа стали принимать слабые, отдаленные переговоры двух районов. Следовавший с эскадрой вспомогательный крейсер „Урал“, снабженный самым мощным аппаратом беспроволочного телеграфа., специально предназначался прекращать всякие переговоры на значительном расстоянии разрядами своих мощных волн, не был использован, чтобы этим преждевременно не открыть своего присутствия.
В ночь с 13 на 14 мая вряд ли кто спал? слишком очевидна для всех была встреча с неприятелем в полном его составе. У всех вид напряженно деловой, сосредоточенная заботливость, отрывистые и только необходимые распоряжения и сообщения.
В кают-компании „Суворова“ — тихий говор. Большинство офицеров на йогах, в заботе о состоянии своих частей. Прислуга — у орудий; полная боевая готовность. По всему кораблю отдельные группы сидящей и лежащей команды, тихо разговаривающей. Вестовые таинственно сообщают офицерам о появлении в жилой палубе крыс. Завтрашний день определит судьбу каждому — вот смысл настроений.
В утро 14-го мытья палуб не было; после молитвы и завтрака — приборка.
К утру 14-го вся команда „Суворова“ без всяких приказаний оказалась одетой в первосрочное новое чистое платье и белье.
Утром 14 мая эскадра шла в строе двух кильватерных колонн (1-й и 2-й броненосные отряды в правой колонне., а 3-й броненосный отряд и крейсеры „Олег“, „Аврора“, „Донской“ и „Мономах“ — в левой). Транспорты „Анадырь“, „Иртыш“, „Камчатка“, „Корея“ и буксирные пароходы „Русь“ и „Свирь“ шли между боевыми судами („Анадырь“, равняясь с „Олегом“ и „Ослябя“, „Свирь“ и „Русь“ шли по обе стороны „Анадыря“). Миноносцы „Бедовый“ и „Быстрый“ шли слева за „Суворовым“, „Буйный“ и „Бравый“ — справа за „Николаем“, „Блестящий“, „Безупречный“, „Бодрый“, „Грозный“ и „Громкий“ шли в кильватерной колонне между крейсерами и транспортами. „Жемчуг“ и „Изумруд“, имея инструкцию отводить от эскадры встречные коммерческие суда, шли: первый на 4 румба вправо от курса и в 4 кабельтовых от „Суворова“; второй в таком же положении слева от „Николая“. В случае появления неприятеля миноносцы „Бедовый“ и „Быстрый“ имели инструкцию перейти в кильватер „Жемчугу“, „Буйный“ и „Бравый“ в кильватер „Изумруду“. С рассветом разведочный отряд „Светлана“, „Алмаз“ и „Урал“, находившийся впереди эскадры, повернул влево и согласно ранее полученным приказаниям расположился сзади эскадры.
Курс эскадры NО–60° истинный на середину пролива между Цусимой и Японским берегом; ветер 3–4 балла; солнечный день, но мгла сокращает горизонт до 7–8 миль. Эскадренный ход 9 узлов.
В 6 часов 45 минут утра справа позади траверза показался во мгле силуэт военного корабля на расстоянии около 8 миль, затем скрылся, но спустя немного времени опять появился в той же стороне и продолжал идти с эскадрою до начала боя на расстоянии от 50 до 70 кабельтовых. Броненосцам было приказано иметь наведенной одну 12-дюймовую башню на этот корабль, оказавшийся японским крейсером „Идзуми“.
В 9 часов 45 минут утра показались из мглы японские старые крейсеры: „Матсушима“, „Чиниен“, „Хашидате“, „Итсукушима“ и „Акитсушима“ в строе кильватера и повернули на наш курс на левом траверзе. Расстояние около 80 кабельтовых.
В 9 часов 50 минут головной неприятельский крейсер лег на обратный курс и затем тотчас же повернул опять на параллельный с нами курс. Расстояние сократилось до 50–60 кабельтовых. Первый и второй броненосные отряды дали 11 узлов ходу, чтобы выстроить одну кильватерную колонну с 3-м броненосным отрядом, который продолжал идти 9 узлов.
В 10 часов неприятельские крейсеры начали склоняться влево и удаляться, оставаясь едва видимыми в бинокль на левом крамболе. „Мономаху“ и „Донскому“ был поднят сигнал: „Быть справа от транспортов“.
В 10 часов 20 минут справа по носу показался пароход, идущий на пересечку курса.
В 10 часов 30 минут „Жемчуг“ вышел вперед и отвел пароход в сторону, сделав один выстрел ему под нос; затем вернулся на место и поднял сигнал: „Пароход японский“.
В 10 часов 45 минут подняли сигнал: „Тревога“.
В 10 часов 50 минут на NО–20° показались миноносцы.
В 11 часов 05 минут на левом траверзе показались: „Читозе“, „Касаги“, „Ниитака“, „Тсусима“. Первый и — второй броненосные отряды повернули на 2 румба влево вдруг.
В 11 часов 20 минут с броненосца „Орел“ сделали выстрел по неприятельским крейсерам, после чего 3-й броненосный отряд открыл по ним редкий огонь. Расстояние около 50–40 кабельтовых. „Суворов“ тоже сделал несколько выстрелов. „Изумруд“ перешел по носу на правую сторону к „Жемчугу“. Первый отряд миноносцев перешел к „Жемчугу“ и „Изумруду“. Японцы повернули вдруг на несколько румбов влево. Неприятель, удаляясь, сделал несколько выстрелов но „Суворову“ и „Ослябя“. Один снаряд упал у левого борта „Суворова“ против передней 6-дюймовой башни и не разорвался.
В 11 часов 30 минут 1-й и 2-й броненосные отряды повернули на 2 румба вдруг. „Жемчугу“ приказано держаться на правом траверзе „Орла“.
В 11 часов 35 минут старые японские крейсеры повернули последовательно влево и скрылись.
В 11 часов 55 минут „Чиода“ и „Шихайя“ и 4 миноносца показались на левом траверзе на большом расстоянии.
В 12 часов 01 минуту 4 мппоносца в строе пеленга показались впереди слева; идут на пересечку.
В 12 часов 05 минут эскадра взяла курс NO–22°.
В 12 часов 10 минут легкие японские крейсеры переходят впереди на правую сторону в 40–50 кабельтовых.
В 12 часов 25 минут первый броненосный отряд повернул на 8 румбов последовательно вправо.
Дали 11 узлов ходу.
В 12 часов 32 минуты первый броненосный отряд повернул на 8 румбов последовательно влево.
В 12 часов 37 минут легкие японские крейсеры выстроились во фронт справа по носу.
В 12 часов 45 минут эскадра идет в строе двух кильватерных колонн: „Ослябя“ на левом траверзе „Суворова“, на расстоянии около 10 кабельтовых. Дали 9 узлов ходу, Команда пообедала повахтенно по сигналу.
В 1 час 20 минут легкие японские крейсеры повернули вправо.
В 1 час 25 минут до носу показались: „Микаса“, „Шикишима“, „Фуджи“, „Асахи“, „Ниссин“, „Кассуга“, „Идзума“, „Азума“, „Токива“, „Якумо“, „Асама“ и „Ивате“. Придя на вид, неприятель, в строе кильватера, последовательно повернул вправо на несколько румбов. Шел большим ходом.
В 1 час 30 минут дали 11 узлов. Первый броненосный отряд повернул последовательно на 4 румба влево, 2-й броненосный отряд начал вступать в кильватер первому.
В 1 час 40 минут „Суворов“ повернул на курс NО–23°.
В 1 час 49 минут сделали выстрел с „Суворова“ из 6-дюймовой башни на 32 кабельтова — перелет; уменьшили расстояние на 2 кабельтова, эскадра открыла огонь.
„Микаса“ лег на параллельный курс и открыл огонь минуты через две после нас.
Неприятельские корабли, пока строились в одну кильватерную колонну на параллельном курсе, створились по два.
В 2 часа расстояние до „Микаса“ было 28 кабельтовых. Огонь первого броненосного отряда нашей эскадры был сосредоточен главным образом на „Микаса“. Неприятель сосредоточил огонь на „Суворове“ и „Ослябя“. Сначала неприятельские снаряды давали перелеты, затем стали попадать по „Суворову“. Замечены главным образом снаряды крупных калибров, фугасные, дававшие большое число осколков. Дым от разрыва — черный (лидит) и ярко-желтый (шимозе); газы удушливы и ядовиты (на „Сисое Великом“ оба доктора умерли от отравления газами). На „Суворове“ попадания сосредоточивались преимущественно около боевой рубки.
Ранены флаг-офицеры мичманы князь Церетели и Демчинский.
В боевой рубке „Суворова“ находились: Адмирал Командующий эскадрой, флаг-капитан, флагманский артиллерист, два старших флаг-офицера: лейтенанты Свербеев и Кржижановский и судовые чины: командир броненосца, старший артиллерист, старший штурман, мичман Шишкин, рулевой кондуктор Зайсунов, рулевые, дальномерщики, у переговорных труб и телефона.
В 2 часа повернули на 2 румба вправо. Осколки часто попадали в пролет боевой рубки и выводили из строя находившихся в ней. В другие части судна снаряды также нередко попадали. В каютах штаба по левому борту начался пожар и перебило какую-то паровую трубу; между кормовыми 6-дюймовыми башнями на верхней палубе выведена вся сигнальная прислуга — около 12 человек; ранены флаг-офицеры лейтенант Новосильцев и мичман Казакевич. В верхней батарейной палубе снаряд попал в перевязочный пункт, многие раненые убиты, оторвало руку трюмному механику Кримеру. От временного перевязочного пункта ничего не осталось. Уцелевший доктор перешел вниз в перевязочный пункт, устроенный под бронеой палубой.
В 2 часа 11 минут у левой средней 6-дюймовой башни подана производилась ужо вручную; левую кормовую 6-дюймовую башню питали подачей из правой кормовой. В боевой рубке разбило левый дальномер; перенесли правый, который был также немедленно разбит.
В 12-дюймовых башнях все было благополучно.
В 2 часа 15 минут повернули на курс NО–23°. Снаряды попадают непрерывно. Доносят о подводной пробоине у левого подводного аппарата. Ранило в рубке флаг-капитана, старшего артиллериста и мичмана Шишкина.
В 2 часа 20 минут все сигнальные фалы были уже вырванными или сгорели. Лейтенант Редкий доносил, что левая кормовая 6-дкшмовая башня не может действовать из-за жары и дыма от пожара; просили изменить курс — в чем пришлось отказать. Японская эскадра начала под носом переходить на правую сторону курса эскадры.
В 2 часа 25 минут повернули на 4 румба вправо.
В 2 часа 26 минут осколком ранило Адмирала в голову. В это время (около 2 часов 25 минут) „Суворов“ перестал слушаться руля и, катясь вправо, повернул на 16 румбов от курса. В рубке ранило лейтенанта Зотова. Начался пожар возле рубки, лейтенант Свербеев вышел для тушения его и ранен. Остановились часы в рубке.
В 2 часа 30 минут стали приводить корабль на курс машинами; руль оказался на борту, о чем в боевой рубке не было известно. Снесена крыша кормовой 12-дюймовой башни. Горят одновременно ростры с находившимися на них гребными шлюпками, на ют пройти нельзя.
В 2 часа 40 минут осколком ранило командира в голову; он из рубки ушел.
Управление машинами идет трудно при помощи машинного телеграфа — все время стопорится одна машина и дается средний или полный ход другой, на ручках лейтенант Богданов. Управлением руководит и распоряжается полковник Филипповский. Перестали действовать артиллерийские указатели. Сообщение с левой машиной по телеграфу, с правой — по переговорной трубе. Сообщение с рулевым отделением прервано. Флаг-офицер лейтенант Кржижановский послан в рулевое отделение поставить руль прямо. Сделаны были попытки флагманским минным офицером лейтенантом Леонтьевым исправить электрическое управление рулем, но безуспешно.
Появившийся крен на левую сторону остановлен. Около 2 часов 40 минут Адмирал вторично был ранен — в ноги.
Когда „Суворов“ выходил из строя, эскадра шла в кильватер „Александру III“ по курсу около NО.
В это время, в 2 часа 40 минут, головной неприятельской эскадры, переходивший по носу на правую сторону, повернул от нас к северу.
В 3 часа, вследствие пожара на рострах, управление из боевой рубки перенесено в центральный пост. Адмирал спустился в центральный пост по трубе, но тотчас же вышел оттуда сначала в левую, а затем в правую 6-дюймовую башню, где была установлена голосовая передача через подбашенное отделение в центральный пост, а оттуда в машину. Вместе с Адмиралом спустились в центральный пост флаг-капитан, флагманский штурман и единственный оставшийся в живых нижний чин. В боевой рубке, окруженной огнем, кроме убитых, никого не осталось.
В 3 часа 15 минут „Ослябя“, вышедший из строя с большим креном, опрокинулся на левый борт и на нос; к нему подошли спасать людей миноносцы „Буйный“, „Бравый“ и еще один.
Около 3 часов 15 минут наша эскадра подходила к „Суворову“ с правого траверза в строе кильватера — головным „Александр III“, и с расстояния в 10 кабельтовых замечен ряд попаданий в левую носовую 6-дюймовую башню, в боевую рубку и близ нее, после этого „Александр III“ повернул вправо почти на обратный курс и за ним стали ворочать все прочие суда, даже не выдерживая линии кильватера.
В 3 часа 20 минут видели прошедшими слева контркурсом посыльное судно „Чихайя“ и несколько истребителей. В это время (3 часа 30 минут) неприятель стрелял по „Суворову“.
Носовая 12-дюймовая башня отвечала на огонь неприятеля. Голосовой передачей сообщили в центральный пост повернуть на 12 румбов вправо и взяли курс на концевого нашей эскадры.
Около того же времени, т. е. около 3 часов 30 минут, был уже значительный крен, от 8° до 10°, на левый подветренный борт и воду поддавало в палубу через борт 75-мм орудий, полупортики которых все были повреждены.
В 3 часа 40 минут почему-то кричали „ура“ и воодушевленная команда бежала из жилой палубы в верхнюю батарею тушить пожар.
В 4 часа 20 минут с кормы с левой стороны подходили и держались весьма близко четыре неприятельских истребителя, по которым стреляли два уцелевших кормовых 75-мм орудия.
Около этого времени уже было невозможно бороться с огнем в верхней батарее, так как рвались свои ящики с 47-мм патронами.
Около 5 часов вечера мимо „Суворова“, который старался следовать за эскадрой, по носу прошли наши суда: три броненосца 1-го отряда, на них трубы и мачты были целы, реи частью повисшими; у „Александра III“ был разбит форштевень и вскрыта вся носовая часть верхней батареи; „Сисой Великий“, „Наварин“, „Нахимов“ и 3-й броненосный отряд — в порядке, как и все крейсеры, только „Аврора“ имела сбитой фор-стеньгу и повисшими реи на грот-мачте.
Транспортов было четыре: „Иртыш“, „Анадырь“, „Корея“ и „Свирь“, — миноносцев — все девять.
Около 5 часов к борту „Суворова“ подошел миноносец „Буйный“ — на него передали в бессознательном состоянии раненого Адмирала и уцелевших и раненых чинов штаба: флаг-капитана, полковника Филипповского, капитана 2 ранга Семенова, лейтенантов: Леонтьева и Кржижановского (отравлен газами), мичмана Демчинского (раненого) и юнкера Максимова с 15-ю нижними чинами. Положение броненосца было таково: носом в SO четверть, имея такой крен, что порта нижней батареи левого борта были в уровень с водой. Правая сторона была наветренная, что и удерживали машинами, чтобы избежать огня и дыма на правом срезе, где держался миноносец и производили передачу Адмирала.
В 5 часов 30 минут миноносец „Буйный“ отвалил от борта „Суворова“; в это время на нем ее было уже ни мачт, ни труб, ни сигнальных рубок, горели верхняя и батарейная палубы, паровые и минные катера; электричество погасло, пожар увеличивался, все было полно дыма, в батарее рвались патроны, мостики с 47-мм орудиями разрушены, кормовая башня разрушена, адмиралтейское помещение уничтожено, креп не менее 10° на левый борт.
Транспорт „Камчатка“ оказался в это время в 3–4 кабельтовых от „Суворова“ по носу с правой, не имея ходу и держа флаг Красного Креста на грот-мачте. Во время пересадки на миноносец с японской эскадры, шедшей параллельно нашей с левой стороны, стреляли снарядами крупного калибра по „Суворову“, по миноносцу „Буйный“ и „Камчатке“, составлявшими одну отдельную группу. Видно было, как в „Камчатку“ попал в середину снаряд, сваливший трубы, и „Камчатка“ остановилась. Миноносец, отойдя от „Суворова“ под сильным огнем, пошел полным ходом к крейсерам.
Не имея возможности продолжать командовать эскадрой из-за тяжелых ран, Адмирал сделал распоряжение, чтобы на миноносце был поднят сигнал о передаче командования Адмиралу Небогатову. После того как сигнал был отрепетован, подняли следующий сигнал: „Адмирал на миноносце“.
Около 6 часов вечера вышел из строя броненосец „Александр III“, имея сильный крен на левый борт и держа сигнал: „Терплю бедствие“, после чего он перевернулся, будучи в 10 кабельтовых от „Ушакова“. С броненосца „Сенявин“ успели заметить плавающим его днище с людьми на нем.
Кроме того, всем судам, мимо которых проходили, миноносец „Буйный“ делал семафор: „Адмирал жив, находится на миноносце“.
Миноносцу „Безупречный“ было приказано пойти к броненосцу „Император Николай I“ и передать на словах, что Командующий эскадрою передает командование адмиралу Небогатову и приказывает вести эскадру во Владивосток; „Безупречный“ это исполнил, но за темнотою его возвращения не видели.
В конце 7-го часа миноносец, идя с крейсерами, имел курс в NW четверть. Справа и сзади, кабельтовых в 30-ти, шли наши броненосцы тем же курсом, головным „Бородино“, за ним „Орел“, „Николай I“, „Апраксин“, „Сенявин“, „Ушаков“, „Сисой“, „Наварин“ и „Нахимов“.
В 7 часов наши крейсеры открыли огонь по 9-ти неприятельским миноносцам, которые вышли вперед по курсу наших броненосцев. В это время неприятельская эскадра была от нашей вправо, т. е. приблизительно в NО четверти.
В 7 часов 10 минут „Бородино“ перевернулся, по-видимому, после взрыва в корме, где видно было большое пламя вышиною до грот-марса.
Вскоре после этого крейсеры постепенно склонялись влево и шли прямо на зорю, значит, имели курс близ W.
В 7 часов 40 минут позади нашего отряда (т. е. части крейсеров и миноносцев) идут в строе, близком к фронту, наши броненосцы, отстреливаясь от неприятельских миноносцев.
Вскоре после этого момента Адмирал, придя в себя, звал кого-либо к себе. Пришел капитан 2 ранга Семенов и изложил ему, как идут крейсеры и какое место между ними занимает миноносец „Буйный“. Справа имели „Олега“, „Аврору“, „Донского“ и „Мономаха“ в строе кильватера, а левее нашего курса впереди в строе клина шли „Светлела“ (головной), боковыми „Жемчуг“ и „Алмаз“, а за ними шли без строя транспорты „Иртыш“, „Анадырь“, „Корея“ и „Свирь“. Миноносцы шли внутри строя без определенного порядка. „Бравый“ и „Блестящий“ несли флаг „К“ (не могу управляться), первый без фок-мачты. Во время этого доклада, продолжавшегося несколько минут, Адмирал дважды терял сознание и начинал бредить.
В начале 10-го часа вечера, следуя совместно с „Донским“, шли на S. Адмирал, очнувшись и узнав об этом, приказал передать на „Донской“, чтобы он шел во Владивосток. Исполнить приказание Адмирала было трудно, так как при показывании каких-либо огней свои же суда начинали стрелять.
В 9 часов 30 минут вечера крейсеры „Олег“, „Аврора“ и „Жемчуг“ большим ходом начали уходить на юг, а „Светлана“, „Мономах“, „Донской“ и миноносцы „Буйный“, „Бедовый“, „Бравый“, „Быстрый“, „Громкий“ и „Грозный“ повернули на север. Крейсер „Изумруд“ продолжал держаться близ наших броненосцев. Ночью „Донской“ и миноносцы „Буйный“, „Бедовый“ и „Грозный“ пошли в N0 четверть, так как к северу были впдны чьи-то прожекторы.
Миноносец „Буйный“, имея повреждение в теплом ящике, принужден был питать котлы соленой водой, вследствие чего увеличивался сильно расход угля. Ночью ход „Буйного“ уменьшился до того, что миноносец вскоре потерял из виду „Донского“.
Настала темная пасмурная ночь. Чины штаба спустились в кают-компанию „Буйного“, где на 4 койках лежали раненые офицеры с „Ослябя“; диван занял капитан 2 ранга Семенов — по своему малому росту, флаг-капитан и флагманский штурман расположились на палубе на брезенте, под обеденным столом кают-компании.
Приходил командир 2 ранга Коломейцев. Обмен мнений: пока возможно идти курсом на Владивосток, а там с рассветом — „утро вечера мудренее“ — будет видно.
Так закончился день 14 мая».
Оба помолчали. Воин Андреевич сказал:
— А ведь могло быть все иначе. Но сколько просчетов! Сколько роковых ошибок на пути к Цусиме и здесь вот, когда уже не было выбора, когда надо было сражаться как надо.
Николай Павлович возразил:
— Все шло к этому. Скоротечному морскому сражению предшествуют многие годы подготовки.
— Согласен. Об этом и думаю сейчас, но у нас было время, средства, люди, чтобы не допустить катастрофы, позора. Нам еще в 1895 году стало известно, что Япония строит далеко идущие планы по захвату Кореи, Маньчжурии, тянется к нашему Дальнему Востоку и, чтобы обеспечить свои сухопутные операции, строит флот. Нашему Морскому министерству были известны планы нашего восточного соседа, и оно приняло надлежащие меры. Сверх намеченной программы в 1898 году решили построить, если память не изменяет, пять эскадренных броненосцев, шесть крейсеров второго класса, десять крейсеров третьего класса, кажется, что-то около тридцати миноносцев-истребителей, несколько минных транспортов, и все это строилось, но преступно медленно, рассчитанное на семь лет, строительство заканчивалось только в течение 1905 года. И все по вине министра финансов, который доказывал, что Япония не в состоянии закончить свои морские вооружения раньше 1906 года, и посему отвергал требования Морского министерства закончить строительство судов в 1903 году. Вот так…
— Даже не выполнив эту программу, мы к началу войны были сильнее Японии.
— Пожалуй, хотя много судов уже к тому времени устарели, но все же их можно было использовать. Действительно, у нас было двадцать пять эскадренных броненосцев, двадцать три крейсера, около семидесяти эскадренных миноносцев и более сорока миноносцев второго класса.
— Но все это разбросанное по флотам. Надо было укреплять Тихоокеанский флот.
— Именно, Николай Павлович! Мы могли перебросить в дальневосточные воды еще в 1903 году флот, значительно превосходящий, японский, а мы не смогли перебросить туда количество кораблей, равное японскому!
— Мало того, в 1902 году по приказу наших стратегов увели из Тихого океана в Балтийское море на ремонт целую эскадру!
— Да, да, припоминаю этот весьма прискорбный факт. Тогда отправили отсюда три линейных корабля.
— И крейсеры «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» и еще…
— «Адмирал Корнилов». Хотя ремонт, правда не так удобно, можно было проводить и на Дальнем Востоке.
— Припоминаются и еще промахи с дислокацией наших морских сил. Особенное безобразие произошло с отрядом контр-адмирала Вирениуса. В него входил линейный корабль «Ослябя», современный, новенький, два крейсера и двенадцать первоклассных миноносцев. Отряд ушел на Дальний Восток еще в 1903 году, началась война, а он все еще находился частью в Красном, частью в Средиземном море, не решаясь сам идти в Порт-Артур и испрашивая инструкций у Центрального ведомства. И после некоторых раздумий министерство отозвало отряд в Балтийское море! Затем он был послан во Вторую Тихоокеанскую эскадру Рожественского. Каково!
— Действительно, сколько нелепостей привели к Цусиме!
— Нелепости, нерасторопность, вялость мысли. Припоминается еще один немаловажный промах с Чили и Аргентиной.
— Вот этого я что-то не знаю.
— Ну как же! Случай интересный. Эти две морские державы, находясь в натянутых отношениях друг с другом, решили построить военный флот, и Чили построила два лучших в мире броненосца, а Аргентина — шесть линейных крейсеров. Погрозив друг другу своими морскими силами, обе державы неожиданно помирились и решили ликвидировать свои флоты и объявили продажу кораблей. Тогда Россия получила предложение купить два аргентинских крейсера. И что бы вы думали? Министерство отклонило предложение, а надо было купить и остальные четыре, а также пару броненосцев у Чили. Как бы это усилило наш дальневосточный флот! Между тем два аргентинских крейсера купила Япония, переименовав в «Ниссин» и «Кассуга», которые отличились в Цусимском бою. Два чилийских броненосца приобрела Британия, хотя они ей не были нужны, с целью насолить нам и оказать союзную услугу Японии. Вот какие дела!..
— Возможно, рам, как всегда, помешали англичане и дворцовые интриги?
— Ох уж эти интриги, сколько они стоят крови нашему народу…
Они замолчали. «Орион», подгоняемый юго-западным ветром, шел, накренясь на правый борт. Еле слышно шуршала парусина, меланхолично звенели снасти. Вспыхивали барашки на синей волне.
Командир, поворочавшись в кресле, сказал?
— И ее только количество судов играло роль. У нас хуже была артиллерия. Наши снаряды весили меньше японских на одну пятую и имели меньше разрывной заряд; углы возвышения у пушек не превышали семнадцати градусов, поэтому дальность стрельбы двенадцатидюймовых орудий достигала вместо ста двадцати кабельтовых, только восьмидесяти, а у шестидюймовых — шестидесяти вместо возможных восьмидесяти кабельтовых. И так во всем. Взять хотя бы прицельные приборы. Великолепные по идее, при стрельбе в боевых условиях они выходили из строя, комендоры срывали их во время боя и наводили пушки на глаз. И если докапываться до сути дела, надо сказать и о тактическом обучении нашего флота. Как-то мне попалась статья в «Морском сборнике», где говорилось, что наша Тихоокеанская эскадра в мирное время почти не плавала, почти не стреляла и почти не производила маневров. Из двенадцати месяцев в году наша эскадра находилась в так называемом плавании всего четыре месяца, а восемь стояла на рейдах в состоянии «вооруженного резерва». Притом эти четыре месяца плавания большею частью тоже стояли на якоре. На каждый месяц плавания давалось всего несколько ходовых дней, соответственно выделялось время и для обучения артиллерийской стрельбе, в год на каждого комендора приходилось всего по несколько боевых выстрелов.
— Гнались за дешевизной…
— Да, а вот японцы плавали круглый год… — Помолчав, сказал: — Тихо сегодня у нас на палубе. Что-то матросы присмирели. Вероятно, тоже идут разговоры о Цусиме. У нас есть несколько человек участников сражения. Интересно, как они расценивают случившееся? Надо отдать должное, что наши дрались отчаянно, и если бы эту обреченную отчаянность да направить не на гибель, смерть, а на победу? Японцы просто расстреливали наши суда. Имея преимущество в ходе, хорошо поставленную разведку, они вели бой в наивыгоднейших для себя условиях. — И, опять помолчав, спросил: — Не находите ли вы, Николай Павлович, что Цусима предопределила судьбу России? Для нас с вами флот не просто количество кораблей, а и то высшее, что объединяет нас, составляет непоколебимую силу, как это говорил Толстой?
— Дух народа!
— Вот, вот! Дух! Отношение народа к происходящим событиям. Вера в свою правоту, превосходство над врагом! Вера в победу! И даже не свою личную! Не в то, что мы останемся живы в смертельной схватке, а в победу конечную! Победу своего народа.
— Как это верно, Воин Андреевич!..
Оба задумались, перенесясь мыслью от уже давнего события за сотни миль, вперед, на родину, где шла самая великая и кровопролитная битва за будущее России, и думали, для кого она окажется Цусимой.
Командир оказался прав: на баке в тени парусов, заслоняющих от еще жаркого солнца, собрались баковые завсегдатаи. На этот раз не было слышно шуток и смеха. Матросы сосредоточенно, в полном молчании слушали рассказ баталера Невозвратного:
— Служил я на броненосце береговой обороны «Адмирале Ушакове». Броненосец был старый, тихоходный, да в ту пору все подбирали, а для счета и он годился. Спервоначалу, когда эскадра Рожественского собиралась, мы в нее не попали. Адмирал со своей Второй эскадрой ушел из Либавы второго октября четвертого года, а мы двинулись в эти края тоже из Либавы только третьего февраля пятого года. Флагманом был броненосец «Император Николай I», потом, тоже броненосцы, «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Синявин» и броненосный крейсер «Владимир Мономах». Всего, стало быть, пять судов. Тоже сила не малая в хороших руках, и назывались — третьей эскадрой. Шли мы быстрее Рожественского, потому что числом меньше эскадра и путь ближе. Рожественский вокруг Африки шел, ну а Небога-тов каналом Суэцким через Красное море, вот жара где, братцы, как подует из пустыни, будто из русской печи… Словом, путь мы сократили и в апреле догнали главные силы в китайской бухте Ван-Фонге. Сила там собралась не малая! Как сейчас, вижу все суда на рейде. Броненосцы «Орел», «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин», «Бородино», «Князь Суворов», «Нахимов», «Александр Третий». Крейсеры «Аврора», «Алмаз», «Жемчуг», «Изумруд». И еще сколько, теперь уж и забыл. Подумалось мне тогда, что никому против нас не устоять. И думаю, что такие мысли приходили не мне одному. Кто враг своему отечеству, кто по желает победы своему флоту! — Лука Лукич вздохнул. — Сколько команды находилось на броненосцах, крейсерах, миноносцах, транспортах! И всем хотелось победы. Да, червь грыз. Сомневались. Потому что уже сдался наш Порт-Артур, погиб тамошний флот! Адмирал Макаров подорвался на японской мине. Уж на что был человек дальновидный, лучший адмирал русского флота, и тот дал промашку: не отдал приказа протралить море перед выходом из бухты и налетел на мину. Так чт© один у нас путь был — во Владивосток, если, конечно, прорвемся через японские воды. И надо сказать, братцы, что и тогда марку мы держали и перед боем и в самом бою. Вот как и в наш теперешний переход. Сколько было у нас всяких минут! И не минут, а часов, и буря, и лихие люди нападали, а ведь не опустили флаг, вынесли.
— Все же, видео, похуже было настроение? — спросил Трушин.
— Что говорить! Вот сейчас тем же путем продвигаемся, теми водами, и впереди тоже не с хлебом-солью встретят. Знаем. А на душе нет той тяжести. Знаем, что идем свое дело решать, жизнь устраивать, и, кому что суждено, — примем. А ведь тогда не было этого чувства, уверенности этой. Злость была на японца — это верно. А то, что одолеем его, уже сомневались, ох как сильно сомневались. Слухи по броненосцу ползли, что и артиллерия у нас слабее, что ход у судов чуть не вполовину меньше, а главное, что они уже побили нас. И слух шел по от нашего брата матроса, за такое можно было дать раз — другой по соплям, и слуху конец, а то, что от офицеров шли пакостные новости. Им-то больше было известно о нашей готовности. Говорили, что самое это неверие в победу пошло от нашего главы — командира эскадры адмирала Рожественского. Ведь не скроешь мысли. Одно слово, улыбка там, намек — и поползет слушок…
— Со змеиным шорохом, — вставил Зосима Гусятников.
— Так он и полз. Даже говорили, а потом это и подтвердилось, что Рожественский при подходе к Цусиме подавал рапорт об отставке, дескать, там болезнь или еще что мешают ему. Да отставки по дали. Ему же не об отставке надо было думать, не давать самому задний ход, а все как есть вывести на чистую воду: отписать, что флот не сможет биться с японской силой, потому есть важные причины, и все подробно изложить: и что ход малый, и снаряд наш легче, и порох в нем не такого качества. А он все это в себе держал, видно, боялся, что трусом назовут, и решил лучше погибнуть, чем о себе такое мнение создавать, а не подумал, что за ним стоит пятнадцать тысяч моряков, суда непомерной цены и главное — морская честь! — Невозвратный закашлялся. — В горле что-то запершило. Дайте, у кого ближе, табачку.
Ему протянули сразу несколько кисетов. Закурив, баталер продолжал свой рассказ:
— Четырнадцатого мая, в день первого боя, погода выдалась хмурая, ветер попутный средней силы, видимость была плохая, все в дымке маячило, да еще копоть от судов стлалась по морю так, что иногда совсем ничего нельзя было понять, что вокруг делается. Опять же шли без настоящей разведки. Наверное, адмирал думал, что так незаметно и пройдем дымком да туманом. Да где там. Как прояснилось, так сигнальщики заметили на горизонте японские крейсера. Они шли за нами всю ночь и подавали сигналы своему адмиралу Того, где мы и как идем.
Пришло утро четырнадцатого мая. Растянулась вся наша эскадра так, что первых судов и не видно было. Надо еще сказать, что в тот день все суда в восемь часов подняли стеньговые флаги, так как, если помните, четырнадцатого мая — день коронации их императорских высочеств.
— Бывших! — вставил Зуйков.
— Конечно, теперь уже бывших, но тогда, сам знаешь, чтили. Думали все же о другом. И потому без команды надели все форму первого срока и, конечно, чистое белье, чтобы, если кому выпадет такая доля, предстать на том свете по всей форме… Да что говорить! Такой праздничек выдался, что сколько уж лет прошло, а в глазах он стоит, будто вчера все было. Ну уж если по порядку рассказывать, то японские суда все чаще стали показываться, но вдалеке — разведка. Главные-то силы обходили нас и впереди поджидали. И тут поступил сигнал — перестроиться из походного порядка в боевой.
— Что же раньше не перестраивались? — возмутился Зуйков. — Чего ждали?
— Не кипятись, — урезонил Гусятников. — Ведь. не Лука Лукич шел на флагмане! Сиди и слушай.
На Зуйкова зашикали, и Невозвратный продолжал, недовольно поморщившись, что перебили:
— Стали перестраиваться. Наша небогатовская эскадра как шла, так и осталась на прежнем курсе при девятиузловом ходе, а Рожественский со своими броненосцами прибавил скорости и стал заходить вперед нашей эскадры, значит. Перестройка эта шла около часа.
— Вот видите! — опять не выдержал Зуйков. — Час!
— Да, час на море — срок не малый. Уже после говорили, в плену, что весь Цусимский бой длился всего сорок одну минуту! Ну не все сражение, а самое решительное, когда стало ясна, за кем победа, дальше уж шли отдельные стычки, добивали наши суда, не более, потому большие потери у нас получились…
— Ты давай по порядку, — сказал Зуйков.
— Можно и по порядку. Так, около одиннадцати часов командующий адмирал передал общий сигнал «Тревога» — к бою, значит, готовсь. Вскорости и первые выстрелы раздались, сначала с «Орла», а потом и все начали палить в японский крейсер, да без толку, и адмирал передал сигнал: «Не бросать снаряды».
Затихли. Потом получили сигнал по эскадре: «Команде обедать посменно». Потом опять перестроились в две колонны — одна от другой кабельтовых пятнадцать. И получили сигнал идти девятиузловым ходом. Транспорты позади. Вот так и шли около часа. Ждали. Во втором часу появился! Весь главный флот японцев показался впереди.
И вот тут мы потеряли ход, «Ушаков» то есть наш остановился, потому у него одна главная машина вышла из строя.
— Не было печали! — вскрикнул Зуйков. — Как же это возможно! Бой, а у вас машина!
— Старый был броненосец, не приспособленный для таких дел. Ходить ему надо было по «маркизовой луже». Да ничего, обошлось: подошел пароход «Свирь» и взял нас на буксир.
— Паршивый пароходишко тащил броненосец?
— Успокойся, Спиря. — Роман Трушин положил ему руку на плечо. — Что было, то было. Давай, Лукич!
— Не так уж долго тащила пас «Свирь». Пошли своим ходом, узлов так до десяти. Впереди же страшная получалась картина: весь горизонт заволокло дымом, и от пожаров и от японских снарядов, дым был у снарядов или угольной черноты, или ярко-желтый. Вот такой полосатый дым и стоял над морем, а за ним грохот.
Направились мы полным ходом в тот ад.
И тут мы увидели впереди японские суда и броненосец «Наварин». Броненосец горел, сильно накренился, а вокруг море кипело от японских снарядов. Тогда наш командир капитан первого ранга Владимир Николаевич Миклухо-Маклай направил «Ушакова» под самый огонь, подошел к «Наварину», прикрыл, стало быть, его бортом, застопорил машины и приказал бить по японским крейсерам. Говорили, что было несколько наших попаданий, хотя, по правде сказать, я ничего в дыму и не видал, кроме разрывов у борта да на палубе. Чуть затишка, бежим с носилками к башням. У меня двоих напарников насмерть скосило осколками, а самого — не задело. Ведь был я и тогда баталером, а по боевой входил в подчинение нашего доктора Боднянского Петра Васильевича. — В рубашке родился, — буркнул Брюшков.
— Не знаю. Может быть, счастье такое выпало — остаться живым, но скажу, не прятался, какое-то непонятное было состояние: ни боязни, ни страха, вроде бы деревянный стал.
Крышка была бы «Наварину» в тот день, а с нашей помощью он и пожар потушил, крен выровнял и стал вести огонь из всех неповрежденных башен. Отбились мы вдвоем от японцев. Ушли японские крейсера. Тогда командир «Наварина» капитан первого ранга барон Фитингоф крикнул с мостика в мегафон: «Спасибо, Владимир Николаевич! Иди впереди с богом!»
— Вот тебе и барон! — сказал Зуйков. — Тоже, видно, и среди ихнего брата разный народ бывает…
— Как и среди нашего брата, — продолжал Невозвратный. — Должен сказать, что в те дни трусов я не примечал. Как-то все подобрались, никто не хотел ронять себя, какая-то всех охватила восторженность духа. И думаю, что шла эта восторженность от нашего геройского командира Владимира Николаевича. Он выслужил свой срок еще в Питере, и был приказ о его отставке, так он добился, чтобы его оставили на корабле, хотел все тягости войны принять с командой.
В первый день сражения мы пострадали не очень сильно, из попаданий было только одно серьезное, в таранное отделение, отчего имели сильный дифферент на нос и не могли развить двенадцатиузлового хода, как приказывал адмирал Небогатое, и шли узлов семь, не боле.
Продержались дотемна. Шли без огней. И тут появились миноноски. Несколько атак было, да мины мимо проходили. Видно ее, проклятую, ночью, как она идет, будто акула в жарких морях.
Всю ночь никто глаз не сомкнул. Как могли, палубу очистили, навели порядок. Ждем утра. Что-то будет? И надо сказать, что своих мы потеряли. Но слышно было, что бой идет: грохот разносился по морю, полыхали зарницы от выстрелов, а то все небо освещалось красным светом, и гул доносился, будто гром по весне.
Ночью обошел наш командир весь корабль, побывал и в госпитале, во все вникал и говорил, что предстоит еще смертельный бой с врагом и он надеется, что никто не уронит чести русского моряка. И хотя по его словам понимали мы, что готовит он нас к смерти, а не было страха. Сумел он своим видом, словами, голосом своим внушить, что такая нам судьба и такой наш долг перед Россией. Помню, он сказал: «Погибший с честью — не побежден, его пример наполнит мужеством сердца живых!» Мудреные слова, а запомнились, потому что смысл попятный. Так что он подготовил команду и офицеров к бою. Потому как сдаваться полагал делом низким и для русского моряка невозможным.
Дело же поворачивалось совсем плохо. Оказывается, японский адмирал Того со всеми своими броненосцами уже поджидал адмирала Небогатова с остатками кораблей на их пути во Владивосток, и нас в том числе. Ночью бой вели его миноносцы, а главные силы ушли вперед, ход-то у них был больше нашего, вот он и выбрал нужное расположение сил. А когда Небогатов подошел, то его окружили со всех сторон, и Небогатов поднял сигнал, что приказывает всем сдаться, и спустил флаг на своем флагмане «Николае I», за ним поспускали флаги броненосцы «Орел», «Синявин», «Апраксин». Только крейсер «Изумруд», разобрав сигнал адмирала о сдаче, пошел полным ходом на прорыв, и ему удалось уйти, так как ход у него был подходящий, не все суда у нас были тихоходные, а малую скорость держали из-за старых броненосцев. Но я малость вперед забегаю. Все это потом выяснилось. Пока мы шли заданным курсом и о планах Небогатова не знали, был у нашего командира свой план. Утром мы очутились в полном одиночестве, вся эскадра, что уцелела, ушла вперед, а наш «Ушаков» остался один-одинешенек. И никакой надежды не осталось догнать своих. Приходилось самим решать, как действовать дальше. И тогда командир созвал всех офицеров на военный совет в рубку под мостиком. На этом совете все, как один, решили выполнить последний приказ адмирала — идти во Владивосток и по возможности избегать встречи с неприятелем. Хотя все понимали, как это трудно: дымы на горизонте говорили сами за себя. Все же, что можно было для сокрытия себя, командир сделал: приказал срубить стеньги, не дымить по возможности и уходить в сторону от появившегося в море дыма. И взяли мы курс на японские берега, чтобы возле них пройти к себе; возле Японии, думалось, меньше военных судов, они были собраны у Цусимы.
Ходу больше восьми узлов мы дать не могли из-за пробоины в носовом отсеке. Еще до полудня, во время похорон убитых во вчерашнем бою, показался дымок по корме. Сыграли боевую тревогу. Покойников опустили за борт без отпевания, даже не обернув в парусину.
Догонял нас японский крейсер. С нашей скоростью уйти от него нельзя было, и командир приказал повернуть навстречу. Как только крейсер подошел на выстрел, открыли огонь. Как дали залп из десятидюймовой башни, то японец развернулся и дал тягу. После этого всем стало понятно, что проскочить незаметно нам не удастся. Все же надежда оставалась.
Зосима Гусятников сказал назидательно:
— Может, потому многие и живы остались, что надежду не теряли. Потерял надежду — все, полный отбой человеку.
— Так-то оно так, да и с надеждой не мало лежат на дне, под нами. Все же кому что написано на роду… Во время обеда довелось мне проходить мимо кают-компании, обед носил раненному офицеру, у него вестового убило, вот я понес ему обед и слышу голос старшего офицера Александра Александровича Мусатова, веселый был, неунывающий человек. Выпьем, говорит, друзья, может, последнюю в жизни! А сам хохочет. Сбылись его слова для многих, кто с ним чокался.
После обеда опять показались дымы, вон там, — баталер махнул рукой на юго-запад. — Все небо заволокло. Показались два броненосных крейсер. Вначале мы подумали, что это наши, и матросы закричали «ура». Да ошиблись. Наш командир смотрел с мостика на японские крейсера в бинокль совсем спокойно, будто и не война, а так, идем в обыкновенном рейсе. На мачте переднего крейсера поднялся большой сигнал. И надо сказать, что перед подходом крейсеров командир приказал, чтобы у всех людей были приготовлены спасательные средства. Матросы расшнуровали койки и взяли пробковые матрацы.
Подошли крейсера кабельтовых на пятьдесят, и на персом появился сигнал: «Предлагаю вам сдать корабль…» — сигнальщик Пахом, Данилин это потом уже сказывал.
Старший штурман лейтенант Максимов доложил командиру о сигнале с крейсера. Как только услышал командир, что предлагают сдаться, махнул рукой и говорит: «Дальше разбирать не надо, открыть огонь!»
А крейсера все подходили и подходили, думали, спустим флаг, а наши артиллеристы с первого залпа накрыли крейсер «Иокито». Снаряд попал в борт крейсера, впереди кормового левого трапа, и разорвался внутри.
Живехонько японцы убрали сигнал и пустились наутек.
— Вот это да! — прошептал Лешка Головин.
— Погоди, Леня! Дело худо кончилось. Крейсера только отступили на безопасное расстояние, и, хотя мы повредили «Иокиту», он остался на плаву, снаряд попал много выше ватерлинии, побил десятка три команды, и все. Стрелять он мог и ход не потерял. Капитан Миклухо-Маклай пошел вдогонку, да где там с нашим восьмиузловым ходом. Японцы отошли на свою дистанцию в 70 кабельтовых и открыли огонь. Мы же могли стрелять только на 63 кабельтовых. Вот тут и повоюй. Наши снаряды далеко не долетали. Японцы скоро пристрелялись, и начались у них попадания, как на учениях, потому риску самим никакого. Начался пожар в батарейной палубе, загорелись беседки с патронами и стали рваться. Ад, одним словом. Получили несколько подводных пробоин.
Так прошло полчаса. Все видели, что дело копченное, и лучше всех это видел командир наш Владимир Николаевич Миклухо-Маклай и приказал корабль затопить, а всем спасаться кто как может, потому все шлюпки или сгорели, или разбиты в щепки. Стармеху командир приказал открыть кингстоны. Старший офицер обежал все низы, чтобы никого не осталось, снял часового у денежного сундука. Минный офицер лейтенант Жданов отказался спасаться и спустился к себе в каюту. Говорили, что он поклялся не сдаваться в плен.
Мы, санитары, старались спасти раненых. Привязывали к койкам и бросали за борт. По правде говоря, мысль такая у меня была, что останусь с «Ушаковым», как и другие, кто свой долг выполнял. Особенно запомнился мне боцманмат Прокопович, стоявший часовым у андреевского флага. Несколько раз сбивало флаг осколками, а он поднимал новый. В затишье от стрельбы старший офицер кричал ему в мегафон, что он может уйти с поста, не дожидаясь караульного начальника или разводящего, но тот, видно, оглох от выстрелов и разрывов снарядов и не ушел с поста, и флаг на «Ушакове» так и остался. Прокоповича убило прямым попаданием.
Все пушки вышли из строя, кроме одной 120-миллиметровой, из нее-то и крыли комендоры до последнего мига для поддержания духу. Между тем крейсера подошли чуть не вплотную и били по тонущему. Били с расчетом, больше по палубе. А из нашей последней пушки и стрелять уже нельзя — крен большой, и оставаться уже больше нельзя на корабле, вот-вот потонет, потому кингстоны открыты и в пробоины вода идет. И вот тут, братцы, поверите или нет, произошел такой случай. — Лука Лукич улыбнулся и провел тыльной стороной ладони по усам. — Выпить пришлось на прощание с «Ушаковым». И будто момент неподходящий, считанные, можно сказать, минуты остались, а вот надо же такому делу.
— Выпить всегда не плохо, — сказал кто-то в задних рядах.
— Но здесь тонем! Стрельба! Был я возле башни. На спардеке снаряд разорвался. Я за башню. Опять разрыв по ту сторону башни. Дым, в глазах помутилось, и не помню, как я в башне очутился. В воду-то прыгать не хотелось, с концом, казалось, дело, если в воде очутишься. В башне сразу пришел в себя и слышу, говорит артиллерийский офицер, командир башни Гезехус: «Потонем, черти, с вашим коньяком». А комендор ему: «Никак нет, разрешите прикончить?» — И забулькало в кружки. Меня заметили и тоже поднесли. Народ-то был на удивление!
Еле успели отплыть от броненосца, как он скрылся под водой. Когда он уходил на дно, кто-то крикнул вводе:
— Ура «Ушакову»! С флагом ко дну идет!
И многие закричали «ура», потому понимали, что сделали все, что могли, и, хоть гибель теперь верная, чести своей русские моряки не уронили. А что гибель верная, то помимо воды бескрайней и пучины бездонной на нас японцы обрушили еще и огонь: стали стрелять в нас. Совсем озверели, видно, не по нраву пришлось, что не сдались, бой вели до последнего, да еще и повредили их крейсера. Но вот стрельбу прекратили. Крейсера отошли. Повеселела немножко братва, кто жив остался. Матерят японца, что потерял всякую совесть и морскую честь.
Броненосец погиб что-то около пяти, а спасать нас стали в восемь часов. Три часа провели в холодной воде.
Вместе с нами находился в воде и командир наш Владимир Николаевич Миклухо-Маклай, только не поблизости от того места, где я находился, а в отдалении, он последним оставил корабль и все подбадривал людей. Когда подошла к нему шлюпка, он сказал японскому офицеру: «Спасайте сначала матросов, потом офицеров». Когда снова подошла к нему шлюпка, он плавал уже мертвый на своем поясе…
Вот такой получилась та наша Цусима. Не будь Цусимы, многое могло пойти другим курсом. Может быть, и нам не пришлось бы находиться здесь, да и судьба наша была бы куда ясней.
Зосима Гусятников сказал в раздумье:
— Что касается ясности, то нет ее никакой, туман — один маячит впереди, как вон там: то ли островок, то ли тучка, а может, мираж морской.
Никто не ответил. Матросы молчали, сурово глядя на равнодушное море, на, бегущие волны с белыми гребешками.
Клипер шел, дробя в пыль синюю цусимскую волну. Над его бушпритом повисла радуга.
«Удар копытом»
Семейство зеленых попугаев в каюте «Розового лотоса» вело себя на редкость шумно. Словно счастливая чета стремилась оповестить весь мир о чрезвычайном событии: их первенцы впервые покинули гнездо и вот сейчас, покачиваясь, сидели на жердочке, укрепленной поперек клетки. Родители в нервном возбуждении метались по каюте, клевали бананы и плоды манго, лежащие на столе, кидались к птенцам, совали корм в их желтые рты, вылетали в иллюминатор и с озабоченными криками возвращались назад.
— Необыкновенно назойливые птицы, — сказал капитан Рюккерт, — чуть не перевернули чашку. Выпьем, Фридрих, за лучшее будущее. Я думал, что у меня кончилась полоса невезения, хотя этого и следовало ожидать после того, как русским стало известно о замысле наших сообщников. Они еще нас с вами посылали на абордаж. Особенно настаивал наш гостеприимный хозяин. Нашел дураков. Ну, выпьем за лучшее будущее, выше нос, барон! Гиллер сосредоточенно смотрел в желтоватую жидкость. Подняв голову, оп сказал:
— Что-то мне не нравится и напиток, и особенно хозяин.
— Ну, знаете! Ему не нравится «Белая лошадь», только русская водка может соперничать с этой маркой! — Выпив залпом, Рюккерт взял оранжевый плод манго, вяло съел его, налил еще до краев чашу. — Ты к Голубому Ли относишься, как к невесте: нравится, не нравится. Да черт с ним! Ну, за твое здоровье! — И он выпил вторую чашу.
Тем временем Фридрих фон Гиллер поймал одного из попугаев, севшего ему на плечо, и сунул его клюв в чашу с виски. Попугай мгновенно затих, обмяк в руке у барона. Выпущенная из рук птица упала на бок, забилась на столе и скоро затихла.
— Вот это напиток, — вяло ворочая языком, сказал Рюккерт. — Удар копытом «Белой лошади»! Что-то у меня круги в глазах, а у тебя ничего? Ах да, ты же не пил! Трезвенник…
Барон сказал холодно:
— Виски отравлено!
— Чушь! Все птицы дохнут от ал… от, черт, не могу выговорить, от этого… кроме одной скотины… человека.
— Отравлен! — повторил барон.
— Ты мне нравишься, Фридрих: отравлен, а сам сидишь. Друг гибнет, а он сидит. Раз отравлен, то что. надо делать? Дать противоядие. У тебя оно есть?
— Не паясничай, тебе осталось жить очень мало. Неужели ты не чувствуешь?
Рюккерт схватился рукой за горло и с ненавистью посмотрел на своего соотечественника:
— Воды! Принеси морской воды… хорошее рвотное…
— Не поможет. Их яды действуют безотказно. Вот что, Рюккерт, ты сам знаешь, что после всего, что произошло, это лучший выход. Ты не должен был покидать крейсера. Я скажу, что ты погиб во время боя с англичанами.
— Воды… подлец! Воды! — Рюккерт встал, его бросило в сторону, он еле удержался на ногах, ухватившись за кромку стола. — Воды!
— Сядь и возьми себя в руки. Ты знаешь, что их яды надежны.
Капитан Рюккерт внезапно протрезвел, голова у него стала ясной, только все члены отказывались повиноваться. Он упал на стул.
— За что? — спросил он.
— Не обвиняй, а благодари. Да, я мог по дать тебе выпить яду. Я сразу догадался по лицу этого подлеца, но тебе необходимо уйти.
Капитан Рюккерт не мог уже говорить, он только спросил глазами: «Почему?»
— Ты пережил свою славу. Германии ты такой не нужен. Хватит для нее позора. Ты должен остаться Железным Рюккертом. И ты им останешься! Будь уверен, я преподнесу как надо твою смерть. Прощай, Франц! Так надо. Ты сам знаешь, что так необходимо…
Капитан Рюккерт сжал рукоятку пистолета, у него хватило еще силы вытащить его из кобуры, но в это время сердце его остановилось, и он сполз с сиденья на пол каюты.
Гиллер быстрым движением поднял с пола пистолет, выпавший из руки Рюккерта, снял с предохранителя, прислушался. На палубе Мелодично журчали голоса малайцев, слышалось урчание мотора: подходил катер. Барон быстро оценил обстановку: «Сейчас Голубой Ли заглянет в каюту, чтобы убедиться в действии „Белой лошади“ и закрыть на ключ дверь».
По трапу скатились джутовые метки.
«Саваны для нас», — понял барон и навел пистолет в проем двери. По трапу кто-то спускался без всякой осторожности, хлопая сандалиями. Показались коричневые ноги и край черного саронга. Гиллер выстрелил в живот и, когда помощник шкипера рухнул в каюту, выпустил из него еще несколько пуль.
Голубой Ли следил за приближающимся катером, решив, что сейчас самый удобный случай разделаться с оставшимися в живых тремя белыми. Он угостит их виски, таким образом, вся операция закончится без всякого шума. В это время раздались выстрелы в каюте, что несколько удивило его: яд всегда действовал безотказно. «Наверное, помощник решил подстраховаться», — подумал он и пожалел обивку в каюте из сандалового дерева, продырявленную пулями. Но тут его насторожили звуки тяжелых шагов. У Голубого Ли выработалась молниеносная реакция на все неожиданности, так часто встречающиеся в его опасной профессии, в следующее мгновение он уже прыгнул за борт, так как увидел в отверстии люка голову барона фон Гиллера и пистолет в его руке. Голубой Ли плавал как рыба. Пройдя под килем шхуны, он еще метров пятьдесят плыл под водой, вынырнул, чтобы сменить в легких воздух, снова ушел под воду. Гиллер догадался о его маневре, когда Голубой Ли уже подплывал к берегу. Перейдя на другой борт, барон увидел его черную голову на застывшей голубой воде и не стал стрелять, так как не испытывал к нему ничего, кроме отвращения, как к человеку низшей расы.
Все внимание он сосредоточил на подходившем катере, у него мотор работал с перебоями. В довершение катер остановился в ста футах от шхуны, и три матроса на нем склонились над мотором. Наконец катер подошёл к борту.
— Что с мотором? — спросил барон фон Гиллер.
Унтер-офицер вяло ответил:
— Карбюратор. Вечная история. Когда мы шли сюда, раз пять промывали. Дьявол его знает, что с ним.
— Оставь дьявола в покое, когда разговариваешь со мной, и постарайся, чтобы карбюратор вел себя как надо! Понял? Я принял командование над вами!
Унтер-офицер посмотрел новому командиру в глаза, перевел взгляд на рукоятку пистолета, торчащую у барона за поясом, и, кашлянув, изобразил на лице вялую покорность.
Два других немца, один тощий, длинноносый, в разорванной матросской рубахе, второй голый по пояс, с обгоревшими на солнце плечами, переглянулись.
Унтер-офицер спросил:
— А где наш капитан, если позволите спросить, капитан-цурзее?
— Мертв! Умер! Его отравил шкипер этого корыта. Разве вы не видели, как этот пират прыгнул за борт и уплыл на берег?
— Что-то не заметили, — сказал унтер-офицер.
Матросы опять переглянулись, и длинноносый спросил с усмешкой:
— Как же вы уцелели, капитан-цурзее?
— Я не пью по утрам. И вообще пью редко. Я предупреждал вашего капитана. И даже провел опыт над попугаем. Увидите, он лежит дохлый на столе.
— Кто, попугай или капитан? — сострил длинноносый.
Унтер и второй матрос зашикали на него, и все стали спускаться в каюту.
— Картина! — сказал длинноносый, останавливаясь у комингса. — Это наш его кокнул?
— Я! Ну, что стали? Видите мешки?
— Приличные саваны, — сказал длинноносый. — Один был для вас?
— Меньше разговаривай. У нас нет времени.
Помощника шкипера, упрятанного в мешок, сбросили за борт без лишних церемоний. Тело Рюккерта положили у борта. Унтер-офицер сказал, вздохнув:
— На крейсере он совсем не пил и спиртное запретил держать, даже доктору приказал спирт отправить, а тут глушил без просыпу, и вот…
— Кончай заупокойную мессу, — сказал длинноносый матрос. — Смотри, на берегу сколько их собралось. Никак, хотят принять участие в похоронах, и в наших в том числе?
Барон фон Гиллер тоже заметил толпу на берегу. Перед ней у самой воды бегал Голубой Ли и, что-то крича, показывал обеими руками на свою шхуну.
— Кончайте! — Барон фон Гиллер кивнул, и бухта Тихой радости, скорбно всплеснув волной, поглотила тело Железного Рюккерта.
Капитан-цурзее распорядился:
— Возьмите на шхуне все необходимое для большого перехода. Мы сейчас уходим из этого проклятого места. Сколько вас там еще осталось на берегу?
— С вашей помощью никого не осталось, — ответил длинноносый комендор. — Последних русские разнесли вместе с пулеметом. Так что все мы здесь, капитан-цурзее.
— Вот и прекрасно!
— Куда уж прекрасней.
— Я не о том. Конечно, с нами случилось страшное несчастье. Через четверть часа мы должны покинуть это проклятое место. Надо взять воды и продуктов. За дело, друзья! — В его голосе появились заискивающие нотки: он знал, что рискованно портить отношения с людьми, от которых будет зависеть исход плавания по неведомому морю. Он едва сдерживал себя, наблюдая, как эта оборванная грязная троица с подчеркнутой независимостью расхаживала по палубе, перетаскивая на катер продовольственные запасы Голубого Ли. Барон фон Гиллер думал не без горечи, как быстро падает дисциплина даже среди немецких матросов, стоит им очутиться вне привычной обстановки.
Вернувшись на шхуну, Голубой Ли огорчился по-настоящему, увидев на столе в своей каюте мертвого попугая. Ни проигранное сражение, ни промах с белыми туанами так его не расстроили. Попугай был не простой птицей, а служил вместилищем для духа — покровителя «Розового лотоса». Теперь дух вылетел из мертвого тела, и шхуна, а следовательно, и ее хозяин остались без надежного заступника. Голубой Ли крикнул одному из уцелевших матросов, чтобы тот прибрал в каюте, а сам пошел на корму, где находился небольшой алтарь, зажег жертвенные свечи и, приняв молитвенную позу, обратился мыслями и сердцем к богине Кали, прося ее не оставлять его своими милостями. Он дал очень нелестную характеристику сбежавшему духу-покровителю. Во-первых, он не помог захватить корабль чужеземцев, хотя знал, какие жертвы обещаны и ему и ей, богине Кали. Сегодня же дух-покровитель до того опростоволосился, что дал отравить свое тело. Лучше всего, если богиня мщения пришлет более расторопного духа, он же, Ли, ее верный слуга и раб, не останется в долгу…
Ночь застала барона фон Гиллера и его незадачливую команду в открытом море вблизи банки, на которой стоял буек с ацетиленовой мигалкой. Мотор останавливался раз десять, несмотря на ругань и угрозы командира. Наутро вблизи острова их догнал голландский сторожевой миноносец и запросил, не нуждается ли катер в помощи. Катер в это время стоял лагом, и его несло к банке. Барон фон Гиллер велел поднять сигнал бедствия и, когда подошла шлюпка, оставил катер. К удивлению барона и команды спасательной шлюпки, матросы с «Хервега» и их унтер-офицер отказались оставить катер. Как раз в это время мотор на катере вновь заработал.
— Мы дойдем до острова, — сказал унтер-офицер. — Вон же пальмы торчат. На какого дьявола мы оставим такую посудину?
— Хорошо, я буду ждать вас на острове, — сказал капитан-цурзее. — Если же у вас опять испортится мотор и мы не увидимся, то надеюсь, вы не уроните чести флота кайзера Вильгельма.
— Чести нам никак не уронить, — сказал длинноносый комендор, — она, эта честь, так низко сейчас лежит, что ее поднимать надо.
Второй матрос мечтательно улыбнулся на миг, представив себе, как они, продав катер, завалятся в кабак где-нибудь в Батавии и уж там-то они «честь поднимут»…
Мотор катера взревел, и суденышко, словно обрадовавшись, что избавилось от неприятного пассажира, бойко пошло к острову.
— Пожалуй, мы пропустим этот остров, — сказал длинноносый комендор.
— Лучше всего пойдем к следующему, — согласился унтер-офицер.
— Выберем островок поспокойней, — сказал матрос с обожженными плечами, — мы заслужили отдых. — Он подмигнул товарищам и вытащил из узла вещей, захваченных в каюте Голубого Ли, недопитую бутылку виски «Белая лошадь». Я прихватил ее на шхуне. Враки, что малаец отравил кэпа. Они поскандалили из-за вчерашнего. У старика было неважное сердце, да еще этот проклятый пират вывел его из терпения, заставил разрядить в себя револьвер. Ну и… Эх, какой приятный цвет! Выпьем за крепкий причал и мою Клару.
— Аминь, — произнес длинноносый комендор.
По обыкновению, судьба барона фон Гиллера складывалась гораздо лучше, чем у всех его соотечественников, с которыми он имел дела в последние полгода. С голландского сторожевика он пересел на английский миноносец, один из тех, что потопили «Хервег». Командир миноносца с радостью принял на свой борт человека, который знал о сражении из уст самого Рюккерта и плавал на непокорном русском клипере. В Гонконге бывшим командиром немецкой подводной лодки заинтересовалось высшее морское начальство, и особенно английская разведка в лице майора Нобля. Майор снабдил его небольшой суммой денег и несколько дней присматривался к нему, расспрашивал о плавании на «Орионе», его экипаже. Майор с удовлетворением отметил, что пленный немецкий офицер не зря провел время среди русских, он не только изучил их психологию, но и добился значительных успехов в изучении русского языка, правда, говорил он по-русски хуже самого майора Нобля, но хорошо понимал речь и подавал большие надежды, как способный ученик. Барон фон Гиллер признался, что на клипере избегал говорить по-русски и вообще выказывать свои знания русского языка, «чтобы иметь преимущество перед своими врагами», как он заявил майору Ноблю, и удостоился понимающей улыбки.
— Вы природный конспиратор, — сказал майор Нобль. — Такие люди, как вы, да еще со знанием русского языка сейчас дороже бриллиантов. Вот что, дорогой барон, я могу вам предоставить возможность сражаться против русских и таким образом избавлю вас от плена. Как вы смотрите на поездку во Владивосток, где сейчас решается судьба всей азиатской России, и даже не только азиатской? Происходят грандиозные события. Россия рухнула, на ее обломках будут созданы несколько государств, вернее, провинций. Дальний Восток, Сибирь ждут предприимчивых колонизаторов. Насколько нам известно, барон, вы не обременены земельной собственностью у себя на родине?
— Со средины семнадцатого века наш род опирался только на шпагу! — высокомерно ответил барон фон Гиллер, глаза его прищурились: он не переносил, когда разговор заходил о его имущественном положении.
Полное лицо майора Нобля расплылось в улыбке, он отхлебнул из стакана неразбавленного виски и подцепил на вилку коричневый кусочек трепанга.
— Ешьте, барон, эту гадость, говорят, она благотворно действует на весь организм.
Они сидели в кабинете ресторана «Мандарин». В воздухе стоял приглушенный гул, доносившийся с улицы, и шорох лопастей вентилятора над головой. Барон выжидающе смотрел на майора Нобля, в то же время оценивая его как личность. За кажущимся простодушием этого человека угадывалась железная воля и отсутствие условностей. Этот человек не остановится ни перед чем в достижении поставленной цели. Его лучше всего иметь союзником, чем врагом. Барон ждал.
Майор Нобль, высказав много лестных замечаний относительно китайской кухни и очистив тарелку, без перехода продолжал начатый разговор:
— Мы с вами не виноваты в том, что наши предки не смогли ее приобрести. Мы с вами можем поправить дела. И должен сказать, это сейчас такой благоприятный момент, какие бывают раз в столетие. Происходит передел мира! И делим его мы, черт возьми! Сибирь, Дальний Восток, по существу, уже в наших руках. Надо закрепить успехи. Для этого нужны крепкие люди, без предрассудков, с ясной целью. Выполняя мировую миссию, каждый, кто не дурак, может обосноваться там на клочке земли величиной с целое графство! Дорогой барон! Вы произвели отличное впечатление не только на меня! Война на Западе, по существу, окончена, Германия потерпит поражение, но и она не останется забытой, ее интересы на Дальнем Востоке будут сохранены. Как вам известно, капитал стирает национальные границы. Вы можете стать одной из фигур на огромной шахматной доске.
— Надеюсь, не пешкой?
— Ну, что вы! Пешек везут навалом на грузовых транспортах. Роль английского разведчика никогда не котировалась ниже слона!
«Зачем столько ненужных слов?» — подумал барон и сказал:
— Благодарю. Я согласен…
Вот почему барон фон Гиллер очутился на мостике английского крейсера, направляющегося во Владивосток. Они стояли с майором Ноблем как-то обособленно от других офицеров, и не потому, что стремились уединиться, дистанция между ними двумя и всеми остальными на крейсере образовалась будто сама собой. Чопорные английские офицеры сторонились бывшего командира Немецкой субмарины и находили бестактным распоряжение адмирала, навязавшего им его общество. Что же касается майора Нобля, то его репутация в глазах флотских офицеров нисколько не была выше: в те годы шпион. еще не пользовался тем ореолом славы, который выпал на долю его собратьев несколько десятилетий спустя. Неожиданно этот толстяк в форме пехотинца привлек всеобщее внимание недюжинными знаниями по часта парусников, он по достоинству оценил внешний вид «Ориона», сравнив его с лучшими чайными клиперами, такими, как «Летящее облако», «Кити Сарк», «Молния», «Владыка морей». Перечислив с десяток клиперов и остановившись на их мореходных качествах, он опять перешел к «Ориону», которого обходил сейчас «Саффолк», имея клипер справа по борту.
— Не плохо, совсем не плохо? — говорил майор Нобль. — Смотрите, как лихо идут! Всю парусину вывесили. Поставили даже рипгтэйль! Видите парус позади бизани? Запасной бом-кливер! И все запасные стаксели! Удивительно, даже поставили баннет-шапочку! Вот она сейчас отлично видна, та, что пришнурована к нижней шкоторине фока. Увеличенные лисели по бокам всех прямых парусов! Никогда бы не подумал, что идет русский клипер. Исключительное зрелище! Вы не находите, барон?
— Да, если не вникать в сущность данного зрелища.
— Понимаю. И завидую вашей целеустремленности. Я иногда могу предаться иллюзорным мечтам. Меня волнуют миражи вроде этого клипера, как будто плывущего из восемнадцатого столетия. И мне жаль, что такое чудесное видение может исчезнуть навсегда… — Майор Нобль глубоко вздохнул и сменил мечтательный тон на сухой, официальный: — Вы должны сохранить клипер, используя свои связи. Отдано распоряжение, чтобы против него не применялись репрессии. Слишком ценный груз.
— Я понимаю и уже слышал…
— Да, я в общих чертах знакомил вас с планом захвата клипера. — Майор Нобль, просветлев лицом и обратив мечтательный взгляд за корму, где, распластав свои крылья, терялся в голубой дали «Орион», снова перешел на задушевный тон: — Не кажется ли вам, дорогой барон, что клипер из какого-то непонятного рыцарского великодушия уступает нам дорогу? Ему жаль ржавого «Саффолка», лишенного до конца дней своих подлинного общения с ветром, морем и солнцем. Все это для него враждебные стихии, в то время как они составляют душу «Ориона». — И опять жестко: — Вы не находите?
— Вы поэт, майор. Я сухой прозаик. И все более убеждаюсь, что нашей судьбой движет случай.
— Ничего не могу возразить, но хотел бы подробностей в данном случае.
— Пожалуйста. Если бы я не налетел на мину в Атлантике, то, по всей вероятности, «Орион» не находился бы сейчас в поле вашего зрения.
— Как, и вы?
— Разумеется.
— Но я счастлив, что так случилось!
— Я не мог полностью с вами солидаризироваться до момента встречи в Гонконге.
Они улыбнулись, каждый довольный тем, что так хорошо понимает другого, а сам остается для него загадкой.
Едва скрылся за горизонтом крейсер «Саффолк», как показался английский миноносец. Догнав «Орион», миноносец сбавил ход и некоторое время шел с равной с ним скоростью, держась в пятидесяти саженях с, правого борта.
И хотя большинство команды клипера после боя с «Хервегом» и пиратами преисполнилось чувством уверенности в своих силах и даже переоценивало их, сейчас, рассматривая хищное тело миноносца с торчащими на нем стволами орудий и лотками минных аппаратов, матросы видели, что противник серьезный, и все же им не верилось, чтобы их «Ориоша» сплоховал против этого железного корытца, как охарактеризовал миноносец Зуйков.
— Поплоше немца будет, — сказал Трушин. — Тот, если сравнивать, больше на битюга походил — ломовая лошадь, а этот так себе, стригунок. Форсу много, толку мало.
— Он тебе даст толку, как саданет торпедами, настругает стружек, — заметил Брюшков.
— Крейсер тоже хотел. — Трушин задорно тряхнул головой. — Ты тогда тоже пророчил. Эх, Назар, земляная твоя душа привыкла клониться перед тем, кто посильней или кто кажется сильным. А ты свою силу показывай, свою удаль!
— Удаль… на дне-то?.. — ухмыльнулся Брюшков.
— Да везде! Пока душа живет.
Наводчик кормового орудия Серегин, человек обстоятельный, резонно заметил:
— Самое главное, надо момент не упустить, а первым ударить, фугасным по машинному отделению. С такой-то дистанции ему крышка. Только если первым ударить…
Ему возразили:
— А если он опередит?
— Нас не опередит. Была бы команда в срок дадена, так врежем, что век не забудет.
— Он те врежет, — сказал Брюшков. На него зашикали, и Брюшков замолчал, зло покусывая выгоревший в тропиках ус.
Прошел на мостик радист, бросив на ходу матросам:
— Прощайтесь с Гринькой Смитом. За ним и лейтенантом Фелимором пришел миноносец.
Матросы возмущенно зашумели. Веселый, никогда не унывающий английский парень всем пришелся по душе, даже Брюшков, выражая свои симпатии, угощал его табаком, такой чести удостаивались очень немногие на клипере, да и то из среды унтеров.
Воин Андреевич, выслушав сообщение радиста, сказал:
— Жаль расставаться, да ничего не поделаешь, это их право. Позвать ко мне англичан.
И лейтенант Фелимор, и старший матрос Смит стали просить командира клипера, чтобы он разрешил завершить плавание на его корабле, тем более что миноносец «Отранто» тоже шел во Владивосток. Командир приказал передать эту просьбу командиру «Отранто» капитану Коулу. Тотчас же пришел лаконичный ответ: «Сожалею. Приказ адмирала».
Клипер лег в дрейф. У лейтенанта Фелимора подозрительно блестели глаза, когда он прощался с офицерами. И как потом передавал Сила Нефедов, его окончательно «разделал в лоск» Стива Бобрин.
— Сует ему мой Белобрысенький самую большую коробку с перчатками, такого они желтенького цвета, малюсенькие из себя, на дите и то поди не влезут, как-то я померил, они в каюте у него остались, так только три пальца и вошли — и по швам! Пришлось списать в иллюминатор, да их там еще около двух дюжин осталось. И надо вам сказать, что никогда я такой радости на лице у человека не видел, как у того Христофора Фелиморова. Аж затрясся весь, как увидал эти, прости господи, напальнички. Бормочет. В глазах слезы, жмет моему руки. Хороший был человек. И куда они ему? Думаю, взял из деликатности, от доброго сердца, чтобы моего не обидеть. Ведь так потратился человек, одному отцу Сидору пятьдесят целковых должен. И такая радость у этого Христофора, будто в адмиралы произвели…
Не менее трогательным было прощание Гарри Смита с его многочисленными друзьями. Все понимали, что расстаются навсегда с этим славным компанейским парнем, и каждый старался вручить ему какой ни на есть подарок. В мешок (который тоже был подарен) совали носки, платки, рубахи, Зуйков, хлопнув подошвой о подошву добротными шлепанцами, сплетенными из манильского троса, сказал:
— Носи, Гриня, не марай!
Гарри Смит отдарил Зуйкова, вручив ему свою фарфоровую наяду. Зуйков долго не брал такую драгоценность, да Гарри сунул ему трубку в карман и, хлопнув по плечу, сказал:
— Закуривай и будь здоров!
Под выстрелом у борта клипера плясала на волнах английская шлюпка. Матросы, гребцы с миноносца, поставив весла на валек, прислушивались к голосам, доносившимся с палубы «Ориона», и обменивались впечатлениями «об этих русских» и их корабле. Пожилой боси (боцман), командовавший шлюпкой, неодобрительно хмурил густые брови. Ему не нравилось слишком затянувшееся прощание. Он даже считал неприличным поведение своих соотечественников, которые так затягивают прощание с русскими. Боси вытащил из кармана часы. Прошло уже пятнадцать минут, как он подошел к паруснику, и больше сорока минут, как там стало известно, что за ними придут. Боси лишний раз убедился, насколько было предусмотрительно высшее начальство, приславшее инструкцию, как вести себя в русских портах. Инструкция запрещала матросам общаться с большевиками и прочими революционно настроенными элементами, как военными, так и гражданскими. И если говорить о большевистской заразе, то здесь, на этом паруснике, ее, видно, хоть отбавляй. Недаром клипер сбежал из Плимута на Восток, где тогда еще у власти стояли красные. Этих двоих, особенно матроса, приказано держать «в карантине»…
Боси опять вытащил часы, взглянув на циферблат, сильно щелкнул серебряной крышкой, что не предвещало ничего хорошего, буркнул:
— Он забыл, что все-таки является матросом королевского флота. — Боси сделал ударение на «матросе», он знал службу и никогда не позволял себе критиковать старших по званию, но в данном случае всем в шлюпке стало ясно, что боси прошелся и насчет лейтенанта и, быть может, главным образом имел его в виду.
Наконец лейтенант Фелимор ловко спустился по штормтрапу, потряс руку боси, поздоровался с матросами. Гарри Смит, прыгнув в шлюпку, только кивнул всем сразу и продолжал обмениваться прощальными словами с русскими матросами.
Шлюпка отвалила. Неожиданно Гарри Смит совсем по-русски сорвал с головы бескозырку (русскую) и, хватив ею по днищу, стал выкрикивать, мешая английские слова с русскими, все же достаточно ясно, чтобы понять, что Смит думает об адмирале. Завершил он свою прощальную речь таким «русским словом», что унтер-офицер Бревешкин, одобрительно крякнув, сказал:
— Мог ведь получиться настоящий марсовый из этого парня, туды его в акулью печень!..
Задавая темп гребцам, боси кивал головой, загадочно щурясь и ликуя в душе. Он раскусил этого Смита, явно «красного большевика», ругавшего на чем свет стоит адмирала. За такое Смита можно спокойно упрятать до конца рейса в карцер, а там решит военный суд. «И вот сейчас он, не закрывая рта, расхваливает русских, с которыми нам не сегодня, так завтра придется драться».
Боцман сказал:
— Что-то ты их так аттестуешь, будто лучше их людей нет и в Британской империи, где, как известно, никогда не заходит солнце.
Гарри Смит пожал плечами, секунду помедлил, прежде чем сказать:
— Встречал я и раньше хороших ребят, и думалось мне, что они водятся только у нас, оказалось, что везде есть стоящие люди.
Боцман спросил:
— Надеюсь, они найдутся и на «Отранто»?
— Еще бы, сэр! И прежде всех вы, сэр!
Матросы, опустив глаза и силясь не улыбнуться, налегли на весла.
Лейтенант Фелимор с первого взгляда разгадал душевные качества боси и, стремясь выручить Смита, заметил, что и он сам ничего плохого не может сказать о русских, они спасли их от гибели и месяцы заботились, как о самых близких людях.
На что боси проронил многозначительно:
— Посмотрим, посмотрим…
На другой день после встречи с «Отранто», увидав в миле с левого борта прогонистое тело миноносца, Воин Андреевич сказал старшему офицеру:
— Видимо, у англичан серьезные намерения. Берут реванш за Плимут. Думают, что мы опять можем удрать. — Командир тряхнул головой: — Вот когда хотелось бы, чтобы «Орион» превратился в линейный корабль. Тогда бы вся эта шушера при встрече поджимала хвост. — Он вздохнул. — А теперь сила на их стороне, да разве дело только в видимой силе, во всей этой стали, в пушках? Видно, нет, раз держится восставший народ… А уйти от них не так трудно, как вы знаете…
— Труда не составляет, — ответил старший офицер, — да зачем?
— Да, да, голубчик — зачем? Не в нашем понятии, как говорят матросы, оставлять отечество в опасности. Я много думал и говорил о возможности уйти в один из нейтральных портов.
— Сейчас их нет нигде, этих нейтральных.
— Думаете?
— Вытекает из обстановки, Воин Андреевич. Не окончилась одна война против Германии и ее союзников, как началась другая, против России, и, судя по сообщениям Германа Ивановича, на нас ополчился весь мир, то есть все правительства, которые видят в русской революции опасность для своего строя, как в свое время видели в Парижской Коммуне.
— Да, да, и мы знаем ее печальный конец. Погибли люди кристальной чистоты и несгибаемого мужества! Похожие на нашего лейтенанта Шмидта!
— В России все может пойти иначе, если мы используем опыт Коммуны и найдутся люди, подобные Шмидту.
— Они, видимо, уже есть, такие люди, раз второй год держится новая власть, да и противник не так глуп, чтобы не учитывать исторический опыт.
Старший офицер улыбнулся:
— Отец Исидор говорит, что все — следствие корысти, злобы людской и потери веры в справедливость.
Они помолчали. Старший офицер окинул взглядом выцветшее небо, паруса, поверхность моря. «Отранто» скрылся, впереди по курсу шла трехмачтовая джонка с громадными четырехугольными парусами. Скоро клипер догнал ее. На высоко приподнятой корме у резного двухсаженного румпеля стояли рулевые корейцы, голые по пояс. Капитан в белой кофте, коротких штанах, босой, казалось, бесстрастно смотрит на чужой корабль, обгоняющий его древнее судно.
— Удивительное сооружение, — сказал командир, — этой конструкции более двух тысяч лет, но какие мореходные качества!
Поговорив о древнем судоходстве на Востоке, они как-то незаметно вернулись к старой теме. Старший офицер спросил:
— Вы не думали, Воин Андреевич, что на Дальнем Востоке могут остаться неоккупированные порты, в Охотском море, например, или на Камчатке?
— Думал и хотел с вами посоветоваться. Даже распорядился, чтобы Герман Иванович разведал на этот счет в своем эфире.
На мостик поднялся Феклин с книгой.
— Спасибо, брат, — сказал командир, — неси назад «Историю величия и падения Рима». Я дочитал ее ночью, да и не до Рима нам сейчас.
— Так точно, какой уж там Рим. Разрешите идти?
— Нет, постой. Куда тебе торопиться. Ты скажи лучше, голубчик, рад, что скоро дома будешь?
— До моего дома еще ой как далеко, через всю Сибирь да Россию.
— Но все же?
— Сами знаете, какая она радость. Пополам с горем, да все один конец.
— Так, так. Ну а если бы, скажем, нам пришлось изменить курс и податься подальше от опасности. Англичане-то нас схватить хотят.
— Известное дело, да уж один конец. Матросы не согласны будут, если снова куда в сторону. Разговор об этом каждый день на баке. Есть, конечно, народ осторожный, тем хоть куда, лишь бы шкуру сохранить, да таких раз, два и обчелся, а все остальные, самая сила — ждут не дождутся, когда наша земля покажется. И что там будет, кому что положено, то и примем.
— Ну-ну, Феклин. Рассуждаешь ты правильно. Мы вот с капитан-лейтенантом того же мнения.
— Мы знаем, — сказал вестовой, — и потому все, как один, если что…
Концы в воду
В девятом часу вечера Стива Бобрин вытащил из ящика стола клеенчатую тетрадь, раскрыл ее и, взяв карандаш, поставил дату и ниже написал: «Скоро решится все. На щите или со щитом! Медлить нельзя. Настает долгожданный случай…»
Дверь отворилась. Боком вошел машинист Мухта и остановился, закрыв собой весь дверной проем. Бобрин укоризненно покачал головой:
— Опять заходишь без стука?
— Чего стучаться — не барышня. Звал?
— Да, я просил унтер-офицера Бревешкина…
— Он и передал. Что у тебя? Все фигли-мигли разводишь?
Стива опять болезненно поморщился.
Мухта понял:
— Не нравится, что простой машинист «тыкает»? А ты привыкай. — Мухта повысил голос: — Когда настанет царство свободы без власти, тогда при всеобщем равенстве не будет никакого «выканья».
Стива замахал руками:
— Тише! Ради всех святых!
Машинист понизил голос:
— Святых не призывай, предрассудок это и засорение идеологии. Когда?
— Скоро, Мухта, скоро. Как у тебя, все в порядке?
Мухта уставился на него, скривив губы:
— Э-эх, парень, резину тянешь. Надо действовать, а то у нас типы появляются, одного пришлось списать за борт сегодня ночью: сдрейфил, с доносом хотел идти.
— Белкина? Так он не сам упал?
— Помогли малость. Ну, когда?
— Перед подходом к заливу Петра Великого.
— Ой, упускаем время, голубь!
— Скорей нельзя, некому будет нести вахту. Кроме меня, не будет офицеров.
— Дотянули бы без них. Боцманов поставили бы.
— Не смогут.
— Жалко, угля нету. Будь они прокляты, эти паруса, только тормозят ход эпохи. Скоро залив твой?
— Дней через семь — восемь при свежем ветре. Можешь идти. На днях еще вызову.
— Не беспокойся, сам приду и уйти тоже сам уйду. Ты вот лучше скажи, что в стол сунул, что за книжка?
— Тетрадь.
— Дай сюда!
— Это личное, дневник.
— Давай, давай свой дневник. Кто уполномочил записи делать? Обращался к революционной массе?
— Зачем? Это личное.
— У нас ничего нет личного, запомни! — Мухта, оттолкнув Бобрина от стола, достал дневник и стал читать, бросая мрачные взгляды на обескураженного Стиву. Закрыв тетрадь, он ударил ей по столу, сказав: — Ух и завихряет тебя, барин! Да если эта пакость им в руки попадет раньше времени — расстреляют, гады. — Он отвинтил барашки у иллюминатора, раскрыл его и, швырнув за борт дневник, спросил:
— Как артиллерист? Все кобенится?
— Да. Вообще он сильно изменился. Считает восстание ненужным, даже вредным.
— Ишь ты, вредным. Все это по идейной отсталости. Бунт никогда не вредит. Через бунт обретем право свое! Понял? То-то!
— Безусловно… ясно… хотя…
— Не вижу, чтобы тебе особенно ясно было. Что это за «хотя»? Никаких «хотя», и баста! Что плечиками поводишь, как гимназистка? Ничего, мы тебя поставим на рельсы, подкуем в теории, и будешь настоящим боевиком. Ладно, помолчи! Своим монархистам — ни слова. Народ ненадежный — трепачи. Раззвонят. Потом привлечем к деятельности. И Новикова брось агитировать. Сам присоединится, как увидит итог. Понял? Молчи и обдумай мои слова. Все! — Не прощаясь, машинист грузно повернулся и вышел, сильно хлопнув дверью.
Стива вскочил. Все в нем клокотало от ярости: «Как смел этот наглец, хам так разговаривать? Вырвать из рук и выбросить дневник, в котором отражена вся моя жизнь, записаны мысли! И этот наглый тон…» Но Стива только притронулся к дверной ручке и отошел к дивану. Упав на него, он стал утешать себя тем, что лишь только он займет место командира, то все припомнит Мухте. «Брошу в канатный ящик и выдам властям, — решил он, — анархистов не любят на судне. Сразу же скручу их в бараний рог! Сейчас ссора не ко времени. Этот „идейный убийца“, как называет его Новиков, мог разорвать все нити заговора, спугнуть драгоценный случай, которого я так ждал многие годы». Он самодовольно улыбнулся: нет, на этот раз он использует случай, возьмет все, что заложено в нем, и даже больше!
Стива Бобрин всегда помнил последнее свидание с отцом, тоже моряком, вышедшим на пенсию. Стива был у него единственным сыном, жена умерла несколько лет назад. Жил он в Балаклаве, в небольшом домике под опекой своего старого вестового Лукина, тоже отслужившего более тридцати лет на флоте. Сидели на террасе. Стояла осень, бухта в сиреневом свете заката недвижно лежала внизу с застывшими на ней шаландами и старой шхуной, стоявшей на якоре. Лукин принес тарелку винограда и бутылку молодого вина, разлил вино в стакан и в две кружки с отбитыми ручками. Выпили. Отец, задумчиво глядя вниз, на бухту, побарабанил пальцами по столу, крякнул и сказал:
— Степан! Не знаю, удастся ли нам свидеться. Нет, нет, хотя и война, но тебя бог сохранит, я о себе, сдает сердце, но это на всякий случай, может, и дождусь твоего возвращения. Мне хочется сказать тебе несколько слов, расценивай как хочешь, но учти опыт старого отца. К сожалению, мы пренебрегаем опытом старших и потому повторяем их ошибки. Ты знаешь, что мы с Лукиным были не последними моряками, и вот итог: этот «сервиз», пенсия, угол — и все.
— Палат каменных на флоте не наживешь, — сказал Лукин хриплым басом, — хотя бывали случаи. Вот у нас в Кронштадте…
— Помолчи, Егор… Между прочим, все могло быть иначе, я, мог сделать карьеру и, наверное, сейчас носил бы орлы на погонах, да упустил случай.
Стива знал об этом случае, как помнит себя. Отцу предлагали выгодную должность в морском штабе, но он отказался оставить корабль. Человек, который занял его место, сейчас контр-адмирал.
Все же отец повторил всю историю и продолжал:
— Конечно, мы были напичканы романтикой моря еще в корпусе и создали себе эфемерные идеалы, которые и привели меня на эту «виллу». Погоди, не ерзай, я сейчас закончу. Учти, что в жизни не часто складываются благоприятные обстоятельства, и если они налицо, то используй их. Тут нужна смелость, некоторое предрасположение к риску, а все это у тебя в достаточной мере воспитано. Конечно, здесь не следует нарушать законов чести. Да что я говорю. В этом у тебя твердые устои. Я много жду от твоего плавания на «Орионе». Прекрасный корабль, капитана я не знаю, но слышал, что достойный человек, старший офицер также…
«Смелость — риск — удача» — стали девизом Стивы Бобрина. Он изнывал, ожидая случая, чтобы рывком выйти вперед, обойти однокашников, а случая все не подворачивалось, наоборот, благодаря случайности где-то в дебрях морского ведомства затерялся приказ о его производстве в мичманы, и он третий год плавал стажером, «вечным выпускником» старшей роты Морского корпуса. Не радовало его и хорошее отношение командира, который, не ожидая производства, доверил ему самостоятельную вахту и приказал выплачивать офицерское жалование.
— Видимо, неудачи родителей, как и болезни, передаются детям, — как-то сказал он Новикову.
На это артиллерийский офицер ответил, кривя тонкие губы:
— Богатство к богатству, к болячке — хворь, а посему выпьем…
Бобрину казалось, будто Новиков испытывал злорадное удовлетворение, что есть человек, жизнь которого складывается еще хуже, чем у него самого.
Бобрин пил редко, тоже следуя совету отца, и с ненавистью смотрел на Новикова. Общество этого человека не могло принести ничего хорошего, и еще Стива верил, что несчастья прилипчивы, как зараза, и Новиков в чем-то виноват в его незадачах. На корабле деться было некуда. За столом они сидели рядом, жили в каютах через стенку. И между ними невольно возникла дружба. Дружба странная, питаемая неприязнью друг к другу. В минуту откровенности Бобрин поведал Новикову свои жизненные принципы и виды на будущее.
— Не густо, — сказал Новиков, — все же зацепка есть, одним словом, «используй миг удачи», следуй по стопам пушкинского Германа. Кто не шел и не идет этой дорогой? Только, мой друг, вы совершили глубочайшую ошибку: с такими замыслами да на парусник! Сейчас не времена Очакова и Синопа. Ну, какой вам может подвернуться случай выдвинуться из общей серой массы? Да еще в наших плаваниях. Разве погибнете геройской смертью, спасая матроса, или пойдете со всеми нами на дно от немецкой мины или снаряда. Детские мечты, мой друг, а посему выпьем…
Февральская революция, падение самодержавия, Временное правительство вернули Стиве Бобрину уже потускневшие надежды на карьеру и славу. Теперь они с Новиковым часами говорили о «новой эре» Российского государства. Новиков тоже увлекся открывающимися возможностями проявления личности в новых условиях, «свободы, равенства и братства». Тогда на баке и в кают-компании шли бесконечные разговоры о будущем России, смело решались все «проклятые вопросы». В разговорах люди находили отдых от раздирающих сомнений, тревог, разговоры заменяли жажду деятельности и на пользу и во вред России.
Между тем война продолжалась. «Война до победного конца!» «До последнего русского солдата» — так перефразировали этот лозунг матросы на баке «Ориона».
Октябрьская революция привела в смятение весь экипаж клипера, кроме горстки большевиков, ждавших вооруженного восстания рабочих.
Бобрин и Новиков в эти дни стали ближе друг другу. Не понимая грандиозности Октябрьской революции, ее значения для хода мировой истории, они расценили ее как бунт черни, восстание против священных устоев нации, то есть собственности, старых законов и установлений.
Новиков подал рапорт (отклоненный командиром) «о переводе в армию, сражающуюся с большевиками и им подобными». Бобрин не подал такого рапорта это был не тот случай, какого он ждал. Оставить клипер и сложить голову от пули русского мужика не входило в его расчеты.
«Надо еще подождать», — решил он, вместе с Новиковым возмущаясь диктаторскими замашками Мамочки, не разрешающего бороться с большевиками. Тут впервые у друзей зародилась мысль, что командир симпатизирует красным.
Встреча с обольстительной продавщицей перчаток отодвинула на второй план все события в мире, оставив неутолимую жажду славы ради Элен, чтобы быть достойным ее.
Он предложил Новикову написать письмо к адмиралу сэру Эльфтону. В случае успеха, а тогда он казался стопроцентным, Стива сразу мог стать заметной фигурой среди довольно безликой массы русских офицеров, прозябавших в английских портах. Стива, зная падкую на сенсации английскую прессу, уже видел жирные заголовки над статьями о своем «подвиге» и свои портреты на первых страницах «Таймс».
Позорный провал с письмом был первым страшным ударом для Стивы. Как человек впечатлительный, он — ждал смерти. Будучи на месте командира, он, конечно, не пощадил бы человека, попытавшегося противостоять его воле. Да и Новиков поддерживал мысль о военно-полевом суде. Когда гроза миновала, Стива мгновенно преобразился и, по определению того же Новикова, «приобрел ранее скрываемую наглость».
На это гардемарин пожал плечами и улыбнулся, скривив пухлые губы.
— Нет, это просто чувство собственного достоинства, которое я умалять никому не позволю. И теперь мне вообще безразлично мнение этого человека о моей персоне. Его аттестация сейчас может только повредить. Лучше находиться в оппозиции к этому красному командиру.
— Зря поднимаете хвост, Стива. Где ваша выдержка, иезуитское смирение, которым вы одно время блистали! Если прежде ваше хорошее поведение нужно было для аттестации, то теперь оно не менее важно. Вы должны выглядеть лояльным к своему командованию и даже при случае подпустить капельку раскаяния.
— Цель?
— Мы скоро войдем в воды, контролируемые англичанами, будем идти мимо их колоний. И тогда ваша «надежность» в глазах командования может быть чрезвычайно полезной.
— Вы считаете, что я не думал об этом?
— Тем более.
— Ну уж нет! Конечно, на рожон я не полезу. Но только буду корректен без всяких там подлизываний, на большее я не способен.
— Способны, и еще как.
Бобрин, сузив глаза, сказал:
— Чем учить меня, вы сами таким путем добивайтесь расположения этих людей.
— Пустой номер. Меня знают как облупленного. Подлый характер. Нелюдим. Зол. Единственное, на что способен, — это стрелять. Да и то какая стрельба из наших двух пушчонок, разве по чайкам картечью. Так что я не могу конкурировать с вашей обаятельностью. К тому же знаете, какого хорошего мнения о вас Мамочка?
— Разве?
— Сам удивляюсь, но факт. Мой олух вестовой слышал от Феклина.
— Да? Скажите, пожалуйста, вот не ожидал!
— Тем, надеюсь, приятней. Феклин, извините, назвал вас Белобрысеньким, думаю, что для вас не секрет, что под этим прозвищем вы популярны среди матросов?
— Впервые слышу, и как вы можете передавать это хамское отношение к офицеру?
— Но-но, Стива! Все надо знать о себе. Так, Феклин, передавая слова командира, говорил, что Мамочка считает вас отличным, многообещающим моряком. Правда, с ветерком еще в голове, увлекающимся идеями, но кто, говорит, не увлекается в его годы. Феклин еще добавил, — Новиков сказал, подражая вестовому: — «Чистая бумага наш Стива, пиши чего хошь!» Во какой вы непорочный. Между прочим, справедливо отмечалось мое плохое влияние на вас. Учтите и меньше вникайте в мои желчные рацеи. Ух и болтлив что-то я стал последнее время. Это уж под вашим влиянием. Ну, выпьем, мой непорочный друг!..
Появление барона фон Гиллера на клипере оказало очень большое влияние на формирование личности Стивы. Барон фон Гиллер говорил при каждом удобном случае, что он, Стива, один из тех немногих людей славянского происхождения, которых необходимо привлечь для создания «великого общества». Бредовые идеи Гиллера Стива воспринимал как откровения пророка. Сам не зная того, он ощупью приходил к там же выводам, пленный немецкий офицер лишь ускорил этот процесс, избавил от раздумий, вложив в голову Стивы простую и ясную мысль, что люди не равны, есть господа, их не много, и есть рабы — их масса. Рабами, естественно, должны управлять господа, что и делалось испокон веков, но в последние столетия благодаря тлетворному влиянию социальных идей в мире нарушается гармония, пришла пора ее восстановить на новом, высшем уровне.
Единственное, с чем Стива не мог согласиться, так это то, что главенствующую роль в создании «великого общества», должны играть тевтоны, и сказал об этом Новикову. Артиллерийский офицер внимательно посмотрел на него:
— Если так дело пойдет и дальше, то вы перещеголяете немца. Вы еще не раскрылись полностью и для себя и для окружающих. Барон чрезвычайно прямолинеен в своп к действиях, питает презрение ко всему, что не соответствует его понятиям, ко всем племенам и расам, кроме арийской, почему-то нас, славян, он считает низшей расой, и это презрение, переоценка своих данных и недооценка окружающих чуть было не стоили ему головы. И еще он беспредельно нагл, в храбрости ему тоже не откажешь, но наглость — его отличительная черта. И еще, конечно, умен, только ум у него какой-то однобокий, как у всех маньяков. Ведь он даже вас провел и чуть было не использовал в своих целях!
— Когда?
— Скажу. Если бы вы не напились этого «мухомора» — напитка бога Шивы, то…
— Думаете, пошел бы на абордаж в бухте Тихой радости? Нет уж, извините!
— На этот раз извиняю. На абордаж бы он вас не погнал, вы были ему нужны для управления парусами клипера в случае его захвата. Ну как? Я не прав?
— Конечно! Я не мог пойти на явную измену, перейти на сторону пиратов!
— Врете, Стива. Перешли, если бы знали, что есть шансы очутиться на «Саффолке». Я наблюдал за вами, когда вы увидели барона на мостике среди англичан. Ну что?
Стива молчал, закусив губу. Как он ненавидел сейчас этого прозорливого пьяницу!
— Ну, не сердитесь, — как-то совсем мягко сказал Новиков, — вы же знаете, какой я циник, мало чего приятного нахожу в жизни, и все-таки кое в чем относительно вас я согласен с Мамочкой. Толстой где-то, не помню, писал, что нет абсолютно хороших и плохих людей, так — середка наполовину, и вы можете выровняться, если захотите, в этом главное различие между вами и бароном. Тому уж не выровняться.
— Оставьте, Юрий Степанович, этот тон старой няни.
— Извольте, а посему выпьем…
Стива потянулся, сидя на диване, он еще никогда не казался себе таким сильным, смелым, удачливым. От его воли зависела судьба экипажа, корабля и его, Стивино, будущее. Он с силой ударил кулаками по пружинящей коже дивана, вскочил и, заложив руки за спину, зашагал по каюте — четыре шага от двери до Портовой стенки и назад к двери. Он репетировал свое первое появление на мостике в роли командира: «Матросы стоят на шканцах. Убраны все верхние паруса, и клипер торжественно движется по спокойному морю (в эту пору штормы здесь редки). Я останавливаюсь, глядя на озадаченные физиономии матросов, и говорю…»
В дверь заглянул Нефедов. Стива было накинулся на него:
— Какого черта! — Но тут же спохватился: нельзя обострять отношения с нижними чипами в такие минуты. — Ну, что? — спросил оп недовольным тоном.
— Да так. Думаю, может, чего надо…
— Спасибо, ничего пока. Постой! Зайди! Закрой дверь. Садись.
— Можем и постоять, но, раз приглашаете, можно и сесть, хотя, как вас стал нянчить, только лежишь да сидишь…
— Нянчить!?
— Ну не совсем нянчить, а все уход, как за дитём.
Стива опять чуть было не вспылил и, сдержавшись, сказал:
— Ты оставь это. Какая ты мне нянька! Вестовой — и только. Я уже давно должен ходить в звании лейтенанта, а если бы плавал не на этой деревяшке, то и старшего. В войну производство идет быстро… Конечно, не будь революции.
— Ничего, еще чины будут. Было бы на чем погоны носить.
— Ты что мелешь?
— Да как же, Степан Сергеевич, время-то, сами знаете. Герман Иваныч только что говорил, что у нас страшенные бои идут! Попадем в самое пламя, вспомним еще наш тихий клиперок, хотя и он уже стал не тихий.
— Ты что причитаешь, Сила? Я не узнаю тебя, бывало, слово не выдавишь из тебя, а сейчас — оратор!
— Сам удивляюсь. Будто язык подменили, и в голове мысля шевелится. Наверное, от пустой моей жизни. Когда был настоящим матросом, тогда думать было некогда, на реях наломаешься, до палубы доберешься, только и думы, как бы прикорнуть да чарки дождаться. — Нефедов повел рукой. — Да сейчас и все думать стали, потому многое самим решать надо. Раньше что — барин или староста рассудят, а теперь, выходит, сам должен решать, каким идти течением в жизни.
Стива насупил брови:
— И ты попал под влияние большевиков! В философию пускаешься! Вот что, Сила, запомни и другим передай, что все эти разговоры о Советах и какой-то особой свободе — пустое дело. Будет все, как в пятом году. Ни мы, ни союзники наши не дадим погибнуть России. Все будет, как прежде, конечно, более организованно и справедливо.
— Хорошо бы, Степан Сергеевич, — вестовой вздохнул. — Оно бы спокойней, да народ с узды сорвался, как говорит Зосима Гусятников, прямо удержу нету.
— Ну, хорошо, оставим это. Скажи лучше, что говорят на баке?
— Разное говорят, а все к одному идет: прежнего уже не будет.
— Опять про старое! Ну, а какие новости? Что говорят про того электрика, как его?..
— Белкин! Да что говорить — свои сбросили за борт. Вот оно что получается. С Мухтой не поладил — и сбросили беднягу. И надо же, человек он был хороший, совестливый. Мутят что-то на юте анархисты. Слух пошел… — Нефедов с опаской покосился на дверь.
Стива привстал от нетерпения:
— Ну что? Что говорят?
— Будто и вы стакнулись с анархией…
Стива плюхнулся на диван, чувствуя, как весь покрылся липким потом. «Неужели все пропало?» — подумал он и крикнул срывающимся голосом:
— Вранье! Брешут! Не верь. Скажи там, на баке, что неправда это…
Нефедов с укоризной посмотрел на него:
— Мухта только от вас вылетел сейчас.
— Вылетел, говоришь? Так это я его направил, приходил со своей агитацией, книги предлагал. Я его в шею!
Нефедов недоверчиво спросил:
— В шею, говорите? Такого-то да в шею?
— Не веришь?
— Ну, раз вы говорите, как не поверишь. Все же сволочь он паскудная, зверь. Когда бой был в бухте, Мухта раненого малайца ногами затоптал до смерти. Хоть и разбойник, а ведь раненый. Так он ему сапожищами голову размозжил. Ужасно было смотреть. Я кинулся, на юте дело было, хотел отнять, да тот уже мертвый. Не водитесь вы с ним, ну его к чертям собачьим. Подлец он. Убили они Белкина. Он со своим Свищем, больше некому.
— Может, Белкин сам за борт свалился, зачем говорить бездоказательно.
— Так не бывает, чтобы без крику человек упал, да в падать в такую погоду, в тишь — немыслимо. В бурю не падал, а тут упал, как камень. Всплеск под утро вахтенные слышали на юте. Вот оно что, Степан Сергеевич. Хуже не придумать. Человек погиб прямо, можно сказать, на пороге дома. Не приведи бог никому такое.
— Хорошо, иди, мне отдохнуть надо перед вахтой. Слухам не верь. Для чего мне связываться с анархистами? Ты же знаешь, что я против разбоя и за твердую власть. России нужен сильный правитель, такой, как Петр Великий!
— Оно бы, может, и ничего было, если бы такой нашелся, да Громов говорит, что из всех царей за триста лет, что были Романовы, только один и объявился такой. Может, с царями и взаправду похерить дело, а держаться за народную власть?.. И вам бы, Степан Сергеич, присмотреться да прислушаться, что Громов и Лебедь говорят, а не этот Мухта проклятый. Один раз вы уже обмишулились, как бы снова не попали в еще худшую передрягу.
Стива побагровел. Сейчас можно было не сдерживать «справедливого» гнева, который копился весь вечер и не находил выхода.
— Агитировать пришел? Учить? Вон, скотина!
Нефедов поднялся:
— Уйду и не приду боле. Стыдно и горько за вас. Ищите другого лакея.
— Постой! Ты всерьез?
— Всерьез!
— Ну, пшел к черту! Скоро…
— Что скоро? Думаете, на брюхе приползу, так не надейтесь. Я-то думал… а вы, видно, без нутра, как тот немец.
— Погоди. Ты что говоришь, да недоговариваешь, что там еще за сплетни обо мне? Ну… Не сердись, Сила. Мало ли что бывает между своими. Ну погорячился, сам говоришь, что время такое. Сядь! Вижу, что не все сказал. Выкладывай!
— Э-эх, замарана у вас корма, видно, Степан Сергеевич, а я вам чистить ее боле не буду! Падайте лево на борт… — И он вышел из каюты, оставив Стиву в полном смятении.
В ото время Мухта проводил собрание своих сообщников. В кубрике находилось более двадцати матросов. Было душно — иллюминаторы задраены. Голос Мухты глухо слышался в низком помещении:
— Дотянули! Откладывать больше нельзя. Все напортила нам большевистская фракция. Сколько раз были возможности превратить наш «осколок царской империи» в оплот мировой революции! Осталось не больше недели до Владивостока, а там крышка!
— Конец!
— Хана! — как вздох послышались голоса.
— Да, там мы попадем в лапы к интервентам, хотя мы и везде сможем поднять восстание, наши сейчас есть повсюду, во всех армиях и странах!
— С большевиками разговаривал?
— Говорил сегодня с Лебедем и Громовым — отказались. Хотят вести борьбу против интервентов и буржуазии на берегу. Призывали присоединиться к ним. Сказал, подумаем. Конечно, чтобы не вызвать подозрения. Белкин, кажись, успел брякнуть. Так что, товарищи анархисты-боевики, ждать мы не можем, думаю, начать завтра! Захватим корабль, скрутим всю контру. Кто не с нами — тех за борт, и повернем на революционный простор! Пойдем по всем странам. Понесем наше черно-красное знамя! Сейчас мир как сухая солома! Довольно искры, и вспыхнет пожар и охватит весь шарик… — Он замолчал: открылась дверь над входным люком, и Свищ, стоявший на стреме, стал спускаться, насвистывая: «На Молдаванке шухер завязался».
— Там эта белобрысая контра рвется, — сказал он. — Пускать? Да вот она и сама! Давай, не оступись, соратничек!
В кубрике пахло керосиновой гарью — лампа с закопченным стеклом покачивалась под настилом верхней палубы.
Стива, не различая лиц заговорщиков, но чувствуя на себе их взгляды, сказал, задыхаясь:
— Все пропало! — У него перехватило горло. — Они все знают… Мы раскрыты!
— Без паники, — сказал Мухта. — Сидеть тихо. Матросы — к себе! Выходить с разговорами, со смехом. Решение всем сообщат… Ну что? Откуда узнал?
Стива, запинаясь, глотая слова, рассказал о разговоре с вестовым.
Мухта расхохотался. Облегченно засмеялись и другие.
— И только? — спросил Мухта. — Да мало ли что о нас говорят и думают. Нам надо действовать, и побыстрей. Понял? Нефедова не отстранять! Попроси у него прощения! Хорошенько попроси, пусть при тебе будет, а мы за ним присмотрим, и за тобой тоже присмотр будет. К нам ни ногой. Большевички, наверное, опять накололи это твое посещение к нам. Лишних разговоров не надо. Сами будем тебя ставить в известность. Насчет всего. Еще одна просьба, заметь, мы не приказываем пока, только просим — поговори с Новиковым, можешь даже пригрозить слегка, но чтобы не спугнуть и не обернуть совсем против нас. Вот и все, ребята! Ни у кого нет предложений товарищу гардемарину? Нету! Пока! Иди, уже третий час пошел, скоро тебе заступать на вахту.
Как только захлопнулись двери люка, Мухта сказал:
— Дело серьезное, братишечки анархисты-боевики. Хоть мы и осмеяли Белобрысенького, а пахнет керосином. Завтра будет поздно. — Он сделал паузу и прошептал: — Выступаем сегодня на его вахте, — Мухта боднул головой вверх, — как только пробьют первую склянку. Понятно? Ну что затихли?
Свищ прихлопнул в ладоши:
— Переживаем, брат! Такое известие — дух захватывает у боевиков! Сколько ждали, и вот — пожалуйста! Погуляем, братишечки, снова в теплых морях, да не так, как с этими офицериками! Пощупаем мировую буржуазию! Подожжем соломку мирового пожара и сами на огоньке с девочками погреемся! Так я говорю, командир?
— Закрой поддувало! Пусть другие скажут, если есть что сказать.
Другие подавленно молчали.
Стива лег на диван не раздеваясь, до вахты оставалось около часа. В ушах еще звучал издевательский смех анархистов, перед глазами проплывали их лица. «А не послать ли все к черту?» — подумал он и улыбнулся своему малодушию. Сейчас, когда он лежал на мягком диване, плавно покачивающемся под ним, и слушал меланхолический плеск волн за бортом, все происшедшее казалось малозначительным, пустяшным эпизодом, издержками в большой игре, которую он вел. Действительно, Мухта держит себя безобразно и явно оттирает его на второй план. Стива снова улыбнулся, представив себе звероподобного машиниста в роли командира, а Свища старшим офицером. «Получится настоящий пиратский корабль», — подумал он, не подозревая, что разгадал их замыслы.
Он погрузился в чуткий сон, готовый вскочить от легкого прикосновения вестового и с первым ударом в рынду подняться на мостик. Сквозь сон с палубы доносился шум, топот, удары, похожие на выстрелы. «Шквал. Прозевал Горохов», — определил Стива. Клипер стал мягко катиться по скату волны, и Стива очутился в тропическом лесу. Он, задыхаясь, продирался сквозь густые папоротники, лианы душили его. Он плыл в густой, как тина, воде и, выйдя! на берег, очутился в Балаклаве, увидел на пустынной улице отца с корзиной баклажанов. Они разминулись, не поздоровавшись. И опять тропический лес. Поляна. На ней знакомый дом: магазин перчаток. Стива не удивился, как всегда бывает во сне, каким образом попал сюда дом Элен. В лавке было пусто — ни одной коробки перчаток. Элен стояла на прежнем месте за прилавком и печально сказала:
— Все, что осталось после, вас, купил Мухта, и я вышла за него замуж.
— Как же Фелимор? — спросил Стива и подумал: «Как же я?»
Элен ответила:
— Я люблю Мухту, — и заплакала.
И кто-то сказал:
— Вставайте, Степан Сергеевич. Скорее!
У дивана стоял Бревешкин. Даже при зеленом свете ночника было заметно, как он напуган, в его рачьих глазах застыл ужас.
— Вахта наша через склянку. Слушайте, какое дело. Кочегарье проклятое, анархия, мать се…
— Давай без матюгов.
— Есть! Бунт затевают. Мне Тимохин Димка сейчас сказывал, тоже с нашей вахты, марсовый, к анархистам, сука, переметнулся.
— Да что случилось? — Уже совсем пришел в себя Бобрин и понял, с чем пришел Бревешкин.
— Через сорок минут они всех порешить хотят. Димка сказал, что вы все знаете, и вот я к вам…
— Молодец! — На Стиву нашло прозрение. «Вот он, тот случай, когда от секунды промедления зависит самое главное — жизнь!» И он решился: — Иди к Горохову, живо пусть играет боевую тревогу.
— Да как же?
— Скажи, что передал Бобрин, приказ командира!
— Есть! — понял Бревешкин и вылетел из каюты.
Когда Стива вошел к командиру, там находился Громов.
— Извините! Чрезвычайное сообщение! На корабле готовится бунт.
В это время бешено зазвенела рында.
— Что такое? Уже? — командир посмотрел на Громова и выхватил револьвер.
Стива сказал, чеканя слова:
— Нет. Бунт назначен через тридцать пять минут. Я от вашего имени приказал объявить тревогу.
— Вы? Голубчик! Отлично! Это спутает их планы. Вот и Громов принес мне те же прискорбные вести…
Стиву будто прорвало, дрожа как в лихорадке, он перебил командира, хотевшего еще что-то добавить:
— Разрешите немедленно арестовать зачинщиков — Мухту и Свища?
— Да, да, голубчик! Сейчас же арестуйте. Громов!
— Есть!
— Возьмите свое отделение и следуйте с вахтенным начальником.
— Есть!
— А мы, Феклин, идем на мостик.
Феклин с первыми ударами рынды уже стоял в каюте с фуражкой и плащом. Воин Андреевич машинально взял и Иадел фуражку, а плащ отстранил рукой:
— И так, голубчик, жарко.
Феклин пошел следом, держа плащ.
На палубе было тихо и душно, волнение улеглось, казалось, корабль остановился посреди моря, залитого золотистым светом заходящей луны. Темное золото пропитало паруса и снасти, рулевые казались тоже отлитыми из золота или бронзы и были непомерно большими.
У трапа, в густой тени, командира встретил старший офицер и громко отрапортовал, что все подразделения на местах но боевому расписанию.
— Хорошо, хорошо. — Он отвел его в угол мостика. — Я приказал арестовать Мухту и Свища, извините, без вас — не было времени. Вот список, прикажите и этих взять под стражу! Бунт! Коля, дорогой, у нас! Уму непостижимо! Действуйте!
— Кто берет Мухту?
— Бобрин!
— Не может быть!
Из машинного отделения глухо донеслись два револьверных выстрела…
По боевому расписанию Мухта и Свищ находились в машинном отделении, хотя топки были погашены и весь клипер освещался керосиновыми лампами. Здесь же стояли и сидели почти все кочегары и машинисты.
Молчали, прислушиваясь к звукам, доносящимся с палубы.
Свищ зашептал:
— Дознались, гады… Идут! Топают! Прикладами цокнули!
— Закрой хайло! — гаркнул Мухта, вытаскивая револьвер. — Оружие приготовить! Уничтожим тех, кто идет, а потом — по расписанию. В темноте мы их живо перекокаем. Только смотрите мне, Белобрысенького не попортить!
Появление в кубрике Бобрина во главе отделения вооруженных матросов парализовало всех заговорщиков, кроме Мухты и Свища.
Свищ спросил, держа руки в карманах:
— Вы чего, братишечки? Заблудились?
Стива сказал, поводя перед собой наганом со взведенным курком.
— Мухта, Свищ! Вы арестованы! Взять их!
Мухта молча вырвал руку из-за спины. Стива успел нажать на спуск на сотую долго секунды раньше, чем мог бы это сделать Мухта, не будь тяжело ранен первой пулей и убит второй. Свища схватили матросы, хотя он и не думал обороняться:
— Меня за што, братишечки? — говорил он тихо, задушевно. — Ну что я сделал? Все это Мухта-покойничек. Вот ваш офицерик не даст соврать, что я был против и все ребята против. Мы хотели сами прибрать Мухту, да вы появились. Шум подняли. Это он кокнул Белкина…
Громов, наклонился, взял Мухту за руку, подержал, опустил:
— Мертвый. — И глядя на Стиву: — Зря вы второй раз стреляли. Мог бы кое-что сказать, а теперь — концы в воду.
Родные берега
Стояла теплая, почти тропическая ночь, хотя «Орион» шел Японским морем, приближаясь к родным берегам. Такая погода случается на Дальнем Востоке в конце августа, когда море щедро отдает тепло, накопленное летом, и дуют жаркие южные ветры.
За кормой стлалась голубая светящаяся лента, почти такая же яркая, как в Яванском море. Только за бортом в глубине не появлялись тусклые шары фосфоресцирующих медуз и не шлепались на палубу крохотные кальмары, как нередко случалось в ночные вахты в тропиках.
На клипере никто не спал, хотя приближалась полночь. Все ждали, когда покажется земля, «теперь уж наша», говорили матросы.
Ровно в 24 часа, когда Роман Трушин отбивал склянки, впередсмотрящие срывающимися голосами прокричали:
— Огонь слева по носу! Земля! Маяк показался! Старший офицер, сдав вахту лейтенанту Горохову, остался на мостике, здесь же находился и Воин Андреевич.
Далеко на невидимом берегу порывисто вспыхивал и угасал маячный огонь. Вся команда молча, как зачарованная смотрела на свет с родной земли.
Ветер дул ровно и почти не ощущался на палубе. Пела вода на форштевне, иногда слышался всплеск легкой волны о борт, да раздавался чей-нибудь тяжелый вздох. С новой силой нахлынули и радость и сомнения, возникали перед мысленным взором милые сердцу лица и картины, навеянные слухами и порожденные собственной фантазией.
Неожиданно в тишине раздался звонкий голос Лешки Головина:
— Дядя Спиридон, а сколько верст будет до маяка, как ты думаешь?
Зуйков закашлялся, затем ответил сконфуженным сиплым голосом:
— Ну что вопишь?..
— Верст, спрашиваю, сколько?
— Оглушил совсем. Верст, верст! Эх, Алеха! Плаваешь ты по всем морям, просолел весь, как астраханская селедка сухого посола, а море на версты меряешь.
— Ну, миль, ошибся. Сами-то что кричите на весь клипер? — Теперь юнга сконфузился. — Миль пять будет?
— Может, и будет, а то все десять. Давеча Герман Иванович говорил, что маяк на скале стоит, высоко над морем, а с высоты еще дальше можно увидеть.
Опять настала тишина, кто-то засмеялся и быстро оборвал смех, почувствовав, что он не уместен в такую торжественную минуту.
Опять заговорил юнга, но только шепотом:
— Ну и перепутал версты с милями, потому что все разговоры о земле, а землю чем меряют?
— Понятное дело, — отозвался Зуйков, — да ты не принимай к сердцу, позору тут нет никакого, что верста, что миля, только миля, она подлинней. Я вот тоже про милю помню, а все в уме на версты ее перевожу. Эх, Алеха, дома ведь почти уже, а! Чувствуешь? Вот ты что бы хотел, как на свою землю ступишь?
— Не знаю… По земле побегать… С ребятами встретиться, поговорить…
— Все так. Ну а самое первое что? Не знаешь? То-то и оно. Самое первое, Алеха, отправимся мы с тобой в баню. Да с веничком, да с парком пройдемся по грешному телу. Ух, хорошо! Смоем копоть с души и тела и возьмемся за настоящую работу.
По палубе прошел одобрительный шепот. Назар Брюшков сказал:
— Я последний раз в финской бане мылся два года назад, когда в Гельсингфорсе стояли. Ничего баня. Кто из вас в кабак, а я — в баню, — в голосе его слышалось превосходство над бесшабашной матросней, — и деньги сберег и попарился.
— Чище не стал, — заметил Зуйков.
Его поддержал Зосима Гусятников:
— Черного кобеля не отмоешь добела.
Матросы засмеялись. Гусятников продолжал, но уже другим тоном, умиротворенно:
— Если про баню говорить, то лучше ее нету, как у нас на Севере. Бани у нас просторные — хоромы. На задах, у речки. Не какие-нибудь там финские, а русские, особенные. Топим мы их по-черному.
— Серость! — проронил Брюшков.
— Постой, Назар. Не серость, а мудрость и соображение. Ты слушай. Так вот, когда баня натопится, раскалится каменка, дым выйдет, первым паром очистится воздух, тогда банька закрывается и дух в ней такой, как в кедровом лесу в сухое лето. И всего тебя жар обнимает, пронизывает и холит. Во! Возьмешь веничек да заберешься на полок, и как обдаст тебя жаром, дух захватывает. Любой француз или англичанин как рак сварится в таком духу, а тебе ничего, только необыкновенно хорошо. Как напаришься — ив речку, хоть летом, хоть зимой, а не то в снежок. Хорошо! И никакая хворь не берет, никакая простуда. Наоборот, выходит она от пара и жара и особого воздуха. А из холода опять на полок. И как вот так раза три обернешься — и будто десять лет сбросил.
От мачты до мачты прошел веселый гул голосов, потом говор стал тише, невнятней, беседа потекла уже не для всех, а только для своих; кто-то засмеялся, Бревешкин хрипло выругался: у бизани вахтенные не уложили конец и он в нем запутался. В ответ прокатился добродушный смех и затих.
Над мачтами пролетела стайка птиц, жалобно перекликавшаяся в высоте.
— Кулички плакальщики ночами перелет делают, — сказал Гусятников. — И куда летят?
Никто ему не ответил.
Командир сказал старшему офицеру:
— Действительно, куда летят? И в этих широтах и на юге я обращал внимание и не знал, что это кулики-плакальщики. А вы знали?
— Нет. А тоже не раз слышал, и всегда появлялось какое-то щемящее чувство.
— Да, да, вот именно. Может, поэтому и матросы присмирели? А ведь мы на пороге долга!
— Горящего дома.
— Ну, зачем? Может, все не так плохо…
Помолчали. Затем командир сказал весело:
— Что бы там ни было, а дома! И не зря матросы о бане заговорили. Надо смыть и с тела и с души весь пепел, что накопился за войну. Может, перед новыми передрягами, а надо. — Он продолжал мечтательно: — Поставим «Ориошу» в Амурском заливе — и на берег. Там, помню, где-то возле Семеновского базара есть торговые бани, а затем в «Версаль» — ужинать и спать на твердой земле… — Помолчав, он спросил: — Как думаете, есть телеграфная связь с Севастополем?
— По всей вероятности, нет. Хотя…
Они замолчали. И разговор среди матросов совсем затих.
Новиков и Бобрин стояли на юте, глядя на огонь маяка и невольно слушая матросов. Когда голоса стихли, Стива сказал по-английски:
— Удивительно! Стоим на пороге неизвестности, может быть, завтра примем участие в грандиозных событиях, а эти люди ведут себя так, будто возвращаются с поля в деревню.
Новиков ответил по-русски:
— Мне нравится такая уверенность, что все на месте — и дом и баня, где можно попариться.
— О нет, это не уверенность!
— Что же?
— Проявление тупоумия. Отсутствие чувства ответственности за судьбу России.
— Ого! Чувства ответственности нет, а решать им придется.
— Они только материал, пешки!
Новиков засмеялся и пропел, фальшивя:
— Пешки съели короля!
— Фиглярничаете в такое время! Иронизируете!
Новиков положил ему руку на плечо:
— Не обижайтесь, Стива. Вы должны уже привыкнуть к моему подлому характеру. В чем-то вы правы, в чем-то нет. Да и кто прав во всем? Избегайте делать безапелляционные выводы. Я тоже кое о чем думал последнее время и не могу сказать, как вы, что я что-то открыл, в чем-то убедился. А посему идемте ко мне и отметим счастливое прибытие на восточную оконечность бывшей Российской империи.
— Почему бывшей?
— Ах, Стива, Стива!..
— Опять вы со мной, как с младенцем, разговариваете?
— Отнюдь, приглашаю выпить, как мужа. Постойте! Что это там. горланят матросы?
Впередсмотрящие возвестили, что справа по носу видны ходовые огни двух транспортных судов, идущих на запад.
— Из Японии во Владивосток, — сказал Новиков. — Слетаются со всего света, и не с добром, а за добром, как говорит Зосима Гусятников. Интервенция никогда не была желанной для народа. Ну, идем, выпьем, я спать завалюсь, а вам скоро на вахту. Кажется, с нуля до четырех?
— Будто не знаете! Четвертый год несу «собачью вахту». Вообще такое положение крайне несправедливо: если тебя не повысят в чине и звании, так всю жизнь и неси «собачью вахту».
Неслышно подошел отец Исидор и, стоя в густой тени от парусов, несколько минут слушал тихий разговор офицеров. Неожиданно сказал рокочущим басом:
— Ропщете, юноша, на порядки, а потом удивляетесь сами, откуда растут, корни протеста и смуты у людей низшего звания. Нехорошо!
Новиков засмеялся. Стива Бобрин вспылил:
— Вот именно, нехорошо подслушивать!
— Мне-то? О, юноша! Долг мой в том и состоит, чтобы улавливать мысли людские, и если они не соответствуют морским установлениям и заповедям господним, то вразумлять сходящего с пути праведного, отвращая его от военного трибунала.
— Хватит, отче, — сказал Новиков, — пошли, за компанию выпьем с радости.
— Что не делалось за компанию, какие мерзопакостные дела, но я иду, дабы направить и худое дело на благо. И действительно, ночь-то благостная, тихая, идет клипер наш, будто и не по воде, а в облаках витает — так осторожно море его на себе держит, а ветер устремляет к цели нашего пути.
Они спустились по трапу, и, когда подходили к каюте радиста, из нее поспешно вышел Герман Иванович.
— Есть новости, сын мой? — спросил отец Исидор. — Не отпирайся, на лике твоем написано, и, видно, не особенно хорошие.
— Да, приказано вместо Владивостока идти на Аскольд и ждать распоряжений. Извините, господа, спешу к командиру.
— Иди, сын мой, и не бойся плохих известий, ибо все в мире не стоит на месте — и плохое или то, что мы подразумеваем плохим, может обернуться хорошим, и наоборот.
В каюте Новикова, развалясь на диване, Стива Бобрин сказал срывающимся от волнения голосом:
— Все развивается так, как я предвидел: нам не простили, не забыли побег из Плимута. Сейчас союзное командование по достоинству оценило поведение нашего командира. Стороны в борьбе определились достаточно ясно, и мы, господа, особенно в выгодном положении, тем более что я сохранил копию письма к адмиралу сэру Эльфтону. — Стива подмигнул Новикову, накрывавшему на стол.
— Прошу, господа! — сказал Новиков. — Из закусок только сухая колбаса, да не хочу будить моего олуха вестового. За прибытие, господа!
Выпили.
Отец Исидор, понюхав корочку хлеба и глубоко вздохнув, сказал, глядя из-под кустистых бровей на гардемарина:
— Не натворите новых глупостей, юноша. Тот позорный документ порвите и развейте по морю. Не делает он чести, особенно сейчас, тогда под влиянием неясности событий еще можно было найти смягчающие вину причины, сейчас — нет. Обдуманная гадость становится подлостью.
Стива Бобрин, приподняв плечи, покосился на хозяина каюты и, переведя взгляд на отца Исидора, сказал:
— Позвольте, как вы смеете!
Новиков поднял руку:
— Отставить, Стива, продолжайте, отец, в ваших словах иногда проглядывает истина.
— Золотые слова!
— Ваши, отец.
— Тем приятней. Что же касается истины, то она глубоко сокрыта и многогранна и только изредка кажет нам одну из своих бесчисленных сторон. Суждение сие относится к области высокой философии. Мы же, грешные, пытаемся решить дела более простые. Еще по одной? Не откажусь. Хороша! — Понюхав корочку, он продолжал, не спуская глаз с гардемарина: — Что касается изменения нашего курса, а другими словами, задержания или ареста, то здесь причина не столько наш побег из Англии, о нем могли забыть в такой сумятице и, вспомнив, рады были бы нашему приходу. Они же изолируют нас, как бы сажают в карантин. Почему? — Отец Исидор усмехнулся. — Потому что все ото дело пакостной души пресловутого немецкого барона. Воистину ни одно доброе дело не проходит безнаказанно. Сей парадокс к нам подходит вполне. Барон расписал всеми своими пакостными красками положение на корабле, ославил командира и команду, представив нас бунтовщиками. Вот и хотят нас вначале спрятать в тихой бухточке, а затем прибрать к рукам. Незавидная участь. В таком положении следует забыть все распри, дружно противостоять новой беде, никаких оговоров, хулы на товарищей своих, пусть неприятных вам, а связанных воедино многими опасностями и счастьем избавления от оных. Так-то, юноша. Выкинь все из головы, как сор, и почувствуешь облегчение немалое.
Гардемарин, изрядно захмелев после третьей стопки, нагловато усмехнулся:
— Нет уж, отец, на шею бросаться мы никому не собираемся, как и брать на себя чужую вину. Не послушались, чуть нас не расстреляли, а теперь мы должны снова подставлять за них грудь? Пардон, отец мой духовный! Думаю, и вы, Юрий Степанович, согласны со мной.
Новиков покачал головой:
— Нет, я думаю о другом.
— Интересно. У вас есть иное мнение?
— Не по этому поводу, в связи. Я думаю, какой же из вас сукин сын получится, Стива, если действительно вас не расстреляют.
— Что вы сказали? Сейчас же извинитесь или…
— Стреляться задумали? Так я пока не хочу вас убивать. Идите спать! Отец Исидор!
— Что, чадо мое хитроумное?
— Держите чашу, не видите — стол кренится.
— Пошла бортовая волна, — сказал отец Исидор, протягивая стакан.
— Вы не тянитесь, Стива, — сказал Новиков, наливая иеромонаху, — вам отпущена норма. Скоро на вахту, еще свалитесь с мостика и подорвете вконец свою славу, завоеванную в подавлении организованного вами бунта.
— Действительно, — сказал отец Исидор, глядя через стакан, — пьяный отрок есть явление скверное, говорящее о тяжелом недуге, пожирающем род наш.
Стива встал и, глядя побелевшими глазами на собутыльников, сказал:
— Как я жалею, что кто-либо из вас не был на месте Мухты! — и смахнул стакан со стола.
— Стакан не разбился, — сказал отец Исидор, — плохая примета.
— Стива великолепен! — сказал Новиков вслед Бобрину, — пожалуй, кой в чем он приближается к барону, общество Гиллера оставило в нем заметный след. Ведь как, подлец, ловко вывернулся из дела Мухты. Теперь никакой суд не осудит. Ну, пейте, отец. За благополучный приход в родные воды!
— Именно пока в воды, дальше не будем загадывать. Хотя суеверие и порицается церковью, а я не смогу совладать с собой, потому имею много примеров. Ну будем! — Он выпил. — Противна зело жидкость сия. Отрок же наш действительно стал на пагубную тропу, одна надежда — образумится.
— Ну, батя, вряд ли. Он только в начале пути, как говорят последователи Будды.
— Даже в конце пути нельзя терять надежды, говорит сам Будда, я интересовался его учением в академии, необыкновенной его мудростью. Даст бог, поймет и исправится. Не такие злодеи становились святыми. В молодости мы все жестоки, часто не ведая этого. Совесть часто спит в нас. Тогда мы кажемся себе безгрешными и бессмертными. Потом, чем больше живем, тем становимся милосердней и к людям и к всякой живой твари.
— Вы ему это скажите, отец, он обнимет вас, зарыдает в раскаянии и поцелует в бороду…
Выслушав радиста, командир сказал:
— Ну, что же, пора привыкнуть к неожиданностям, может, оно и лучше, что идем на Аскольд, там отличная бухта, возможно, будет время оглядеться и прийти к каким-то окончательным решениям. Курса не будем менять, Николай Павлович. К утру выйдем на траверз Аскольда.
Впередсмотрящие прокричали:
— Справа по борту опять миноносец «Отранто»! Идет с нашей скоростью.
— Передайте этому, как его, сэру Коулу, командиру «Отранто», что мы растроганы его заботами, благодарим, по в помощи не нуждаемся. Действуйте!
— Есть!
— Постойте, — остановил радиста старший офицер, — текст, по-моему, слишком изящный для таких типов. Предлагаю сказать просто: «Сэр, у нас в России не любят жандармов. Убирайтесь к дьяволу!»
Воин Андреевич, крякнув, согласился:
— Пожалуй, так еще «изящней». Посылайте, Герман Иванович.
Когда радист ушел, Никитин сказал командиру:
— У меня есть еще одно предложение.
— Что такое, голубчик? Пожалуйста!
— У нас ценностей на пятнадцать миллионов рублей! Оружия, снарядов, боеприпасов, продуктов на целую дивизию.
— На две по составу военного времени, голубчик!
— И все это…
— Отберут, Коля.
— Если мы безропотно поднимем руки.
— Что же вы предлагаете? Опять не подчиниться? Но сейчас у людей не то настроение. Мы дома! Идти в Черное море? Но оно у французов и англичан.
— Постойте, Воин Андреевич. О побеге я и не думал. Есть же у нас во Владивостоке русское морское командование!
— С которым вот уже месяц не можем связаться?
— Возможно, радиостанции под контролем союзников. Все равно, если командование существует, то оно может воздействовать на англичан и защитить свои, наши интересы. Учтите, теперь, когда у них барон, они смогут нас обвинить в чем угодно, вплоть до пиратства, припомнят нам Плимут. Мы можем очутиться на правах мятежников со всеми вытекающими последствиями.
— Все так. Предлагаете апеллировать к нашим флотоводцам без флотов?
— И выяснить на месте обстановку. Не знаю, как вы, а я полон сомнений, что груз мы должны передать для подавления революции.
— Хорошо, Коля. Я согласен. Вы, как всегда, правы! Еще есть какие-то микроскопические шансы. Давайте их используем. Конечно, отправитесь вы?..
— Просил бы, и очень.
— Возьмете баркас, а команду с вельбота. Народ там отличный, один Громов чего стоит.
— И об этом я хотел просить вас. Возможно, остался кое-кто из прежних однокашников.
— Вам карты в руки, я был здесь недолго, месяца два, и то месяц из них на Курилах и Камчатке. Идите готовьтесь, я принимаю вахту.
Впередсмотрящие прокричали:
— «Отранто» ближе подходит!
Когда «Орион» изменил курс, на эсминце переполошились, и Герман Иванович стал получать радиограмму за радиограммой с требованием ни в коем случае не идти во Владивосток.
— А хотелось бы, — сказал Воин Андреевич радисту. — Да у нас другой замысел. Капитан Коул получил приказание конвоировать нас на Аскольд и боится, что мы подведем его. Передайте: «На каком основании?»
Тотчас же радист принес ответ: «Приказание командования объединенных сил».
«Мы им не подчинены, просим удалиться и не мешать».
Далее произошел обмен такими радиограммами:
Коул: Вынуждены будем принять решительные меры.
Зорин: Мы также.
Коул: Вы безумец, я потоплю вас!
Зорин: Попробуйте!
Коул: Впереди рифы, черт возьми!
Зорин: Вы спутали залив Петра Великого с Английским каналом.
Коул: Ваше упрямство дорого обойдется.
Зорин: Кому?
Коул: Вам, черт возьми!
Зорин: Мы привыкли платить по счетам не торгуясь.
Коул: Будьте же благоразумны, сядете на камни — в миле архипелаг Римского-Корсакова.
Баркас был спущен на воду, и Войн Андреевич приказал передать только одно слово: «Мерси» — и взял курс на Аскольд.
На этот маневр последовало последнее, довольно язвительное послание Коула:
«Благодарю создателя. Все же ожидал, что вы выдержите характер».
На что получил ответ:
«Мы не обманули ваших ожиданий».
В плененном городе
Баркас шел под парусами, подгоняемый утренним бризом. Команда расположилась на рыбинах у левого борта. Матросы дремали. Никому из них не пришлось соснуть в эту ночь: сразу после первой вахты стали готовить баркас, затем отправились «из одного плавания неоконченного в другое — неизвестное», как сказал Зосима Гусятников на прощание.
У руля сидел Громов. Рядом на банке старший офицер, по привычке прищурясь, поглядывал вдаль. Неуютные, скалистые островки Римского-Корсакова остались позади, открылся остров Русский. Он казался очень большим, кудрявым, посредине его поднималась приземистая конусообразная сопка, похожая на вулкан, на вершине се застыло серое облачко.
Впереди целая флотилия китайских джонок возвращалась после ночного лова во Владивосток. Солнце только что поднялось из океана и позолотило их огромные четырехугольные паруса с множеством бамбуковых палок.
— Ходко идут! — сказал Зуйков, он нес вахту на фалах. — И там мы их встречали, — он махнул рукой куда-то вдаль, — и здесь их полно. Наверное, здесь климат подходящий для этого люда, да и море кругом. Сколотил себе такую беду и плыви куда глаза глядят, море прокормит. — Он сладко зевнул. — Потом бедность несусветная — поплывешь…
Небольшое суденышко покачивалось на зыби с убранным парусом, несколько китайцев в коротких штанах из синей дабы и в таких же кофтах стояли все в ряд на борту и, казалось, безучастно смотрели на русских моряков.
— Действительно, бедный народ, — сказал Никитин, — труженики великие, а бедны очень. Я в этих краях провел три года после окончания Морского корпуса. Удивительный край! Богатый, привольный.
— Это и видно, — сказал Громов. — Иначе они бы и не рвались так сюда. Смотрите! Неужели «Отранто» за нами охотится?
Показавшийся на западе миноносец был одного типа с «конвойным». Разломав строй джонок, миноносец близко прошел от баркаса, обдав нефтяным перегаром.
— Шутки шутит! — сказал Трушин. — Пошутить бы с ним по-настоящему.
— Ничего, ребята, — сказал Николай Павлович, — все это неприятности временного характера. Россия не Индия, где пока англичане могут делать все что хотят. К тому же стремление к завоеванию больших территорий огромных стран в конце концов приводило к краху захватчиков. — Николай Павлович был внимательным слушателем командира клипера, читавшего «Историю величия и падения Рима», и сейчас стал растолковывать Громову, Зуйкову и Трушину (остальные спали, пригревшись на солнце), почему еще никому не удавалось создать «единое мировое государство». Громов слушал особенно внимательно и, когда Николай Павлович замолчал, заметил:
— Все это оттого, что у народов не было одной цели. Существовали и существуют классовые и национальные интересы, существует собственность на землю и средства производства.
— Да ты настоящий социалист-марксист?
— Далеко еще мне, так кое-что уяснил в кружке и сам почитывал, как будто уловил основы, а самую пауку, тонкости — образования не хватает. Пошел бы сейчас учиться, засел за парту, за книги и читал, учил бы день и ночь, да вот…
— Нет, вы, Громов, — он невольно назвал его на «вы», — вы вполне развитый человек, а в области социологии даже очень. Хотя в остальном надо учиться, чтобы не получалось однобокости в развитии. — Он задумался над тем, что за несколько лет совместной службы так мало узнал людей. Его интересовали только их деловые качества, особенности, нужные на клипере: знание своего дела, исполнительность, храбрость, высокая дисциплинированность. Все остальное — их внутренний мир, стремления, запросы — почти неизвестны. Только иногда с удивлением он узнавал, что у матросов есть суждения совсем иные, нежели у него, и, в чем приходилось сознаться, более верные. Сейчас, сидя с Громовым, он вдруг понял, какое огромное влияние оказали на него подчиненные ему матросы. Исподволь, по крупицам они заносили в его сознание сомнения, помогали находить ответы на многие мучительные вопросы. И сейчас он уже не тот самонадеянный, уверенный в себе мичман, затем лейтенант, вынесший из стен Морского корпуса «много знаний, потускневших от времени идей и мало жизненного опыта…»
Между тем баркас, подгоняемый в корму засвежевшим ветром, подходил к южной оконечности Русского острова. Из бухты Новик, которая глубоко вдавалась между гористыми берегами острова, выходил японский транспорт.
— Разгрузился, — сказал Зуйков. — Ишь как его выперло из воды. Интересно, что привез на нашу голову?
— А тебе чего больше хочется? — спросил Трушин.
— Чтобы он потонул вместе с потрохами.
Матросы проснулись и разглядывали японский пароход, остров, рыбачьи суда при входе в бухту. Китайцы доставали со дна вороха глянцевитой, жирной на вид морской капусты.
— Тоже еда, не приведи господь, — сказал Зуйков. — Пробовал. Ни вкусу, ни сытости.
— Вот и мыс Эгершельд! — сказал Никитин. — Сразу за проливом. А пролив называется Босфор Восточный, бухта, куда мы идем, по ту сторону мыса Золотой Рог. По форме она напоминает константинопольскую бухту и потому имеет одноименное название. Мы стояли в ней в начале первого рейса, за полгода до войны, вы уже тогда служили, Громов?
— Да, я пришел еще на новый клипер.
— Сколько мы с вами вместе?
— Многовато…
И опять с удивлением подумал старший офицер: «Какая скрытая жизнь шла на „Орионе“ эти годы, если там отразились все идейные движения, происходящие в России: появились анархисты, черносотенцы, есть, говорят, и эсеры (тоже, кажется, среди машинной команды) и вот — большевики…»
— Вот, матросы, перед нами и Золотой Рог! Налево город, причалы, направо — мыс Чуркина. Там мы и остановимся. Против центра города.
Матросы с удивлением рассматривали рейд с множеством военных и торговых судов, белый город, сбегающий с крутых сопок к шумному порту. Доносился грохот лебедок, гудки буксиров. От берега к берегу, перевозя пассажиров, сновали крохотные «юли-юли» с одним гребцом на корме, ворочающим длинным веслом.
— И наши есть, смотри, ребята, — сказал Трушин.
Три миноносца под русским флагом стояли недалеко от входа в бухту.
— «Грозный»! — прочитал Зуйков. — Вот тебе и «Грозный», самого почти из бухты вытолкнули, а тоже «Грозный».
Посреди бухты стояли, грузно осев в воду, линейные корабли, крейсеры, миноносцы. На них свежий ветер трепал многозвездный флаг Соединенных Штатов Америки, японский, английский «джек», французский, итальянский и даже греческий. Вся эта армада застыла, как стая хищников, готовая по сигналу вожака броситься на город, который беззаботно млеет под еще жарким солнцем, празднично сверкает окнами и стенами своих домов, грохочет и звенит в безрассудном веселье.
Капитан-лейтенант приказал убрать паруса и «рубить» мачту. Матросы гребли слаженно, с тем шиком и легкостью, которые даются годами тренировок во всякую погоду, а тут еще хотелось покрасоваться перед многочисленными зрителями — моряками, глазеющими со всех своих и иноземных кораблей.
Пройдя по рейду, Никитин велел повернуть к мысу Чуркина, где находились склады леса, стояли на приколе несколько барж и старых буксиров. Тут у одной из барж и было выбрано место для стоянки. На барже стоял высокий плечистый старик с белой бородой в старом полушубке и валенках.
— Давай заводи по ту сторону, — сказал он деловито, — здесь волной будет бить о мое корыто, видишь, сколько посудин шастает, волну разводят, а там тихо.
— Мы у тебя, дедушка, постоим немного, — сказал Никитин.
— Да господи! Стойте сколь хотите. Мне веселей. Баржа тонуть станет — вынете меня. Мне, ребята, тонуть еще рано, — говорил он, принимая конец и забрасывая на кнехт. — Мне ведь всего девяносто восемь лет. — Посмотрел хитровато на матросов сверху вниз. — Двух до ста не хватает. Вот доживу век, а тогда помру. Люблю ровный счет. Вижу, вы издалека прибыли, своих я всех здесь знаю. Вы что-то черноваты, у другого солнца грелись, да и успел я прочитать название на баркасе. Такого судна здесь еще не бывало. Чай будете пить? Не бойтесь, вода у меня есть, племянник как мимо идет на водолее, так накачает полную бочку, я когда и приторговываю водичкой, ее на Чуркине почти нет — камень.
Он вскипятил огромный закопченный чайник в крохотном камбузе, высыпал осьмушку чаю.
— Ну, господа матросы, садитесь и пейте, харч у вас видный, заграничный, — сказал он не без ехидства.
— Пожалуйста, с нами, — пригласил Никитин.
— Чайку выпью, а есть это заграничное в банках не буду. Старой веры я. Чай бусурманский мне тоже не положено, да по старости оно, видно, ничего, обойдется, один лишний грех много не тянет.
Наскоро перекусив, старший офицер отвел Громова в сторону.
— Я сейчас отправлюсь в город, со мной поедут Трушин и Зуйков. Ждите нас здесь. Поговорите со стариком, тут на берегу я видал матросов и солдат, поговорите и с ними. В общем, выясняйте обстановку здесь, а мы — на той стороне.
— Если спросят, откуда пришли? Где корабль?
— Не стоит скрывать, мне все равно придется идти к начальству, но своего отношения ко всему происходящему не показывайте, чтобы не вызвать ненужных осложнений. Завтра мы должны уйти на Аскольд.
— Да, там ждут. Не беспокойтесь, Николай Павлович, я все понимаю, да и ребята тоже. Езжайте спокойно.
Китаец-перевозчик на своей «юли-юли» доставил моряков в торговый порт, забитый артиллерией, походными кухнями, горами снаряжения у причалов, уже не вмещавшегося в огромных пакгаузах из оцинкованных листов волнистого железа. С транспорта «Сибирь-мару» по широким сходням спускался поток солдат в светло-желтой форме. Они шли молча, подгоняемые резкими криками унтеров. Закончил разгрузку американский «Колорадо», его оттаскивал буксир от причала. Другой буксир подтягивал уже с рейда англичанина.
Прошел патруль американских солдат в ковбойских шляпах. Американские и английские солдаты стояли у складов, охраняли штабеля грузов и артиллерию. До выхода из порта нашим морякам пришлось пробираться среди иностранцев. На привокзальной площади, как перед парадом, тесно друг к другу стояли японские батальоны.
Только на Светланской, главной улице города, да и то на тротуарах, меньше встречалось иностранных солдат, части японской дивизии, прибывшей на «Сибири-мару», проходили рысцой под режущие слух звуки горнов. Тротуарами завладела праздничная, по-летнему одетая толпа, густо нашпигованная офицерскими мундирами различных армий.
Особняк, в котором прежде находился штаб Тихоокеанского флота, занимали англичане. Английский офицер, к которому обратился Никитин, пожал плечами и спросил:
— Разве у вас еще есть флот?..
У магазина «Куист и Альбертс» навстречу шел патруль: морской офицер и двое матросов с винтовками. Еще издали на лице лейтенанта — начальника патруля отразилось изумление, сменившееся широкой улыбкой. Капитан-лейтенант также без труда узнал своего однокашника Леню Бакшеева.
Видно было, что лейтенант очень рад этой неожиданной встрече, что он и засвидетельствовал необыкновенно громко:
— Черт возьми, ты? Нет, не может быть. Колька! Я глазам не верю! Так ты пришел на «Орионе»? Откуда?! Какими судьбами?
— И я рад, Леня, очень рад… но…
— Ах да! Ты прав, мы устроили запруду из всей этой швали, я не имею в виду прелестных дам. Смотри, какая блондинка!
Зайдя за угол, он сказал своим матросам:
— Вот что, ребята. Видите, кого я встретил? Ну так вот: жарьте куда-нибудь в тихий уголок на два часа. Затем прибыть к ресторану «Версаль» и ждать у входа. И чтобы ни-ни, ни в одном глазу.
Матросы дружно и весело гаркнули:
— Есть, ваше благородие!
— Кру-гом! Вот так! Эть, два! Курс на Семеновский базар. Н-но помнить!..
— И-иесть, — ответили теперь уже все четверо разом.
Оба зала ресторана, и нижний и верхний, несмотря на ранний час, гудели от разноязычного говора. Все столики были заняты, во втором зале, видном снизу через огромную выемку в потолке, огороженную сверху перилами, двое американских офицеров удерживали третьего, пьяного в лоск, хватавшегося за перила.
— Обычная сцена, — сказал Бакшеев. — Наверное, опять рвется прыгнуть вниз на пари. Несколько типов уже поломали кто руки, кто ноги, а один убился насмерть. Имей в виду, что надо прыгнуть на занятый столик. Вот в чем весь шик. Ну, идем, Варфоломеевич знаки подает.
Седой официант провел их в угол за пальму.
— Берегу столик для своих, — сказал он, устало улыбаясь. — А придет кто, и стой перед этими. Обедать будете или только закусить?
— И обедать и закусить. Спасибо, Иван Варфоломеевич. Старого друга встретил.
— Вижу, что не тутошний. Угостим. У нас почти все есть, для своих, конечно. Не беспокойтесь, Леонид Васильич, и накормим и напоим.
— Насчет питья как ты, Коля, а мне, сам знаешь — вахта. Если рюмку — две?
— И мне не больше. Дела у меня очень серьезные.
— Вот и отлично! — сказал официант, будто обрадовавшись, что среди всех этих пьяниц нашлись два скромных человека, и свои — русские.
— Ну, Коля, рассказывай! Так ты с того самого «Ориона», что вогнал в тоску нашего последнего адмирала? Ты, конечно, не слыхал о нашем Свекоре? Нет? Такая колоритная фигура. Он ведает личным составом флота, а сейчас остался почти в единственном числе и служит посредником между нашими остатками флота и различными миссиями. Спиридон Фомич никогда не отличался никакими талантами, кроме необыкновенной памяти на лица и фамилии моряков. Свекор любит флот, особенно укомплектованный по штатам. Он вначале обрадовался, когда узнал, что к нему в эскадру вливается свежая единица, а затем сник, особенно после приезда одного немца, который, говорят, плавал с вами, а затем сбежал где-то в, Индонезии, увидав, что корабль захватывают красные. Ну что улыбаешься? Я забегаю вперед, не выслушав тебя, извини, но тебе, я знаю, очень важно, что о вас здесь думают. Ну, рассказывай. Спасибо, Варфоломеевич! За встречу! И рассказывай!
Бакшеев много раз прерывал восторженными или гневными восклицаниями рассказ своего друга, а когда тот закончил, сказал, пожимая ему руку:
— Какое плавание, какие вы орлы! А командир ваш — прелесть! Так ему, Мамочке, и передай. Так обвести англичан! Хорошо, что вы не пошли с ними в Архангельск. Там сейчас, по скупым сведениям, творятся ужасные вещи. Да и у нас видишь что происходит, но мы здесь хотя бы сохраняем видимость самостоятельности. А вообще — дело дрянь. Край оккупирован, заняты все города. Деревня бурлит. Поставляет массами повстанцев. Красные отряды довольно сильно тревожат союзников. Все признаки большой гражданской войны.
Англичане используют весь свой колониальный опыт по приведению- населения к покорности. Помнишь картину Верещагина — расстрел сипаев, кажется. Люди привязаны к стволам орудий и сейчас их разорвет снарядом! У нас они ведут себя так же подло. Но как же с вами? Вот что, Коля, все-таки ты сходи к адмиралу, хоть он и сволочь, а не из любви к вам и не из чувства справедливости может разрядить обстановку, прекратить дело, начатое при посредстве барона Гиллера. Хозяева всей этой своры, — он повел глазами по залу, — не заинтересованы в скандале с русскими военными моряками. У них в парламентах выступает довольно сильная оппозиция, к тому же они еще считаются с печатью, общественным мнением. Интервенцию они подают как «помощь братьям по оружию, союзникам, исстрадавшемуся народу России». Поэтому могут уступить просьбе нашего Свекора, так мы его зовем для краткости, полное же его наименование — Лебединский-Свекор и теперь вице-адмирал, хотя приказа об этом никто не читал. Недавно он еще был в должности начальника «личного стола» в чине капитана второго ранга. Человек он странноватый. Одна из его особенностей — это феноменальная память на лица и фамилии, он знает на память почти всех офицеров Тихоокеанского флота. Разговор у тебя с ним будет трудный, да чем черт не шутит!
Как ты ему понравишься. В Союзном штабе с ним считаются. Так называемый Союзный штаб — теперь главный орган всей власти на Востоке. В него входят представители всех стран, «бескорыстно» предоставивших свои силы и средства для помощи исстрадавшейся России. Наше местное правительство во главе с эсером Дербером — пустой звук, плохая оперетта на содержании у богатых иностранцев. В штабе новоявленный вице-адмирал сидит по старой привычке до четырех, хотя делать абсолютно нечего, ждет вызова, телефонных звонков. Флот весьма невыгодно выглядит в глазах союзников. То ли дело пехота! Она сейчас прямо на вес золота. Французы швыряют деньги на формирование белых соединений. Месье Бард, да ты ведь никого здесь еще не знаешь, он исполняет обязанности начальника французской миссии, через казачьих есаулов Левицкого и Разухина начал создавать казачьи сотни. Объявлено денежное довольствие. Вахмистр получает ежемесячно сто пятьдесят рублей, старший урядник — сто двадцать пять, урядник — сто и казак — семьдесят пять. Золотом! В связи с этим пехота заняла ведущее положение. Флот — не у дел. И надо сказать, матросы создают им немало трудностей. Вот сегодня объявлено о поимке одного из матросов, большевистского агитатора, который, по сведениям, участвовал в большевистском самоуправлении, после изгнания большевиков чехами был схвачен, бежал из-под стражи, находился где-то в Сибири, а сейчас здесь. Контрразведка с ног сбилась, разыскивая беднягу. Некто Ведеркин Илья.
— Найдут?
— Мы ни в коем случае. Вот видишь, как зарекомендовал себя флот. Поэтому Свекор и корчится, как береста на огне. На его счастье, у красных нет еще флота. Вот разве вы сделаете почин. Шучу, конечно… Пожалуй, пора. — Посмотрел на часы. — Матросы ждут уже десять минут. Как я рад, что встретил тебя — человека совсем из другого мира. Не маши рукой. Поживешь с нами, увидишь, какая опустошенность в людях, растерянность, пьянство. Оставь свои фунты стерлингов. Плачу я! Ты мой гость! Варфоломеевич, пожалуйста! Сдачи не надо.
— Нет уж, увольте, Леонид Васильевич, со своих, да еще моряков, чаевые не беру. Знаете, сын на Балтике — моряк. И я через него тоже причастен к морякам. Всего вам наилучшего!
— И вам также.
Они пожали руку вконец растроганному Варфоломеевичу.
У подъезда «Версаля» Никитина и Бакшеева ожидали четверо матросов. Лейтенант окинул их наметанным взглядом:
— Молодцы, ребята! Где были?
— Да нигде, на сопке просидели, — ответил один из патрульных. — Они такое рассказывали, что мы про все забыли.
Начальник патруля привел Никитина к тому же дому, где расположилась французская военная миссия.
— Позволь, но мы уже здесь были!
— Догадываюсь. Ты не учел обстановку. Теперь французы в главном здании, а мы во флигельке, но и здесь наш адмирал устроился недурно: прямо в комнатах, где хранятся все личные дела офицеров и списки состава экипажей кораблей. Он, так сказать, в своей любимой сфере. Обрати внимание на письменный прибор, отлит по его чертежам в портовых мастерских в одном экземпляре, чудо, а не приборчик! Сейчас устрою тебе свидание!
При входе в кабинет адмирала Никитин невольно обратил внимание на чугунную эскадру, занимавшую весь фасад на массивном и очень большом столе. Лебединский-Свекор пристально разглядывал старшего офицера «Ориона» из-за носовых башен броненосца, служивших чернильницами. Он был лыс, лицо одутловатое, нездорового цвета, обрамленное редкой желтоватой растительностью. Глаза голубые, усталые, близоруко щурились. Адмиральский китель, казалось, он надел по рассеянности вместо вицмундира статского советника.
Капитан-лейтенант доложил о прибытии «Ориона» на Аскольд, о состоянии экипажа клипера, груза и сказал, что должен рассеять неверное мнение, сложившееся о корабле и его команде, что по этому поводу главным образом и решился беспокоить его превосходительство.
— Мне уже все известно, капитан-лейтенант. Дело, могу сказать, прискорбное.
— Сведения, которые вы получили, исходят от спасенного нами военнопленного, бывшего командира немецкой подводной лодки Гиллера.
— Барона фон Гиллера, — поправил адмирал холодным тоном. — Прошу не выказывать пренебрежения в моем присутствии к титулованным особам, независимо от их национальности, тем более что барон в настоящее время на службе в войсках нашего союзника Великобритании. Оставим это! Согласовывается специальная комиссия, которая нелицеприятно разберется в вашем деле и накажет виновных.
— Разрешите, ваше превосходительство…
— Не разрешаю! У вас еще будет время и место, где вы сможете оправдываться. Здесь вы должны понять тяжесть своих, мягко говоря, проступков. Я перечислю некоторые из них: приказ в Плимуте вы нарушили — р-раз! В водах Голландской Индии учинили сражение с рыбаками — два! Черт с ними, этими малайцами, но скандал! Дипломатические запросы, вас обвиняют в пиратстве, батенька мой! И как вы оправдаете вообще свое бегство, дезертирство из рядов сражающегося флота к большевикам! Всем известно, что не так давно здесь власть незаконно захватили большевики. Это следует понять! Ну и, батенька мой, неся такой груз вины, следует быть тише воды, ниже травы, а вам удалось вызвать новый скандал с союзниками: облаяли командира английского миноносца!
— Мы не обязаны терпеть наглость и подчиняться невесть кому!
— Вот-вот. — Он вздохнул. — Разучились подчиняться. В этом — корень зла. Наша трагедия. Все разучились, не хотят подчиняться! Свергли монарха! Самим богом установленный порядок! Вы, я вижу, дельный офицер. Доставить сюда парусник из Плимута — не шутка! Но, батенька мой, и в вас сидит тлетворное зерно анархии. Конечно, вы — лицо подчиненное, за все ответит командир. Все же вы хотя бы здесь, у меня, должны были дать здравую оценку всему происходящему на судне. Я понимаю, вы возбуждены кажущейся несправедливостью, но только кажущейся! В конце концов вы поймете свои заблуждения. И не думайте, что вы были забыты во время плавания. Ваше рвение в период службы в составе королевского флота отмечено приказами самого первого лорда адмиралтейства Уинстона Черчилля! Мы также не забывали вас и продвигали в звании согласно заслугам. Вот прошу взять выписку из приказа, полученного первого января 1917 года, о присвоении очередного звания мичмана гардемарину Бобрину Степану Сергеевичу. У нас здесь в этом отношении дело поставлено несколько иначе, нежели у вас, на Западе. Неужели нельзя было затребовать приказ?
— Пытались это сделать много раз. Да события в Петрограде, а затем и во всей России…
Вице-адмирал перебил:
— Что нам известно, капитан-лейтенант. А также, что прискорбные события, потрясшие Россию, вами расцениваются несколько иначе, чем нами. Не так ли?
— Мне не известна ваша точка зрения на перемены в России.
— Перемены? Катастрофу вы называете переменами! Нечего сказать — рассужденьице! Прошу помолчать! — И сам вице-адмирал погрузился в долгое тяжелое молчание. Он сидел, вперив взгляд в бумаги на столе и потирая виски. Наконец, подняв голову и глядя на книжный шкаф, сказал устало:
— Вот так, капитан-лейтенант. — Быстро переведя взгляд на Никитина, продолжал: — Вот и второй приказ о производстве, к сожалению, ни вас, ни многих других, возможно заслуживающих повышения в чипе, он не коснулся, хотя кое на кого приказы заготовлены, но приостановлены в движении по причинам, изложенным выше. Бобрин — единственный, к сожалению, офицер, на кого не падает тень злостных или вынужденных нарушений или даже преступлений. Так, вашему Стиве, как вы его зовете, присваивается и звание «лейтенант». Достойный молодой офицер! Может пойти далеко. Передайте ему мои личные поздравления. Надеюсь в скорости увидеть его. Вы как будто не разделяете мое мнение?
— Да. Разделяю относительно присвоения ему очередных званий, так долго задержанных…
— Так-так. Но не разделяете моих лестных оценок его прочих качеств? Да?
— Не могу разделить, так как слишком хорошо его знаю.
— Похвальная прямота, по неуместная в данном случае! Вы, как старший по чину и званию, должны были воздействовать на его отрицательные свойства, хотя в оценке данных свойств у нас с вами существенные расхождения. Как вы можете заметить, мы весьма осведомлены о вашем плавании и поведении людей. С момента вашего появления у меня в кабинете я ждал, что вы, милостивый государь, доложите о главном, самом прискорбном явлении на вашем паруснике. Вы не догадываетесь, о чем идет речь?
— К сожалению, нет!
— Именно — к сожалению! Сожаления достойно, что старший офицер, докладывая о возвращении из плавания, забыл упомянуть о разложении команды и наличии среди нее большевиков!
— Мне неизвестно о таковых.
— Нам зато известно, о чем с прискорбием извещаю вас! — Все это время он как бы сочувственно улыбался и скорбел, понуждая своего подчиненного к покаянию, но вот он снял очки, и лицо его стало отчужденно холодным, надменным.
— Разрешите идти, ваше превосходительство?
— Да, я сейчас отпущу вас, капитан-лейтенант, прошу лишь принять некоторые советы, так как боюсь, что приказания вы не примете во внимание от старого адмирала. Так вот! Немедленно отправляйтесь на корабль. Дальнейшее вате пребывание в городе буду расценивать как новое ослушание л отдам приказ о вашем аресте. Передайте своему командиру капитану второго ранга Зорину Воину Андреевичу, что адмирал рекомендует ему извиниться перед командиром английского миноносца «Отранто» сэром Коулом. Из бухты не выходить без особого разрешения! Команду на берег не увольнять! Я уже отдал это распоряжение по беспроволочному телеграфу. Вас же, как еще исполняющего обязанности старшего офицера, ставлю в известность. Все!
Лебединский-Свекор надел очки и приветливо улыбнулся.
— Ну что? Полный пожар? — встретил Никитина лейтенант Бакшеев у крыльца адмиральского флигеля.
— Хуже! Пожар во время наводнения.
— Тогда сносно. Головешки можно затушить. Пошли в скверик. Главное, что ты еще можешь шутить. Вот сюда. Наши матросы тоже здесь, за теми кустиками, совсем подружились ребята. Боюсь, твои матросы вконец поколеблют и так сильно пошатнувшийся дух моих молодцов. Садись и рассказывай.
Выслушав Никитина, лейтенант Бакшеев сказал:
— Дело серьезное, не знаю, что и посоветовать тебе. Наш бюрократ — в своем репертуаре. У меня с ним весьма натянутые отношения, по его милости я все еще, как видишь, хожу в лейтенантах, считает, что я непочтителен к вышестоящим и слишком либерален с подчиненными. Чудаки, они привыкли считать дисциплину по внешним уставным ее проявлениям, а не как следствие необходимости подчиняться, продиктованной сознанием долга. Извини, я задерживаю тебя. Медлить нельзя. К вечеру выходи. Подготовь Воина Андреевича ко всяким неожиданностям. Лучше бы вам до поры до времени задержаться по пути во Владивосток.
— Думали, да матросы рвались домой, и мы сами считали, что не имеем права стоять в стороне от событий, решающих судьбу страны.
— И это так. Наверное, и я бы поступил так же. Идем, Коля, я провожу тебя. На адмиральской пристани есть дежурная шлюпка, она в моем распоряжении и доставит тебя на мыс Чуркина.
Команда дежурного вельбота гребла не за страх, а за совесть, явно выказывая свое расположение знакомому лейтенанта Бакшеева. Да и незнакомый капитан-лейтенант им также понравился с первого взгляда уже потому, как обращался со своими людьми и со всеми запросто поздоровался. Внушало уважение и его спокойное, волевое лицо: «Такой и службу спросит и не выдаст».
— Не спешите, боцман! — сказал Никитин. — Минута — другая для нас не решает дела…
— Не беспокойтесь, ваше высокоблагородие, нам, вы знаете, не привыкать, да мало мы своих последнее время катаем. Как дежурство на адмиральской, то почему-то приказывают всякую пьянь по их коробкам развозить, сволочь, одним словом, всякую. Правда, не в вахту лейтенанта Бакшеева, тот не дозволяет, а есть, сами знаете, какое наше начальство, угодить стараются. Вы, говорят, из дальней пришли?
— Кто говорит? Мы будто ни с кем и не говорили об этом? — улыбнулся Никитин.
— Ну как же. Только в бухту вошли, уже стало нам известно. Наши суда наперечет, а тут незнакомый баркас и название корабля редкостное. Да и ребята из штаба тоже говорили, будто вас англичане прижимают, чем-то вы им насолили.
— Скорее они нам.
— Ну уж это мы видим, и соли и перцу подсыпали, не приведи господь.
— Вам тут, вижу, тоже не сладко живется?
— Что говорить. Так нас прижали, так взяли в оборот, и в таком мы положении, будто не они у нас в гостях, а мы к ним в гости пожаловали. И встречают нас тем, чем ворота подпирают, а то и похуже.
— Да, печально, — сказал Никитин. — Все очень печально.
Младший боцман вопросительно, с надеждой посмотрел на него:
— Конец скоро будет?
— Не знаю, брат, хотелось бы скорее. От пас самих зависит. Если будем все сноситъ, то они никуда отсюда не уйдут.
— Так, выходит, надо гнать?..
— Да, боцман!
— Трудно. Кабы флоту побольше да… — Он хотел сказать: «Да еще бы таких, как вы, командиров», но, подумав, что этот офицер может не так его понять, дескать, льстит, подлизывается, подал команду гребцам. Шлюпка развернулась, и гребцы, уложив весла, протянули руки, не давая шлюпке удариться о баржу.
— Ты, капитан, не пори горячку, — сказал старик сторож на барже. — Дай ребятам поесть, отдохнуть малость и потом пойдешь на Аскольд, будь он неладен совсем. Я годов двадцать назад на нем работал, еще молодой был. Что смеешься, в семьдесят лет я женился пятый раз, мерли у меня все бабы, эта вот пятая — тянет еще, меня переживет; так вот и говорю я тебе: не торопись. Сейчас выйдешь из Босфора и заштилюешь у мыса Басаргина. Погода сейчас видишь какая, будто вареная. Тишь. А после заката бризовый ветер потянет, да с моря. Ведь знаешь не хуже меня, на паруснике, говорят, старшим ходишь? Ну и будет он тянуть, этот морской ветерок, часов до одиннадцати, а потом уж на него нажмет береговой, вот тогда ставь паруса и лети на Аскольд.
— Хорошо, дедушка, ты прав.
— Еще бы не прав, ведь я кем только не был за свою жизнь! Шестьдесят лет назад сюда пешим пришли из Тамбовской губернии, три года добирались. Железной дороги еще не было. Вот и шли. Жуткое дело!..
Подошел Громов и попросил разрешения сойти на берег вместе с Трушиным.
— Идите, по не задерживайтесь и далеко от берега не ходите.
— Здесь иностранцев нет.
— Все равно опасно. В случае чего, дайте знать выстрелом.
— Есть. Должны ребята подойти с «Быстрого». Были после вашего ухода.
— Идите!
Старик сказал:
— Матросы у тебя хорошие. Тверезые матросы и тебя уважают. Я тут насмотрелся на всякие художества. Твои и себя погашают и насчет дисциплины. Другие бы уже после такого плавания насосались водки. Твои — пет, даже вот меня угостили, а сами только по чарке — и баста, а водка, видать, еще осталась. Мне она очень пользительная при окружающей сырости, да сейчас, сами знаете, деньги только в золоте ходят, да еще всякие заграничные.
Николай Павлович велел Зуйкову угостить старика, и тот, выпив, присел на пустой ящик возле рубки. Никитин стоял, глядя на город, там утихал дневной шум. Солнце опустилось за сопки, позолотило их контуры. Где-то на террасе ресторана или на бульваре оркестр заиграл грустный вальс, звуки то почти совсем стихали, то усиливались, волнуя и щемя сердце. Внезапно на той стороне завыли гудки, поглотив все звуки, и скоро умолкли.
— Работу на сегодня закончили, — сказал старик. — Я и там работал, на заводе. Где я только не работал, чем не занимался! Даже золото мыл и, вот видишь, каким богатым стал. И лес валил, и рыбу ловил, и дома строил. Ведь когда мы пришли сюда, здесь голое место было, все сопки лесом поросли, олени водились. Они и сейчас на Русском острове и на Аскольде есть, да и в окрестности города забредают, а тогда везде водились. Да что олени или медведи! Тигры по ту сторону бухты шили, да и здесь, на Чуркином мысу, водились. Помню, я тогда при военной части печником работал. Переполох поднялся, часового тигр унес, да хорошо, парень голову не потерял от страха. Он, тигр, взял его за воротник шинели и волочит в тайгу, тогда солдат и стал ремень расстегивать, а потом и пуговицы у шинели, да и выпал из нее. Ну, а тигр так и убег с шинелью, а солдата оставил. Может, сытый был, а может, баловник, ему лишь бы нашкодить. И зверь всякий бывает, его но тронь, и он не тронет, тот же тигр или медведь. Ведь он почему на того солдата напал? Потому что мы его земли, угодья захватили, а он, значит, предупреждение сделал, дескать, выметайтесь отсюда. Да где там! Убили того тигра солдаты, а шкуру взял себе полковник. Так-то оно, капитан хороший. К чему все это я? А к тому, что тогда мы как стали на эту землю, так и ни зверю, никому ее не уступали, и город-то как назвали — Владивосток — владей Востоком, значит. А теперь што? Кто им владеет? И нами кто владеет? Вишь, выстроились! Даже греки приехали и мулов своих привезли. Да неужто мы так обессилели? Или все от раздору нашего, от распри? Наверное, от этого. Потому народ против иностранцев, а ваш брат за них, возле укрывается, защиту ищет. И от кого? От своего народа…
— Извини, дедушка, я должен распорядиться…
— Распоряжайся.
Когда Никитин спустился в баркас, старик сказал Зуйкову:
— Томится ваш офицер. Все мы томимся. На што я, мне бы сидеть да смотреть последние два года, а глаза не глядят. Охота, чтобы очистилось все от погани, чтобы надежда у людей появилась на лучшее.
— Мы их наладим, дед! — сказал Зуйков. — Так и пометем. Вот увидишь.
— Большая метла нужна. Надо ее по прутику собирать да туже связывать. Позавчера, когда племянник воду привозил, сказывал, что на Сучане шахтеры все в тайгу ушли в партизаны. Так бы весь народ поднялся, и куда бы те японцы и англичане делись?
— Поднимутся, да из России придут на помощь!
— Когда? На словах все хорошо, как в сказке. По тому, как все складывается, дело годами пахнет, а мой срок маленький, неужели так и помру, ничего не увидев?
— Увидишь, дед, поверь мне, увидишь!
Старик покосился на Никитина, который уже снова стоял на барже и отдавал какие-то распоряжения матросу Селезневу.
— Есть, гражданин капитан-лейтенант! — весело ответил Селезнев.
Старик повторил:
— «Гражданин»! Ишь ты, уже не ваше высокоблагородие, а гражданин. У пас еще здесь «благородят». — Он спросил еще, понизив голос: — Ты скажи мне, а вы не того, не из тех, по из красных случаем?
— У красных все товарищи: и командиры и матросы.
— Так, так, слыхал. Значит — не красные? — В словах старика слышалось явное разочарование.
Вернулись с берега Громов с Трушиным и с ними человек без фуражки в солдатской шинели, накинутой на плечи, он прихрамывал. Ступив на баржу по утлым сходням, он скинул шинель и оказался в форме матроса. Громов уже тихо докладывал, поведя головой в сторону гостя:
— Матрос из экипажа. Его ищет контрразведка. Если найдет — расстреляет. Расстрелы здесь каждую ночь.
— Большевик?
— Наш…
— Фамилия?
— Он сейчас под другой фамилией. Скрывается. За парня могу ручаться.
— Не Ведеркин?
— Возможно, и он.
— Дело серьезное, Громов. Сам понимаешь.
— Сейчас все серьезное. Погибнет человек, а вины за ним, как и за нами, — никакой.
— Подбивал матросов к бунту?
— Правду говорил!
— Правда, Громов, — самая неприятная и опасная вещь.
— Разрешите ему побыть здесь, хотя бы до нашего отъезда.
— А потом?
— Оставим ему продуктов, отсидится у старика в трюме.
— Его найдут. Тем более он приметный — хромает.
— Ранили, из-под ареста бежал.
— Вот видишь. Нет, оставлять его здесь нельзя. Возьмем с собой!
— Есть!
— Сейчас уходим!
— Есть!..
Тяжелые дни Гарри Смита
Попав на «Отранто», Гарри Смит заскучал, как сказали бы его приятели с «Ориона», увидев тусклую физиономию своего Гриньки, всегда такого жизнерадостного, любившего шутку и острое слово. Сейчас он ходил по миноносцу как потерянный. Старший матрос, когда-то не последний человек на «Грейхаунде» и «Орионе», теперь выполняет обязанности юнги на камбузе и драит гальюны. И это бы еще ничего, хотя и несправедливо. Служба не вечна, да общительная душа Гарри изнывала в тоске от одиночества.
Только спрыгнув в шлюпку «Отранто», он сразу почувствовал вокруг себя непривычную пустоту. Лишь несколько сочувственных взглядов заприметил он, а остальные матросы и особенно боцман выказывали только любопытство с явной примесью недоброжелательства. Его встретили, как встречают футболисты своего бывшего члена команды, который сейчас играет за другой клуб.
Может быть, если бы Гарри Смит повел себя иначе с первых минут встречи с соотечественниками, то картина была бы иной. Прошел бы какой-то период карантина, в течение которого он бы показал себя с самой лучшей стороны, т. е. выказывал бы всеми доступными способами, как он рад, что возвратился на свой корабль, «траванул» бы что-нибудь о варварских порядках у русских, которые только чудом держатся на воде, приврал о своей тяжелой жизни среди «варваров».
Во-первых, все были изумлены, наблюдая расставание Смита с русскими. Многих из английских матросов родные не провожали на службу с такими проявлениями грубоватой нежности и искреннего огорчения. И полный мешок сувениров говорил об этом, вызывая недоумение и плохо скрываемую зависть. Тогда боси сказал:
— Видите, каким способом эти славяне стараются замазать глаза нашим парням. Азиатские штучки, и как этот олух не может понять, что он роняет достоинство. Я не говорю уже о лейтенанте, тот тоже подает неблаговидный пример.
Испытания Гарри Смита начались сразу, как только он сел на банку шлюпки «Отранто» и боси, подав команду отваливать, тут же задал вопрос, все время вертевшийся на языке:
— Вижу, что тебе очень понравилось у русских.
— Всю жизнь буду помнить. Хорошие они парни.
Боцмана покоробило. По приказанию старшего офицера оп сегодня провел беседу с младшим командным составом, а те в свою очередь — с матросами о России и ее народе. Команде внушалось, что она идет в дикую страну, где часть особенно отсталого населения взбунтовалась и теперь грозит превратить свое отечество в пустыню. Что эти люди выступают против веры и всех человеческих законов. А тут этот матрос все опровергает! Мол, как можно воевать против этих хороших парней. Пет, боси не мог этого оставить. Он, ехидно улыбаясь, задал явно провокационный вопрос и подмигнул гребцам:
— Неужели лучше наших парней?
— Не скажу, что все лучше, есть тоже дерьмоватые, а есть и ни в чем не уступят, а то и нашим придется потягаться. Товарищи хорошие.
— Слыхали, ребята? — сказал боцман. — Ну допустим, тебе там кто-то понравился, и как это еще понимать, кто хорош, кто плох, но хороший парень у нас прежде всего моряк! А тебе должно быть известно, что не было и не будет лучше моряков, чем британцы! Никто не может сравниться с нашим самым последним матросом! Запомни это, Смит!
Гарри не мог смолчать. Иначе он посчитал бы, что из-за трусости, желания угодить этому паршивому боси оклеветал Зуйкова, Трушина, Громова и всех других, кто спас ему жизнь и проявил столько трогательного товарищеского участия в его судьбе, подарил ему свою дружбу, И Гарри сказал, зная, на что идет:
— Вы это говорите потому, что иге видели этих парней в работе.
— Да, отличные моряки! — поддержал лейтенант Фелимор.
И, ободренный, Гарри продолжал:
— Боюсь, что даже вы, сэр, кое в чем спасовали бы перед ними!
— Я?! — с изумлением спросил боцман.
— Вы особенно, сэр. Хотел бы я посмотреть на вас в свежий ветер, я не говорю о шторме, когда подается команда: «Убрать бом-брамсели!» А шип кладет с борта на борт, ноки задевают гребешки волн, а вы на них качаетесь, уцепившись всеми четырьмя!
Фелимор не мог сдержать улыбки, представив, как боси ведет себя на мачте. Дело в том, что в лице и фигуре боцмана было что-то хищное.
Матросы приоткрыли рты от изумления, левый загребной поймал «щуку», запустив по валек весло в воду, и сбил всех гребцов с ритма. Сам боси был озадачен наглой дерзостью матроса, побывавшего среди красных. Для поднятия авторитета следовало дать ему пару раз по роже, да Смит сидел в носовой части шлюпки, а рядом улыбался лейтенант Фелимор, который тоже, видно, потерял всякое понятие о настоящей морской дисциплине. В довершение всего и этот красный лейтенант подначил ого, боси, сказав такое, будто находился не на военной шлюпке, а, по крайней море, в пивной.
— Да, боси, поставил он перед памп задачу. Конечно, Гарри слегка перегнул: моряк с парового военного судна вот так сразу не сможет работать на паруснике, будь он трижды британец. Сам же Гарри, могу вас заверить, отлично работал на мачте при любой погоде, днем и ночью и на самых верхних парусах!
Чтобы оставить за собой последнее слово, боси не ответил на едкую реплику Гарри Смита и примечание лейтенанта Фелимора. Рыкнув на гребцов, оп молчал с минуту, затем проронил:
— У нас нет высоких мачт и парусов, и боюсь, что Смиту придется заняться работой на камбузе и наводить блеск в некоторых других местах…
— Не забывайте, боси, что Смит — старший матрос, — напомнил Фелимор.
— У него есть документ?
— Наши документы остались на «Грейхаунде».
— Сделаем запрос.
— Я удостоверяю!
— Хорошо. Я не решаю. Вы знаете, кто решает.
На этом первый разговор с боцманом был закончен. Боси затаил злобу и на Фелимора, которому он сделать ничего не мог, и на Гарри Смита, находившегося всецело в его власти.
В тот же день, чтобы показать настоящее место Смиту на «Отранто», боси не стал вызывать его к себе в каюту, как он любил делать, а подошел к нему в кубрике и сказал вскочившему и стоявшему навытяжку Смиту:
— Вот что, Смит! Все разговоры, что ты старший матрос, ничем пока не подтверждаются, твой лейтенант сам не имеет документов. Сделают запрос, как полагается. Пока ты займешься, как я уже сказал, работой на камбузе, но это не основная твоя работа, главное — будешь наводить лоск во всех гальюнах. Понял?
Гарри Смит молчал, сраженный несправедливостью. Гальюны убирали по очереди, да еще провинившиеся — по наряду, а тут ни за что ни про что такое унижение.
Боси остался доволен произведенным впечатлением и на Смита и на матросов, его пошатнувшийся авторитет был с блеском восстановлен. Боси сморщился, что у него заменяло улыбку:
— Ну как, Смит? Понял наконец, где ты находишься? И помни: тебе надо много потрудиться, чтобы опять занять прежнее место во флоте его величества!
Гарри Смит с достоинством ответил:
— Сэр, я должен вам сказать, что всегда оставался матросом королевского флота. Камбуз и гальюны меня не пугают. Я благодарю вас за такое ко мне внимание,
Гарри Смит, сколько мог, влил в эти слова яду и презрения к боси, чем и закрепил навсегда к себе его лютую ненависть.
На третий день после их прибытия на «Отранто» командир миноносца, получил приказ: при первой возможности отправить лейтенанта Фелимора во Владивосток. Возможность представилась к исходу дня: туда шел транспорт из Манилы, и Фелимор отбыл, пожав руку Гарри и дав ему совет не ссориться с боцманом.
Смит остался совсем один. То в течение дня он хоть раз — другой видел лейтенанта и перекидывался с ним парой слов, знал, что Фелимор всей душой сочувствует ему и уже вел разговор о нем со старшим офицером, правда безрезультатно, старший офицер не хотел подрывать авторитет боцмана, да ему самому не нравились ни новый матрос, ни лейтенант, хлопотавший за него. Очень скоро Смит пришел к выводу, что, как бы тяжело ему ни было, нет смысла падать духом. И, вынося помои с камбуза или выполняя другую грязную работу, неизменно насвистывал самым беззаботным образом. Как-то один из матросов, желая угодить боцману, обозвал его «вечным гальюнщиком» и тут же получил с правой, чуть пониже глаза, где моментально всплыл великолепный фиолетовый фонарь. Больше никто не решался задевать Смита. И если бы сам Гарри не проникся полным презрением к матросам миноносца, то смог бы подметить и сочувственные взгляды, и даже попытки сойтись покороче. Гарри гордо отверг эти «подвохи», полагая, что все это делается, чтобы посмеяться над ним, а он не любил, когда над ним смеются. Смеяться над собой он позволял только друзьям, да и то не особенно часто.
Чтобы еще больше унизить Гарри Смита и сломить его, боцман приказал перейти ему в кубрик к кочегарам. Тотчас же услужливые парни выбросили вещи Гарри из матросского кубрика на палубу. С этой минуты между ним и палубной командой порывались псе официальные и неофициальные связи, он становился одним из «духов», то есть существом низшим в глазах настоящего матроса. «Духи» вначале отнеслись к нему не особенно тепло, хотя о нем уже шла слава, как о человеке, который объявил войну самому Рыжему Джиму — событие небывалое не только для «Отранто», но и для всего королевского флота, где боцман на иерархической лестнице занимает очень высокое место — чуть пониже короля и господа бога, но крайней мере для всего рядового состава.
Если «Орион» являлся частицей России, то и «Отранто» с полным правом можно было назвать миниатюрной копией Соединенного королевства. Здесь еще жестче чувствовались классовые и кастовые разграничения. Каждая из служб на корабле имела свои преимущества, явные или кажущиеся, над другими службами, что вызывало зависть и недоброжелательство и в то же время стремление замкнуться в кастовом кружке, сохранить и укрепить преимущества образцовым выполнением своих обязанностей. Комендоры считали себя выше всех на корабле потому, что они главная его сила и все остальные работают на них. Но и дальномерщики также не желали отдать пальму первенства: кто находит противника и дает данные для стрельбы? Находились точно такие же убедительные доказательства у сигнальщиков, радистов, минеров, электриков и, конечно, у рулевых. И все они — представители верхней палубы, считали себя неизмеримо выше «духов».
Глухая вражда между палубной командой и машинной зародилась со дня появления первого парохода. Моряки с парусников возненавидели лютой ненавистью «отступников», заменивших благородные паруса вонючей машиной. И хотя теперешние матросы в большинстве своем никогда не плавали на парусниках, им по наследству передавалась неприязнь к машинной команде. Таким образом была отдана дань традиции, имеющей такую необоримую силу во всех сферах английской жизни.
«Отранто» описывал сложные кривые, стараясь не потерять из виду русский красный парусник. Гарри, улучив минуту, подолгу смотрел на его белоснежные паруса, вспоминал своих приятелей и невольно улыбался. Это заметили и донесли боси. Рыжий Джим застал Гарри, когда он стоял за шлюпкой и махал рукой, в надежде, что хоть кто-нибудь его заметит на «Орионе».
— Ты что это за сигналы подаешь большевикам?
— Просто помахал рукой.
— Слышите? — обратился боси к нескольким матросам. — Этот тип просто машет рукой, когда явно, что он семафорит. Ну, что ты передал им?
— Ничего не передавал. Я не знаю их языка, чтобы хоть что-то передать. Просто помахал им рукой.
— Расскажи кому другому. Ты разве не знаешь, что запрещено всякое общение с большевиками? С ними можно разговаривать только голосом пушек!
Рыжий Джим сморщился, что, как известно, заменяло ему улыбку. Гарри Смит оказался не таким уж невоспитуемым парнем. Собственно, он, боси, сейчас ничего против пего не имел. Смит был просто материалом, который он, боси, должен был соответствующим образом обработать и пустить в дело. Сегодня было получено подтверждение, что он, Смит, действительно числится в списках старших матросов погибшего миноносца. Смиту следует вернуть его права и снова водворить в матросский кубрик. Все же неплохо будет, если перед этим он пройдет окончательную шлифовку в карцере.
— Так вот, Гарри Смит, чтобы ты не забывал, где находишься, отсидишь двое суток в «отеле». Понял?
— Да, сэр. Благодарю.
— Так тебе нравится жить в «отеле»? Могу продлить еще на сутки. Отдохни после работы у русских. Да и гальюны ты драил отлично. Отведите его, ребята, и устройте с полным комфортом.
В железной каморке, куда втиснули Гарри Смита, нельзя было ходить, а только стоять пли сидеть, скорчившись на иолу. Зато в пой имелся иллюминатор, хотя и высоко, да Гарри легко подтягивался на руках и висел, глядя на море, пока не деревенели пальцы. Два дня миноносец шел малым ходом, затем выключил машины, загрохотала якорная цепь, и Гарри увидал из своей тюрьмы веленью склоны, длинную низкую казарму, склады, японский пароход у причала и, повернув голову, вскрикнул от радости: на голубой глади бухты стоял «Орион».
Матрос, чем-то напомнивший Гарри его погибшего друга Арта, принес галеты, кружку воды и, прислушавшись, не идет ли кто, вытащил из кармана сверток.
— Здесь мясо, только тихо! Бумагу отдай мне.
Матрос остался, наблюдая, как Гарри ест.
— Ну и Рыжий у нас, — сказал матрос. — Сколько он нам крови испортил. Я зимой тоже здесь сидел. Думал, концы отдам. Сейчас хоть тепло.
— У русских так не издеваются, — сказал Гарри с полным ртом.
— У них нет боцманов?
— Как нету — есть. Да больше на людей похожи, а таким, как ваш орангутанг, хвост поджимают.
— Мне надо идти. Часового у тебя нет сегодня, просто закрываешься мл замок, если захочешь в гальюн, то стучи сильней.
— Я не прочь пройтись.
— Доедай мясо!.. Меня Томасом звать… Том Форд.
— Как приятно знакомство с автомобильным королем!
— Меня так и зовут ребята. Народ у нас в большинстве хороший. Да сам знаешь, боятся проштрафиться.
— Ну уж нет. Это не оправдание. Так подло вести себя… Первый раз встречаю…
— Какая там подлость, Гарри! Тебя ведь тоже не сразу раскусишь. Вытри рот и пошли.
«Ну прямо Арт, — печально подумал Гарри, — особенно когда улыбается».
С палубы Гарри оглядел вместительную бухту, закрытую довольно высокими скалистыми горами. С «Ориона» спустили шлюпку, видимо, кто-то из офицеров съезжал на берег.
— Ну идем, — Том толкнул в бок, — как бы не влетело и тебе и мне!
В сумерки Том принес ужин: тс же галеты, воду и от себя плитку шоколаду и, главное, последние новости.
— Дела идут отлично, Гарри! — весело заявил Том. — Оказывается, уже два дня, как пришло подтверждение, что ты старший матрос с несчастного «Грейхаунда». Кочегары уже выкинули твои пожитки, а я перенес их к себе в кубрик. Будешь спать надо мной. Ты рад, надеюсь?
— Не особенно. Я ведь знал, что рано или поздно утрут нос вашему рыжему боси. Ты скажи лучше, не видал ли кого из русских!
— Как же! Только хотел тебе рассказать о нашей встрече. Действительно, народ — ничего. Один из них прямо-таки мне понравился, подарил мне пачку табаку, такого крепкого, что глаза лезут на лоб. Как-то странно называется этот табак.
— Махра!
— Вот-вот! Приятное впечатление произвели эти русские, да жаль, скоро пришлось отваливать. Старший офицер был у начальника порта, да что-то быстро вернулся. Тебя они вспоминали и еще что-то говорили, судя по лицам, отзывались о тебе не плохо.
— Ну, может, и не обо мне шел разговор, — за метил Гарри. — Главное, что вы кое в чем убедились.
— Конечно! Я теперь тоже сомневаюсь, что это корабль пиратов, как зовет его боси. Тут у нас ходят слухи, что там, наверху, — Том поднял глаза к потолку из клепаных листов стали, — не довольны свержением с престола родственника нашего Жоржа, ведь Георг Пятый то ли брат, то ли дядя русского царя. Поэтому нам приказано преследовать и уничтожать при каждом удобном случае красных. Кто-то идет?..
— Не к нам. Ты что еще хотел мне сказать? Давай живей!
— Русским на паруснике грозят большие неприятности. Стюард в кают-компании слышал, как сегодня за обедом говорили о следственной комиссии, которая скоро прибудет сюда. Русским запрещено сходить на берег…
— Почему? Ты ведь с ними там встречался?
— Ослушались приказа. Сейчас они грузят уголь, хотя боси сказал, что он им не понадобится. Вот, Гарри, в какое грязное дело нас втянули. Прощай! Завтра ты уже оставишь этот железный ящик. Ну что хмуришься? Ешь шоколад!
«Огонь открываем мы!»
В большом матросском кубрике собрались почти все матросы, кочегары, машинисты, унтер-офицеры, только вахтенные находились на верхней палубе, и то у трапов, прислушиваясь к голосам внизу.
Собрание вели большевики. Громов, Трушин, Зуйков, Гусятников, раненый матрос с мыса Чуркина стояли у стенки под иконой Николая Угодника. Остальные плотно, друг к другу, сидели на полу, жались у трапов и бортовых стенок. В душной тишине глухо раздавался голос Громова:
— Видите, товарищи, что нас ждет. В лучшем случае снимут морскую робу и пошлют в пехоту, воевать против своих. Тише, товарищи! Кто хочет, еще выскажется, а сейчас пусть скажет слово товарищ, который знает обстановку лучше нас, и вот тогда поговорим и примем наше решение, потому что идти, как баранам на убой, за чужие интересы, да еще против своих братьев, думаю, охотников мало найдется. Давай, Илья!
В это время в открытые иллюминаторы с берега долетел звук горна. Раненый матрос повел головой:
— Слышите? Японцы дудят! Вечерняя поверка. Видали, остров они заняли. То же и там, на материке. Вся железная дорога, города у них пока, у японцев, американцев, французов, и кого только нет у нас там. Прямо скажу, положение не из легких.
Раздался голос:
— Чего же щеришься? Что весело-то?
— А то, друг, что унывать мы не привыкли. То, что они, гады, захватили нашу землю, то ненадолго. Вокруг них и под ними земля начинает гореть! Вот что, друг! И то, что мы не одни! Нами Ленин руководит, вот что, товарищ! — Он повысил голос, и его широкоскулое лицо стало суровым. — То, что весь народ поднимается на борьбу за свою народную власть против поработителей всяких. Вот что, дорогой товарищ! Мы не сидим здесь сложа руки! Может, у кого есть мысли: дескать, хорошо поешь, а кинь в собаку, попадешь в интервента? Пока действительно такая обстановочка, да только на первый взгляд. И мы побрасываем в них и пулей, и гранатой, и снарядом, а когда ничего нет, то камнем или ножом! Для вашего сведения, в Забайкалье сражается партизанская армия под командованием большевика Сергея Лазо. В Приморье славу завоевал боевой отряд, в нем больше тысячи бойцов, отряд товарища Бородавкина. И могу назвать еще десятка два партизанских отрядов, а их уже многие сотни по всему краю и Сибири! Бот ты, товарищ, не знаю, как тебя?
— Ну, Брюшков, а что?
— С ухмылкой слушаешь, да шепоток в ухо пущаешь соседу.
— Нельзя, что ли? Мало ли ты что скажешь, а чем докажешь?.. Станем мы на вашу сторону, а нас и пощелкают, как воробьев на гумне. То-то же. Слыхали мы это!
После слов Брюшкова по кубрику пошел гул.
— И мы слыхали, — сказал раненый матрос и вытащил из кармана свернутую в несколько раз газету.
— Закурить, что ли, хошь? — спросил Брюшков.
— Опосля и закурим, а сейчас вот послушаем, что пишут о партизанах беляки, они-то уж знают, есть ли партизаны или я набрехал тут. Вот слушайте! Газета называется «Свободный край», у них тоже свое понятие о свободе. Все читать не буду, кто хочет, после прочтет. Только немного по существу вопроса.
«Дальний Восток, — пишут беляки, — представляет собой ярко пламенеющий костер большевизма, который ничуть не склонен потухать, но, наоборот, ежеминутно грозит перекинуть пламя в соседние местности. И это несмотря на то, что здесь-то всего более сосредоточено той иностранной силы, на которой мы строим все наши расчеты, как на силе реальной в борьбе с большевизмом… — И вот немножко дальше: — Весь Дальний Восток сейчас должен рассматриваться как театр военных действий!» Вот оно как, товарищ Брюшков! Да куда же ты собрался? Сейчас резолюцию будем выносить! И вы, товарищи?
Брюшков, Грызлов, Бревешкин и еще человек тридцать стали поспешно выходить из кубрика.
— И отлично! — сказал Громов, когда они ушли. — Без них воздух будет чище. Это, товарищ Илья, монархисты в большинстве, а за ними потянулись выжидающие из зажиточных мужичков, а также эсеры. Не смогли всем разъяснить.
— Жизнь разъяснит. Теперь, товарищи, надо решать, и немедленно, как выбираться из петли, в которую вас загоняют интервенты и беляки. Пока есть хоть малая щелка. Тут недалеко материк, тайга, там паши!..
Председатель следственной комиссии капитан Нортон попросил командира катера обойти вокруг клипера. Высокий тощий английский моряк с трубкой в зубах рассматривал такелаж и корпус клипера. Остальные члены комиссии тоже вышли на узкую палубу. Среди них были вице-адмирал Лебединский-Свекор, капитан первого ранга Струков, майор Нобль, барон фон Гиллер и еще несколько человек в военном и штатском из белогвардейской контрразведки.
Вице-адмирал сказал капитану Струкову:
— Выглядит клипер как будто удовлетворительно.
— Отлично! Возможно, все не так серьезно, как нам доложили!
— Очень серьезно! Вы бы поговорили с Никитиным! Как он мне отвечал! Все старался скрыть. Нет, Федор Павлович, не поддавайтесь первому впечатлению. Вам как боевому командиру прежде всего подай внешний вид, только иногда за этим бравым видом такое скрывается!.. Поверьте моему опыту.
Из уважения к представителям Союзного штаба говорили только по-английски.
Капитан Нортон буркнул, не вынимая трубки изо рта:
— Парочка повешенных на рее украсит этот хорошо выправленный такелаж.
— Боюсь, что парочкой не удастся обойтись, — сказал Гиллер.
Нортон повернул к нему голову:
— Не тревожьтесь, барон, мы будем справедливы.
Майор Нобль сказал, обращаясь ко всем:
— Меня, джентльмены, интересует вон тот японец. Чем он успел набить брюхо? Осел на фут ниже ватерлинии. Эти японцы, как муравьи, тащат все, что в состоянии поднять.
— Придется выяснить, — как бы подумал вслух капитан Нортон. Майор Нобль понимающе склонил голову, он отлично знал службу: этот капитан занимал такой пост в Союзном штабе, что к его словам прислушивались адмиралы.
Стива Бобрин, как только заметил на палубе катера начальство, сразу догадался, кто это пожаловал, и приветственно замахал рукой.
Нобль спросил:
— Кто это так непосредственно выражает восторг по поводу пашего прибытия?
Барон ответил:
— Единственный человек, заслуживающий доверия, его показания будут иметь огромную ценность.
Вице-адмирал радостно воскликнул:
— Лейтенант Бобрин! Да-а, отличный молодой моряк. Редкий, можно сказать, в наше тяжелое время.
— Вызвать завтра в восемь до полудня! — приказал капитан Нортон.
Катер, обойдя «Орион», направился к миноносцу. «Отранто» стоял в полумиле от клипера, ближе к выходу из бухты.
Старший офицер сидел в кресле у круглого стола из красного дерева. И хотя за бортом было еще довольно светло, яркая лампа освещала карту, развернутую на полированной столешнице. Командир стоял, опершись руками на стол, и, прищурясь, рассматривал побережье Японского моря от мыса Поворотного до Императорской гавани.
— Да, положение! — сказал командир. — Точь в точь, как в Плимуте.
— Не совсем. Я бы сказал — почти. Здесь обстановка намного сложней. Я бы сказал — гибельней.
— Ну уж, Николай Павлович! Вы сгущаете краски! Да, обстановочка не из простых, но у меня остается еще надежда…
— Слабая, Воин Андреевич. Не будем себя обманывать. Нам следует быть готовыми ко всему и принять безотлагательные контрмеры, и сейчас! Немедленно! Завтра уже будет поздно.
— Да, но что?.. Какие меры?
— Частично вы их уже приняли. Вот карта на вашем столе! Вы погрузили уголь…
Воин Андреевич прошелся до двери, вернулся к столу:
— Действительно, вы же знаете, я давно думаю о возможности выбора. И выбор только один, почти как в Плимуте. Но там никто не подозревал, что мы решимся на такой шаг, привыкли к русской покорности, они даже в душе не верили в серьезность революции у нас, все экспедиционные корпуса снаряжались главным образом, чтобы застолбить золотоносные, нефтеносные, лесные и прочие участки и как устрашение для соперников. Думали, что воспользуются нашей слабостью… Я отвлекся. Там нас не сторожили, не обвиняли, не вешали на шею всех собак. Теперь этот «Отрантишка» — так называют его матросы, словно пес у ворот… Пока нам повезло только с углем. Какой подлец этот начальник порта! Взял двести фунтов стерлингов. Говорит, что «вам все равно, деньги не ваши, а мне, сами понимаете: жалование не платят уже полгода. Надо как-то жить, две дочери, сын…». И, по существу, он прав. Да! Еще говорит, что все тащат, разворовывают Дальний Восток. Японцы почти очистили остров. Вывезли все, включая адмиралтейский якорь, лежавший здесь со времен Невельского, запасы фуража и всех лошадей в придачу. Что делается, Коля!
— Надо действовать решительно, не теряя ни минуты.
За бортом послышался шум парового катера, он прошел невдалеке, вода в графине качнулась несколько раз и замерла.
Оба настороженно прислушались. Когда шум винта затих, командир взволнованно продолжал:
— Вы забыли, Николай Павлович, что не только мы с вами на клипере. А матросы? Как они отнесутся к новым тяготам, смертельному риску и, что скрывать, возможно, верной гибели?
— О гибели говорить еще рано. Матросов я беру на себя…
В дверь раздался характерный стук, ленивый, небрежный.
— Герман Иваныч! — обрадовался командир, как будто тот должен был принести неожиданные новости, которые снимут с него непосильный груз.
Радист вошел, как всегда, с печальной саркастической улыбкой и остановился посреди салона, спрятав руки за спину. Без вводных слов он стал передавать содержание телеграммы:
— «Отранто» приказано повысить наблюдение за «Орионом». Категорически запретить общение с берегом. Командир получил нагоняй за то, что дозволил нам отбункироваться. Прибыла следственная комиссия. Только что. На катере. В числе инквизиторов наш барон в новенькой английской форме. В телеграммах его называют экспертом по русским вопросам. Все! — И добавил от себя: — Положение гадкое. Хуже трудно представить.
Командир и его помощник молчали. Несмотря на все, в них еще тлела какая-то смутная надежда, что все обойдется. Комиссия не приедет, вице-адмирал сменит гнев на милость, новые, более важные дела заставят англичан оставить клипер, да и мало ли что могло случиться в это смутное время. Но ничего отрадного не произошло. Петля сжималась все туже. При полном молчании появился лейтенант Бобрин.
— Прошу извинить, я, кажется, помешал, на мой стук никто не ответил. Ваше высокоблагородие, господин капитан второго ранга…
Командир болезненно поморщился:
— Ну что вы, Степан Сергеевич, все «благородите» меня. Был давно приказ перейти на новую форму обращения. Ну что там у вас случилось?
— На мой взгляд, у нас происходят события недопустимого характера.
— Ну, что там еще?
— Сейчас в матросском кубрике происходит сходка. Я слышал сам, как беглый матрос, или, вернее, субъект в матросской форме, призывал захватить шлюпки и бежать на материк к партизанам. Его следует немедленно арестовать и выдать властям!
— Николай Павлович, выясните, что за сходка! Я же приказал — никаких сходок! У вас есть еще, и видно теперь, приятные новости?
Стива погасил улыбку на своем сияющем лице.
— Прибыла следственная комиссия, и среди них вице-адмирал. Последнее обстоятельство дает право надеяться, что с нас снимут многие обвинения. — Стива не выдержал и опять улыбнулся. На нем безукоризненно сидела новая форма, сияли золотом новенькие погоны, перчатки мисс Элен сидели как литые. И сам он был как бы совсем другой, новый, ликующий, уверенный, что все эти люди, еще так недавно стоявшие над ним или считавшие себя равными ему, как, например, кондуктор Лебедь, сейчас опускаются все ниже и скоро будут повергнуты в прах не без его участия. Теория случая торжествовала. Он как бы снисходительно вскинул руку к околышу фуражки, тоже новенькой, с козырьком чуть иной формы, чем положено, повернулся кругом, и чувствовалось, что все это он делает исключительно но своему собственному желанию, а не потому, что так положено но уставу.
Все трое молча проводили его взглядом.
Воин Андреевич сказал:
— Нельзя допустить, чтобы команда предпринимала что-либо раньше времени. Пожалуйста, Николай Павлович, Герман Иванович, идите к ним. — Командир позвал вестового и, когда Феклин появился в дверях, приказал немедленно вызвать к нему артиллерийского офицера и старшего механика.
В матросском кубрике у трапа все это время стоял отец Исидор, потупясь и вникая в каждое слово, наблюдая за своей паствой, явно готовой к бунту. И хотя его пастырский долг обязывал тушить искры неповиновения, не давая им разгореться пламенем, призвать к смирению, в а ста вить положиться на волю божию, без которой, как известно, «не упадет и волос с головы человека», иеромонах молчал, так как его мятущаяся душа была с этими людьми, ищущими правды и готовыми за нее умереть.
Когда товарищ Илья умолк, отец Исидор сказал рокочущим басом:
— Много морей мы прошли, много перенесли бурь и прочих испытаний силы нашего духа, и все это время шел спор и внутри каждого из пас и между собой, на чью сторону стать в смуте великой, что идет на многострадальной Руси нашей. И я думал и вникал, вот сейчас решил, товарищи матросы, снять свой сап и идти с вами до последнего своего часа, так как вижу, что справедливость на вашей стороне. — И отец Исидор сбросил рясу, под которой оказалась полная матросская форма.
Все вскочили, и в кубрике раздался оглушительный возглас ста матросских «луженых» глоток, выражающих свой восторг и одобрение.
Наступили минуты, когда нельзя уже было отмалчиваться, скрывать свои мысли, выжидать, а надо было сказать свое слово, на чьей ты стороне, с кем! Пусть даже тебя еще грызет червь сомнений, останавливает страх, все равно надо было стать по одну из сторон черты, которая наконец ясно проступила на клипере, и люди делали этот шаг.
Командир не сомневался в убеждениях старшего механика и потому, чтобы не вызывать ненужных разговоров со стороны этого приверженца монархических порядков, просто приказал ему через полчаса приготовить машину.
Стармех обрадовался:
— Так, значит, идем во Владивосток?
Командир, ничего не ответив, отпустил его кивком головы.
С Новиковым было сложнее. Артиллерийский офицер пришел к нему одновременно с Андреем Андреевичем и, услышав приказ приготовить машину, все понял.
— Ну, Юрий Степанович, вы знаете, зачем я вас вызвал?
— Да. Знаю…
Командир выжидающе молчал.
— Знаю и готов предложить три варианта, с помощью которых мы можем выйти из бухты.
Командир перевел дух:
— Я слушаю.
— Снарядить взрывчаткой брандер и подорвать миноносец.
— Так… Второй?
— Обстрелять его танки с нефтью. Поджечь!
— Третий.
— Таран!
— Таранить рискованно. У нас маломощная машина, и мы можем в нем завязнуть. Были подобные случаи. Брандер — соблазнителен, да придется жертвовать жизнью людей. Отпадает и этот вариант. Третий принимаю как единственно возможный, хотя и не сторонник таких методов, но выбора у нас нет. Готовьте расчеты и ваши орудия!
— Есть!
— Постойте, Юрий Степанович, голубчик, мамочка моя!
Новиков не мог сдержать улыбки: никогда еще он не удостаивался таких знаков расположения.
— Будете стрелять только по танкам с нефтью и по машине.
— Есть!
— Идите, голубчик… Феклин!
Вестовой влетел в каюту и остановился, тяжело переводя дух. Командир, взглянув на его лицо, понял, что произошли еще какие-то важные события.
— Ну что там еще случилось?
— Гринька только что приплыл с «Отранты». На мостике он с капитан-лейтенантом. Вас просили…
— Гринька? Ах да, Гарри Смит! Идем живо!..
Поспевая за командиром, Феклин не удержался, чтобы не сообщить еще одну новость, по мнению вестового заслоняющую собой все последние события:
— И знаете еще, Воин Андреевич, что наш отец Сидор сана себя лишил?
— Что за чепуха? Оставь, тут и без сана…
— Да нет, правда, рясу скинул, а под ей вместо его кальсонов в полоску — клеш, и фланелька, и тельняшка…
— Ладно, ладно, потом, — отмахнулся Воин Андреевич, взбегая на мостик.
Его встретил старший офицер и сказал по-английски:
— Они догадались или просто предосторожность, но держат нас под прицелом. Завтра приходят сюда еще два эсминца. Приказано нас всех снять с клипера, взять под стражу, начать немедленно следствие и закончить в два дня, включая суд.
— Спешат! И нам нельзя терять ни секунды. Сейчас уходим. У нас есть единственный шанс вырваться отсюда.
— Да, один из тысячи! Если мы первыми откроем огонь…
— Это мы и сделаем, Коля! Рубите канат! Смит?
— Я, сэр!
— Лейтенант Фелимор на судне?
— Нет, сэр, еще на подходе его сняли…
— Хорошо! Камень с сердца. Идите вниз! По местам! Боевая тревога! В рынду не бить!
И хотя все уже стояли у своих мачт, у пушек, у брашпиля, у котлов, у машины, команду подхватили боцманы и унтер-офицеры, передавая ее непривычно тихо.
«Орион» бесшумно двинулся к выходу из бухты. Его маневр заметили вахтенные на палубе миноносца. Прошла минута, пока доложили Коулу и тот поднялся на мостик. Комендоры на миноносце приникли к прицелам и, как было приказано, целились по мачтам. Ослепительно вспыхнул прожектор, и его луч стал ощупывать палубу «Ориона». Клипер казался беззащитным существом, идущим на верную гибель. Сейчас раздастся залп из всех бортовых пушек миноносца — и полетят за борт его стройные мачты. Капитан Коул детально рассчитал со своим старшим артиллеристом, как все это произойдет, в случае если командир парусника, охваченный приступом безумия, попытается снова бежать. Теперь капитан Коул ждал, пока поднимется на мостик «высокая комиссия»: ему бы никогда не простили, если бы он лишил ее такого зрелища. Не беда, если русские выйдут из бухты, тем больше оснований будет расправиться с ними в открытом море, и притом гораздо эффектней. Он только приказал просигналить: «Остановитесь, иначе — смерть».
На мостик миноносца один за другим стали подниматься члены следственной комиссии.
— Мне их искренне жаль, — сказал капитан первого ранга Струков.
— Между прочим, я этого ожидал, — мрачно проговорил вице-адмирал Лебединский-Свекор и обратился к Струкову по-русски: — Какой ужасный пример, Павел Федорович! Но Коул их проучит! — Последнюю фразу он произнес по-английски.
Капитан Нортон презрительно улыбнулся.
Майор Нобль воскликнул:
— Они молодцы! — И спросил Гиллера: — Вы несколько разочарованы, барон? Сожалеете, что никого нельзя будет повесить?
— На этот счет я не беспокоюсь, русские — живучий народ. Вместо пушек я предпочел бы торпеду.
— С такого расстояния? По кораблю, начиненному тротилом?
— Ну нет. Не здесь…
Прочитав предупреждение капитана Коула, лейтенант Бобрин бросился к мостику. У трапа его остановили два матроса с винтовками:
— Приказано не пускать!
— У меня срочное… важное сообщение… — сказал он, задыхаясь.
С мостика донесся непривычно жесткий голос командира:
— На место, лейтенант!
— Что вы делаете? Безумство! Остановитесь!
— Арестовать! Вниз!..
Бобрина схватили под руки, и он с ужасом понял, что для него все погибло. Сейчас секунды решали все. Ему не удастся изменить решение командира «погибнуть и погубить всех». «Но что, что? — билось у него в голове. — Какой выход? И есть ли он в таком безнадежном положении? Надо было уходить, бежать, не дожидаясь этой ночи. Ведь я знал, на что способны эти люди. Меня не научило ничему безумное решение командира взорвать клипер в „ревущих сороковых“. О боже!» — Бобрин обмяк в матросских руках, и часовые почти выпустили его, подталкивая к трапу, ведущему в жилую палубу. Неожиданно Бобрин рванулся к борту, раздался плеск. Матросы оцепенели, в их дисциплинированном сознании мелькнула мысль: «Как это мы? Не уследили Белобрысенького! Утонет!» Полагалось во всю глотку оповестить: «Человек за бортом!» Однако никто из них не проронил ни звука; в такую минуту нельзя было отвлекать командование. И они тотчас же забыли о нем, заняв свое место у трапа и глядя на длинное тело миноносца, жмурясь от ослепительного луча прожектора, ощупывающего борт, мачты, палубу, и ждали, что вот-вот плеснут огнем орудийные жерла. В эти страшные мгновения не один моряк на клипере подумал о Великом корабле.
Лейтенант Бобрин, ликуя, что на этот раз он не упустил единственный шанс, счастливый случай, плыл к миноносцу.
Капитан Нортон покосился на Коула. Как тактичный офицер, он не считал себя вправе вмешиваться в распоряжения другого офицера — командира корабля, но все же не мог не дать понять, что пора переходить к более решительным мерам. Коул понял этот взгляд и кивнул артиллеристу, чтобы тот приступал к выполнению намеченного плана укрощения русского парусника. Дело это казалось и командиру, и старшему артиллеристу настолько простым, с давно решенным исходом, к тому же у них были такие высокие судьи, что им хотелось как можно лучше, по всем правилам провести эту «учебную стрельбу». Артиллерист чуть помедлил, передавая приказание, офицеры у орудий также сделали небольшие паузы, прежде чем отдать приказание зарядить. А в это время клипер подходил, занимая наивыгоднейшее положение для стрельбы из своих двух пушек. Всего на несколько секунд артиллерийский офицер Новиков опередил своего коллегу; с «Отранто». Исполнилась мечта комендора Серегина, наводчика носового орудия: первым трахнуть по противнику. И он трахнул. Снаряд попал в танк с нефтью. К небу поднялось пламя, гася звезды. Нефть огненным дождем падала на палубу миноносца, разгоняя орудийную прислугу. Следственная комиссия кинулась в рубку, стараясь погасись одежду, стереть с рук и лица горящую нефть. Барон фон Гиллер поскользнулся и упал, барахтаясь на горящем мостике, никто не помог ему встать, в зверином ужасе офицеры топтали его ногами.
Одновременно с носовым орудием «Ориона» открыла огонь и его кормовая пушка, поражая в борт миноносец.
Не прошло и минуты, как «Отранто» потерял управление. Обезумевшая команда стала прыгать в воду с правого борта, где не было горящей нефти.
Командир клипера приказал прекратить огонь.
Путь из бухты был свободен.
Забрезжило утро. «Орион» уходил на север. Дул свежий юго-западный ветер. Командир еще ночью приказал, не прекращая паров, поднять паруса. Вахтенные на марсовых площадках зорче, чем когда-либо, всматривались в серое море, вспыхивающее белыми гребнями на высоких волнах. Слева тянулся гористый берег, поросший густым лесом, до него было около двух миль, у берега кипел прибой, гул волн слышался на палубе. Вид берега успокаивал, где-то уже недалеко находилась спасительная бухта. На палубе готовились к высадке на берег: из трюмов поднимали тюки с теплой одеждой, ящики и мешки с провизией, оружие. Все шлюпки подготовили к быстрому спуску на воду. Мало кто вздремнул за прошедшую ночь, и все же чувствовалось бодрое, приподнятое настроение. У открытого люка, из которого поднимали лебедкой ящики с консервами, унтер-офицер Бревешкин, явно ища расположения своих вчерашних недругов, говорил, почти не ругаясь:
— Кто, братцы, не ошибается? И на старуху бывает поруха, какие у ей ни есть распрекрасные глаза и продчие части фигуры. Ведь что нам говорил Белобрысый, царство ему небесное! Дескать, пойдем за ним и получим кресты, медали, чины всякие. В офицеры, говорит, всех произведут, а сам, туды его… в адмиралы метил. Я видал, как нашего лейтенанта взяли под арест, а он, туды его… за борт! Во дурак! Я видал, как он поплыл к «Отранте», а из ее — огненная нефть хлестанула и потекла ему навстречу, как пал по лугу. — Бревешкин вздохнул. — Утоп обгорелый. Л надо сказать, далеко метил. А с другой стороны, кто знал, что так дело обернется? О себе скажу, как мы обрубили канат да пошли на «Отранту», у меня дух захватило! Вот, думаю, даст бортовой залп или пустит торпеду, и полетим мы, как сказал тогда Гринька, на Великий корабль, еще хорошо бы, если так. Я все смотрел, как там у пушек прислуга ихняя ждала команды, как даже заряжать уже стали, и тут наш артиллерийский офицер, дружок бывший Белобрысенького, стеганул по его нефтяному баку. На какой-то секунд опередил! Не боле, туды его в мелкие и крупные звезды, в гороховый кисель…
Зосима Гусятников оборвал Бревешкина:
— Оставь свои кисели, унтер. Не идут они к такому серьезному делу. Лестно тебе, что матросы смеются над твоей брехней. В слове должен быть смысл и понятие, вот что. Постой! Не все и в тебе дурно, ты сегодня и по-человечески говорил, и даже одну умную мысль высказал — про секунду, от которой наша жизнь зависела. Командир наш на ней, на этой секунде, да на смелости держался в прошлую ночь и ни разу в наше плавание не прозевал эту самую одну-единственную секунду…
Отец Исидор, в матросской робе, один оттаскивал тяжелые ящики к борту, ветер трепал его пастырскую гриву, волосы падали на глаза. Он остановился, тряхнул головой, сказал, будто подумал вслух:
— Только ступлю на твердь, тотчас же остригу власа, а бороду оставлю, так как знаю — морозы здесь стоят крепкие, а борода греет. — И снова принялся за работу.
Зуйков, Трушин и Брюшков укладывали снаряжение в баркас. Зуйков сказал Брюшкову:
— Ты, Назар, держись бодрей! Будешь ты не каким-нибудь там прихвостнем, наемником у англичан или японцев, а народным бойцом.
— А иди ты знаешь куда?
— Известно куда. Посылай! Дальше, чем Бревешкин, не пошлешь. Все же ты поразмысли, время у тебя будет пошевелить мозгами.
Трушин покачал головой:
— Нет уж, Спиря, время все вышло. У нас у цыган есть пословица: «Думай, пока на коня не сел, а сел — поводья туже натягивай!» Мы сели на коней!
— И то правда! — согласился Зуйков. Помолчав немного, он толкнул в плечо Брюшкова: — Есть справедливость все-таки на свете, Назар!
— Какую еще там справедливость нашел? Не бросай ящик, руку прищемил! Черт!
— Извиняй. А справедливость такая, что то мы воевали за твои интересы, а теперь ты повоюешь за наши интересы! Что, не правда, Роман?
— Точно! Да только Назару кажется, что идет он с нами насильно, а на самом деле будет воевать за себя и за свою землю. Если вся эта сволочь сядет нам на шею, то и ты, Назар, будешь вроде крепостного. Советская же власть с чего начала? С декрета о земле! Земля теперь крестьянская, твоя, значит! И воевать ты будешь за эту самую землю.
— Ладно, посмотрим, — устало сказал Брюшков, — там видно будет.
— О! Подвел идею! — с восхищением воскликнул Зуйков. — Если взаправду будет справедливый дележ, то, Назар, у нас с братьями земли поболе будет, чем у вас. А?
Подбежал Лешка Головин. Все трое оставили работу и вопросительно смотрели на него.
Лешка не стал испытывать терпение, весело выпалив:
— За нами погоня! Миноносцев пять, а может, и десять! Японских, французских, английских, американских!
— Ну, что веселого нашел, дурень? — осерчал Зуйков. — Что они тебе, леденцы везут?
— Надо мне! Только им нас теперь не догнать.
— С двадцатиузловым ходом?
— Хоть с тридцати. Они только сейчас вышли. Герман Иванович всю ночь наушники не снимал. «Отранто» молчал. Что-то у него с радиостанцией стряслось.
— Стрясется, если все судно разнесли, — сказал Брюшков, — за это по головке не погладят.
— Так мы им и дались, чтобы гладили! Дядя Герман говорит, что японцы своим передали о нас, а пока те раскачались, мы вон где уже! Скоро в бухте будем!
Матросы и юнга поглядели на желанный берег, ярко освещенный поднявшимся из моря солнцем.
Неожиданно засвистели боцманские дудки, и разнеслась команда:
— Мыться, бриться, к построению… форма три!
Как в праздники и перед увольнением на берег, команда выстроилась на шканцах. Офицеры, также в парадной форме, стоят на мостике. Матросы не спускают с них глаз. Уже пронесся неведомо кем пущенный слух, «что все образовалось: получен приказ идти в Петроград». И как будто действительно «все образовалось» — командир, как обычно улыбаясь, что-то говорит своему помощнику, разве только лицо его чуть побледнело, да всем понятно, что им пережито за последние часы.
Отданы положенные рапорта. Командир, как всегда, смотрит на свои золотые часы, подходит к поручням и обращается к матросам так, как никогда еще никто не обращался к ним:
— Товарищи! Дорогие соратники! Поздравляю вас с первой победой над врагами нашей родины!
Прошло несколько томительных секунд, прежде чем строй несколько вразнобой отозвался троекратным «ура».
— Флаг поднять! — как-то особенно торжественно прозвучал голос командира, и вздох удивления прошел по строю: на ветру развернулся и затрепетал пропитанный солнечным светом красный флаг.



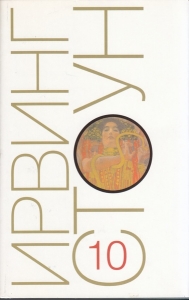

Комментарии к книге «Клипер «Орион»», Сергей Георгиевич Жемайтис
Всего 0 комментариев