Сергей Кравченко. Тайный Советник
ПРЕДИСЛОВИЕ
В истории нашего беспокойного государства есть множество замечательных дат. Это не годы торжеств или великих сражений, национальных достижений или культурных откровений. Они и в других странах случаются регулярно. Нам не это интересно.
Здесь, в России происходят такие события, которые круто выворачивают судьбу страны и окрестного мира. Иногда это и не происшествия, достойные театральной постановки, а так, цепь незначительных дел, слов, явлений, но их соединение вызывает коренной поворот истории. Или не вызывает едва-едва. Эти цепочки фактов заряжены энергией нашей собственной богини судьбы, не удостоенной христианского пантеона.
Одним из страшных лет нашей истории был год 1560-й от Рождества Христова, или, как мы тогда считали, — 7068-й от Сотворения Мира, — наш Мир тоже достоин большой буквы, а Сотворение его — важнее любого рождества.
7068 год начался 1 сентября 1559 года и закончился 31 августа 1560 года. Так было заведено. К новому году успевали расправиться с уборкой урожая и начинали новый сельскохозяйственный цикл. Так что, наша привычка 1 сентября открывать учебный год и театральный сезон имеет глубокие генетические корни.
Вы не запутались в смещении летоисчислений? Ну, хорошо. Я просто хотел обозначить, что в тот 7068 год как раз и уместились почти все события этой книги. Осенью, в ноябре Иван Грозный разругался в очередной раз с боярством, духовенством и уехал на богомолье. В этом походе по лесным монастырям он впервые заметил недомогание своей любимой жены Анастасии. То, что произошло потом, так натянуло нить, а лучше сказать — тетиву русской судьбы, что по-всякому могло дальше получиться. Еще неизвестно при каком государственном устройстве мы бы сейчас жили, пойди дело по-другому… Что еще хочется отметить. Если подсчитать количество «знаменательных дат», лет «коренного поворота», «великого перелома», «крутой перестройки», «революционных преобразований», «радикальных реформ» — лет, когда наша страна находилась на многоходовом распутье, да поделить это число на общий наш срок, уверяю вас — получится намного гуще, чем у других стран! Никакому другому государству история не предоставляла и не предоставляет до сих пор такой свободы выбора.
А вы говорите, мы не свободны! Очень даже свободны, дорогие мои! Слишком свободны! Нас болтает, как в проруби, и мы едва успеваем прочесть на придорожном камне: «Направо пойдешь...», а кривая кляча под седлом уже заваливается влево. И правильно. Она же не умеет читать. Зато и нам так легче. Меньше душевных сокрушений. Мы ж не виноваты в нашем выборе? Он как-то сам по себе происходит?
Вот и в 1560 году что-то потащило нас налево. Что-то, не отмеченное монументами, почти не описанное пером, или вырубленное топором.
А впрочем, вполне обычный по тогдашним меркам был год. Зима наступила вовремя. Холода держались до апреля. Пасху отгуляли весело — стряхнули проклятый пост. Лето взялось дружное, все у нас было посеяно, зеленело, собиралось колоситься. Рыба ловилась кошмарная — белужины едва помещались на телегу, осетры напоминали ракеты среднего радиуса. Зверь в прицел выбегал резво, без посторонней помощи. Молодой был у нас зверь. Пиво мартовское как раз поспело, мед приобрел законный градус и соперничал с квасом в утолении духовной жажды. Война тоже велась неплохо — на чужой территории, — как всегда «исконно нашей».
Но кое-кому и в такую расчудесную пору не спалось, не пилось и не елось. Вот беспокойный народ! Об этих людях я расскажу сегодня. Все даты приводятся по Юлианскому календарю «старого стиля».
Главные действующие лица
1. Иоанн IV Васильевич «Грозный», царь и великий князь всея Руси — государь многих царств, княжеств и земель.
2. Анастасия Романовна Захарьина-Кошкина, царица — первая жена Иоанна.
3. Иван и Федор — их дети.
4. Митрополит Макарий — предстоятель Русской Православной Церкви.
5. Отец Сильвестр, протопоп, пресвитер Благовещенской Кремлевской церкви — духовник царя.
6. Князь Дмитрий Курлятьев, — сподвижник Сильвестра.
7. Отец Савва, игумен Сретенского монастыря.
8. Алексей Адашев, окольничий — бывший фаворит Иоанна.
9. Федор Смирной, сирота из московских жильцов — воспитанник Сретенского монастыря.
10. Архип и Данила, воспитанники Сретенского монастыря — друзья Смирного.
11. Сидор Истомин, полковник Стременного стрелецкого полка, — начальник царской охраны.
12. Ганс-Георг Штрекенхорн, немецкий дворянин на русской службе — сотник Стременного полка.
13. Бромелиус, Стэндиш, Элмс, Робертс и Фринсгейм — иноземные лекари.
14. Прохор Заливной, младший подьячий Дворцового приказа.
15. Василий Ермилыч Филимонов, стряпчий Воровской избы.
16. Егор Исаев, палач.
17. Иван Глухов, средний подьячий Поместного приказа — ближний дворянин царя Ивана.
18. Волчок и Никита — его подручные.
19. Анисим Петров, ключник царицы Анастасии.
20. Поликарп, причетник Благовещенской церкви.
21. Михаил Васильевич Тучков, бывший боярин — враг и оскорбитель царя Ивана.
22. Гаврила Шубин, ловчий и печатник боярина Тучкова.
23. Борис Головин, новгородский стражник — вольный человек.
24. Данила Матвеевич Сомов, бывший старший псарь, — ближний человек царя Ивана.
25. Ярик и Жарик, близнецы — малолетние язычники.
26. Вельяна, русалка — их сестра.
27. Феофан, старец — лесной отшельник.
28. Мария Магдалина, крещеная полька — колдунья.
Глава 1. Федор Смирной попадает в историю
Вечером в среду 12 июня 1560 года воспитанник Сретенского монастыря Федя Смирной сидел в гриднице большого дворца и ждал приема у государя Иоанна Васильевича. Надо сказать, вид у Феди был не очень подходящий для царской аудиенции — лицо разбито в кровь. Пятна на черной рясе уже запеклись и не слишком бросались в глаза, но все равно портили общий вид. Особенно некрасиво выходило сзади: ряса, разорванная от ворота до пояса, обнажала полотняную рубаху, вывалянную в грязи и дворовой дряни.
В другой раз Федору позавидовали бы многие московские обыватели, — мало кто мог похвастать беседой с великим самодержцем. Но сегодня у Феди не было завистников. Жильцы кремлевские, китайгородские и прочие хорошо знали: нет ничего опаснее, чем попадаться Грозному на перемене настроения. Как раз такая перемена происходила в эти дни. В ней никто не сомневался, как не сомневаются в неизбежности грозы, когда бывшее ясное небо покрывается тучами в цвет вороньего крыла.
Еще несколько дней назад все было спокойно. Утром 9-го, в последний день перед Петровым постом Царь пребывал в бодром настроении. После одевания к нему подошел ключник царицы Анисим Петров и осмелился шептать на ухо. От этого Иван Васильевич посветлел, стал шутить, сделал несколько распоряжений о завтраке. За столом объявил благую весть: Божьей милостью младший сын Ивана, великий князь Федор Иоаннович обрел дар речи. Это было чудесно, потому что малютка Федор выглядел нездоровым и за три года жизни не вымолвил ни слова. Теперь появилась надежда на исправление малыша.
Стали выпивать, закусывать, веселиться. Царь от радости рассуждал вслух, что неплохо бы посетить какой-нибудь дальний монастырь. Потом вздрагивал — вспоминал несчастное паломничество 1553 года, в котором скончался сын Дмитрий. Кубок романеи вернул его мысли в доброе русло, и он предложил застольным боярам устроить смотр войск, отправляемых на Ливонскую границу. Бояре были не против.
Однако, духовник царя протопоп Сильвестр начал ерзать, не донес кусок белуги, куда следует. Сильвестру остро не нравилась Ливонская война. Он полагал, что истребление христиан, — хоть и католиков, — менее угодно Богу, чем, например, освобождение Крыма от разбойничьих татарских поселений. Тем более, не следовало напоминать Господу о Ливонской войне среди молитв о благополучии великого князя.
Но Ивана уже нельзя было отвратить от парада. В глазах его сверкали алебарды, в ушах визжали рожки и били бубны.
Сильвестр по обыкновению надулся. Раньше это мистически действовало на царя. Он очень ревниво относился к благословенности своих дел, зная неблагословенность плотских помыслов. Но сегодня был особенный день. Хотелось всеобщего удовольствия, единомыслия, ликования, умиротворения.
Власть Сильвестра больше не казалась безвыходной. Иван помнил, как в 1553 году после взятия Казани Господь ниспослал ему прозрение. Тогда Иван слег от нервного перенапряжения, и все подумали, что умрет. Измена вскрылась сразу. Двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий заявил претензию на трон. Он отказался присягать наследнику младенцу Дмитрию, а присяги родному брату царя — безумному Юрию с него и не требовали. Боярство раскололось на две партии, пошли совещания, начались прямые стычки у ложа умирающего. Дело доходило то плевков и толкотни. Одни не хотели присягать молокососу Анастасии — их воротило от мысли оказаться под регентством ее братьев — бояр Захарьиных-Кошкиных. Другие, наоборот, опасались растерять привилегии, нажитые при дворе и связанные с партией царицы. Иван с досадой поглядывал на ссору придворных. Особенно больно било каменное молчание Сильвестра. Духовный отец, так долго наставлявший, учивший различать добро и зло, теперь затаился, ждал, чья возьмет. Выходило, его не беспокоит судьба наследников и царицы, не тревожит предсмертный зуд Ивановой души. Потом донесли, что больше всех мутили воду в пользу Старицкого как раз люди Сильвестра, призванные ко двору, поднятые по службе. Прямых доказательств измены не нашлось, но подозрение Иван затаил. Вернее, не он его затаил, — оно само затаилось. Не все настроения властелина поддавалось самодержавному управлению.
И вот теперь Сильвестр хмурился, был готов противоречить даже в такой день. Он должен бы первый радоваться благой вести! — нет, скорбит о ливонских католиках!
Иван начал гневаться. Горячая волна поднялась у него откуда-то снизу, от желудка, огнем прошла под ребрами, бешеной жилкой запульсировала в горле, застучала в виски.
Но тут солнечный луч отразился от золотого купола колокольни, прострелил желтое сирийское стекло в свинцовом переплете и упал на грудь сварливого протопопа. Там солнечный зайчик замер на панагии — эмалевой подвеске с картинкой Спаса, высветил лик Бога Отца.
Иван засмеялся, от сердца отлегло. Остальные участники завтрака тоже увидели освещенного Спаса, и хоть не поняли, что тут смешного, но захихикали дробным льстивым хором.
— Ты бы, святой отец, лучше небесным откровением занялся, чем нас на Крым поворачивать. Нам сейчас из Москвы нельзя отлучаться.
— Каким откровением? — опешил Сильвестр. Он один не видел солнечного блика, но думал как раз о крымских и ливонских делах.
— А вот, гляди-ка, свет Божий, пройдя сквозь басурманское стекло, не испортился, не опоганился, а Спаса осветлил! А ты не хотел стекла менять! Не скажешь, отчего такое чудо? — тут застольные перестали улыбаться: чудо — дело серьезное!
Сильвестр увидел свет на панагии, замер, чтоб не спугнуть зайчика, но молчал.
— А оттого нам это видение, — довольно рассуждал Иван, — что сарацины — твари смертные, а песок Палестины, из которого стекла льют, — вечен! Видать в стекло попала песчинка, на которую сам Христос наступал!
Компания перестала жевать и забыла дышать.
— На все воля Божья, — выдавил Сильвестр сквозь непрожеванную белугу.
Решили угодить всем — ради Христа, заговенья Петрова, воскресного дня и царской радости. Было объявлено посещение ближнего монастыря, какой укажет Сильвестр, потом смотр войскам, потом большое застолье в честь Федора Иоанновича. Порядок мероприятий определялся не прихотью царя, а реальным положением дел:
— в монастырь можно нагрянуть без подготовки, — войска к походу готовы, но к смотру — не совсем, — обед по большому обычаю и вовсе требует серьезной проработки; каждое блюдо из сорока перемен следует сварить, изжарить, сервировать, продегустировать на вкус и яд, подать точно в срок.
Стали собираться в Сретенский монастырь. Посыльный от Сильвестра опередил царский выезд на час, известил игумена, монахи забегали, засуетились, стали наводить показной порядок. Послушников выгнали вместе с чернецами подметать и украшать, потом велели переодеться и строиться к встрече.
Федя Смирной, сирота 18 лет, как говорили — из московских жильцов, стоял в первом ряду с блюдом для даров. Федю часто назначали к дарам: очень красиво смотрелись его светлые волосы на черной рясе. Друзья Архип и Данила беззлобно называли его «ублюдком», и Федя не обижался. Если рассуждать здраво, ублюдок — лучше, чем сирота.
Погода стояла прекрасная. Лето началось без жары, — буйной зеленью и мягким теплом. Солнце освещало новые тесовые крыши монастырских построек, они казались золотыми, сливались с церковными куполами. Все было готово, но царь не ехал. Федя стал разглядывать окружающих.
Вот игумен отец Савва. Телом толстый, лицом худой, нервный. Добивает Савву московская жизнь. Тяжко ему после Волоколамского монастыря.
Вот кот Илларион — важно шествует по свободному пространству, очищенному для царской кареты. Он тоже толстый, но спокойный, — с умиротворенным лицом... — мордой. Вот таким надлежит быть игумену — величавым, размеренным в движениях и мыслях.
На самом деле кота звать Истома, но отец Савва запретил языческое имя в святых стенах, и пришлось кота «крестить». Три дня назад был день Иллариона — 6 июня. Федя, Архип и Данила подманили Истому на рыбью головку и совершили тайный обряд крещения Божьей твари, окунали кота в купель, заносили в алтарь под рясой. Правда, кот купели не принял, орал и царапался, деревянный крестик с шеи сорвал лапой, крестным знамением пренебрегал, отговариваясь неловкостью двуперстного сложения. И на имя «Илларион» демонстративно не отзывался...
А вон передовой отряд стрельцов. Полдюжины крепышей в ярких, только что пошитых кафтанах. Все на них новое, сапоги блестят, держаки бердышей начищены, будто с утра выструганы. Эти в Ливонию не пойдут, в Москве пригрелись, как Истома. Выстроились вдоль стены справа и слева от ворот. Нервничают.
А вот и движение началось. Ворота открылись как бы сами собой, худые тени монахов метнулись в разные стороны, неурочно ударил большой колокол, грянули хором все прочие. Отец Савва поморщился: никак не удавалось добиться от звонаря правильного колокольного строя.
Первым влетел на монастырскую площадь конный отрок из дворцовой охраны. Вздыбил коня, напылил, зыркнул по сторонам, выскочил наружу. И сразу затопотали десятки тяжелых сапог, — слышно было даже сквозь колокольную неразбериху. Пешие стрельцы Стременного полка — числом до полусотни — вбежали во двор, окольцевали пустую середину, потеснили монахов, воскресных прихожан, прочих монастырских обитателей. Стрелецкий полковник подскочил к Савве, что-то спросил, выслушал ответ, кивнул, что-то сказал, еще раз кивнул, отдал команду ближним бойцам. Красное кольцо разомкнулось, сомкнулось вновь, и Савва, старцы, Федя с блюдом оказались внутри оцепления.
Застучали копыта, несколько всадников влетели в проем ворот, следом по доскам отмостки прогрохотали кареты.
«Спешит государь, — подумал Федя, — если б не спешил, пришел бы пешком. По такой погоде мог и босиком в рясе пожаловать. Набожен отец, богобоязнен».
Иван Васильевич бодро выпрыгнул из крытого возка, обитого кожей, приосанился, привел думы в надлежащее состояние. В дороге — а тут и версты нет — думал о жизни грешной.
Царь был крепкий, высокий, склонный к полноте мужчина с редковатыми, но великолепными черными кудрями, ухоженной бородой с рыжеватыми прядями, с проницательными голубыми глазами. Иван Васильевич вызывал ощущение силы, уверенности в завтрашнем дне, надежности бытия. Поговаривали, правда, о его крутом нраве, грубых выходках, плотских грехах. Но кто безгрешен в 30 лет? Посреди Мира? На вершине власти и славы?
Вслед за Иваном из кареты кряхтя вылез протопоп Сильвестр, оглядел собравшихся, довольно кивнул. Сильвестр был знатоком монастырского распорядка, наизусть знал Номоканон — сборник духовных и мирских правил, сам писал наставления.
Благословясь у игумена, царь громко сказал ласковое слово, начал широко креститься на четыре стороны, поворачиваясь всем телом, кланяясь в пояс. Совершив полный оборот, еще раз поклонился Сретенской церкви, на мгновение замер в поклоне...
Дальше ему полагалось распрямиться, принять царственную осанку, подойти к дарам и во главе процессии следовать в церковь на службу. После службы должна была состояться легкая трапеза, — именно на ее запах проследовал кот Истома. Но ничего этого не случилось.
То, что произошло за малое время выхода из поклона, стало страшной неприятностью для монастыря, стрелецкой охраны, лично полковника. И большой досадой для отца Сильвестра.
Воспитанник Сретенки сирота Федор Смирной уронил на землю блюдо с дарами, толкнул локтем отца Савву и бросился к царю, раскинув руки. Так кот Истома бросался на хвост селедки, подвешенный в трапезной.
Колокола смолкли при выходе царя из кареты, поэтому собравшиеся услышали писк Феди, ухваченного за шиворот боевой рукавицей. Федя рванулся, ряса лопнула, путь был свободен, но тут мелькнула сталь бердыша и пригвоздила подол рясы к земле. Федя рухнул к ногам Ивана, протянул вперед руки, поднял глаза и увидел побледневшее лицо, трясущуюся бороду, казавшуюся совсем черной.
«Слово и дело...» — успел прохрипеть Федя под телами двух стрельцов. Его подняли и отволокли в сторонку.
Иван продолжал стоять в оцепенении, его лицо сменило цвет со смертельно-белого на красный. Потом снова стало нормальным.
Царь отмахнулся от Саввы и Сильвестра, прыгнул в карету и умчался восвояси. А Федю без расспросов завалили в телегу и доставили в Кремль. Там его затолкали в грязную яму на вытоптанной сторожевой площадке и прикрыли дощатым щитом.
«Почему сразу не убили? — думал Федя. — А! Понятно. Будут пытать, спрашивать кто подучил».
Три дня прошли в духоте, жажде, полуголодном сне. Кормили дрянью.
Но вот сегодня вокруг ямы возникло оживление. В течение дня сторожевые стрельцы несколько раз вступали с кем-то в разговоры — Федору показалось, с начальством. Дело идет к развязке, решил Смирной.
И правда, не успело солнце уйти из щели, как крышка отвалилась, и волосатая лапа вытащила Федора на свет Божий. Два стрельца в вонючих сапогах проводили пленника в темноватое помещение под дворцом. Не успели глаза привыкнуть к полумраку, а нос уже подсказывал: «Не пыточная! Запах пытки мы помним!».
Ухо тоже хотело сообщить что-нибудь обнадеживающее — вот хотя бы звон шпор — палачи в шпорах не ходят! — но тут в ухе что-то взорвалось, ударил большой Сретенский колокол, взвыл кот Истома. В глазах сверкнули звездочки, и стало светлее.
Перед Федором стоял давешний стременной полковник, но с кошачьей головой. Он гневно разевал усатый рот.
«За что Истома здесь?» — подумал Федя.
Кот пару раз мяукнул и спросил человеческим голосом: «Ты на кого, сученыш, посягал!?».
Далее выяснилось, что в прошлое воскресенье, в Сретенском монастыре, среди Божьей благодати и при ясном солнце было совершено дерзкое покушение на жизнь грозного и милостивого царя нашего Иоанна Васильевича. Вор-одиночка Федька Смирной намеревался задушить великого монарха голыми руками, изрыгал проклятья, осквернил церковные святыни, смешал с прахом Тело Христово и Кровь Его.
За все это надо было Федьку на месте растерзать, но государь в безмерном человеколюбии велел вора допросить. Так давай, вор, кайся!
Федор осмотрелся привыкшими к темноте глазами. В очаге не было раскаленных инструментов пытки. Огонь тоже не горел. На перетлевших углях стояли ношеные сапоги. Полковник больше в ухо не бил.
«Значит, велено спрашивать осторожно. Значит, царь услышал «слово и дело». Федя сделал добродушное лицо и униженно попросил господина полковника развязать руки для крестного знамения.
Развязали!
Федя спокойно перекрестился, проплямкал губами молитву, очи взвел под закопченый потолок. Сказал полковнику, что заговор был, и было покушение, но не от него, а от сил зла, и есть великая тайна, которую, увы, при всем уважении к господину полковнику сообщить вслух нельзя. Вернее, можно, но не ему, а самому государю. Да, руки можете сковать. Глаза завязать. Нет, уши резать не стоит, — как услышишь вопросы?
Полковник убыл без очередной оплеухи. Потом вернулся совершенно озадаченный. Так Истома возвращался с монастырской поварни в дни Великого поста.
Федора развязали и повели в «белую гридницу» — приличное помещение для дежурного стрелецкого наряда. При этом не толкали, не били, не называли вором, а наоборот, отряхивали со спины солому.
Теперь Федя сидел на лавке под стеночкой, а полковник мягко ходил вокруг по широкой дуге.
«Умыть ли? — думал полковник. — Уместен ли столь убогий вид пред царским ликом? Но, с другой стороны — вор! Битая воровская морда — знак усердия караула. Мы ж ему не сказки сказывать должны с манной кашкой!»...
Тут на входе появилась фигура посыльного — дворцового подьячего Прошки. Начальник караула принял напряженную стойку.
— Полковника Истомина к государю с пленником! — крикнул царский человечек, и Федю подкосило. «Истомин!». Истерический, лихорадочный смех разрывал легкие, лицо налилось кровью, тело стало валиться на лавку. Федя держался из последних сил, но не вынес этой, единственной на сегодня пытки. Всхлипнул, зашелся хохотом. Из глаз брызнули слезы.
— Ты это, парень,.. ты чего? — полковник озабоченно хмурился. — Не боись, даст Бог, жив будешь. Ну, отрежут тебе уши, загонят в Пустозерск, и так и эдак монастырь!
Полковник вытащил из волос Феди последнюю соломинку и пошел за Прошкой. Следом бережно повели Федора. Охраны было только двое стрельцов, причем один из них — сотник.
Глава 2. У царя
Иван Васильевич сидел в Грановитой палате. Две думы насмерть бились в его голове. Одна бесплотно страдала в ужасе от непонятного воскресного происшествия, вопила дурным голосом. Другая молча стояла в уголке и принимала различные телесные формы, представала то клыкастым монахом, то голой девкой, то обезглавленным стрельцом. В любом облике этой думы присутствовала кровь. Кровь на клыках, на голом теле, на стрелецком кафтане. Хотя на кафтане кровь, вроде бы не нужна? Он же и так красный? Для того мы в красное стрельцов и одеваем, чтоб крови не боялись?
Иван задумался о значении цвета, прищурил правый глаз и обнаружил, что все вокруг стало желтым.
«А! — мелькнуло в голове, — это свет в басурманском стекле золотится!».
Но солнце уже ушло за Воробьевы горы, сирийские стекла были тусклыми, как всегда в это время и в этой части дворца. Иван открыл правый глаз и прикрыл левый. Вокруг кроваво покраснело. Резкий голос завопил: «Измена! Воры дерзают младенца известь!» — Какого младенца? — ошарашенно спросил Иван.
— Федора безгласного! — ответил голос.
— Стража! Стража!! — закричал Иван, в ужасе тараща оба глаза.
На крик ввалился полковник Стременного полка Сидор Истомин, еще двое в красном и один в черном. Иван прищурил правый глаз, красные кафтаны утратили кровавый оттенок.
— Воры, — в изнеможении выдавил Иван.
— Вот, государь, — отрапортовал Истомин, вытаскивая из-за стрелецких спин Федю Смирного.
Федя склонился до пола, потом сел на колени, но смотрел на царя спокойно, открыто. Клыков у него не было.
— Ты кто?
— Сретенского монастыря воспитанник Федор Смирной.
— Зачем здесь? — Иван не мог вспомнить, где видел этого белобрысого.
— Вели, всем выйти.
Иван оторопел, хотел кричать, но глянул на Федю, как-то сразу затих и кивнул Истомину:
— Ступай, Сидор, да скажи там, что я жалую твой полк двумя бочками вина.
Полковник хотел предложить Ивану сковать преступника, но осекся, подумал, что ничего страшного, парень хлипкий, и вышел без каблучного стука. Пара стрельцов протопала за ним.
— Как тебя звать? — Грозный посмотрел на Федю пустым взглядом.
— Федор.
«Федя Феде не злодей!» — пискнула в голове царя дерзкая мышь и выскочила из ушной норки. Иван брезгливо стряхнул ее с плеча.
Царь велел Федору говорить и с удивлением узнал, что в Сретенском монастыре некие лихие люди замышляли его убить. Ощущение личной опасности привело Ивана в чувство. Он подобрался, в голове стало ясно, мысли выстроились в четкую вереницу, как придворные у присяги. Оба глаза давали одинаковый цвет.
Личный страх не так пугал и расстраивал царя, как страх за близких. Он и страхом-то оставался, пока неизвестно было, откуда грозит опасность. А теперь, когда сирота рассказал о шести ворах, ряженых в стрелецкие кафтаны, Грозный почувствовал азартное удовольствие.
— Так, говоришь, держаки у бердышей были сосновые?
— Сосновые, государь. И кожа на перевязях нетертая.
— А чего ж ты сразу караул не кричал?
— Я думал. Не верилось, что чужие люди могут вот так просто, среди бела дня нарядиться стрельцами, с оружием войти в обитель, стоять у царя за спиной.
У Ивана побежали мурашки.
— Они сразу приблизились?
— Нет. Сначала прислонились под стеной. Потом, когда стража твою повозку пропустила и кольцо замкнуть промешкала, они в кольцо встали. Стременные на них поглядели, но потом смотрели только на тебя. Когда ты пятое знамение налагал, они двинулись средним шагом.
— А ты?
— Я подумал, что нужно как-то оживить стременных.
— И оживил?
— Да, только опасно вышло. Стременные на меня навалились, стали юродивых отгонять, а Вам спину не прикрыли. Хорошо, ряженые испугались, побежали за общежительные кельи.
— В монастыре измена?!
— Нет, государь. Там у нас лаз под стеной — на улицу. Всем известно.
Царь хотел отпустить Федора, но возникли новые вопросы. Иван продолжал расспрашивать о монастырских обывателях, о посторонних, о порядке, и не видал ли Федор чего подозрительного.
Солнце совсем село. Спальник не решался прервать царскую беседу и зажечь свечи. Оставлять повелителя в темноте с оглашенным вором он тоже боялся. Топтался с зажженной полупудовой свечой у приоткрытой двери.
— Зайди, пресветлый! — пошутил Иван.
Пока спальник устанавливал всенощную свечу, пока разжигал от нее лучину и «светлил» мелкие свечки на поставцах, на столе, под иконостасом, Иван молчал. Он слишком устал, многое пережил за эти дни, многое хотел обдумать. Сделал отмашку, чтобы Федор шел восвояси, открыл было рот пообещать сироте награду, но увидел белое лицо и осекся. Федор держал палец поперек губ. Глаза у него были настороженны, но добры, и можно было думать, что он просто собирается в носу поковырять, да стесняется царя. Но Иван понял этот жест: «Молчи!».
Снова Ивану стало страшно. Тьма ночная всегда действовала на него разрушительно. Темными московскими ночами он, повелитель Вселенной, вспоминал раннее сиротское детство и такие же свечные отблески в дворцовых коридорах. Это бродили по Кремлю жуткие бояре Шуйские и Воронцовы, Кубенские и Тучковы, Все — с оружием. И все хотели смерти Ивановой.
Их почти никого уж нет: кто сослан, кто убит, кто бежал к врагам. Но страх остался. Он выпирал из холодеющей груди, рвался наружу хрипом и стоном.
— Уходи! Хватит светить! Рассветился тут! — крикнул Иван визгливо, и спальник летучей мышью выпорхнул за дверь.
— Ты что?! — шепотом спросил Иван.
— Не отпускай меня, — тоже шепотом сказал Федя.
— А куда ж тебя?
— В яму! Подержи еще дня три. Все подумают, что я повинился. Казнят у нас по воскресеньям. За три дня увидишь, кто покушался.
Иван ошеломленно смотрел на бледного, светловолосого юношу, как на невиданное животное. Никто до него не напрашивался на отсидку в яме! Никто не смел при нем говорить и даже думать о казни! Тем более, о своей, —хоть и мнимой.
— Истомин!!! — заорал Иван, — забыв, что Стременной полк на закате должен был смениться с караула.
Но стременных сменить было некому, весь распорядок сломался, даже в Ливонию полки не ушли. Никто не знал, какие полки теперь туда пойдут. Полковник Сидор Истомин как раз гадал в сенях, отправят его именно в Ливонию или сразу в Крым.
Сидор вбежал к царю только с тремя словами в голове. Они поочередно всплывали в ночной тишине: «Ливония. Крым. Казнь».
— Достоин казни! — рявкнул царь, и Сидор начал валиться на колени. Но сообразил-таки, что не его казнить назначили! Вот — реакция военного! Вот умение ориентироваться в сложной обстановке боя и придворных интриг!
«Кон-дец котенку...», — сформулировал Сидор, замирая на полусогнутых, — «Жалко парня. Хоть и хлипкий, а с одного удара не валится».
Царь повелел забрать вора в ту же яму. Приставить двойной караул. Стеречь три дня и четыре ночи, считая эту. На рассвете в воскресенье быть готовыми везти на Болото. После казни полк получит недельный отдых с царской милостью. А прямо сейчас — обещанные две бочки вина.
— А не хватит, — Иван хитро прикрыл глаз, отчего в палате все позолотилось, — спросите еще. Без счету и вычету.
И еще царь шепнул растерянному полковнику Сидору, чтоб вора держали бережно, не били, не калечили, кормили со своего стола, поили из своей бочки, на ночь дали епанчу. Матерными словами не величали. С разговорами не лезли. Все. Ступай!
Глава 3. Две вины
Государь Иоанн Васильевич непрестанно чувствовал себя виновным.
Во-первых, он винился перед Богом, которому много чего обещал, но мало что исполнил. Царствование длилось уж 14-й год, а под скипетр православного повелителя Вселенной маловато стран и народов преклонилось. Ну, Казань с татарами. Ну, Астрахань. Теперь вот Ливонию приберем. Но Крым торчит снизу колючкой, Киев — под Польшей, Донская степь — не наша. И это только лоскутки. А Гроб Господень под смрадными агарянами? А София Константинопольская сто лет под турками? А Европа, насквозь пропоганенная папством — хуже турок? И за Каменными горами на восток земли бескрайние — татарские. Индия — после Александра Македонского пуста, Египет, Африка — все дожидаются истинного света. Теперь еще в Океане Новую Индию нашли, тоже паписты ее обсели.
А долг обязывает ВСЕХ людей Божьих в православие возвратить! Они же от рождения, от Сотворения Мира православными были? Как иначе?
От этих терзаний Ивану часто не спалось. Он чувствовал себя школьником, не сделавшим домашнее задание.
Во-вторых, на Иване имелись многие личные, мирские вины. Не как у официального лица перед верховным начальством, а как у смертного человечка перед Христом, искупителем обывательских слабостей и постыдных желаний. В этом году Иван буквально раздираем был бесами вожделения. Царица Анастасия болела с осени и не очень помогала Ивану избавляться от мужской энергии.
Сейчас, после ухода Смирного Грозный сидел и пытался думать о покушении. Но мысли странным образом сбивались на подсказанную кем-то тезу: странный голос, то писклявый мышиный, то гулкий колокольный, раз за разом указывал Ивану неожиданные логические связи:
— Ты, хозяин, смотри, не очень-то греши! Твой грех обижает Господа и Ангелов Его. Они от тебя отходят, не помогают нести царский посох. От этого ты нарушаешь Божью волю — медлишь с обращением стран ближних и дальних в истинную веру, не дерзаешь мир православием обелить! И так твой малый грех обращается в грех великий!..
Голос еще бубнит, а в голове Ивана начинается такой трезвон, будто звонари на Пасху перепились и никак не могут прекратить благовест. Иван стонет, кричит, бьется затылком о спинку кресла. Звон стихает, и голос, прокашлявшись, продолжает поучать заунывно и лениво:
— На пакостный запах великого греха сбираются слуги Сатаны. Они подвигают тебя на новый мелкий грех. Распаляют огонь чресел, показывают взору срамные картины, раззуживают ярость, жажду крови, жестокое сладострастие. Ты предаешься казням и похоти. Губишь невинные души. Их грехи неотпущенные ложатся тяжким грузом на твои грехи и, совокупляясь с ними, умножаются, влекут душу твою вниз...
— Во как загнул! — тянет Иван в пустых сумерках. — Какие грехи у «невинных душ»? И как это чужие грехи с моими совокупляются? Первый раз слышу, чтоб грехи размножались совокуплением!
В голове Ивана оживает воистину срамная картина. В ней личные похоти представляются чистенькими, беленькими голыми девками — с полузабытыми, но родными лицами. Чужие грехи проступают в виде глумливых чудищ смешанного пола, в шерсти, чешуе, перьях. С вакхическим гоготом чужаки заполняют палату, гоняются за Ивановыми девками, сшибают мебель и свечи.
Вот девки брызнули по углам, но не вопят в ужасе, а зазывно хохочут, чуть ли не сами срывают с себя условные и прозрачные для Ивана одежды.
И постепенно все «наши» падают под натиском чужих грехов. В темных углах грохочет и визжит, аж дым идет.
— Видишь, сын мой, — голосом пресвитера Сильвестра продолжает неизвестный, — ничего святого для них нету — уж и святой угол оскверняют! Пред ликом Спаса творят невиданное дело!
— Но Спас всеведущ и всевидящ! — возражает Иван. — Ему ли не видеть таких дел? Не повседневно ли они у нас творятся?
— Вот именно, сынок, вот именно! — неубедительно подхватывает голос.
Тут Иван отвлекается от дискуссии. Одна очень хорошенькая девочка, просто ангелочек, вырвалась из лап мохнатой русалки и выскочила в освещенный круг у подножия Иванова кресла. Русалка — почему-то без хвоста, но с ногами — задержалась в святом углу. Видно Спас и Сын Его воспрепятствовали «совокуплению грехов». Иван умилился Божьей силе, но потом засомневался: в чистых ли помыслах Христос и Отец небесный лапают грудастую русалку?
Иван напряг разноцветное зрение и увидел, что чужая страсть зацепилась волосами за лампадку, подвешенную на цепи у икон. Масло пролилось на голову грешницы, волосы, вернее — лисья шерсть, вспыхнули и осветили палату ровным, немигающим светом. От боли лиса рванулась, сорвала лампадку и в два прыжка настигла беленькую деву у Ивановых ног. И как ее было не настичь, когда та не убегала, не лезла к Ивану на колени беззащитным котенком, а наоборот, раскорячилась на нижней ступеньке трона.
— Вот эта долбанная тварь тебя погубит, государь! — в рифму резюмировал невидимый Сильвестр, отчетливо сплюнул и в досаде удалился. Пока он шаркал к двери, голос не прекращал ворчание:
— Уж, лучше б ты сам ее драл, блудодей, чем дозволять такой срам пред царственным ликом! Постеснялся бы царя, Ваня!
Иван оторвал воспаленный взор от пыхтящих греховодников, поднял дрожащую голову и увидел Сильвестра. Теперь он стоял в приоткрытой двери и осенял палату крестным знамением. Естественно, от этого все привидения исчезли.
— Позволь, сын мой, облегчить твое смятение, — вежливо осведомился Сильвестр и вошел, не дожидаясь кивка.
Ивану стало как-то особенно неловко, будто это его, а не рыжеволосого лиса, Сильвестр застал на беленькой малышке. Он не находил слов ответа.
— Хочу успокоить твою душу, — продолжал пресвитер. — Я — твой духовный отец, и обязан указать на мнимость сего страха...
«Хороша мнимость! — ворчал про себя Иван, — такой рыжий — такую беленькую. Вдрызг и в крик!» — То, что тебя терзает, не без Божьего соизволения случилось, и есть не козни Диавола, но несчастный случай...
«Это она по Божье воле ноги задрала? — тихо страдал Иван, — от несчастного случая стонала?».
— Иные будут твердить о злом умысле, коварстве, заговоре. Но ты смотри на это проще. Сирота нечаянно смутил тебя — от собственного смущения. Вот и игумен Савва за него просит.
Сильвестр смолк и смиренно стоял перед царем. Иван водил глазами по палате, не в силах остановить взор. Два луча — красный и огненно-желтый метались из угла в угол, будто пытались высветить рассеявшихся грешников. Наконец Сильвестр понял, что Иван невменяем, и осторожно вышел, поклонившись.
И сразу таким холодом повеяло из-за кресла! Так жутко скорчило спину, так страшно дунуло за ворот, что Иван вскочил и выбежал в круг единственной не потухшей всенощной свечи.
— Сильвестр! Замазывает дело! Сироту «спасает»! Так-то ты и моего Федора спасать будешь?! — Иван не мог видеть, что Сильвестр медлит за дверью, чутко слушает.
— Погоди, святой отец! И тебя спросим! Сдерем лисью шкуру, наденем рыбью чешую! Дай только первых людишек допросить!
Иван затрясся всем телом, выкатил глаза, и вызванный Сильвестром спальник подхватил его уже с колен. Отвел спать, долго сидел у изголовья, говорил тихие сказки.
Глава 4. Вокруг ямы
Стременные буквально поняли приказ государя и стали кормить Федю со своего жалованного стола. А сотник Штрекенхорн — немец, что возьмешь? — так же внимательно наблюдал за неуклонностью потребления пленником заздравных чар белого меда и плодово-ягодного вина.
Вечер Федя кое-как пережил. Его донесли от гридницы до ямы на епанче, уронив только трижды. Но утром растолкали чуть свет и велели похмелиться под страхом смерти. Стрельцы опасались, что без опохмелки вор не сможет адекватно реагировать на пытку. Для контроля «протрезвления по-русски» (путем замещающей выпивки) полковник Истомин велел тащить Федора в гридницу, но прибежал младший подьячий Прошка и передал царскую волю: вора из ямы не вынимать, никому не показывать, все контакты с ним иметь исключительно через него, Прошку. На этих словах Прошка раздул свой, и без того круглый животик в размер живота окольничьего или думного дьяка.
Истомин пожал плечами, горько вздохнул, и для проверки — не опала ли наступила — послал Штрекенхорна в ледник за новым бочонком имбирного меда из прошлогодней майской патоки.
Проходя по двору к пристенным лабазам, сотник Штрекенхорн заметил у воровской ямы посторонних лиц. Был бы сотник русским, он нашел бы подходящее татарское слово для очистки территории. Но педантизм толкнул его к углубленной оценке ситуации, и Штрекенхорн притаился за горкой тележных и лодочных обломков.
В те времена слово «немец» у нас означало не конкретную принадлежность к германской нации, а вообще иностранщину. Дословно оно означает «немолвящий», «неговорящий». В смысле — немой по-русски. Действительно, тогда, как и ныне, представители западных цивилизаций с трудом усваивали наш кружевной язык. Сначала они привыкали понимать слова, а потом — гораздо позже, сами рисковали произносить их.
Сотник Штрекенхорн служил в Москве одиннадцатый год, и вот что понял своим немецким ухом.
Толстый монах возле ямы просил узника облегчить душу, сказать, в чем его вина и грех, — покаяться безоглядно ему, отцу Савве. Предлагал считать покаяние исповедью. Божился сохранить любую тайну, кроме прямого посягательства на жизнь государя. Вор, видимо, отвечал невпопад, потому что следующими словами Саввы было обещание принести в яму кота и умолять государя о его — кота? — судьбе. Далее шло что-то неразборчивое о полковнике Сидоре... А! Выходило, кот ранее принадлежал полковнику, и, значит, его похитили.
Тут любопытство Штрекенхорна уступило место чувству долга. Сотник забеспокоился, что вор выдаст государственную тайну, и вышел на свет из-за телег. Приосанился, четко промаршировал к яме и попросил отца Савву воздержаться от контактов с заключенным не по его, сотника Штрекенхорна злой воле, а исключительно по указу государя.
Савва смиренно отошел.
Штрекенхорн добрался до погребов и ледника, запросил бочонок белого меду, пообещал продержать на нем караульную сотню не менее, чем до вечерней зари, — июнь, сами понимаете — дни длинные! Намекнул, что с вечера хорошо бы испробовать «ренского» — продукт отечества, так сказать.
Возвращаясь в раздумьях о милой родине, сотник заметил у ямы еще какого-то человечка. Серый, линялый мужичок неопределенного сословия что-то осторожно спрашивал — будто сплевывал в яму, и сразу отстранялся на шаг, оставляя у края немалое розовое ухо.
Тут уж Штрекенхорн не стал прислушиваться, рявкнул на мужика по-немецки — в продолжение немецких мыслей о Рейне, и пошел в гридницу расширенным шагом. Оттуда сразу выскочили два полунедовольных стрельца с бердышами. Недовольство их относилась к необходимости гонять мужика и стоять потом у ямы до обеда. Довольная половина сознания предвкушала белый мед. Стрельцы намеревались провести караульные часы в рассуждениях, добавлена ли в белый мед яблочная патока, и если да, то каких яблок — Можайских или Белого налива.
Мужика и след простыл. Ловить было некого.
Постовая служба потянулась медленно. Никаких происшествий не случалось. Два раза являлся Истомин, проверял выправку караульных при подходе начальства.
— Смотрите мне, морды, — говорил ласково, — никого не подпускайте! Никому нельзя говорить с вором, кроме малого подьячего Прошки. Ну, знаете, розовый такой пузанчик, на заливного поросенка похож. А может пожаловать и сам государь, так вы ж не осрамитесь, — Не беспокойсь, господин полковник, — заверил старший караульный, — не подведем. Служим в полку семь годков с половиною, то есть, это почти девять получается! — и сплюнул в яму.
Младший стрелец промолчал. Рот его был занят. Он выполнял приказ. Удерживал слюни.
Ближе к обеду стало припекать, захотелось расстегнуть летники, но раз за разом прибегал Прошка. Приказывал стрельцам отойти на пять шагов, и что-то спрашивал у ямы громким, страшным шепотом.
В третий приход Прошка надул живот и строго спросил приметы мужика в серой одежке. Ребята ответили, что рады бы, господин Заливной, но не видали — были на пересменке. Прошка убежал озадаченный «господином Заливным» и непонятной «пересменкой» при несменности охранной сотни.
Но самый ужас случился в обед: караул именно не сменили! Пришел Штрекенхорн, сказал, чтоб потерпели, — ждут государя, — хреново будет, если попадет на пересменку. Обещал отдельного вина и убежал, как молодой.
Тут же принесли обед вору. Мать вашу заесть! Кто ж так воров кормит?! Да еще в Петров пост! При такой жратве, — осетровой спинке, левашниках в патоке, каравае с сыром, пряниках, клюквенном морсе с ледника — каждый в воры захочет!
Не успел гад пожрать, как подскочил толстый монах с полосатым котом, хотел кинуть тварь в яму, — еле отогнали. Монах заголосил непонятные слова, тряс кота, закатывал глаза в небо, отчего там разбежались последние облака, и стало жарить невыносимо. На крик караульных прискакал Штрекенхорн. Про кота не понял. Спросил, чей кот. Оказалось — воровской. Посмотрели внимательно: так и есть! — морда круглая, хитрая, глазом подмигивает. Еще оказалось, что кот как-то сложно приходится родней полковнику Истомину. Послали за Сидором. Сидор родства не признал, проверил, что кот православный — заставил монашка его перекрестить. Едва занялись исследованием масти, как налетел Прошка, велел лишних убрать, спросил у ямы про кота, велел кинуть кота в яму, вежливо отправил монаха в сторону Троицких ворот, и дерзко зыркнул на полковника.
— Сейчас государь прошествует мимо ямы!
Караул подтянулся, по нескольку раз проверил носы рукавом. Начальники переместились на крыльцо гридницы. Стали ждать.
Царь спустился из Грановитой палаты по главной лестнице, очень живо прошагал в просвет между Архангельским собором и Большой звонницей, взял чуть правее, как бы к стене, потом передумал — заложил поворот к Спасским воротам. Получилась дуга, касательная к яме.
У ямы Иван задержался. Пока часовые думали о смысле приказа: «Не дозволять говорить с вором иным, окромя подьячего Прошки», — входит ли царь в «иные», и стоит ли придержать его до подхода Прошки? — вон он пыхтит, — царь подошел к самому краю и быстро проговорил несколько непонятных предложений. Яма гугукала ровно, четко, как эхо в деревенском колодце. Один раз яма хихикнула, потом мяукнула в ответ на особо мудреный вопрос царя, и младший караульный незаметно перекрестился левой, свободной от бердыша рукой.
Царь обернулся идти обратно, столкнулся с господином Заливным, что-то приказал и прошагал ко дворцу.
— Вот шагает! — умилился старший стрелец, — все бы так шагали, можно было верст по сорок в поприще проходить! — Далее стрелец распространяться не стал, потому что нелепым казалось великому царю пешком чухать до Ливонии. Да и вообще на войну. Стрельцы также надеялись, что Ливонская кампания минует не только царя, но и Стременной полк, рожденный в незапамятные времена исключительно для пешего сопровождения государя у стремени его царственной лошади.
Рассуждения прекратились в присутствии господина Заливного. Прохор выглядел особенно надутым. Поел от пуза, зараза!
— Так. Караул свободен, ступайте кушать. Скажите там Истомину, пусть другую пару пришлет, покрепче. И пусть до моего отхода не приближаются. Поговорить хочу.
Суета вокруг ямы продолжалась до сумерек. Едва солнце позолотило маковки соборов, караул был еще удвоен, в гридницу проволокли бочку ренского, но ужинать не разрешили — выгнали всю сотню бродить по Кремлю. Приказ был понятный: «Смотреть в оба, и если что, то сразу — раз, и сюда!».
В довершение дня два стременных первогодка подслушали приказ Заливного полковнику Сидору — лично идти к митрополиту Макарию и просить именем государя, чтоб людишки из кремлевских монастырей по округе не шастали.
И когда все успокоилось, когда над стеной взошла луна, когда из погребов проволокли очередной бочонок с неизвестным содержимым, господин младший дворцовый подьячий Прохор Заливной посетил пост у ямы снова. Вслед за этим, вора достали из ямы и вместе с котом повели во дворец.
Было тихо до странности. Только кот пару раз мяукнул на луну.
Глава 5. Ночной разговор
Удивительная это была ночь. В малой палате, примыкающей к царской спальне, расположилась странная компания. Государь Иван Васильевич полулежал в кресле с пологой спинкой. Государев вор Федька Смирной сидел на краешке жесткой лавки, но какая разница! – на этой лавке и боярам-то не всегда удавалось усидеть! И кот Истома (в монашестве Илларион) четырехцветной масти – в серую и черную полоску, с белой грудью и песочными подпалинами – тоже сидел в присутствии грозного монарха. Правда, пока на полу.
Разговор шел спокойный. Такого покоя при обсуждении важных дел давно не ощущали здешние стены. А дело было воистину важное! – что может быть важнее в государстве, чем жизнь, здоровье государя и его семейства? Короче, тут неспешно, со скоростью движения луны по небесам Божьим закладывались стратегические интересы правящей династии Рюриковичей на этот, 7068 от Сотворения Мира год, и на прочие годы до скончания этого самого Мира. Интерес династии был один: выжить.
Иван Васильевич, сам не зная почему, рассказывал безродному сироте, на которого еще и уголовное дело не закрыли, глубоко семейные дела. А в них, как принято у наших правителей, и таилась главная опасность.
При воспоминании об этой опасности у царя холодело внутри, толчком сжимало сердце и голову, огненная волна прокатывалась от поясницы вверх – к горлу. Вниз от поясницы, напротив, падала волна ледяная, бесчувственная. И хотел царь кричать от боли и ужаса, но вор Федька говорил какое-нибудь мелкое слово, — причем и дозволения на него не спрашивал, шельма! – и становилось Ивану спокойнее, болезненные волны поворачивали вспять, сталкивались у печени и гасили друг друга.
Вот и пойми после этого: зачем царь зазвал к себе сироту? – для спроса или для лечения?
Кот Истома внимательно слушал разговор. Впервые за четыре дня его не гоняли метлой, не били сапогами, не называли – прости, Господи! – женскими существительными. Истома хотел перекреститься, но постеснялся и прилег на коврик у лежанки. Хозяин как раз спрашивал бородатого мужика, из-за чего сыр-бор горит. Мужик начал рассказывать издали, и Истома прикрыл глаза, чтобы лучше слушалось.
— Тут, Федор, давняя зависть скрыта. У моей жены Анастасии Романовны есть многая родня. Братья ее, Захарьины-Кошкины приближены к престолу, возведены в чины, составляют опору государству и защиту наследникам — Иоанну и Федору...
При звуке «Кошкины» кот Истома насторожил уши, а мужик продолжал:
— ...Но недалеки умом! Нелюбознательны, нахраписты, завистливы, ненадежны. Не обойтись ими на царстве! С давних лет я воспринял завет трех учителей: моего отца Василия Иоанновича, переданный через его духовника Иосифа Волоцкого; самого Иосифа – старца премудрого; и его ученика – схимника Вассиана. Их наука – о царских людях, ибо люди дополняют триединую суть государства: Бог на небе, Государь на престоле, люди – на земле. Но у престола простым людям быть нездорово. Власть, на которую они не имеют помазания Господня, разъедает души и ввергает в ад. И чем умнее человек, тем больше в нем дверей для искушения властью. Учителя мои завещали долго людей у трона не держать, новых советников отыскивать, выбирать сильных душой, а не умом. Ибо никто не должен быть умнее государя!
— Вот и стал я призывать советников не по чину, а по доброте. Пресвитер Благовещенский Сильвестр и окольничий Алексей Адашев долго служили мне правдой. И с досадой наблюдал я, как постепенно сбываются отеческие пророчества.
Истома прилег на бок, голову положил на лапы и дальше стал слушать не подробно, а вообще. Так лучше усваивался смысл происходящего. А смысл был таков. Этот мужик – оказывается, наш государь Иоанн Четвертый Васильевич. Это он намедни приезжал в монастырь, когда с Хозяином падучка приключилась. Только тогда на нем был синий бархатный летник с золотым кантом и меховым воротничком какого-то вредного зверя.
Теперь царь облачился в белую рубашку и красные штаны, восточный халат и маленькую шелковую шапочку, и потому был совсем не похож на тогдашнего.
Царь жаловался, что Кошкины не поладили с ближними людьми. Все остальные люди разделились примерно надвое. Одни теперь назывались Настасьинцы, другие – Адашевцы. И нужно бы их звать Сильвестровцами, но хитрый пресвитер сказывался непричастным к распрям, и обвинить его не получалось.
Истома согласно зевнул. Слово «адашевцы» звучало мягко, ласково, как шорох собственного меха по русской печи, когда сворачиваешься в клубочек. Слово «настасьинцы» вообще прекрасно произносилось, в нем слышался такой жирный «кис-кис», будто сразу за этим словом могли дать куриную ножку и рыбью спинку одновременно. Слово «сильвестровцы», напротив, было неприятным, корявым, скрипучим, как крыса в монастырском подполье. Зато оно вызывало азарт, желание прыгнуть и драть жертву клыком и когтем. Это слово больше подходило для именования врага. Тут Истома вполне поддерживал царя.
Федя спросил Ивана, давно ли подозревает измену. Оказалось – 7 лет! С казанского похода, когда среди болезни государя обозначились партии.
— А что ж ты терпел, Иван Васильевич?
— Сам уж не знаю. Казню себя за это. Нужно было мне тогда, поднявшись со скорбного одра выжечь старую свиту каленым железом. Неужто не нашел бы я свежих людей? Зато сынок Дмитрий, глядишь, не утонул бы?
— Теперь вот опять. Осенью поехал я помолиться. Съестной припас в дорогу неведомо кто собирал, — так и не дознались. В дороге Настасье стало плохо на живот. Пересмотрели женское питье. Она меду и вина не пьет. При дворе всем женам дают только морс. И морс дорожный с горчинкой оказался. Заставили повариху выпить – с первого разу ничего. Вылили морс собакам. Они выли всю ночь. Две из шести к утру околели, остальные сделались к охоте негожи. Я велел везти трупы собак в Москву, хотел отдать немцам на просмотр. Повариху снова напоили остатками морса. Со второй чарки с ней сделались корчи. Отпоили молоком – очухалась. Заковали в железа, повезли в телеге для сыску. Перед последним поприщем после ночевки нашли повариху удавленной цепью. Будто бы цепь от оков захлестнула ей шею, зацепилась за колесную чеку и намоталась на ось телеги. По приезду не смогли сыскать и собачьей падали. Истратилась куда-то. Веришь ты в такое?
«Чушь собачья!» — муркнул Истома.
Измена сказывалась кругом. Няньки князя Федора Иоанновича смотрели за ним плохо. Малец ходил в шишках, того и гляди, мог с лестницы свалиться. В еде попадалась тухлятина, хоть и секли поваров без жалости. Но, самое страшное – Настасье становилось все хуже. Причем вид болезни был тот же – осенний. И если тогда был яд, — то, получается, и сейчас не без яду? Как думаешь?
— Яды, государь, бывают разные, — спокойно отвечал Федор, — есть скорые, бьют в один миг или час. Такими греки травили своих воров, Сократа, например. А есть яды медленные. Помнишь, твоего пращура, князя Ростислава Владимировича Тмутараканского херсонцы отравили восьмидневным ядом? А значит, можно развести и годовой состав. Такой яд незаметнее. Но для него нужны ближние люди. Кто-то должен сыпать его в питье малыми частями. Пересмотри слуг. Кто прислуживает царице с осени? Кто носит еду так, что остается незаметным хоть на миг? Нужно розыск вести здесь, во дворце.
— Я опасаюсь не только яду, но и колдовства. Москва полна чародеями, волхвами, облакопрогонниками, ведьмами. Один наглец приходил как раз перед этой Пасхой. Обещал разогнать тучи над Москвой. А то, говорит, какое Светлое Воскресение под дождем? Велел отдать поганца медведям. Но нечести в Москве не убавляется. За деньги готовы на любого человека порчу навести.
— Можно и колдунов поискать, но я б начал с отравителей. Это проще, ближе, вернее. А с колдунами надо бы повременить. На все сразу рук не хватит.
Тут Истома вздрогнул сквозь сон и насторожил уши: что-то очень интересное говорилось! Царь просил — просил, а не приказывал! — чтоб Хозяин Федя пожил малость во дворце, помог государю разыскать воров истинных! И Федя соглашался, но только после казни. А как же Истома? Пожить при дворцовой поварне можно даже в яме, но казнь зачем? И как казнить будут? Непонятно...
И тут — будто гром грянул с ясного ночного неба! Царь, грозный повелитель всей земли от края небес и до края их крикнул звонким голосом и назвал Истому по имени!
Истома вскочил со скоростью приказного стряпчего, выпучил глаза, состроил фальшивую улыбку и пытался потереться о сафьяновый сапог. Но ударила дверь, вбежал усатый коротышка, памятный по яме и монастырскому происшествию, все закрутилось, замелькало, Истома оказался за пазухой Хозяина, и вскоре уже наблюдал луну из дворцовой ямы. Правда, не всю целиком, а только тонкий серебряный лучик на глинистой стенке. Зато еда была прежняя, дворцовая, без мышиного запаха, без гнили, без отвратительного ладана.
«Согласился хозяин, — умиротворенно думал Истома, засыпая под епанчой, — еще послужим Отечеству!».
Глава 6. В яме
А Федору не спалось. Он перечислял про себя все, что стало известно от царя, и что знал сам. Получалось много. Гораздо больше, чем в головоломках из святых книг. В монастыре, пытаясь разгадать какую-нибудь библейскую тайну, Федор никак не мог собрать составные части, связи, факты, достаточные для точного ответа.
Вот, например, задача о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Иисус накормил несколько тысяч народу. Если бы в притче определенно говорилось о мешках, из которых Иисус доставал еду, можно было утверждать, что целые караваи и целые рыбины снова и снова возникали в мешках по Божьей воле. Тогда нечего говорить о конкретных числах 2 и 5. Нужно так прямо и считать: в мешки положено пять хлебов и две рыбы; извлечено столько-то тысяч караваев и столько-то пудов рыбы. А если мешков не было? Если рыба размножалась прямо в руках Христа, а у караваев отрастали оторванные бока? Как дико это выглядело! Какими тупицами должны быть галилейцы, если, видя такое чудо, они продолжали жрать и не думали ни о чем, кроме собственного брюха?! Наша монастырская братия тоже караваи рвет страстно, но покажи им чудо, — раззявит рот, забудет жевать. Нет, не зря иудеев прокляли...
Отец Савва на вопросы Федора обиженно фыркал, становился похож на некормленного Истому, назначал любопытному отроку легкую епитимью. Вроде службы в поварне — чистить рыбу и печь хлеб.
А в царских тайнах было слишком много сведений. И слишком много получалось очевидных, правдоподобных ответов.
Могли желать смерти Настасьи сильвестровцы? Обязаны были! Сильвестр получил неограниченную власть со времени коронации Ивана в 1547 году. Юный царь был занят тогда только тремя делами: любовью к молодой жене, медленной местью за поруганную мать и собственно царством. Из царства у Ивана хватало времени на гражданское правление, на войну, на борьбу с разбоем. Дела духовные, церковные, дипломатические, приказные достались Сильвестру. Тут он несколько опередил многочисленных родственников царицы. Потом братья Захарьины осмотрелись при дворе, и давай наступать!
Сильвестр и Захарьины наперебой расставляли своих людей по волостям, землям, городам. Но у Сильвестра было большое преимущество — он имел прямой доступ к государю. Более того, по главной своей обязанности царского духовника Сильвестр ежедневно подсказывал Ивану, что достойно есть, и что недостойно есть. Что такое хорошо, и что такое плохо. Кто из людей угоден Богу на государевой службе, а кто нет. Божье имя припечатывалось на все подсказки Сильвестра, как небесная печать, — попробуй, поспорь!
Но Захарьины пробирались через Настасью. Ночь была их без остатка! Не в каждую ночь Настасья могла решить дела, но если уж решала, то бесповоротно! И стал Сильвестр замечать, что уходит потихоньку из его рук ниточка царской воли. Особенно в мирских вопросах. Запустит он своего человечка в рыбные промыслы или к литейному делу, и царь этого человечка примет. Но через месяц или год прибегает человечек к Сильвестру ободранный, горько плачет сирота: обобрали настасьинцы, наехали по государеву указу. Сильвестр к царю: как же так?
— А так, — прячет глаза Иван, — очень нужно троюродного племянника царицы уважить.
Оказалось, Настасья — самый острый гвоздь в Сильвестровом распятье.
Тут при дворе выскочил Лешка Адашев — смазливый, проворный молодой человек из не очень знатных, но и не очень подлых. Сильвестр сначала огорчился, но потом рассчитал: Адашева Захарьины не пропустят, у них на каждое место по десять родичей готово. Решил Сильвестр сам Адашева пропустить. Но куда? Уж не в монахи с искусительной рожей! Сильвестр провел Адашева прямо к царю! А что? Правителю умные советники нужны. А тупые Захарьины что посоветуют? И Сильвестру Адашев не помеха — он по своим делам ходок, Сильвестр — по своим. К тому же Лешка Сильвестру такой был благодарный, что чуть в ногах не валялся и ручки целовал! Ну и целовал, а что? — попу можно.
Сложилась тихая, непоказная дружба. И конца ей не было, потому что на Сильвестровы вотчины Алексей не посягал, выдавливал потихоньку настасьинцев. А этих надолго должно было хватить. И еще одного, третьего партнера нашли приятели. Настоящий князь Дмитрий Курлятьев вошел с ними в сговор и стал заниматься сословной политикой. Ему, князю, это удобнее было, чем не пойми какому Лешке или попу. Составился тайный триумвират. Троица, так сказать.
Эти придворные расклады были в Москве известны каждому. В монастыре их ежедневно обсуждали на закате. А что царь? Он тоже чувствовал придворные дела. Но то, что обывателю представляется окончательной истиной, властителю часто кажется сплетней, интригой. Вот он и Феде излагал семейное дело в сомнении: достойно ли веры?
Как повернется московская жизнь, умри Настасья? Захарьиным сразу конец. В лучшем случае ссылка в сытые места. Там они могли бы дожидаться Ивановой смерти, Ивана-малого воцарения. Но Иван Иванович еще неизвестно, как с дядьками обойдется. Нужны они, тут под ногами путаться? Скорее, нет. Но и казнить он их не будет, оставит на прикорме. А в трудную минуту может и позвать. Значит, настасьинцам нужно терпеть молча. Пока не подрастет Иван маленький. И тогда они становятся смертельной угрозой Ивану Грозному.
Сильвестровцам, наоборот, дожидаться нечего. Настасья — их смерть. Смерть Настасьи — их надежда. Ивану сейчас только 30 лет. Еще столько же может править. За это время всякое произойдет. Успеем пожить.
Хочет ли Сильвестр Настасьиной смерти?
Конечно, хочет. Но хотеть можно по-разному. Можно хотеть и делать, даже с риском для жизни. А можно просто хотеть. Чтобы это случилось само собой, безнаказанно. Сильвестр хочет и делает — без риска, как ему кажется. Он сам ядов не смешивает, ведь правда?
Алексея Адашева в Москве сейчас нет. Он в мае, с прошлой посылкой войск уехал в Ливонию третьим воеводой Большого полка. Чин плевый. В Разрядной книге с ним не продвинешься. Нужно узнать, как уезжал Адашев. С опалой, или сам? Если Настасью продолжают травить, то, получается, не от Адашева? Или он людей оставил? Или все-таки Сильвестр?
Так, кому еще Настя мешает? Были бы у царя дети от других жен или бабы на стороне, но с претензией, тогда да. Они бы Настю изводили. Но баб не видно, дети все — Настины, двоюродным братьям до царства далеко, разве что княжат передушить. Но тогда нужно с Грозного начинать. И кто-то же начинал? Что за шестерка ряженых в монастыре объявилась? Если они от Сильвестра, то что получается?
Получается так. Ивана нету, Насти нету, Захарьиных долой. И можно спокойно душить детей. Но Сильвестру это зачем? Сам в цари собрался? Ну, не Адашева же ставить? У того в роду боярства меньше, чем у Истомы блох. Как бы есть, но по морде не заметно.
Значит, Сильвестр старается не для себя. Или для себя, но не в царях. А в сатрапах каких-нибудь или регентах-хранителях престола. Нужно посмотреть, какие у него связи в Литве, среди английских и немецких гостей. Узнать, какие книги читает. Спрашивать через Прошку волокитно. Сейчас бы во дворце самому поискать.
И еще вопрос. Кто приходил утром? Что за человечишко выспрашивал, вынюхивал. Он не с базара забрел полюбопытствовать, не сам по себе. Это — важный след. Кому-то очень интересно опознать вора. Спутал я карты людям. Они думают, что есть еще один заговор. С утра на Красной площади громко кричали о поимке вора, и они почему-то не могут ждать до естественного прояснения дела. Значит, придут еще.
Федор постучал палкой в крышку ямы и попросил караульных кликнуть Прохора. Толстяка подняли с трудом, и он полуодетый приковылял к яме. Ворчал, но ругаться не стал. Знал о вечерней встрече царя и вора.
Федя медленно, четко, мысль за мыслью вдолбил Прошке следующее.
Нужно правдоподобно убрать от ямы охрану. Послать несколько человек для тайного наблюдения за ямой издали. Не препятствовать приходу ночных гостей. Вообще не препятствовать никаким событиям. Следить со стороны, сопровождать пришельцев, проведать, кто такие и зачем. Только так мы узнаем, откуда ноги растут.
Последний вопрос окончательно разбудил Прошку. Он приоткрыл полы теплого кафтана, посмотрел, откуда растут ноги, скривил рот, пожал плечами и прошлепал в сторону дворца.
Глава 7. После полуночи
В те времена Московский Кремль – не то, что теперь – был проходным двором. Он, конечно, был так же обнесен красной кирпичной стеной, ворота находились на запорах, особенно в ночное время. Но проверку этих запоров производили от случая к случаю, от войны к войне. Днем через ворота в Кремль беспрепятственно входили десятки, сотни богомольцев, монахов, мастеровых. И они не на экскурсию сюда прибывали, они жили здесь — во дворце, в нескольких монастырях, при церковных и дворцовых службах. Документов у пришлого народа никто не спрашивал – не было никаких документов. Даже понятия такого караулы не знали. Бывало, спросят странника: «Кто таков?», такой же ответ и получат: «Кукуйской волости села Бурьянова, растакой-то матери природный сын». И все. Короче, войти мог любой.
Минувшим днем караульная сотня Стременного полка перестаралась с повышением бдительности. Штрекенхорн лично обошел все ворота, осмотрел закладные бревна – огромные деревянные засовы, приказал к ночи все закрыть. На митрополичьем подворье было объявлено об особом положении. Приходящим и уходящим Макарий указал до захода солнца закончить дела и через ворота не шастать.
Так что теперь в кремлевских стенах было тихо.
Но Федя знал, что стен без дыр не бывает. И тот, кто идет по тайному делу, никогда не пользуется воротами. В Сретенском монастыре стены были не ветхие, ворота обычно замкнуты. Но в дальнем углу двора за общежительными кельями имелся лаз. Он даже прикрыт не был, все о нем знали. В праздничные дни, когда ворота распахивались для прихожан, воспитанники все равно пользовались лазом. Даже если их посылал по делу сам игумен Савва.
Были дырки и в кремлевской стене. Во-первых, имелись потайные ходы из башен к реке – брать воду во время осады. В самих башнях были проделаны малые сквозные ниши — печуры. Они, правда, напоминали печное устье. Человек в печуру проходил чуть согнувшись. В двух местах – с восточной стороны и на юго-западном углу стены треснули еще при пожаре 1547 года. Трещины змеились сверху и у земли достигали двух-трех вершков в ширину – ногу можно вставить. А на уровне трех саженей в трещину уже мог проскользнуть не очень полный человек. Не Прохор, конечно. Прохору нужно еще сажень подниматься. В общем, дыры есть. Для важного дела кремлевская стена не помеха. Хотя в Москве поныне бытует мнение, что Кремль на замке.
Сразу после полуночи у ямы снова возникло оживление. Подьячий Прохор привел стрелецкого сотника Штрекенхорна, что-то кричал, топал ногами, придирался к выправке полусонных часовых, и, наконец, велел им убираться к черту. На хрен такой караул! Лучше замок навесить.
Караул убрался, потом вернулся, не доходя ямы свернул к пристенным лабазам, откуда вскоре донеслось кудахтанье разбуженных кур, мат, грохот железа. Потом песня. Караульные весело промаршировали мимо ямы, сбросили на крышку ржавую цепь с замком неизвестной системы, а бочонок с жидкостью известной крепости сбрасывать не пожелали. Песня переместилась в гридницу и пелась еще с час. Все это время крышка ямы оставалась незамкнутой, и вор с досадой поминал русское раздолбайство на любом году службы. Наконец, пришла пара служивых. Поддерживая друг друга в борьбе со всемирным тяготением, воины кое-как растянули цепь поперек крышки, продели концы в шаткие кольца, а уж замок вставить в звенья цепи им помог, не иначе, как святой Петр – ключник Бога и организатор хмельного поста.
Так что, если чей-то глаз наблюдал в эти минуты за окрестностями ямы, он много веселился и с трудом сдерживал ехидный смех.
В пределах Кремля находилось, однако, несколько человек, которым было не до смеха. Первый, царь Иван, инструктировал в своем покое второго — молодого человека в черном. Черное на нем было непривычным для московского обихода. Здесь не удивлялись монашеским облачениям, черным от пыли и копоти армякам мастеровых. Но ночной гость Грозного был одет в щегольский костюм польского кроя с короткой накидкой. У него был вовсе нерусский вид при вполне русском имени. Звали молодого человека Иван Глухов. Он числился при Поместном приказе, основанном четыре года назад для присмотра за раздачей вотчин.
Два Ивана разговаривали полушепотом, хотя вокруг никого не было. Иван Глухов рассказывал о своих наблюдениях за передачей волостей в последние недели. Оказывалось, что братья Захарьины за месяц потеряли с полдюжины уездов, солеварни у Перми, земли в окрестностях двух монастырей. Представление на передачу выморочных вотчин, промыслов и наделов давал, как обычно Разрядный приказ. Значит, он под адашевцами, несмотря на отъезд Алексея, — заключил Глухов.
Грозный спокойно кивал доносчику головой, и не свирепел по обыкновению, потом спокойно перевел беседу в другое русло. Глухов получил указание взять людей и немедля приступить к скрытному наблюдению за ямой. Любого, кто подойдет к ней, проследить до логова. Ничего не предпринимать, обо всем увиденном и услышанном доложить. Глухов растворился в ночи.
Грозный довольно вспоминал поучение старца Вассиана: «Призывай молодых». Сейчас во всех трех главных приказах — Разрядном, Поместном и Большого Дворца служили скромные ребята из незнатных семей. Они бледными тенями скользили по приказным избам, все запоминали, все сообщали царю. Прошку, конечно, бледной тенью не назовешь, но в Большом Дворце худым быть подозрительно.
Еще не спалось в кремлевской ограде сотнику Штрекенхорну. Он более других стрельцов уловил напряжение момента. Поэтому и пил меньше. Сидел на лавке поближе к двери и во всеоружии. Длинный меч шведской выделки тянул кожаную перевязь, давил на плечо. Бердыш на тяжелой дубовой рукояти стоял в уголке за дверью. Был у Штрекенхорна даже пистолет. Он заряжал его раз в неделю перед караулом. Сейчас пистолет оставался заряженным третий день, и сотник опасался за его огнестрельные свойства.
Не спал и Прохор. То есть, ему спать не давали. Ключник царицы Анисим Петров ходил по каморке Прошки из угла в угол и при каждом проходе толкал подьячего в плечо. Такова была в эту ночь служба Анисима.
Вот кажется и все. Нет, еще двое не спали. Оглашенный вор Федор Смирной боролся со сном в яме под епанчой. Кот Истома мешал ему бороться громким сопением, переходящим в храп. Кот дрых без задних ног — слишком плотно поужинал, слишком многое пережил за день. Под мурлыканье Истомы спать хотелось вдвойне.
Второй неспящий бездвижно сидел в прорези большой звонницы, спиной ко дворцу — лицом к яме, и смотрел вниз. Если бы в русской традиции нашлось место для каменных изваяний, этого наблюдателя можно было посчитать гранитной химерой.
Так получалось, что именно этот человек стал ключом ночного движения. Раньше него никто в кремлевском дворе не смел двинуться. Но и видеть его никто не мог — так неудачно падали лунные тени. Человек тоже не видел никого из членов ночной вахты, он даже надеялся, что таковых вовсе нету. А ждал он часа, когда луна уберется за громаду дворца и зубчатку стены.
И скоро такой час настал.
Глава 8. Две памяти
Царь Иван и сирота Федор лежали в своих, очень разных постелях, но мысли их витали в одном и том же времени. Видно, что-то связывало этих людей — и не только интригой сегодняшней ночи.
Иван вспоминал начало 1547 года — венчание на царство, свадьбу с Анастасией, первые успешные дела, когда удалось преодолеть, сломать боярскую оппозицию. Но свадьба вспоминалась приятнее всего. В этом обряде не было ничего натянутого, опасного. И ответственность перед молодой женой, семьей, хоть и была велика, но не шла в сравнение с тяжкой ответственностью воцарения. К памяти о свадьбе Иван прибегал, когда совсем уж становилось беспросветно. Иван прятался в то 3 февраля, в единственный день жизни, с утра до ночи прошедший в радости.
Ох, и снежной была та зима! — но солнце ежедневно показывалось над Москвой, золотило купола, осыпало алмазами деревья, весь кремлевский двор. Ивану почему-то вспоминался краткий миг выхода из церкви. Не венчание у алтаря, не застолье, не брачная ночь, а именно тот единственный шаг через порог Успенского собора. Он сравнивал его с точно таким шагом двухнедельной давности, когда выходил после венчания на царство. Погода была одинаковая — солнечно-снежная, и люди на площади собрались те же — московский люд, дворяне, беломестцы, жильцы. Но что-то разнило эти два выхода.
16 января первый русский венчанный царь был встречен криками привета, бросанием шапок, звоном колоколов. Но глаза людей светились тревогой. Что несет им вселенское значение московского правителя? На что он покушается? Вдруг объявит сейчас войну всему неправославному миру? А мы тогда как?
А 3 февраля — дело другое! Народ завопил дружно, колокола ударили в лад, чуть не лопнули от счастья. Их «малиновый звон» превратился в «малиновый вопль». «Все были с ног до головы в малине», — улыбнулся Иван.
Люди радовались от души и не могли наглядеться на красавицу Настю, выигравшую царские смотрины — открытый конкурс невест. Всех умиляло, что царь — сам сирота с 3 и 8 лет — тоже взял за себя сироту. И когда после венчания молодая пара остановилась на ступеньках восточных врат собора и собиралась ступить на ковровую дорожку, проложенную по снегу к дворцовой лестнице и Красному крыльцу, жениховы дружки — подвыпившие кравчие бросили в толпу «посыпку» — мелкие золотые и серебряные монеты. Так народ не сразу на них и кинулся! Промедлил миг, боясь оторвать глаза от царя и царицы. Этот миг Ивану был дороже всех кремлевских сокровищ, он бы каждый день опустошал сундуки, лишь бы так верили и любили. Но что поделаешь, жизнь гораздо скучнее праздника.
Хорошо бы, если просто скучнее. Она — страшнее, злее, завистливее. Никаким народным гулянием не стереть ужаса, который преследовал Ивана с детских лет. Почему-то ярче других вспоминалась сцена в маминой спальне 12 апреля 1538 года, в девятый день ее смерти. Девятины отгуляли напряженно. За скромным столом придворные цепко посматривали друг на друга и опасались, просто отказывались пить и есть. Шептались об отравлении царицы Елены.
Вечером восьмилетний Ваня зашел в спальню царицы, постоял, посмотрел сквозь пыльное окно в беспросветный мрак. Подошел к постели. На ней было разложено любимое выходное платье мамы из темно-красного византийского бархата с серебряным и жемчужным шитьем. В него собирались обрядить покойницу, но кто-то шикнул на спальных девок: «Нечего добро переводить!», — и Елену погребли в монашеском облачении, хоть на самом деле не успела она принять предсмертный постриг.
«Быстрый яд смешали, сволочи! — прошипел царь Иван, вспоминая. — Ну, погодите! — я вам смешаю!».
А мальчик Ваня все стоял у постели, и платье казалось ему тенью матери, кровавым отпечатком.
Он хотел уже идти к себе, когда в дверь ударили, она взвизгнула петлями, и в комнату вошли боярин Михаил Тучков и окольничий Андрей Михайлович Шуйский, только вчера выпущенный из тюрьмы и пожалованный в бояре.
Увидев Ивана, они и ухом не повели. Тучков стал шарить по сундукам, углам, шкатулкам с рукоделием. Искали не драгоценности, их еще неделю назад ссыпали в сокровищницу. Их даже не украли! — Шуйские собирались владеть всем!
Пока Тучков шуровал в женских тряпках, князь Андрей уселся в кресло у кровати. Ноги в слякотных сапогах положил на постель, прямо на платье Елены. Ваня побледнел, оцепенел от ненависти и страха.
— А знаешь ли ты, Ваня, что мы с тобой братья? — начал в раскачку Шуйский. — Да-да, оба — Рюрикова корня. Потомки светлого Александра Невского. Только ты от младшей ветви, а я – от старшей! А что нам Рюрик завещал? Что старший брат младшему — отец и господин, не смотря на волости. Так я тебе заместо отца теперь буду.
Шуйский заржал, перебросил ногу за ногу, отчего жирный ошметок апрельской грязи упал на жемчужную россыпь по поясу платья.
— А лучше, Ваня, — продолжал Шуйский, — давай я тебе не просто отцом буду. Хочу называться не только боярином, Первосоветником государевым! Слышь, Тучков, запиши новый чин, пока не забыл.
Тучков хлопнул крышкой сундука и нервно подскочил к постели.
— Нету бумаг, Андрей! Нет переписки! Но должна быть! Говорили люди об измене. Куда ты, сука, письма польские девала?! — завопил Тучков, и Ваня понял, что он пьян.
Тучков опрокинул ларец с рукоделием, схватил вязальные спицы и, упав на колени у постели, стал с силой втыкать их в платье. При этом он изрыгал чудовищный мат и старался поразить сталью самые интимные точки. Ваня подскочил к кровати, ухватил платье за рукав и дернул к себе. Но в другой рукав уже вцепился князь Андрей, он тоже рванул платье, и оно лопнуло в вороте и в подмышках. Правый рукав оторвался и остался в руке Шуйского. Князь медленно сложил его вчетверо, поплевал на ткань и, глядя на Ваню с улыбкой, стал чистить носок сапога. Ваня выбежал в коридор.
Тут только что пронеслась толпа с факелами. Старший Шуйский, Василий Васильевич спешил схватить князя Оболенского, фаворита покойной царицы. Воняло смоляной гарью и смрадом пьяной компании.
Ваня почувствовал ледяную корку на поверхности мозга, еле добрел до своей спаленки, забылся в бреду на несколько недель. Это спасло ему жизнь...
Федор Смирной тоже вспоминал детство. И, вот же чудо! — он тоже находился сейчас на площади перед вратами Успенского собора утром 3 февраля 1547 года!
Пятилетний Федя стоял между отцом и матерью в первом ряду обывателей. Если, конечно, считать рядом неспокойный край людской толпы. Такое видное место семейству московского жильца Михайлы Смирного досталось не случайно. Смирные здесь сразу встали, пока другие метались по площади то к раздаче вина, то к столам с караваями и сыром. Теперь только красная спина огромного стрельца загораживала Федору царский выход. Отец поджал соседей влево, и Федя оказался между двумя стражниками. Очень удобно!
Гул толпы усиливался, она волновалась, дышала в спину. Будто огромный зверь ждал чего-то у норы под каменной стеной и уже не мог сдерживать возбужденное дыхание. Вдруг соборные врата, прикрытые от февральского сквозняка, ожили, шевельнулись, подались. Толпа взвыла. И тут же ударили все колокола Большой звонницы, замыкающей площадь.
Все – да не все! Это средние колокола да мелкие колокольчики заиграли, — их усердно дергали молодые звонари. А главный московский колокол – «Благовестник», подвешенный ниже остальных, вступил, погодя несколько мгновений. Старый звонарь раскачивал его уже несколько минут, не доводя огромный язык до касания с красной тысячепудовой медью на пару вершков, и все равно ему понадобилось немало сил, чтобы поддать качания и ударить.
Бой Благовестника задал ритм действию. По первому удару отроки из охраны распахнули врата во всю ширь, по второму – на порог вышел служка с иконой, по третьему – монах с крестом, по четвертому — митрополит Макарий с посохом Петра-чудотворца, а с пятого удара уже и пара молодых стояла перед народом. Толпа зашлась в крике и стала слышна через колокольную мелочь. Только Благовестник заглушал, будто выключал ее на мгновенье.
Несколько дней назад сквозь вечерний сон Федя услышал разговор отца и матери. Отец рассказывал о предстоящей царской свадьбе. Его голос то затухал, то звучал четко, — это мама ходила по комнате и перекрывала звук. Вот она спросила, кто будет невеста. Отец ответил, что покойного Романа Кошкина дочь. Мать прошла по комнате с блюдом пирожков, и Федя услышал только два последних слова. «Кошкина дочь!». Царь женится на кошке! Вот здорово! Вот чудо!
Чуда Федя давно дожидался. Как-то раз в воскресенье после церкви он прямо спросил отца: скоро ли будет чудо, о котором все время говорит приходской батюшка отец Серафим? Отец ответил, что скоро. Как только венчают молодого царя.
– А кто будет делать чудо? — царь?
– Царь.
И час настал. Царя венчали уже во второй раз. Первый раз – понарошку – на царство, сегодня – всерьез – на кошку Настю, и отец сказал, что больше венчать не будут. Значит, это последний случай для чуда. Федя стоял, раскрыв рот. Он ожидал увидеть у невесты маленькие треугольные ушки, полосатую мордочку и мягкие лапки.
И вот царь с молодой женой появился в воротах храма. Колокол ударил особенно страшно. Отец еще дома предупредил, что бояться нечего, и теперь Федя не жался к родителям, во все глаза смотрел на царскую пару. Ближе к Феде стоял царь, он загораживал царицу Настю. Ох, и царь это был! Молодой, красивый, радостный, весь в золоте и каменьях. Невеста выглянула из-за его плеча и тоже оказалась ничего, но как-то Федю не взволновала. Никакая это была не кошка. Федя сосредоточился на царе: теток красивых в Москве полно, а царь у нас один! И только он может совершить чудо.
Вот из-за спин молодых вышли красивые парни в желто-черных кафтанах с большими блюдами. Вот посаженные родители взяли что-то с блюд и взмахнули под удар Благовестника. Дождь золотых искр посыпался в снег и на ковры, на ступени и расчищенную мостовую. Федя протянул к искрам руки, но ничего не поймал. Монеты еще прыгали по камню, а две другие руки уже брали с блюда золото. Царь и царская невеста тоже взмахнули под благовест. Толпа за спиной выдохнула, качнулась, но осталась на месте. Федю повлекло вперед, он ухватился за коричневую ручку стрелецкого бердыша, и в его правую, раскрытую ладошку, что-то тяжело шлепнулось. Федя не успел посмотреть, что. Отец подхватил его на руки, подался влево и назад, пропуская людей в хвост царской процессии.
Они еще постояли под стеной церквушки Ризоположения, пока царь и царица поднимались к Красному крыльцу, потом погуляли немного, и только по дороге домой, когда мама сунула Феде медовый пряник-лошадку, он разжал пальцы. На ладони лежала золотая монета.
— Смотри-ка, сын царскую монету поймал!
— А может, невестину, — заспорила мать.
— Царскую! Царица левой рукой бросала, ее монеты налево ушли.
Вот вам и чудо!
Но монету отобрали у Феди с уговорами, спрятали до более взрослых времен, — чтоб не потерял, не отняли мальчишки, не замылили вороватые взрослые. Федя понял утрату правильно — все-таки дорогая, царская вещь.
Он только иногда, по праздникам или когда болел, просил родителей показать «чудо» и засыпал с монетой в кулаке.
Сегодня, в эту странную ночь самозаточения, ему снова было плохо. Здесь в яме, хоть и на службе государю, но в неволе, когда милых родителей уже не было на белом свете, когда кромешная тьма обступала со всех сторон, Федя просунул руку за пазуху, нащупал рядом с нательным крестом тяжелый металлический кружок и сжал его в кулаке. Слезы как-то сами покатились по щекам. Их только две и успело упасть — по одной из каждого глаза, когда глуховатый голос прошептал над крышкой ямы — то же, что и прошлым утром:
— Чей ты, человек Божий?
Теперь, в отличие от утра, Федор знал, что ответить:
— Божий и есть. Божий и предстоятеля Божьего.
Возможно, кому-то другому потребовалось бы разъяснение, что за предстоятель такой. Но человек наверху не переспросил, видно, понял по-своему. Помолчал немного, потом поворчал под нос и сказал, как бы сам себе:
— Нет, за сегодня не успеем.
Потом спросил у ямы:
— Как думаешь, еще день и ночь просидишь?
Федя ответил горячо, используя слезы, накатившие в память о родителях:
— Осталась только эта ночь до утра, добрый господин, потом два дня и две ночи, а уж в воскресенье утром мне на Болото велено собираться! — и Федя жалобно заскулил.
— Не тужи, — прохрипело сверху, — время есть. Посмотрим, какой ты Божий. Божьего человека Бог в обиду не даст. Сиди с миром.
Голос смолк, прошаркали мягкие, без каблуков сапожки на татарский лад, и в наступившей тишине снова стало слышно, как похрапывает кот Истома.
Глава 9. На той стороне реки
Это сейчас воры предпочитают промышлять ночью. Темно, ничего не видно, можно неуловимой тенью скользнуть в интересное место, незаметно прилипнуть к деньгам, товарам, ящику водки, куску колбасы. А в наше, иван-грозновское время, еще неизвестно, когда легче было с воровской целью пробираться. Днем улицы Москвы немноголюдны, но прохожие есть, причем всякие. Можно затеряться, если ты не вырядился петухом. Днем и собаки спят по будкам, бдительность не очень проявляют — на каждого не нагавкаешься — лишь бы во двор не лезли!
Другое дело — ночь. В Москве, особенно на окраинах, жизнь умирает до рассвета. Любой прохожий — чрезвычайный объект. Это или тать (карманник, домушник, базарный щипач), или вор (государственный преступник), или опасный гуляка с ножом за голенищем.
Ночью московские собаки не спят. Они чутко нюхают воздух, внимательно следят за рамкой ворот, за кромкой забора, подсвеченной звездами и луной. Собаки настороженно прислушиваются к дыханию улицы, шороху кустов и деревьев, голосу своих собратьев на пространстве околотка. Слух ночных сторожей вылавливает чужеродные звуки из шумов природной обстановки. Даже среди бури собака различает скрип калитки, хруст сучка, треск заборной доски. А уж в тихую погоду ни одна сова не остается незамеченной в своем ночном полете, ни один камешек — в подкаблучном шорохе.
Страшнее сторожевой, цепной или отвязанной на ночь собаки другой, чисто русский зверь — мишка косолапый. Он тоже встречается на службе в обеспеченных домах. Его тоже отпускают на ночь. И тут уж берегись! Мишка не лает, не визжит от страха, не берет ночного вора на понт горловым воем. Он наваливается из подворотни черной глыбой, и ты успеваешь услышать только тяжкий храп, сопение зверя и хруст собственных ребер. Молись скорей! Неприлично предстать перед Господом без покаяния!
Не спят ночью и многие ночные сторожа. Есть, конечно, среди них халтурщики, увольняемые без выходного пособия, — прямиком в солдатские полки или кабальную запись, но в целом, московский сторожевой корпус службу несет удовлетворительно. Собакам и медведям в их труде это большое подспорье, особенно в трезвые ночи, не после праздников.
Московские улицы замкнуты околоточной стражей кое-как, но мосты, городские ворота, заставы охраняются крепко. Просто так, то есть бесплатно, не пройдешь. А платить – свидетелей плодить, — себе дороже. Так что, ночью пробираться по Москве у нас дураков нет, особенно, если можно переждать до утра. Но пережидать тоже нужно не где придется. Под мостами опасно, там воровские гнезда, бродячие шайки, банды, стаи больных и убогих. В кустах, под заборами тоже можно напороться на посторонних.
Ночной гость кремлевской звонницы поступил разумно. Он как спустился из расселины в стене на Боровицком углу, так сразу и залез на ясень. Поднялся повыше, осмотрел дерево «изнутри» — чисто. Устроился поудобнее — с видом на Кремль и «живой мост», связанный из больших лодок. Видно, этому человеку очень нужно было на ту сторону реки.
Солнце взошло скоро. Июнь — месяц коротких ночей. В четыре утра посерело а востоке, в пять стало совсем светло, а в шесть начался обычный рабочий день. Пятница. 14-е июня.
Заскрипели телеги с базарным товаром, по мосту пошло движение, окрестности Кремля стали наполняться народом. Сюда, в центр столицы потянулись торговцы. Здесь и в те времена происходил самый оживленный товарооборот, здесь крутились основные деньги нашей родины. Поныне Красная площадь втягивает их безвыходной воронкой и не выпускает обратно. Прижимиста мать наша! На сторону инвестирует со скрипом.
Оставаться на дереве стало неприлично. Человек, соскакивающий с ясеня у правительственной резиденции, мог не понравиться бдительным москвичам, тем более — в военное время, когда рыночные разговоры наполнены польскими, литовскими, крымскими страхами в добавку к повседневным церковно-славянским ужасам. Пришлось человеку очень долго озираться, всматриваться в округу, разглядывать каждый пригорок, каждый кустик — не зашевелиться ли где?
Нет. Ничего не видать. Все спокойно. Человек осторожно соскользнул по шершавому стволу и присел отдохнуть за кустами. Еще с полчаса наслаждался пейзажами утренней Москвы-реки, скромным судоходством — в основном весельным и одномачтовым парусным, неплохими видами окрестной природы. Наконец поток обывателей на мосту достиг желаемой плотности, и человек спокойно проследовал к реке, беспрепятственно протолкнулся меж встречных пешеходов и скрылся в узких, кривых улочках Замоскворечья, лишь кое-где мощеных сосновым тесом. Толку от этого мощения в июньскую жару мало, только грохот деревянного тротуара разносится на всю улицу — даже от осторожных шагов мягкой, бескаблучной обуви.
Наш ночной наблюдатель проследовал по пыльной, немощеной середине улицы, вид у него был умиротворенный, расслабленный, и неопытный глаз мог принять его за удачно расторговавшегося коробейника. Правда, ни короба, ни сумы у него не было. Но вдруг он сдал товар оптом? — с упаковкой, так сказать? И возвращается теперь налегке в родное Подмосковье? Может быть, может быть. Только вы скажите это своей тете, а не Ваньке Глухову — другу всех собак во всех московских подворотнях.
Ванька тоже шел вразвалку. Он еще дольше походил на коробейника, потому что короб-то у него имелся, и не пустой. Видно, не совсем расторговался наш Ваня в этот ранний час. Кое-что в его коробушке болталось. Так, ерунда: английский двуствольный пистолет с кремневым боем, кинжал арабской работы да мешочек со свинцовой дробью, годной для зарядки стволов и для тихого удара в висок. Еще там находился запас пороху, коврига черного хлеба, пара малосольных огурцов, кусок вяленой свинины с заметной мясной прорезью, пара крутых яиц. В углах коробки можно было наскрести щепотку соли, рассыпанной в прошлую засаду. При быстрой ходьбе в коробе перекатывалась глиняная бутылка квасу, а более серьезных напитков подьячий Поместного приказа Иван Глухов на службе не принимал. Тем не менее, настроение у Глухова было прекрасное, подстать погоде и содержимому короба.
Глухов шел не один. Два его парня, Волчок и Никита бежали соседними улицами, поочередно выходя в переулки по пути объекта. Они появлялись друг у друга на виду и подавали условные сигналы о положении цели. Так что, когда ночной герой добрался до места, он был наблюдаем с трех сторон: справа и слева вдоль улицы, и в спину — с тропинки, вьющейся между заборами. Эту тропинку можно было считать переулком, не будь она так узка и кривобока.
Незнакомец несколько раз ударил ногой в сплошной тесовый забор, отчего там зарычало, но тут же смолкло какое-то мощное животное, зашиканное невидимым дворовым человеком. Получается, гостя ждали. Кто-то караулил во дворе. В тесовой стене приоткрылась калитка, и гость проскользнул внутрь.
К этому времени Иван Глухов уже сидел на дереве и наблюдал содержимое подворья. Ничего тут особенного не было. Захламленный двор, чахлый сад, просторный забурьяненный огород, пустые сараи. Скотины не чувствовалось, по крайней мере, через улицу хлевом не шибало. Народу – никого. Или спят, или по городу ходят. Обычный двор черного, едва свободного народа, но пустой, брошенный. Изба косая, крытая гнилым тесом помнит лучшие времена. Прорехи в крыше прикрыты соломой. Ничего примечательного, противно смотреть.
Однако, что-то привлекло Ивана, и он сказал «угу!». Это означало удачное умозаключение. Типа «эврики», но солиднее, спокойнее, увереннее.
Открытие касалось пустяка – сенных ступенек. Их недавно выскоблили до белой древесины. При общем запустении двора избу недавно приводили в жилое состояние.
И вот еще. Солнце уже светило, но в комнате, смотревшей окнами на Ивана и, соответственно, — на север, было сумрачно. Оконная рама с растрескавшейся слюдой оставалась открытой с ночи, и Иван видел под окном стол, на котором собирались рассматривать бумаги. Иначе, зачем там вспыхнула свеча деньги эдак в четыре?! В ее свете мелькали три силуэта, среди которых легко угадывался гость. Второй темный контур на месте не сидел: то вскакивал с лавки и исчезал, то снова появлялся в рамке окна. Похоже, подавал на стол. «Дворовой холоп», — заключил Иван.
Третья тень восседала недвижимо. Это был самый «тяжелый» силуэт. В его движениях сквозила привычка к неторопливости. Правда, когда он поворачивал голову в полупрофиль, свеча прорисовывала тонкий подбородок с волнистой бородой, длинный орлиный нос, измученное лицо, поджатые губы, выпирающие скулы и височные кости. «Бывший толстяк», — определил «Тяжелого» Иван.
За столом велась беседа. Губы шевелились, да Иван не умел читать по губам, поэтому посвятил свои усилия художественному промыслу. Достал со дна коробки древесный уголек и стал набрасывать на внутренней стороне крышки «Портрет Бывшего Толстого Незнакомца». Уголек раскрошился после нескольких извилистых линий, но профиль был схвачен удачно. Полутона художник продолжил накладывать пальцем, растирая угольные крошки. Получалось неплохо. Ивану нравилось.
Тут натура дернулась, несколько раз рубанула воздух рукой, выпила из кружки и пожала плечами, как бы извиняясь. Гость вскочил, поклонился на четверть, — достаточно определенно, чтобы Иван понял: «Ночной» «Тяжелому» не в версту. Чинов на десяток меньше!
Дальше все закрутилось быстро. «Ночной» выскочил из дома, покинул двор, резво пошел по улице в сторону окраин. Глуховские ребята повели его в припрыжку. Иван еще с час сидел на дереве, но в окне стало темно, «Тяжелый» больше не показывался. Подворье замерло и казалось нежилым. Только однажды невзрачный серый мужичок выскочил во двор, пробежал к сараю, выволок оттуда вопящую курицу и ловко отхватил ей голову прямо на весу, посреди двора. Голова отскочила, и к досаде мужика досталась здоровенному цепному волкодаву. «Самое ценное, что тут есть», — подумал о собаке Иван. Мужик вернулся в сени, опять выбежал, стал ощипывать курицу в уголке под забором, и делал это очень неумело.
«Ножичком у нас лучше получается!», — улыбнулся Иван и добавил: «А баб тут нету».
Мужик вскоре убрался с ободранной курицей, из трубы повалил дым, хотя по летней погоде полагалось стряпать в надворной печи. Но была ли она во дворе, Ивану разбираться уже не хотелось. Он выбрал момент, соскользнул с дерева и ушел по тропинке-переулку.
Глава 10. Пытка
В наше время сведения Глухова протоколировались бы до вечера, потом еще от недели до месяца собирались и проверялись улики, достаточные для суда. Весь это месяц замоскворецкие халупы «Тяжелого» и «Ночного» наблюдались бы сменными топтунами, наружкой, филерами.
А тогда – нет! Тогда – раз, и готово! Некогда было му-му водить. Очень страшно было!
Поэтому через час вдоль помеченного Глуховым тесового забора бежал, задыхаясь, сотник Штрекенхорн с пистолетом в одной руке и бердышом в другой.
Следом вполне поспевали два десятка русских ребят в красных кафтанах и несколько кожаных немцев с алебардами и пищалями. В соседних улицах тоже стояли караулы, поэтому бежать обитателям странного дома не получалось. Стрельцы не стали взывать к их благоразумию, врать о явке с повинной, о смягчении вины. Они просто высадили калитку, зарубили на всякий случай волкодава, разнесли входную дверь и очень жестко положили на пол «Тяжелого» и щуплого «Дворового».
Никто и не убоялся, что арестанты могут «иметь лапу в Кремле» или у них много денег. Худенькому разбили морду о лавку, «Тяжелого» тоже неаккуратно завалили. Но он молчал, только рычал с досады.
«Тяжелому» было на что досадовать. Его портрет работы молодого московского художника Ивана Глухова уже был предъявлен царю Ивану, вызвал смертельную бледность, обморок и крики по возвращению из небытия: «Взять! Взять!! Взять!!!».
Фамилия «Тяжелого» стала известна из уст очнувшегося государя: «Тучков!». Тучкову надели на голову мучной мешок, подсадили в крытый возок и оттарабанили с максимально возможной скоростью в кремлевские казематы.
Аналогичная участь постигла «Дворового», ночного собеседника Феди Смирного и дюжину душ с подворья, где квартировал «Ночной». Этим, правда, мешков не надевали и транспорта не подавали. Их связали толстенной веревкой и проволокли через реку, как карасей на кукане.
Остаток дня с полудня до глубокой ночи был посвящен предварительному следствию. Для этого очистили от караульной сотни просторную полуподвальную камору – «черную гридницу». Стрельцы господ Истомина и Штрекенхорна перешли в светлую и чистую «белую гридницу», где жалованный мед можно было оценивать не только на вкус, но и на цвет.
Очаг, освобожденный от стрелецких сапог, ярко пылал. В нем уже и железо кой-какое краснело. Помещения в углах каморы — совсем маленькие кельи, были набиты арестантами. Боярин Тучков, ночной посетитель Кремля, дворовой из «пустого дома» содержались поодиночке. Задержанные мужики с постоялого двора сидели скопом.
И еще одна чистенькая, маленькая клетушка с крошечной дверцей в главную камору была занята в эти дни и ночи. Здесь теперь находились два постоянных жильца и временами появлялись два приходящих. Постоянных звали Федор Смирной и кот Истома. Приходили по делу младший подьячий Прохор и средний подьячий Иван Глухов. Они чутко вслушивались в допросы Филимонова, всматривались через щель в лица испытуемых.
Сначала был произведен предварительный (без пытки) опрос задержанных, который в счет не шел — все понимали, что без боли и страха русский человек правду сказать не в силах.
Получалось, что люди с постоялого двора вообще не при делах, «Ночного» видеть видели, но как звать не знают. Не разговаривали. Он к себе никого не приводил, сам весь день пропадал в городе. Дознаватель, стряпчий «Воровской избы» Василий Филимонов выслушал эти рассказы спокойно и добродушно. Он имел огромный опыт сыскной работы и понимал собеседника с полуслова. Сейчас он готов был верить мужикам из общей камеры. Они бледно выглядели в отблесках «пытошных снарядов», дрожали голосами и телом. То есть, пытка как бы шла сама собой. Филимонов знал цену мучениям телесным и мукам душевным. «Можно верить», — отметил про себя.
Холоп из «пустого дома» вел себя почти так же. Озирался на раскаленные щипцы и кочережки, бледнел, отвечал с готовностью. По его словам выходило, что он — обедневший мещанин Иван Петрищев — присмотрел выморочное подворье, договорился со старшиной улицы о выкупе, но денег не хватало, так он пустил постояльца. Имени не спросил по простоте, деньги за постой получил, хотел сегодня нести старшине, но вот.., помилуйте, господин, невинную душу...
Слезы у мужика получились натуральные, и Филимонов кивнул добродушно. Этот кивок, почти такой же, как на прошлом допросе, почему-то привел в движение темного человека в углу каморы. Здоровенный парень шагнул из тени за спину подозреваемому и без разговоров рубанул с плеча тонким кнутом с железным наконечником...
Русский кнут – это, по сути, мягкая сабля. Если он снабжен наконечником, то рассекает кожу и мясо до кости, но убивает не сразу, — еще можно что-то выспросить у посеченного. Несколько десятков ударов кнутом превращают человека в котлету по-киевски: кости внутри целы, вокруг — фарш, схваченный запекшейся шкуркой.
Сейчас палач ударил только один раз.
Мужик упал, захлебнулся криком, замер, часто дыша.
— Ты, брат, не ври мне, — склонился над ним Филимонов, — вот же у тебя крест золотой. Два золотника, поди, или три? На него три таких дома купить можно.
— Я не жид, крест продавать, — простонал мужик, — лучше себе возьми...
— Да я не об этом. Просто ты не так беден, как говоришь. Вот что плохо. Ты бы мне не врал, ни к чему это.
В голосе Филимонова звучала забота, и совсем не было злобы. От этого становилось по-настоящему жутко.
Палач тем временем отошел к очагу, вернулся и осветил лицо преступника красным огнем.
— Скажи, кто ты, — снова наклонился над страдальцем Филимонов, — я все равно узнаю. Скажешь, больше пытать не буду, запишу, что признался с третьей пытки.
«Третья пытка» — обычно с применением горячего железа — считалась окончательной, а полученная на ней информация — вполне достоверной. Человек, прошедший три пытки, например — кнутом, дыбой и огнем — не обязательно приговаривался к смерти или другому наказанию. Здесь главным было дознание. Пытать могли и заведомо невинного свидетеля, а потом отпустить с извинением. Неофициальным, конечно.
Испытуемый молчал в раздумьях. Полуприкрытые глаза бегали. Филимонов решил помочь:
— Значит, ты – бывшего боярина Тучкова...
— Ловчий и печатник Гаврила Шубин.
— Ну вот, сразу бы и сказал, а то – Иван, Петрищев. И не стыдно тебе, ловчему мещанином называться?.. Зачем в Москву пожаловал? Твоему хозяину лучше бы в лесах обитать, тут его за покойника уже лет 20 держат.
— Он и жил в лесах, в Литве, под Смоленском, в Киеве.
— И что ж не жилось?
— Дело в Москве появилось. Какое, не знаю.
— Печатник, а не знаешь? Или ты к письмам только печати прикладывать горазд? Читать-то учен?
— Учен, но, видит Бог, переписки не читал. Больно осторожен господин.
Шубина отложили на потом и занялись «Ночным».
Этот человек был тертый калач, рваный волк. Рваным было его ухо, тертыми – сапоги. Напряженное сухощавое лицо, покрытое потемневшей кожей, обозначало свирепую непреклонность.
Филимонов решил, что с этим господином нужно быть настороже.
Против ожидания пленник сразу встал на путь сотрудничества со следствием, что еще больше насторожило Филимонова. Задержанный назвался Борисом Головиным, бывшим новгородским стражником, признал, что нанят на службу Тучковым, с которым имел дела при его многочисленных проездах через Новгород. Работа простая – обеспечивать путешествия хозяина, снабжать лошадьми, дорожными припасами, производить путевую разведку. Охранять. В Москве Головин успел сделать только три дела:
1) Собрал под мостами шестерку ребят и привел их к боярину на беседу (подробностей не знает).
2) Пригнал в среду утром к «пустому дому» крытую телегу с холщовым верхом.
3) Сходил минувшей ночью в Кремль, где холоп боярина Гаврила видел яму с неизвестным вором. Нужно было узнать, чей человек.
Все.
Филимонов отправил Головина в камеру без пытки и стал готовиться к допросу главного государева врага Тучкова. Сходил пообедать, отдохнул, обошел прочих заключенных, осмотрел их весело и спокойно. Отпустил до вечера палача Егора, — Тучков был человек в глубоких летах, мог помереть со страху. Филимонов планировал для начала поговорить с ним по-свойски. Как старый москвич со старым москвичом. Но вышло наперекосяк.
Тучков вышел из камеры, сел к столу. На Филимонова смотрел исподлобья, но без высокомерия и злобы. Нормальное начало. Но не успел стряпчий вопроса задать: как вам, сударь, Москва после стольких лет? – дверь в помещение распахнулась, вошли стременные стрельцы, с ними вбежал здоровяк с трясущимся лицом – Филимонов не сразу узнал царя Ивана, — выхватил у кого-то бердыш и что было силы въехал торцом держака Тучкову в рот. Боярин поперхнулся брызнувшими зубами и рухнул навзничь.
— Не хрен с ним разговаривать! – рявкнул царь. – Он только врать да материться может. Нечего его слушать! Он скверну сеет!! Язык поганый долой!!!
Грозный забился в судорогах, снес бердышом со стола чернильницу, отбросил оружие и подскочил к распростертому Тучкову:
— Вот посмотрим теперь, кто здесь сука, — сказал от как-то по-воровски, — и кто здесь литовский лазутчик!
Тучков в ответ зашевелил рассеченными беззвучными губами. Казалось, они с Иваном продолжили какую-то давнюю беседу, спор по принципиальным вопросам.
Грозный ушел, тоскливо подвывая, Тучкова уволокли в келью. Филимонов вышел на воздух, и тут же к нему подбежал запыхавшийся Егор с подручным отроком.
— Слыхал, Ермилыч, — прошептал он Филимонову, — язык ему понадобился. Ты уж иди, мы сами тут... И попроси коробку с солью из поварни прислать...
Стряпчий по воровским делам Василий сын Ермилин Филимонов много чего повидал на своем веку. За тридцать лет службы он столько пыток и крови наблюдал, столько казней протоколировал, что уже не брал на сердце ужасы своей работы. На них никакого сердца хватить не могло. Но выдумкам молодого царя не уставал удивляться. Вот и сейчас узнал ошеломленно, что царь не бросился из каморы к себе в спаленку страдать и лечиться. Он спокойно прошел в «белую» гридницу, велел найти палача Егора и объяснил ему, что следует немедля лишить бывшего боярина Тучкова языка. По ходу дела ничего не слушать, чтоб самому живу быть. Язык резать не кое-как, а под корень. Потом засолить и принесть к нему. Или замочить в водке? Как считаешь?
Егор тупо пожал плечами, и царь приказал: «Соли!». Повернулся и ушел.
Теперь получалось, что с Тучкова нечего спросить. Ему уже назначена казнь на воскресенье. Остальные узники могут и обождать. Филимонов потрясенно убыл домой.
Тучкову вырезали язык, прижгли основание каленым железом, и в беспамятстве отволокли боярина в бывшую Федину яму. Его и спускать не стали, сбросили мешком. Крышку днем держали открытой, чтобы все видели вора. Имя его свидетелям, стряпчему и подьячим было приказано забыть. Кто из старых обывателей узнает, пусть знает, а остальным по молодости лет и дела нет, как зовут негодяя.
Вокруг ямы выставили шестерку стременных. Их зачем-то переодели в новые красные летники неудобного пошива, в руки сунули бердыши с легкими сосновыми держаками. Носить их было приятно, но в серьезном бою – это беда, неуравновешеный бердыш неустойчив в коротком замахе.
Глава 11. Тайный советник
Федя Смирной жил теперь в комнатушке под дворцом. Его извлекли из ямы утром в пятницу и поселили со всеми удобствами. В каморке даже кровать стояла — деревянный топчан с соломенным матрасом. Это место сразу захватил Истома.
Что было неудобно, — одна из двух дверей выходила в черную гридницу, превращенную в комнату пыток. Не очень-то поспишь. Зато другая вела прямо на волю. Если считать волей внутренний двор Кремля.
После полудня начались допросы.
В комнатку зашел Прошка, привел нового человека, Ивана Глухова – спокойного парня с умным лицом. Объяснил, что настоящие воры пойманы, как раз тут за стенкой и сидят. Сейчас их будут пытать, так нам велено смотреть и слушать, не поймем ли чего. Еще сообщил, что на рынке Тверской стороны поймана баба, продававшая стрелецкую шапку. При обыске у бабы изъят мешок с красными кафтанами. С одного легкого кнута баба сказала, что нашла кафтаны в брошенной телеге. Телега стоит без лошади за Сретенским монастырем. Телегу городовая стража обнаружила уже без колес и полога. Прихваченный в конце колесного следа мужик – он катил колесо по июньской пыли в гончарную слободку – охотно показал остальную добычу – еще колесо и два бердыша.
Военная форма и оружие вытягивали на крупное дело, и городовые срочно известили о находке Воровскую избу. Приказные приехали быстро и организовали энергичный розыск. По слободке были изъяты все шесть комплектов обмундирования, все оружие, все четыре колеса. Задержанных заставили починить телегу, и прямо на ней отправили улики в Кремль. Тележных расхитителей кремлевские брать не стали, а городовые настращали до икоты, переписали и распустили, приняв от каждого по медному пятачку.
Прохор закончил рассказ и приоткрыл дверь в большую камору. Ребята послушали допросы, понаблюдали за пленниками. Интереснее всего было следить за Филимоновым. Этот человек производил мощное впечатление. Казалось, он давным-давно знает все по этому делу, а также по всем прошлым и по некоторым будущим делам.
Настоящих пыток не случилось. Единственный удар кнутом и легкий прижар кочергой ловчего Шубина можно было в счет не брать.
Следует отметить, что ни у кого из тройки парней эти поверхностные истязания трепета не вызвали. Московские мальчишки с малых лет привыкали к виду крови, насилия, пыток и казней. Увидеть заледенелый труп в зимней канаве или утопленника с перерезанным горлом было тогда делом обычным. Так что, народ в окрестностях русских городов обитал ко всему привычный, крепкий на желудок.
В обед поели нормально. На поварне для дворцовых служащих всегда был готов стол. Глухова покормили за компанию, коту Истоме обед подали в номер.
После обеда ребята отдыхали в Фединой каморке – у Прохора была команда держаться до вечера вместе. Прохор предложил тему о различии в пытках по колдовским и обычным делам. У Феди по этому поводу соображений не было, он, кроме изгнания бесов отцом Саввой, никаких колдовских мучений не наблюдал.
У Прохора, напротив, имелась теория, по которой чародеев следует пытать сильнее, но усилия концентрировать не как попало, а в зависимости от типа колдовства. Вот, например, облакопрогонников хорошо накачивать воздушными мехами, сеятелей водной порчи – пользовать водяной пыткой, сжигателей кости – соответственно, жечь огнем.
— Или ломать им кости, — усмехнулся Глухов.
— Нет, ты зря смеешься! Видел я, как пытали дьякона-прелюбодея и содомита в Угрешском монастыре...
Иван с Федей приготовились выслушать занимательный рассказ о соответствии антисодомских инструментов форме греха, но тут в большой каморе захлопали двери, затопали сапоги, раздались крики и звуки, обычно сопровождающие драку. Парни приникли к щели и увидели фигуру царя Ивана над распростертым толстяком.
Снова захлопали двери, и Прохор выскочил через наружную дверь, разузнать, что да как. Во дворе он увидел быстро удаляющегося Ивана Васильевича. Тут же из гридницы вышел Филимонов. Прохор удивленно выслушал рассказ о вторжении царя в делопроизводство. Теперь вообще непонятно, как пытать Тучкова.
Сомнения развеял прибежавший Егор. Палач на ходу вытирал рот и непривычно суетился. После короткой беседы с Егором, Филимонов расстроился еще больше, велел Прохору, чтобы он и прочие забыли имя Тучкова, и вообще убирались куда-нибудь погулять. Развернулся и побрел понуро.
В каморке тройка заспорила, чей приказ важнее: расплывчатый царский – «держаться вместе», или конкретный филимоновский – «гулять». Решили, что, если гулять втроем, то оба приказа будут выполнены. Истома тоже запросился гулять, но когда Федя приоткрыл дверь, чтобы его выпустить, дверь резко дернулась, и в каморку ввалился Грозный. Он уселся на единственную лавку лицом к гриднице, махнул рукой: «сидеть, молчать!», — и стал слушать через приоткрытую дверь.
Вот в гриднице забормотал Егор. Его подручный отрок ойкнул и побежал в угол. Заскрежетало железо, щель в дверном проеме осветилась красным пламенем.
«В очаг дров добавили», — понял Федя и глянул на царя Ивана. Грозный сидел, сгорбившись. Глаза были прикрыты, по лицу прокатывались судорожные волны.
«Как бы его не вырвало», — подумал Федя.
Тут снова звякнуло, послышалось кряхтение, возня, в щели мелькнула спина Егора. Казалось, он волочет по полу огромный мешок с зерном или мукой. Мешок шлепнулся на пол у очага и наступила тишина.
По напряженному лицу царя Федор понял, что в гриднице происходит что-то важное и страшное. Он бы подошел к двери и посмотрел, но в присутствии Грозного не решился.
Через несколько минут в гриднице кто-то быстро забормотал, но тут же послышался короткий деревянный удар. Бормотание смолкло, послышалась возня, сдавленные крики «держи!» и «давай!», потом глубокое нечеловеческое мычание, снова заглушенное ударом по дереву. Еще какие-то звуки, напоминающие звон столовых приборов, донеслись в комнатку, и Егор протащил «мешок» в обратную сторону.
— Готово, — сказал Егор, потом добавил: — клади сюда, присоли! Сыпь соль, дурень! Больше, гуще сыпь!
И тут посуда звякнула за спиной у Федора. Он обернулся и увидел, что Прошка стоит возле царя и сует ему под нос корчагу.
Грозный дрожал всем телом, глаза его были белыми, как у мертвой рыбы. Но он увидел воду, ухватил корчагу двумя руками, быстро выпил до дна.
— Ты. – Сказал Грозный, и Федор понял, что это к нему.
— Ты сегодня вечером приходи. Сказать хочу.
Царь поднялся, согнулся чуть не вдвое, вышел наружу.
Федор, Иван и Прошка вышли во двор, чуть погодя. Под стенкой гридницы в крик рвало подручного пацана.
— Эй, тебе воды дать? – Прохор остановился, не доходя до мученика двух шагов. Ему неприятно было, что кто-то вот так некрасиво нарушает распорядок вверенного ему Большого Дворца.
— Я-зы-ык! – провыл между спазмами мальчишка.
— Что у него с языком, — забеспокоился Федя.
— Мы-ы е-му-у я-зы-ык вы-ырезали! – отрок забился в холостых конвульсиях. Недавнего обеда на полные воспоминания ему не хватало. Пришлось взять слабака, затащить к Федору, уложить на топчан, освежить некоторым количеством водички.
Прохор увел малого в поварню, — не кормить, конечно, а подлечить вином.
— Вот такая у нас, брат, государева служба, — грустно улыбнулся Иван Глухов, — а что делать? Жить-то надо?
Закончился этот кошмарный день проще, чем ожидалось. До часа вечерней аудиенции Федор занимался своей внешностью. Получил у Прошки приличную мирскую одежду – какой с него монах? – помылся, причесался, почистил полусапожки. Еще заделал дырки в оконце и под дверью в гридницу. Истома должен сидеть здесь безвылазно. Не пускать же его снова к царю?
Наконец Прохор пришел, сказал, что пора, повел Федора по дворцовым переходам. У малой царской палаты остановились. Стременные стражники приветливо скалились знакомыми рожами. Прохор засунул голову внутрь, тут же вытащил обратно и кивнул: «Заходи!».
Государь сидел в кресле очень прямо. Бороду держал высоко. Он был одет в богатый летник, будто к приему посольства или Бог знает к чему. Чувствовалось у царя какое-то особое настроение.
Смирной приблизился, поклонился в землю.
— Ты, Федор, служи мне верно! – прогрохотало под сводами, и Федя удивился, что Грозный помнит его имя.
— Тут тебя в разную службу определять будут, много куда посылать. Знай, — это я тебя определяю, я посылаю. С каждой службы приходи прямо ко мне. Никому не смей отчитываться!
Федор поклонился еще, — думал, что разговор идет к концу.
— Я тебя и без службы звать буду, — Иван сделал паузу и вдруг произнес совсем тихим, горестным голосом, — очень нужно бывает спросить...
Грозный промедлил. Было заметно, как уходит из его посадки величественность, как проседают плечи. Это менялась тема его мыслей и забот.
— Ну, что тебе показалось с ворами?
— Заговор, государь. Вор Тучков не своим умом его затеял. Остальные —вовсе случайные люди...
— Как узнать, чья наука? Тучков из Литвы. Может, тамошние государи его натравили? Сам бы побоялся возвращаться. Понимал, что с ним будет.
— Зря мы его языка лишили. Теперь не спросишь. – Федор спокойно, даже ласково произнес «мы», будто он лично орудовал раскаленными щипцами. Иван заметил готовность разделить мучительский грех и не рассердился на общий смысл фразы: все-таки Федор оспорил решение Грозного.
— Ничего, других спросим. Велю всех подельников Тучкова держать до поры, чтоб волос с них не упал. А как думаешь, нет ли тут колдовства?
— Не заметно, государь. Колдовство – дело темное, требует темных сил. Для него нужны люди одержимые, а их сразу видно. У нас в монастыре таких держали на воде и сухарях, в цепях и веригах. Речь у них скомканная, булькающая, быстрая. Глаза пустые, страшные. А эти воры – обычные люди. Им колдовство не по силам. Они простое убийство затевали.
Иван снова поднял бороду. Как-то нескладно ему послышалось: «простое убийство». Разве может быть «простым» убийство великого монарха?
— А вдруг они одной рукой убийц подсылали, а другой порчу наводили?
— Не думаю. Тогда уж не они, а те, кто их послал...
Грозный застыл. Получалось, что он сильнее боится колдовства, чем стали.
Федор продолжил легко и спокойно:
— Нельзя судить о колдовстве без явных проявлений. Тебя что-то беспокоит? Где-то болит, и ты считаешь, это от порчи? Или доносы есть о колдунах?
Грозный не ответил, но снова расслабился. Теперь это расслабление было бессильным, опустошенным.
— Ступай, Федор. Служи…
Федя вышел с поклоном, но в дверях разогнулся прямее обычного. Стременные уважительно закивали ему лохматыми головами.
Глава 12. Оторванный рукав
Сегодня Ивану Васильевичу пришли на память давние дни, когда кончилось его детство, когда удалось вернуть отеческую власть, порвать боярскую свору. Он любил вспоминать о своей первой силе.
Иван напал на бояр в субботу 29 декабря 1543 года, на пятый день Рождества, когда по его расчетам разгул боярских застолий достиг апогея.
Надо сказать, что господа бояре московские менее трех дней вообще ничего не праздновали. Самую ерунду, вроде женитьбы приказчика или освящения дворовой баньки, высиживали троекратно. Первый день считался зачином. В нем столько всего бывало — крестных ходов, молебнов за здравие и упокой, официальных приглашений, отсылок еды не приехавшим высоким гостям, пересудов — кому за кем сидеть. В общем, на правильное вкушение пищи времени не оставалось.
Другое дело — второй день. Уже стабилизировался состав гостей. Мимолетные пташки исчезли и не путаются под ногами, слабые на живот выпали в первую ночь, глупости разные, типа обид и подозрений, улетучились с винными испарениями, уже никто тебе не враг и пока все – братья. Можно пить-закусывать по-настоящему.
На третий день результат закрепляется, организм успокаивается похмельной дозой, ему (организму) кажется, что теперь так будет всегда, и он смиряется с неизбежностью.
Так что, нам — русским, короткие праздники нелепы, они нам вредны.
Но это я малые праздники обозначил. А серьезные праздники — государственного масштаба и гражданского звучания, продолжаются никак не менее недели. Таких всенародных недель обычно бывало четыре. Во-первых, неделя в окрестности Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября. «Во-первых» — не потому, что это главный праздник, хоть мать Христову все мы уважаем, а потому, что собран какой-никакой урожай, в основном закончены работы по его засолке, укупорке, закваске и закладке в ледники. Но свежего льда пока нету, и надо подъедать скоропортящийся продукт.
Следующий приступ — Рождество. Перед ним тянется средненький по нашим понятиям пост, а с первой звезды в ночь на 25 декабря можно врубать застолье на полный оборот. Рождественская неделя — очень мощный акт. Вслед за Вифлеемской звездой мы готовы идти хоть на край света, лишь бы там кормили и поили.
Так же круто получается на Масленницу. Праздник это языческий, официально не приветствуется, но и не запрещается: как запретишь народу заложить жировой запас на Великий пост?
Ну, и Пасха, конечно! Это отдельный пункт. Тут мы едим на законном основании. Считается, что честно голодали почти два месяца!
Итак, возвращаясь в конец 1543 года, мы с молодым царевичем Иваном отмечаем, что на пятый день Рождества основная боярская масса приобрела оптимальную эластичность, не отрывает голову от стола даже в поисках карьерной звезды на русском небосводе. Можно брать!
Ивану только-то исполнилось 13 лет, но он хорошо знал, как подбирается ключ к управлению событиями в России. В конце предрождественского поста он зачастил на псарню, играл со щенками, держался запанибрата с псарями, им это льстило. Иван прямо говорил парням, что они — опора престола, что тот, кто умеет управляться с собаками, неужто не справится с людьми? Что они ему милей всей своры боярской. Псари охотно верили, и правильно делали, ибо устами младенца в тот раз глаголила истина. Тем более, — в дни перед рождением самого главного Младенца на земле. Позже Иван доказал, что говорил псарям правду, — такие высоты уготовила им московская служба.
Под Рождество Иван добился для псарей малого бочонка (4 ведра) меду «слабой рассытки», когда медовая сыта к брожению чуть-чуть разводится водой и доигрывает до очень серьезного градуса. Дворцовый ключник только плечами пожал: «Бери, государь». Думцы вездесущие тоже не забеспокоились, когда увидели царевича, лично перекатывающего бочонок. «Пусть катит — очень похож на навозного жука! Ха-ха-ха!».
Вот и вышло им «ха-ха-ха».
Ваня на псарне выпил самую малость. Псари высадили бочонок до донного блеска. Главный псарь Данила Сомов объявил, что он святой Иосиф. Заловили во дворе неопознанную девку, принарядили Девой Марией и завалили в солому. Все смешалось. Не в смысле блудодействия, а в смысле рождественской подоплеки. Вроде бы Иосиф не должен Марию трогать, но Данила бодро потрясал на пленнице отнюдь не палестинским задом. К тому же до Благовещенья было далековато. Остальные псари тоже в очередь встали — Мария не возражала. Они называли себя вифлеемскими пастухами, а своих борзых и овчарок — овцами. Ивана на Марию не пустили. Пьяный Данила объявил его младенцем-Иисусом, встал на колени и от всего пастушьего сообщества умолял вывести псарню из плена Египетского.
Мистерия повторилась через ночь — на 27-е и еще через ночь — на 29-е декабря. Баб, правда, больше натащили.
Уже близилось утро, народ на псарне засыпал, когда Иван твердым шагом отправился в поварню, собрал в короба выпивку и закуску, велел сонному поваренку нести все это за собой, спрятал запасы в щенячьем сарае и отправился на разведку.
Большой дворец спал мертвым сном. Во втором этаже, там, где раньше располагались государевы покои, тоже было тихо. В большом сеннике — спальне, догорала пудовая всенощная свеча. На лавках покоились жертвы пятой Рождественской ночи, и Ваня нашел среди них ту, которую искал.
Он постоял, посмотрел, тихо вышел, осторожно спустился по скрипучим лестницам, побежал на псарню. Здесь еще наблюдалось шевеление у женских тел. Иван поднял Данилу Сомова, вместе они принесли короба из щенячьего сарая, выставили угощения на стол. Иван приказал будить народ. Данила растолкал нескольких псарей, крикнул, что прибыли новые дары волхвов и стал разливать медовуху в глиняные корчаги.
Псарня восстала из мертвых. Вот же крепкий у нас народ!
Через три поздравления (тоста) псари были готовы. В смысле, — на подвиг.
Подвиг состоялся немедленно. Иван звонким голосом объявил, что пора служить государеву службу.
— Отчего ж не сослужить? — удивились псари.
— Тогда айда за мной имать главного вора!
Псари поняли «имать» не только как «брать», а что у некоего главного вора есть столь же зловредная мать, и нужно сделать с ними все, что прикажет великий князь Иван Васильевич, дай, Ванечка, я тебя поцелую!
Толпа шумно двинула ко дворцу и с трудом была приведена в строевой порядок. Настоящей скрытности добиться не удалось. Хорошо, хоть скрываться было не от кого. Дворцовая стража полегла в неравных библейских боях.
Боярин и первосоветник государев князь Андрей Шуйский спал сном младенца. Крепко выпившего младенца. Ему снились пустые песчаные пространства, губы трескались от жажды, но в теле ощущение было легкое. Будто несла его по воздуху то ли невинная палестинская дева, то ли здоровенная русская баба. «Все-таки — баба!» — решил во сне Андрей, услыхав визгливый женский смех и нежные переливы чудовищного мата. Князь Андрей натужился, открыл глаза, но увидел только вращающееся звездное небо.
«Что ж это за высокое небо, которого я не знал до сих пор? Получается, я вообще ничего не знал, раз не видел этого неба?.. Ну, и хрен с ним!.. Но где я?!». Никто не ответил Андрею, кто-то ржал, выли собаки, заливисто матерились пьяные потаскухи.
Утром Шуйский проснулся от чувствительного толчка в бок. Хотел возмутиться, но его грубо дернули за шиворот, поставили на ноги и выволокли во двор. Солнце ударило в глаза, земля ослепила снегом, морозный воздух свежей струей вонзился в тело.
— Куда вы меня тащите, сволочи!? — весело возмутился князь, ожидая рождественских шуток, возни в снегу, штурма снежного городка. Его не слушали, скольжение по двору продолжалось, и по ходу боярин несколько раз падал в снег. Еще через сотню шагов Андрей проснулся окончательно и стал вырываться, вопя пронзительно и грозно. Но его волокли неумолимо, и когда он уперся, наконец, каблуками, один из волочивших возмущенно крикнул:
— Данила! Не хочет идти, тварь!
И не успел князь оскорбиться «тварью», как идущий впереди огромный человек медленно обернулся и изо всех сил ударил Андрея в лицо. Нос хрустнул, свет солнца и снега померк, превратился в кровавую ночь.
Андрей очнулся в каком-то мерзком углу двора у колодца. Он стоял привязанный к дереву. Правая рука была опутана и натянута железной цепью. Цепь уходила в багровый мрак, который постепенно рассеивался под морозным ветерком. Андрей увидел конец цепи, укрепленный на бревне колодезного ворота, и двух людей, удерживающих ворот за ручки. Один из них был до боли знаком князю. А! — именно, до боли! Это был тот здоровяк, который только что ударил его так больно! Но, постой! Доберусь до тебя!
Второй у колодца — чужой какой-то малый смотрел на Андрея нагло, высокомерно, с ненавистью.
«Тебе тоже крышка, щенок!» — подумал Андрей.
Тут эти уроды начали вращать ворот, цепь натянулась, остро повело плечо. Андрей закричал, и мерзавцы перестали крутить.
— Ну, что, господин первосоветник, что ты мне, своему государю посоветуешь?
Андрей узнал царевича Ивана и обмер. До него дошел смысл происходящего. «Они ж убить меня могут!».
— Стража! — заорал Андрей. Он вдруг увидел совсем рядом цепь красных стрелецких кафтанов. — Держи воров!
— Да держим, держим... — насмешливо процедил стрелецкий начальник.
И тогда Андрей Шуйский взмолился. Не к Богу новорожденному, а вот к этому тринадцатилетнему пацану, которого уже и в живых не числил.
— Государь, — завизжал князь, — помилуй ради Господа Христа-а-а! Оставь мою душу на покая-а-ние! Постригусь в монастырь или служить тебе буду ве-ерно-о!
— Мне твоя поганая душа и воровская служба не нужны. Я у тебя только рукав оторву, чтоб знал, как матушкино платье терзать, собака!
Иван навалился на ворот, Сомов поддал со своей стороны, острая боль пронзила плечо, грудь и шею князя Шуйского, он завопил дурно, отчаянно, повис на веревках, забил каблуками в дерево, но быстро стих в смертном беспамятстве.
И скоро кровавый клок отделился от тела боярина и князя Андрея, самоуверенного и недостойного раба Божьего. Главный псарь Данила Сомов отвязал руку в красном рукаве от цепи и спросил бодрым голосом:
— Куда прикажешь девать эту падаль?
— Отдай собакам, — ответил ломким фальцетом Иван, — может съедят, а может и побрезгуют.
Растерзанное тело Андрея выволокли на Соборную площадь и бросили валяться принародно. Руку тоже кинули рядом. Не стали собаки ее есть. Мимо тела и руки стали водить людей партии Шуйских, отлавливаемых по Москве. У Боровицких ворот для них готовили сани и стражников, которые бережно сопровождали заблудших политиков в дальние монастыри на профилактическое покаяние. Только боярин Тучков ускользнул куда-то.
Так давно это было! Вот и Мишку Тучкова достали. Жаль, долго гулял...
Глава 13. Тризна Красного Платья
Утром в воскресенье 16 июня 1560 года московский люд стекался на Болотную площадь – «Болото». По сути, это был пустырь, где происходили воинские учения и особо зрелищные, просторные казни. Сегодня намечалась казнь.
Москва в те годы представляла простому народу мало развлечений, поэтому некоторые шли на казнь именно за удовольствием, как сейчас ходят на громкие судебные процессы и театральные постановки. Другая часть зрителей присутствовала по долгу гражданской совести. Не могли эти почтенные люди игнорировать призыв государя, прозвучавший через глашатая и в горницах приказных изб.
Но большинство-то явилось на всякий случай, из страху Божьего. Сказали на базаре, что надо прийти, вот и пришли. А то, не пойдешь, так лишат торгового места или по-другому придавят.
Мотив представления был таинственным, интригующим. Никто не знал имени и чина казнимого или казнимых. Количество их оставалось неопределенным. Рассказывали, что в среду в Кремль приволокли откуда-то страшного злодея — ростом в сажень, сам себя шире, борода седая до пояса, ухо рваное, правого глаза нет, зубы – железные. Потом поступило уточнение, что нету левого глаза, уши пока на месте, на лбу выжжено «ВОР», борода — черная. Сообщников у него будто бы сорок. Ну, будь по-вашему, — два сорока.
Расходились также версии вины. Некоторые, не слишком крепкие на голову торговцы – зеленщики, пряничники, пирожники – божились, что злодей умышлял на жизнь митрополита и государя. Но люди солидные – владельцы скобяных и иконных лавок – уверенно опровергали разносчиков: дело было в колдовстве! Далее следовало крестное знамение, после чего желающих спорить не находилось.
Версию покушения еще можно было обсуждать: как, да чем, да из-за какого угла покушались; но колдовство – тема опасная! – тут лучше помалкивать. Вот и молчали. Надеялись на разъяснение по ходу казни. Впрочем, среди толпы нашлось-таки несколько пар азартных мужичков, которые еще с вечера побились об заклад о смысле вины. Теперь они жались в кучку поближе к сосновому настилу с плахой и виселицей, внимательно наблюдали за выборным хранителем заклада, — чтоб не сбежал с деньгами.
Толпа отдыхала, не проявляя нетерпения. Разносчики пришли на казнь со своими коробами и торговали даже живее, чем обычно. В торговых рядах покупатель ходит-бродит, приценивается по десять раз. А тут стоит смирно, настроение у него праздничное — потребительское, а не хозяйское – скуповатое. Пирожки и ранние яблоки улетают в миг, а главное — распродать все мясное до казни, а то потом могло не пойти.
Наконец появились подручные палача. Пара молодых, но синеватых ребят притащила ящик с инструментами. Подручные влезли на помост, причем один чуть не свалился и долго матерился, потирая колено. Парни стали раскладывать железяки на помосте, а ближние зрители погрузились в короткое блаженство, какое бывает у русского человека, наблюдающего профессиональную работу. В те немногие минуты, пока не нагрянуло начальство, люди успели добродушно обсудить с подручными погоду, устройство настила и что давно пора выстроить каменное лобное место, как на Красной площади. Ребята отвечали, что да, пора, только здесь бывают разливы и земля непрочная, каменной кладки не вынесет. На вопрос: кого казним сегодня? — ответ хоть и последовал, но был как бы не в ответ: «Злодеев, кого ж еще», — равнодушно протянул длинный парень. Другой сморщился. Но не от бдительности, а от боли в ушибленной коленке.
Парни закончили мелкую возню, и народ понял, что казнь будет «холодная» – без раскаленного железа, без варки в котлах, без заливки расплавленной меди в болтливое или несытое горло.
Забавно выглядели зрители сверху, от плахи. Они плавно покачивались длинной, спокойной волной, хаотически вращали головами, бормотали вполголоса.
«Столько голов вовек не срубить», — тихо сказал «ушибленный». «Отчего ж, — возразил «длинный», — рубили и больше, только до нас. Государев дед, говорят, устраивал неплохие казни, народу нравилось».
В подтверждение этих слов толпа ожила, завертела нерубленными головами, загудела. Вдали показались пики конных стражников, и с помоста стало видно несколько повозок. В первой телеге везли связанного по рукам и ногам злодея. Это был действительно крупный старик с похудевшим лицом, не седой и не черной, а пегой какой-то бородой, двумя неподвижными глазами и рассеченной губой.
Следом ехал палач Замоскворецкой стороны – обычный мужик в холщовой рубахе, каких и сейчас немало встречается в мясных рядах. С ним сидел совсем молодой подьячий по воровским делам. Еще одна повозка, небогатого, но крепкого вида везла монаха в замызганной рясе с клобуком, надвинутым на глаза.
Не успели телеги приблизиться к краю толпы, как откуда-то выскочили пешие стрельцы, бесцеремонно раздвинули народ рукоятями бердышей, проложили дорогу процессии и оцепили место казни по кругу. Передние ряды с пониманием отодвинулись от помоста.
Спорщики плотнее обступили держателя заклада и раскрыли рты в ожидании. Один, самый азартный мужичок, курчавый и маленький, даже притопывал в нетерпении и высматривал левым глазом разносчика медовухи, чтобы немедленно пропить выигрыш. Он ставил на «черное» – на колдовство.
Казнь началась размеренно, но как-то нервно. Не чувствовалось в ней обычного равнодушия наших казней, когда приговор бесповоротен, обжалованью не подлежит, враг разоблачен, покаялся, принял свою участь. Палач тоже смотрит на дело, как на конченное. Он давно проиграл в голове все свои движения. Так что, казнь уже как бы состоялась, и все это понимают. Любопытно только нескольким новичкам среди зрителей.
На этот раз было не так. Имя врага оставалось неизвестным, «подвиг» его тоже. И ненависть нависала над лобным местом с момента привоза вора. Народ насторожил уши.
— Вор!.. – пауза, — ... мерзкий именем и гнусный злодейством, — начал мальчишка-подьячий, – прескаредно умышлял..., – тут последовали выдох и вдох, и уже со следующим выдохом вылетело страшное, но предсказуемое: — ... на жизнь Государя!
Толпа качнулась и снова замерла. Курчавый, ставивший на «черное», отчаянно завращал глазами и облизнулся пересохшим языком. У него еще оставалась надежда, что злой умысел состоял именно в колдовстве.
— За это немыслимое злодейство повелел Государь того вора..., – пауза, вдох, бородка вверх, — казнить смертью!
И все? А подробности? А имя? Спорщики возмущенно загудели, но их было немного. Ропот остальной толпы относился скорее к скоропалительности приговора. Даже полного титула Государя (пострадавшей стороны) читано не было! Эх, не слышит он вашего непочтения!
Подьячий с филькиной грамотой – иначе этот «приговор» и не назовешь – спрыгнул на землю, а палач уже что-то объяснял на пальцах своим подручным. Вид у тех был изумленный.
Начали обыденно. Осужденного — помятого старика – теперь это все видели — с фингалом на левой скуле и рассеченными губами распяли на козлах. Палач выбрал инструмент – окованную железом дубину. Все приготовились к первым звукам. Так меломаны в опере ждут, затая дыхание, заветного взвизга скрипки или партии валторны. В этот раз звуки должны были быть такие: резкий выдох палача (»А-а-х!» или «Э-э-х!), стук дубины в кость, хряск на все Болото и вопль смертника. Он выглядел вполне вменяемым, так что, обязан вопить от души.
Ломка конечностей дубиной у нас обычно предваряет прочие истязания. В точной науке казни существует «правило первой боли». Это очень тонкая штука! Если, например, сразу долбануть вора по башке, то он вырубится и прочих ваших стараний не почувствует. А ломка конечностей дубьем, напротив, — производит очень ощутимый эффект! И обморок от этого бывает неглубокий, устраняемый ушатом воды, и держится боль хорошо – до конца казни...
Но вдруг что-то не пошло. Монах в клобуке рявкнул несмирным голосом, палач замер с дубиной, опустил ее в пол.
Можно было подумать, что сейчас вернется подьячий и зачитает помилование в виде обрезания языка. Но в это утро на Болоте никто из москвичей вообразить такого не мог. Что это за «посягательство на жизнь Государя» с помилованием? Отродясь не видали!
Было еще одно обстоятельство, по которому обрезанием языка дело обойтись не могло. Языка у вора не было со вчерашнего дня! И москвичи бы очень удивились, даже наполнились трепетом, если б узнали, что язык вырезан не в наказание или ради мучительства, а на память. Не хотелось также, чтобы вор смущал зрителей хулой некой матери.
Палач с подручными подняли вора, не отвязывая от козел, стоймя прислонили к столбу виселицы. Народ замолчал вдохновенно.
А! — покаяние забыли принять!
Точно. На помост взошел монах под клобуком. Никак не удавалось людям рассмотреть его лица, вот же черт! Именно, как от черта шарахнулись от монаха палач с подручными. Суетливо отступили они в сторонку. И покаяния не получилось, вот жуть!
Монах наклонился, поднял с пола короткую заостренную пику, и тогда все поняли, что это не монах. Он же сам истязать собирается, чего монашеский чин не дозволяет. Но ничего — не монах, так не монах. Мало ли зачем у нас рясы надевают?!
Монах промедлил, отбросил железяку, — руки его заметно тряслись.
«Крепко принял с вечера!» — позавидовал курчавый.
Монах порылся в складках рясы и обнаружил деревянную трубку средних размеров. Она, оказывается, болталась у него на шее, на веревочке. Народ загудел вопросительно. Монах резко шагнул к вору, приник к нему всем телом, зашептал на ухо. Народ замер в попытке подслушать, но слов не разобрал. Только вдруг в ужасе замычал казнимый, будто ему и вправду ноги переломали! Рот его приоткрылся, оттуда по губе пролегла в бороду кровавая полоска.
И все закрутилось на сосновой сцене дьявольским хороводом. Монах выхватил из трубки пучок стальных стержней, похожих на огромные иглы или вязальные спицы, и мощно вонзил их вору между ног!
«Ох!» – восхитился народ. Некоторые женщины сглотнули.
Вор дернулся, но застонал не очень громко. А монах уже вертелся вокруг него, и снова, снова вонзал спицы – в правую грудь, в левую грудь, в живот, под мышки, в горло!
Зрители гудели непрерывно. Этот гул по громкости, темпу, тону полностью совпадал с действием на подмостках. Казалось, хоровая музыка была специально написана к этой казни и репетировалась не раз.
Уже на черной рясе было полно красных пятен, уже вор поник головой и не дергался на козлах. Тогда монах еще раз прошептал ему на ухо, спрятал иглы в трубку и бессильно сполз с помоста на руки страже. Он выполнил «правило первой боли»!
Палач с помощниками опустили козлы, деловито перебили вору голени, предплечья, ребра, перетащили обмякшее тело к плахе, отсекли поочередно все четыре конечности, вздели туловище на огромный крюк и вздернули на виселицу. Обрубок повис над толпой вниз головой.
Публика стала расходиться.
У столба на забрызганных кровью досках остался один престарелый часовой из градской стражи, да и тот – все понимали – с закатом солнца отправится спать.
Народ перешептывался ошеломленно. Не то чтобы эта казнь была жестче других, — тут и не такое видали, — но темп, азарт казни, ее нерв, как бы сейчас сказали — экспрессия, были удивительными. Казалось, какой-то энергетический поток связывал жертву и палача, взвивался струями боли и крови из терзаемого тела и поглощался фигурой в черном.
Скоро на Болоте не осталось почти никого. Несколько совсем убогих ссорились из-за сапог покойника, находившихся пока на отрубленных ногах, стайка игроков никак не отпускала подьячего, решившего почему-то возвращаться пешком. Мужики совали чиновнику мелкие монеты из заклада, чтоб хоть как-то прояснить способ злодейства, но он оставался непреклонен, что дало курчавому основание настаивать на колдовстве.
Наконец подьячий вырвался и исчез без мзды, и в очищенном воздухе сама собой родилась, окрепла и восторжествовала естественная, хрустальная наша национальная идея: «А пропьем-ка, братцы, заклад вместе!». На чем обе стороны радостно согласились.
Глава 14. Дума Сильвестра
Отец Сильвестр, белый поп сидел в своей обширной, но простой келье при митрополичьем дворе и думал. Дума выходила непонятная, печальная.
Непонятными для непосвященных, то есть – почти всех жителей Москвы, были слова думы. Вот, судите сами, кто мог бы понять эти слова?
«Виттенбергское выступление Мартина Лютера против индульгенций, против порочности произвольного, корыстного отпущения грехов состоялось 43 года назад. Сам Лютер умер 14 лет тому. Более двадцати лет известно «Наставление в христианской вере» Жана Кальвина. Просвещенная Европа все более подвергает сомнению греховные обычаи католической церкви. Сам Кальвин правит Женевой. А у нас? Все ли правильно? Вполне ли непорочна православная церковь? Достойно ли управляют Русью владыки церковные и мирские? Нет, нет и нет!..».
Что из этих слов понял бы замоскворецкий мастеровой, слободской попик, туповатый дворянин? Что способен осмыслить монарх?
Только « Нет, нет и нет!..».
«Нет, нам кальвинизм не подходит. Аскетичен, суетен, нелеп. Но нацелен на исправление и может служить примером. Исправить народ можно только знанием или верой. Знание – великий подвиг и удел немногих. Остальным пристало верить. А вера в Бога невозможна без доверия к церкви, дому Его. Исправлять церковь следует не правкой церковных книг, но правкой нравов в церкви и вокруг нее. Исправит нравы добродушие и сила. Добродушие – в дни мира и покоя, сила – в дни войны».
«120 лет существует книгопечатанье. Больше века знание и вера распространяются по всем землям, кроме нашей. В России печатные книги – страшная тайна. Народ не читает, не видит книг вовсе. Знает, что книги существуют, но только рукописные и обязательно – из-под монашеского пера, строго служебного содержания. Все прочие – от нечистого!». Сильвестр впал в бездумную неподвижность. Руки опустились на плоскость скамьи.
И как было им не опуститься? Сколько сил потрачено на попытки просвещения, сколько написано увещевательных писем в приходы и епархии, сколько просьб принесено митрополиту, сколько поучений преподано государю, а все впустую! Ничего не меняется в этой стране. Невежество, тупость, нелюбознательность, догматизм, языческие обычаи.
Десять лет назад, почуяв власть над молодым царем, Сильвестр завел в Белозерском монастыре тайную типографию. Он не дерзал печатать служебные книги, их имелось в достатке. А хотелось Сильвестру сломать понятие об исключительной религиозности знания. Решил Сильвестр издавать календарь православных праздников, рецепты русских блюд, хозяйственные советы. Каждая такая «книга» должна была помещаться на одном листе и печататься единой вырезной деревянной плитой. И что же? Не успел резчик окончить первую плиту, как запылали монастырские постройки, сгорели новенький деревянный пресс, раствор сажи в скипидаре, драгоценные запасы бумаги. Не от молнии сгорели, не от огненной татарской стрелы, — от торопливых, подлых человеческих рук!
«Не принимает Россия разума! Не хочет свободы и добра. Даже новгородской полусвободы опасается».
И понял Сильвестр, что этой стране, этому народу можно только силой задрать голову к свету. Но и сила была бессильна в руках странного царя. Непостоянен, неустойчив, пуглив его ум, темен взор, страшен гнев. И не умнел с годами Иван Васильевич, только страшнее, злее становился. И переждать его, молодого, не получалось. А, значит, приходилось менять. Но менять было не на кого. Все вокруг слабые, алчные, глупые, суеверные, темные. Сгнила, распалась династия Рюрика, доживала последние годы.
Бог послал Сильвестру Алексея Адашева, князя Дмитрия Курлятьева, нескольких отважных дворян помельче. С ними можно было что-то пробовать. Да вот не задалось! Князь Старицкий после Казани составил заговор, Адашевы не смолчали, выступили, разоблачились. И зачем бы им этот Старицкий? Одного Рюриковича на другого сменять? Уже Сильвестр напрямую Алексею регентство обещал, сам власти Кальвина не просил, знал, что успеет только зерно бросить, а уж растить, косить и молотить другим придется. Россия не Женева, ее в кулаке не удержишь!
Теперь и вовсе темная история получилась. Царица больна, младший царевич болен, старший – крайне неумен, груб, тоже с безумным блеском в глазах, как дядя Юрий и отец. Сгнил, сгнил корень! Но царица-то – свежих кровей? Что ей не живется? Говорят о яде, заговоре. Алексей сослан в войско. Если с царицей приключится смерть, всех собак повесят на Алексея и на Курлятьева. А Сильвестр рядом с ними. Никому головы не сносить!
«А тут еще заговор Тучкова. Откуда его черт, прости Господи, принес? Сед, стар, седьмой десяток разменял, а не отстал от смут. Помнил свое просторное житье в малолетство Ивана, не смог утолить адскую жажду власти. И попался! И был столь «любезен» царю, что если б его поймали в рядах с сахарными петушками, и то обвинили бы в колдовстве на курином гребне. Зачем он ряженых подсылал? Неужто верил, что можно Ивана просто так убить? Или, правда, можно?».
«Кто его научил? Что за мальчишка сидел в яме? Какой такой Смирной? Так ли смирен? Надо бы присмотреться к нему».
«Грозный смотрит косо. Вот-вот заподозрит окончательно. Хорошо бы самому разобрать этот заговор. Глядишь, и вернется былая милость, станет царь слушать добрые слова, примет к сердцу благие поучения».
Глава 15. Причастие кота Истомы
Государь щедро наградил участников «тучковского» дела.
Ивану Глухову был жалован кошель с деньгами. Правда, деньги оказались мелкие, серебряные, и не доброй новгородской, а худой московской чеканки. Они против новгородских вполовину не вытягивали. Такие монетки в базарный день разносчики держат за щекой по пятьдесят штук разом. Обидной была и небрежность, с которой готовился царский дар. Кошель оказался тертый, мятый, с бурым пятном и оборванным шнурком. Деньги в него нагребали не глядя – даже несколько медных грошей попалось – почерневших, вышедших из употребления.
Филимонов удостоился высочайшего похлопывания по плечу.
Егору разрешили пользоваться для вывоза трупов кобылой из царской конюшни – по его собственному требованию, а не через подьячих.
Прохора наградили вдвойне. Во-первых, он получил чин младшего подьячего... Постойте! – он же и был младший подьячий?! – Не-ет! Это он просто так числился! А теперь «возымел чин по царскому слову»! – чуете разницу? Теперь Федора записали в Разрядную книгу – на последней странице!
С записью вышел казус. «Слово» прозвучало, достигло Поместного приказа с похмельным стременным. В приказе стали готовить запись и обнаружили недостачу фамилии героя. Стременной мычал, но и собственного имени промычать не смог. Погнали его к начальству. Пришел полковник Истомин, с трудом понял суть проблемы, к ответу оказался не готов. Вернулся в гридницу, построил личный состав. Спросил фамильное прозвище толстого Прошки. Последовали дурацкие, солдафонские шуточки. Наконец прозвучала дельная фраза, что Прохора все называют Заливным.
«Точно! – вспомнил Истомин, — сам слышал!».
Он убежал в приказ и продиктовал слово «Заливной». Так Прохор обрел фамилию и фактически стал основателем дворянского рода! Неплохо, правда? Поболее кошелька тянет!
А Федька Смирной был оправдан и возвращался в монастырь.
Прошка и Глухов думали, что на месяц-другой, пока не забудется дело Тучкова. А потом, — они верили, — Феде тоже готово место при дворе.
Полковник Истомин просил отдать парня в полк, — но государь не велел. Теперь в гриднице думали, что Федя упокоится в глубокой схиме на Белом озере.
Отец Савва, лично пришедший забрать воспитанника, благодарственно крестился на кремлевские купола. Он считал избавление сироты своей заслугой. Бережно намечал малому долгую, нетягостную епитимью. Склонялся услать Федю в монастырские угодья на сбор поздних корнеплодов, — подальше от Москвы.
И только трое в пределах кремлевской стены знали ближайшую судьбу Смирного. Вернее, один знал, другой – догадывался, третий – верил.
Царь Иван знал, что Федя в монастыре дня на три.
Стряпчий Василий Филимонов угадывал, что мальчик вернется в течение недели. Иначе, зачем бы он оставил при дворе своего кота?
И кот Истома, – вон он — медленно идет через двор, — свято верил, что не кончена их царская служба, что надо здесь покараулить, как бы чего не вышло, пока хозяин в монастыре денек-другой попридуряется кающимся грешником. Срок придури – до семи дней с Тучковской казни, то есть, с воскресенья. Задание Истоме – следить за обстановкой, обращать внимание на чрезвычайные обстоятельства, по мусорникам не шляться, беречь шкуру и здоровье. Так прямо в ухо и нашептал, храни его Пресвятая Богородица — хозяйка новенького храма с сахарными головками!
По пути в монастырь Савва не решался спрашивать Смирного о деле. Впереди была исповедь, задушевные беседы, — все разъяснится своим чередом. Но Федор прервал молчание. Сказал, что греха на нем нет, воровской вины тоже, но епитимья ему полагается строгая, и назначить ее просил сам государь.
— Какая? Каку-ую?! – Савва ошеломленно замер босыми ногами в горячей августовской пыли. Его посох несколько раз дернулся вверх-вниз, оставляя аккуратные круглые отпечатки.
— Недельное безмолвие. А после недели – уж как ты сам изволишь. – Федор перекрестился на выглянувшую из-за деревьев маковку Сретенки.
Пошли дальше.
Федор теперь молчал на законном основании, а Савва проклинал свою дурь. Нечего было переться босиком на две версты, считая в оба конца. Никто в Кремле не заметил его усердия. Высшие церковные иерархи не встретились. Самым великим начальником оказался подьячий Прошка. Но этот велик только в ширину!..
В монастыре Федора встретили спокойно, будто и не исчезал он под стражей, будто не доносились жуткие слухи о казни мятежника, будто не велено было молиться денно и нощно за спасение его души. Будто не готовились молиться за упокой.
Теперь Савва приказал монахам и служкам не беспокоить невинного отрока в покаянии и не нарушать безгласной епитимьи.
Никто Федора и не беспокоил. Мало ли чем это дело кончится? Сегодня — невинный агнец, завтра – серный козлище. Как бы всех монастырских под высылку не подвел!
И только два безответственных обитателя решились нарушить приказ. Архип и Данила – пацаны 16 и 17 лет – пробрались в келью Смирного и уселись в темных углах на соломе. Федя много чего им рассказал за ночь. О привычках стрелецкой стражи, о вкусе заморского вина, об измерении высоты колокольни Ивана Великого по длине ее тени. Выдал даже страшную тайну о бородавке на лбу наследника Ивана. А больше ему рассказывать было нечего.
Расползлись под утро, принеся клятву о вечной дружбе и взаимопомощи.
С утра потянулась обыденная монастырская жизнь.
Скука смертная! А как вы хотели? – тихая обитель, заключение от соблазнов, преддверие жизни вечной!
В Кремле, наоборот, место было бойкое, суетное. Оно у нас таковым исконно замышлялось. Суету Кремлевскую мы сберегли от века, за нее сложили наши головы, за нее и впредь умрем неоднократно!
Так вот, в Кремле опять готовили большое застолье. Во-первых, борзо заговорил царевич Федя. Его уже останавливать приходилось в некоторых местах. Малыш, пребывая в немоте, захаживал с няньками в гридницу, на псарню. Что он там слышал, неизвестно. Но память немого впитала-таки самые звонкие обороты русской речи. Учил говорить царевича и старший братик – наследник Иван Иванович. И теперь, когда словесный запор прорвало, царевич понес такую околесицу, что хоть святых выноси. Царю доложили, что неплохо бы расследовать, чьи слова дитя повторяет, и примерно наказать сквернословов. Но Иван только смеялся, говорил, что знает, чьи слова, и что всех хулителей не перевешаешь, имя им – легион. Точнее, – миллион, — весь российский народ.
На радостях венценосный отец объявил пир среди Петрова поста. Он хотел порадовать Федькиными присказками митрополита Макария, протопопа Сильвестра, архиепископов и архимандритов, какие при митрополите сыщутся.
Хотелось Ивану и Анастасию взбодрить, а то она все реже поднималась, бледнела, слабела, теряла интерес к жизни.
Застолье собирали осторожно. В Петров пост приходилось довольствоваться овощной кулинарией, фруктами, квасами, выпечками. И все равно попы могли не прийти или прийти скрепя сердце. Будут сидеть сычами, испортят настроение. Сегодня в поварню прошмыгнул маленький толстый дьячок из митрополичьей трапезной. Будет вынюхивать, что за пищу готовят. Чтоб его святейшеству нечаянно лягушку или крысу не подложили! После его ухода поджарили и сварили кое-что мясное, рыбу, птицу. Чтобы было.
«Постный пир» грянул по обыкновению. Размеренно понесли пироги, каши, фруктовые сооружения, — гости едва успевали их поедать. Стайка английских докторов с ужасом наблюдала, как русские не пробуют еду, не соизмеряют ее количество с возможностями желудка, а жадно поглощают каждое блюдо, будто оно единственное, первое за прошедшую неделю и последнее на будущую. А ведь это были не изможденные работяги, не нищие погорельцы, а очень состоятельные люди!
— Видимо, джентльмены, дело не в голоде, — заметил доктор Стэндиш, ковыряя позолоченной вилкой непонятное месиво, — они не сами едят!
— Как же, не сами, милорд? – удивленно переспросил его помощник, молодой Элмс, наблюдая, как толстенная дьячиха Висковатая засовывает в рот целую баранью лопатку, — кстати! – где она ее взяла?
— Видите ли, друг мой, — отвечал Стэндиш, указывая вилкой на Висковатую, как на экспонат анатомического музея, — аппетит сей благородной дамы происходит не только от испорченности нравов и варварской традиции, но и от натуральных потребностей желудка. Умолчу о первопричинах его величины. Так что, это не супруга министра вкушает безмерно, а ее желудок. И как вы считаете, сколь дорого можно продать такой член для публичной инсталляции?
— Я думаю, шиллингов за пять-шесть?
— Не смею спорить с Вами, сэр. Запомним эту цифру до возвращения.
Тут настроение исследователей испортилось, ибо благополучное возвращение в Англию было проблематичным в свете симптоматики больной Анастасии Р. Благородные джентльмены могли очень легко лишиться всяких перспектив, а также рук, ног, голов, других – второстепенных органов. С инсталляцией по-русски. Стэндиш вовсе потерял аппетит и убрал вилку в карманный несессер.
Объявили выход царицы Анастасии и царевичей.
Анастасия вплыла в палату бледной тенью. Две девки поддерживали ее под руки не ради этикета, а для реальной помощи. Доктора обреченно переглянулись.
Царевич Иван – прыщавый малый шести лет с бегающими глазками сразу прыгнул за стол на ближайшем углу, но был выведен дворецким и пересажен по праву руку царя. Наследник престола вызывал чувство династической беспросветности. Анастасию опустили слева от Ивана, и она стала смотреть на иконы поверх сумасбродного натюрморта.
Когда прибывшие уселись, был особо объявлен «выход князя Феодора Иоанновича, света и надежи всего крещеного мира». При эти словах царевич Иван Иванович скорчил рожу. Аналогичную, но более пристойную ухмылку позволили себе протопоп Сильвестр и доктор Элмс. Хорошо, никто этого не увидел.
Ключник царицы Анисим Петров внес малыша, ряженого в позолоченный кафтанчик. Царевич яростно болтал ногами и закидывал в потолок плоское лицо, пытаясь сбросить с головы копию шапки Мономаха.
Анисима потому и держали при Анастасии вместо ключницы, что Федор был неподъемен и неуемен. Наконец, Петрову удалось угомонить мальчишку. Он снял с него шапку, шепнул что-то на ухо и опустил в кресло с высокими подушками. Царевич сгреб с ближайшего блюда горсть овощей в сметане и, размазывая их по скатерти, стал ритмично кивать головой.
— Хрен, хрен, хрен..., — выкрикивал на каждый кивок.
— Хрен вам на х..., господа! – пришел на помощь брату Иван Иванович.
Анисим не успел прикрыть рот сквернослова ладонью и смущенно потупился. Вокруг заржали.
— Однако, буквы выговаривает правильно, — заметил доктор Робертс –знаток русского языка. – Это решительно подтверждает гипотезу о слабой взаимосвязи между общей дебильностью и функциями отдельных органов чувств.
— По крайней мере, в этом народе, — согласился Стэндиш, выковыривая с блюда именно маринованный хрен. Золоченая вилка вновь была в его руке.
Пир разгорался. Священнослужители исчезли, и постную плотину прорвало. Выносили не только еду – журавлей, лебедей, кур, рыбу, но и выпивку! Французское сухое нескольких сортов лилось рекой под именем «Романея». Немецкие вина обозначались словом «Ренское». Но первенствовал на столе русский «мед». Это был, естественно, не обыкновенный пчелиный мед-сырец, а сброженный раствор меда – убойное пойло оригинального вкуса.
Сообщество начало редеть. Рухнувших «дам» и «джентльменов» выводили слуги. Внимание гостей рассеялось, уже никто не замечал деталей застольного общения, и только четверка англичан переглянулась, когда царь Иван запросто встал из-за стола и вышел «по-английски».
Тут же за спину попу Сильвестру, который по долгу службы терпел скоромное безобразие, скользнул полный молодой человек трезвой наружности и в полупоклоне пошептал что-то на ухо. Сильвестр чинно поднялся и проследовал за толстяком. – В ту же дверь, что и царь, — заметили англичане. Больше они ничего не услышали, не увидели и не поняли, ибо встреча и беседа царя с духовником происходила в царской спальне.
Странная это была беседа. Неискренняя. Царь не показывал виду, что подозревает попа, говорил осторожно, вежливо, преувеличенно ласково. Это тем более настораживало, приводило в трепет.
Сильвестр гасил этот трепет, справлялся с мурашками по спине, и в свою очередь старался не давать повода к подозрению. Говорил спокойно, без подобострастия и лести.
Смысл речи Ивана сводился к жалобе на внешнюю угрозу. Царь не испрашивал, как прежде, благословения или отпущения грехов, не жаловался на козни потусторонних сил. Он объявил прямо, что раскрыт заговор по его физическому устранению. Организатор – казненный позавчера боярин Тучков. Исполнители почти все пойманы, не пойманные – известны, далеко не уйдут. Так не посоветуешь ли, святой отец, как жить при таких напастях, и от кого они исходят? Только не говори мне о грехах, о происках дьявола. Все – здесь, в Москве, в Кремле, от людей и через людей!
Сильвестр кивал, соглашался, смотрел прямо, честно, вопросов не задавал. Ждал, когда в речи царя обозначится истинная цель беседы.
Иван продолжал, что кается в несдержанности, — онемечил и казнил Тучкова без розыску, скомкал следствие. Но теперь слепому гневу воли не дает. Прочих пленников держит без истязаний, невинных распустил, и даже припадочного малого со Сретенки освободил от кары. Хоть и неясен сей отрок. Но он – человек монастырский, Божий. Так, не присмотришь ли за ним, святой отец?
«Вот оно!», — понял Сильвестр и согласился.
— Отчего ж не присмотреть? Возьму, устрою в службу, поговорю, приму покаяние. Если покается. Будет опасен — исправлю, не исправится – отдам тебе.
На том и разошлись, обменявшись благословением и ласковым словом.
И уже следующим утром, в среду причетник Благовещенской церкви отец Поликарп окликнул кота Истому из-под Красного крыльца.
— Кис-кис-кис! – фальшиво пропел монах, — иди сюда, Божья тварь, покушать дам.
«Сам тварь! Стал бы я у тебя кушать, — муркнул Истома, — кабы не царская корысть!».
Он степенно прошел за причетником, обнюхал предложенную миску, присел и стал жадно лакать, будто не ел только что стерляжьего потроха.
«Среда! Молоко! Петров пост! – улыбался Истома, глядя в глаза Поликарпу, – Могу и остаться, святой отец. Но молоко, пост, стерлядь!.. Как бы греха не вышло... «.
Глава 16. Библиотека
Смирной был грамотен изрядно. Мало кто из его сверстников свободно читал по-гречески, умел записывать собственные мысли по-славянски, разбирал латинские словосочетания. Дома его обучили родной речи. Сиротство погрузило Федора в монастырский мир, и здесь тоже было, у кого учиться. Многомесячные труды над славянскими текстами, их греческими оригиналами и переводами с латыни, сделали свое дело: Федор Смирной в 18 лет имел высшее по тем временам образование.
Безгласную епитимью Федор стал отбывать в келье игумена Саввы. Здесь, в небольшом сундучке хранилась монастырская библиотека – с дюжину служебных книг. Федор и раньше трудился у сундучка – переписывал молитвы на отдельные листы для отдаленных приходов. Теперь он жестами показал Савве, что хочет поработать с книгами. Савва поспешно согласился, и старался держаться подальше от собственного жилья. Весь день бродил по монастырю, придирался к работникам, присматривал за службой.
Неудобства закончились неожиданно. Федор промолчал только двое суток, когда в среду пришел человек от царского духовника и велел ему собираться. Монастырские охнуть не успели, а Смирной уже шагал за кремлевским монахом под полуденным солнцем. Все было как позавчера. Жара, горячая пыль, пустые улицы. В одном месте у обочины дороги Федор заметил отпечатки босых ног и круглые дырочки в рыжей пыли. «Савва! – усмехнулся Федор, — за два дня не затоптали!».
Сильвестр принял Смирного просто и ласково, сказал, что наслышан о его учености, объявил, что принимает в службу при Благовещенской церкви. «Для книжных дел».
Федора поселили в келье Богоявленского монастыря на Кремлевском дворе. Здесь было не лучше и не хуже, чем в каморке гридницы. Сосновый топчан, солома, слюдяное оконце, дверь без замка. И придется снова рясу носить.
Федор лежал на топчане, Истома свернулся калачиком у него на животе. Оба погрузились в размышления и чувства.
Соединение разума и чувств необходимо русскому человеку. И если бы только человеку! Здесь оно неизбежно даже у кота, у любой мыслящей твари! А значит, не в разуме дело, не в устройстве головной сферы отдельного существа, а в месте его бытия! Земля у нас такова, что не позволяет возводить холодные расчеты в категорический императив. Тужится русский мозг разрешить загадки вины и невинности, постичь правила действия и меру бездействия, а ничего не выходит! Тогда он откладывает логику на завтра и дает волю чувствам.
Выпивается волшебное зелье, дымятся костры великих и малых походов, сжигаются тайные травы, воздух наполняется пронзительным ароматом, недра земли источают силу, небо очищается от мглистой влаги, и наши звезды – самые яркие в мире! – бьют стальными иглами в сердце и мозг разгоряченного философа. Рождаются немыслимые ощущения, тонкие струны натягиваются во всех членах пораженного существа. Звучит сложная музыка, неподвластная рукотворному инструменту. Бесполезные расчеты растворяются в ней, но не пропадают, а сливаются с чувствами и рождают великую земную истину, которая торжествует только здесь, в нашей стране!
«Кто оспорит это? Кто посмеет сказать, что его искусственные построения сложнее и богаче наших чувственных схем? И кто, кроме нас, счастливых обитателей заповедной земли, дерзнет утверждать, что и его знания и вера, его логика и чувства, его сила и блаженное расслабление столь же гармонично и плодотворно соединяются в повседневном звучании? Никто! Зуб даю!».
Так думал на лежанке юный Федор Смирной, так думал и молодой кот Истома, в иночестве Илларион. Только иллюстрации к думам у них были разные.
Коту логическая ипостась представлялась топологией мышиных нор и подпольных ходов, а чувственная сторона – мощной мартовской песнью на сретенских задворках. Логика Федора выглядела страшнее: ее наполняли придворные интриги, пытки, казни, массовые убийства во время мятежей, разрозненные интересы придворных группировок. Зато чувства молодого человека были похожи на чувства молодого кота: в них тоже звучала музыка, придворные девки шуршали платьями и по-кошачьи изгибались в соблазнительных стойках. Так что, чувства страдальцев были аналогичными, и это вполне доказывало их русское, местное происхождение.
Чтобы прекратить самоистязание, Истома преодолел мысли о кошках и задумался о новом распорядке: будут ли по-прежнему допускать в мирскую поварню «воцерковленного» кота?
Федор тоже заставил себя переключиться на служебный предмет и занялся новым начальником.
Ему был симпатичен Сильвестр, хотя судить с наскока не приходилось, — поп не так прост. В монастыре знаменитый «Домострой» Сильвестра воспитанники списывали по очереди, читали и пересказывали в отрывках. Иногда казалось, что автор – окоченевший, каменный старец, фанатик и ортодокс, а то выходило, что — развеселый погонщик свадебного поезда, привязавший диких жеребцов под спальню молодых.
Решил Федор посмотреть Сильвестру в глаза, и вспомнил одну монастырскую задачу. Задача эта когда-то очень испугала игумена Савву. Теперь он приподнес ее Сильвестру, и был бы это смертельный риск, если б не царь Иван за спиной – двумя этажами выше и пятью палатами севернее по дворцовому коридору.
Вот какая это была задачка. Федя излагал ее спокойно, с простоватой улыбкой, но почтительно. С уважением к предмету и слушателю, с осторожностью в интонациях.
— Известно, что первый день Творения Божьего Мира – 1 сентября. В этот день мы встречаем новый год, — Федор в первый раз поднял глаза: не обиделся ли ученый на пустяковый тезис? Нет. Слушает спокойно, внимательно, с потупленным взором. Федор продолжил.
— И был этот день воскресенье, ибо в день Седьмой — субботу велел Создатель отдыхать. Евреи поныне строго придерживаются этого правила.
Федор снова глянул на протопопа: не лучше ли было сказать «жиды»? Нет, ничего, слегка улыбнулся и только.
— С тех пор минуло два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь дней..., — глаза Сильвестра открылись полностью, и Федор закончил мысль: — считая, что сегодняшний день тоже кончился. Всего прошло 7067 лет и 172 дня.
Федор глянул особенно внимательно: Сильвестру могли не понравиться упражнения с цифрами. Нет, молчит, но смотрит чуть живее. Не перебивает, не спрашивает, откуда цифирь.
— Прошло 368 тысяч 789 полных недель и пять дней. Пятый день, считая с воскресенья – четверг.
Сильвестр спокойно кивнул и глянул в окно. Там в огне заката действительно догорал четверг.
— Значит, нить дней непрерывна и неизменна с Сотворения Мира...
— А ты сомневался! – не вопросительно и чуть насмешливо произнес Сильвестр.
— Нет. Меня другое беспокоит. Спаситель родился на рассвете 25 декабря 5509 года...
— Рождество Спасителя более всего беспокоит князя тьмы, а ты, вроде, из жильцов московских, княжества не имеешь?...
От первой части фразы дохнуло костром. Вторая часть – снова с улыбкой – сбила огонь, и только легкий дымок взлетел к потолку. Федор продолжал без дрожи в голосе.
— 25 декабря 5509 года от Сотворения Мира была суббота.
— Хорошо, — совсем разулыбался Сильвестр, — можно было отдыхать на законном основании.
Тут тоже вольностью попахивало. Федор воздержался от улыбки.
— Меня смущает ежегодная разница срока жизни Христа — от Рождества до Смерти и Воскресения. Хорошо бы Светлое Воскресение раз и навсегда соединить с единым календарным днем. Ведь это же был какой-то день? А евреи пусть свою Пасху празднуют, когда вздумается.
— И неправильно, что не каждое Рождество выпадает на субботу. Смерть – всегда по пятницам, Воскресение – всегда по воскресеньям. Рождение – в разные дни недели.
— А ты как думаешь, почему?
— Не знаю, отец Сильвестр. Смущает меня мысль, что язычник Цезарь и скаредные мучители Христа навязали нам неверный календарь! Богоугоднее было бы составить календарь православный, понедельный...
— Это как?
— Чтоб Рождество было первым днем нового года и всегда — субботой! Тогда у каждого смертного день рождения всегда будет выпадать на одинаковый день недели, и можно быдет знать, к какому дню Творения он принадлежит...
— К какому? – не понял Сильвестр.
— Ко дню сотворения света, или земли, или воды, или травы, или скотов...
— Или человека? Так у тебя, сын мой, только одна седьмая людей людьми считаться сможет. А кто в субботу рожден, как Христос, — он кто? Бездельник?
Федя состроил открытый рот, выпученные глаза, стал мелко креститься. Короче, беседа зашла слишком далеко, пора было изображать дурака.
— Ты нигде этого не болтай. Сейчас в Риме, в Европе тоже о календаре спорят. Злые люди могут подумать, нет ли у тебя ссылки с католиками. Будь другие времена, я попросил бы тебя составить понедельный календарь для пробы. А сейчас нельзя.
Федя сделал смиренное лицо, троекратно попросил прощения, снова глянул простовато и спросил протопопа, в чем будет его «книжное дело» и нет ли каких книг для келейного чтения.
— Книги-то есть, да не начнешь ли ты все страницы пересчитывать?
— Как прикажете, отец Сильвестр, могу и счесть.
— Ладно, ступай, я подумаю.
Прошел следующий день, и Смирной решил, что книг не будет, когда вечером в пятницу Сильвестр окликнул его и велел следовать за ним. Протопоп взял несколько свечек, одну зажег и пошел к переходу из церкви во дворец. В середине коридора свернули налево в крошечную нишу, согнувшись прошли сводчатую дверь и по крутой, скрипучей лестнице опустились в подземелье. Отсюда, с площадки размером в квадратную сажень вправо и влево шли узкие и низкие ходы. Пошли направо – под дворец.
Федор молчал, сопел, и Сильвестр поспешил успокоить:
— Мы в западную стену идем. Там есть каморы без входа снаружи. Они одни при пожаре не горят. Только так можно пройти.
Шли долго. Феде казалось, что они уже под Арбатом. Подземный ход, обложенный красным кирпичом и белым камнем, в свете свечи выглядел по-своему красиво. Видно было, что его недавно чистили. Не валялось обломков на земляном полу, обрывки паутины не свисали с потолка. Было душно, сухо и гулко.
Наконец, пришли.
Еще одна крутая лестница – теперь каменная – вывела в темное помещение. Сильвестр поднял свечу повыше, прошел несколько шагов между сундуками, тюками, столами и лавками. Зажег на столе большую свечу, потом в углу каморы потянул цепь. Под потолком заскрежетало, и оттуда ударил тонкий луч дневного света.
— Вот тебе и книги, Федор, — послышалось сразу отовсюду.
Федя осмотрелся. В ящиках, приоткрытых сундуках, на столах и даже в почерневшем гробу лежали книги.
Смирной снова стоял с открытым ртом, но сейчас это не было лицедейством.
— Здесь только книги. Других сокровищ нету. Но они – всем сокровищам сокровища! Четверть в переплетах, остальное в свитках и отдельных листках. Есть пергаменты кожаные, есть даже папирус. Но не разобрано, — Сильвестр вздохнул, — мне самому некогда, отец Макарий – великий книжник, но немощен. Пускать сюда невежд опасно. Попортят, соблазнятся, разгласят. Тут много всего, и не все – православное. Однако, жалко утратить.
— Откуда?.. — смог выдохнуть Федя.
— Это – великая царская библиотека, Божьим заступничеством спасенная из огня Константинополя. Бабка нашего государя Софья Палеолог была племянницей последнего Византийского Императора Константина Палеолога, павшего на стенах священного города. Она сумела в июне 1472 года вывести книги в Москву в своем свадебном поезде. Ибо у крещеного мира не было в то время и нет поныне другой надежды, кроме Москвы — новой вселенской твердыни православия, нашего Третьего Рима.
— Ну? – сумеешь перечесть? Сможешь разобрать книги и составить их перечень? Будешь бережен? Избежишь искусов?
На все вопросы Сильвестра Федор с готовностью кивал, хоть и не представлял, в чем тут кроются «искусы». Однако — книги! Всего можно ждать!
— Ладно, — закончил поп, — испрошу благословения государя.
«У митрополита благословляться не собирается», — Федор склонился под крестным знамением Сильвестра.
Глава 17. Крик покаянной души
Смирной вернулся в Богоявленский двор, посетил братскую молитву, крестился и тер колени вместе со всеми, но мысли его пребывали в кремлевской стене среди книг, вполне может быть, что богомерзких.
В келье Федор улегся на топчан и незаметно перешел грань между мечтами на сон грядущий и самим сном. Сначала ему мечталось, как он получит у Сильвестра ключ от библиотеки и доберется до книг. И будут в них такие сокровенные тайны, что сделается он всеведущим и всесильным. Но тут оказалось, что одного ключа мало, нужен еще трехфунтовый серебряный крест, освященный водой с мощей Петра Московского. Без креста в книгохранилище входить опасно, ибо часть рукописей – особенно те, что он в гробу видал, — представляют серьезную угрозу душевному и телесному здоровью. Следует очертить гроб крестным кругом, а сам крест положить на крышку, — нагрузить ее.
Федор попытался вспомнить, говорил ли Сильвестр о кресте? Но вдруг иное воспоминание иглой пронзило сердце: крышки-то на гробе нет! Торчат отуда ветхие свитки... или это ребра? И уже встает из гроба бледная пергаментная тень. Огромный, пожелтевший в цвет кости свиток распрямляется со скрипом и обнажает невиданные письмена, кабалистические знаки. И часть их начертана черным, а часть – красным. И Федя знает, что это кровь. И прочесть, разобрать тайный язык ему не удается, потому что буквы не стоят на месте. Красные оплывают кровавыми слезами, а черные взлетают вороньей стаей и носятся в сизом воздухе. Свиток тянет истлевшие лапы к Федору, легко поднимает его с постели, молча волочет за собой. И это уже не свиток, а здоровенный разбойник с дымной бородой и дурным глазом.
— Кто ты? – сипит Федя, — куда ты меня тащишь?
— Кто-кто? – дед-пихто! – страшно рычит разбойник, — к царю тебя тащу, дубина! Что ты разоспался, когда служба идет? – и уволакивает Федю в черный преисподний тартар. Ужас!
Но оказались на воздухе.
Ночь. Кремлевский двор. Божьи маковки сверкают золотом, кот Истома прыгает следом. Слава тебе, Господи, Христос-спаситель! Чтоб тебе и твоим деткам тоже в трудную минуту не замстилось!
Выясняется: разбойничья рожа – вполне благородный господин и ближний дворянин самого государя Данила Матвеич Сомов из древнего рода Борзых, доверенный человек для особых поручений. И он говорит грубо, но беззлобно:
— Спать, отрок Федор, когда государь бодрствует, у нас не принято. Сейчас Иван Васильевич скорбен, тебя зачем-то кличет, а ты дрыхнешь! Ладно бы с бабой, а то с котом.
Истоме от подножия Красного крыльца было велено возвращаться, и он шнырнул в сторону темной громады Благовещенского храма.
Поднялись во дворец.
Почти от самых сеней был слышен дикий, захлебывающийся вой. Он то стихал в глубоком стоне, то взлетал высоким визгом. И если б не знать наверняка, кто кричит, то и не понять – человек страдает, зверь или ветер.
«Хорошо, что Истому прогнал, испугали бы насмерть котенка!».
Подошли к двери сенника – государевой спальни. На страже стояли два бледных парня. От самовольного бегства их удерживало только присутствие Ганса-Георга Штрекенхорна в полном боевом облачении.
Полчаса назад при известии о криках в царской опочивальне Штрекенхорн вскочил с лежанки, похватал все наличное оружие и на всякий случай напялил поверх кафтана переднюю половинку панциря. Теперь он чувствовал себя идиотом, сжимая в одной руке большой пехотный бердыш, в другой — незаряженный аркебуз. В боевом состоянии находился любимый пистолет Ганса, но он торчал за поясом. Чтобы достать его пришлось бы бросить тяжелое оружие, а старый германский устав, впитанный с первым солдатским потом, этого не позволял.
В сеннике снова закричали, Сомов толкнул Федора в приоткрытую дверь и вошел следом, наглухо закупоривая выход. На царской постели сидел какой-то старик с выпученными глазами. Волосы вокруг его лысеющей макушки торчали ершом.
— Федя, сынок! – прохрипел старец и завалился на бок.
— Так может, он царевича звал? – недоуменно повернулся Сомов к человеку в черном, также находившемуся в спальне.
— Нет, именно отрока Федора Смирного, — прошептал Сильвестр, подставляя лицо свету лампады.
— Не волнуйтесь, господа, государь синкретически ассоциирует имена, — доктор Стэндиш возник ниоткуда, — так бывает при лихорадке, жаре, отравлении.
Последнее слово Стэндиш произнес опрометчиво.
— Везде враги! Отрава! Пики востры! – царь привстал под немыслимым углом и растопырил руки, будто его распинали на кресте.
Федя не раз отмечал в себе особое свойство, которое посторонние могли счесть цинизмом. На самом деле это была сложная смесь любознательности и христианского опрощения. Примерно так учил смотреть на вещи святой Франциск Асизсский, но Федору его наставления были мало известны. Католик. Нам не указ.
Федор умел относиться к окружающему миру по-францискански просто, без пафоса, поддаваясь чисто русскому но, увы, — языческому чувству. Это чувство внутренней свободы, бесконвойности, неподвластности авторитетам — единственное, что защищает нас от немилости царей и псарей. Вот и сейчас Смирной наблюдал раздираемого невидимым крестом Грозного, сострадал ему, но видел не царя в объятьях демонов, а мужчину средних лет и плотного телосложения, которого странная болезнь на глазах превращала в дряхлого старца и тут же возвращала в возраст Христа. И мысли Федора складывались не в истерику бессильного обожания, а в любопытную библейскую схему.
«А что? — фантазировал Федя, — вот бы распяли не Иисуса, а царя? Ирода, например? Он бы не обезглавил Иоанна Крестителя. Креститель продолжал бы крестить народ, часть паствы ходила бы за ним, а не за Иисусом. Что могло получиться? Выходит, Ирод принес пользу православию?».
Федор не успел помечтать о разборках между Христом и его учителем, когда Грозный крикнул особенно страшно и завертел кистями рук, будто в запястья ему вколачивали гвозди.
«Царь на кресте — высокий символ! Пожалуй, выше, чем распятый раб. Уж кто должен себя приносить в жертву во имя людей, так это властители земные. Они поставлены свыше беречь и защищать нас. А что выходит? Мало кто принимает страдания ради подданных, все о себе страждут».
Тут уместно было произнести «аминь!», потому что дальше мысли не шли. Очень уж страшно выглядел Грозный, сотрясаемый конвульсиями. Но и «аминь» не отдавался.
На очередной вопль заглянул Штрекенхорн. Его раздирало сомнение: спасать ли государя, или понадеяться на благонадежность Сильвестра и Сомова. Бердыш Штрекенхорна засверкал за спиной псаря-дворянина, и Федя подумал, что вот точно так офицер иерусалимской стражи пролез к распятому сквозь толпу на Голгофе и приколол мученика копьем. Но Штрекенхорн отступил в бездействии. Мука продолжалась.
— Господи! Помилуй раба твоего! – как-то особенно сердечно произнес Сильвестр, — и распятый рухнул с креста.
Он полежал какое-то время, отдыхая, открыл глаза. Очень медленно осмыслил обстановку. Увидел людей.
«Воскрес. Не за три дня, но за три минуты», — мелькнуло в голове Смирного, и он устыдился.
— А! Федор. Подойди. — Грозный сел.
Сильвестр подтолкнул Федора к постели.
— А вы оставьте нас. – Грозный отмахнулся безвольной кистью, немой после гвоздя. Теперь он говорил спокойно, и не верилось, что только что вопил.
Стэндиш первым метнулся прочь, но уткнулся в спину Сомова, которому проскользнуть в низкую дверь было затруднительно. Наконец путь очистился, за доктором убрался спальник, невидимой мышью обитавший в углу. Сильвестр задержался на мгновение, но услышал страшное «Изыди!» и поспешил очистить помещение.
Грозный жадно выпил из высокой корчаги ледяной морс и заговорил шепотом, будто мгновенно простудил горло.
— Я, Федя, грешен, как пес. Каковы мои грехи и сколько их, тебе знать не надо, не вместишь в невинное сердце. Но знай: мало встретишь грешников, страшнее меня. Даже тать ночной и разбойник речной, душегуб, окропленный кровью, и тот смиренней меня...
Голос дрожал свечным пламенем, в нем вспыхивали и сгорали нотки отчаянья, страха, омерзения и величия.
— Я много каялся, ох, много! И ныне дня не проходит без покаянных молитв. Сколь горячо взывал я к отцам духовным среди живых, святым угодникам среди мертвых. Но никто не утолил моих мучений. Никто не отвел кары небесной.
Иван еще отхлебнул из корчаги, пригасил холодным напитком внутренний огонь.
— И ладно бы я — грешная тварь. Но дети страдают невинно! Супруга гибнет! Дмитрий малолетний утонул в пруду святого места! Где было Божье око, когда младенец принимал муку в монастырских пределах? Будь ты проклята, Кириллова пустынь!..
Последние слова Иван произнес совсем по-людски, и Федя подумал, что он сейчас заматерится.
— И понял я, что это наказание безмерное — не за мои плотские страсти, не за кровь в бою, не за дерзость обиходную. Это, Федя, — тут шепот стал совсем сдавленным, сиплым, едва слышным, — за власть! Власть! — вот страшный грех! Дерзающий на власть — есть смертник грешный!
«Хотел сказать «грешник смертный», но вышло еще точнее», — подумал Смирной. — «Смертник!».
— Властитель каждым шагом своим давит малую тварь. Делает злое дело и убивает, тщится свершить доброе — убивает тоже; нечаянно, ненароком, но убивает, калечит! Иногда в добре грешит более, чем во зле.
Грозный продолжал сокрушаться, и Смирной слушал с возрастающим уважением. Этот больной, пораженный человек открывал перед ним великую картину беспросветности власти.
— Раб Божий без чинов, шагая по земле и думая о Боге, каждым шагом уничтожает творение Божье — муравья, жука, травинку. И ступить ему некуда, ибо крыльев не имеет! Властитель — во сто крат опаснее. Добрыми делами и благими намерениями повседневно губит рабов своих. Мечтает о благоденствии — казнит вора, старается о Боге — на стройке храма гибнут мастера, раздает милостыню — люди давятся насмерть. А что говорить о войне? О борьбе с похитителями трона, заговорщиками, колдунами? Смерть! Смерть везде и повседневно! Сколь бережны должны быть дела и замыслы властителя! Сколь осторожно следует ему принимать решения, выбирая наименьшее зло от зла и зло от добра! И как замолить нечаянный, а тем паче — осознанный грех, невинную жертву?
Страшная картина возникла в окружающем пространстве — человек в перекрестии тысяч нитей, соединяющих чужие судьбы с его скипетром, разрываемый этими звенящими нитями.
— Я, Федя, искал утешения у святых отцов, я взывал к Богу: как мне быть? Как уберечь душу от властной страсти? Но нет мне ответа.
Грозный понизил голос еще. И Федор услышал последнее, совершенное откровение:
— И увидел я суть власти — она не от Бога!
Сказать так, после 13 лет помазанья на царство, после ежедневного усердного общения с Богом, — наверняка более тесного, чем у обычных смертных, — мог только великий человек! Федор замер весь во внимании. Дурацкие картинки вылетели из головы прочь.
— Не хочется верить в самое страшное, и надеюсь, что проклятие власти не от вселенского Зла. Ведь царствуют благостно иные властители, в чужих землях?
— А если это наше, русское зло, то откуда оно? Кто управляет им? И увиделось мне, что духи этой земли — живы! Как ни гнали их наши пращуры, но вовсе изгнать не смогли. Где-то здесь, вокруг нас таятся грозные силы, и надо у них просить прощения, перед ними каяться. Мы же на русской земле живем!
— Но как это сделать? Слов не имею, боюсь! Молю тебя, Федор, узнай мне слова! Поезжай к Белу Озеру, спроси в лесах о моей вине, привези исцеление Настасье. В травах ли, в плодах, в соли земной, в древних молитвах, в чем Бог даст. — Голос царя затих вовсе. Грозный заснул, мучительная гримаса сошла с его лица.
«Странно, — кольнуло Смирного, — от Бога бежит и Бога поминает...».
Федор склонил голову и обнаружил, что давно сидит на коленях; понял, что нужно идти, поднялся с колен, поклонился в землю и тихо покинул страшное место — узел всех русских судеб.
Глава 18. Рецепт исконной благодати
Самая волшебная русская ночь наступает в момент летнего солнцестояния. Этой короткой ночью случаются таинственные, величественные события. Да что там говорить! Вот, хотя бы ночь 22 июня 1941 года, — не рядовая была, не так ли? А пик белых ночей? А выпускные вечера в средних школах? А просто подмосковные вечера?
Но из-за причуд Юлианского календаря, который так подозрителен нашему Федору, дата солнцестояния по старому стилю постепенно сползла со своего астрономического места, в наши дни — уже на две недели. Поэтому теперь языческие игрища в честь Купалы если где и проводятся, то сильно опаздывают к солнцестоянию.
А Федор успел. Он расседлал коня в лесной деревне Иваново-Марьино как раз под вечер 22 июня. Языческое действо ожидалось через сутки, и время на подготовку было. Федор выехал скоропалительно, поэтому подробно расспросить знающих людей, вроде игумена Саввы, не успел. Сейчас он сидел на цветущем пригорке и вспоминал старые монастырские рассказы.
В древней Руси праздник всепобеждающего света был очень популярен. С приходом христианства запретить его так просто не удалось. Народ продолжал нагло, в открытую славить Великое Солнце. Пришлось новым отцам старой нации приспособить ритуал под себя. Вот как они его вывернули.
Свет нам принес Иоанн Креститель — Предтеча, предшественник Христа. Пусть день Ивана Купалы и ночь накануне его считается праздником в честь «Ивана» Крестителя, имея в виду, что «Иван» «купал» крестников в Иордане. Крещение, однако, празднуется зимой — через две недели после Рождества, в самую темень, и, причем тут июнь, непонятно. Конечно, считается, что 24 июня Креститель родился. Но его-то при рождении не «купали»?
Федор давно заметил этот парадокс. И как ни увиливал отец Савва, как ни наводил июньскую тень на монастырский плетень, но уши из этой истории торчали очевидные, похожие на рога.
Старики рассказывали по-другому.
Купала, она же – Кострома, — жуткая женщина в прекрасном обличье. Другое имя ее — Смерть! Она царит над миром все осенние, зимние и весенние месяцы. В сентябре, лишь кончаются полевые работы, случается осеннее равноденствие. Свет быстро уступает власть над небом, холодает, птицы убираются из наших мест. Купала приходит и собирает свой урожай – косит простудой самых слабых. Под ее крылом начинается зима, и страшные, длинные ночи наступают в конце декабря. Тут, правда, рождается младенец Иисус, но в одночасье ничего не может поделать с ведьмой. Тянутся темные ночи, проходят недели и месяцы в холоде, голоде и болезнях. Однако, с Рождества потихоньку отступает Купала, слабеет и уже не так жутко душит людей снежными тучами.
Приходит военный месяц март, силы Смерти и Жизни уравновешиваются, земля восстает ото сна, и с нею воскресает бывший младенец Иисус, — тридцатилетний бродяга, распятый на кресте за призыв к смене государственного строя.
А Купала все еще рядом, она теряет силы, но не сдается. Возвращаются из походов телеги с ранеными воинами, убитые наполняют землю, с летней засухой приходит чума, вспыхивают пожары. И только в конце июня, когда Свет поглощает Время, силы Купалы сжимаются, и даже слабый, смертный человек может удержать ее в руках, разорвать, утопить, сжечь.
Сейчас как раз такие дни.
Единственным человеком, с которым Федор успел обсудить предстоящую поездку, был Заливной. Федя как вышел от Грозного, так и зацепился за Прохора. Не к Сильвестру же идти за наставлением в язычестве? Прохор организовал отъезд за пару утренних часов 21 июня, собрал дорожный припас, привел спокойного и не очень дорогого конька, ускакал к гончарам за «ярлыком» — тайной языческой весточкой, которую вполне можно было добыть за скромные деньги. Она ни к чему не обязывала, просто говорила, что податель сего известен московским братьям, лобызаться с ним не обязательно, но терпеть можно.
Прохор вернулся, привез ярлык — выдавленый на глиняном кружке солнечный круг, перечеркнутый молнией Перуна.
«Интересно, сколько таких «символов веры» гончары печатают?», — думал Федя, пряча ярлык.
Прохор доложил, что язычники в окрестностях Бела Озера есть, живут лесными поселениями. Путь к ним спрашивать не стоит, все равно никто не скажет.
— Ищи лошадиные черепа на шестах. Увидишь любого человека под черепом, покажи ярлык, попроси приюта, и все. Дальше промышляй с Божьей помощью. — Прошка впервые со времени знакомства перекрестился широко и искренне. — А крест лучше дома оставь.
Можно было ехать, но Сильвестра стоило известить, слишком уж страшной казалась минувшая ночь, двусмысленным было присутствие Смирного в спальне больного царя. Сильвестр благословил Федора в дальний путь — до Белозерского монастыря считалось два дня езды налегке, а Федор именно налегке отправлялся. Явный смысл его поездки — передача милостыни за упокой души младенца Дмитрия — был невинен и хорошо объясним состоянием царя. Сильвестр поверил. От себя передал игумену благословение, несколько золотых монет, посетовал, что не может сам отправиться в святое место. И еще сказал, что помнит о книжном деле, испросит царского благословения, как только государь поправится. На том и расстались.
До Кириллова монастыря два сорока верст. Смирной гнал коня весь первый день, ночевал в лесу, скакал еще день и, не доезжая Белого Озера, когда в лесной прогалине уже появились золоченые головки с крестами, увидел убогий плетень придорожной избушки. В плетне торчал шест с бледным, выветренным лошадиным черепом.
Солнце склонялось к вершинам елей, в его лучах Федя разглядел у избушки старуху и ребенка. Бабка настороженно уставилась на путника: страшно ей было — за себя и за внука. Федор показал глиняный кружок. Бабка молча махнула рукой в узкую просеку, уходящую в лес.
«Чистая Баба Яга, — усмехнулся Смирной, — только клубка не дала».
Ехал еще с полчаса. В сумерках оказался среди лесной деревни. Два десятка низких избушек под камышом и соломой окружали просторную поляну и стояли к Феде передом – к лесу задом. Тянуло запахами костра, скошенного сена и воды. Где-то рядом ощущалась река или озеро.
Местные поселенцы рассматривали Федора с любопытством и без страха: они были дома. Смирной опять пустил в ход ярлык и предстал перед начальством. Это были три деда, очень похожие на грибы. Федя сказал, что прибыл проездом, его монетка на шнурке поблескивала в разрезе рубахи, и вполне могла сойти за знак Солнца. Старики согласились принять гостя на пару ночей, предложили расслабиться, отдохнуть, «погулять с ребятами в Иванову ночь».
Поселили Федора в обычном шалаше, дали есть-пить, и он заснул под тихое пение и шорох леса.
«Ребята» – близнецы Ярик и Жарик — оказались совсем детьми. Они были одеты в праздничные рубахи нового льняного полотна. Штаны пока имели драные, – чтоб до вечера пробыть. Различались двойняшки легко: у одного за поясом торчал деревянный нож с серповидным кремневым лезвием, другой не выпускал из рук короткое копье с настоящим, хоть и ржавым наконечником.
После нескольких слов знакомства воины Великого Солнца сделали страшные глаза, потащили москвича в шалаш, стали шепотом расписывать ужасы будущей ночи.
— Этот Иван – милый друг нашей Марьи. Знаешь цветок «Иван-да-Марья»? – один лепесток синий, другой желтый?
— Синий – Иван, желтая – Марья...
— Желтый — Иван! Он воин Солнца! – Ярик (с копьем) насупился.
Жарик не стал хвататься за нож:
— ...вот, эти самые и есть. Брат и сестра.
«Брат и сестра – милые друзья? – странно как-то» – подумал Смирной.
Весь смысл игрища – по крайней мере, так его понимали пацаны, – состоял в поисках огромного клада. Ярик задрал руки под крышу шалаша, насколько позволило копье – «вот такого».
«Нет, — заспорил Жарик, — вот такого!» — У Жарика гора сокровищ получилась чуть выше, зато намного уже.
Из дальнейших рассказов выяснилось, что попутно с поисками клада будут решаться другие хозяйственные задачи. Утром, когда утопят Купалу и разведут священные костры — символ победы Великого Солнца над Темной Ночью, все поселенцы должны прыгнуть через них. Высота прыжка – это высота пшеницы, которую прыгун сможет вырастить на своем клине.
— И еще сестра захочет любить брата, а он ее убьет.
— Нет, сначала отлюбит, как следует, а потом убьет!
— Какая сестра? – не выдержал Федор.
— А любая! – ответил Ярик, — синяя.
— А у вас сестры есть?
— Нет, мы еще малые, — сказал Жарик, но задумался.
— Есть у нас Вельяна. Но она не сестра. Она родная сестра.
Взрослая ерунда недолго занимала малолеток, они снова заговорили о сокровищах, потом резко замолчали, некоторое время сдерживались, переглядывались, но потом не выдержали и заговорили наперебой: им точно известно, где в эту ночь зацветет папоротник!
— Откуда знаете?
— В прошлом году в Иванову ночь опять никто не нашел цветка, а мы после игрищ стали искать прямо днем, — шепот Ярика в одно ухо сливался с шепотом Жарика в другое.
— Они – глупые! — не догадались, что вялый цветок не сразу опадает со стебля!
— А мы – умные! — обрыли все места, много дней искали, и вот... – Ярик достал из-за пазухи тряпочку, в тряпочке оказалась березовая кора. Между двумя полосками коры лежал расплющенный цветок бурого цвета.
— Вот!!! – шепот стал совсем зловещим, — это он!
— Он ли? – Федор недоверчиво скривил рот.
— Он! Еще крепко держался на стебле!
— И мы проверяли!
— Как проверяли?
— Пускали цветок на бересте в Бело Озеро, он плыл к тому месту, где рос...
— Теперь мы знаем место! Пока другие будут от девок бегать, мы спрячемся возле берлоги, и хвать!
— Постой, какой берлоги – опешил Федор?
Ребята замерли. Место было раскрыто.
— Ну, там этот папоротник... возле берлоги...
— А кто кого «хвать»? Медведь вас, или вы — медведя?
— Нет, его сейчас дома нет, он по лесу гуляет, малинку собирает, вернется только на зиму. Мы цветок схватим!
— А зачем он вам? Место знаете, идите прямо сейчас, копайте по светлому.
— Не-е! Под Великим Солнцем, да без цветочного света клад не дается, уходит! Он от Великого Солнца прячется, только малый огонек от цветка принимает!
Мальчишки смотрели на Федора вопросительно, будто проверяли свою теорию – все ли в ней гладко? Если москвич не оспорит их плана, значит, верняк. Но Федор внес смятение в сердца кладоискателей.
— Если клад может не даваться, значит, может и перемещаться? Лежит ли он на прежнем месте?
— Лежит, — неуверенно ответил Ярик.
— Он большой, за год не перетащишь! – подтвердил Жарик.
Федор нарочито сморщил лоб, прищурился, задумался и процедил скептически:
— Эх, пацаны, хотелось бы верить, хотелось бы! Но...
— Что, но? – исполнил дуэт, — нет, — хор мальчиков. В голосе каждого звучало по нескольку голосов и мотивов – от заносчивой агрессии — до поросячьего визга. Они готовы были в бой за свою мечту. Сейчас они могли порвать даже медведя.
— О–па–са–юсь... я..., — Федор страшно тянул слова, — дается ли цветок тем, кто не до конца выполнил обряд?
— Какой обряд?
— До какого конца?
— Ну, прыжки через огонь, шуры-муры с сестрами, гребля в лодке по озеру, утопление Купалы...
Братья вздохнули облегченно.
— Ты не понял, сна–ча–ла ищут цветок! В самую темень бродят по лесу! – успокоил Ярик. — А прыжки и гребля сестер – опосля, когда ничего не нашли! На рассвете!
— Да. Никто не находил, — грустно сказал Жарик, — а то бы стали с сестрами возиться, об урожае переживать! Рыли бы клад, да таскали по дворам!
Это было разумно, просто мудро!
— Ну, что ж, добро! – Федор уверенно глянул на братьев. Так начальник Большого полка осматривает войско перед боем. Смирному захотелось сказать «с Богом!», перекрестить бойцов, и он едва сдержался.
Лица героев осветились внутренним огнем, они подтянулись, прижались к плечу плечом: «Не подходи! Убьем во имя Великого Солнца!», — читалось на конопатых мордочках.
«Может, и прав царь? Достаточно русским людям их родного, Великого Солнца? А остальное – происки залетных ветров?», — думал Федя.
— А хочешь... с нами? — начал Ярик.
— Станешь в треть? – выпалил Жарик, и Федор проникся величием момента.
Ни разу в жизни, никто и никогда не предлагал ему полного соучастия в большом деле. Звали служить Богу, царю, отечеству, церкви, дворцовому приказу; требовали отдать жизнь, здоровье, знания, душу; предлагали получить скромное пропитание, ношеную одежду, малую часть царской милости, микроскопическую долю Божьей благодати, неопределенное «спасение души». А чтобы вот так – позвать с собой на равных, до конца, с честной дележкой результата? Это – нет. Такое, говорят, только в разбойничьих шайках бывает.
— Посмотрим, — Федор благодарно обнял друзей, — куда выведет Иванова ночь, что покажет Великое Солнце!..
Глава 19. Цвет папоротника
К вечеру деревня осветилась огоньками в окнах, зажглись масляные коптилки в глиняных горшках под навесами. Казалось, стаи светлячков засветились в сумерках, не дожидаясь темноты.
Федор стоял у своего шалаша. Ярик и Жарик торчали рядом во всеоружии. Штаны на обоих были новые.
— Скоро закричат гасить огни, – заметил Ярик и продолжил, отвечая на немой вопрос, — малые огни указывают путь Великому Солнцу.
— Но могут отпугнуть Купалу, и тогда ее не поймаешь.
Федору показалось, что губы Ярика подрагивают от страха или возбуждения.
— Зажгут один костер, Купала большого костра не боится. Она думает, что все люди к нему собрались, и летает у них за спинами.
— Поэтому у костра ночь всегда темнее, чем под лучиной.
Сумерки уже утратили золотистый оттенок, и в центре поляны оказался молодой человек приятной наружности.
— Это Лало. Сейчас задудит, — пояснил Жарик.
Парень достал из рукава длинный предмет и дунул в его конец. Раздался высокий, пронзительный звук на одной ноте. Парень подул еще, поиграл силой звука, изобразил трель, потом убрал дудку, поднял руки и крикнул громким, чистым голосом: «Купала идет! Гасите огонь! Купала летит! Купала плывет!».
На эти крики деревня — глухая, безлюдная — ответила движением во дворах и женским пением. Слов было не разобрать, но мелодия звучала приятная. Поэтому «Лало» со своей дудкой больше не вступал. Среди избушек замелькали светлые пятна рубах. На мужчинах с золотистым оттенком, на женщинах – с голубизной.
«Все-таки, Иван – желтый, Марья – синяя», — отметил Федя.
Движение пятен сопровождалось уничтожением дворовых огоньков. Вот и последний погас, рубахи двинулись в середину поляны. Туда же близнецы потащили Федора.
На поляне собралась немалая толпа. Она окружала девичий хоровод у копны — заготовки для костра. В толпе преобладали молодые лица. Взрослые мужчины и женщины, старики и старухи стояли по краю собрания, скорее с намерением наблюдать, чем участвовать.
«Народу сошлось пара сороков. Человека по четыре на избу и более. Неплохое тут житье», — подсчитал Смирной. Он заметил вблизи девичьего хоровода низкую лавку с калеками. Калеки – выжившие из разумных лет старики и старухи – тоже были одеты в белый лен. «Не желтые и не голубые, — улыбнулся Федор, — ни ты мне — брат, ни я тебе – сестра»...
Толпа выглядела готовой к игрищам, лица светились возбуждением, глаза молодежи бегали и блестели.
«Наверно, съели что-нибудь», — понял Смирной.
Люди ждали. Наконец в круг вошел «Лало». Исполнитель роли бога любви был полон энергии, излучал уверенность и многозначительность, присущую массовикам-затейникам. Он снова дунул в хрипатую дудку, выкрикнул несколько фраз, проделал движение вслед ушедшему солнцу, кивнул навстречу наступающей ночи и рявкнул окончательно. Девки в хороводе запели и пошли по часовой стрелке. «Посолонь ходят», — подумал Федор. В северных широтах движение по часовой стрелке долго соединяли с направлением хода солнца.
Пение в хороводе временами прерывалось, а иногда подхватывалось общим хором. Слов Федор не понимал. Он хотел спросить разъяснения у «оруженосцев», но Ярик и Жарик растворились в толпе. «Уж не к берлоге ли пошли?!».
Вдруг хороводные девки завизжали и бросились врассыпную. Толпа лопнула, будто в ней прорубили просеки. По этим просекам в центр поляны метнулись серые фигурки с соломенными факелами. Где-то в этой темной деревне все-таки хранился огонь.
Факелы сошлись под копной, она вспыхнула и осветила деловитые лица поджигателей. Ярик и Жарик были среди них.
Костер разгорался, в копне обозначились крепкие поленья, сложенные вокруг шеста с лошадиной головой на верхушке. Да, – это была голова, а не череп. Черепом ей предстояло стать в огне. «Если прежде не сгорит», — опять сумничал Смирной.
Толпа села. Люди опустились, кто где стоял. Образовались небольшие компании по пять-шесть человек. Федор тоже оказался в таком кружке. Здесь были две тетки средних лет, девица из хоровода, ну, и Ярик с Жариком вынырнули, как грибы из-под травы.
Тут же по толпе пошли парни с берестяными коробами и стали раздавать народу еду. В центр Фединого кружка на кусок полотна упали белые караваи, сушеная рыба, мягко опустились горшки с овощами, мясом и ягодами. «Пятью хлебами и двумя рыбами накормил он толпу бездельников», — пробормотал Федор самодельную цитату. Разносчики не унимались. Появилась выпивка. «Холодная, — пощупал глиняную бутыль Смирной, — у них и ледник есть».
Тут Ярик толкнул в бок и сообщил, что разносчики еды – слуги Солнца, тоже еду приносящего. Стали есть и пить. Дети выпивали наравне со взрослыми, компания развеселилась, люди обменивались короткими фразами, и Федя понял, что словарный запас у них невелик.
Одна тетка оказалась матерью близнецов, другая – именно теткой. Девица Вельяна – родной старшей сестрой. А когда в кружок присел один из коробейников – муж тети, семья оказалась в сборе.
Какое-то время люди угощались, пели нестройным хором, поглядывали в небо. Там проворачивался огромный звездный купол. Федор невольно засмотрелся. Не часто приходится городскому человеку вот так умиротворенно смотреть на звезды.
Наконец чернота межзвездных промежутков стала невыносимой, тихо и осторожно запели свирели. Дудка Лало молчала. Люди поднялись со своих мест, пошли к воде, мягко ступая босыми ногами. В конце широкой просеки Белое Озеро отражало луну и звезды. На берегу народ сжался в группы и чего-то ждал.
Опять взвизгнула дудка, ударили бубны. Лес наполнился грохотом, криками, дикими воплями. Казалось, беснуется пьяная компания.
Крики и грохот приближались, сходились со всех сторон. Ярик и Жарик прижались к ногам Федора и отчетливо дрожали. Их дядька исчез. Федя обнял ребят. «Лешие гонят Купалу», — выдавил Жарик.
«Как же они пойдут к берлоге?», — подумал Федор.
Купалу гнали бубнами, криками, огнем. Факелы замелькали меж стволов, и скоро к воде выскочило жуткое чучело нечеловеческого роста.
«У-у-у-х!!!», — разнеслось над водой.
«Ходули!», — подумал Федор. Дети у его ног начали подвывать. Но завыла и вся толпа.
Чудовище размахивало жердью с метелками на концах, дурно вопило, кидалось то к одной группе людей, то к другой. Всюду на его пути вставали парни с пучками горящей соломы. Купала отскакивала прочь. Постепенно факелы окружили страшилище со всех сторон, осветили ее черные лохмотья, жгли светом, рассеивали колдовскую силу. Наконец, Купала сдалась. Она рухнула в траву, люди с факелами стояли над ней, пока не сгорела солома, и отступили в сторону. Тьма скрыла поверженную тварь, но Федор заметил, как выбрался из ее лохмотьев и исчез в толпе коренастый мужичок.
Теперь вокруг раздавались радостные песни, огонь вспыхнул вновь, факельщики схватили чучело и поволокли к воде. Там у берега покачивался соломенный плот – с десяток снопов с осмоленными срезами. Купалу бросили на снопы, оттолкнули шестами от берега, и погребальный плот замер на зеркальной поверхности.
Народ замер, опять чего-то ждал, тишина установилась необыкновенная, люди боялись дышать. Раздался легкий плеск, и Федор увидел на воде широкие круги, приплывающие из прибрежных камышей. Близнецы снова вцепились в его бока в суеверном ужасе.
Федор присел. Ярик простучал зубами в ухо: «Рус-сал-ки!»...
Жарик тоже пытался что-то сказать, но у него не получалось. Тогда он показал рукой в сторону плота и, наконец, выдавил: «Вельяна!».
«То ли сестру утащили русалки, то ли Вельяна сама превратилась в русалку. Скорее второе, — успокоил себя Смирной, — но тогда, чего они так боятся? Или Вельяна в первый раз русалку играет? Хотя, — дети есть дети...».
Тут же тонко, грустно, совершенно невыносимо — до кома в груди, до слез в носу — запела свирель. Лало, оказывается, умел играть не только на дурацкой дудке!
Русалки — штук шесть — вынырнули разом по бокам плота, закружили хоровод — опять по ходу солнца, вернее, теперь уже — по ходу луны. Плот качнулся, увлекаемый девичьими руками, и двинулся прочь от берега. Едва он отплыл на несколько саженей, как люди стали забрасывать последний приют Купалы горящими сучьями. Чучело вспыхнуло, огонь взвился в небо. «Похоже, маслом пропитано, — подумал Смирной, как бы девчата не обгорели». Скоро к восторгу людей пылал весь плот. Огненное сооружение, несмотря на безветрие, уплывало на середину озера и, судя по скорости, могло легко достигнуть другого берега.
«Если раньше не сгорит, или русалки не исчезнут», — пробормотал Федор и добавил про себя: «А ведь где-то там Кириллов монастырь! Каково им наблюдать наши игры?».
Эти слова — «им» и «наши» – наполнили сердце Смирного непонятным волнением, тоской, но и радостью.
Обязательная, официальная часть праздника была позади. Начинались игры. Они сопровождались несмолкающим пением, хохотом, хороводами и непрерывной выпивкой. Дудки выли все противнее, бубны грохотали беспорядочно, всюду горели костры. Ярик и Жарик стали дергать Федора за штаны: «Пойдем, тут недалеко!», — Ярик снова был с копьем.
Пришлось идти.
Берлога, верно, оказалась неподалеку. Медведь устроил логово вблизи берега, и пройти с полверсты по прибрежным корягам удалось за час. От приметного валуна свернули в лес и сделали сотню шагов. Медведя дома не было. Он заранее покинул окрестности, бежал от грохота игрищ. На медвежьей полянке темень стояла несусветная. Близнецы какое-то время шарили по стволам деревьев, озираясь на Федора. Он понял, в чем состоит его доля. За треть клада предстояло обеспечивать моральную поддержку воинам Великого Солнца и – при удачном исходе предприятия – перетаскивать золото.
Ребята нашли меченый куст вовремя. Наступала полночь, — самое время копать. Оставалось дождаться совпадения двух явлений. Две яркие звезды в южной части небосклона – Гугля и Матица – должны были «стать по дереву», то есть, вертикально. И папоротник теперь просто обязан был зацвести. Куст расправил длинные стебли, похожие на крылья огромной птицы. Полная луна освещала его, и куст серебрился мелкими листочками. Ярик и Жарик встали у куста, поглядывали на звезды и сопели носами. Федор прислонился к дереву у берлоги и погрузился в бездумное спокойствие. Давно ему не было так хорошо.
Вдруг братья охнули дуплетом и засуетились у куста. Федор открыл глаза и увидел, что молодой побег папоротника рядом с большим кустом светится слабым желтым цветом!
— Цветет! – просвистел в мистическом удушье один близнец.
— Светится! – подхватил другой.
Федор напряг глаза, боясь шевельнуться. Кончик побега вспыхивал в такт биению его сердца. Рука потянулась перекреститься, и цветок погас.
«Не место для креста!», — гугукнула ночная птица. Смирной опустил руку. Папоротник осветился.
— Тут нет цветка! – прошептал Ярик.
— Он без цветка горит! – подтвердил Жарик.
— Поэтому никто цветка не находил.
— А мы что нашли?
— Какая разница, копай давай!
Братья завозились с большой торбой, в которой Федор подозревал пустые мешки для несметных сокровищ. Но там нашлась небольшая лопатка из дубового теса.
Мальчишки стали азартно подрывать сразу оба куста – старый и молодой. Огненный цвет продолжал пульсировать, и теперь блуждал с одной ветви на другую.
— Чего он скачет, не ушел бы! Копай быстрей!
«А, правда? – чего он скачет? Бьется, как сердце. Будто со мной связан этот волшебный свет?! А если бы я не пришел?!». Еще чуть-чуть, и Федя подумал бы, что он – избранный, и потому никто не находил цветка, что его, Федора Смирного тут не было...
Но здравый смысл, охраняемый в юноше царской монетой, восторжествовал и на этот раз. Собственно, в монете и было дело. Это она отражала свет полнолуния и бросала лунный отблеск на крыло папоротника! Она и билась вместе с сердцем! Получалось, — это Федино сердце управляло лунным лучом!
Федор встал. Цвет папоротника погас.
— Погас! – взвизгнул Жарик.
— Копал бы быстрее! – сжал кулаки Ярик; копье стояло рядом, у берлоги.
«Еще подерутся!», – подумал Смирной.
Он подошел к братьям.
— Давайте я покопаю. Хоть что, а найдем! Вы же при цвете начали рыть? Много не будет, но хоть тысячную долю ухватим!
Он взял лопатку и стал размеренно подкапывать кусты. Близнецы обессиленно сидели под берлогой. Они молчали, а значит, — потеряли надежду. А что может быть страшнее крушения мечты?
— Ну, вот, — пробормотал Федор, выдергивая папоротник с корнем, — кажись, что-то есть!
Ярик и Жарик кинулись к яме и стали рвать землю руками.
— Есть! – прошептал один.
— Есть! – крикнул другой.
На этот ли крик, по случайному ли совпадению, но проснулась окружающая природа. Зашумели деревья, издалека донеслась песня, удары бубна, и страшно затрещало в буреломе.
— Медведь! – крикнул Жарик.
— Бежим! – подхватил Ярик.
Рванули к берегу, ломая сучья, спотыкаясь, падая. Потом бежали по щиколотку в воде, «чтобы сбить мишку со следа». До места гуляний добрались очень быстро. Медвежий ужас дышал в спину, холодил затылок.
Присели передохнуть у крайнего костра. Тут не было людей, — разбрелись по взрослым делам.
— Ну, что? Испугались медведя?
— Кабы медведь, кто б его боялся!
— А кто это?
Ярик кивнул в сторону озера, туда, где давным-давно, в прошлой жизни горела на воде ужасная Купала...
Осмотрели клад. Это были три большие золотые монеты. Совсем новенькие! Федор с восторгом смотрел на мальчишек, просто пил их радость.
— Вот, — сказал Ярик, — твоя доля.
Тяжелый кружок шлепнулся в руку, и Федор вспомнил забытое ощущение чуда, — когда ты стоишь в центре земли, и ладонь принимает вселенскую благодать.
— Ну, пойду, прогуляюсь, — сказал он дрожащим голосом. Очень ему не хотелось, чтобы воины Великого Солнца заметили следы слабости на его бледном лице.
Глава 20. Восход Великого Солнца
Далеко уйти не удалось. У следующего костра сидела теплая компания бывших леших. Ребята уже плохо выговаривали слова народных песен, но гостя усадили в кружок, дружелюбие выразили жестами и стали чуть не насильно угощать москвича. Напиток, похожий на перебродивший квас, никакого облегчения не давал, и тоска Смирного не рассеивалась. Лучше вышло, когда кто-то бросил в костер пучок травы с желтыми цветочками. Трава съежилась, вспыхнула зеленым огнем и выпустила облако кислосладкого дыма. В сочетании с квасом этот дым произвел оглушительное действие! Качнулся купол неба, звездно-снежный дождь посыпался в озеро, и оно стало белым — в строгом соответствии с официальным названием. Путеводные звезды кладоискателей остались торчать одиноко и перестали заваливать заветную вертикаль к западу. Потом Гугля задрожала мелкой дрожью, а Матица тяжко рухнула в направлении Кириллова монастыря.
То ли в голове Федора, то ли в натуре послышалась приятная музыка, в основном — свирельная. Лало выводил нежную песнь, и далекие девичьи голоса отвечали ей, но не словами, а вздохами, стонами и прочими завлекательными звуками.
Ребята у костра оживились, встали, оправили подобие одежды и очень решительно, но очень неумело пошли на зов свирели. По мере продвижения к цели древние инстинкты брали свое и вытесняли из молодых, здоровых организмов адскую смесь. Остался только кураж, который нельзя погасить летним дождичком или прохладительными напитками.
Вышли на поляну.
«Хорошо, что пацаны остались на берегу», — подумал Федор.
Картина, представшая взору, была чудовищной. Примерно так интерпретировали библейские сцены Федины товарищи по православному несчастью. Это называлось, например, так: «За что же собственно Господь спалил огнем небесным города Содом и Гоморру?». «Что такое запретное увидели дочери Лота в горящих развратных городах, если Господу показалось недостаточным вырвать их бесстыжие глаза, а пришлось превращать непорочных дев в соляные столбы?». Были и другие вопросы-названия к страшным картинкам, но они тоже отличались двусмысленностью, неясностью и волокитной длиной. А здесь, на поляне у языческого села Иваново-Марьино волокитничать не приходилось. Кругом мелькали голые спины, в траве перекатывались скомканные пары, перекрестные стоны вышибали из головы последние крупицы осторожности. Пьяные парни прицелились нырнуть в непроглядную тьму за бледными тенями, но тени вылетели сами и закружили мужиков в белом танце. Скоро Федор остался в одиночестве и задумался: бежать или погодить?
К первому варианту его понуждал серебряный православный крест. Он лежал в сундучке под топчаном Воздвиженской кельи, но даже оттуда настаивал на умерщвлении плоти. Отчего столь силен крестик? Оттого, что его мать родная тебе навесила, оттого, что с колыбели тебя к нему приучали. И еще — от авторитета орудия казни Христовой. Сравните: кто более значим в русском обиходе? — православный крест или языческая монетка в пять тетрадрахм? Конечно, крест! Но крест, он во-он где! — а монетка тут, на груди болтается, бьется, волнуется, заряженная цветом папоротника. Дергает за шею, валит в кусты, нашептывает гадости на языке оригинала — латыни. Давай, говорит, Федя, отдрючим какую-нибудь русалку, чтоб не очень-то хвостом крутила!
Не успел Федор согласиться вполне определенно, как русалка выплыла из травяного дыма, обвила его шею белыми руками — вот ужас! — без костей! — и потянула парня на самое дно лесной поляны — в траву, в темень, в жар своего молодого и вовсе не рыбьего тела. Одно успокаивало совращаемого Федора, что русалкой была не первая встречная потаскушка с Красной площади, а представленная дама — Вельяна — исполнительница женской роли в вечернем спектакле. К тому же она приходилась старшей сестрой его братьям по оружию Ярику и Жарику. А сестра моего брата — моя сестра. А сестру в Иванову ночь разрешено иметь на законных основаниях.
Впрочем, скорее не он ее, а она его имела. Она была местная, опытная в языческих традициях дева. А Федя только в первый раз... — нет, стыдно признаться! — ... «принимал участие в празднике солнцестояния». Зато его «солнце» стояло крепко. Било не в бровь, а в глаз. Нет, — в глаз бы пришлось, если б у русалки ноги были срощены. А Вельяна очень ловко оплела ими Федю.
И сколько кругов сделало это «великое солнце» — нам не узнать, но Федор провалился в дрему среди непорочной травы порочного русского леса.
Взошло настоящее солнце. Вельяна растворилась, зато ее братья стояли над Федором в целости и сохранности. И медведь их не задрал, и Купала миновала, и русалки за мелочностью лет не тронули. Конечно! — у Ярика в руках торчала огромная рогатина с позеленевшими медными наконечниками, а Жарик тащил настоящий боевой лук, правда, без тетивы.
— Пойдем к старцам, — сурово сказали братья.
Пошли.
«Понятно, — думал конвоируемый Федор, — что мне старцы скажут. Типа, женись на русалке, и концы в воду!».
Но нет, ничего. Старцы очень спокойно, с уважением встретили Смирного, предложили садиться, налили кваску на опохмелку, начали разводить вокруг да около. Слов у них по московским меркам имелось небогато, так что беседу легко вынесло к главной теме: «Вы, господин воин, теперь почетный член нашего племени!». Слово «член» смутило Федора, но вскоре выяснилось, что здесь его понимают буквально. И причиной членства ему объявили не тройной экстаз русалки, а папоротниковое чудо.
Рядовые бойцы Ярик и Жарик поступили не по-московски. Они не стали зарывать свои золотые в собственном погребе, а прямо с утра, не ложась спать, протопали к вождям и нагло запросили повышения в звании. Они предъявили золотые монеты, номинал которых в несколько раз превышал годовой бюджет деревни, ибо не в ходу здесь были «ефимки» голландской чеканки. Старики легко согласились считать братьев взрослыми в обмен на рассказ о тайне папоротникового цвета. Ярик и Жарик рассказали. Старцы не поверили. Близнецы поклялись Великим Солнцем и заявили о наличии стороннего свидетеля — московского всадника, выше которого, сами понимаете, никого не найти. Призвали Смирного.
Теперь Федор смотрел на вождей прозрачными голубыми глазами и врал вдохновенно. «Да, папоротник зацвел. Цвет папоротника — не цветковый, а световой. Он не рождается из соков земли, а отражает золото Великого Солнца, — а вы как думали — что это будет смертный лепесток, а не вечный свет? Да, рыть начали точно по звездам. Какие заклинания говорили? Да всякие, на незнакомом местном языке, слов не помню, был под воздействием».
Короче, старцы удовлетворились, выпили еще, внимательно осмотрели Федину третью монету: гляди-ка — сходится с теми двумя! — значит, правда!
От полноты чувств старцы предложили Смирному все, что пожелает. Федор пожелал говорить по важному делу. Далее он трудно и потно рассказывал мудрецам о горьком состоянии царя Ивана — тезки вашего Ивана купальского, о смертельной болезни царица Насти, и что подозревают отраву, и вообще, царь считает, что проклят силами земли. Или воздуха. И что ему посоветовать?
Рецепт оказался прост, особенно по второму пункту. Отравление легко лечится, но только раз в году. Нужно в Иванов день собрать три травы — кровохлебку, босянку и уздец... — нет, это название такое, — смешать эти травы, пить их водяной настой перед отравой или сразу после — по три раза в день — или сколько раз вы в Москве едите? Вот и все дела. Так что, жди Иванова дня, собирай и будь здоров! Какого Иванова дня? А! — да вот этого ж! То есть, сегодняшнего, то есть, ждать как бы и не надо — иди и рви!
Ярик и Жарик тут же вызвались накосить лечебных трав, ибо за ними далеко ходить не требовалось — не папоротник!
Дети убежали, и старики как-то сразу погрустнели, расслабились. Выпили еще. Стали мрачно рассказывать, что приезжали тут к ним всякие — и князья, и бояре, и купцы, и попы. Все хотят одного — спасения души. И так им объясняли, и эдак, что есть душа — нету власти, нет войска, нет товара, нет риз золоченых. А есть ризы, есть войско да царство, — какая ж тебе душа? Никакой! — это и детям понятно.
Короче, нечего везти царю Ивану, кроме трех снопов травы.
Смирной почесал в затылке, рубаха разъехалась, и старцы завороженно уставились на Федину монетку. Чуть не руками к ней потянулись. Начали путано объяснять, что в этой монете виден свет Великого Солнца, и она сама лучше других может ответить на самые трудные вопросы.
«Да. Клад она уже показала. Чем теперь перед Сильвестром отчитываться? Сказать, что пропил Белозерскую милостыню по неосторожности? Нет, лучше совру царю, что травы купил. Пусть погасит дорожные расходы».
Но дело оказалось нешуточным. То, что произошло дальше, можно было отнести на счет ночного наваждения, травяного дурмана или местного вина, кабы не солнце над головой, не трезвое утро, не здравый ум.
«Вот, — сказал один дед, — две плошки, одинаковые».
«Сымай монету, ложь в штаны», — сказал другой.
«Монета видела, какая у нас посуда, но что в нее льем, из штанов не видит. А видит это Великое Солнце. В одну плошку льем квас несыченый, в другую — хлябьевый сброд. Пробуй!».
Федя пригубил. «Так. Квас — слева, хлебово поганое — справа. Нужно следить за стариками, чтоб не смухлевали».
«Вот, — сказал первый дед, — имеешь ты вопрос, где хлябь? То есть, ты желаешь знать, где хлябь, а где — квас. Тут два вопроса, а не один. А Великое Солнце по два ответа не дает. Давай ему одну загадку. Вслух объявляй, чего желаешь. Но сначала зови Солнце. Говори так: «Великое Солнце, я твой сын!».
— Великое Солнце, я твой сын, — неуверенно произнес Федор.
— Давай монету. Вешай на палец. Держи, не дрожи!
Смирной вывесил тесемку с монетой на палец. Монета напряглась, стала заметно тяжелее, прекратила вращаться, замерла. Лик Великого Солнца отразился в ее плоскости, вызолотил профиль покойного императора. Цезарь не понравился Солнцу, — не русский был, чужой. Монета развернулась обратной стороной и замерла окончательно.
— Объявляй! — зашептал старец, — говори: «Великое Солнце, где хлябь?».
— Великое Солнце, где хлябь?..
Все напряженно застыли. Палец налился огнем. И вдруг монета качнулась, довернулась по вертикали, повелась вправо и бросила в чашку хляби зайчика золотой масти.
«Мать моя, непорочная!», — задохнулся Федор...
Слова о непорочности были тут неуместны, и монета закачалась безвольно. Зайчик исчез.
— Плохо подумал! — сказал один старец.
— Подумал плохо! — укоризненно вздохнули двое других.
— Ну, ты понял. Вот так, сынок, и разговаривай с Отцом Небесным, раз уж свят...
Вернулись братья, принесли траву. Федор стал прощаться, сказал, что нужно быстро доставить лекарство больной царице. «Конечно, быстро, — хором сказали старцы, — успей смешать и заварить, пока солнце стоит. Два, ну три дня. А пить потом можно хоть весь год! Только сцеживай, да мошку отгоняй!».
Федор оставил старикам золотой «ефимок», потому что Великое Солнце будет очень недовольно, если частицу папоротникового клада увезут с исконной земли.
«Правильное решение», — согласились старцы.
Захотелось Федору, естественно, и с «сестрой» проститься. Потрясающей была ведь Иванова ночь! Такие дела на всю жизнь запоминаются.
Ярик и Жарик — грустные и сонные — проводили Федю к своей избе. Вельяна встретила просто, ласково, даже весело. Услыхала об отъезде, с виду расстроилась не очень, но в глубине черных, русалочьих глаз мелькнуло горькое сожаление. Просила приезжать, «когда захочешь». Хотелось уже сейчас.
«Что ж не приехать, — обещал Смирной, — тут всего-то два дня пути»...
Поехал в растрепанных чувствах. В седле сиделось не так легко, как прежде. Что-то мешало, тащило назад.
Но поскакал.
Служба! — мать ее, непорочную!
Глава 21. Умывание рук
Ранним утром 24 июня 1560 года, после бессонной ночи Целитель понял, что сделать ничего нельзя, больная обречена. Ее болезнь не подхвачена в чумных переулках нищих окраин, не навеяна столичными сквозняками и не впитана с грубой пищей. Она заложена в организм десятками и сотнями поколений предков – их заразой, их простудой, их отравой. И более всего – их завистью, безразличием, ненавистью.
Нельзя сказать, что Целитель не приложил сил к попытке излечения, что остался холоден и рационален. Он сострадал, он весь истратился в этом сострадании. Он изучил десятки книг, перебрал известные примеры из античной и европейской истории, и, вроде бы, зацепился за прецеденты, нашел рецепты древних исцелений, но рассмотрел «свой» случай и понял: нам это не подходит. Не помогут европейские средства нашей больной. Не потому, что мы не так смешиваем проверенные лекарства, а потому, что у нас больная по-другому устроена. Все ее члены, все миллионы клеток заряжены по-другому, вибрируют на своей лад, на неповторимой и неуловимой волне. И никто не властен вмешаться в эту вибрацию — ни он —человек маленький и скудный, ни заморские философы, ни сам Господь!
А потому остается только уйти. Признать поражение и умыть руки. Согласиться на то, что далее существование обреченной пойдет без его участия. Так сдался когда-то Понтий Пилат в бессильной попытке приспособить жизнь сумасшедшего пророка к порядкам империи. А здесь – еще труднее – сумасшедших насчитывались миллионы, а империя тоже была больна. Это ее имя шептал он в молитвах: «Россия!». О ее здоровье беспокоился! А дураки, которые подглядывали и подслушивали, ловили шевеление его губ, понимали по-своему: «Анастасия!». Вот была нужда за Кошкиных молиться!
Сильвестр вымыл руки в медном тазу, позавтракал, опять вымыл руки, тяжко вздохнул и стал собираться. Надел поношенную черную ризу, взял обычную монашескую котомку с малым запасом еды и парой книг, прихватил из угла суковатый посох.
В таком виде вышел за порог кельи и направился к царю — проститься. Собственно, уверенности, что удастся уйти, не было. Все зависело от настроения монарха. Мог отпустить милостиво, мог головы лишить, а мог и в ногах валяться — просить остаться.
Сильвестр побрел через двор в Благовещенский храм, слезно помолился и не сразу последовал в царские палаты, а сначала вышел во двор, посмотрел на красное солнышко и тогда уж поднялся на Красное крыльцо по знакомым ступенькам. Получилось, как на Голгофу!
Иван Васильевич пребывал в дреме. Считалось, что он проснулся уже. Его умыли, одели, посадили за стол, подали завтрак, доложили обстановку в войсках и приказах. Но никто не питал иллюзий, что государь слушает, видит, понимает. Так, отчитались для порядку и все.
Теперь царь сидел в кресле и принимал людей по второстепенным делам. Люди входили, кланялись, беззвучно шевелили губами, опять кланялись, подавали листы подьячему, еще кланялись, выходили прочь.
Иван дремал с открытыми глазами. Его душа, сжатая в шерстистый комок, не хотела просыпаться, узнавать дурные вести, втягиваться в повседневный оборот. Душе снилось чудесное избавление от вериг. Иван понимал это как выздоровление Анастасии.
Тут вошел странный монах с посохом, в клобуке. Поклонился, что-то сказал, приблизился еще на два шага. У Ивана вздрогнул кишечник, холод прошел от сидения. Кольнуло жутью! Зато вернулся слух, зрение стало управляемым, сознание заработало вполсилы.
— Отец Сильвестр! – с облегчением узнал духовника Иван, — чего просишь?
— Отпуска прошу, государь. Намерен принять постриг, ибо ослабел духом и телом, истратился в заботах о стаде Христовом.
Сильвестр замолчал в ожидании вопросов: «С чего ж ты ослабел?», «Пятнадцать лет служил неослабно, а теперь что?». Тут бы Сильвестр сказал, что чует опалу, клевету, козни врагов. Что хочет служить Богу в тихом монастыре. А царь бы ему ответил: «Ты, отец, маковых булок объелся! Какая тебе клевета? Я тебе кто? – сын во Христе или тать ночной? Как ты смеешь оставлять меня на растерзание? Думаешь, на меня не клевещут, меня не палят, меня не казнят? Так встанем же вместе, побережем друг друга, Москву, Отечество!». А Сильвестр бы сказал, что тщился уберечь Россию, но больна она, неизлечима, дух людей ее подорван, души растерзаны, глаза слепы! И остается ему как честному человеку только руки умыть, да искать приюта собственной душе». А царь бы сказал, что нету тебе отпуска, раб Божий! А есть тебе важная государственная работа – исцелить этих людей, излечить их души, вправить им очи. Возьми всю силу московскую, всю церковь православную, строй, рви, руби, наставляй, веру меняй, холеру прививай, генеральные штаты устраивай! Можешь даже книжки печатать, только меня не оставляй! Лучше я, сирый, заместо тебя постригуся! И Сильвестр бы задумался, закряхтел под тяжкой ответственностью, и согласился...
Но пока поп Сильвестр ждал вопросов, царь Иван думал о своем: «Зачем стоит тут этот старый дурак? — просит неизвестно чего, сбивает с мыслей?».
А мысли у царя были простые – почему Федька Смирной не возвращается – четвертый день идет! Что привезет? Сгодится ли его средство?
Сильвестр стоял в обиде, хоть обижаться ему было не на что. Наоборот! Был бы царь сейчас в здравом уме, он бы припомнил попу союз с Адашевым, Курлятьевым и прочими, которые Настеньку обижали! А так – нет, не припомнил. Вытащил из памяти только просьбу отпустить на покаяние, да и отпустил.
— Ступай отче, служи Богу. Служи верно, как мне служил. А место тебе будет в Кирилловой обители на Белом Озере, где младенец Дмитрий скончался в водах. Молись за него, как за меня молился...
Сильвестр повернулся и вышел. С досады забыл поклониться. Впрочем, и так был он скрюченный – сплошной поклон. Так и поныне крючит московского чиновника неожиданная отставка.
Федька Смирной соскочил с коня на следующий день вечером, когда Сильвестр закончил приготовления к отъезду. Теперь он прощался со своим храмом — Благовещенской церковью. С ней были связаны полтора десятка лет жизни. Эта церковь вдохновляла его на поиск пути, благословляла на подвиг служения опасному повелителю, утешала в страхе и немощи. Теперь он уходил, но оставлял здесь кусочек сердца. Казалось Сильвестру, что вот, уйдет он и пройдут века, не станет этих царей и бояр, митрополитов и архиепископов, а его тень рядом с закатной тенью храма будет вечно пребывать на камнях Соборной площади. От жалости к себе, от прикосновения к вечности Сильвестр даже слезу проронил. И это было бы смешно, когда бы не было чистой правдой!
Тут Федька влетел на взмыленном беспородном мерине от Троицких ворот, стукнул коваными сапожками в булыжник. И хотел бежать по лестнице к царю, но увидел Сильвестра под благовещенской стенкой. Тень почти скрыла попа, но делать вид, что не заметил начальника, Смирной не стал. Сильвестр тоже не захотел прятаться от мальчишки, хоть и не до разговоров ему было.
Федор подошел, благословился, пробормотал об исполнении царской службы. Покосился на тюк с травами, — очень заметно он торчал за седлом. Но Сильвестр сегодня был нелюбопытен. Сказал, что уходит в чернецы.
— Куда, отче!?
— В Кириллов.
Федя не спросил о причинах, сделал грустный вид, изобразил книжное беспокойство. Сильвестр попросил прощения, что не успел приобщить Федора к библиотеке.
— Не стоит сожалений, святой отец. За царскую службу, даст Бог, и так милость получу. А может, голову потеряю. Тогда и твое заступничество не поможет.
Простились.
Федор явился к Грозному. Иван оживился, выгнал придворных, поманил Смирного ближе.
— Ну, давай, давай!
— Привез, государь, три травы. Собраны в Иванов день. В настое помогают от отравы.
Грозный засветился преувеличенной радостью. Ему показалось, что Анастасия уже спасена, — делать нечего!
— Проси, что хочешь, — Грозный потирал руки, — и пойдем смотреть травы.
Федор замолчал на минуту-другую, и царь подумал, что Федька себе цены не сложит.
«Больше окольничьего не дам! — посмеивался про себя Грозный, — ну, давай, проси боярской шапки! Проси, котенок!».
Ситуация была такова, что при умелой игре на нежных струнах, Федор мог дворянства домогаться, но он был не враг себе. Имелось у него особое чутье, имени и причин которого он не знал. Это чутье гнездилось правее сердца, чуть выше желудка — под монетой. Успей Федя свой православный крестик достать из сундука, мог бы отнести предостережение на счет Христа, Богородицы, Ивана — не Купалы, конечно, а Предтечи, — или грядущих через четыре дня св. Петра и Павла. Но припекала, предостерегала от непомерного взлета именно родная, языческая монета, брошенная когда-то рукой вот этого самого царя. Она-то лучше других знала переменчивость сей десницы!
— У меня два желания, государь!
— Нескромен, отрок, нескромен! — в голос захохотал царь, — проси! Начинай с большего!
Федя расправил спину после очередного полупоклона и сказал такое слово.
— Сейчас мы пойдем травы смешивать. Потом сделаем настой. Потом сцедим...
— Давай, не тяни, желай!
— ... А потом я желаю перед царицей лекарство принимать. Каждый раз. — Федор честно посмотрел в глаза изумленному царю.
— А в яму снова не желаешь?
— А мне все равно, где пробу снимать. В твоей яме меня очень сытно кормили, — после монастыря неплохо выходило! — Смирной простецки улыбался. Грозный просто обалдел.
На самом деле балдеть было нечего, — обычная логика. Помри Анастасия, — а она скорее помрет, чем выживет — Федору головы не сносить. На него повесят всех собак. А с пробой, да вот с таким предупреждением, глядишь, еще погуляем.
Наконец, царь понял, уважительно крякнул, спросил о втором желании.
— От отца Сильвестра остается Константинопольская библиотека...
— Она не от него, а от моей прародительницы Софьи остается...
— Сильвестр велел мне перечесть и привести в порядок книги, ход в стену показал. Вели продолжить работу, пожалуй ключи!
— Работай, — только и выговорил царь. Он не проявил интереса к книжному делу. Торопился к травам.
Указа по библиотеке издавать нельзя было, и Федор сам забрал ключи у благовещенского причетника Поликарпа — государевым именем!
Но чтения пока не получилось.
Всю вторую половину дня по царскому приказу Федор не уходил с поварни. Там они с подьячим Прошкой внимательно надзирали, как стряпухи секут травяные снопы, как рассыпают сечку в берестяные короба. Прохор тут же навесил на эти короба кожаные ярлыки с пометками. Потом из кажого короба отмерили по четверти фунта, смешали состав, залили теплой водой, поставили париться в русской печи. Прохор вызвал Глухова. Иван привел Волчка с Никитой, и они унесли опечатанные короба в царскую сокровищницу. Там драгоценные предметы замкнули в крепких сундуках, снова опечатали восковыми оттисками. Ключи Прохор забрал себе.
Стража стояла у запара всю ночь с 25 на 26 июня. К завтраку была сцежена первая бутылка зелья. У входа в спальню царицы встретились четверо: ключник Анисим Петров, подьячий Прошка, бесчинный отрок Федор Смирной и царь Иван Васильевич. Произошло исполнение первого желания. Федор лихо проглотил чарку зеленой дряни. Улыбнулся.
— Закусить не желаешь? — тоже улыбнулся царь.
Так и повелось изо дня в день — утром, в обед и вечером. Где тут вторые желания исполнять, в тайнике уединяться! Только соберешься уйти в подполье, а тебя зовут: «Иди, брат! Уж налито!».
Глава 22. Казенные хлопоты — дальняя дорога
Государь Иван Васильевич был человек набожный. С детства, с нянькиных сказок привык верить в страшное. Даже сейчас, после стольких обманов и предательств Ивану приходилось делать усилие, чтобы критически осмыслить доклад чиновника, рапорт военного, донос обывателя, отбросить клятвы и чертовщину, взвесить факты. И если дела бытовые, материальные, уголовные еще кое-как поддавались логике, то искания духовные проверять было тяжко и боязно.
А жизнь заставляла искать и бояться. Пока пытались лечить Анастасию, пока Филимонов допрашивал бесконечную череду подозреваемых в отравлении, Грозному поступали предложения помощи — с самого верху — от Бога.
То есть, не лично Бог откликался на отчаянные мольбы царя, а все, кто подползал к поверженному горем властелину, клялись в божественности своих способностей. Никто не пришел и не сказал: «Знаешь, Иван Васильевич, ты Богу за Настю лоб побил, а все без толку. Давай я тебе Чертову подмогу обеспечу. Вдруг поможет?!». Таких, желающих на костер не находилось, все норовили колдовать от имени Бога. Уж Иван их жег, топил, живьем варил, зверьем травил, — ничего не помогало. На смену сваренных, изжаренных и съеденных являлись новые мученики науки, представители одной из двух самых древних профессий, — еще неизвестно, не самой ли древней.
В распоряжении царя была вся сила Московского государства, армия обычная и армия чиновничья, ремесленные и земледельческие производительные силы, самая мощная в мире монастырская империя. Казалось, он мог добиться всего, чего пожелает, но иногда получалось, — не всего. И тогда темнело в глазах, отчаянье охватывало Ивана, и он кричал Богу, что вот идет ничтожный купчишка с грошовой прибылью, пьяный и довольный. Почему, каким промыслом сей червь земский счастливей повелителя Вселенной?!
Иван отбегал от окна в Святой угол, падал на колени, молился лику Спаса. Но не было от Бога ответа, не поступало извинений за нечаянную несправедливость. Не чувствовалось облегчения душевной скорби, разрешения умственного бремени.
А вот снова доносят: в слободке за Белым городом баба колдует вполне по-доброму, помогает людям, и все довольны. Бабу дома застать не удалось, взяли соседского мужика — одна нога бесчувственна, а раньше не чуял двух. Колдунья его с первого раза на костыль подняла. Со второго раза обещала на обе ноги поправить. Отдали счастливца Егорке, велели пытать честно, без послабления, без скидок на убогость. Егор при трех свидетелях отработал все три пытки. И кнутом мужика освежал, и щипцы каленые на зад накладывал. Все без толку – бесы не изгоняются, правда не узнается. Орет мужик матом, что воистину Божью благодать имеет в правой, ходячей ноге. На второй пытке пожалел Егор мужика, побоялся безногого без рук оставить, вместо дыбы применил заморскую штучку — шпанский сапожок. Надел Егор на немую ногу испытуемого железный разъемный сапог, похожий на разрезанный валенок. Внутри валенка торчали острые зубья. Стал Егор бережно стягивать половинки винтовым воротом. Повернет на полоборота, отдохнет, подходит снова. Мужик после каждого подхода крестился, обливал бороду крупной слезой, клялся в истинности целительных чар, в божественном их происхождении. Иконы, дескать, у бабы висели везде, лягушачьи лапки хранились в лампадке, а веник подъем-травы — за иконостасом.
Пришлось мужика отпустить. Он перекрестился, встал и... пошел! Без костылей!
Вот и не верь после этого в спасительную силу крестного знамения! Или шпанского сапожка...
Иван снова стал ходить из угла в угол, пытаясь тяжелыми ударами каблуков выбить из себя змеиную мыслишку о божественном бессилии.
«Но ведь, людям помогает малое колдовство? Его потом замолить можно, или взять грех на себя? Что мне лишний грех? — а Настю поднять, Федю маленького излечить, разве не долг мой отцовский? Разве Господь не должен заботиться о своих земных чадах, как мы, люди заботимся? До последнего гроша, до последней краюхи хлеба, до последней капли крови, до самой смерти и за порогом ее?» «Что сделаю я для Насти? Все, что смогу! И не в грех мне любая цена!». Так метаться и стенать Ивана заставляло бессилие тройного запара.
Но должен же быть выход? Вспомнилось недавнее волшебное сообщение. В дальних лесах за Волоком Ламским, в дебрях, в стороне от большой дороги будто бы живет старец Феофан, человек праведный, почитай святой. И, верно, — не может мерзкий язычник носить светлое греческое имя — «Радующийся Богу»?!
Феофан умеет видеть прошлое в заказанном месте, прозревает сотни верст и десятки лет. Не лечит тело, но лечит душу. А от души и тело исцеляется.
Еще перед Пасхой Иван приказал привезти Феофана в Москву. Посыльные вернулись в сомнении. Хорошенькое сомнение — не выполнить царскую волю! Они и слабостью в ногах оправдывались, и накатом необъяснимого блаженства, но это и от выпивки бывает. Главное, что извиняло — мольба самого Феофана. Нельзя-де ему от кельи отлучаться. Там его сила, там Божья метка на земле положена. А отъедешь верст на сорок, и все! — нету никакой силы, превратился в обыкновенного старика.
— Что ж мне, самому в дебри волочиться? — вспылил Грозный на докладчика, стряпчего Филимонова.
— Зачем, самому? Пошли разумного человека, пусть он старца испытает, — просто отвечал Филимонов.
— Это тебя, что ли? Или Федьку Смирного? — прищурился Иван, — других разумных у меня, кажись, нету?
— Да уж лучше Федьку, — бесстрашно улыбнулся Филимонов, потирая поясницу.
«Вот таких я люблю, — подумал Грозный о Филимонове, — столько служит, столько видел, а ничего не боится. Даже меня. И Федька из таких. Зла не таят, зависти не держат, вот и не боятся».
Назавтра Федор снова седлал коня. Мерин Тимоха никак не седлался. Пришлось Прохору человеческим языком его упрашивать, объяснять высокую цель поездки. Тимоха как услышал про колдуна Феофана, так и заржал непотребно, стал валяться со смеху. Вот дурак!
Пришел Прошка, привел трех вооруженных ребят от Истомина. Стременные, хоть и были пехотинцами, но верхом скакать, понятное дело, умели. Лошадей им подобрали умных, а еще двух — в запас. На одну были навьючены царские дары старцу Феофану — «дары волхву» — пошутил Прошка. Другая запасная имела на хребте складные носилки, — на случай, если старец согласится ехать в столицу. «Ох, и натаскаемся мы с ним!» — вздыхал Федор.
Уже сидя в седле, вспомнил царский посланец о самом дорогом, что оставлял в Москве.
— Ты, брат Прохор, Истому проведай, проследи, чтоб кормили, не обижали, и вообще.
Закругленной фразе соответствовал округлый жест руки, и конь поспешил к Троицким воротам.
Ехали три дня, три прекрасных летних дня среди лесной зелени. Все вокруг казалось свежим, чистым, хоть июль стоял в середине. Но как же нужно было нажиться, накрутиться, намаяться в Москве, каких страстей насмотреться, чтобы теперь при виде сойки или удода глотать умильную слезу? Москвичи это лучше всех понимают. Не зря они и сегодня – самые восторженные в мире дачники, лесники и курортники.
С дорожными разбойниками Федору повезло. То есть, повезло, что обошлось без них. И это было естественно – по сезону. Летом разбойники оттягивались от Волоколамской дороги на север, к Волге. Там происходил основной разбой.
В первый день Федор и стрельцы добрались до Истры, во второй проскакали урочные двадцать верст и заночевали в лесу. За третий день миновали Волок и остановились в ямской избе. Отсюда поутру углубились в лес.
До кельи старца добраться было непросто. У Федора имелась самодельная карта, писанная по рассказам посыльных. На ней мало что угадывалось. Нужно было найти у дороги «а-агромную!» сосну с крестовой засечкой, отыскать под ней пешеходную тропинку, идти на север, «имея солнце в углу левого глаза». «Значит, не на север, а на северо-запад, — поправился Федор, — эх, нужно было прежних посыльных с собой взять!». Он и просил их, но один сказался смертельно больным, другой страдал трясучкой и отбывал обет в монастыре. Короче, нелегко далась поездка царским слугам. Приходилось искать самому.
Страхи оказались преувеличенными. Сосну обнаружили быстро, на указанном месте стояло огромное дерево – в два обхвата. Таких сосен много ли встретишь? Сосна – не дуб, растет не вширь. На коре сосны со стороны дороги четко виднелся восьмиконечный крест с прямыми перекладинами. Только это не засечка была, а именно крест — деревянный, почти черный, в локоть высотой. Символ страданий Господних был впечатан в кору сосны то ли невидимыми гвоздями, то ли иной силой.
Нашли тропинку, повели коней в поводу, пригибаясь под толстыми, низкими ветвями. Шли с полверсты сквозь бурелом на окраине леса, потом начались непроходимые заросли подлеска, заваленные павшими деревьями. И хоть время близилось к полудню, стало совсем темно, и кони дальше идти не желали. Федор решил сделать привал и подумать, как вдруг одна из лошадей — бурая кобыла — задвигала ноздрями и заржала. Тут и люди почуяли запах дыма и еды. Протащили коней через кусты и вышли на полянку. Посреди обширной лесной проплешины торчал порыжелый утес, почва вокруг тоже была каменистой. Под скалой блестел крошечный, аршинный родничок, рядом горел костер. На черной железной треноге весело булькал глиняный котелок.
Дошли!
Человек показался не сразу. Пришлось Федору крикнуть ласковым голосом:
— Отец Феофан, мы с миром и дарами, за добрым словом к твоим ногам припадаем.
Тогда уж старец, седой и линялый, в серой длинной рубахе, пепельный с головы до пят показался из пещерки под скалой.
Поздоровались длинно и сложно. Федор осторожно передал Феофану милостивое слово царя Ивана. Мало ли как отзовется старец на грозное имя? Нет, ничего, кивнул спокойно. Вручили дары – новую медвежью шубу, мешки с пшеном, гречкой, куски вяленой рыбы, мелкие бочонки несброженного меду, яблоки в патоке. Особо бережно Федор подал червленый серебряный крест. Подавал, как велели: смотрел старцу в глаза – нет ли у него сомнения, не жжет ли крест Господень? Нет. Принял с благоговением, поцеловал, унес в келью.
Гости спросили позволения зажечь свой костер и скоро все вместе сидели на воздухе за чинным обедом. Хорошо было, тихо, спокойно! Старец, и вправду, излучал святость, благодать. «Себе так поселиться, что ли? – подумал Федя, вгрызаясь в копченый бараний бок. – Нет, рано пока. А тут, небось, и осень бывает? Зима. Грязь, слякоть».
К ночи стрельцы разнежились у костра, заслушались соловья, а старец повел Федора по тропинке на вершину скалы. Отсюда не было видно дали, лес стоял выше утеса, но небо казалось ближе, звезды – крупнее, и что-то странное ощущалось – спокойствие, сила.
Федор изложил Феофану царские беды, жалобы повелителя на страх ночной и ужас дневной, сказал о болезни царицы, о страданиях царевича Феди. Старец слушал внимательно, казалось, безразлично. Только на словах о Насте мелькнуло в его лице сожаление. И еще, когда Федор упомянул о «разноцветных» глазах Грозного, Феофан улыбнулся, довольно кивнул.
Он не переспросил, в чем собственно суть вопроса? Что нужно разъяснить? Он просто начал ответный рассказ, и Федор понял, что было странным на скале. Здесь было тихо. И не просто тихо, а совершенно, могильно тихо. Молчали птицы, неслышно качались верхушки деревьев, безмолвно отдыхала под скалой стрелецкая братия, и даже кони не производили обычных звуков.
Старец Феофан говорил тоже тихо, но каждое слово звенело серебряной монетой. Старец рассказывал недавнюю историю о проклятии Бармы и Постника.
Эти два строителя нового храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в Москве меж торговыми рядами Красной площади и Зарядьем, забрели к старцу в начале декабря прошлого, 1559 года. Оба были больны, слепы, просили приюта и упокоения, сулили немалые деньги на заведение нового монастыря. Вот что они рассказали.
Барма и Постник строили по указу царя невиданный храм. Храм посвящался душе Иванова первенца царевича Дмитрия. И хотелось Ивану, чтобы выглядел храм детской игрушкой, чтоб загляделся на него с небес младенец Дмитрий, и младенец Иисус тоже заметил чудо расчудесное. Чтобы вместе пребывали они в игре и святости во веки веков!
Все прочие главные храмы нашей земли строились иностранцами, но разве могут они понять русскую душу, тем более – детскую? Вот русским мастерам этот храм и доверили. В первый и последний раз. О посвящении никто, кроме Бармы и Постника не знал. Считалось, что преждевременное оглашение привлекает сглаз, зависть. Огласили, что храм поставят в честь покорения Казани. Пусть завистники глазят татар. Татарам все равно.
Русские строили пять лет с проклятой, посмертной весны 1554 по проклятую предсмертную осень 1559 года. Получилась истинная игрушка! Пряник! Дети на базарной площади разевали рты, девки роняли слезу, мужики крестились по три раза вместо двух и забывали, зачем пришли в ряды. Резко упала торговля вином.
Храм освятили в престольный праздник Покрова как раз перед осенним богомольем царя Ивана и царицы Анастасии.
А перед освящением, в ночь на 1 октября ближний дворянин царя Данила Сомов и дворцовый человек Егорка вошли в комнату на постоялом дворе в Зарядье. Здесь спали Барма и его помощники, крепко обмывшие немалое царское жалованье. Огромный Сомов прижал Барму к полу. Егор привычным движением вонзил пальцы в глазницы строителя и вырвал сразу оба глаза. Пьяный сон Бармы «в мгновение ока» превратился в слепой болевой шок. Он даже крикнуть не мог под тушей Сомова. Постник пострадал вторым. Остальных не тронули. Их глаза государственной ценности не представляли.
Уже после освящения в городе поползли слухи: «Царь ослепил строителей!». Проверить сплетни любопытным не удалось, потому что еще на рассвете вереница саней вывезла строительную бригаду в лес по Волоколамской дороге. Охрана ускакала, сани с инструментами, царскими дарами, закупленным впрок продовольствием и гвоздями остались изгнанникам. Их бросили с наказом: в Москву не возвращаться. Сани с воющими от боли и обиды созидателями потянулись на запад, в глубь лесов.
А в Москве Иван Васильевич будто бы велел залить глаза мастеров водкой. И теперь лежат эти органы, утраченные по пьянке, в царской сокровищнице, в стеклянных банках. В одной банке глаза карие, в другой – голубые. И гуляет по Москве новая поговорка: «Залил глаза водкой»...
Бывшие хозяева заспиртованных глаз весь октябрь валялись в санях, лошади брели неспеша, и лесные разбойники в ужасе наблюдали страшную процессию, не смея подойти с обычным воровским подвохом. Бригада подмастерьев давно разбежалась, остались только племянники Бармы – поводыри. Они кормили, поили и как могли лечили несчастных. В основном – молитвой и листом подорожника. Ослепленные ехали сорок дней, не разбирая дороги. Потом с месяц жили на постоялом дворе, потом двинулись дальше и у Большой сосны повстречали Феофана. Он «знал» о них и вышел встречать. Так Барма и Постник оказались у старца.
Он читал над ними облегчительную молитву, а они изрыгали проклятья коварному царю. Барма орал, чтоб у Ивана тоже глаза кровью залило. А Постник спорил, что нет, пусть бы он залил себе глаза расплавленным золотом, несытая тварь! Барма уверял, что Иван так поступил не от жадности, — деньги-то им отвалили по уговору да с прибавкой! Но Постник поправлял, что жадность Иванова не в деньгах, а в славе, так будь же ты проклят, Иван Васильевич, и будь ославлен во веки веков! Аминь!
И так легли эти вопли на облегчительную молитву Феофана, так легко взлетели к Престолу Небесному, так по сердцу пришлись Верховному Судье, что под Рождество, к возвращению Ивана Васильевича из монастырских странствий раствор в глазных банках окрасился сам собой. В одной он теперь был золотистый, в другой – кроваво-розовый. Цвет самих глаз угас, поблек. Но и Бог бы с ним, цветом. Но вот же и царица неможет, царевич Федя болен, чудаковат.
Феофан замолчал, хитро посмотрел на Смирного, усмехнулся:
— Видишь, как бывает? А ты не веришь в промысел Божий. Веришь в глупого кота...
Глава 23. Денарий Кесаря
Откуда он знает про кота?», – думал Федя, засыпая под тихими звездами. Птицы уже уснули, зато кони теперь стали слышны. Они переступали с хрустом, фыркали во сне. Костер тоже потрескивал отчетливо.
«А вдруг это не костер? Вдруг это сучки трещат под ногами ночных существ? Кто видел мертвую Купалу? Одно дело топить, другое — вытащить из воды бледную утопленницу, сжечь труп, развеять по реке. Купала не тонет! Оживает! Возвращается каждый год»...
Вот опять треснуло, костер выстрелил искрами в небо, и отчетливо послышались тяжелые шаги. Сердце Федора сжалось онемевшим котенком.
«ТУП-ТУП-ТУП» раздавалось по каменистой почве поляны. Федя привстал.
— Ну, если здесь кто и ТУП, так это ты, Федя, спаси Христос! — Истома вышел из-за скалы, сел и стал отряхивать лапой паутину, мелкие ветки, прочий лесной мусор.
— Чего это ты так топаешь?
— Устал с дороги, брат Федор. Почитай два сорока верст от Москвы и все пешком. Три дня добирался.
— А чего тебе в Москве не сиделось?
— Скучно там, гадко. Без тебя кормят скудно. Все пироги да блины, а настоящей еды не допросишься. Рыба, птица, мясо имеются в достатке, но все выбрасывается свиньям, а благородные персоны вынуждены довольствоваться сущей ерундой — остатками икры, сырым потрохом. В последний вечер вообще холодца подали. Ты знаешь, Федор, как я ненавижу холодец! Бр-р!!! Сопли стрелецкие!
— Но сюда-то зачем? Тут и холодца не дождешься. Мы именно пирогами питаемся. Не мышей же тебе ловить?
— Уж лучше мышами на воле, чем лягушатиной в Кремле давиться! Но, если серьезно, я спешил по государственной службе. Обязан тебя предупредить: не верь старому хрену! Врет, собака преподобная!
— Что врет? Что храм — в честь покойника Димки?
— Это как раз правда. Врет, что наш Государь, царь и великий князь всея Руси, самодержец московский, новгородский, и прочих, сам знаешь, каких, — столь неблагодарен! Чтобы он по-варварски выдрал глаза мастерам, прославившим его незабвенное чадо пред Божьим ликом? А Бог? Он что, этого не видел? У него тоже глаза расцарапаны?
— Нет, брат. Наш Иван Васильевич, и кота не обидит без крайней казенной нужды! А какая тут нужда была? Проклятие на себя накликать?
«Вот, черт! – задумался Федор, — на каком языке мы разговариваем? На русском или на кошачьем? Если на кошачьем, то почему он мне кажется русским? А если на русском, то это кошмар! Получается, Истома знает язык, слышит и понимает все дворцовые разговоры! У царя бывал! В приказных избах ошивается, с Филимоновым на пытках греется у раскаленных щипцов! С Прошкой гуляет. А ну, как он выбалтывает тайны кошкам на помойках? А те кошки? – тоже могут по-русски говорить? И кому они пересказывают Истомины сказки? Ужас! Нужно будет за Истомой присмотреть». – Федор вздрогнул и опомнился.
— Понимаешь, брат Истома, эти строители не успели храм Покрова закончить, а уж по Москве гвозди скупали, новые инструменты кузнецам заказывали. Собирались строить что-то еще. Есть у нас опасение, не к Владимиру ли Старицкому подряжались? Князь Владимир пребывает в досаде. Хотел он стать великим князем еще семь лет назад, когда царь Иван болел. Но не вышло, Бог не допустил. А теперь, когда храм Покрова построен, Бог тем более Ивана хранит. Вот Владимир и замыслил отстроить свой храм, — еще выше, еще краше, чтобы Бога в свою пользу склонить. Так что, Иван Васильевич имел резон мастеров ослепить.
— Ты, Федя, в своей библиотеке поменьше на арабские сказки налегай, тебе эти Синдбады и бабы гаремные ума не добавят. Ты знаешь, во что храм Покрова обошелся? Нет? А я знаю, но не скажу. Это царева тайна. Могу только намекнуть: все сундуки Ивана Великого, царского деда теперь пусты. В саженном сундуке из-под новгородского золота угнездилась противная коричневая мышь с несметным семейством. Уж я к ней подбирался и так и эдак, но увертлива, тварь, сундук окован крепко, щелей нет, лапу не засунешь. Однако, если прихватить с поварни молотого перцу, да смешать с равной долей шафрана, то...
— Не отвлекайся, про храм давай!..
— А что храм? – морда Истомы потеряла хищное выражение, — он стоит столько, что ни в старицких землях, ни в землях рязанских и прочих не построят такого же храма, как храм Покрова. Даже если продать эти княжества на корню в Англию или Голландию с князьями!
— Но если Иван не велел ослепить этих зодчих, так значит, и проклятия не было? За что же царская семья страдает?
— Да, это вопрос! Кошачья царица совсем плоха!..
— Какая-какая? Чья царица?
— Ну, наша, Кошачья царица — Настасья.
— Почему ваша? Настасья Романовна — наша государыня...
— Была бы ваша, имела бы вашу фамилию — Федорова, Михайлова, Смирная. А она — Кошкина, так что, не спорь. Впрочем, не в этом суть. Понять бы причину напасти, и лекарство бы сыскалось.
— Так в чем причина? Как узнать?
— Думай, Федор, ду-у-май! И вставай, Федор, вста-ва-ай!
Федор вскочил, было совсем светло. На костре что-то кипело. Стрелец Матвей Горемыкин звал завтракать.
Ели не спеша. Вокруг разгорался день. Старец выглядел обыкновенным дедом. Будто он не хозяйничал в здешних местах, а приблудился к милостыне ради Христа.
В природе тоже не ощущалось тайных чар, все растаяло прошедшей ночью, упорхнуло с вершины скалы, затерялось в верхушках елей.
Поели. Феофан впервые зазвал Федора в келью. Пещерка в пару квадратных саженей, вырубленная в меловой скале, осветилась сальной коптилкой позеленевшей меди. По стенам в неглубоких нишах лежали книги, стояли многочисленные иконы, виднелись горшки, пучки трав, посуда. Сели на лавку. Феофан не спешил говорить, а Федору не хотелось. И пока Феофан молчал, в полутемной келье сгустилась звенящая тишина; затхлый воздух, отравленный коптилкой, наполнился силой, напряжением. Казалось, только двинься, и обожжешься об него, как в сухой парилке.
— Есть и у меня вопрос, Федор, — медленно начал старец. – Что это за денежка у тебя рядом с крестом? – Феофан смотрел в разрез Фединого летника, где кроме рубахи ничего видно не было.
— Это монетка с царской свадьбы. Поймал, когда молодые себе путь осыпали.
— А что ж она не на одном шнурке с крестом? – спросил Феофан, и сам ответил, — а! – не держится!
Федор оцепенел на своем конце лавки. Правда была Феофанова! Когда отец сгинул под Казанью, и Федор в 11 лет стал «хозяином» дома, он первым делом забрал у матери свою монету, — «царское чудо». Сам пробил в ней маленькую дырочку, подвесил на шнурок креста. Монета потерялась к вечеру. Видно, перетерлась кожаная тесемочка, продетая в отверстие. Федя очень переживал об утрате. Монета, однако, нашлась через несколько дней в заднем углу горницы, напротив иконостаса. Тогда Федор выпросил у кузнеца кусочек проволоки и несколькими витками привил монету на шнурок. В тот же вечер, когда молились на сон грядущий, когда поминали отца, когда просили у Господа покоя его душе, что-то охнуло над головами Федора и матери, будто ударил приглушенно Большой колокол, погибший в пожаре после царской свадьбы, и в ответ Благовестнику что-то звякнуло у колен. Федя глянул в пол и увидел: царская монета вертится волчком, а нательный крест вращается на шнурке в противоположную сторону! И все туже завивается шнурок, все меньше свободного места между его жгутом и шеей!
— Господи! Охрани чад своих! — выдохнула мать, и крест прекратил вращение. Монета споткнулась, описала несколько звонких кругов и покатилась прочь от святого угла.
Федор не стал подбирать ее до утра, утром продел в дырку отдельный кожаный шнурок, носил подвеску ниже креста, снимал перед посещением храмов. Чтоб не потерять.
Еще одно забавное свойство обнаружилось у монеты. Она никогда не соприкасалась с крестом, как ни прыгай и ни вертись. Ни разу не раздалось под рубахой звона серебра о золото! Впрочем, что ж тут удивительного? «Чудо»!
Не удивлялся Федя и тому, что самые трудные задачи решал он, когда монета была надета. А снимет подвеску, — дурак-дураком, обычный московский недоросль. Особенно четко это проявлялось в первые монастырские годы. А уж крест снимать Федя тогда не пробовал, боялся!
Тут Феофан прервал воспоминания.
— Ты монеты не бойся, бойся людей! Деньги от них силу имеют, у них труд забирают. Могут святость принять, могут погибели набраться. Все от человека зависит. Если бы среди Иудиных сребренников не затесался денарий кесаря Тиберия, так может, и поныне Иисус по земле ходил?! И что за монеты разбрасывал тогда царь Иван, кто знает? Какая тебе досталась? Сколько в ней добра, и сколько зла? Мирный ли труд ее наполнил или кровавый разбой? Даже мне не видно. Ты бы испытал ее на досуге.
— Как испытать? – проговорил Федор.
— Да хоть в крест ее перекуй, или в храме освяти.
— А вдруг не освятится?
— В малом храме не освятится, в большой ступай!
Голос Феофана громыхнул многоугольным эхом, и Федор очнулся. Он сидел, прислонившись к холодному камню пещерной стены. Старец исчез. Дерюга, прикрывавшая вход, была откинута, и солнце освещало на земляном полу правильный круг.
Федор пришел в себя только на Волоколамской дороге. Здесь, едва миновали огромную сосну с крестом, его собственный крест шевельнулся под рубашкой, и в голове стало ясно и хорошо.
Что, собственно, оставалось от поездки? Весть о проклятии Бармы? Сказ о залитых глазах? Это рассказывать царю? А голова уцелеет?
Может и уцелеет, Бог даст. Снять монету к докладу? Небось, кресту без нее легче душу оборонять? Вряд ли. Все в крестах ходят, а головы теряют исправно, как раз по крестовый шнурок!
Ночевали в лесу. В свете костра Федор снял монету и долго смотрел на непонятные узоры тыльной стороны, потом всматривался в затертый профиль на лицевой. Черт лица было не разобрать, просто угадывалось, что это голова человека с венком, короной или шапкой на голове. Стертые буквы по кругу не различались вовсе.
Вот ведь, жил человек, правил страной, всем миром, печатал монету, покупал, продавал, жаловал, давал в долг, взымал долги и налоги. И нет ничего. Остался только груз добрых и злых дел, слившихся с вечным золотом.
Федя вытащил кинжал. Осторожно, каллиграфически вывел на тыльной стороне крест. Потер монету между пальцев, вымазанных сажей печеной репы. Крест стал черным по золоту. Фигурки орнамента разбегались от него в разные стороны.
Утром поехали дальше. В Истре долго ждали большую лодку для переправы коней, брод искать не решались. Уже на своей, московской стороне садились в седла, и Федор вспомнил о монете. На скаку достал ее из-за пазухи, осмотрел, обреченно хмыкнул, бросил обратно.
«А как ты хотел? Конечно, креста на ней нет. Монета языческая, скорее всего римская. Креста не выносит. Или кинжалом нельзя наносить. Грешная вещь – кинжал. Поискать бы в библиотеке гравюры монет. Хоть узнать, чья».
— Денарий Кесаря! – проскрипела огромная ворона на придорожном дереве.
Глава 24. Успение
Федор вернулся из лесу разбитый. Все болело, как у старика. Не иначе, чертов Феофан переправил с ним в столицу часть своих болячек. Следовало доложиться Грозному, но ноги не шли. Прошка сообщил, что царь и сам никого не принимает, страдает, буйствует.
«Было б с чем идти – можно и ползти», — подумал в рифму Смирной и впал в болезненный сон. Этот сон затянулся почти на месяц. Казалось, о Федоре забыли. Богоявленская братия за ним, конечно, ухаживала, а из дворца приходил только Прохор, да пару раз Глухов.
Дворцовые новости в келью не долетали, их приносил Истома. Однажды он вернулся с дворцовой поварни, залез к Феде под одеяло, и они стали разговаривать. Говорил, в основном, кот, потому что у Феди губы были склеены лихорадкой.
— Дело наше дрянь, Федор Михалыч! Кошачья царица плоха. Не помогли твои травы, а Феофановы сказки и подавно не в помощь. Хорошо, что ты их не сказывал. Но если царица помрет, это полбеды! Царь погорюет, да успокоится. А не помрет кошечка наша, то всем нам конец! Намяучит она царю всяких гадостей, и станет он жить не своим умом, а Кошкинской дурью, — еще хуже накуролесит.
— А ты-то как думаешь, выживет?
— Ох, мно-ого я ду-ум переду-умал, а ничего не наду-умал, — нараспев затянул Истома, — не нашего ума это дело!
— А как же узнать?
— Узнать этого нельзя, но понять – можно. По дуновению ветра, по форме облака, по свету Великого Солнца! Мы же в России живем, Федька! – Истома перешел на восторженный речитатив, — у нас в России жизнь, знаешь какая?! Сытная, счастливая, веселая! — когда войны нету. Вот разобьем Ливонию, разгоним татарву, такие времена настанут! Реки потекут молоком, — Истома облизнулся, — берега раскиснут киселем, карась и севрюга будут прямо в молочных реках мочиться... э-э, — вымачиваться, куры расплодятся здоровенные! Бабы будут рожать только по субботам, зимы кончатся вовсе, посты отменятся! Солнце засияет ярко, что твоя монета!
— Это бы хорошо, — пробормотал Федор, — только боюсь, в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. Но как узнать, помрет ли царица Настасья?
— Ну, ты дурак! – вспылил Истома и царапнул Смирного в бедро, — я тебе два раза намекал, остолопу, — спрашивай по монете! Узнавай у Великого Солнца! Зря тебе русалка прививку делала?
— Какую прививку, где? – прохрипел ошеломленный Федя.
— В кустах. От детской глупости! От ерунды на православном масле! – рявкнул кот, прыгая в угол за мышью.
Смирной проснулся. Была ночь. Поднялся с постели, выковырял из печки уголек. Сел за стол, накарябал в двух углах столешницы буквы «М» и «Ж», снял с шеи монету, повесил на палец. Долго сидел, подперев больную голову. Монета не шевелилась. Наконец до Феди дошло, что на улице ночь, то есть, нету солнца! – ни простого, ни Великого. Смирной вернулся в постель, забылся болезненным сном.
Утром Прошка пришел его проведать, принес пирог с мясом, бок стерляди в тесте, легкое вино. Больной сидел за столом, сквозняк шевелил его засаленные волосы, скрюченная ладонь подпирала подбородок. На оттопыренном мизинце ладони Прошка увидел кожаный шнурок с золотой монеткой. Шнурок казался туго натянутым, монетка висела недвижимо, солнце заглядывало в келью сквозь стрельчатое оконце узкой полоской света.
Федор не обернулся на стук двери, он глядел на дальний край стола, где солнечный зайчик дрожал в такт сердцу на букве «М».
— Мертва будет...
— Кто мертв? – удивленно спросил Прошка и тут же понял, — царица Настя? Почем знаешь?
Заливной осмотрел «гадальный станок», почесал юную лысинку.
— Это тебя Феофан научил?
— Не-а. Деды в поганой деревеньке. Но монетка – моя, из царских рук получена. Знать, правду говорит.
Прошка качнул пальцем монету. Она заболталась во все стороны и уж больше не отбрасывала солнечный луч ни на «М», ни на «Ж».
Прохор подтвердил: царица Анастасия Романовна чувствует себя совсем плохо. Она уже перестала есть, почти ничего не пьет. Царь обезумел с досады.
Скрытое поражение внутренних органов, поныне уносящее миллионы жизней, убивающее юных красавиц и мерзких старух, не пощадило и его первую любовь — великую государыню. И вот же обидно! Для любой внешней нужды, любой царской прихоти не существовало пределов. Пожелай Настя жемчуга или каменьев драгоценных, и сотни крепких мужиков отдали бы жизнь в шахтах, в плаваньях, в походах. А здесь ничего не получалось! Вот, казалось бы, так просто – идут через двор здоровые девки — стряпуха, крестьянка, дворянка. А хоть и боярыня. Цена их жизни – пыль на сафьяновых сапожках. Возьми их нутро, да царице вставь! Не согласятся? А кто б их спрашивал?! Так нет! Нельзя! Не придумано людьми, не даровано Богом...
Царь нахамил Богу в церкви при свидетелях. Велел выкинуть к свиньям запас кровохлебки, босянки и уздеца. Смирной не зря пил пробы трех бесполезных трав. Теперь, если после них и Феофана жив останется, пусть живет. А сдохнет, — туда и дорога!..
Переменили лечебный курс. Привезли с Белого моря моржовый клык — самое мощное из проверенных противоядий. Терли клык в муку, запекали в малый колобок. Царица не смогла его проглотить. Размешали муку в клюквенной водичке, влили больной в рот. Ждали улучшений три дня – становилось только хуже. Царь отменил все народные средства, разогнал знахарей, двух самых медлительных зарубил собственноручно. Трупы скатились с Красного крыльца. Убирать их боялись.
Снова позвали иноземных докторов.
Первым прибежал немец Елисей Бромелиус, замер в углу. К осмотру приступать не торопился — не раз их проводил, но теперь без коллег выступать не хотел. Дело шло к развязке, — не крайним же становиться! Четыре неразлучных англичанина — Стэндиш, Элмс, Робертс и Фринсгейм — появились одновременно. Фринсгейм выглядел бледнее всех. Он слыл за аптекаря, от него ждали чудодейственных лекарств, и он был первый кандидат в подсудимые. Все помнили лихую судьбу венецианского магистра медицины Леона, которого бабка царя Софья Палеолог привезла в Москву для личного пользования, а потратила впустую. Леон должен был переводить женские романы Константинопольской библиотеки, составить по ним «Трактат о прелестном воспалении чувств» и пользовать Софью от воспалений телесных. Но государь Иван III Васильевич велел венецианцу лечить старшего сына Ивана. Князь Иван благополучно скончался. Леону грубо и грязно оттяпали голову. Так что, теперь московские лейб-медики были очень сдержанны в прогнозах и диагнозах. Они лекарств уже не предлагали. Говорили о терапии свежим воздухом, о необходимости переждать кризис. Упоминалось также имя Божье. Англичане клеили к нему слово «destiny», а немец стрекотал «heilige unterstutzung». Слышать это из неправославных уст было странно. Пока врачи спорили на смеси трех языков, ключник Анисим Петров стоял на страже у спальни Настасьи и не скрывал слез. На все вопросы отвечал одинаково: «Ее так рвет!».
Только это и доносили царю, а рассуждений пяти эскулапов он слышать не хотел. Врачей выгнали в шею. Сомов с Егоркой шумно выволокли их на Красное крыльцо, громко матерились, но на ухо изгоняемым шептали ласково: «Потерпи, голубчик, царскую волю». Спуск со ступенек прошел без особых повреждений. Только Фринсгейм споткнулся о труп колдуна и расквасил нос.
Все! Дальше ехать было некуда. Позвали митрополита Макария. Больной старец приполз из своих палат. «Врачу, исцелися сам!», — вспоминали придворные древнюю поговорку, глядя, как Макарий пытается удержать крест в вертикальном положении.
Вечером 6 августа Грозный строго спросил у митрополита, каким святым ему помолиться? – он собирался отстоять всенощную в Благовещенской церкви. Просьба была странной — сегодня отмечался великий день Преображения Господня. Молиться следовало непосредственно Христу, но Грозный службу пропустил.
— А? – переспросил Макарий, прикладывая сухую ладошку к глухому уху, — молиться завтра можно, а молоко вкушать – грех. Среда...
Макарий и вовсе забылся — какая там среда! — тянулся строгий Успенский пост, молоко запрещалось автоматически.
— Какие в августе святые?! Чья молитва доходчивей к Господу?! – заорал вне себя Грозный.
— Ах, в августе? В августе-то мы готовимся возликовать на Успение пресвятой Богородицы, — через неделю, в четверг 15-го числа. Когда преставилась непорочная Богоматерь, вся Вселенная наполнилась гомоном...
Грозный взвыл от горя и страха, прижался пылающей головой к прохладной каменной стенке.
Данила Сомов надвинулся на митрополита и спросил, какие еще конкретно есть на днях святые, и что у них были за дела? Митрополит радостно закивал:
— А 29-го августа – день усекновения честной главы Иоанна Предтечи происками блудливой Саломеи и ее матери...
Грозный не дослушал истории своего тезки. Его собственная голова поплыла отдельно от тела и ударила дубовой колотушкой в сосновый пол. Царя подняли, почти волоком доставили в спальню. Сомов выгнал попов, спальника, расшугал подьячих. Сам принес Ивану квас, морс, медовуху. Положил на воспаленную голову полотенце с завернутыми кусочками льда. Тем не менее, около полуночи Иван встал с постели, спустился в Благовещенскую церковь, прошептал Сомову: «Очисти!». Данила понял, что Иван просит очистить храм не от бесов. Он буквально очистил помещение. От себя и ночного сторожа Поликарпа.
Грозный не пошел на царское место, рухнул под алтарь. У него это вышло некрасиво, неправильно. Он не на колени опустился, а стек на пол враскорячку. Поза царя напоминала не кающегося грешника, не молящегося страстотерпца, а безжизненный труп. По таким позам опытные санитары различают покойников среди искалеченных, но живых воинов на поле брани.
Иван начал молиться. Слова молитвы не соответствовали каноническим текстам, они вообще не относились к какому-либо известному языку. Так мычали, пожалуй, безъязыкие жертвы землетрясения под обломками Вавилонской башни.
Иван просил бог знает чего. Нет! Как раз Бог и не мог разобрать, чего просит этот сильный, почти здоровый вождь большого народа, не самый последний из его подданных. А именно до Бога хотел Иван докричаться. Ну, хорошо, — домычаться.
Смысл молитвы, рвущейся из сердца Грозного, стал ясен, наконец, Высшему Существу. Ведь оно тоже сердцем слушает, а не ушами. Вот что понял Господь.
Иван каялся во всех мыслимых и немыслимых грехах. Он признавался в регулярном пьянстве, множественном прелюбодеянии, нескольких эпизодах содомии. Тут же грешник воспевал свою любовь к Анастасии и винился в ее болезни. Это Богу было понятно. Любовь к женщине, оскорбленная любовью к пьяным отрокам из младших псарей, могла спровоцировать любую болячку. Хорошо хоть Настя собственноручно его не прирезала!
Бог также ждал, что Иван покается в кровожадности, мстительности, непомерной жестокости. Иван про это молчал. Некогда ему было заниматься ерундой, сбивать Господина с главной темы.
Но именно эти грехи волновали Бога! Он и так терпел из последних сил. Кровавые делишки царских предков, в частности, его деда — Ивана Горбатого должны были искупаться до седьмого колена, а сейчас едва третье длилось. Но это кривое колено только множило груз грехов! Вот сегодня, например, Грозный велел сжечь руки московской красавице Марии Магдалине. Эта крещеная полька душой и телом служила царскому трону в лице окольничьего Алексея Адашева. И вот, пожалуйста! – Адашев сослан в войско, Мария – в темнице, пятеро ее детей – в яме, причем, даже не кремлевской! Ну, и отрубил бы Грозный Марии руки за предательские манипуляции. Нет! Велел сжечь, не отделяя от тела! Палач Егорка как вышел из пыточной каморы – весь в женском дыму, так и слег. А ведь, он у нас нехилый парень!
Грозный о душегубстве не беспокоился, и Бог не стал ему отвечать, отвернулся в недоумении.
Иван снова впал в беспамятство. Данила Сомов лишь через час посмел тронуть его тело. Подобрал, обрызгал водкой, отнес в спальню. Вызвал усиленный наряд – Истомин с Штрекенхорном прибыли лично. Данила взял бердыш, сел под дверью и забылся на нервной почве.
Когда в седьмом часу утра седьмого августа несколько самых верных, но мелких придворных, в том числе — Прохор Заливной и Анисим Петров прибыли к царю с горькой вестью, Сомов их не пустил, встретил в штыки. Он боялся лишиться царя, что не мудрено было у Бога после минувшей ночи. Возник тихий спор: говорить или обождать.
Иван, однако, вышел на звук и все понял. Что-то щелкнуло в его голове, защитная реакция увела истерику вбок и переключила с жертвенной мелочевки – Заливного, Петрова, Сомова, Штрекенхорна, Истомина – на тех, кто ими жертвовал.
— Где мои бояре верные! – заревел Иван. – Что ж они меня покинули в годину горькую?!
Басовый вой раненого зверя перемежался бабьими всхлипами. Казалось, прародительница Ярославна причитает над прорехами в битом войске.
— Где князь Мстиславский? Где Бельские? Где Ховрины?...
Сомов ждал, что сейчас прикажут казнить дезертиров всем списком, и подобрался по-собачьи. Штрекенхорн сжал оружие из привычки, по адреналиновой зависимости.
Но дело, слава Богу, опять кончилось обмороком. Видно, Господь правильно взвесил последствия, точно рассчитал повадку своего ставленника, сбил волну хоть на несколько дней.
Глава 25. Сговор
У нас в России со смертью члена царской фамилии все придворные втягиваются в сложную игру, которая внешне напоминает хоровод, но по сути это «Кошки-мышки». В игре четко выделяются две категории игроков. Активная группа пытается, не смотря на траурные настроения, гнуть свою линию, подкапывать, выискивать, рвать одеяло на себя. Пассивные, напротив, тужатся изобразить сочувствие без претензий на карьерные сдвиги. Их мотивы – забвение прошлых грехов, избавление от опалы, страх горячей руки. Они бы рады и вовсе не попадаться на глаза, но затаиться не могут, — вдруг начальник припомнит, кто пренебрег скорбью.
Вот и кружат бояре, дворяне и примкнувшие к ним цыгане по дворцовым палатам, переходам, соборным и базарным площадям. Лица у всех предынфарктные, но грозные! Они готовы всеми членами отстаивать интересы осиротевшего престола!
Сильные и слабые в своем хороводе обречены на смертельную лотерею. Именно из их бобровых шапок в любой момент может быть выдран клок шерсти – жертвенный вклад в успокоение, фрейдистскую разрядку пострадавшего властелина.
В этот раз было и вовсе опасно. Государь подозревал всех окружающих в отравлении и находился вне здравого ума, вне элементарной логики. Он мог покалечить друга и пролить слезу в сорочку врага. Все население великой столицы превратилось в испуганное стадо, гонимое по кругу среди виселиц, плах, скотобоен.
Федор Смирной тоже поднялся с постели. Ему следовало околачиваться либо по месту прописки – среди монахов Богоявленского монастыря, либо рядом с благовещенским причетником отцом Поликарпом, либо на побегушках в Дворцовом приказе. Федор выбрал последнее. Он перехватил взмыленного Прошку, предложил помощь в похоронных хлопотах. Заливной благодарно прослезился и послал Смирного по длинному кругу: «Проверить у каменотесов белокаменный гроб, потом сказать Филимонову, чтоб усилил надзор за узниками, а Истомина настращать, чтоб не пили сволочи хоть в такой день! Потом... – нет, сначала, чтоб не пили, потом к Филимонову, потом в гроб... тьфу! – за гробом».
Федя поплелся с деловым видом в помещение охраны. Здесь царил ужас отправки в Ливонию. Стременные обреченно соглашались считать смерть царицы упущением в караульной службе. Ведь проскользнул же какой-то гад с отравой?! Все об этом говорят. Некоторые стрельцы – из тех, кто побывал в оцеплении на казнях, — были рады топать в Ливонию. Все лучше, чем на Болото! Другие норовили-таки выпить от недоумения. Смирной передал Истомину приказ «Не пить!». Полковник уронил корчагу с квасом.
— Квас и воду можно, — милостиво разрешил Смирной, выходя через левое плечо.
Вот ведь, счастливое время! Можно сказать, — момент истины. Никто не спрашивает твоего чина, не возражает, не интересуется, от чьего имени ты, пацан, раскомандовался!? Все понимают: имеешь право!
«Хорошо бы, всегда похороны были», — ворчал про себя Федька. Он не вполне еще выздоровел на голову.
Филимонов сидел в своей страшной каморе грустный. Егор сжался в уголке. Не верилось, что такой большой парень может свернуться в столь незначительный клубок. При виде Смирного оба вздрогнули. Филимонов подумал, что сейчас будет объявлена поголовная казнь заключенных. Егора передернуло от воображаемых форм казни.
Федя передал повеление крепить бдительность. Егор облегченно потопал проверить замки. Филимонов сердечно посетовал Феде, что неплохо бы напиться вдрызг, но служба не позволяет. Потом добавил: «И печень».
Теперь Федор собрался к гробовщикам. Идти было недалече – гробы высекали в иконописных палатах. Преодолеть Красную площадь можно и пешком. Но это, смотря в каком направлении. Если ты, к примеру, волочишься от Неглинки в Зарядье или хочешь припасть к Покровской паперти, то давай, хромай! А если ты следуешь из Кремля через Спасские ворота и пересекаешь площадь по косой, то приличнее тебе, дворянину двигаться на казенном транспорте. Федя зашел в конюшню, свистнул молодецким посвистом. На свист откликнулся его боевой конь, участник двух походов сивый мерин Тимоха – одно ухо рваное, во лбу звездочка. Мог Федя и настоящего коня прихватить, но, во-первых, Тимоха был его другом, а во-вторых, – вы поняли, — Федя не из бахвальства на коне выезжал, а для исправности гробового дела.
Дело оказалось непростым. Мастера объявили решительно, что готового гроба нет. Никто и в мыслях не держал, что царица может помереть! Такая здоровая, пресветлая госпожа! Никакого заказа не получали!
«Зря я взял Тимоху, — подумал Смирной, — боятся конного, будут придуряться».
Фокус состоял в том, что белокаменный, внешний гроб обычно делали по размеру внутреннего, дубового. А размеров этих у мастеров, естественно, пока не имелось. И не принято было торопиться с каменным гробом! Еще узоры, надписи полагалось согласовать, место установки определить. Был бы это царь, — не дай ему, Господь, безвременной кончины, а дай ему, Господь, многие лета! – так место было бы известно – Архангельский собор. Цариц же хоронили в монастырях. А там условия разные. Опять же, все зависело от намерений вдовца. Будет ли хоронить в соборных приделах, в отдельной усыпальнице, в подземной каморе или как? Короче, место надо знать, а то потом гроб туда не втиснешь. Или уронишь.
— Но гроба-то все равно нету, господин...
— А это что? – Федя заметил в углу аккуратненький такой, беленький саркофаг.
— Это старой княгини Щенятевой гроб. Стоит уж ровно пять годков. Заказ делали загодя. Тогда на Петрово заговенье в день всех святых они покушали грибков июньского сбору, думали — пора... да вот, — никак не мрет сударыня.
Федор осмотрел белый прямоугольник, кивнул. Обернулся к мастерам. Они стояли насупившись, в руках держали инструменты. Гроб отдавать не собирались. Федя улыбнулся в кислые рожи, перекрестился и как бы облегченно выдохнул.
— Ну, слава Преображению Господню! А то я уж не чаял вас, господа умельцы, в живых числить.
Мастера обморочно подсели.
— Очень скорбен государь. Казнит за любое противоречие. Желает гроба.
Последняя фраза прозвучала двусмысленно, но мастера ее не заметили, засуетились, стали предлагать «боярину» вино и сало с копотью. Хоть и пост.
В суете вокруг бутылки выяснилось, что нужно узнать размер деревянного гроба, он не должен превышать, э-э... — подмастерье побежал с матерчатым аршином к белокаменной глыбе, вернулся, — ... двух аршин, ... э-э..., — снова убежал, снова вернулся, — ...и семи вершков! Это в длину!
Подмастерье сбегал еще и добавил, что в ширину нельзя выйти за 12 вершков. Федор записал цифры на куске дощечки. Мастера уважительно наблюдали.
— Теперь надпись, — старший мастер подвел Федора к саркофагу, — тут написано из Апокалипсиса о восстании из мертвых. Пожелает государь оставить? Если нет, то мы срубим надпись за день. Зачистить место — еще день уйдет, новую выбить — дня три. Можно и после погребения доделать, но не побеспокоит ли покойницу стук рубила? Многие возражают... — Нет, не покойные, — родственники.
Смирной вернулся в Кремль. Прошка на свой страх решил пока не трогать надпись. Размеры отдали «дубовым» гробовщикам. На этом суматоха несколько стихла.
Был уже вечер. Вышли подышать. В низких окнах черной гридницы виднелся свет. Прохор потащил Федю внутрь, — хотел узнать у Филимонова последние вести по казням. Казнь при дворе Грозного была точным индикатором царского тонуса.
Тонус оказался чуть выше нормы, но в пределах разумного. То есть, поголовных, скоропалительных казней не затевалось: только в воскресенье, на другой день после похорон предстояло кончить Марию Магдалину с семейством — всего шесть душ. Мария была обречена. Детям ее – пяти пацанам от 7 до 16 лет — тоже не жить. Не потому, что есть доказательства вины, просто им не повезло. Кажется, Грозный четко решил, что виновны Сильвестр с Адашевым. Теперь он казнит всех, кто был с ними рядом, потом доберется до самих ссыльных.
Филимонов пренебрег печенью в пользу рассудка и теперь делил с Егором винную четверть. Федя и Прохор подсели на лавку. Следовало сказать что-нибудь для разрядки, и Прошка вывалил сложную мысль, что Государь по примеру римских цезарей понимает казнь грешника как отъем жизненной силы. Эта сила переливается в праведника и улучшает общественную нравственность. В этом — смысл человеческих жертвоприношений.
Егор слушал уважительно. Его удивляло, что простое плодово-ягодное вызывает такие откровения. Обычно им освежали обморочных испытуемых, способных только на мат.
А Филимонов горестно подсчитывал, сколько душ придется укокошить в этот раз для облегчения нашего цезаря.
— Найти бы такого вора, чтоб уж покаялся, так покаялся — за всех и во всем! — невольно пробормотал он.
Мысль присутствующим понравилась. В целом русские не очень жестокий народ.
— Воров полно. Вон в каждой клетке сидят. Все уверены, что ради нового успения им головы не сносить. Примерно половина — действительно не сносит. Легко могут согласиться на принятие вины.
— Ради общего дела могу любого уговорить, — впервые выговорил Егор.
Возникла пауза. Потребовалось еще по две плошки вина на раздумья о круговой поруке. Соглашение четырех человек тянуло на заговор. Страх тлел в желудках, и молодое яблочное никак его не гасило. Но ничего, преодолели.
— Я вот что думаю, господа. Магдалина уже за себя отмолилась. Теперь за детей молится. Если пообещать ей облегченье детям, примет все.
— Не отмажем детей, Ермилыч! — Прохор уже выпивал вне очереди и крепко напрягал раздумьями свою лысину.
— А чего отмазывать? Давайте скажем, что дети кончились в пытках.
— А трупы?
— В монастырских скудельнях наберем.
Схема была готова. Оставалось договориться о самом неприятном, о невыдаче друг друга.
Поклялись! — под последние капли яблочного! — а ведь могло и не хватить! — что тогда?
Глава 26. День открытых дверей
Магдалину уговаривали по очереди. Сначала Егор вполне безуспешно разжег очаг, раскалил свои кочережки, осветил гридницу зловещим красным светом. Но Мария уже не боялась пыток. Ее руки, обернутые тряпками, болели непрерывной, огненной болью, так что ее пытка была всегда при ней. Егор убрал кочережки и стал ухаживать за Марией. То воды ей подаст, то соломку в каморке поправит. Особенно страшно стало Егору, когда он услышал рассуждения Смирного о совпадении судеб и имен. А, ведь, правда! — не случайно имя Мария легло на прозвище Магдалина. Не случайно полька блудила по Москве, как библейская дева на Иорданском пароме! Не случайно должна была принять муку за весь прочий народ! А когда Егор услыхал, что Магдалина Иорданская — святая и равноапостольная, то есть своим раскаяньем внесла всемирный вклад в просвещение человечества, он вовсе покрылся мурашками. Добила Егора фраза Филимонова, что польскую ведьму схватили две недели назад, как раз в день святой Магдалины — 22 июля. Егор поспешил убраться за новой винной четвертью.
Смирной с Магдалиной поговорить не смог. Он только глянул на нее и в ужасе вышел: как могут люди быть такими жестокими! Как смеют они истязать слабое существо? Пусть даже и ведьму?
Пришлось Филимонову все взять на себя.
Он не стал выстраивать логических цепей, сказал прямо, что нужно тебе, Мария пострадать за людей. Признайся в заговоре, прими кончину, а я тебе сделаю послабление. Какое захочешь.
Филимонов сделал паузу и уже знал, чем она будет заполнена. Ведьма захрипела, завизжала, что не верит, ненавидит, желает мучителям адского огня, будьте вы все прокляты! Но проклятия прерывались слезами, Мария прижимала бинтованные руки к груди, поднимала глаза к небесному потолку и была похожа на кающуюся грешницу с картины. Среди ее воплей, всхлипов, польских ругательств проскакивало только одно слово, которое уж точно предназначалось Богу: «Дзеци!».
Но Филимонов присвоил слово, ибо не было сегодня у Бога времени заниматься рядовой потаскушкой. У него цари умирали и бесновались!
Филимонов подошел к Марии, присел на колени, увернулся от кровавого плевка и сказал веско и четко: «А детей твоих я спасу».
Опять потянулась пауза. Мария не верила.
Но все ее существо хваталось за соломинку, за малую, предательскую надежду, что вот этот человек, московский изверг, мучитель, убийца, истязатель сотен и тысяч людей, коварный обманщик и провокатор на этот раз говорит правду.
— Как докажешь? — Мария теперь смотрела на Филимонова страшными глазами и если бы могла видеть себя в зеркале, то ужаснулась бы силе этих глаз.
Филимонова передернуло. Он вытащил из-за пазухи крест и поцеловал.
— Мало! — крикнула Мария. Она еще несколько раз пробормотала «мало!» и, наконец, сказала спокойно:
— Хочу их видеть на воле. Всех!
Дальше разговор приобрел вполне деловой характер. Казалось, эти двое договариваются о покупке пшеницы, а не о казни одного из них.
Филимонов обещал Марии быструю, безболезненную смерть.
Мария, страдая руками, не хотела говорить о такой мелочи. Требовала, чтобы ее дети, все пятеро, были свободны и видны с помоста во время казни.
Филимонов, по-доброму улыбаясь, отговаривал женщину от такой глупости. Ребят могли узнать в толпе, там будет полно стражи, приказных ищеек, московского сброда. Их снова сдадут за полушку!
Этот аргумент подействовал. Мария еще какое-то время сомневалась, потом согласилась. Потребовала свидания с детьми и страшной клятвы Филимонова при двух свидетелях.
Филимонов кивнул и предупредил, что к покаянию Магдалину подготовят, каяться придется тоже при свидетелях, но посторонних. Приблизительно определили судьбу детей. Сначала их спрячут в лесу, потом отправят с войском в Ливонию или в Новгород — поближе к милой Польше. А там, как Бог даст!
Смирной и Прохор побывали у Магдалины, поклялись на крестах, что выполнят обещание Филимонова. Была глубокая ночь, когда заговорщики засели вокруг очередной бутыли. «Тайная вечеря» — пошутил Заливной. Долго — примерно до половины четырехлитрового запаса — отрабатывали детали дела. В целом все сходилось неплохо. «Получше, чем у Христа с апостолами», — опять хохотнул Прошка.
Едва солнце выглянуло из-за кремлевской стены, все четверо засобирались, каждый по своему делу. Прохор должен был суетиться при дворце среди похоронных приготовлений, осуществлять общий надзор за обстановкой. Егор отправлялся с телегой за трупами, Филимонов оставался готовить казнь и последний допрос Магдалины. Смирному поручалось самое трудное: он должен был придумать, как использовать раскаянье Марии с максимальной пользой, — чтобы Грозный поверил, остыл от гнева, слил его на эту несчастную женщину. А то могло очень нехорошо получиться. Четверка рисковала смертельно.
Егор не успел отъехать, когда Филимонов остановил его. Они снова сели думать. Тащить трупы в Кремль за три дня до казни было рискованно. Егор был нужен на рядовых пытках. Решили разделить задачу. Угнали Егора верхом по монастырским приютам и больничкам на разведку, чтобы он потом не рыскал с телегой наобум. К полудню велели вернуться.
Через час после рассвета стрелецкая стража отправилась в «разбойничьи ямы», где Воровская изба, предшественница зловещего Воровского приказа держала подследственных и приговоренных. Десятник Матвей Горемыкин должен был забрать и привезти пятерых сыновей Магдалины. Для этого под Горемыкиным имелся резвый конь, у стремени шагал наряд из двух новобранцев, следом волочилась большая телега с парой кобыл, а на языке крутилось «государево слово». Бумаг, естественно, никаких не было, да и кто бы их читал? Матвея в ямах знали, и все дела! Однако, смелого воина распирали сомнения: что за воры? — вдруг не отдадут? — удержим ли втроем? Поэтому Матвей вздрогнул всем телом — даже конь почуял это, когда в утренней дымке на перекрестке прорисовался черный всадник на огромном коне. Матвей перекрестился, и всадник приобрел нормальные размеры. И вообще он был знаком Матвею – это царский отрок Федька спокойно сидел на придурашном мерине Тимохе, от которого ждали чего угодно, кроме подлости и прыти. Горемыкин перекрестился еще раз в память о поездке к старцу Феофану, — очень страшной она вспоминалась. И осадок остался от нее неприятный, — Матвей весь июль страдал чирьем, и вино — вот ужас! — не лезло в глотку.
Федор вежливо поздоровался, спросил, куда служба едет. И, хоть была это государственная тайна, Матвей рассказал о трудном деле. Федор охотно вызвался помочь. Он назвался личным уполномоченным царя по похоронным делам, и это очень подходило Горемыкину. Не на свадьбу же забирали пленников.
Поехали веселее. Доехали легко. Дети Магдалины сидели в отдельной, аккуратненькой такой ямке, как сельди в бочке. Там очень похоже воняло тухлой рыбой. Вид у Федора был очень уверенный, его распорядительский кураж не спадал, и он очень легко достал воров из ямы. Приказал местной страже вязать их крепкими веревками, прикрикнул, что веревки — имущество казенное, жалеть его нечего, тем более — для царского дела.
Дети Магдалины — бледные, измученные, истощенные мальчишки выстроились вереницей. Повязанные каждый по рукам и ногам, и все вместе — за шею, они вызывали жалость, напоминали о десятках и сотнях тысяч русских детей, вот так же угнанных в ордынский или крымский плен.
Магдалиновцев взвалили на телегу и повезли. Начальник местной стражи один раз крикнул вслед, чтоб не упустили — вон какие страшные воры! — и не говорите потом, что я вас не предупреждал! — и раз пять напомнил, чтоб вернули веревки.
Федора тоже не устраивал побег детей. Он привел бы царя в ярость, сломал их план.
Приехали к Филимонову. Шумно загрузили детей в камеру рядом с каморкой Марии. Дети и мать стали перекликаться по-польски и по-русски. Филимонов пару раз попросил кричать тише, но потом не выдержал семейного горя и удалился. Пусть кричат. И пусть все остальные слышат, что тут все натурально.
Егор вернулся в обед, но есть не стал. Он насмотрелся ужасов в мертвецких, решил пока питаться одним вином, а ему еще предстояло очень взвешенно пытать детей Магдалины.
После обеда Филимонов слегка подправил план. Он вытащил Марию на допрос, громко пообещал встречу с детьми, если признается в колдовстве. Мария забилась в экстазе, — Егор едва ее удерживал. Она прокляла Филимонова, Егора, царя Ивана, православную церковь, митрополита Макария, всех москвичей, все городские постройки.
Егор высвободил правую руку и перекрестился: если проклятья Марии сбудутся, то Москва обречена на пожар со всех концов, митрополит умрет через год-другой, царь навечно станет пристанищем бесов, а богобоязненные москвичи до скончания века превратятся в алчных еретиков.
Крестное знамение помогло: Мария охотно призналась в колдовстве, горько сожалела, что колдовала мало, лениво и угробила только царицу Настасью, а не весь ее род. Но погодите у меня! Еще три ночи впереди!
Наглая ведьма знала, что до похорон ее не казнят, похороны раньше субботы не состоятся, но и в воскресенье хоронить не полагается. Значит, воскресенье — ее день!
Допрос достиг цели. Узники в каморках сжались от страха. Признание прозвучало громко. Оставалось только выпытать у ведьмы детали злодеяния, а детей решили не пытать вовсе. Но как тогда их «кончить»?
Решение подсказал Егор.
— Там, Ермилыч, все трупы заразные, не дай Бог — чумные! — описал он «скудельный запас».
«Так даже и лучше, — подумал Филимонов, — кто будет с чумными возиться?». Вечером Егор погнал телегу по разведанным богадельням.
В ночь Марию пустили к детям. Снова было много слез, причитаний, молитв, среди которых Мария не забывала выкрикнуть, как учил Филимонов: «Ох, Яцек, у цебе жар!»...
Ближе к утру телега Егора, заваленная дровами, въехала в Кремль. Никто не спросил угрюмого палача, зачем ему дрова. Никто не удивился, чем Егору обычные дрова нехороши, — под стеной поварни всегда высилась огромная поленница. А если бы кто-то и спросил, — у Егора был готов ответ. Неделю назад государь, опасаясь жары, издал первый на Руси противопожарный указ: обывателям предписывалось держать у каждой печки бочку с водой, иметь на подхвате ведра и крючья для растаскивания горящих бревен. Так что, теперь дрова от поварни убрали, и Егор предпочитал завозить свои — в известном количестве и проверенных свойств. Раскалить железо, любезные господа, может не всякий огонь!
Остаток ночи прошел в тихой суете. Егор занес в «детскую» каморку пять трупов под рогожкой, вывел оттуда через бывшую Федину комнатку пятерых малолеток, уложил их в телегу, прикрыл соломой, завалил половиной привезенных дров. С восходом солнца пришлось Филимонову лично провожать телегу до Боровицких ворот и покрикивать на Егора: зачем так много дров завез? Как смеешь, червь, огорчать государя в годину скорби?! Привратная стража поддержала стряпчего: нечего тут свалку устраивать! Давно горели?
Палач уехал по Волоколамской дороге, три часа гнал коней по проселкам, потом пробирался сквозь лес, наконец подъехал к землянке на краю опушки. Здесь обнаружилась молодая женщина не слишком благородного вида. Она помогла разгрузить телегу. Пятеро измученных ребят были спрятаны в землянке, поели, что Бог послал — гораздо больше и лучше, чем в последние три недели. Егор уехал с тяжелым сердцем: дети непрерывно спрашивали — даже с набитым ртом: «А мама?».
Мама в это время готовилась к последнему экзамену.
Глава 27. Лягушкин огонь
Близился обеденный час, — полдень пятницы 9 августа, но Федя зачитался в своей келье и рисковал опоздать к раздаче еды. Он не раз попадал в малую трапезную к шапочному разбору. Но и оторваться от «Луцидария» святого Ансельма Кентерберийского было невозможно. В прошлое царствование эта книга, проклятая главным церковным цензором Максимом Греком, едва уцелела. Теперь ее никто не должен был видеть. Федор грубо нарушал предписание Сильвестра о невыносе книг из стены, он и Грозного подставлял. Получалось, что с ведома царя в Кремле хранится отъявленная ересь. Но Федор ничего не мог с собой поделать: это был один из немногих переводов европейской светской классики на русский язык.
Вчера вечером Федор искал в библиотеке какое-нибудь учение о ядах, натолкнулся на «Луцидарий» — рассуждения о космогоническом мироустройстве и началах физики. Начал читать и прочно застрял в этом постороннем предмете XII века.
Есть хотелось, аж в сон клонило. Федор вздрагивал головой, боролся с полуденной дремой, чутко вслушивался в шорохи и скрипы — не идет ли кто. Вдруг действительно скрипнуло. Федор захлопнул переплет телячьей кожи, набросил на него старый летник. Обернулся на скрип.
Это был Истома. Он деловито вышел из темноты в углу. Во рту хитрый кот держал что-то вкусное, — по морде было видно!
— Ты что добыл, Истома? Не мышь? Лови, лови их, а то они к книгам подбираются!
— Какая мышь, Хозяин?! — обиженно муркнул Истома, — стану я есть всякую дрянь! Мне стряпуха Глафира с полфунта рыбьей требухи дала, и все белорыбица, семга, стерлядь! Это у вас пост, а про мое крещение ведь никто не знает, правда?
Истома бросил добычу на пол. Это была лягушачья лапка.
— Понимаешь, Федя, — облизнулся кот, — сегодня из Франции привезли запасы романеи на следующий год, — «Мургунцкое» по-ихнему. А французы, между прочим, на закуску лягушек едят, не морщатся. Но разве у них лягушка? Тощая, бородавчатая тварь, не то, что наша, москворецкая! Видишь, какая толстая да белая?! Царевна-лягушка! Давай пополам? Хватит тебе поститься, — вон какой худой! Только, чур, мне ляжку, а тебе уж лапку!
Истома вопросительно наклонил голову вбок и стал похож на хитроватого мальчишку.
— А где ты ее взял? — спросил Федор. После всех потрясений его не удивляло, что кот разговаривает.
— Как где? — обиженно протянул Истома, — где всегда, — в лампадке. Забыл, что ли, где добрые люди тайные снадобья хранят? Оно и здоровее выходит. Вот эта лапка, например, вымоченная в лампадном масле намного вкуснее сыровяленой! Вот, попробуй!
Федя взял лапку, куснул белую мякоть, сплюнул:
— Именно дрянь! Горчит. Дураки твои французы!
Истома сделал обиженную мину, взял лапку, откусил кусочек, стал медленно жевать, мечтательно подкатил глаза в потолок. Сплюнул.
— Правда, горчит. Какая-то сволочь в лампадку нагадила. Мыши! Вот, твари сатанинские! Как они не боятся по иконам карабкаться! То-то я смотрю, — от лампадки дурной дух исходит. Я уж постеснялся вслух сказать, мало ли от кого может воздух под иконами портиться?
Истома прихватил горькую лапку и убрался за дверь.
Федор снова почувствовал неодолимую сонливость и опустил голову на полу летника, укрывшего «Луцидарий».
Когда Федя проснулся, на обед идти было поздно, и лягушачья лапка вспоминалась без отвращения. Но Истомы не было, лапка на полу не валялась, о европейской культуре напоминал только том «Луцидария». Федя открыл его наугад и попал на занятную фразу о ходе времени, которую не поленился списать на длинную полоску книжной закладки:
«Время есть вещь. Вещь может сгореть — может сгореть и время. Отсюда суть: хочешь поступить так, — думай о времени поступка. Его, как вещь, можно использовать сразу, а можно отложить про запас».
Дальше шли рассуждения о круговороте жидкостей: «Лед — вода — пар — осадок — капля — струя». Автор доходил в научном вольнодумии до кошмарного описания превращений жидкости в организмах человека праведного и человека грешного. Схема получалась сложноватая. Во-первых, у грешника стадия капли отсутствовала. Слезы его были фальшивыми — стеклянными. А кровавые слезы сердца обнаруживались лишь на Страшном Суде или при вскрытии. Возникало недоразумение — всем ли грешникам будут делать вскрытие по приговору Страшного Суда?
Далее следовало разобраться в различии жидкой фракции. У праведников это были светлая кровь и сладкая слюна, у грешников — черная кровь и яды — желчь и моча. Моча праведников не упоминалась, и это казалось естественным. Невозможно было представить, например, святого угодника и чудотворца Николая отправляющим малую нужду под ствол мирликийского кедра. Автор логично перешел к анализу жидкостей ангельских созданий, но от этих опытов Федора отвлекла неуловимая фраза, мышиным хвостиком мелькнувшая в памяти: «Ее так рвет!».
Потом слова столпились, закричали все разом, стали отталкивать друг друга, и оказалось, оттого, что автор на титуле книги указан неправильный! Там было выписано киноварью имя Ансельма Кентерберийского, но в конце текста, там, где подводится итог повествованию, ясно значилось: «Во славу Божью Гонорий Отенский сей труд положил».
Федя забыл о круговороте мокрот, зацепился за подозрение, что сочетания «Во славу Божью» и «Гонорий Отенский» могли быть двумя разными переводами одного и того же «In Honoris Dei». Нет, тогда было бы «Gloria», а не «Honoris». Наверно, ранние переписчики смешали латынь со старогерманским, что-нибудь типа «In Honor Gotens»... Но тут снова из угла закричали по-русски:
«Лапка лампадная, горькая, ядная —
Три деньги, и дыхнуть не моги!».
Федор вскочил, захлопнул и спрятал в сундук труд Ансельма-Гонория и побежал во дворец, чтобы узнать, ушел Филимонов обедать домой или перекусывает на месте.
Филимонов сыскался в поварне, где он не столько ел, сколько принимал лекарственный настой малины на русской медовой жидкости. Стряпчего трясло. Казалось, он умудрился простудиться в разгар августа.
Через минуту они уже бежали в клеть царицы Анастасии, топтались у двери, препираясь, что делать с нечаянным открытием — «кошачьим пророчеством».
Наконец, было принято решение об испытании находки.
С иконостаса в клети покойной изъяли лампаду. Для опытов назначили малую каморку возле пыточной гридницы. Прохор получил поручение на ловлю мух. Сам он их, естественно, не ловил — должность не позволяла. Но за две серебряных деньги дворовые пацаны ему бы всех кремлевских тварей переловили — от вши до цепного медведя — жаль, времени не было. Горшок с насекомыми подоспел через час.
В темной каморе зажгли лампаду. Открыли горшок горлом к огню. Мухи и жуки потянулись на выход. В живых не остался никто! Несчастные насекомые выпрыгивали на волю, поднимались на крыло, но кривая их полета ломалась, и жертва науки застывала на столе кверху лапками. Пара тяжелых жуков так и не смогла выбраться из перевернутого горшка. Членистые твари застыли, просто прилипли к внутренней поверхности, будто пытались спастись. Их достали совершенно мертвыми.
Теперь предстояло подправить первоначальный замысел. Возник вопрос: не Магдалина ли подсунула царице лампаду, не она ли подливала ядовитое масло?
Пошли к Марии, спросили. Грешница побожилась детьми, что непричастна. Среди смертного ужаса возникла двусмысленная ситуация. В соседней камере, где Мария днем прощалась с сыновьями, теперь лежали пять трупов. Непосвященный мог подумать, что Мария соврала.
В этом направлении решили действовать. Мария заучивала слова для признания под пыткой.
Оставался вопрос: если не Мария, то кто?
Времени на расследование не хватало. Нужно было немедленно предъявить окончательное решение, а изобретателя лампадки отложить на потом.
Глава 28. Раскаянье Марии Магдалины
Прохор Заливной вспотел на подборе свидетелей. Думные подьячие отказались, сославшись на похоронные дела. Дворцовые подьячие шарахались от Прошки уже третий день, — избегали именно похоронных дел. К монахам вовсе не подойти, — озабочены собственными епитимьями и всеобщими молебнами за упокой. Пришлось Заливному взять молоденького стрельца у Истомина и строго потребовать любого чернеца из митрополичьих палат. Прислали такого подслеповатого старца, что лучше и не придумаешь.
«Слушанья» начались под вечер. Марию вывели из каморки, руки ее были разбинтованы и представляли собой обугленные кочерыжки. «Как она еще жива?» – подумал Смирной. Прохор почувствовал тошноту, но сдержался, Егор вновь наполнился острым, забытым чувством жалости. Молодой стрелец побледнел и сел на лавку. Слепой монах прижмурился и перекрестился.
Жестокость предыдущих следственных действий была налицо. Оставалось показать их эффективность. Филимонов достал пыточные листы, внимательно почитал и спросил:
— Значит, говоришь, колдовала?
Мария подняла голову, как бы не собираясь отвечать. Егор осторожно, почти нежно полоснул ее по спине легким кожаным бичом. Ожог получился не страшнее, чем от банного веника.
Мария завопила дурно, заматерилась, прокляла царя, царицу и всех присутствующих. Монах не уставал креститься. Филимонов с Егором призвали колдунью к порядку – каждый по-своему.
Ведьме дали выпить, и она стала рассказывать. Из ее уст – вот очистительная сила креста и плети! – прозвучала великая, страшная тайна, поразившая собравшихся масштабом пространств и времен.
Оказалось, род Кошкиных и предшествовавших им Кобылиных был проклят в Польше в старые времена. Какой-то их предок служил в Кракове городским живодером. Он ездил на шелудивой кобыле по улицам польской столицы и ловил бродячих животных. Однажды по недосмотру Богоматери был удавлен кот примаса польской католической церкви Казимежа. Первосвященник всенародно проклял племя неловкого санитара. Прилично было проклясть Кобылиных-Кошкиных до третьего, ну до седьмого колена, — кот был старый, глупый, ленивый. Но примас потерял голову и назначил вечное проклятие до скончания Мира! Его потом журили на Вселенском Соборе в Риме, что вечного проклятия достойны великие злодеи, страшные еретики, личные враги Папы, совратители малолетних певчих и т.п. Но повернуть назад было нельзя, и проклятье застряло в небесах, как слива в нужном месте...
Мария перевела дыхание, присутствующие выпили водички и воспряли духом – очень интересный получался рассказ! Молодой боец поднялся в караульную позу, престарелый монах утвердился в презрении к католичеству. Мария продолжала.
— Проклятый живодер покинул Краков и стал скитаться со своим семейством по городам и весям. Но ни в одной веси ему не было покоя, везде проклятие становилось известным, узнавалось непостижимым путем. Кобылины-Кошкины голодали и гнали свою телегу все дальше на восток. Тут, в православных землях они нашли приют сначала в Литве при дворе великого князя Гедимина, затем перебрались в Московию, назвавшись литовскими дворянами.
— И здесь... – Мария сделала страшные глаза, — проклятье возопило о неисполненности! Жертвы скрылись за железным православным занавесом, небесные силы потеряли их из виду. Проклятье обратилось внутрь Польши, и в стране настали трудные времена. Турки напали с Дуная, татары из Крыма, москвичи из-за Днепра. В церкви перестали случаться чудеса, участились случаи совращения певчих.
Новый первосвященник взмолился к Небу и получил откровение свыше. Оказывается, проклятый род в Москве пошел в гору, дочь Кошкиных уже попала на царский трон, и если не принять жестких мер, Польше несдобровать! Мужчин кошкинской породы Небо принимало на себя, но с воцарившейся женщиной ничего поделать не могло. Следовало извести ее женскими руками, а на Небе какие женщины? Одна Богоматерь? – но она, как известно, — Дева. Короче, Мария Магдалина с ее именем и фамилией, знанием русского языка и физическими возможностями оказалась кстати. Она въехала в Московию, приняла православие, приблизилась ко двору и нанесла удар!
— За что?! – выдохнули одновременно монах и стрелец.
— За детей родненьких! – разрыдалась Мария, — Примас, сучий потрох, перевел неисполненное проклятье на моих деток! Сказал, пока Настасью не угроблю, мои дети страдать будут!
Мария впала в полуобморочное состояние, выкрикивала непонятные слова, пыталась валяться по полу. Ее подняли, облили водой, стали трясти и допытываться: «Чем погубила царицу, сволочь?!».
— Колдовством! – страшно прохрипела Мария, — наговоренную лапку дьявольского отродья трижды окунула в лампадное масло под полной луной...
Монах крестился уже непрерывно. Юный стрелец шевелил пушистыми губами — тужился выучить рецепт наизусть.
— Кто мазал царицу ядом?! – придурился Филимонов. Егор громко щелкнул бичом по лавке.
— Она сама себя травила! Масло в лампадку подливала и зажигала каждый вечер!.. – Мария захохотала чужим, жутким басом:
— И ваш Бог ее не сберег!!!
Наконец, ведьма затихла, забормотала дробно: «Дети-дети-дети... Теперь проклятье минуло...».
— Как же! Минует оно вас, жидов! – скривился Заливной, картинно открывая дверь в «детскую», — вот, пожалуйста, получи своих деток...
— Мария вылупила красивые глаза, метнулась в дверь, взвыла бешеной собакой.
«Переигрывают, — досадливо подумал Смирной, — а впрочем, ничего, —народ верит».
Егор сорвался следом, Филимонов тоже проскрипел на артритных коленях, стрелец взял бердыш наперевес, монах зачем-то сел на колени.
Потом кто-то выкрикнул «Чума!», и следователей как ветром сдуло. Только Мария Магдалина еще долго валялась по детским трупам, кричала, стонала, забывалась в беспамятстве. Естественно, никто не решался ее трогать, поднимать, оттаскивать.
Заливной убежал доложить думскому боярству о чумном деле. Филимонов занялся протоколированием. Смирной вывел свидетелей на воздух и стал интимным шепотом объяснять правду кремлевского бытия. Следовало молчать об услышанном до гробовой доски, из-под нее тоже помалкивать! Иначе, кошачье проклятие падет на ваши головы! Мигом окажетесь в Ливонии, в преисподней, получите понижение по службе до седьмого колена! Стременной пацан понял намек о Ливонском походе, закивал, выгнул грудь колесом, имел смелость сказать: «Буду служить честно! И ты, боярин, не погуби!».
Монаху пришлось втолковывать дольше:
— Молчи, отец, о проклятии Кошкиных... нет, немой обет принимать не нужно. Государю можно правду сказать, если сам спросит. Больше никому, понял? Митрополиту?... – Смирной задумался, — скажи, но только на исповеди!
Уж смолчали понятые или нет, нам не узнать. Но о «чуме» слух распространился быстро. Через час у гридницы стояли телеги, на первую монахи из окраинной богадельни складывали трупы «детей Магдалины», на другие грузились закованные воры из черной гридницы. В самой гриднице пылал огонь и гремел молот кузнеца. «Чумное» помещение освещалось рваными вспышками красного пламени. В наступившей ночи казалось, что ад раскрыл свои недра именно здесь, в Кремле.
Власть очень спешила обеззаразить кремлевские пространства, спастись от эпидемии. Может быть поэтому, заклепки на кандалах последнего узника легли криво и держались еле-еле. А ведь это был один из главных подозреваемых в сретенском покушении – новгородский стражник Борис Головин!
Еще через полчаса Смирной и Филимонов добивались приема у Ивана Васильевича. Царь пребывал в полусонном бреду.
Опять на страже стоял Штрекенхорн и никак не хотел понимать, что дело-то важное!
— Нет, — отбивался Филимонов от вопросов часового – тебе доложить не можем, скажем только государю.
— А-я-как-могу-знать-важное-ли-дело? – отчитывал сотник.
Федя выступил вперед.
— Ганс Георгич, ты не волнуйся, дело ей-богу важное, но безобидное. Тебе за него ни-че-го не бу-дет... — Федя сделал паузу, Штрекенхорн вытянул подбородок.
— Государь нам службу задал и велел, как исполним, будить его в полночь-заполночь. Будет обедать – заходить и кушать с ним, будет пить – садиться вторым и третьим. Он нам ярлык пожаловал, чтоб никто не смел препятствовать. А кто воспротивится, тому проклятье и пика в бок! Вот, — Федор вытащил из кармана глиняный кружок.
Штрекенхорн как глянул на солнечный оттиск, как увидел руническую молнию в виде родной буквы S, так и взял алебарду на караул.
Стукнули в дверь. Спальник высунул длинный нос.
— Государево слово и дело! – прошипел Смирной.
— Так спит же!
— Не бойся, сами разбудим.
Смирной и Филимонов вошли в спальню, приблизились. Грозный полулежал на подушках, не раздеваясь, и напоминал восточного царька, каковым собственно и являлся. И совсем он не спал. Глаза были открыты, губы шевелились, казалось, он рассказывает что-то спокойное близкому собеседнику. Но звука от шевеления губ не доносилось, и глаза царя ничего не выражали.
Федя и Василий Ермилыч поклонились, – он не заметил.
Стали на колени, — без внимания.
Тогда Федька не пожалел лба и отчетливо стукнул в пол.
Царь очнулся, губы задрожали, зашевелились быстрее, прорезался голос, предлагавший всех повесить. Глаза Ивана еще несколько мгновений привыкали к свечному полумраку, будто до этого смотрели на что-то яркое, типа Великого Солнца. Наконец он обнаружил пришельцев. Спросил с интересом:
— Ну, что?
Филимонов ответил по старшинству. Слово «измена» придержал. Каждый звук проверял на позитивность:
— Исполнена твоя служба, государь!
— Какая?
— Твой враг пойман.
— Это Мишка Тучков, что ли?
Тут позитивные слова у Филимонова кончились.
— Нет, ведьма Магдалина созналась под пыткой. Она травила матушку Анастасию.
— Как?! Чем?! – Грозный забегал по спальне, — оказалось, что босиком.
— Коварным ядом, государь! Благое использовала во зло.
Грозный остановился под иконостасом, широко перекрестился, озираясь на докладчиков. Они уже стояли.
— В пресветлую лампаду царицы вливала наговоренное масло, настоянное на жабьей лапке...
— О-о-о!!! – взвыл Иван, сорвал из-под образа Спаса лампаду, вышвырнул в открытое окно.
— Пыта-ать!!!
— Пытана огнем и железом с детьми и при свидетелях. Покаялась и созналась.
— Казни-ить!!! С детьми казнить!!!
— Казнена Господом, государь! – звонко выкрикнул Федор. Все замерли.
— Каким Господом? – опешил Грозный.
— Дети ее, все пятеро, на глазах стражи, священнослужителя, дворцовой службы, и на наших глазах...
Грозный затрясся, перекрестился размашисто и стал пятиться. Небось подумал, что дети Магдалины превратились в белых журавлей.
— ... скончались в муках от материнского клятвопреступления. Сама колдунья тоже больна. Боимся, что «скорой чумкой». До казни посажена в яму – прочь из дворца.
— Сообщники кто? Известны? Пойманы?
— Известны, — развел руками Филимонов, — давно известны. Король Польский Сигизмунд и примас Краковский. Они ее подослали из мести роду Кошкиных. В пыточных листах все записано. А на Руси сообщников нет.
— Как нет? Вы с ума сошли! А Адашев? А Сильвестр? Покрываете?!
— Тебе виднее, государь, — спокойно поклонился Филимонов, может они и сообщники, но она на них так и не показала.
— Пытать еще!
— Не выдержит, почти не приходит в себя. Так и до казни не дотянем, — Федор затронул любимую ноту Грозного.
— Как не дотянете? Что, не казнить? Да я вам головы поотрываю! Берегите ведьму! Казнить принародно, на Красной площади, согнать всех людей! И сжечь живьем!.. Ее, а не людей, остолопы!
— Опасно, государь. Чумной дым может заразить ваших рабов. Лучше тихо повесить на Болоте, подальше от Кремля.
Грозный топнул в досаде босой ногой. Вот жизнь! Два смерда спорят с монархом, ничего не боятся, и ничего с ними не поделаешь! Правы черти.
Грозный спиной упал в подушки. Обмяк.
— Ладно. Ступайте. Пытайте до рассвета о Сильвестре и Адашеве. Завтра не мучить, погребение пресветлое не осквернять. В воскресенье обезглавить на Болоте. Пыточный лист — в сокровищницу. Потом посмотрю.
Иван повернулся к стене и тонко, жалобно заскулил.
За дверью Ганс-Георг Штрекенхорн неловко крестился, не выпуская из правой руки алебарду. Казалось он совершает церемониальные движения, понятные только ему и Богу.
Глава 29. Тонкий яд
Филимонов вернулся в гридницу, собрал бумаги, отдал отнести в сокровищницу. Сам пошел к яме. Там, где недавно сидел Федька Смирной, теперь стояли на страже Егор и Иван Глухов. Мария громко молилась по-польски в звездное небо через открытую крышку.
Филимонов, кряхтя, стал на больные колени, склонился к яме.
— Слышь, Мария, я слово сдержал. Пойдем, покричишь до утра. Завтра будешь молиться. А в воскресенье мы тебе легко сделаем...
— А дети?
— Пойдем, пойдем...
«Чумную» вытащили из ямы, повели в гридницу. Тут Егор посадил ее на солому, принес поесть и выпить. Мария налегла на вино, сжимая кувшин забинтованными руками. К полуночи она уже ничего не понимала, и Егор будил ее каждый час, заставляя стенать «от пытки».
Тем временем Смирной сидел в «своей» библиотеке и судорожно рыл книжные залежи. Трактатов о ядах сыскалось три штуки. Один был — полный бред. По нему получалось, что яд любой силы можно изготовить из любого сырья, хоть из святой воды. Нужно только правильно подобрать проклятья. Далее шли обрывки поношений на латыни. Чушь!
Другой автор расхваливал животные яды, рекомендовал трупные вытяжки, чумные срезы и прочие гадости. Особенно хорош считался яд из сушеной печени козла, кормленого чумными бубонами. В это верилось легко. Но где взять бубоны, как заставить козла отравиться? Такой рецепт годился во времена великой Флорентийской эпидемии 14 века. Собственно, оттуда он и происходил.
Третий «том» – смятый греческий свиток — описывал травяные рецепты. Здесь все было понятно, легко переводимо. В конце концов, слово «отрава» у нас происходит от слова «трава», не так ли?
Федор сунул свиток за пазуху и убрался восвояси, — в Сретенский монастырь. С рассветом в Кремле начиналась неприятная похоронная возня, и Смирной не хотел ее видеть. Его уже тошнило от мертвечины и заразы. К тому же он имел полное право на отсутствие. Следствие продолжалось по личному приказу Грозного.
В субботу 10 августа, в день похорон государыни Анастасии Романовны стояла прекрасная летняя погода. Федор шел по утренней Москве и думал, сколь чудесен этот город! Птицы поют раннюю песню, везде высятся древесные кущи, зелень, не поврежденная мягким летом, заполняет пространство между теремами бояр, церквушками и часовнями, деревянными избами обывателей. Позади остались Кремль с безумным царем и страшными подвалами, Красная площадь с кровавым Лобным местом и «ослепительным» храмом Покрова Богородицы, мастерские гробовщиков и воровские ямы. Впереди расстилалась зеленая пастораль. Будто здесь не было горя, смерти, болезней, воровства, предательства. Будто населяли эти красивые места блаженные люди и добрые животные. Казалось, вот сейчас приветливо откроются калитки, и прекрасные дети поведут на пастбище беленьких овечек и рыжих телят. И у каждого рогатого на шее будет золоченый колокольчик, у каждого пастушка – книжка сказок и вишневая свирель.
Вот как хотелось жить! А вы – «пытать!», «казнить!»... — сволочи!..
Федька был молод и легко выбросил из головы ужасы кремлевских ночей, расправил плечи, начал насвистывать. Шел он неспеша, в монастырь не торопился, поэтому попутный старец поспевал за ним следом в сорока шагах.
Старец этот не был подсыльным соглядатаем, не состоял на службе. Это был действительно случайный человек — встречаются и такие в Москве! Старец прожил долгую жизнь, теперь обитал в монастыре, характер имел легкий — с тех пор, как сбросил с плеч тоску о погибшей родне, ужас военной юности, тяжесть нажитых и потерянных денег.
Монах смотрел в спину Федору и вспоминал собственную юность. Она была удивительной! Вокруг пылали бревна деревянных стен, безумные кони мчали мертвых всадников по пепельным равнинам, волки растерянно искали свои логова в заваленных трупами оврагах, есть было нечего, любовь отвергалась, плоть истязалась. Но время это все равно запомнилось великолепным! Душа пела надеждой, как поет птичка, обреченная на смерть к концу лета.
Ну, что хорошего было, например, в 1512 году? Шла война с Польшей за Смоленск, орды крымского хана Менгли-Гирея жгли русские окраины, все — и русские, и поляки, и татары вытаптывали нивы, забирали скотину, угоняли молодежь. Выжить было очень тяжело. И мало кто выжил, вот он — чуть не один остался из того поколения. А что сейчас вспоминает? Такое же прекрасное лето, такую же зелень, такую же мягкую теплую пыль на дорогах. Хоть и вели эти дороги на войну, в плен, в тар-тарары! Эх, молодость!
Монах повздыхал вслед Смирному и отстал.
Федор ступил под сень Сретенского монастыря, зашел к игумену Савве. Доложил, что послан государем по важному делу, попросился пожить сутки. Савва с радостью принял бывшего воспитанника. Он гордился, что его человек делает карьеру при дворе.
Архип и Данила прослышали о приходе старого друга и уже дожидались у кельи игумена. Парни засели в тенистом уголке. Федор попросил помощи в исследовании лампадной отравы. Архип — специалист по греческим переводам получил трактат о растительных ядах. Данила, приставленный к монастырской больничке, рассматривал на свет «наговоренное» лампадное масло. Потом долго спорили о плане действий. После ужина и братской молитвы снова сидели вместе, — теперь в келье Архипа. К утру, падая от сонливости, Архип дочитался, наконец, до места о масляных растворах растительных ядов. Оказалось, отраву смешивают с маслом для замедления, смягчения действия. Масляные яды относятся к категории «тонких». Выпитое масло обволакивает внутренности и губит их медленно — в зависимости от живого веса отравляемого. Можно также курить ядовитое масло: при сжигании оно оседает вместе с ядом в утробе жертвы и действует аналогично выпитому, но еще медленнее! Вычислить пропорции масла и яда нельзя, их следует определять на опыте. Для этого рекомендуется подобрать раба одного возраста и комплекции с отравляемым врагом. Яды в масле очень просто распознать! Берется сырая репа, ее свежий срез подносится к маслу, подогреваемому в водяной бане. Яд выделяется, испаряется, оседает на репе. Репа темнеет. Синяя репа — яд растительный; коричневая — минеральный. Лицо при опытах следует завязывать платком, смоченным в святой воде.
Вот как просто! Проверку провели в монастырской поварне. Ужас монахов, готовивших завтрак, не имел границ, но Федя держался уверенно — воистину царский отрок! На печи булькала глиняная миска с водой, в ней плавала оловянная плошка с маслом. Из толщи золотистой жидкости поднимались медленные пузырьки, они лопались на поверхности, и их пар оседал на белоснежной поверхности репы. Монахи тайком крестились, а когда Архип заорал сквозь повязку: «Синяя!», — бросились вон.
Остаток утра друзья провели в философских беседах, сводившихся к единственной мысли: как было бы хорошо, когда бы в мире не было зла!
Хотелось еще раз поклясться в вечной дружбе, посвятить сердца борьбе за освобождение человечества, но тут ударило малое било — кусок железяки у трапезной, и наступило время обеда.
Поели, снова уединились вдали от монастырских тягот — в укромном уголке, поросшем травой и кустарником. Лежали в холодке, наблюдали полет ласточек в высоком небе, расслабленно впитывали радость безоблачного полдня. Правда, Федор вдруг вспомнил, что сейчас царицу Настю выносят в дубовом гробу по ступенькам Красного крыльца на отпевание, а каменный гроб не готов вовсе. Настроение у него испортилось, и он засобирался в Кремль.
Смирной простился, ушел, и старый монах проводил его мудрым взглядом. Он все еще гадал, что вспомнится этому мальчику через сорок лет — полет ласточки или надпись на белокаменном саркофаге: «Блажен и свят участник воскресения первого — смерть вторая не имеет власти над ним!».
Глава 30. Жертвоприношение
Считается, что душа покойника расстается с телом неспеша – за трое суток. Поэтому в России похороны обычно оттягивают на этот срок, чтобы еще чуть-чуть побыть с погибшим человеком. А что? Тело — вот оно, даром что недвижимо; душа при теле, — полный комплект.
На третий день душа покидает разлагающуюся плоть и возносится на Небо. Путь туда неблизкий, душа делает первые, неумелые взмахи крыльями, поэтому тащится до Небес целую неделю. Три да шесть, получается девять. На девятый день душа добирается до первого потустороннего круга – Чистилища. Здесь она чистит перышки и попадает, как «кур в ощип», на предварительное следствие. Крепкие заоблачные чиновники во главе со святым Петром проверяют душу на грешность-праведность в течение месяца: 31 день, если смерть пришлась на длинный месяц, например, на июль или август, 30 дней в обычные сентябри-ноябри, 28-29 дней февраля. Максимум на сороковой день выносится приговор, и душа водворяется в рай или ад до Страшного Суда. Здесь душа сидит тихо или строчит апелляции, чтобы на Страшном Суде — по прошествии вечности — скостить себе срок или температуру.
Таким образом, в течение 40 посмертных дней бывшей живой душе нет покоя ни на земле, ни в Небесах. Аналогично переживают оставленные родственники. У некоторых на этой почве возникает специфическая, малоизученная болезнь – мания жертвенности. Этим добрым людям кажется, что если за 40 критических дней угробить побольше кур, овец, рабов, то их никчемные душонки присоединяться к душе дорогого покойника, помогут ей в мытарствах по небесным инстанциям.
Мания жертвоприношения, нахрапистая традиция облегчения за чужой счет живет в веках. Куры неуклонно наполняют лапшу, гибнут стада пасторальных барашков, пастухи и пастушки теряют головы вместе со свирелями.
В принципе, обычай человеческих жертвоприношений у восточных славян отобрали еще 11 веков назад. Но он теплится в наших сердцах. Или, если угодно, — в душах.
Иван Васильевич Грозный имел глубокую, незамутненную тягу к жертвоприношению. Он лелеял ее инстинктивно, не задумываясь. Она то подавлялась в нем усилиями богомольцев и моралистов, то вспыхивала вновь. Сейчас как раз настал момент воспламенения. Иван с утра до вечера дрожал неуемной дрожью, скорбный вопль сидел в нем, рвался наружу в память о незабвенной супруге, а еще более – в страхе за собственную бренность.
Лекарство от этой напасти Ивану было известно давно. Стоило казнить кого-нибудь, и прямо у Лобного места в царя вливался мощный поток энергии, будто душа казнимого перетекала в его тело, а не копошилась еще три дня среди останков.
Утром в воскресенье 11 августа 1560 года Иван испытал тяжкий приступ некроэнергетической зависимости. Его просто ломало в желании казнить. Хорошо, что казнь уже была назначена, оставалось только дотерпеть.
Грозный вызвал Федьку Смирного, разузнал подробнее о Марии Магдалине. Многозначительно хмыкнул на словах о проклятии рода Кошкиных. Пожалел, что ведьма – зачумленная, и как следует потрогать ее нельзя. Но все равно собрался, оделся в монашеское платье, двинул под охраной Сомова и Истомина на Болото.
Палача из московских городовых сыскать не удалось, поэтому казнь разыгрывал Егор. Филимонов выдал ему бездвижное тело, фактически труп. Голова Магдалины болталась в разные стороны, билась о доски чумной телеги. С телеги на помост ее поднимали волоком, к плахе подтащили за обгорелые руки, она даже не дернулась. Можно было подумать, что ее накануне придушили.
Народ вокруг помоста образовал куда более просторный круг, чем на казни Тучкова. Предмета для спора тоже не нашлось – многие знали бывшую красавицу в лицо, и теперь вздыхали в сожалении.
Грозный подозвал Филимонова и спросил, чего она такая неживая?
— С вечера валялась в жару, едва поднимали на пытку. Толком ничего не сказала, к утру впала в беспамятство. Теперь вот, — вовсе дохлая.
Магдалину уложили на плаху, Егор брезгливо дотянулся до ее шеи старым топором на удлиненной ручке, голову подцепил крюком, не дал упасть в публику.
Грозный посмотрел-посмотрел на это безобразие и вернулся в Кремль без удовлетворения. По пути спросил Филимонова, кто прикасался к ведьме.
— Никто, государь, кроме Егора и Ваньки Глухова.
— Вели сидеть в гриднице. Я им службу пожалую.
Филимонов понял, что Егор и Глухов отправляются подальше от чумного греха.
После постного обеда Грозный хотел потребовать новой казни, но тут заявился Смирной. Доложил, что масляный яд действует сложно и испытывать его нужно на смертниках. Федя по наивности как бы не понимал, что таковым смертником легко может сделаться сам. Не подумал Смирной и о других людях. Вот уж, действительно, молодость!
Царь обрадовался новой затее, пожелал лично наблюдать за опытом.
В этот раз крайним оказался ближний человек казненного Тучкова, ловчий Шубин, — он был невысок, сухощав, по возрасту тоже подходил. У Смирного оставалось сомнение, одинаково ли действуют яды на мужчин и женщин, но он его утаил.
Шубина привезли из Воровских ям, приодели, подкормили, поселили в маленькой горенке отдельно стоящей избушки. Здесь все было оборудовано для удобства наблюдения. Федор еще раньше обшарил спальню царицы, пролез со свечой по углам и вдоль окон, обнаружил заткнутые от сквозняков щели и наглухо заколоченные оконные рамы. Такую же газовую камеру устроили Шубину.
Ловчий после кормежки стал интересоваться, как его намерены казнить – с пыткой или без пытки?
— Без пытки, — заверил Филимонов, а Федя пояснил, что достойной казни Шубину не придумано, придумается ли, неизвестно, а держать его велено при Боге.
— Это как?
— Ну, как добрых людей содержат, отвык что ли? Иконку тебе повесим, лампадку, святцы поминальные дадим. Можешь в них Михайлу Василича своего вписать, — не возбраняется. Митрополит печется о спасении твоей души. За молитвенным усердием будем наблюдать во-он через то оконце, — не обессудь. Ну, давай. Живи, радуйся.
И как было Шубину не радоваться, когда ему вдруг понесли царские блюда? Перепела, журавли не сходили со стола, и даже лебедь недоеденный как-то залетел!
Только что-то еда у Шубина не заладилась. Он был малый на живот крепкий. Выпивать любил до тла. А тут стало его рвать, душить. Ночью серые черти из-под пола полезли. Стал Гаврила усерднее молиться на ночь, — прихватило еще хуже! Начались цветные видения. Будто раскрывается крыша избушки, а стены превращаются в стекло, и видно через них, что Москвы больше нет – руины да пепелище. Зато в небе возник белый город Иерусалим. Туда ведет тонкая, полупрозрачная лестница из такого же материала, что и стены избы. И можно по этой лестнице спокойно подниматься, охрана не возбраняет. Напротив, все Шубина подталкивают к лестнице, а он сомневается, не грех ли покидать темницу? Побег отягчает наказание.
Тут входит бородатый дядька и говорит: «Ты, Шубин у меня совсем дурак. Какая ж это темница? Это теперь светлица! Видишь золотой кружок на небе. Это Великое Солнце, оно любые стены просвещает!».
Шубин удивляется, а мужик продолжает, что пришел по другому делу. Донесли ему, что раб Гаврила Шубин страдает одышкой и несварением, а это очень тревожно!
Шубин отводит глаза от Великого Солнца, привыкает к обычному свету и видит у мужика на кафтане медную табличку с червленой надписью: «И.В. Рюриков-Грозный. Царь. Прощен».
«Ух ты! – думает Шубин, если уж царь прощен, так и меня простить могут?!». И точно! Царь ласково говорит, что хотел было Гаврилу казнить медленным несварением в кипящем лампадном масле, но теперь передумал. Сверху поступила заявка на ответственную службу. Нужно, чтобы кто-нибудь от России занял должность небесного ловчего. Там все норовят летать, но летают не по правилам, а от этого — столкновения, членовредительство, грех. Так что, выбирай, Гаврила, — как тебе удобней на Небо отправиться – по хрустальной лестнице или через лампадное масло?».
При словах о масле Гаврилу рвет прямо на медную табличку, и он тянется к лестнице. Царь его подсаживает на нижнюю ступеньку, шепчет на прощанье: «Ты смотри, сукин сын, больше на царей не умышляй! На Небе тоже цари водятся. И царица есть. Не осрами!». Мужик начинает всхлипывать, рыдать, и Шубин торопливо перебирает лестничные перекладины, удаляясь от греха...
Утром Шубин пожаловался на видения страже. Ванька Глухов и Егор, отбывающие при Шубине чумной карантин, сказали, что это от непривычки к молитве: нельзя, брат, от Божьей благодати отвыкать!
В обед Егор объявил через оконце, что разрешается убавить усердие. Погасили лампадку, вывели Шубина взглянуть на солнце, дали на ужин вина. Полегчало.
Дня три Гаврила не утруждал себя поклонами, потом началось снова. Гаврила бил башкой в пол во здравие Ивана Васильевича, — дай ему Господь многолетнего милосердия! Не забывал молиться за упокой матушки-царицы Анастасии, за здоровье царевичей Иоанна и Феодора. И снова в ночи стало нехорошо, послышались голоса, — кто-то громко обсуждал грехи Гаврилы. И кто-то страшный рычал «Казнить!», а другой уговаривал повременить до выяснения.
Выяснение завершилось в две недели, и Федор Смирной предъявил царю мудреную таблицу, по которой будто бы было видно, сколь долго и как часто нужно курить в лампаде ядовитое масло, чтобы прикончить такого человека, как Шубин.
— Что мне твой Шубин? – вспылил царь, — ты мне про Настасью посчитай.
— Так вот же, посчитано! Шубин подстать государыне...
Тут Федька получил царскую затрещину, и продолжал:
— ... возьми, государь человека в четыре пуда, жги ему лампаду по часу утром и по часу вечером. В неделю изведешь полфунта масла, а самого человека – за три месяца. Скажи мне любого, и я по весу узнаю срок горения и объем масла. Вот, если взять, например, дьяка Висковатого, а в нем я думаю пудов девять... – голос Смирного стал таять в тумане, Иван задумался о своем. Мог он, конечно, назначить Федьку пресловутым «любым человеком», но пожалел. Казнить хотелось неуемно, но кого-то более страшного, чем Федька. Опыты кончились, и Шубина решили казнить по-человечески, без яда.
В день приговора обнаружилось движение советников Адашева и Сильвестра. С отъездом бывших фаворитов некоторые бояре остались без доступа к казне, и стали мягко хлопотать в пользу сосланных. Но мягкость не помогла, царь разгневался, и по доносу верной части думцев велел схватить князя Дмитрия Курлятьева, всех родственников и знакомых Адашева. Вдовый Сильвестр успел спровадить единственного сына Анфима в дальние монастыри, чем вызвал новые подозрения монарха.
У Грозного появился выбор, кого казнить. Это несколько успокоило горемыку, и он стал доступен для разумных соображений. После беседы со Смирным князь Дмитрий попал под волокитное следствие, семья его отделалась домашним присмотром. Адашевцы заселили гридницу для проверки – не заразна ли? Гаврила Шубин получил главную роль.
Глава 31. Драматургия
В те славные годы Москва была не очень надежно связана со своей замоскворецкой частью. То есть, за исключением нескольких дней ледохода, связь имелась — но разная.
Для переправы самое милое время — старая русская зима. Река замерзала на пол-аршина, иногда на аршин. Белый снег прикрывал серый лед, и санные полозья расчерчивали реку вдоль и поперек. Сразу было видно, куда и откуда чаще всего едут люди.
Есть такой научный метод, когда получают практический результат, а затем делают вид, что добились его теоретически. Этим методом можно было воспользоваться для оптимальной постройки мостов через Москву-реку. Следовало отметить на зимней карте наезженные колеи, а летом по этим отметкам вбить сваи и настелить мосты. Но, правда, мосты у нас получились бы косые, диагональные: из разных точек Замоскворечья они протянулись бы к Кремлю, Китай-городу, Новодевичьему монастырю.
Так что, никто нашей науки не применял, мосты перебрасывали примерно там, где они сейчас, только делать это приходилось почти каждый год. Самым распространенным типом переправы был так называемый «живой мост». Крупные лодки ставились носом против течения через две-три сажени, на них стелили толстую доску, все это скреплялось канатами, цеплялось за береговые сваи или деревья, и порядок! — просим ехать, соблюдая дистанцию. Если поджилки позволяют.
Живые мосты были полезны для транспортировки крупных грузов. Мелочь в летнее время перевозили также лодками и паромами – плотами на канатах. Но вот, наступала долгожданная матушка-зима, украшала слюдяные стекла нерукотворными узорами, укрывала грязь и дрянь белым снегом, повышала настроение бодрым морозцем. Живые мосты вмерзали в лед. Зимняя дорога устанавливалась не в один день, иногда зима отступала на пару шагов и десяток градусов, лед становился ненадежен, и живые мосты страховали ледовую переправу.
Хуже получалось весной. Обратный переход из твердого состояния в жидкое давался переправе труднее. Лед лопался крупными кусками, полями шел по реке, вставал на дыбы, рвал канаты, крушил прошлогодние лодки и уносил всю эту хилую древесину прочь от кремлевского берега. И пока лодочное сообщение отдыхало, заречные москвичи безвылазно сидели на своем берегу. В это время их можно было брать руками — за крепостными стенами не спрячутся. Но и татары по весенней грязи не рисковали беспокоить столицу.
Единственное, что весной оставалось от мостового инвентаря — это предмостные сооружения. Там на столбах висели вороты паромов и канаты лодочных связок, стояли караулки стражи, громоздились бревенчатые быки и подъезды к живым мостам. Зимой, когда стражи не было, эти постройки густо заселялись лицами без определенного места жительства. Воры, пьяницы, беглые крестьяне и монахи, беспризорники, шлюхи, погорельцы, больные, инвалиды появлялись и исчезали, ночевали месяц или ночь, жгли костры, умирали от болезней, ран и холода, находили последний приют на льду реки или в проруби. Летом большая часть этих людей расходилась в более сытные, доходные или спокойные места. Оставались только старожилы из инвалидов — держатели «подмостков». Они как-то договаривались с мостовой стражей, приторговывали краденым.
И если нужно было что-то узнать о странных людях и таинственных событиях на московских берегах, — дорога тебе была под мост.
Как раз о странных, чужих людях донесли ребята Ивана Глухова, побывавшие под Пятницким – или как его еще называли — Воровским мостом. Несколько молодых, непокалеченных парней явились там в конце июня, держались кучкой, вели себя настороженно, скрытно. Это очень не нравилось обитателям, но делать было нечего — против силы и молодости не попрешь. Стали за группой следить. Обнаружилось, что один добрый молодец ходит в слободу к красной девице, кода на час, когда на ночь. Видно, у нее спалось мягче, чем под мостом.
Глухову не было дела до обычных воров, его занимало только сретенское покушение. И он решил на всякий случай проверить гуляку.
Однако, Глухов был привязан к подопытному Шубину указом царя. Должен был «находиться при нем неотлучно до казни». Но никто не запрещал Глухову водить ловчего за собой, — просто никому из такая вольность в голову не приходила. Однажды в субботу вечером Иван поднял «карантинную команду» — полумертвого Шубина, разомлевшего от безделия Егора, Волчка с Никитой, и они впятером потащились в известное место, где общественная красавица снимала напряжение за мелкую монету.
Шубину баб уже не хотелось, так ему и не предложили. Егор прислонил его под деревом, принуждал стоять вертикально, велел из тени не высовываться и ждать. И когда на огонек залетел знакомый паренек, Шубину подняли веки.
— Он, — сказал ловчий.
— Кто? — спросил Глухов.
— Сретенский.
— Главный?
— Младший.
Больше вопросов не было. Шубин отправился вдыхать фимиам, Глуховские хлопцы остались поджидать ночного ходока. Брать его было рано. Следовало доложить начальству.
Начальство — Василий Ермилыч Филимонов — крепко задумалось.
— Ну, возьмем мы их; выпытаем по костям и мясу, что Тучков их нанял царя укокошить. Ну и что? Это и так понятно. А зачем? – почему? — за чьи деньги? — они все равно не знают. Царь расстроится, начнет казнить подручную мелочь. Глядишь, и нам достанется...
Федя Смирной, слушая этот стон, думал аналогично, поэтому предложил свежее решение.
— Давай, Ермилыч, сдадим государевых воров на корню.
— Это как?
— Прямо с мостом!
— То есть? — не понимал Филимонов.
— Доложим государю, что шайка найдена, окружена, — считай, поймана. Но сидит под мостом, выходить отказывается. Что, государь, прикажешь с нею делать? Вот он что-нибудь и прикажет.
— Зачем это нужно?
— Чтобы занять его разум воспаленный. Придумает он ворам военную казнь, разгромит гнездо из пушек. И ни свидетелей тебе, ни возни, ни Егорке расстройства.
— Ох, и хорь же ты, Федька! — похвалил Смирного стряпчий.
Дело определилось. Можно было докладывать наверх.
В понедельник 26 августа у Грозного впервые за два месяца было хорошее настроение. С утра прискакал гонец из Ливонии и громко доложил, что войско продвинулось по вражеской территории на целых сорок верст, потерь почти не имеет, кроме двух погибших при ночной переправе. «Что за переправы ночью? – подумал Иван, — небось, купались с перепою». Гонец подошел ближе и доложил тише, что утопленники – ближние люди третьего воеводы Адашева.
— Что с ними случилось?
– Они утонули, — гонец с улыбкой развел руками.
Уже 12 дней, как истек Успенский пост, и сегодня обед прошел по «большому чину». В животе была приятная тяжесть, погода тоже установилась замечательная. После летней жары прошли ливни, гроза случилась умеренная, стало прохладно.
Иван смотрел в высокое небо над Москвой и думал, что не все еще потеряно. Души умерших уходят своей дорогой, а нам нужно пока оставаться здесь. Нам здесь хорошо.
Одинокий голубь растворился в золоте солнца, Иван опустил взор. Ослепленные глаза не замечали окружающего мира. «Сколь велико наше солнце! – удивился Иван, — все может осветить и все скрыть, все согреть и все сжечь! Кстати! – не сжечь ли Воровской мост?». Утренний доклад Филимонова о шайке ряженых стрельцов, оцепленной в предмостных срубах, тоже относился к категории добрых вестей.
На этой приятной мысли вошел Федька Смирной. Грозный коротко приказал ему идти в библиотеку, отыскать случай из греческой или римской жизни, чтобы разыграть сожжение воров вместе с мостом. Грозный улыбался, и Федор понял, что жанр постановки определен – трагическая комедия или сатирическая трагедия.
В библиотеке ничего подходящего не находилось. Библейские сцены у всех навязли в зубах, античная драматургия среди рукописей была представлена слабо. Искать можно было несколько суток, да так ничего и не найти. Проще самому написать, на школьном, так сказать, материале.
«А что? И напишу! Все равно же писать? Царю пыльные свитки не подашь, ему выписки нужны. Вот и получит выписки «по совокупности сведений».
Федя устроился в библиотеке по-домашнему. Еды прихватил, кваску, фруктов в сахаре, запасся свечами и засел на ночь. В библиотеке его стараниями теперь соблюдался порядок – паутина сметена, пыль стерта, книги разложены рядами, свитки поставлены торчком, чтоб не мялись, гроб заполнен мистической дребеденью и прикрыт попоной. На нем теперь дремал Истома. Федор брал его в библиотеку для обнаружения мышиного запаха. Но ничего, пока Бог миловал! Воняло только свечной гарью, да через узкое окошко под потолком затягивало запахи рынка и реки.
Нужно было начать с чего-то реального. Византийская библиотека включала несколько трудов по истории города Константинополя и Восточной «Римской» Империи. Летописи обрывались 1400 годом, видимо последние 25 византийских лет составляли государственную тайну и описывались отдельно. 1425 год поглотил эту часть истории огнем турецкого вторжения.
Сама собой родилась идея поставить что-нибудь Константинопольское. Федор провозился до рассвета, заснул, перебрался досыпать к себе в келью, потом дописывал сценарий по памяти и собственной фантазии. Вечером во вторник понес листы Грозному.
Царь встретил его рассуждениями, что неплохо бы приурочить действо к 29 августа. В этот четверг отмечался день Усекновения честной главы Иоанна Крестителя, царь Иван всегда был неравнодушен к этой жуткой истории. Был бы Шубин женщиной его можно было представить Саломеей, заставить плясать на мосту в голом виде, а потом отрубить ему, то есть, — ей голову. Отомстить, так сказать. Шубин хорош был на роль царя Ирода, тут и месть двойная получалась – за Иоанна и за Христа. Но что делать Ироду среди бревен Воровского моста, Грозный еще не придумал.
Федя в свою очередь предложил инсценировать поражение небесным огнем византийских отступников, разомкнувших цепь, перекрывающую константинопольскую бухту Золотой Рог. Это царю понравилось, сели обсуждать детали. Ужин Иван кликнул в свою комнату.
Глава 32. Рим и Москва
Представление состоялось 29-го, ближе к вечеру, — чтобы оттенить пиротехнику. Его организация кардинально отличалась от аналогичных мероприятий в старом добром Риме.
Во-первых, сроки. Император Калигула, например, объявил бы миру и городу о спектакле за месяц. Лучшие драматурги, известные и поныне, корпели бы день и ночь, потом получили бы по нескольку тысяч золотых сестерциев, дворцы для отдыха ума, рабынь для отдыха тела. На нужды искусства ушел бы бюджет какой-нибудь провинции, не слабее Аттики или Египта, море для водных сцен вырыли бы вручную, а корабли построили специальные — одноразовые.
У нас сценарий написали за два дня до премьеры. Денег было потрачено чуть-чуть, один драматург довольствовался кошельком серебряных монет и царским ужином, другой — вообще ничего не получил, кроме удовольствия. А что он мог получить? У него и так все было.
Народ московский узнал о представлении за день — по базарному объявлению, и безошибочно определил, что это будет очередная казнь. Других спектаклей у нас пока не ставили. Случалась еще война, но батальное представление игралось в этом сезоне на европейских подмостках. Все войска, собранные сегодня по Москве, плотными кольцами окружали несколько бревенчатых строений на кремлевской стороне реки.
Конечно, народ пришел. Вход на берега реки был свободный, погода позволяла расслабиться, торговля в разнос процветала, и пять-шесть тысяч обывателей явились с детьми и в хорошей одежде.
Чем еще отличалась наша сцена от греко-римской, так это нордической сдержанностью. Римляне завели бы музыку. Под сладкие звуки труб, арф и китар сам Император выплыл бы в центр водоема на золотом челне и громко крикнул, придерживая лавровый венок, что вот, господа граждане Рима, извольте насладиться представлением. Прошу обратить милостивое внимание на главного героя. Сей великолепный гигант будет биться с варварами на носу флагманской галеры в исполнении вашего покорного слуги. Поклон. Овация.
Мы в дудки не дули. Бой бубнов был единственным звуком, предшествующим пушечной пальбе. Представление началось без объявления. Знак к началу был подан царем Иваном, стоявшим на кремлевской стене, но публика этого не заметила. Сначала из Замоскворечья по Пятницкому мосту двинулся крестный ход. Золоченые ризы духовенства были лучшими костюмами в Москве, их модели прямо заимствовались из Византии, так что, ничего более театрального и не искали.
Крестный ход с нервным пением валко прошел по мосту, жаль только бубны никто не приглушил. Простой народ не понял, что это означает. Многие посчитали, что публика из замоскворецких церквей перебирается на этот берег прямо с праздника Усекновения. Кремлевской верхушке между стенными зубьями объяснили, что на самом деле это императоры Константин и Александр ведут православных подданных спасаться под сенью Софии Константинопольской.
Крестные ходоки скрылись в прибрежных зарослях. Они еле ноги унесли от «турецких кораблей», расходящихся сверху по течению из кильватерного строя в цепь. Это были обычные лодки на дюжину человек каждая. «Турки» бросили якоря в десятке саженей от моста. С нашей стороны к мосту тяжко погребли такие же лодки с православным войском.
Тут ухнуло, и народ радостно завопил. Деревянные ядра с обеих сторон описали дымные дуги над мостом, шлепнулись в воду и уплыли в сторону заката. Православное воинство осталось неуязвимо заступничеством Богоматери. Пощадила Дева и проклятых агарян. Москвичам стало ясно, что обычными средствами эти безобидные твари Царьграда не возьмут. Все стали ждать предательского подвоха. А чего же еще? Что является ключом к великим победам? Конечно, измена! Она просто генетически впечатана во все военные стратегии.
Предатель в белых одеждах появился немедля. Он неуверенно крался с замоскворецкой стороны. Не совсем понятно было, что затевает этот гад, но главный зритель — он же соавтор произведения — радостно хлопнул себя по бедрам: сейчас изменник разомкнет ворованным ключом золотую цепь Константинопольской бухты, и вражеский флот навалится на оплот нашей веры!
Царь крепко принял перед спектаклем. Причем сделал это неосознанно — не от чревоугодия, а от авторской дрожи в коленках, — совершенно нового, неведомого ощущения. Теперь Грозный был преувеличенно весел, возбужден, и — вот чудо! — верил, что штурм происходит на самом деле! Он даже страх перед захватчиками ощущал, правда, мужественно справлялся с ним.
— Держи его! — закричал Грозный «нашим», когда коварный предатель добрался до середины моста — «к замку». Но захват лазутчика сценарием не предполагался. Тогда Грозный крикнул:
— Разрази, Господь, скотину!
Это была пьяная отсебятина, но ближние зрители подумали, что Грозный участвует в постановке, как Нерон или Калигула. Господь подумал так же.
Сразу сработал небесный механизм. Веревка, уходящая под хитон Шубина, натянулась, сорвала тонкостенное горло глиняного кувшина у него за спиной. На антигероя и доски моста хлынуло лампадное масло, смешанное с нефтью. Нефтью же была пропитана солома в опорной посудине живого моста как раз под Шубиным. Туда из ближней лодки полетел смоляной факел. «Небесный огонь» достиг цели, солома вспыхнула, нефть ухнула дымным костром, Шубин загорелся со спины, дернулся бежать вперед, потом назад, но горели уже две лодки. Шубин упал, вкушая кару небесную.
Публика засмотрелась на этот ужас и проморгала, как из прибрежного лабаза стрельцы погнали на мост толпу в десяток ободранных мужиков. Мужики бежать не хотели, стрельцы серьезно кололи их в спину остриями пик и бердышей. К тому же группа была связана по ногам — считалось, что зрители этого не заметят. Отщепенцы — сообщники предателя Шубина — мелкими шажками достигли горящей середины и столпились обреченно. Стрелецкая стража привязала концы веревок к бревнам и бросилась вспять. Мост вспыхнул еще в нескольких точках. Одновременно с лодок нашей и турецкой стороны полетели стрелы, поражающие несчастных почему-то с одинаковым успехом. Люди загорелись, стали бросаться с моста, зависали вверх ногами — головой в воде.
Народ на берегу радостно роптал и завопил еще сильнее, когда пылающий мост вдруг выпустил сноп искр, разорвался в середине и стал разворачиваться по глади реки. Это было здорово! Казалось, огромный, невиданный корабль с огненной машиной пускает черный дым из адских топок. А кочегарами в его трюмах служат, конечно, черти. Замоскворецкая часть разломленного судна скоро прибилась к берегу — ее канаты удержали, а кремлевская — оторвалась и поплыла вдаль, вся в огне. Величественное получилось зрелище! Царь остался доволен и по-особому, по-авторски горд.
Народ расходился в возбужденном состоянии.
Стрельцы перехватили остатки моста у Новодевичьего монастыря, проверили обгоревшие трупы и долго ездили поперек реки в лодках, зорко всматриваясь в темные воды: не уплыл ли кто?
Успех хотелось повторить, развить или хотя бы подкрепить. Так после заморского блюда, добавки которого не спросишь, удовлетворяются привычным чревоугодием. Сразу и назначили казнь.
Грозный приказал Филимонову жестоко пытать адашевцев, начиная с ближней родни. Для пытки жены окольничьего велел использовать рассказы о Марии Магдалине и ее детях. Кто-то из них ведь мог быть ублюдком Алексея? Пытки следовало завершить до воскресенья, и казнить воров непременно на Красной площади. А то все Болото, да Болото! Многие туда не ходят.
Камеры черной гридницы проветрили, выкинули оттуда кровавые тряпки и грязную солому. Зарядили свежей подстилкой и стали заселять узниками. Толпу пригнали изрядную – 16 человек.
Брат Алексея Адашева Данила с 12-летним сыном бежать не успели, — за ними все летние месяцы велся пристальный надзор. Тесть Данилы Туров считал себя совсем дальним родственником и очень удивился приводу. Зато жену Адашева, в девичестве Сатину — самую желанную персону — проворонили. Московская градская стража поверила, что покинутая женщина собирается постричься в Новодевичьем монастыре, проводила ее до монастырских ворот, пошла доложить. Адашиха тут же выпорхнула из ворот в лодку.
Упущение по этой линии пришлось исправлять заменой. Трое братьев Сатиных сели в ямы за сестренку. Всего получилось шесть родичей, и это было категорически мало! Имелся некий психологический порог, которым оценивалась сыскная служба, — магическая цифра 10. Спросит вас государь, сколько врагов нахватали? – больше или меньше десятка? Что вы ему ответите? – Меньше? – Эх, вы!
Пришлось искать по окраинам и ближним вотчинам каких-нибудь Адашевых. Но в итоге ухватили целый выводок Шишкиных. Они Адашеву были седьмая вода на киселе, зато комплект полный! – Иван Шишкин, его жена, трое детей. Участвовал ли Шишкин в разграблении национального достояния? Пользовался ли родственной связью для политических интриг у себя в деревне? Не был ли тайным сосудом в деле об отравлении? – неизвестно. Но на то оно и следствие, на то она и пытка, чтобы получить ясный ответ!
С родней получилось нормально. Еще удачно схватили семейство князя Курлятьева. Этот теоретик ни сам не сбежал, ни детей с женой не спас.
Грозный горько сожалел, что отпустил Сильвестра, порывался послать отроков за ним и Адашевым, но Филимонов его успокоил:
— Возьмем, батюшка, куда они денутся? Надзор ведется крепкий. Давай сначала с этими разберемся.
Грозный остыл, Филимонов подставился. Он лишь погодя понял, что жизнь его теперь напрямую зависит от прихоти Адашева – бежать через литовскую границу или казни дожидаться. А, впрочем, какая разница? Царь и так в любой день может придраться. От судьбы не уйдешь. Такая служба. А не хочешь, — не служи!
Задержанные толпились в центральной комнате гридницы, дети плакали, и Филимонов схватился за голову: как их расселять? У Ермилыча имелась система – родственников вместе не держать, баб и мужиков тоже.
Возникла математическая задача. Филимонов вызвал Смирного, и они долго рядили: кого пытать вперед, кого потом, до кого очередь не дойдет вовсе, — оставалось-то всего два дня, да две ночи.
Детей решили отставить сразу – крику много, сведений ноль, Егорке —расстройство. Племянника Адашева, трех детей Ивана Шишкина и трех малолетних Курлятьевых вернули в ямы до казни.
Особый интерес вызывали показания князя Курлятьева. Он был единственным схваченным из трех китов оппозиции. Его следовало разговорить обязательно. И это было возмутительно – распотрошить такого крупного гуся за двое суток! Филимонов просто крякал с досады.
— А давай, Ермилыч, его вовсе отмажем от воскресенья.
— Ты что! Как отмажешь, когда царь прямо сказал «казнить»?!
— Сам сказал, пусть сам и пересказывает. Я поговорю с ним. А ты пока тут Шишкиных да Сатиных крути.
«Вот наглый!», — еще раз крякнул про себя Ермилыч.
Федя пошел к Грозному, с час околачивался за дверью, пока Иван выл и хохотал. Это доктора Элмс и Робертс пытались измерить скорость перемены его настроения. Слишком уж часто и быстро происходила эта перемена. Вот и на этот раз англичане не успели ее засечь, пришлось им срочно отступать за дверь.
Федор вошел опрометчиво, без паузы, и едва увернулся от сапога. Зато настроение Ивана опрокинулось обратно: он рад был увидеть простое русское лицо после сонма двоящихся и троящихся англичан.
— А, Федька! Заходи, чего желаешь?
— Дело есть, государь...
— Это хорошо, что у тебя есть дело, а то я вот собираю всех бездельников Ливонию добивать.
Грозный захохотал. Федя улыбнулся.
— Я, государь, прошу совета...
— Ты с ума сошел. Это я у тебя прошу совета, а ты кто такой, царей в советниках держать?
— Ну, не прошу, просто доношу. Князь Курлятьев, по моему мнению, очень много знает.
— Как же ему не знать, Федя, когда он столько лет при дворе все углы вынюхивал? Еще неизвестно, кто из них троих страшней и умней!
— Вот я и прошу придержать князя, не казнить пока. Давай выпытаем побольше.
— То есть ты! – просишь!! – за изменника!!! – глаза царя помутнели.
Вот она была – граница перемены настроения!
— Да нет! Я прошу против изменника! – Федя опять улыбался ребенком, — он то, небось, рад быстрее от мук избавиться.
Настроение отступило от границы.
— Ну, попридержи, попридержи...
Царя охватило расслабление, хоть снова врачей вызывай.
Федя убрался на цыпочках.
Глава 33. Видение Красного Коня
Приступы душевной лихорадки случались с Иваном и раньше, а в эти летние дни после смерти Насти наваливались регулярно — на границе ночного и полуденного сна. У царя и сна-то нормального больше не было.
Сейчас он сидел в кресле, руки, немые и окоченевшие, вжал перед собой ладонями в стол, и окружающие не замечали, что Иван удерживает комнату от медленной, изматывающей качки. Впрочем, никаких «окружающих» рядом не было, попрятались все.
Больше всего Ивана беспокоили глаза. Их просто некуда было девать. Они раскачивались в пространстве и не задерживались на объектах. Поведение глаз было не их виной, но их досадой. Не в глазах заключалась причина качки, а в самих окружающих предметах. Эти предметы были двух типов: обычные, надоевшие комнатные вещи, мебель, занавески, постельные тряпки; и неуловимые, неожиданные туманные образы — то ли живые, то ли нет. И пусть бы это были привидения, духи, бесенята, в конце концов, но привязанные к текущему времени. Пусть бы, например, ежевечерне являлся призрак разорванного Шуйского, пусть бы сидел в уголке, говорил обычные свои гадости. Рукав штопал. Но нет! Видения менялись непрестанно. Животные обращались людьми, люди прорастали травой и листьями, меняли чины и звания, мужчины вдруг пели женскими голосами.
Пугали не сами эти чудеса, — к чуду нас приучали с детства. Но церковные чудеса сопровождались четкой моралью, значением, тут же значение было неясным, жутким. Иногда вдруг проявлялась какая-нибудь знакомая фигура, делала естественные движения, говорила понятные слова, но потом сбивалась на невнятную скороговорку, теряла форму, двигалась вопреки земному притяжению.
В мире здоровых людей самым необычным времяпрепровождением мозга считается сон. Он дарит свежие ощущения, наделяет спящего силой, новыми способностями. Ты вдруг начинаешь уверенно говорить по-немецки или залихватски барабанишь по клавишам. Некоторые даже стимулируют сновидения предосудительными средствами. У царя Ивана все было наоборот. Он отдыхал во сне от неожиданностей бессонной жизни.
Тут нужно было тонко уловить момент перехода. Иногда выходило удачно: среди болезненных видений выделялось хорошее, доброе, и с ним Иван погружался в сон. Тогда всю ночь он отдыхал в окружении добра. Но стоило задремать на какой-нибудь гадости, и она тоже фиксировалась на ночь, вертелась безостановочным волчком, выла на одной ноте. Если Ивану удавалось порвать такой сон, проснуться заполночь, он спускался к благовещенскому алтарю и тихо молился. Если наваждение не отступало, царь вставал только с солнцем, чувствовал ломоту во всем теле, раздражался по мелочам.
Недавно он заметил еще более ужасную вещь.
В прошлую осень, еще до освящения храма Покрова, до похода по монастырям он сидел вот так же и боролся с мороком. Шло заседание думы, бояре говорили в свой черед, но Иван не мог отвечать им. Вокруг кружились посторонние лица, менялись среднерусские пейзажи, монахи проходили на богомолье, войска спешили по своим делам. Вдруг какой-то оборванный, грязный, худой калека выкатился из толпы паломников и бросился под копыта конницы. Лошади погружали в его тело острые копыта, брезгливо ржали, всадники норовили огреть урода плетью. Но он не замечал страданий тела и кричал: «Вернитесь, вернитесь, вы все умрете!». Когда пророчество прозвучало раз десять, князь Борятинский — молодой начальник передового отряда — осадил коня и спокойно спросил калеку:
— Ну, что ты каркаешь, земляк? Как же мы умрем, когда идем только до Оки и обратно?
— А там и умрете, сынок! Кто от татарской стрелы, кто от студеной воды, а тебя волки загрызут...
Ударил колокол, — это наяву звонили к вечерне, и видения исчезли. Иван задумался, не от нечистого ли его болезнь, раз благовестом прерывается? Он забыл о картинке с юродивым, поехал по монастырям. Потом заболела Настя.
В марте, когда войсковое пополнение уходило на Ливонию, из Коломны прискакал гонец с вестью о татарах. Отряд в две сотни крымских всадников был замечен за Окой, и местный воевода беспокоился: не идет ли следом большое войско?
— Это он у меня спрашивает?! — Иван гневно затопал на гонца, — пусть разведает и доложит!
Ливонское пополнение пришлось придержать на две недели. В середине марта снова прискакали из Коломны. Коломенский воевода докладывал — на этот раз письменно, — что разведка состоялась в два приема. Сначала сотня княжича Дмитрия Борятинского перешла Оку по льду, обнаружила следы кострищ, увидела дым на горизонте и настигла татар. Татарский полк — до тысячи сабель, почти без обоза, без пехоты — уходил на юго-запад. Наши неожиданно выскочили ему в хвост и порубили «несметное» число нехристей, но были отбиты, опрокинуты вспять. Татарская конница преследовала разведчиков до Оки, выгнала на подтаявший лед и частично утонула вместе с русскими, частично — растаяла в южной дымке. Второй коломенский отряд за Окой татар не нашел, подобрал нескольких раненых и привез в Коломну тело князя Дмитрия. Борятинского похоронили в закрытом гробу, — его лицо, руки и грудь были объедены голодными волками...
Иван выслушал доклад, отдал приказ отправлять ливонское пополнение и задумался: где-то он уже слышал о гибели молодого князя!
Догадка пришла ночью: «Юродивый! Он еще полгода назад предрекал волчью смерть! Но ведь нет никакого юродивого! Это же мой сон!», — Иван покрылся холодным потом.
Болезнь предвиденья случилась еще раз: он видел Настасью в белокаменном гробу. Но это не считалось, конец Настасьи был предсказуем.
И вот теперь Иван жестоко страдал: видения навалились с новой силой, и он не знал, каким верить, каким нет.
Сегодня за обедом Иван увидел, что встает на него вся русская земля.
Вот молодые белокурые всадники мчатся по городам на красных конях, трубят в трубы, скликают народ на царя. И народ соглашается: царь ему не нужен, может он и без царя вспахать и посеять, тем более — собрать урожай. И берет народ колья, цепи, косы, серпы и вилы, идет на Москву вязать и казнить Ивана.
Иван понимает, что сам народ до такого разбоя догадаться не мог! И хлопцы белобрысые, похожие на Федьку Смирного, тоже не своим умом седлали красных коней. Закричал Иван: «Измена! — найти Смирного!».
Обеденные бояре испугались царского крика, подумали, что Федька разоблачен, и побежали за Смирным. Данила Сомов приволок его в палату. Тут на столе еще была еда, но бояре-дворяне, — в основном Кошкины, — разбежались.
— Что за конь у тебя, Федька! — строго спросил царь.
— Обычный. Мерин Тимоха. Глуповатый конь, государь. А что он натворил?
— Какой он масти?
— Сивой.
Грозный облегченно вздохнул.
Сомов был удален. Царь сосредоточенно доел что-то со своей тарелки. Спросил:
— Как считаешь, может народ не любить государя?
— Может...
— Да как ты смеешь!..
— Ну, не весь народ, а частями. Тучков он как — народ или нет?
— Тучков — боярин! Он выше народа.
— Так он же враг твой, как же выше? Не может враг быть выше друга!
— Весь народ в друзья не возьмешь! Есть боярство, а есть земство — а это вещи разные. Если боярство изменяет, может и земство изменить?
Федя не понял, куда клонит Грозный, и ответил правду:
— Может.
Смирной ушел. Царь остался на последней фразе и впал в бесчувствие. Ему снова виделись красные всадники, и теперь он точно знал, кто это! Великое русское земство, весь народ от мала до велика седлал Красного Коня! Народ делал это неспеша. Народу некогда было регулярно замышлять измену, он то в поле работал, то в кузнице, то на току. Но в воскресенье, после церкви народу делать было нечего, и он украдкой отправлялся в конюшню. Там, за запретной дверью стоял крепкий, сытый, начищенный боевой жеребец огненной масти с искрой в безумных глазах. Жеребец ждал. Он был почти оседлан, взнуздан, в седельных сумках блестели пистолеты заморской работы, за седлом висели колчан и саадак. Богатырский конь!
Ивану стало страшно, он испугался коня, хотел бежать, но от коня разве убежишь? Лучше и не пробовать!
Но ведь не конь виноват в его беде? Кто-то подзуживает, снаряжает коня? Вот уже подтянута подпруга, подковы новые блестят...
А! Это земство! Не зря бродяги в кузнях околачиваются!..
Иван понял смысл сна. Он был ужасен, но уже не так страшен, как прежде. Любая, сколь угодно великая опасность, если она была понята, бодрила великого государя. Он ведь был богатырь! Это к его коню подбирался с воровским ножичком подлый народ!
Иван заснул спокойно. Справляться с народом было для него привычно.
Утром следующего дня у подножия царского кресла стояли Данила Сомов, Иван Глухов, Федор Смирной и Василий Филимонов. Всем, кроме Сомова, был задан вопрос: «Сколь велика Москва?». Сомов на него отвечать не собирался и наблюдал, как троица сыскарей тужилась безуспешно.
И быть бы невеждам битыми, если бы Смирной не переспросил в своем дурацком обычае:
— Тебе как, государь, посчитать — в избах, церквях, десятинах или головах?
— В головах давай, — уже без угрозы подтвердил царь.
— На этот ответ нужно от двух дней до двух месяцев.
— Что так по-разному?
— Смотря, какой точности пожелаешь. Если каждого человечка захочешь узнать, два месяца провозимся. Денег потратим тоже тыщи две. Золотом. А если нужно приблизительно — в тысячах, то за пару дней задаром прикинем.
— Через пару дней у нас воскресенье, Данила? — царь скосил на Сомова хитрый взгляд, — кого казним?
— Никого, — ответил бывший псарь.
— Как так? — продолжал ехидствовать Грозный, переводя глаз на Филимонова, — ты что ж, Ермилыч, всех воров распустил? Нехорошо казенный запас расхищать...
— Воров у нас всегда в избытке, — снова вылез Федька, — только в воскресенье казни не будет.
Грозный налился красным. Сомов попятился, — сейчас лопнет, помрет или разорвет Федьку без воскресенья.
— В воскресенье, 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, государь. Мы на Рождество не казним — по твоему указу и с благословения святейшего митрополита...
Ну, что ответить наглецу? Царь осел в кресле, махнул вялой кистью, выдавил три слова:
— Ступайте. Два дня.
Глава 34. Как кот Истома спас государство Московское
Красный Конь! Масть коня в цвет событий — это просто Апокалипсис какой-то!». Грозный взял том Нового Завета, стал медленно листать, нашел Откровение Иоанна Богослова.
«Одни Иоанны! Предтеча-Креститель, Богослов, дед Иван Горбатый, — все подсказывают путь.
Вот, вот, смотри-ка! «Увидел я: Конь белый. Сидящий на нем имеет лук и венец для победы», это князь, военный.
И вот опять: «Конь вороной. Сидящий на нем имеет мерило», — это понятно, — купчишка, торгаш. Или судья.
И еще: «Конь рыжий. Сидящий на нем пришел взять мир у земли, чтобы один убил другого. И был у него меч великий!» — Вот! — это Красный Конь, зверь раздора!
А за ним: «Конь бледный. Сидящий на нем — Смерть! — и Ад идет вслед за ним. И дана ему власть истребить людей на четвертой части земли оружием, голодом, зверьем».
«Кто я? — думал Грозный, — на каком коне еду? И кто на меня?».
— Как раз вся Москва! — ответил рядом чей-то голос, и подкожные судороги опутали тело Ивана.
Три темные тени стояли у престола полукольцом. «Всадники! Вот этот толстый — Купец. Сутулый старик — Белый победитель. Мальчишка — Красный всадник! А я?.. — Смерть?!».
Иван нашел силы перекреститься, и — слава тебе, Господи, Спаситель Пресветлый! — отпустило!
Толстяк оказался не купцом, а Прошкой-подьячим, Белый рыцарь — дознавателем Филимоновым, и только Красный всадник по-прежнему был очень похож на Федьку Смирного!
— Так что, государь, всей Москве счету — полтораста тысяч. Но это с бабами и детьми. Мужиков-хозяев из них — тысяч тридцать. А с работящими сыновьями — пятьдесят. Вот тебе и вся Москва.
— А кони?.. — невпопад спросил Грозный.
— Коней ты не спрашивал. Но тысяч сорок есть. Если тебе кони нужны, ты лучше в подмосковных деревнях поищи. Там на каждого москвича по коню наберется.
— Зачем?! Зачем?! Не нужно! — Грозный выдохнул. — Не нужно коней собирать...
Только тут Федор понял, что Ивану плохо, и это как-то связано с конским вопросом.
— Бог с ними, конями, — Федька снова взял домашний тон, — нечего им на Москве делать. Тут и моего дурака Тимохи достаточно.
Смирной скалил зубы, и царь успокоился, отпустил молодых и старого.
Палата опустела.
«Всего пятьдесят тысяч, — думал Иван, — под Казанью мы больше порубили! А там битва средненькая была, не в пример Куликовской. На Непрядве одних наших полегло 150 тысяч — вся Москва, да татар мы погубили на три Москвы. Пятьдесят — это ничего. Это легко».
Иван снова открыл заветный том. Страшная книга! Болезненная, неуловимая. Смысл ее скрыт, обманчив. Буквы несутся конницей по бескрайним снежным полям, улетают железными птицами в пустынное небо. С ее страниц сходит прекрасная женщина, одетая в порфиру и багряницу, украшенная золотом, камнями и жемчугом. В руке ее – золотая чаша. Женщина подходит к Ивану и протягивает чашу. От чаши идет мерзкий, но возбуждающий запах блуда. Иван поднимает глаза и видит страстное лицо. Золоченые волосы колышутся небесным эфиром, пряди разлетаются, и Иван читает на лбу красавицы мутные синие буквы тайного языка. Татуировка почему-то понятна Ивану, — это имя женщины: «Вавилон! – мать блудниц и мерзостей земных».
«Но Вавилон – это город? – понимает Иван, — значит город – средоточие зла? Правильно! Где блуд уличный? Не в деревнях же! Где разбой и воровство? – здесь, в Москве! Откуда прорастает измена? – отсюда, с этих площадей, из этих палат, теремов, трущоб».
Тем временем девка уселась верхом на колени Ивана и стала шарить у него под кафтаном. Отчаянье охватило царя, он не знал, как быть. Но тут появился человек в белом, за спиной его шевелились пушистые опахала – Ангел! Он ткнул в девку указательным пальцем и крикнул так, что стекла задрожали:
«Пала столица – великая блудница! Стала жилищем бесов, пристанищем нечистых духов! Яростным вином своего блуда напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы разбогатели от великой роскоши ее!».
Девка и бровью не повела. Ее тело сотрясалось то ли хохотом, то ли экстазом.
Ангел умолк и глянул в небо сквозь низкий потолок. Оттуда грянул строгий голос, во сто крат сильнее ангельского:
«Выйди из нее, народ мой! Не участвуй в грехах ее и не подвергнешься язвам ее! Уже до Неба дошли эти грехи и озаботили нас. Воздай ей так, как она воздала тебе!».
Голос умолк, вавилонская красавица капризно надула губки и соскочила безвозвратно. Ангел тоже убрался, но посуда еще долго позвякивала в поставцах. Этот звон слился с вечерним благовестом, и Иван спустился в Благовещенский храм.
«Казнить ли блудницу?», – спросил он у Бога. Бог ответил гулким, неразборчивым эхом. Это эхо наполнило церковь с отъездом Сильвестра, то ли просторнее тут стало без протопопа, то ли совсем пусто.
«Казнить! И время подходящее! Осень. От Рождества Богородицы до Покрова, в память успения Настасьи, как раз успею!».
«Пошлю Сомова поднять псарей, соберу черный народ в ближних городах, пошлю в войско крикнуть «измену», отдам приказ стременным. Окружим посады, запалим. Все побегут за стены, — запалим Кукуй, Белый Город, Китай, потом и Кремль! На реке поставим лодки, будем топить! Жечь! Рубить!».
Иван еще долго рассказывал Богу, как он будет уничтожать тварей земных, но Бог молчал. Он сомневался: станут ли стременные Истомина топить в реке своих детей и жен, бегущих из пылающей стрелецкой слободы? Скомандует ли Ганс Штрекенхорн рубить немцев-ремесленников на Кукуе? Помогут ли монахи поджигать монастыри и церкви?
Иван начал проявлять нетерпение. Зуд расползался у него под кожей.
«Господи! Как мне быть? Ответь! Наставь на путь, благослови на подвиг очищения!».
Купол молчал, но зашуршало внизу. Справа от алтаря промелькнула черная тень.
«О, Господи! Покинул ты меня, но эти здесь!», — Иван повернулся на коленях и обмер. Из-под икон правого притвора зеленым огнем горели преисподние глаза.
— Стража! Истомин!! – завопил Иван, и на этот крик глаза погасли, но черная тень возникла вновь, размножилась в перекрестном свечном пламени, разрослась, заполнила все пространство.
— Исто-омин!!! – завопил Иван смертным криком, будто телохранитель мог спасти его душу.
Тень метнулась к Ивану, коснулась лица, прижатого к плитам пола, и устремилась к алтарю. Там на поставце лежала Библия Василия Великого – самая ценная книга Московского царства. Но даже она не остановила адскую тень! Иван медленно поднял взгляд, — сатанинские глаза пылали из развернутого фолианта.
— Господи! – заплакал Иван чистосердечно, — прими мою душу! Нет на земле ей покоя...
И сразу погас зеленый огонь, воздух успокоился, ладан больше не отдавал серой. Иван еще приподнялся и увидел, как от книги Василия Великого отделяется полоска бумаги, летит к Ивану, ложится у ног. На полоске было написано:
«...Думай о времени поступка. Его, как вещь, можно использовать сразу, а можно отложить про запас».
«Отложить!», — радостно воскликнул Иван. Он широко перекрестился, всем сердцем устремился под купол, изливая в небеса радость несусветную.
И поднимаясь в спальню по скрипучей лестнице, он еще раз прошептал про себя: «Отложить. Про запас».
Москва была спасена.
Глава 35. Повальный обыск
Москва могла спать спокойно, но люди, враги, — они-то должны были понести кару? Их зачем про запас откладывать?
Прозвучал приказ приступить к повальному обыску.
Термин «повальный обыск» за пять веков изменил свой смысл. Сейчас мы понимаем его как тщательный, поголовный шмон, обыск в материальном смысле, когда потрошатся шкафы и сундуки, вскрываются тайники и сейфы, в книжных рядах ворошатся страницы. Ищутся и обычно находятся деньги, оружие, наркотики.
Средневековый «повальный обыск» был намного благороднее. Вообще, это не поиск вещей, а фильтрация сведений, групповой детектор лжи без применения технических средств — если не считать таковыми кнут обыкновенный и плеть усиленную. Для повального обыска набирается группа подозреваемых — чем больше, тем лучше. По мелким и средним делам достаточно 5-10 человек. По делам масштабным берут по 40 и по 100. Естественно, стараются привлечь людей, хоть сколько-нибудь знакомых с интересующим предметом. Рассаживают их по одному.
Начинается подготовка. Стряпчий составляет анкету. Вопросы анкеты должны полноценно охватывать наш интерес, от «Известен ли тебе окольничий Адашев?» – до «Чем сей враг погубил царицу Настасью?». Вопросы конкретные разбавляются дурацкими, типа «Какой конь лучше — бледный или вороной?».
Арестанты вызываются поочередно и отвечают на вопросы анкеты. Не стоит надеяться, что вы сразу раскроете дело. Фокус не в этом.
Из массы респондентов выделяются те, кто на очевидные вопросы дает уклончивые или заведомо ложные ответы. Если мужик отвечает, что вороной конь пашет злее, а у бледного, видать, малокровие, — гоните его в шею. А если начинает крутить, мол, купец, герой, царь и разбойник одинаково смертны, — берите его на заметку. Если он врет очевидно и заметно, — хватайте его! Это слабое звено. Таких господ оставляют для теплой беседы, остальных отпускают или консервируют впрок. Пытать их вредно, они оговорят себя, и вы запутаетесь.
Теперь начинается жестокая порка врунов. Именно из их тел есть шанс выжать истину.
Повальный обыск, объявленный по приказу Грозного начался сразу после Рождества Богородицы. Кроме родственников Адашева, по листу Филимонова опрашивались почти все дворцовые слуги, вообще все люди царицы Настасьи, остатки июньского захвата по Тучковскому делу, сторожа и даже несколько стрельцов Истомина, побывавших за лето в горячих точках — при ямах, на казнях, в облавах.
Главной целью опроса Филимонов считал данные на князя Курлятьева — других членов Адашевской партии под рукой не было. Самого князя Ермилыч раскрутить не надеялся. Высокий, гордый мужчина строгой наружности вряд ли поддастся моральному давлению. А физически пытать князей без полной уверенности и приказа царя не полагалось.
Основными в листе, таким образом, были вопросы о подозрительных высказываниях князя Дмитрия, слухи и сплетни вокруг его терема. Ермилыч замаскировал курлятьевскую тему всякой ерундой — «Не слыхать ли чего о колдовстве?» да «Не было ли во дворце весной и летом чужих людей?» и приступил к «обыску».
По Курлятьеву ничего определенного не получалось. Двое ушлых слуг, почуявших куда ветер дует, сказали было, что точно ничего не знают, но вообще князь Дмитрий им никогда не нравился. Филимонов с полным правом отдал их Егору. Кнут взвизгнул по разу. Холопы, ошалевшие от непонимания, завопили, что готовы за князя Дмитрия в огонь и в воду!
Отправили уродов в яму.
Шли третьи сутки «обыска» — и все напрасно. Филимонов заметно приуныл, без видимого интереса рассматривал бледные лица свидетелей, лениво спрашивал, не очень внимательно слушал. Одним из последних пригласили Мирона — комнатного слугу ключника Петрова. Его, как и других дворцовых, взаперти не держали, — Анисим сам его привел и настойчиво просил не слишком прижимать. Ручался за парня. Мирон производил впечатление простецкое. Отвечал бойко, открыто, старался добавить больше подробностей, и Филимонову приходилось его прерывать. На вопрос, не видал ли во дворце чужих, Мирон сказал, что чужих дальше крыльца не пускают, а народу и своего предостаточно толчется, — всех не перечесть.
Филимонов отпустил слугу, но последние слова задели его. Тут подвернулся Смирной.
— Слышь, Федор, ты коней царю посчитал?
— Нет, он больше не спрашивает.
— А людей?
— Тоже не беспокоит. Ты думаешь, я наврал про 150 тысяч? Могу доказать. Ошибаюсь тысяч на пять в ту или другую сторону. В Москве четыре города, пятнадцать слобод, сто шестьдесят околотков ...
— Да нет, я о другом. Москву ты посчитал, а Кремль в нее входит? Ты его отдельно считал или как?
— Кремль значения не имеет, тут и тысячи народу нет.
— «Кремль значения не имеет», — так и запишем! — улыбнулся Ермилыч.
— А, правда, Федя, сколько тут людей? Московское число Кремль не очень повышает, а число подозреваемых? Как узнать?
— Это Прошку надо спросить. У них в Приказе списки есть. Должны быть.
Господина Заливного испугали ночным вызовом в «обыск». Он спросонья подумал, что и его по листу начнут спрашивать. Смирной именно и спросил:
— Господин подьячий, что можешь сообщить о числе слуг, поваров и прочих людей в Кремлевском дворце, внутренних монастырях, постоянной страже?
Прошка опал на лавку. Дали ему квасу. Толкнули в бок. Ожил.
Поставили вопрос по-человечески, и оказалось, что списков нет. Обычное дело. Одних нанимают с порукой, других бояре притаскивают из вотчин. Разный народ шатается. Но пересчитать можно. Уже не жарко. Вспотеть не страшно.
Списки людей составляли почти неделю. Опрашивали дворцовых: от дворецкого и ключников — до сторожей и богомолок.
Потом Федор засел за невиданное, скорее всего — опасное, греховное «письмо». Но чего не сделаешь ради службы? Русское самопожертвование во имя начальства включает не только жертву тела, но и жертву души.
«Письмо» состояло из множества тонких линий, начерченных одна под другой. Над каждой линией было написано имя. По краям — буквенные обозначения дат.
— Что это? — с любопытством и страхом спросил Прошка.
— Называется «табула графика». Таблица эта показывает, когда люди появлялись во дворце, когда исчезали.
— А кто не исчез?
— Эти помечены общим числом. Вот — сто тридцать восемь. Они тут с прошлого лета неизменно находились. И сейчас есть.
— А это кто? — Прохор ткнул пальцем в верхнюю полоску графика. — Тянется с самого начала, кончается вот тут?
— Это царица. Она весь год была. До 7 августа. Понял?
— Понял, — соврал Прошка, — а ты чего еще понял?
— А вот смотри! — Смирной удивлялся собственному произведению, — конец июня. Линия Сильвестра прерывается. За ней кончается только одна линия — царицы Настасьи.
— Ну, и что?
— А теперь смотри сюда. Вот май. Адашев уехал в войско. Его линии тут нет, он не дворцовый. Но сразу обрываются три линии. Первая — конюх Макар...
— Правильно, он Адашевских коней в нашей конюшне холил. Уехал с хозяином.
— А это сенная девка жены Анисима Петрова — Марфа. Она куда делась?
— Спроси Петрова.
— А это кто? Так, — это сторож при Боровицких воротах Панин. С ним что?
— Панина помню. Старый такой, хромой. Еще при князе Василии на Смоленск ходил. Этот честно помер в сторожке. Простудился говорят, весь был охвачен сквозняком, его прямо крутило. Потянулся он за бутылкой с лекарственным настоем, бутылку сослепу не нашел, так и упал замертво.
— А что за настой?
— Обычный. Три фунта малины сбродить на хмелю или дрожжах, держать в тепле три недели и так далее. Принимать три раза в день перед закуской.
— Ну, ладно, давай к Петрову.
Анисим ответил, что да, девка Марфа жила тут года два.
— Весной сказалась больной, будто ее кто-то обидел по бабской части. Отпросилась домой. Должно быть, там сидит.
— Как служила?
— Хорошо. Жена была довольна.
— К царице входила?
— Ну, когда посылали, или, бывало, царица сама окликнет. Честно сказать, не обращал внимания. Она добрая, спокойная девка была. Я хотел ее болезнь исцелить, найти обидчика, но она не призналась, уехала.
— Знаешь, Анисим, узнай-ка потихоньку, где деревня Марфы, чья она по прозвищу, как найти. Донесешь Филимонову.
Петров согласился с трепетом.
И еще через неделю он стоял перед Василием Ермилычем, мял в руках дорогую шапку с бобровой опушкой и бормотал немыми губами: «Не погуби! Не погуби!».
Филимонов обещал Анисиму не губить. По возможности. Если Грозный не потребует на просмотр всех листов.
— А в лист, сам понимаешь, мы это занести должны.
Занесено было следующее.
Девушка Марфа Игнатьева 19 лет, представленная Петрову в 1559 году стряпчим Дворцового приказа Михаилом Сатиным (»Э-эх, мать твою!» – отметил «Сатина» Ермилыч), сказалась костромской мещанкой. В Костроме назвала Рыбий конец, дом ее отца Захара Игнатьева – третий от церкви Преображения. В начале мая отпросилась со службы по женской болезни, будто бы приключившейся от неласкового обращения некоего «мужа». Имени «мужа», и чей он собственно муж, не назвала, от огласки отказалась и уехала в Кострому. Посланный туда для розыска старший подьячий Иван Глухов доносит: Рыбьего конца в Костроме никто не знает; церковь Преображения находится не в городе, а в монастыре, в 12 верстах; по приходским спискам найдены два мещанина Захара Игнатьева. Оба умерли: один в 1499-м, другой – в 1521 году. Марфа Игнатьева, таким образом, не может быть дочерью ни одного из них.
Сатиных пытали жестоко. Двое старших выли, соглашались признать, что угодно, но ничего не знали. Егор на всякий случай прижег их до полусмерти, — облил водой, бросил отдыхать на солому.
Младший Сатин, Мишка, видя серьезность Филимонова и, тем более, Егора, стал вываливать все и сразу. Поэтому его пытали не ударно, — когда на испытуемого обрушивается сразу весь арсенал, а по нарастающей. Удар Мишка получил эмоциональный, теперь говорил под плетью, а дыбу и огонь ему предстояло пройти на закуску, «для закрепления» – не забыл ли чего.
Мишка рассказал, что в Приказ его устроил Адашев по просьбе сестры. Ничего вредного делать не просил... – удар плетью! — и не заставлял.
— О приказных делах говорили очень редко, всего пару раз. Как-то у Адашева после застолья обсуждали посылку войск на Ливонию... – удар! – что войско в хорошем состоянии и должно воевать исправно. В другой раз, когда не помню, просил посмотреть запись о сенной девке Марфе... – легкий удар, — но запись не нашлась. Тогда Адашев велел внести запись со слов Марфы, что и было сделано.
Все. Мишка заплакал.
Ермилычу не было жаль Сатиных...
Нет. Сатиных Ермилычу, конечно, было жаль. По-человечески он сожалел об их неминуемой кончине. Тем более, двое старших, скорее всего, невиновны. Но, если принять казнь за неизбежность, то зверские пытки уже не имели гуманитарного значения. Сатины были покойниками. Их муки уже не относились к этой жизни. Им фактически было все равно. Кричала их бессмысленная плоть. Допытать их следовало для порядка. Порядок в делах и бумагах относился к этой жизни.
Глава 36. Конь Бледный, Конь Вороной
Дети казненной Марии Магдалины недолго отдыхали в лесной землянке. В первых числах сентября на дороге раздался топот коней, скрип телеги. Дети и женщина спрятались в лесу. Они выглядывали из-за сосен и молили Господа, чтобы с приезжими не было собак.
Но появился только один всадник. Он был весь пыльный – от шапки до копытной шерсти коня. Следом ехала телега тоже с единственным седоком. Мужичок со страшными ожогами на руках и забинтованным лицом почему-то очень радостно озирал лесную природу.
—Эй! – крикнул черный всадник, — есть кукушата у иволги?
«Иволга» отозвалась свистом, и скоро все сидели у костра. Ели быстро, еще быстрее бросали на телегу скудные вещи и запасы еды. Не прошло и часа, а телега с детьми и всадник скрылись за поворотом дороги.
Женщина снова осталась одна. Что делала она здесь? Чего ждала? Как собиралась зимовать? Никто не знает. Должны же быть хоть какие-то тайны у простых людей?
Пока Борис Головин вез детей Марии в Новгород, пока единственный выживший на огненном мосту «ряженый» прикидывался прокаженным на заставах, по необъятной среднерусской пустыне скакала еще одна группа всадников...
Не подумайте, что копыта лошадей вязли в песке. Пустыней бескрайнюю местность я называю потому, что на сотни верст вокруг не было никаких существенных поселений. Крестьянские деревушки жались к рекам вблизи немногих городов, темные, непролазные леса покрывали все остальное пространство. Однако, такое ощущение о нашей земле следует признать поверхностным. Вы должны, просто обязаны удивиться, когда я скажу, что под дубовыми и сосновыми кронами, меж великих рек и озер скрывалась лучшая в мире транспортная система.
Мы ее не сами придумали, она осталась нам от татар. В наследство, так сказать, или «в порядке компенсации за оккупацию».
За триста лет до описываемых событий татары овладели нашей землей на уровне международного признания, и им захотелось владеть ею на деле. Препятствовали правильному владению два русских обстоятельства – мы с вами, дорогие друзья, и наши дороги. С нами ничего поделать было нельзя, кроме повседневного принуждения к труду и регулярной отчетности. Стали нас считать и облагать скромным 10-процентным налогом. Стали пытаться взымать этот налог. И чтобы добраться до каждого налогоплательщика, татары перенесли в наши леса свою степную транспортную схему, отработанную веками.
Через каждое «поприще» – среднее расстояние, которое можно проехать, «пропереть» за день (около 20 верст), были устроены «ямы». У татар в степях это действительно были ямы, прикрытые войлоком, у нас – землянки и избушки для «станционных смотрителей». Прогон от «ямы» до «ямы» стоил 6 копеек. При «ямах» (не путать с местами заключения) содержался достаточный запас сменных лошадей. Не все путешественники, конечно, соглашались менять своего боевого друга на казенную клячу, но приказные гонцы, работавшие сдельно-повременно, менялись с удовольствием. У русско-татарской ямской системы имелось серьезное правовое обеспечение — подорожная грамота, происходящая от чингисхановского «ярлыка». Она давала право изымать коней, телеги, сани, лодки, любой подвижный состав у первого встречного. Рекордных результатов русская почта 16 века добивалась зимой. Накатанная снежная дорога несла сани со страшной скоростью: 542 версты (580 км.) от Москвы до Новгорода покрывались за трое суток. Почти 200 км. в сутки! При 9-часовом световом дне в среднем выходило более 20 км. в час! Очень резво! А вы говорите, дороги!
Так или иначе, просвещенные европейцы с удивлением отмечали, что дикие русские по части почты — впереди планеты всей.
Путевая компания ехала хоть и по государственной необходимости, но коней не меняла. Иван Глухов – вожак экспедиции мог убить любого за косой взгляд в сторону его вороного Галаша. За Глуховым на крепких кобылах поспешали двое подручных, увешанные оружием и поклажей. И еще один всадник – на замызганном, бледном от усталости мерине волочился в хвосте. Федя Смирной – мозг этого похода – уже в третий раз за последние месяцы тер себе и Тимохе самые нежные места. Тимоху он тоже менять не собирался.
Ночевали возле ямских изб, но в лесу. Путь лежал через Тверь, Вышний Волочок, Старую Руссу, Псков – на Дерпт. К цели путешествия быстрее всего было добраться через Ржев и Холм, но путники собирались догнать между Волочком и Руссой сборный полк, отправленный неделю назад в действующую армию. Полк шел северной дорогой, прижимаясь к новгородским и псковским владениям, чтобы немного попугать своевольное население.
Экспедиция имела сложную задачу. Она должна была доставить одному человеку его Судьбу. Так совпало, что посланцы царя Ивана, — а это он их послал; ибо, кто у нас еще распоряжается Судьбой, как не царь? – были живой иллюстрацией к Апокалипсису, «любимой» царской книжке. Но кони – вороной Адаш, бледный Тимоха, каурая и грязно-белая кобылы – не замечали этого. А то Тимоха, пожалуй, пошел бы быстрей. Силы-то у придурка имелись!
Не видели аналогии и люди. Правда, Глухов и Смирной могли ее понять, — один же вез-таки «весы правосудия», а другой имел за пазухой бумажку со словом «Смерть!». Зато Глуховские ребята уж точно не понимали юмора. Никита не знал, что через несколько лет будет орудовать бывшим княжеским мечом, Волчок – что пронесется по этой дороге Красным всадником раздора.
Всадники везли Судьбу могущественного в прошлом придворного, окольничьего Алексея Адашева, — ныне третьего воеводы Большого полка русского войска.
Судьбе довериться пришлось потому, что царь Иван не посмел самостоятельно решить участь опального фаворита. Вроде бы и доказательства вины появились – признания Магдалины, Сатиных, Шишкиных – но царь все время вспоминал слово «Отложи!» и медлил. Слишком страшным казалось ему это воспоминание.
Тогда вспомнили обычай «Божьего суда». А правда? Чего брать грех на душу, когда Бог точно знает, кто прав, кто виноват?
На Руси Божий суд выглядел двояко. Тут мы тоже в два раза обошли заносчивых европейцев, которые знали только «судебный поединок». У нас официальная дуэль могла заменяться жребием. А что более справедливо, чем жребий? Дуэли давно отменены, а жеребьевка будет жить до скончания Мира.
На Божий суд окольничьего Адашева вызывал царь Иоанн Васильевич. Он подозревал Алексея в кознях против самого царя и в убийстве его жены Анастасии Романовны. Лично драться на бердышах, ножах или шелопугах (окованных дубинах) царь не мог. Не имел права. На этот случай наше законодательство позволяет выставить «заместителя». Приглашается крепкий мужик с бойцовскими навыками и фронтовым опытом, ему обещается солидное вознаграждение, страховка на случай «виновности нанимателя», персональное царство небесное. Таким наемным бойцом в нашей четверке был Никита, туповатый парень на белом коне. Деньги он уже получил, но драка с дворянином оставалась под вопросом.
Адашев имел право отказаться от боя. И это было правильно. Судите сами. Вот ты чист, как стеклышко, и вдруг к тебе подкатывают на вороных, белых, рыжих, бледных и несут полную чушь. Будучи уверенным в правоте, ты их просто посылаешь к черту. И Бог это принимает с удовлетворением.
Но ведь, и истцы могут быть уверены в правоте? Тогда они требуют жребия! И тут тебе деваться некуда! Жребий – в компетенции Бога. А у Бога не отвертишься!
Бросается жребий. Форма его произвольна. Вот Адашеву, например, Глухов вез два сосуда. В одном была налита романея свежего привоза, в другом – она же, но крепленая травяным настоем недельного действия. Глиняная бутылка с настоем отличалась незаметной щербинкой на донном колечке. Глухов приметил щербинку на всякий случай – не любил быть дураком.
Мог случиться и третий вариант Божьего суда. Это, когда подсудимый попадается на жеребьевке, но отбивается, кричит, убегает в леса. Или когда убегает до жребия. Тогда в ход пускается неумолимый механизм нашего гражданского делопроизводства, казенные бумаги шелестят метелью и настигают шею беглеца. Бумагу вез Смирной.
Приехали в город Дерпт. После удачной летней кампании здесь остановилось на зимние квартиры войсковое начальство. Воеводы, полковники, сотники жили в прекрасных каменных домах. Рядовые пехотинцы и всадники гуляли по европейским мостовым, бесплатно обедали в чистеньких прибалтийских забегаловках.
Третий воевода Большого полка Алексей Адашев тоже жил в каменном здании – Дерптской крепости. Он, правда, не гулял по мостовым, — еду ему доставляли в номер.
Короче, Адашев уже сидел.
Он пережил многое, был готов ко всему, ничего не боялся.
Не испугал его и цокот шестнадцати копыт в крепостном дворе.
Глава 37. За упокой невинной души
Глухов вошел в камеру первым.
Ну, и камера это была! Отличная полированная мебель, чистое окно с незаметной решеткой, на столе вода, еда. Кровать в углу настоящая! Одеяло! Подушка! Не врут нам, что за кордоном в тюрьме сидеть лучше, чем у нас в Костроме... – ладно, не будем о грустном.
Глухов пригласил Адашева сесть. Адашев и так «сидел», но не хотел признаваться в этом, присел на резной стул.
Глухов на словах высказал претензию Великого князя и царя и проч.
Адашев усомнился в полномочиях Глухова.
Смирной кивнул. Смирнова Адашев тоже не знал.
Смирной достал бумагу. Свернул так, что кроме восковой печати ничего видно не было. Адашев согласился слушать дальше.
А чего тут слушать? Царь вызывает, ты принимаешь вызов, выходим во двор, берем сабли востры. За царя бьется вот этот дворянин – Никита Иванов.
— И вы думаете, что я подниму меч на царя? Хоть и в рабском обличьи? Пусть уж казнит. А я не виновен, видит Бог.
Глухов скривился для порядку, но понял – Адашев не боится. Что было делать? Отказаться от поединка? Царь может рассердиться. Была еще надежда на частный вызов. Глухов мог вызвать Адашева сам от себя. А причина? А мне твое лицо не нравится! Нет, это не проходит. Черт с ним, пусть травится! А не отравится? Тогда пусть Федька бумажкой его кончает!
— Ладно, господин окольничий, Бог судья! А наш государь жалует тебя кубком со своего стола. Просит выпить за упокой невинной души новопреставленной рабы Божьей Анастасии. А вот и два винных напитка.
Слово «винных» прозвучало у Глухова двусмысленно — как бы от слова «виновный».
— Один — тебе, другой — Господу. Сам выбирай, какой Господу сгодится, какой тебе милей.
Выбирать нужно было вслепую — непрозрачные глиняные баклажки не показывали цвет и чистоту содержимого.
Алексей понял, побледнел, провел языком по пересохшим губам, будто действительно страдал от жажды. Невольно оглянулся. Подручные Глухова опирались на мечи у самой двери. Узкое оконце, перекрытое фигурной решеткой не оставляло надежды на побег.
— А если Богу мой выбор не понравится? Не ему ли первому выбирать?
— Он бы выбрал, господин, да нету его здесь. Он сейчас у могилы своей возлюбленной дочери, далеко отсюда. Так что, бери, бери.
Адашев взял одну баклажку, вытащил деревянную затычку, стал медленно лить золотистую жидкость в умывальный таз.
— Это Богу.
Потом открыл второй сосуд и так же медленно налил вино в серебряный кубок. Поставил баклажку на стол, взял кубок.
— За здоровье государя нашего Иоанна Васильевича! — и медленно выпил. Казалось, он каждый глоток проверяет на яд, но определить не может и делает следующий.
Глухов не стал поправлять Адашева — Божью влагу не годилось выливать в помойку, пить тоже предлагалось не за здравие, а за упокой. Но за упокой получилось само собой или с Божьей помощью. С того момента, когда пустая баклажка звонко стукнула в стол, Глухов знал: окольничий Алексей Адашев — покойник. Заметная щербинка на ободке у донышка виднелась отчетливо.
Всадники простились с ответчиком, вышли во двор и заспорили. Смирной опасался, что яд не сработает. Что тогда? Глухов говорил, что это не наше дело.
— Но хочешь, отдай свою бумагу первому воеводе. Пусть наблюдает за его здоровьем.
Никита «Иванов» еще поворчал, что надо «рубить гада прямо в тюрьме», но решили не горячиться. Запечатанное царское письмо легло на стол воеводе Бельскому, он осторожно взял его двумя руками, запер в сундуке и поклялся под иконой, что вернет в Москву нераспечатанным, если, не дай Бог, Адашев помрет в заключении. А жив будет к Покрову Пресвятой Богородицы, тогда нужно снять восковую печать и поступать по писанному.
— Правильно? – жалко спросил большой боярин Бельский разношерстную сволочь.
— Правильно! – отвечала сволочь без тени почтения.
Всадники уехали восвояси. От Дерпта до Пскова доскакали за пять дней, и остановились на постоялом дворе. Здесь уже была Россия, но еще как бы Европа. Это чувствовалось в повадке горожан, в речи постояльцев, в самом воздухе. Стали думать, как ехать дальше. Возвращаться через Новгород получалось длиннее и холоднее, зато путь лежал торный. Войско прошло недавно, «ямы» были в порядке. Через Старую Руссу и Вышний Волочок выходило ближе. Но дороги там были не такие протоптанные.
— А что нам дороги? Мы не в телегах, проедем! – сказал Глухов.
— А хоть и в телегах, — успокоил человек за соседним столом, — тоже проедете. Я же проехал.
Глухов обернулся и через мгновение уже стоял в проходе с обнаженным мечом. В лицо ему спокойно улыбался господин «Ночной».
— Стой, Иван, — твердо сказал Смирной. Взял Глухова за напряженную мышцу, оттащил в сторону. Зашептал на ухо:
— Тут, понимаешь, государево слово и дело. Ну, если не совсем государево, то уж наше – точно. Головин идет от Филимонова.
Глухов в «Успенском сговоре» не участвовал, но имя Филимонова действовало на него лучше царского. Меч Глухова ушел в ножны.
Сели за стол. Борис Головин присел с краю. Выпили.
Потянулся прекрасный осенний вечер с добрым вином, хорошей едой, безопасным окружением. Мало в этой жизни бывает таких вечеров, когда исчезает понятие «враг», когда откладывается вдаль и на черный день бледная бумажка с надписью «Смерть!». Уже и пытка не нужна, чтобы услышать от человека рассказ, каждое слово в котором – самая подноготная истина!
— Я встретил Тучкова в Новгороде год назад, как раз в эти дни. Он сказал, что дело есть – втрое дороже прежних. От прежних дел я получал денег на целый год. Что было не согласиться? Тем более, дело его — не разбой, не прямое убийство, а так – боярские счеты. Тучков за что-то кому-то мстил, но денег ему на эту месть отвалили со стороны. Значит, не только его это месть была. Среди Тучковского обоза шла одна телега на кованых колесах. Еще под ней имелись сменные полозья. Хитрая телега. Но нагружена была – дай Бог всякому! Тащили ее два коня, да в грязь еще мы с Шубиным помогали, холопы Тучковские тоже. Я думаю, в телеге пудов десять груза было! Постепенно узнал – не оружие. То есть, оружие там тоже лежало, но так – мелочь. Тучков вез серебро.
«Почему разговорился Головин? – думал Федор. — А зачем ему скрывать тайны покойников? Он царю Ивану не враг и не слуга. Он вольный новгородец. Но вдруг придется в Москву по делам заскочить? Вот он и рассказывает».
— Ехали на Москву очень медленно, с долгими остановками, с посылкой разведки вперед на день пути. В разведку ходили по двое. В конце октября повалил снег. Поменяли телеги на сани. «Серебряную» переставили на полозья без разгрузки. Добрались до московских окраин в конце февраля. Сменили несколько мест. Тучков требовал полного уединения. Наконец Шубин нашел заброшенный дом в Замоскворечье. Уличный староста закрыл глаза на заселение — за горсть серебра.
— Тучков встречался с Адашевым много раз. То Адашев к нему приезжал в простом платье, то выезжали за город. О чем говорили, не слыхал. В конце апреля Адашев засобирался в войско. Попросил вывезти в Тверь дальнюю родственницу Марфу Игнатьеву. Вывозил Шубин. С ними в Тверь ездила красивая женщина, звали, кажется, Мария. Она вернулась с Шубиным в Москву.
Глухов и Смирной еще что-то спрашивали у Головина, он отвечал, но эти ответы значения уже не имели.
— Что было на Сретенке и потом, вы знаете. Когда я ушел из Москвы, на Волоколамской дороге встретил одного нашего – из ряженых. Он был весь побитый и обгорелый. Мне как раз нужен был возчик в телегу. Я его прихватил с собой. Забрали детей, до Новгорода добрались почти без задержек. Скажите в Москве, что дети попали в монастырский приют. Кажется, там неплохо. Тепло, не голодно.
— Куда ты теперь?
— Проеду в Смоленск. У меня там есть место, где перезимовать.
— А на что зимовать, осталось?
— Зимы на три хватит. Я серебро вперед получаю, с собой не вожу – дома держу! – Головин широко улыбнулся и растворился в дымном дверном проеме.
Смирной и Глухов с подручными вернулись в Москву и долго сидели с Филимоновым. Пришел Прошка, Егор суетился с посудой. Новости, привезенные из Дерпта и Пскова, были ошеломительными! Собеседники с трудом ворочали языками, не только от вина, но и от удивления.
— Давно служу, — сказал Филимонов, — многих пытал зря.
— Я тоже такого случая не помню, — выдавил Глухов и умолк.
Остальные заговорили наперебой:
— Выходит, Магдалина воистину виновна?
— И Сатиных обезглавили за дело?
— Мост спалили правильно!
— Получается, мы Адашева не зря отравили?
— Не мы его травили, — Бог пометил! И отравлен ли еще?
— Давно служу! — заключил Филимонов.
Совсем стемнело, стали подниматься. Ноги шли неохотно.
— Так есть ли в этом деле невинные души? – спросил пьяненький Федя.
— Есть! — уверенно ответил Егор, поддевая напоследок огурец пыточными щипцами, — дети, Шишкины-мышкины всякие. Короче, народ.
— А царица Настя? – Федя вдруг увидел покойную царицу у врат Успенского собора. Из под кружевной свадебной накидки у нее торчали пушистые треугольные ушки.
— Бог знает, — ответил Прохор.
Глава 38. День поминовения
Государь Иван Васильевич узнал великую тайну и надеялся, что это знание останется его исключительным самодержавным правом. Тайна касалась важного предмета, в ней содержался ответ на вопрос: «Что главное в человеке смертном?». Уточнение о смертности очень усложняло задачу — без него и дураку было ясно, что главным в живом человеке является душа. Но в смертном? На границе Земли и Неба? Когда душа уже отлетела или закоченела в ожидании полета?
И вот теперь Иван знал ответ: главным в отсутствии души у человека является ум!
Два ощущения по этому поводу терзали Ивана.
Одно — любопытство, другое — стыд. Как-то очень гаденько было признаваться, что вторым достоинством после души в человеке является не сила богатырского плеча, не строевая стать, не дерзость взора, не молодецкий скок и посвист, а опасные рассуждения. Об этом и вслух-то говорить не приходилось, народ бы не понял. Постыдность ума объяснялась легко. Как и другие отправления человеческого организма, игры разума происходят интимно, тайно. Смотришь на человека и кажется, он просто сидит остекленело, держит руки домиком. Ан, нет! Он оказывается, погряз во грехе! Мечтает о позорных удовольствиях, алчет богатства и власти, вожделеет избыточной еды и питья! Или еще хуже – занимается кабалистикой, жонглирует цифрами, тайными символами, запретными таблицами, прочей мерзостью! Это во сто крат страшнее, чем скакать голышом в июньскую ночь! Не засвидетельствуешь, не призовешь к ответу!
А все же, велика сила ума! Сорок полков осаждали Казань. Сорок приступов выдержала поганая твердыня. Сорок сороков русских богатырей легли под ее стенами, и все без толку! Но призвал царь немецкого «розмысла», и сорока дней не понадобилось, чтобы прорыть нору, да заложить под стену сорок бочек пороха. А потом и вовсе время исчезло – взрыв прозвучал столь скоро, что измерить его ход никому бы не удалось. Казань пала в один день! Вот вам и «розмысл»! Ум царя да ум мужика пересилили силу великую!
«Но что есть ум, как не деяние души? Видали вы умного мертвеца? Хотя, чур меня! – неисповедимы тайны загробного мира! А в нашем миру, пока жив человек – он либо умен, либо глуп. А умрет – дурак-дураком становится».
«Душа бывает доброй, бывает злой. Ум – либо добр, либо зол. У доброй души – добрый ум, у злой – злобный».
Иван усмехнулся при мысли, что он как раз и занимается тайными рассуждениями.
«И выходит, что ум у царя царский, у вора – воровской. Значит, не всем прилично мышление! Но как запретишь? — не казна, не оружие, не вино...».
«А умрет человек, взлетает его душа и шесть дней летит до Неба. Помогает ей ум? Обгоняет ли умник дурака?».
«Потом – Чистилище. Первое рассмотрение грехов. Усугубит ли ум их вес или облегчит?».
«А в раю? Не все ли равны перед Господом: подонок и герой, блудник и святоша? Хотя, откуда блудники в раю? Может, душа для того и сбрасывает тело, чтобы Господь не судил по увечьям и стати, а рассматривал только душу? Душу с умом или душу без ума?».
Грозный глубоко вздохнул.
«Вот — Федька Смирной. Человек без племени, без имени, без силы и богатства. Одним умом да молитвой постиг страшную истину. А богатырь Егор стольких сломал, изрубил, сжег. Ничего не узнал!».
«Откуда ум Федора? – из праведных книг бабушки Софьи! «София» – мудрость! В этом имени знамение свыше! Софья принесла на Русь ум Цареграда, оставила нам грешным».
Грозный прислонил горячий затылок к подушке кресла, стал смотреть в окно. Там с востока набегали черные грозовые тучи. Солнце, старое, покрасневшее, теряющее жар, не успело скрыться от них за кромкой леса. Да и защита ли византийскому солнцу русский лес?
Солнце коснулось огненным донышком зубчатой стены, и от его жара стена лопнула, качнулась и осела, открывая вид на залив. Там по темной воде неслись с восточным ветром бесчисленные паруса Апокалипсиса, и черные, железные птицы наполняли небо. Человек в багровом плаще и позолоченных латах вскарабкался по обломкам в развал стены и поднял меч вслед уходящему солнцу. Он не грозил. Он хотел зачерпнуть мечом солнечной силы.
Софья поднялась следом. Она не могла помочь императору Константину, но зачем-то лезла по камням, обдирая кожу и глотая дым. Она успела коснуться героя, успела спрятать его последний подарок – золотой ключ от библиотеки, успела спуститься в город, чтобы не видеть, как с берега взлетела стая черных стрел, как упал Константин, как черные люди в белых одеждах растерзали его тело, покрытое закатным золотом...
Грозный проснулся, вызвал подьячего Прошку.
Прохор вбежал и, опережая приказ, сунул царю сложенную втрое бумагу. Там, где раньше на складке сидела восковая печать, теперь расплывалось грязное пятно. Бумагу читали. Иван брезгливо развернул лист, узнал свою подпись, перечитывать не стал и только скользнул глазами в конец текста. Там на последней строке одиноко чернело слово «Смерть!». Теперь оно было подчеркнуто чьей-то дрожащей, услужливой рукой.
Грозный скомкал бумагу и велел Прохору записывать свою волю.
Сначала он отметил заслуги отрока Федора Смирного и произвел его в младшие подьячие Дворцового приказа, — у Прошки появился еще один сослуживец.
Стряпчий Воровской избы Василий Филимонов наделялся выморочным домовладением в Белом городе неподалеку от Кремля. Это скончалась, наконец, одинокая княгиня Щенятева. Похоронили ее под Рождество Богородицы. В дубовом гробу.
Еще велено было без записи выдать Смирному, Филимонову, Глухову и Заливному по десяти рублей золотом; отрокам Волчкову, Иванову и Егору... — как его? — ... Исаеву — по три рубля.
Полковнику Истомину — шубу с царского плеча и турецкую саблю в серебряных ножнах — с записью. Сотнику Штрекенхорну — три сорока соболей, пусть тоже шубу русскую сошьет.
Грозный задумался.
— Еще пиши: «Государь жалует и посылает в Троицу тысячу рублей золотом на помин души новопреставленной рабы Божьей Анастасии. И другую тысячу рублей – в Иосифов Волоцкий монастырь – на помин души рабы Божьей Софьи».
— Пиши отдельной строкой: «И тридцать рублей серебром новгородской чеканки, тридцатью монетами по рублю – на помин души новопреставленного раба Божьего Алексея, — Иван задумался, потом улыбнулся:
– В Сретенку!
Глава 39. Исполнение желаний
Митрополит Макарий сидел перед царем Иваном. Грозный уважал старость предстоятеля, уважал и чин.
Два властелина — мирской и церковный вели неспешную тихую беседу.
Макарий рассказывал Грозному, как мало на Руси светлых умов, как обильна, но расточительна Русь людьми.
— Да, — соглашался Грозный, — мало.
— И один из таких светлых — отец Сильвестр.
— Да, очень светел, — кивал Грозный.
— Так ты бы, сын мой, помиловал его и освободил от Кириллова скита.
И Грозный отвечал, что не держит Сильвестра на Белом Озере и непременно освободит.
И еще митрополит убеждал царя, что Сильвестр, хоть и был знаком с дурными людьми, но лишь удерживал их от греха и соблазнов.
— Конечно, удерживал, — вторил Грозный.
— И не казнил бы ты, батюшка, отрока из Сретенки... — имя запамятовал, — игумен Савва за него просит, мал сей отрок, глуп, неразумен.
— Не казню. Глуп, — отвечал Иван.
И еще Макарий спросил о князе Курлятьеве, — что за грех на нем?
— Да нету никакого греха, — вяло отмахнулся царь, — больно умен, хотел нам добра вместе с Сильвестром. Написал сочинение о земстве, как ему надлежит быть.
— Так ты бы, сын мой, слушал разумных людей, как князь Дмитрий, и поступал по их науке.
— Так и поступлю, — подавил зевоту Иван. — Непременно заведу земство.
— И князя не казни, а приласкай, как Сильвестра.
— Вот так и приласкаю.
— Ну, я пошел с Богом.
— Ступай, святой отче, молись за нас, Бог тебе послушен.
Макарий не заметил колкости и ушел.
«Вот. Наобещал. Теперь придется выполнять!», — усмехнулся Иван. Он окончательно преодолел дрему, подбежал к двери:
— Смирного сюда! И Заливного!
«Вот черт! Что за имена дурацкие — как вино и закуска!».
— Нет, сначала Заливного, потом Смирного!
Прошка влетел, запыхавшись. Он забыл у царя чернильницу и теперь был рад повторному вызову. Он плюхнулся за письменный столик без приказа.
— Ты чего сел? А, ну да! — пиши!
«Чернецу Серафиму сиречь бывшему протопопу московского Благовещенского храма Сильвестру ныне быть свободным от пребывания в Кирилловом монастыре на Белом Озере. Назначить ему житье в Большом Соловецком монастыре на Белом Море». — Иван улыбнулся невольному каламбуру.
— Еще: «Князя Дмитрия Курлятьева с семейством от вин освободить, объявить им милостивое прощение мирских грехов и не препятствовать переселению в нашу вотчинную землю, в Новгород. Государь рад желанию князя и княгини принять постриг».
— Пока все. Зови Смирного.
Федя вошел спокойно. После царских щедрот он ничего не ждал.
— Я наградил тебя, Федор.
— Благодарен, государь, готов служить и впредь.
— Но вот митрополит Макарий за тебя особо просит. Не велит казнить! — глаз Грозного сделался хитрым. Иван держал паузу.
— Так я решил... не казнить. Буду тебя миловать. Скажи, чего желаешь?
— Я, государь, надеялся жениться...
— Так женись. Я моложе твоего женился.
— Невеста у меня не нашей веры...
— Окрестим!
— Не хочу крестить насильно, а сама не пойдет.
— А что хоть за вера? Из латин или басурман?
— Нет, лесной солнечной веры.
— А! Это ничего, это из наших. Живи с ней пока так, без венчания, я не прогневаюсь. Уголок тебе подберем. Сожительство с нехристью — невелик грех. Как бы с котом или собакой живешь, — Иван засмеялся по-доброму.
— Ты чего-нибудь настоящего желаешь?
— Ну, в библиотеку чтобы...
— От библиотеки я тебя не отлучал. Проси лучше!
Федор упал на колени. Слезы блестели в глазах. Протянул руки, совсем как тогда – в Сретенке:
— Конь Тимоха захромал. Хотят его на мясо... Я вылечу, государь!
— Велю коня не трогать, пока сам не околеет. Скажи на конюшне.
Грозный смотрел с прищуром на этого дурачка, которому не уставал удивляться, и которого уважали многие во дворце.
— Ты, Федя, совсем просить не умеешь. Спроси чего-нибудь тако-ого! — руки Грозного описали широкий круг, глаза взлетели ввысь.
— Не прогневайся, государь! Есть у меня вопрос... Не ответишь ли...
— Спрашивай! Отвечу!
Федор собрался с духом, приложил руку к груди, где беспокойно подпрыгивала царская монета, и выпалил на одном дыхании:
— Правда, что ты держишь в водке глаза Бармы и Постника?
Грозный схватился за живот, потом за сердце, осел на троне, стал наливаться краской. Потом захохотал во весь голос. Так царь не смеялся уже несколько лет. Оказалось, в нем есть еще место настоящему здоровью!
— Дурак! — радостно задыхался Иван, — какой же ты дурак, Федька!
Глава 40. У Края Небес
Опять декабрь! Воет ветер над ледяными полями. Если здесь и была земля, вся она скрыта снегом в человеческий рост. Только несколько церковных головок торчат к мутным небесам. Здесь – Край Света. Сказано в Откровении Иоанна, что от Края Земли и Небес и до Края Их пронесутся всадники Апокалипсиса и воздадут каждому по делам его. И, кажется, уже начали они отсюда свой бег, ибо пустынно здесь, смертно, страшно. И может быть те немногие из живых, кто укрылся в здешних стенах, восприняли кару по своим делам и тайным помыслам?
Седой человек в потертой телогрейке жмется к огню в узкой келье с крошечным окном. Перед ним лист серой бумаги с ровными чернильными строчками.
«Схимнику Серафиму отрок Феодор челом бьет.
Прими святой отче мои скромные рассуждения, освободи от греха и гордыни! Много часов провел я меж молитв, пытаясь постичь тайну времени Христова. И отчаялся, и поник, понимая, что непостижим его бег и безвозвратен. И смеет ли судить смертный о жизни Бессмертного? А для бессмертия есть ли конец, и есть ли начало?
Но и оставить трудов я не мог, ибо Божьим промыслом побуждаем, и во славу Господа тружусь.
И спросил я совета у людей, и не ответили люди.
Спросил у птиц, что бывают во всех краях, — пропели птицы неразумно.
Спросил у камня и травы, у солнца и воды – но говорили они на темных языках.
И спросил я у Господа. И ответил Господь откровением чрез малую тварь: «Рождение едино, Смерть едина, Воскресение – вечно!».
И уверился я, что дни Творения сочтены с Первого дня, а Рождество – с Последнего. Сотворя человека в Пятницу, Бог сотворил Сына Своего в Субботу, а Смерть и Воскресение оставил за краем времен!
Мы дерзаем ежемесячно менять число дней – бывает их и 28, и 31. Так дерзнем же единожды изменить их имена, ибо то имена человеческие и в разных языках звучат по-разному. И тогда не нужно будет менять сам календарь! С восходом Вифлеемской звезды торжественно огласим возрождение, продолжение Субботы, которая неизбежно случится и накануне, в Сочельник! Пусть Рождество всегда будет Субботой! А 29 февраля – лишний день – да останется без имени. Церковь Божья, если Господь благословит, наречет его особым именем, или народ наш, вольный на язык, придумает приличное прозвище. И тогда все числа получат исконные имена. Мир успокоится, святые на небесах и мертвые в могилах запомнят свои дни, жизнь пойдет по единому распорядку и благодать снизойдет, наконец, на нас смертных...».
Человек дочитал текст, улыбнулся, выпрямился. Ему больше не было страшно и холодно...
Новочеркасск, Россия, 2004.

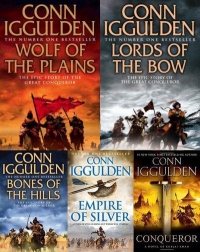





Комментарии к книге «Тайный советник», Сергей Иванович Кравченко
Всего 0 комментариев