Виктор Борисович Шкловский Минин и Пожарский
Вступление к повести
Видал недавно в Ленинграде – горели газовые факелы на ростральных колоннах. Они освещали Биржу и усталых каменных богов, которые сидели, как бурлаки, притащившие баржу, у подножия колонн.
Смотрели на реку; она текла, расщепляясь у Биржи, текла, отражая свет над колоннами.
Надо освещать памятники, обновлять их, давать им слово.
В Москве к памятнику на Пушкинской площади приносят цветы. У бронзового плаща поэта шумят деревья, журчат фонтаны.
Девушки и юноши говорят здесь о любви. Здесь надо было бы читать стихи поэта, учить молодежь горению сердца, высокому сочетанию мысли и возвращению к книгам.
Неужели на площади имени Маяковского нам не будут рассказывать о бессмертии поэта, о его жажде жизни?
Труден путь на каменные ступени.
И дома должны были бы говорить, не часто, не в шуме движений, а утром, когда земля еще раз радуется на прекрасное солнце, поднявшееся в небо.
Красная площадь известна миру и населена славой.
Здесь, у старых стен, революция нашла новое место старому памятнику Минину и Пожарскому.
Вожди народного ополчения стоят у самых ворот Кремля, там, где они принимали парад исправно одетого войска в 1611 году.
Народное бедствие кончилось.
Кремль был вымыт, убран, возвращен народу.
Каменный куст храма цвел за Мининым и Пожарским, а мимо шли одетые в цветное суконное платье нижегородцы – первая в мире регулярная армия с жалованьем, с полковыми котлами, с артиллерией при полках.
Так стоят и теперь бронзовые Минин и Пожарский.
Хочу положить к памятнику короткие слова.
Был у Минина и Пожарского обычаи начинать свои грамоты с рассказа о том, как началась беда.
С чего мне начать?
Пришел человек, называвший себя Дмитрием, устелил площадь красными сукнами, ждал полячку, которую любил, говорил речи, собрался сражаться, был убит в Кремле, а перед смертью говорил речи, о которых мы не знаем.
Был убит и сожжен и воскрес сразу во многих, как будто ночью в город внесли много огней и спутались тени и голоса.
Воевали люди под чужими именами, добивались своего, восставали крестьяне, подходили к городам, выкладывали вокруг городов крепости из сена и дров, сражались и исчезали.
Горела земля, и звери вошли в покинутые дома, и люди скрывались в лесах, и люди целовали крест – уже не знали кому, присягали то вору из Тушина, то королевичу Владиславу.
А дальше идет рассказ про людей, которых нашел народ. Они спасли народ потому, что были им выращены и ему верили.
Прежде разум уступал сабле, ныне сабля уступает разуму
Так говорил храбрый неудачник Самуил Маскевич.
В Москве становилось все неспокойнее. Вместо гетмана Жолкевского остался Александр Гонсевский. По его подсчету, в городе было до восемнадцати тысяч стрельцов.
По соглашению с боярами, Гонсевскому было поручено начальство над Стрелецким приказом. Старый грабитель смоленских мужиков, Гонсевский был опытен.
Он задарил стрельцов подарками и угощениями и начал отправлять их к Новгороду и на берега Ладожского озера, якобы для борьбы со шведами.
Москва постепенно очищалась от русского войска.
Из-под Смоленска в Москву приходили вести.
Сигизмунд заявил посольству, что он королевича в Москву не отправляет по причине его малолетства, что он сам сперва успокоит русских, а потом уже даст москвичам своего сына. Для этого надо, чтобы Смоленск сдался на милость короля.
Смоленск не сдавался. Крепкие его стены выдерживали огонь польских орудий. Наконец рижские пушки расшатали стены города.
Польские войска пошли в атаку.
Но русские били поляков во фланг из уцелевших башен крепости.
Атака была отбита.
В пороховом дыму стояла крепость, а в лагере поляков московское посольство вело переговоры с королем.
Король настаивал на том, чтобы посольство присягнуло ему.
В посольстве начались измены.
За право Троице-Сергиевской лавры беспошлинно торговать в Москве лошадьми на Конной площадке признал Сигизмунда московским царем келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын.
Мстиславский из Москвы принял от Сигизмунда чин конюшего.
Признал Сигизмунда царем Михаил Салтыков за вотчину, поместье, боярство и жалованье.
Филарет Романов и тут хитрил, как в Тушине, он не присягал, но и не отказывался от присяги.
Как знамя стоял над страной Смоленск, люди которого умирали, но не сдавались.
Московские бояре изменяли, били челом Сигизмунду, прося о жалованье и деревнишках.
Видя измену, русские города переставали исполнять приказы московских бояр.
Город за городом снова присягали тушинскому вору, его дела улучшались.
Второй Лжедмитрий становился силой, даже его власть казалась стране лучшей долей, чем подданство Сигизмунду.
Находились в лагере вора в качестве союзников касимовские татары.
Иван Грозный взял в плен одного из ханов Ногайской орды и дал ему в удел город Касимов, населенный татарами.
Этот хан назывался после этого царем касимовским.
Иван Грозный держал его в большой чести.
Царь касимовский – Ураз-Махмед – пришел в Тушино. Тушинским воинам он роздал триста тысяч злотых и много денег дал самому Самозванцу.
После бегства царика из-под Москвы касимовский царь сперва поехал в Смоленск, оставив сына и жену у вора.
Очевидно, в Смоленске он сговорился.
Тайно вернулся под Калугу и хотел увести свое войско, но тут ему изменил его сын, выдав замысел отца Самозванцу.
Царик велел убить Ураз-Махмеда и кинуть тело его в Оку.
Один из татарских князей – Петр Урусов, женатый на русской боярышне, – решил отомстить царику.
Дело было сделано по польскому совету.
Вор любил охоту, но на охоту ездил пьяным и не верхом на лошади, а в санях – в сани к нему клали фляги с медом и вином.
Петр Урусов с несколькими десятками татар ехал за Самозванцем, как будто провожая его.
Царик и бояре его были пьяны.
Когда сани заехали в глухой лес, Урусов выстрелил в вора, говоря:
– Я научу тебя топить ханов!
Свита вора разбежалась.
Урусов отрубил вору голову и руку, раздел и бросил тело в снег.
Урусов с татарами поскакали в польскую сторону, везя с собой доказательство, что они выполнили поручение панов.
Шут вора Кошелев поскакал в Калугу известить Марину.
Розвальни с нагим телом царика прибыли в город ночью.
Марина с факелом в руках бегала по улице, рвала на себе волосы и одежду, крича о мщении.
Все татары, оставшиеся в Калуге, были убиты.
Марина вечером родила сына.
Мальчика этого крестили по православному обычаю и назвали Иваном.
Начали в Калуге целовать крест Ивану.
Первыми поцеловали крест донцы с тушинским воеводой Заруцким.
Скоро Заруцкий стал мужем Марины.
Субботою в монастыре у Иринарха блаженного
Тебе, Господи, правда твоя, а нам стыдение лица.
«Повесть о некоей брани»
Весна в том году была поздняя, снега глубокие, хотя вокруг деревьев снег уже осел чашками, а дороги больше протоптаны, чем наезжены.
Мало кто вез товар на Москву.
Монастырь Бориса и Глеба стоит недалеко от города Ростова-Великого, на горе, над рекой.
Сюда дорога наезженнее, – видно, что немало народу везет товары к монастырю и здесь торгуют и молятся.
Вечером пятнадцатого марта в ворота монастыря въехал всадник.
Был он вооружен, под шубой на нем доспех, к седлу приторочены сабля, и ружье, и лук небольшой для скорой стрельбы.
Сзади первого всадника ехал слуга, стремянный в стеганом тегиляе и теплой шапке.
Несмотря на тревожное время, двор монастыря разметен, а стены монастырских зданий побелены.
Направо у ворот стояло и сидело немало народу, явно кого-то дожидаясь.
Сюда и подъехал всадник.
Соскочил стремянный и помог ему слезть.
Лошадь отдыхала, тяжело дыша.
Поговорил всадник с монахом и прошел к келье мимо ожидающих, сел впереди них.
В ворота входили все новые богомольцы.
Пришел мужик в полушубке из потертой телячьей шкуры. Полушубок без застежек, под ним рубаха посконная, на ногах лапти, на голове колпак с овчинной оторочкой.
Смотрел мужик на приехавшего, на добрую лошадь, оружие и доспех.
Ушел приезжий. Стремянный держал своего коня и коня своего господина, равнодушно прислушиваясь к разговорам у кельи.
– Раз увидел святой на снегу босого. Тогда произнес Иринарх молитву:
«Господи, сотворил ты прадеда нашего Адама по образу своему и дал ему теплоту. Дай же, господи, теплоту ногам моим, чтобы мог я дать с себя сапоги босому страннику».
Так стал сам Иринарх босым.
Раз в городе Ростове держали на правеже знакомого крестьянина.
Били бедняка с утренней зари до обедни прутьями по икрам.
Побежал Иринарх выручать того простеца босиком. Мороз был лютый, отошел старец семь верст от монастыря, но не дал бог теплоты его ногам. Лег Иринарх на землю.
Привезли его в монастырь. Три года он болел, гнили у него ноги, и даже впадал монах в сомнение.
Монах он непокорный и цепи носит в знак мужичьего угнетения.
– Враки вракают! – сказал стремянный.
В церкви ударили в колокол. Руки стремянного были заняты. Он посмотрел на мужика равнодушно и сказал:
– Подержи коней.
Мужик взял коней под уздцы.
Стремянный снял теплую шапку и помолился.
Коней ему брать не хотелось, и он заговорил с мужиком:
– Ты чей?
– Так, проходом, – сказал мужик.
Стремянный понял:
– Беглый небось? Но всех не переловишь, да и не свой.
– А ты чей? – спросил мужичок.
Стремянный обиделся.
– Я ничей, – ответил он. – Живу я у стольника Дмитрия Михайловича Пожарского, Зарайского воеводы. Чай, слыхал?
– Пожарский есть у нас под Суздалью, – ответил мужик. – А Дмитрия Михайловича не слыхал стольника.
– Ну где тебе, холопу, про бояр слышать!
– Рать в Москве собирают? – спросил мужик.
Стремянный продолжал, не отвечая:
– Живу у князя в послуживцах. Меня самого скоро поверстают в дворяне.
В это время раздался лихой гик и топот коней.
Въехал на горячей хромоногой лошади челядинец в лисьей шапке и закричал:
– Дорогу стольнику Григорию Орлову!
За ним въехал на хорошей, но перекормленной лошади сам стольник в шапке из черно-бурых лисиц, в богатой шубе, в теплых цветных сапогах и рукавицах.
Сзади ехало еще два челядинца в сборном платье.
– Подержи коней, христа ради, – сказал мужичок и, бросив поводья, сгинул.
Орлов соскочил с коня, посмотрел на стремянного и сказал:
– Ты не воеводы ли Зарайского человек?
– Как же, боярин, – ответил стремянный, – я Хвалов, холопишка соседа твоего, князя Дмитрия Пожарского.
– Как же, знаем, – сказал Орлов, снимая шубу, подхваченную челядинцами. – Говорят про Дмитрия Михайловича: покоя себе не обретает, лапти, сапоги разбивает, добра не наживает.
Промолчал Семен.
Отъехал стольник.
К стремянному подъехал пестро одетый челядинец.
– Хвалов! Семен! – сказал он.
– Для кого Семен, а для тебя, Мишка, я Семен Тимофеевич, – ответил Хвалов.
– Слышь, – сказал Мишка, – мужичок тут у вас коней держал. Ваш?
– Прохожий.
– Ты смотрел – ухо у него резано?
– А что?
– На Ромашку нашего похож, беглого. Убежал во время голода и не вернулся. И на нем долг. Сыскать да поймать бы – боярин два алтына дал бы.
– Два алтына – деньги, – сказал Хвалов и замолчал, не желая продолжать разговор с пустым человеком.
А в это время в келье шел иной разговор.
Келья под сводом, темна и затхла.
На деревянном обрубке сидел высокий человек.
Цепь обвивала его; начиналась она ошейником, прикован конец к тому обрубку, на котором сидел инок.
На голове инока железный обруч, на теле под цепями плоские вериги и много десятков тяжелых медных крестов на немалую цену.
Под крестами, цепями, веригами видна рубаха из свиного волоса.
Ноги у инока босы, сини, и пальцы на ногах не все целы – отморожены.
В келье топлено, но инок мерз и, сильно согнувшись, грел ноги руками.
В углу сидел монах, совсем седой, но сильно черны его широкие брови над черными нерусскими глазами.
Одет второй инок был в шерстяную рясу, широкую и как будто теплую.
Оба инока молчали. Говорил Пожарский, говорил, как человек книжный, не торопясь и стараясь не волноваться:
– И когда князья многие, и нашему дому родственные, – Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, и Сицкий, и Черкасский даже – поехали в тушинские таборы, к вору, искать деревнишек и жалованья, совесть меня туда, святой отец, не пустила. А когда Коломна крест вору целовала, хотели присягать и в Зарайске. А я тогда в кремле заперся. Кремль Зарайский крепок. А хлебные запасы мы в кремль загодя свезли, и воевали мы с посадскими людьми ляхов. И за это меня царь наградил: поместье мое в Суздальском уезде, село Нижний Ландех, за то, что я голод и всякую осадную нужду терпел и на воровскую прелесть и смуту не покусился, велено было считать не поместьем, а отчиной. А когда Ляпунов хотел царя с престола свесть, я в том деле не согрешил, а когда на Ляпунова пошли польские люди и изменники, а царя уже не было и Ляпунова в Пронске осадили, я из Зарайска пришел и Ляпунова освободил. И на меня с ратью пришли и ночью взяли городские стены, а я из кремля вышел с небольшою ратью и побил польских людей беспощадно.
– Так в чем же каешься, князь? – спросил инок. – В гордости ли?
– В сомнении каюсь. Не верю я в конечное нашего государства спасение. Маринка Заруцкого жена теперь, и сын у нее подложный. Ушла она из Коломны, и город ограбила начисто, и ворота с собой увезла, и зачем той бабе крепостные ворота? А я теперь сомневаюсь. Соберемся мы, дворяне, вооружимся, нападем на поляков, а потом деревнишки поделим да поссоримся. Изверился я в нашем войске, и еду я, святой отец, в Москву один, посмотрю, как семья, а там – что бог даст.
Из угла заговорил монах с черными бровями:
– А правда ли, что вся Рязанская земля очищена?
– На Рязанской земле чужих людей нет, – ответил Пожарский.
– А рать Ляпунова велика? – спросил черноглазый.
– Велика. Идут с Ляпуновым люди из земли Рязанской и Северской, идут из Муромской с князем Масальским, и из Низовой с князем Репниным, из Вологодской земли и поморских мест с Нащокиным, и эти всех надежнее. Идут из Костромской земли, из Ярославской. Идут казаки Прасовецкого, идут казаки из степи. И сказано, что которые боярские люди крепостные и старинные и те шли бы без всякого сомнения и боязни. И я иду! Дай мне, отче, благословение.
– Господи Иисусе Христе, сыне божий! – сказал быстро и привычно Иринарх.
Потом встал и заговорил медленно, глядя в угол, на закоптелые иконы:
– Святые праведники Борис и Глеб, от брата убитые без прекословия, молите бога за сего раба, иже всуе мятется… Нет тебе моего благословения, князь… Смирись да молись поболе… Молись да смирись… Поляки-то теперь сильненькие, а мы-то бедненькие. Бедненький-то «ох», да за бедненького-то бог. Ко мне сам воевода польский Сапега нагрянул, губитель человеков. Я его божьим словом укорил, так он никого не тронул, пять рублей дал да знамя охранное… Вот с богом как. Отца Николая спроси, вот того, что в углу, он все видел. Приляг к земле, сынок, смирись, мертвым хоть прикинься.
– Обида в сердце жива. Тушинское бесчинье помню и переяславское разорение, угличский пожар, царя Бориса смерть, Ксении-царевны унижение…
– Укороти память смирением. Ты человек простой, не хитрый. Народ глуп. Подымется, да и погибнет. А и ты с ним пропадешь… Ну?
– Лучше смерть, чем жизнь поносная, – тихо ответил князь.
– Что за слово, где читал? Нет такого в писании…
– У деда на сабле написано. Он от отца получил. Тот на Куликовом поле сражался.
Старик встал, подобрал цепь. Цепь проскрежетала по полу. Монах подошел к аналою.
– Упрям, – сказал он. – Горд не по сану.
– Запрещаешь? – спросил Пожарский.
– Милый ты человек, – сказал монах, – иное у нас писано, и не на сабле… Живем мы пропадая… Нет тебе ни благословения, ни запрещения. Воюй, коли смеешь, самовольно. Был я мужиком в миру, князь. Сам на врагов сердце имею… Смирили отец Николай да игумен, показали мне все в писании. А ты, коли не боишься греха, воюй самовольно.
Дмитрий Михайлович печально взглянул снизу, стоя на коленях, на Иринарха.
– Не даешь, святой отец, благословения? И как теперь воевать? А воевать надо. Затоптана вся земля. Надо мне, надо в Москву ехать. А там что бог даст! А коль придется воевать самовольно, поставлю потом на молитву мать, и жену, и детей – отмолят. А то отдам монастырю сельцо, пускай монахи молятся – да простит мне бог прегрешение мое.
– О сельце скажи игумну, – охотно ответил Иринарх.
В монастырской конюшне
Беда, если остервенится грубая чернь.
Конрад БуссовДмитрий Михайлович печально шел по двору.
Надо коня посмотреть: как расседлал его Хвалов, какое сено дали. У монахов для богомольцевых коней сено плохое, из осоки больше. А коню хода до Москвы немало.
Что в конюшне? В конюшне было вот что.
Семен Хвалов пошел проверять, как кормят коня. Сено коню было задано с болотных мест, хуже соломы. Пошел Хвалов сам искать сено получше, где запрятано. Искал, ругался.
«Мало, – говорил, – мы монахам этим земли отписали. Одними молитвами кормят. Да кто ее проверит, молитву? А коня боярского покормить – нет того!»
Запустил руки Хвалов в сено. Это помягче. И вдруг оттуда выскочило что-то.
Стоит.
– Ты что?
– Погреться.
– А покажи ухо.
Бросился мужичок на Хвалова, сбил с ног. И как это у них сила берется без корма?
Борется Хвалов – человек немолодой: надо нож из-за голенища достать и ткнуть мужичка, да так ткнуть, чтобы не испортить, – чужой.
И вдруг кто-то схватил за руку. Князь.
– Ты это кого так, Семен?
Встал Семен, встал мужичок. Бросил на землю колпак, сказал:
– Колите меня, ваша сила!
– Ты чей? – спросил князь.
– Стольника Орлова, – сказал Хвалов. – Соседа, Дмитрий Михайлович. Вернуть надо.
– Сильно лют стольник? – спросил князь.
– Обыкновенный кровопивец, – сказал мужик.
– А тебя как зовут?
– Да Романом же.
Заговорил Роман, торопясь:
– Взял я у стольника два рубля. Лошадь купил за рубль. Служил пять лет. Всякую страду на него страдал да за избу заплатил рубль. Рубль отслужил, рубль остался. На посев взял – опять два рубля. Да недород. И пометал я дворишки, а дети померли, и жена померла. Колите меня. Все равно я того рубля не отслужу.
– А ты зачем на Москву шел? Ты не врешь ли? Ваша дорога – на Дон!
– Люди говорят, – угрюмо ответил мужик, – собирали под Москвою рать, берут всякого, не гонят и не выдают.
– А ты что же, – спросил Пожарский, – ратному делу учился?
– Под Нижним, когда бегал, пристал к Алябьеву. Бились под Балахной. У Минина-мясника, ратника, в десятке служил. Да разошлась рать. Я из остальцов. На засеке сидел. Вот кабы саблю достать да в Москву!
– Так ты воюешь самовольно, – сказал печально Пожарский. – Так нельзя. Нельзя самовольно воевать. Но, коли не врешь, приходи в Москве на Сретенку, возле церкви Введения у Пушечного двора за кладбищем, спросишь двор князя Пожарского. – Помолчал и прибавил: – И сабля будет.
– Так не выдашь?
Мужичок поднял колпак, натянул на голову и недоверчиво пошел к дверям.
– Семен, – сказал холодно Пожарский, – мы не пристава ловить да выдавать. Ты так не делай.
– Да Григорий Орлов, стольник, здесь, – сказал Хвалов. – Какими глазами смотреть на него? Свой человек, сосед.
Ничего не говоря, вышел Пожарский во двор.
В небе луна, тишина. Капает где-то с сосен на снег.
«Не гораздо вышло с Орловым. Все самовольство».
Григорий Николаевич Орлов был во хмелю разговорчив
Увы, ненасыщаемо дно человеческих очей.
Авраамий ПалицынБывал князь в монастыре неоднократно и все переходы знал, дошел к дальней келье легко. В келье топилась печь, на столе большой оловянный кувшин с пивом, хлеб, блюдо с рыбой.
Все скамьи заняты: Григорий Орлов раскинул по скамьям свои шубы, кафтаны, торбы и мешки.
Стольник Григорий Орлов, человек торопливый до остервенения, ел рыбу руками, вытирал руки о стол, кончал есть, пил мед, снова возвращался к рыбе.
– Дмитрий Михайлович, – сказал Орлов, вставая и обнимая князя, – узнаёшь соседа?
– Здравствуй, Григорий Николаевич, – ответил Пожарский.
– А ты все служишь? – сказал Орлов. – Удивляюсь я на тебя, Дмитрий. Человек ты родовитый, не хуже других, и ратное дело знаешь, и грамотен даже. А к какому берегу ты – не поймешь! И живешь, как люди говорят, – ферязи самые добрые, рогозинные, да завязки мочальные.
– Спать пора, Григорий Николаевич, – сказал Пожарский. – Вот освободи место.
– Слушай, Дмитрий Михайлович, ты мной не брезгай. Помнишь, как у нас чуть возок с царицей не перевернулся? Я тебе, Дмитрий Михайлович, друг. У меня у самого с недостатку брюхо росло. Ты вот, Дмитрий Михайлович, с Ляпуновым, а он рязанец и все своим рязанцам норовит, да братьев у него много, да свояков… А надо держаться, князь, за Владислава. Первое: я Владиславу крест поцеловал два раза, а вору – раз. А второе: Владислав – царевич прирожденный, а вор – неведомо кто, да потом того же вора убили. Паны в Москве, у них приказы, казна, короны, печати, пушки, пищали. Надо их руку держать. И идет к панам на помощь главный их воевода Карл Ходкевич. Этот не нам чета. По всему свету дрался. Человек строгий и правильный. Бил на Украине холопов, и кого поймает, жарит в медном быке, и в том быке труба – человек кричит, бык мычит, а народ слушает и страшится, а страх, князь, – начало премудрости. А у нас, князь, так не умеют. Мы что? Мы колом по голове да под лед. Ни страху, ни научения. Ты что, князь, меду не пьешь? Это тебе монахи прислали. Да я и не выпил, на всех хватит. Вот рыбы, князь, уже нет.
– Спать надо, Григорий Николаевич.
– Да ты слушай, ты не важничай. Холопов и блинников поляки побьют. Если мы панам сейчас поможем, то такое получим, чего у нас и на разуме нет. Сделают нас кравчими, каштелянами или графами какими-нибудь. И ты поправишься и роду своему чести прибавишь. Я знаю, что ты над панами под Зарайском промыслил. Так ты не бойся: они тебе за то дороже дадут.
Дмитрий Михайлович сам постлал себе постель, улегся ногами к печке, прикрылся кафтаном с головой так, как прикрываются люди, привыкшие спать под открытым небом.
– Ах, Дмитрий Михайлович, Дмитрий Михайлович, не ту ты руку держишь! В Тушине у нас и Троекуровы были, и Сицкие, и Трубецкие… а тебя не было. Сытость у нас в Тушине такая была, что головы скотские, да ноги, да требуху на землю кидали, собакам не проесть, так что засмердел даже лагерь. Привыкать пришлось. Жизнь хороша была на удивление. А ты панов бил! А я, Дмитрий Михайлович, столовые запасы собирал. Приеду, соберу мужиков, скажу: «Подавайте с сохи по осьми яловиц, да баранов, да утят, да тетеревей, да половинок свиных кругом по шестнадцать, да масла коровьего, да масла конопляного по четыре пуда. А кур, сыров по сорока. Да яиц четыреста. Капусты соленой – сорок ведер, вина – десять ведер, меду – десять ведер, да еще лососей». Это для запроса. Нет у них лососей. Ну конечно, тут надо деревню жечь. Пожжешь немножко – достанут. Потом опять приедешь, скажешь: «Давай с каждой сохи по сороку туш бараньих, по сороку половин ветчины, по осьмидесяти гусей, по двести кур, яиц по пятьсот, по сороку чети солоду ячного, по десяти пудов масла коровьего, коров шестьдесят, сена стогов двести, да осетров, да всего того, что раньше брал, да всего не припомню…» А в сохе всего мужиков триста. Ну, не достанут. Тогда жечь! А ты, Дмитрий Михайлович, все с панами!.. А мы вдруг в день больше соберем, чем ты во всю жизнь видел. Ты посмотри, какая у моего Мишки морда! А теперь, друг, довольно! Послужу законному государю Владиславу. Возьму село с деревнишками, брать буду по порядку. Я теперь мужика знаю, он хитрый, он достанет. Чего спишь, Дмитрий Михайлович? Все брезгаешь?.. А вот Трубецкой не брезгал. Мы с ним икру кушали с лимонами. Икру мы в Ярославле достали, мало не тридцать пудов. Грех, думаешь? Монахи замолят! У нас теперь, Дмитрий Михайлович, одних патриархов три али четыре: Гермоген в Москве сидит – патриарх, и в Тушине Филарет – патриарх, и Иона – тоже патриарх, и грек этот, Исидор, – он четвертый. Ну как не замолить!
Налил пива Орлов, подошел к князю, сказал:
– Выпей, друг. Все равно, монахи тебе же в счет поставят – твоя келья-то… Ты что не говоришь? У меня от уговоров горло пересохло. Жалею я тебя… Живем рядом, воевали вместе…
– Вместе не воевали, – сказал Дмитрий Михайлович, откидывая шубу и садясь на лавку.
– Я ничего, – сказал Орлов. – Я спьяну… Мне коней посмотреть надо.
Ушел на мороз Орлов. «Пускай заснет Дмитрий Михайлович. Глупый человек, убить может… Небось отошел, спит… И хорошо, что спит. Уж больно я с ним разговорился, а он злой да сильный. Спит Дмитрий Михайлович и горя себе не знает, беспечный человек. А и впрямь хорошо проверить, кормлены ли лошади».
У Пожарского при конях стремянный. Кони хрустели овсом. А его лошади стояли у стены голодные и нюхали снег.
Вот всегда такое ему, Орлову, несчастье! Надо холопов найти. Тут увидел Григорий Николаевич седого монаха с черными бровями. Подошел Орлов под благословение. Монах заговорил спокойно:
– Известно нам, что род Орловых честью и жалованьем обижен, а разумом высок. Так вот советую я по благоприятству: в монастыре не ночевать, а ехать на Москву. Дам я вам грамотку, а вы ту грамотку в Кремле передайте пану Гонсевскому.
– Да меня не пустят!
– Пустят с грамоткой. Я хоть монах и невидный, а важные люди меня знают. Только надо спешить и в Москве быть прежде Пожарского. Сказано в писании: «Близко погибель Моава, и сильно спешит бедствие его». Спешить надо. Скажешь – от Мело.
И сам монах спешил и благословил Орлова не по-русски сложенным крестным знамением.
Тут Орлов все понял и заспешил еще больше.
Монах-то латинянин, а в каком месте сидит! Значит, при важном деле и говорит недаром.
Разыскал Григорий Николаевич челядинцев и ругать не стал. Оседлали голодных коней и погнали ночью скорее на Москву.
Вот время – лови да хватай!
Понедельник
Трудно вообразить, какое множество тут лавок, какой везде порядок.
Самуил Маскевич о МосквеПеред тесовыми воротами, ведущими в Москву, на Ярославской дороге, собралось много возов, собрались пешие люди, конные.
На деревянных стенах пушек не видно было. Свезли, вероятно, куда-нибудь.
Но на башнях видны польские люди и немецкие пешие воины.
С открытием ворот запоздали.
Шептались около возов:
– Смоленск еще в осаде. Говорят, из восьмидесяти тысяч человек не осталось в живых и пятнадцати тысяч.
А про другие места Московского государства лучше не то что не говорить, а и не думать.
Открылись московские ворота, начали впускать возы. Не сразу, а по одному, и все с придирками.
Прощупывали возы до дна – нет ли под товаром пищалей или топоров.
Возы с мелкими дровами не пропустили, сказали:
– Это не дрова, а дреколье – воевать.
Плотники пришли. Плотников пропустили, а топоры у них отобрали. Говорят – оружие.
Да и самих плотников обыскали, нет ли у них за пазухой камня – тоже оружие, – для верности распоясали.
Уже проехали возы в ворота, как прискакал Орлов с челядинцами. Хотели его обыскать, но ткнул он цидулку начальнику караула. Был тот неграмотен, но сообразил: буквы непонятные, – вероятно, латынь. Пропустил.
Веснеет. На дерновых крышах висят сосульки.
Народу на улицах много, собираются кучками, о чем-то говорят.
Среди непрерывных рядов домов и заборов есть бреши. Щепки лежат на опустелых местах, брошенные бревна.
На пожар не похоже.
Сообразил Орлов: дров в Москве нет, – значит, разбирают на дрова опальные дворы. Кто убежал от поляков и оставил дом без охраны – вот и пошел его дворишко на топливо. И не то чтобы соседи злились, а так – топить нечем.
На улицах рогаток нет. Улицы прочищены, и шалаши сняты.
Из домов выезжают возы. Возы плотные, покрытые рядном, перевязанные. За возами идут польские и немецкие люди. Переезжают в Китай-город и Кремль.
У Белого города задержались. Поехали обходом, через Трубу. Там, где разлилась река Неглинная широким прудом, обычно ворота раньше открывались.
Ворота закрыты. У ворот немецкие и польские возы.
Постояли, послушали.
Вчера было вербное воскресенье. Обыкновенно в этот день из Кремля выезжал патриарх на лошади.
У лошади уши приставные и полотняная попона. Изображала она осла. Ехал на ней патриарх, а вел лошадь царь. А за патриархом везли большую вербу разукрашенную, а на вербе, как птицы, сидели певчие и пели.
Вчера шествие было, но народу на Красную площадь не пришло.
Открыли ворота Белого города.
Сперва мост спустили, потом открыли кованые ворота. Поехали в башню. Там поворот, и, в повороте подъемные решетки.
«Везет же людям! – думал Орлов. – И такую крепость заняли обманом!»
Ворота в Китайгородской стене были уже открыты.
Выехали на Красную площадь – вся площадь заставлена ларьками, шалашами, лавками.
В разрывах между лавками видны зубцы невысокой стены, идущей вдоль рва.
Ров по зимнему времени пуст.
Лавки открыты, а торговли не видно.
Подъехал Орлов к Фроловским воротам, показал страже записку. Пошли докладывать.
К Гонсевскому, конечно, Орлова не допустили. Записку взяли. Кремль был переполнен.
Пошел Григорий Орлов на поклон к Михаиле Салтыкову, по прозвищу Кривой.
Салтыков Орлова принял тревожно и даже не гордился очень.
Рассказывал, что патриарха взяли под стражу, а он уперся.
Так как время постное, то дают патриарху на неделю ведро воды и сноп овсяной соломы необмолоченной. Может, образумится.
Служить полякам стоит. Царица Марфа, Ивана Грозного седьмая жена, что признавала Самозванца своим сыном, а потом Шуйскому помогла, просила недавно деревнишек – дали.
А ему, Салтыкову, дали Вагу.
Тут Орлов ахнул: это царский кус, раньше им Марфа Борецкая, посадница, владела, потом Борис Годунов, потом Шуйский, а тут – Салтыков.
Заторопился Орлов. Салтыков надел парчовый кафтан. Звали его на совещание.
Просил Орлов, чтобы и его взяли. Засмеялся кривой Салтыков.
Тут пришли от Гонсевского и позвали Орлова.
В доме у Троицких ворот, в Борисовом подворье, в богатых палатах Годунова, где стоял гетман Гонсевский, тепло.
Орлов заметил, что тепло идет с полу – значит, под полом печные трубы. Очень это удобно, и всё мы, русские, можем придумать! И он, Орлов, придумает такое, что ему отвалят отменный кус.
Докладывал Андронов-кожевник, боярин теперь, – получил высокое это звание в Тушине, а Борис его к себе звал для волховства.
Федька Андронов докладывал обстоятельно и говорил по-простому.
– Служим мы, – говорил Федька, – свидетель бог на мою душу, чистой совестью. Подались Владиславу со столицей и иными замками и крест целовали. Однако же некоторые хотели податься вору, но вот тот убит. А есть мужики и посадские люди, что сами хотят быть как господа. И лучше с ними теперь обойтись по их штукам. Тогда и те их штуки мало что помогут, и мы их умысел на правдивую сторону поворотим. Для того потребно в приказы иных людей посадить, которые нам бы прямили. А не то у московских людей великая дерзость. И надо, чтобы гусары никуда не выезжали, а и мы им станем каждую четверть жалованье платить. Времена шаткие. Поехали люди польские вчера доставать сено на Остоженку. – из стогов, без торгу и платы. А мужики палками их побили. Стража с водяных ворот мужиков поколола. Но лучше московитов не дразнить. А наши люди дерзкие и драться будут даже без снаряда. А лучше бы королю идти к Москве не мешкая, а не то города от Москвы отстанут.
Тут встал пан Гонсевский и сказал, что от верных людей и одного святого монаха, через верного же человека, известно, что готовят московиты восстание и злоба народа беспрестанно увеличивается.
Народа в Москве больше, чем муравьев.
И пан Гонсевский кончил тем, что пригласил всех выйти на кремлевские стены.
Кремлевские стены наверху широки, крыты деревом.
На стенах стоят пушки без числа. Пушки всякие – мортиры, единороги, длинные пищали.
Башни часты – от башни до башни два лучных выстрела.
Стены не прямы – с одной бойницы можно видеть другую.
Стены великого мастерства, не хуже миланских.
К Кремлю прижался, защищая его с той стороны, откуда легче пойти приступом, каменный Китай-город, с толстыми, крепкими стенами.
– Надо, – сказал француз Маржерет, – на эти стены больше пушек.
Москва лежала внизу, похожая на корзину с дорогими игрушками. Она белела нечистым снегом домовых крыш, пестрела куполами, желтела весенним снегом и бревнами мостовых.
Улицы шли узкими трещинами туда, на Русь.
Удивлялись люди на стене обширности города. Кремлевских стен – две версты, стен Китай-города – еще две версты, Белого города ширина – девять верст, а деревянных стен – четырнадцать верст.
– Прекрасный город! – сказал Маржерет. – Всех стен охранять нельзя. Надо сжечь.
Тут Орлов заторопился. Начал говорить, что сжечь Москву трудно. Сады есть, опять-таки Неглинная широко разлилась, Москва-река. Жечь надо город сразу во многих местах. Только москвичи не дадут.
– Я сам зажгу свой дом изнутри, – сказал Салтыков.
Тут Григорий Николаевич Орлов увидел, что ему до Салтыкова далеко: боярин, получивший область Вагу, за малым уже не стоял.
Жечь Москву решено было поручить двум тысячам немцев при коннице.
Пошли проверять стражу, обнаружили, что трое пахолков спят, забравшись в Царь-пушку.
Оштрафовали за то по пятнадцати злотых.
Осмотрели пушки. Рядом стоял тяжелый дробовик семи с половиной аршин длиной и с более чем аршинным дулом. Отлит был дробовик при Федоре Иоанновиче Андреем Чоховым и еще блистал новизною меди. Рядом с ним стояла пушка, еще новее, того же мастера, полегче – четыреста тридцать пудов. Звали ее «Троил». Рядом же с ней длинная узкодульная пищаль «Аспид», уже двадцатилетняя, в триста семьдесят пудов. И маленькая, Проней Федоровым только что вылитая для того, кто назывался Дмитрием Ивановичем, короткомордая мортира в сто шестнадцать пудов. И маленький «Левик», длиной в шесть аршин, и «Онагр», тоже в шесть аршин, и острая «Пана», украшенная ехиднами, отлитая уже пятьдесят лет тому назад пушкарем Ганусовым.
На стенах работали. Привели коней, покатили пушки на верх стены. Катили, подкладывали поленья под медные колеса, катили, втягивая веревками, ругаясь на всех языках. Лопались кирпичи под колесами.
«Аспид» и «Троил», «Лев» и острая «Пана» направили широкоротые свои морды на еще не проснувшуюся Москву.
Гришка Орлов не спал долго. Всю ночь ему снились комнаты Гонсевского. Там на скамьях лежали царские одежды, вышитые вместо позументов по нижнему краю на аршин драгоценными камнями.
Не спал Орлов, вспоминал московские сокровища, золотые сундуки для мощей, короны царские, скипетры. Обо всем этом он раньше знал по слуху.
А тут он у Федьки Андронова на руке увидел лал в перстне невиданной красоты.
Спать нельзя. Счастье проспишь!
А к утру заснул все-таки Гришка. Снился ему пожар Москвы. От пожара сыпались искры, и искры были золотые, и он эти искры собирал.
Вторник
Место князя Д. М. Пожарского. На нем живут в избах люди его крепостные: Тимошка серебряник, Петрушка да Павлик бронники, Матюшка алмазник, Аношка седельник. Сказали, что будут они все на службе с боярином.
Расписной списокЖелезная решетка, внизу кончающаяся остриями, закрывающая выход на мост из Фроловских ворот, в то утро не поднялась.
За решеткой под седлами, покрытыми пестрыми шкурами, стояли кони иноземных полков.
По бокам ворот в двух бастионах, уходящих своими основаниями в лед рва, стояли латники.
На стенах, под кровлями, и со стороны водяного рва с двойной стеной, отделяющего Кремль от Красной площади, и со стороны прудов на Неглинной, и со стороны Москвы-реки – везде стояли иноземные воины.
Со стен хорошо смотреть на Москву-реку.
На льду туши баранов, быков крепко приморожены. Как будто идет из Замоскворечья к Кремлю большое бескожее и безголовое стадо. Это мясной торг, приготовлено к заговенью.
Из Замоскворечья по Пятницкой въезжали розвальни, взбирались рысью в гору и исчезали в воротах Китай-города, чтобы снова вынырнуть на площади.
На площади возов много.
Но не вышли сегодня подивиться богатству и затейливости московских изделий, умельству русских мастеров скучающие большерукие жолнеры.
Торг начался вяло. Все оглядывались люди на тяжелую неподнятую решетку.
Заскрипели противовесы. Подняли решетку, выехал небольшой отряд. Проехал к базарным старостам.
Передано было, что бояре приказали дать людей в помогу – поднять пушки на Китайгородскую стену.
Для того приказано брать лошадей у извозчиков.
Извозчиков в Москве множество, сани у них – розвальни, возница сидит на самом коне верхом, ноги между конем и оглоблями.
Стояли извозчики тучами у ворот. Здесь собиралось по двести саней.
Тут и начался с утра крик: извозчики к пушкам не шли и лошадей выпрягать не давали.
Рынок на Пожаре продолжал торговать.
Ранним утром из Серебренников, что между Трубою и Крапивниками, пошли берегом Неглинной пятеро черных людей на рынок для небольшой купли.
Шли крепостные Зарайского воеводы, оброчные.
Шел Тимоша, Петруша и Павлик – бронники, Матюша-алмазник и Аноша-седельник.
Жили они в слободе, где все люди были на оброке, серебром господам платили, потому и звалось место «Серебренники».
Шли, добрались до Китайгородской стены, вошли через Львиные ворота – левее был дом с львиной ямой. Дом старый, Борисом Годуновым построенный, но лев уже сдох. Пришли на рынок. На рынке разговоров много.
Боярин приехал и стал в своем доме, у храма Введения божьей матери, насупротив Варсонофьевского кладбища.
К боярину идти с пустыми руками не гоже, надо ему принести хоть калач, хоть рыбу, хоть грибов сушеных.
День свежий, ветер на площади гонит сено и рыжий, жирный от пыли, горький базарный снег.
У Китайгородской стены, прямо от ворот, торговали постным товаром – кислой капустой, рубленой и кочанной, и солеными огурцами. Дальше шел пустой, молчаливый самопальный ряд.
Иконные лавки, сапожные торги.
В ряду щепетильном и игольном торговля шла.
У самого рва сани стоят с поднятыми оглоблями. На оглоблях связки сухих грибов.
Дальше ряды чесночный и луковый и ряд калашный. Калачи покрыты холстом, чтобы не зачерствели от мороза.
Калач сразу не купили, пошли дальше любопытства ради.
У реки лежала горами, как дрова, мороженая рыба. Ближе к Зарядью самый бедный торговый ряд – зольный.
Стоят здесь бабы с лукошками, в лукошках зола для стирки.
Правее – пирожники торгуют на мосту к Кремлю.
Опять пошли мужики к калашникам, торговали один калач впятером.
Народу много, все толкутся, разговаривают друг с другом, а друг друга не слушают.
Один говорит:
– Больно шумят паны – житья не дают, и не столько сожрут, сколько перепортят.
А в сторону шепчут:
– Ляпунов идет из Рязани.
Другой говорит:
– Заруцкий идет, только с ним Маринка и немцы.
– Больно казаки в Суздали шумят.
Баба ходит, рассказывает:
– В Пскове Дмитрий объявился, самый настоящий, рыжий, присягали ему Псков и Опочка. Знаю наверно. Вот и снетка с того в рыбном ряду не продают.
– Дура! Снеток белозерский, его шведские люди не пускают.
– Ан нет! Снеток из-под Гдова.
Шумит народ.
– В Астрахани объявился царевич Август Иванович, от Грозного. Там же царевич Лаврентий, от царевича Ивана, Грозного внук. А в степи у ногайцев скрываются царевич Федор, царевич Климентий, царевич Савелий, царевич Семен, царевич Василий, царевич Ерошка, царевич Гаврилка да царевич Мартынка – все Федоровичи…
Шумит рынок, о Заруцком кричат, о Прасовецком, о боярине Шеине, что Смоленск держит против панов, и никто не вспоминает Зарайского воеводу Пожарского.
Опять приценились к калачу. Дорог.
Услышали шум от Ильинских ворот. Пошли кучей смотреть.
На широкой стене ругались извозчики; поляки покалывали их дротиками, но крови еще не было.
Приказано извозчикам втаскивать пушки, снятые со стен Белого города и со стен Скородома, на Китайгородскую стену.
А извозчики вместо того пушки скатывают со стены.
Оброчные, мужики Пожарского стояли внизу, у Ильинских ворот, шумели вместе со всеми и вместе со всеми ругали бояр и поляков.
Брань то вспыхивала, то затихала; в промежутках слышен был великопостный звон дальних церквей.
Вдруг заскрипели решетки Фроловских ворот, и на мост, на котором уже расторговались пирожники, прямо на лукошки, вылетели чужие конники в полном параде.
На шлемах крылья, вырезанные из тонкой стали, за спиной к панцирю на винтах прикреплены стальные крылья.
На длинных дротиках у одних цветные шелковые стяги, у других какие-то странные шапки – мочальные или кудельные.
Растоптали конники лукошки, пошли изворачиваться между возами, расшибать копьями лубяные шалаши вместе с торговцами, опрокидывать скамьи, бочки с дегтем, рубить людей короткими палашами.
Рубили, кололи всех. Растекался по Китай-городу смертный крик.
Еще у ворот торговали, божились, смеялись, а на площади люди были порублены, потоптаны. Раскатились воины по улицам, сметая все перед собой.
Снег запестрел от кафтанов упавших людей и потерянных цветных колпаков.
Часть воинов замешкалась на рынке, начала грабить лавки.
Перебито было в Китай-городе семь тысяч москвичей, и было бы перебито больше, если бы не задержались воины.
Когда погнали их начальники дальше, то не прошли они до Китайгородских ворот, ведущих в Белый город.
В Белом городе бежали люди с досками, лавками, тяжелыми мытыми обеденными столами, не от врагов, а на них.
Тут были в толпе и мужики Пожарского, и другой мужичонка, без пояса, лохматый, который то вопил: «Бей!», то спрашивал: «А где дом воеводы Пожарского?» Кричал он рядом с бронниками, но они его не слыхали.
Из скамей и столов построили москвичи завалы – подвижные стены.
Кидалась конница на народ с копьями, нарывалась на деревянные завалы. Из-за завала били дровами, камнями.
Отступят всадники, чтобы выманить москвичей из ограды, – оживают московские баррикады. Мытые столы и скамьи преследовали поляков и жевали их деревянными своими зубами.
Повернется конница, а перед нею опять деревянная стена. С заборов, с крыш, держась за деревянные дымницы, при громе набатов, мечут московиты во врагов камнями, дровами.
Тогда из ворот Кремля вышла пехота.
Пехоту вели Яков Маржерет и поручик Шмидт.
Шли двумя взводами, под оркестр. Люди под музыку, похожую на менуэт, шли, вытягивая носки, стараясь попасть в ногу. Стали, уперли мушкеты о посошки, выпалили вдоль улицы.
Охнула баррикада. Повалились люди.
– Кто тут князя Пожарского спрашивал? – закричал Аноха.
– Я, Романка, – сказал мужик.
– К князю идем! – закричал бронник. – Он на Сретенке, будет князь у нас воеводой.
Среда
Москва еще имела ратоборца.
Карамзин.Во дворе Пожарского на Сретенке, около кладбища, сушили белье и проветривали платье, потому что дело было к празднику.
Сушили сорочки полотняные и шелковые, мужские порты. Проветривали суконные кафтаны, телогреи, зипуны, армяки и совсем ветхие парадные дедовские одежды. Названий много, а платья настоящего мало. Все ношено, помято, и мех дорогой повытерся. Но когда все повесили на дворе, то пройти было уже негде.
На этот двор с крыльца смотрел Дмитрий Михайлович.
Вышел он на крыльцо, услышав набат.
И сразу прибежали люди, и порвали веревки, и потоптали платье, как ни кричал на них Семен Хвалов.
Кричали люди, что немцы и поляки Москву жгут.
Семен притих, начал собирать платье и велел запрягать коней.
Жена тихо уговаривала князя не губить голову, не сражаться одному против войска.
– Посадские люди без оружия, их за воинов счесть нельзя.
Дым в Москве уже подымался на цыпочках и через дома заглядывал на двор Пожарского, на двор, мощенный пестрой одеждой, наполненный бедно одетым кричащим народом.
Дмитрий Михайлович победы не ждал.
Велел он знакомому мужику, Роману беглому, который тут же вертелся и просил саблю, бежать к Пушечному двору, звать пушечных мастеров с пушками.
Пушки на дворе были, но без колес.
Выкатили из погребов бочки и ушаты с капустой и огурцами, выбросили капусту и набили бочки землею с могил соседнего кладбища.
В доме оружие было старое, таким нынче не бьются.
Устанавливали бочки с землей, корзины, рвали рубахи, закладывали в длинные рукава камни и кирпичи.
Со стороны Китай-города слышна была музыка.
Под бальную мелодию флейт шли иноземцы.
Знакомыми улицами шли они журавлиным шагом, стараясь не сбиться с ноги.
Шли мушкетеры, копейщики.
В первых рядах шли два пастора – Бер и Буссов. Они подтянули под панцирь свои рясы.
– Настал день судный, – сказал Бер. – Погибнет город этот, кроме крепости, занятой верными, которые уцелеют, как ковчег Ноя. Вы слышите, как воют на Никитской улице? Там палит город полковник Яков Маржерет.
Когда немцы вошли в устье Сретенки, Сретенка молчала. Потом из всех ворот побежали люди с палками, поленьями.
Строй мушкетеров был разбит. Они побежали.
На двор Пожарского тем временем по снегу притащили пушки.
Прочистили им дула, приладили пушки к крестам.
За Лубянской площадью воины опять построились и дали залп из мушкетов. Навстречу им раздался пушечный выстрел.
Князь Пожарский уже свил себе на кладбище боевое гнездо.
Дым стоял над городом столбами, соединявшимися в небе.
На Кремле трубили в трубы, скакали по городу крылатые драгуны.
Похоже было, что пришел день судный, страшный суд, каким его рисуют на иконах.
Москвичи тушили пожар, сдавливали врагов, и уже казалось, что они одолеют иноземцев.
В это время через Кутафью башню боковым проходом вышел из Кремля Григорий Орлов с боярином Михаилом Салтыковым. Через зады дворов князя Репнина и Никиты Романовича Романова пробрались они на салтыковский двор. Дом деревянный, на каменной подклети.
Забрался Салтыков в свою горницу и вздохнул. Дом добрый, рублен крепко, внутри тесом обшит. Рухляди сколько!
Вышел во двор: теснота, холопов нет – небось на улице бьются.
Хороший дом, а тут сжечь велели, и Гришку приставили, чтобы смотрел.
– Ты, Михайло Иванович, как Самсон, – говорил Орлов. – Помнишь, сдвинул Самсон каменные столпы и сказал: «Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами».
– Дом-то у Самсона не свой был, – мрачно сказал боярин.
– Зато Самсону Вагу не дарили, а тут целое государство отписали. Вот, боярин, сено, вот бочки. Поджигай, кормилец. Ну и время! Лови да бери!
На Никитской дрались, давили врагов, били дрекольем и камнями, и вдруг над домом Салтыкова встал огненный столб.
– Пожар! – закричали в Москве.
Дул ветер, гнал огонь в тыл защищающимся горожанам, гнал на Тверскую, на Неглинную. Перекинуло пламя на Пушечный двор.
Горела вся Москва, и везде кричали дети, плакали женщины.
Москва еще держалась, строила укрепления. Наступало утро.
Кричали в Москве:
– На Сретенку! На Сретенку! Там воевода.
К Пожарскому на Сретенку собрались мясники, бронники и другие московские люди. Отряды не давали жечь Белый город, били врагов и раз втоптали их в Китай-город; дошли до Красной площади.
На Сретенке уже были разделены люди по сотням, собирали оружие.
Там, далеко, в Кремле, пробили часы.
Скоро должен прийти Ляпунов.
Дмитрий Михайлович рассчитывал на помощь.
Тут раздался взрыв в шести местах Белого города; в башнях приготовлены были запасы серы, смолы и пороха. Башни устояли, но начался пожар в тылу у сретенского отряда.
Два раза был ранен Пожарский.
Еще час, еще два продержаться!
Прибежал кузнец, сказал, что идут немцы.
Дмитрий Михайлович велел стрелять из пушек картечью.
Выпалили два раза, прибежали сказать:
– Нет пороха.
Тогда Пожарский повел людей в атаку, был ранен еще раз, поднялся, упал.
Изранены были мужики оброчные – и Аноша, и Тимоша, и Павлик, и Матюша.
Решили они, что нужно зажечь хлебные склады на Неглинной и спасать князя.
Положили князя в сани, посадили рядом жену, детей, покрыли мокрой истоптанной одеждой.
Была уже ночь, вернее – должна она была быть, но пожар освещал все вокруг.
Хлестнули коней, и вынесли кони из огня сани с Пожарским.
Умолкли пушки на Мясницкой, и побежали люди из Москвы, бросая имущество, не думая даже о спасении, просто бежали.
Огонь, догорая, стоял над пеплом Москвы, как туман над озером.
Над Москвой подымались закопченные церкви.
Со стены смотрели на Москву пан Маскевич и господин Бер.
На шее у Маскевича был надет крест изумрудный, а сверх окровавленного доспеха накинута соболья шуба.
Бер посмотрел на окровавленный подол своей рясы. Шубы он еще не достал.
Маскевич смотрел вдаль. Там пробирался среди дымящихся развалин какой-то человек. На голове человека острый колпак: русский.
Маскевич взял из рук пастора тяжелый мушкет и начал рассматривать его внимательно.
Хороший мушкет, русской работы.
– Дайте пороху, господин пастор.
– Изобилен и богат был этот город, – говорил пан Маскевич, заряжая мушкет. – Ясновельможный гетман Жолкевский, когда я имел честь обедать за одним столом с ним, говорил мне, что ни Рим, ни Париж, ни Лиссабон не могли равняться с ним. И вот мы его стерли в два дня. История не знает подвига более величавого.
– Дорогой господин мой, – ответил Бер, – история знает разрушения городов столь же прекрасных. Предки мои разрушили Рим, разграбили Константинополь. Была уничтожена когда-то арабами Александрия, и я полагаю, что Троя, воспетая в «Илиаде», также была обширной.
Маскевич выслушал господина пастора, достал из подвязного кармана горсть жемчуга, крупного, как бобы, насыпал жемчуг в мушкет, оторвал от полы кусок шелка, забил пыжом, вздул фитиль и выстрелил в дальнего русского. Тот взмахнул руками и побежал, прихрамывая, среди развалин.
– Я думаю, – сказал Маскевич, – что история не знает такого выстрела. Вы, кажется, пишете летопись, господин пастор? Запомните это. Впрочем, я сам напишу про наши подвиги. Приходите на кремлевский двор, сегодня будут делить добычу.
К Беру подошел Буссов.
– Все хорошо, дорогой пастор, – сказал он. – У меня двадцать фунтов серебра. Я сменил окровавленную рубаху, на мне шелк, а ряса отстирается. Занял место себе и вам в годуновских палатах и поставил наших коней в царские покои, среди языческих изображений русских богов. Все хорошо. В Кремле много вин. Есть бочки, которые напомнят нам о Рейне; есть бочки, которые напомнят нам о Венгрии; есть бочки, которые согреют наше сердце солнцем Испании и Португалии. Я теперь совсем не буду смотреть на пиво.
Господин Бер ответил серьезно:
– Слишком много разговора о вине. Я выяснил. Поляки собрали больше. Их добыча стоит по две тысячи злотых на каждого. У них чернолисые меха, но никто не заботится о сбережении съестных припасов – масла, сыра, хлеба. Я не хочу питаться перцем и имбирем. Впрочем, идемте на майдан и будем торговаться о своей доле добычи. Я убежден, что нас надули.
У пана Гонсевского был гость – пришел Гришка Орлов, стольник, с поздравлениями. Принес прошеньице:
«Великому Государю Жигимонту, королю польскому и великому князю литовскому, бьет челом верноподданный вашие государские милости Гришка Орлов. Милосердые великие государи, пожалуйте меня, верноподданного холопа своего, в Суздальском уезде изменничьим княж Дмитровым поместейцом Пожарского. Он с вашими государевыми людьми бился, как на Москве мужики изменили, и на бою в те поры ранен. Милосердые великие государи, смилуйтеся, пожалуйте».
Велел пан Гонсевский сделать на обороте челобитной помету по склейкам: «По приговору бояр дати Григорью Орлову княж Дмитреево поместье в Суздале село Ландех 316 чети», – и сам скрепил своим именем, и велел именье отобрать, а бунтовщика Пожарского сыскать.
Сыскать бунтовщика было трудно.
Там, далеко, за Москвой, по дороге и по обочинам, шла толпа беглецов.
Шли, плакали, перегоняли друг друга, расспрашивали.
Ночь была морозная, снег глубокий.
Все темнее, уже не светит московский пожар.
Верстах в десяти от Москвы окликнули сани:
– Семен!
Хвалов задержал лошадей.
Над санями стояли трое конных – двое поменьше, а третий тяжелый, чернобородый.
Это рязанец Ляпунов.
– Кого везешь?
– Князя Дмитрия Михайловича посекли враги и пулями пробили. Не знаю, как я его из боя вывез.
Чернобородый нагнулся с коня и спросил Прасковью Варфоломеевну:
– Жив?
Хвалов прошептал почтительно:
– Воевода про князя спрашивает.
– Кто таков? – холодно сказала Прасковья Варфоломеевна, поднимая бледное лицо.
– Да Ляпунов же я, – негромко и виновато сказал чернобородый. – Я же у тебя, княгиня, был, когда Дмитрий Михайлович меня под Пронском выручил. Изрубили бы меня без него, да он на выручку бегом пришел.
Ляпунов вздохнул и спросил опять:
– Жив?
– Ждал он тебя, – ответила Прасковья Варфоломеевна. – вся Москва ждала, не дождалась. – И, помолчав, спросила: – Ты что же, один?
– Ополчение веду, – ответил Ляпунов и сразу заговорил быстро и злобно: – С князем Трубецким, боярином, да с Ивашкой Заруцким на месте стояли и спорили, кто родом выше, кто первый воевода, кто второй и кому какой почет. А Москву сожгли.
– Семен, – сказал Прасковья Варфоломеевна, – трогай.
Лошади тронули.
Пожарский очнулся.
Дым стоял над Москвой темно-розовым столбом.
– Лучше мне было бы умереть, чем видеть все это, – сказал Дмитрий Михайлович, закрывая глаза.
Но и сквозь веки светило пурпуровое небо.
Небо не погасало.
Москва горела двое суток.
У Троице-Сергия
Сплачется мала птичка,
Белая перепелка.
Из песни Ксении ГодуновойНа большой дороге стоит Троицкий монастырь. Долго здесь воевали, вытоптали все. Прошла война потом стороной, оставила окопы, завалы, разрушенные дома, истерзанные леса.
Пасха, самый праздник; в такой праздник мясо едят, вино пьют монахи не угрызаясь.
А праздника нет. Уже три дня идут люди с Москвы, гонят с собой скот, везут на санях рухлядишку.
И с той стороны, где Москва, ночью огонь виден, а днем до неба стоит дым. Такого не видано было и не слыхано было никогда.
Шумят люди вокруг Троицы, на стенах стрельцы осматривают пушечный наряд, прочищают затравки. А народу на дороге все больше и больше. Идут по дороге, идут по обочинам, проваливаясь, едут по лесным тропам.
Легла дорога мало не в три версты шириной.
Везут князя Дмитрия Михайловича изрубленного, и не помнит ничего он, только качается голова его на розвальнях, катается по шубе.
И пусть лучше качается, пусть памяти не будет, а не то откроет князь глаза, а там, на окоеме, розово-дымная пышная пожарная заря.
Едут день, и Семен правит конем, и плачет в ногах жена, и плачет дорога с обочинами на три версты шириной. Плачет от самой Москвы до Сергия.
А голова качается, качается, и ноги отдельно, и руки отдельно.
Раны ли то болят или болит дорога, саблей ли изрублено тело или полозья ранят снег.
Земля русская качается, качается, кровь пролита в небо.
Переменился стук копыт. Открыл князь глаза – над головою своды, на сводах трубы, огонь и страшные лики. А князь знает, что это подворотня башни Троицкой и на своде написан страшный суд.
В келье Ксении Годуновой лежат дорогие меха и ковры, и пахнет не кисло, а смоляно. Курили смолкой-ладаном. Только что пела царевна недавно сложенную песню, и опять пела. Открыта дверь в коридор монастырский, хоть шаги услышишь. Поет царевна:
Ино боже, спас милосердой! За что наше царство загибло? За батюшково ли согрешенье, За матушкино ли немоленье? Ах, светы вы, наши высокие хоромы! Кому вами будет владети После нашего царского житья?Такая тоска! Сгорела Москва. А и до того ее как и не было.
Ах, светы, яхонты-сережки, На сучьё ли вас задевати — После царского нашего житья, После батюшкова преставленья, А света Бориса Годунова?Идут, тяжело идут, несут что-то.
Может, из Москвы кто приехал. В Москве пожар.
На кафтане несут кого-то, видно, изрублен, – а за ним идет женщина немолодая, плачет, не разжимая губ.
– Здравствуй, Прасковья Варфоломеевна!
– Зарубили его, Ксения, – говорит Прасковья Варфоломеевна и не вспомнила, что говорит с царевной. – И дом сгорел. А детишек вывезли, перепуганы и не плачут. А Митя помирает. Сгорела Москва.
В келье Ксении ночевали дети Дмитрия Михайловича, долго не могли заснуть. Им царевна показывала яхонтовые сережки и недовышитую пелену, а они ей рассказывали, как стреляли два дня пушки на Сретенке, а потом стрелять не могли – нечего было класть в медные их животы. Ночью шумел весь монастырь, а земля вокруг монастыря была темна от людей, что прибежали.
А утром до света пошли люди во все стороны сказать всем, что нет Москвы и нет Московского государства.
Шли люди, бросая вещи, шли и рассказывали, и плакали. Им навстречу шли, рассказывали, шли от дома к дому.
В горечи, в плаче, в рассказе рождалось Московское государство, узнавали по боли люди русские, что вместе они живут, а не порознь.
Прасковья Варфоломеевна спала немного. Ночью просыпалась – сидит над князем Ксения. Прислушивалась Прасковья Варфоломеевна – бредит князь, вспоминает Романа, и пушкарей, и ее, и Семена.
Утром поцеловала Ксения сыновей Пожарского – Петра, Федора, Ивана, целовала она их светлые брови.
Завернула в свою соболью шубу, а другую шубу положила Дмитрию Михайловичу под голову, мехом кверху. Поправил опояску Семен, осмотрел коней, тронул, сказал:
– Прощай, царевна.
Сказала Прасковья Варфоломеевна:
– Прощай, Ксения, – и поцеловала царевну три раза.
Побежали сани.
На стену взбежала царевна. Убегают сани, убегают вдаль по талому снегу, бегут отдохнувшие кони. Бегут.
Голова у Дмитрия Михайловича небось качается, качается.
На стене плачет Ксения, шарит рукой, чтоб не упасть. Под руку попала черствая корка – небось стрелец какой забыл.
Убегают сани за леса, за бугры.
Умрет Дмитрий Михайлович.
Провела коркой у лба Ксения Борисовна, откусила, со слезами стала грызть забытный хлеб.
Кабы забыть кремлевские переходы, и сад, и сто девять окон на Москву, кабы забыть рыжего охальника царя-самозванца, забыть бы его веселые желтые зубы, кабы забыть Дмитрия Михайловича, закрытые его глаза, светлые брови!
Один на Сретенке из всех бояр и стольников, один не испугался Дмитрий Михайлович, стал грудью, бился среди кладбищенских надолб трое суток!
Грызет Ксения Борисовна забытный хлеб!
Не забыть ей ни Москвы, ни крови Дмитрия Михайловича. О государстве царевне и в ум не пришло.
В Нижнем Новгороде
Когда соединилось до 500 больших судов… мы вместе отбыли от Нижнего Новгорода.
Антоний ДженкинсонВ овраге, в обрыве, печь выкопана. Избяная печь на лето запечатана воском. Затопишь – воск растает. Сделано это для пожарного бережения. У летней печи хлопотали старуха Минина и дорогобужская дворянка.
– Ан пора бы уж печки отпечатывать. Лист с дерева осыпался.
Ломала дворянка о колено тесину, а старуха на нее смотрела.
– И что это ты о колено ломаешь? Ты бы топором.
– Топора нет…
– А тесина с нашего забора?
– С вашего, прости, христа ради.
– Ну, так положи. Я лучше дров принесу. Что, стряпать будешь?
– Белье буду золой бучить.
Дорогобужанке перед старухой неловко, и занимает ее она разговором:
– Как это вы, хозяйка, думаете – с чего такое множество ползучего гада: и жужелицы, и червей множество, и клопа, и воши?
– С недоедку и с дороги.
– А люди говорят, что то знаменье божие.
– Брат приехал из-под Арзамаса, его спрошу – знаменье или так.
– А с ним кто?
– Мужик знакомый, Романка из остальцов, воюет тоже.
– Вот мужики-то все воюют, а мы по дворам побираемся, И от нас людям одна усталость.
Изба Минина была не велика и не светла. Стояла она на подклетье, окна малые. Печь с трубой. Иконы в небогатых басменных ризах. Стол накрыт скатертью.
В переднем углу сидел старик, а рядом с ним воин в куяке и в цветных сапогах.
Волосы белокурые, примяты шлемом. Острижены коротко.
Старик встал навстречу сестре, поцеловался, сказал:
– Ну, угощай гостя. Романка теперь человек нужный. Ехал я с Арзамаса и не знал, как проехать. Время мутное. А Дмитрия Трофимыча Трубецкого да Ивана Заруцкого люди посланы шубы собирать. Да чтоб те шубы были не ветхи, и не малы, и с шубным ожерельем. А где шубы взять? Снимать вместо шубы кожу с бедного человека?
– Что в Арзамасе слышно?
– В Арзамасе шум. Заруцкий дворянам дворцовые земли дал за службу, а мужики оделить себя не дали, бой у них был. Мужики с пушками, и воевода у них, Романом зовут.
– Ты, Ромашка, не знаешь, что это у них за воровской воевода?
– Знаю, да не скажу.
– Так вот, дворяне в бою не устояли. А я мимо ехал. Вижу, человек спрашивает князя Пожарского. Потом Миныча спрашивает. А я Миныча знаю. Вот и проводил меня добрый человек.
– Что слышно, Нелюб? – спросила старуха. – Вот меня спрашивают: гад ползучий – это знаменье или так?
– Говорят, знаменье. Жил во Владимире человек, нашего же художества мастер, мясник, именем Бориска. А у него жена Меланья. Спит это она с мужем и видит – входит в светлых ризах к ней жена, поверх главы образ держит.
Меланья хочет мужа разбудить – хоть и с образом, а может, грабят, – да руки ослабли. А чудная жена глаголет: «Не возбуждай детей и мужа, а поди к архимандриту, чтобы плакали все и молились, да будет тишина и благодетельное житие». А Меланья-то и говорит напоперек: мне-де не поверят. А светлая жена говорит: «Так вот будет на всех три дня жар и будет великое множество поползучего гада».
И вот, дорогая моя сестра, несть ни тишины, ни благодетельного жития, а жары и гаду поползучего – тягота великая. А впрочем, родная моя, ты мыло купи. Вот из Ветлужского уезда мыла пришло одиннадцать возов, купи косяка два – и поможет.
Старуха налила из горшка щей, старик Захарьин начал хлебать. Роман молчал.
Старик посмотрел на него и опять сказал:
– Так ты Романа-воеводу не знаешь? Ну, я тебе не допросчик. Перерублена вся земля в капусту. Батюшка Грозный царь перекроил всю землю, перемешал с опричиной, и лежит земля как новоскроенная некая риза. Купно же несошвенна или распадахося от ветхости.
– Ты что сегодня по-книжному говоришь, брат?
– Нам иначе нельзя. Миныч-то кто? – Земский староста. В городе, почитай, третий человек. А чьим благословением пошел? Моим. Кто воспитал сироту? Я же.
– Недорогое твое было воспитание, – сказала старуха.
– Дорого недорого, а благословение важно.
– Вот мужики без благословения воюют, Ляпунова-боярина и убили. За что, скажи?
– Наше дело такое, что мы не знаем. Убили его казаки в кругу.
– Кто говорит, что казаков пан подговорил, подложное письмо под руку его составил да казакам передал, а кто говорит, что погубили Ляпунова бояре – был он с ними горд.
– Даром убили воеводу, так говорят.
– Говорят, на нем вины нет. А тело его лежало перед приказной избой три дня – псы рвали.
Роман помолчал и добавил:
– Вот раскроили жизнь, и правильное слово – не сошьешь. А Заруцкий шьет и порет. А какого воеводу убили – Ляпунова! Нам он на изменных бояр управу обещал. Где управа теперь!
– А ты, милый, не управы ищи, а правды. А правда – она по церквам да по святым людям. Сходи во Владимир да в Кашин, а то и в Ростов, к Иринарху блаженному, а там и Москва близко. А в Москве поплачь на могилке Василия Блаженного. Только загадили ее всю.
– Нам чуда надо ждать. Вот, говорят, некий муж благочестивый мая в двадцать шестой день видел сон, что в храм Василия Блаженного перенести надо образ пречистой Владимирской божьей матери и поставить свечу воска невозжженного и бумагу неписану, и молиться три дня, и зазвонят колокола.
И свеча будет возжжена от огня небесного, а на бумаге будет имя, кому володеть Российским государством.
– Старый ты человек, – сказал Роман, – да как нам до Василия-то Блаженного добраться?
Старик помолчал.
– А и доберемся. Говорят, с Сигизмундом турецкий салтан воюет. Ан и уйдет. А мы опять на Волге торговать будем.
– Скоро здесь будут, коли все так говорить станут, – сказала старуха.
– А мы заслоны поставим.
– Вот сейчас в земской избе, говорят, все чин по чину. Найдем служилых людей сто или два ста и оборонимся.
– Плоха служба, – сказал Роман. – Вот Ляпунов дворян корил: делите, мол, между собой деревнишки да кабаки, а к бою косны.
– Тоже и мужики хороши, – сказал Захарьин. – Мечутся, всё сговариваются. Гоняют по государственным делам коней, хомутов не снимая, а Новгород-то Великий протакали.
– Новгород не наша вина, – ответил Роман сумрачно. – Ладогу мужики отбили, приступ на Орешек-крепость отбили. Воевода шведский, Делагарди зовут его, под Новгород пришел обманом. С воеводой Батурлиным стакнулся да с воеводой же князем Иваном Никитичем Одоевским-большим. Рубились посадские люди, да впустили шведов в город бояре обманом. Казачий атаман Тимофей Шаров, да дьяк Голенищев, да поп Амос на своих дворах дрались. Шведы их попалили, город заняли, к присяге новогородских людей неволят. А новогородские, люди с нами заодно. Собирали в Новгороде людей к шведскому королю для посыла. Шестеро удавились, а не пошли.
– Хвастать нечем, – сказал Захарьин, – руки на себя наложить – великий грех. Вот мы в Нижнем Новгороде, торговые люди, иное удумали. Миныч сейчас с посадскими людьми разговаривает. Был Миныч простой человек, вот с тобой у Алябьева ратником служил. А теперь Миныч староста. А ты хоть и в сапогах, а все мужик.
– Я сапоги с бою взял.
– И правда, живут люди босиком, а воюют в сапогах. Пообносились. А у меня товар есть в кадушках. Не сильно плох. Я и дам.
– Что, даром дашь?
– Даром, сестра, и чирей не вскочит. Дам за деньги. Поговорим по-торговому. Ратников от Нижнего собирают? Собирают. Козьме их одевать-обувать. А у меня товар. Мы, сестра, эти кожи сплавим за новые, а воину жить недолго, он и такой обуви сносить не успеет. А барыш пополам.
Старуха в это время достала топор для соседки и, не говоря ни слова, прямо пошла на брата. Тот поднял руки, сказал:
– Гость я, сестра, и старик.
Дверь открылась. Вошел Миныч. Старик бросился к нему.
– Мать уйми, – сказал он.
– Пес этот, – сказала мать, – пришел кожи гнилые продавать для войска, а барыш с тобой пополам. Может, возьмешь?
Миныч молчал сумрачно.
– Возьми его за ворот и выбей в дверь – я приказываю.
Миныч молча подошел к дяде, взял за плечо, повел.
– Толкни! – закричала старуха.
Миныч толкнул.
– Колпак выбрось.
Из-за двери послышался тихий старческий голос:
– Погибло наше государство, а за колпак спасибо.
– Здравствуй, Роман, – сказал, садясь, Миныч. – Ты откуда?
– Из Арзамаса.
– Под Москвой плохо?
– Плохо.
– Пойдем в земскую избу, послушаешь, как у нас.
В Земской избе
Той же Козьма, отложище своей воли дело, и восприемлет велемудрие разумение и смысл и на всех людях страны тоя силу и власть восприемлет.
Повесть кн. Катырева-РостовскогоВ большой земской избе на Нижнем Базаре, около церкви Николая-чудотворца, что у корабельного пристанища, стоял крик. Кричали все, будто стараясь друг друга не слышать.
Сидел за столом сероглазый, твердоскулый, высоколобый, спокойный Миныч, и были плечи его на уровне лба ласкового воеводы Звенигородского, и когда надо было шепнуть что-нибудь на ухо Минычу, приподнимался воевода со скамьи и вытягивал шею.
Злобно кричал человек в купеческой одежде:
– Слышали! Казаки под Москвой плачут. Мы тем слезам не верим, мы в этом деле искусились! Рубля с алтыном не дам, и полтины не дам. Ты мои деньги считал? Торговли против прежнего и половины нет…
Много народу в земской избе. Тут люди в торговом и в посадском платье.
Отдельно сбились в кучу оборванные, вооруженные дворяне.
Устал Звенигородский, устал Алябьев, скучает подьячий» Кричат голоса:
– Заклевали вы нас, железные носы!
– Шиш!
– В чужой мошне и дыра за деньгу кажется!
– Нету моего согласия!..
– А мне два рубля с полтиной платить можно?! – закричал купец, срывая колпак и хлопая его оземь.
– Люди почтенные, – перекрывая шум, начал воевода Звенигородский, – дайте слово сказать.
Шум утих.
– Сколько кто ни даст, – продолжал воевода, – а без денег не то что Нижний, а ворота свои не защитишь. Господа дворяне, – обратился он, – сколько вас?
Заморенный, малорослый дворянин в потертом кафтане выступил вперед:
– Нас тут, дорогобужан, да вяземских, да из-под Смоленска служилых людей, до двух тысяч.
– Нам столько не надобно, – сказал толстый купец. – И так объели нас, ироды, изгороди поломали, посудье растащили, а службы с вас не видно.
Рассудительно заговорил другой дворянин, – верно, был под Смоленском окладчиком, приходилось ему вести беседы.
– Служивый человек, – начал он, – службу может исполнять, когда на него мужик дома работает. Службу хотите, почтенные? Пусть на нас, как при прежних великих государях, мужик пашет, да дрова возит, да мясо дает, да масло, да дорогу чинит, да за избу нам платит, а то были у нас мужики, задолжали нам кругом да ушли драться самовольно. Убили мужика – и пропал за ним долг. Вы нам дайте коней да пороху, да землю за нами закрепите, да мужиков заставьте нас кормить – будем служить вам без воровства.
Послышался печальный голос купца:
– Каждому коня, да доспех, да порох, да еще мужика для него слови!..
Продолжал окладчик:
– А инако службы нет. Дали нам землю под Арзамасом, да та земля была прежде дворцовая, и мужики себя делить не дали, и бой был. У мужиков в начальных людях был воровский казак Роман, и мы в том бою не устояли.
– В бою не устояли, а денег дай, – сказал купец.
– Три алтына да два – пять, – рассудительно произнес другой, обращаясь ко всем.
– Ну, Миныч, – сказал Звенигородский, наклоняясь к Минину, – нонче, говорят, вы, посадские, умные – говори, сколько кому дать.
Минин встал.
– Люди торговые! – громко сказал он.
– Говори, Козьма, мы тебя выбирали! – крикнул посадский среди непрерывающегося шума.
– Люди посадские! – еще повышая голос, продолжал Минин.
Шум стих.
– Слушай, люди, дело говорит, – сказал седой посадский, оборачиваясь через плечо.
– Люди ратные! – закончил Минин уже в тишине.
Уставились на Минина дворяне.
– Что полста войска поставим, что два ста поставим, а Нижнему одному не устоять.
Смотрели на Минина купцы, не понимали, к чему он клонит.
– Рассудить нужно, – спокойно продолжал Минин. – Под Москвой, почитай, рати нет. Ляпунов добрый был воевода – убили. Остались Заруцкий да Трубецкой. А они откудова? Оба тушинским вором ставлены. Вотчины брать, да кабаки сдавать, да рвать друг у дружки русскую землю кусками они горазды… Надежда на них плохая.
Косились на Минина Алябьев и Биркин.
Дьяк приставил перо к носу, смотрел, не понимая.
– Возьмут враги верх, – продолжал Минин, повернувшись к кому-то, – так не рубль с алтыном, а домишко твой даром возьмут, да и тебя самого холопом поставят, а в лавке твоей лях торговать будет.
– Да что ты все об Москве? Москва далеко, а до Нижнего никого не пустим. Об том и разговор, – откашлявшись, сказал Алябьев.
Минин быстро к нему повернулся.
– Москва-то поболе Нижнего, да отдали, да и Нижний возьмут.
– Верно, – старчески слабым голосом сказал седой посадский.
– Я так скажу, – снова заговорил Минин, – выставить войско от Нижнего, сколько подымем, да пустить по всем городам слух, чтобы по доброму нашему примеру снаряжали ратных людей по всей Русской земле да к нам посылали.
Молчала пораженная изба.
– Вона-а! – удивленно протянул чей-то робкий голос.
– А нам, – повысил голос Минин, – коли есть две тысячи служащих людей, то и подымать две тысячи, а будет боле, подымать боле.
– А деньги? – крикнул голос.
– А деньги нам давать, – ответил Минин.
– Вишь, спел да и сел! – развел руками купец.
– Что ж это выходит-то? – растерянно сказал другой.
– Да ты, Миныч, не выпил ли? – серьезно спросил Звенигородский.
Дьяк затрясся от смеха.
– А дворянам деревень с мужиками в кабалу не давать, – твердо продолжал Минин.
Дворяне загалдели. Вылетел один, выхватил саблю, стал, расставив ноги, крикнул нагло:
– А на меня что же, коза пахать будет?
– Спрячь железку, – холодно сказал Минин.
Дворянин огляделся по сторонам, раздувая ноздри, и сунул саблю обратно в ножны.
– Дворянам, – повторил Минин, – за службу деревень с мужиками не давать, а давать жалованье деньгами. Давать первой статье по пятьдесят рублев, другой – по сорок пять рублев, третьей – по сорок. Стало быть, и денег надо много. Я с Петром Федоровым, кузнецом, да с Иваном Кулибиным, седельником, да с другими посадскими ремесленными людьми, всего человек за полста, порешили давать на ополченье третью деньгу со всех прожитков, какие есть. Я, убогий, даю сто рублев. Есть у меня дом – продам.
– Верно, – старческим голосом сказал седой посадский.
– Да что же это такое, царица небесная! – закрестился перепуганный купец.
Биркин встал из-за стола.
– Борода что ворота, а ума с калитку! – загремел он, надвигаясь на Минина. – Да кто тебе, опричь дураков, третью деньгу даст?
– У кого совесть есть, тот и даст, – ответил Минин. – А коли все порешим, так и приневолим! – И, обращаясь ко всем, продолжал: – Такое дело надо вершить всенародно. Выйдем завтра по утрене на паперть, объявим нижегородцам о добром начале, пусть понесут слух. С посадскими головами у меня сговор, они о том согласны. Вместе и выйдем.
– Выйдем, – подтвердил седой посадский.
И еще несколько голосов крикнуло:
– Выйдем!
– Дело, стало быть, за купцами, – окончил Минин.
– Стало быть, посадские порешили, а я дом продавай? – оглядываясь по сторонам, заговорил купец. – Братцы, да он хуже панов грабит!
Сразу поднялся вопль.
Снова заметались по избе люди. Били себя в грудь, кидали с размаху колпаки на пол.
– Раззор! – стоял крик. – Наторговал копейку, а дай алтын!.. Грабители! Бей его!..
– Ихняя дурость нам не указ! Пущай сами дают! – кричит, размахивая руками, один.
– Пущай выходит на паперть! Им там намнут бока! – орет другой.
Среди общего шума в голос хохотал дьяк, махал рукой и снова хохотал до слез.
– Пущай выходят! – тоже сквозь смех, отмахиваясь рукою, кричал купец. – Пущай выходят!
Минин стоял, сдерживая гнев.
– Выйдем! – крикнул он, покрывая хохот и крики. – И скажем!
На Соборной площади
Со стороны мясника это был очень необыкновенный поступок, достойный прославления.
ГеркманНа соборной площади было черно от народа. Далеко в глубине белел косой край приземистого Нижегородского кремля. И на нем люди.
Началось все по порядку. После церковной службы говорил протопоп Савва, увещевал стать за веру. Слушала его толпа спокойно. Потом вышел посадский и сказал, что посадские люди решили обложить себя в третью деньгу. И тут пошел шум.
Захарьин на паперть не вышел, но из толпы кричал.
После посадского говорил купец Шорин:
– Мы торговые люди, от наших достатков и вы кормитесь. Да разве нам своего добра не жалко? Да разве мы своего города не обороним?
– Верно! – крикнул Захарьин.
– Найдем ратных людей, – продолжал купец, – выставим заслоны. Поляки-то в Москве, а мы-то за Волгой. Они сюда, может, и не пойдут.
И тут Минин нарушил благочиние. Он вышел на паперть и начал говорить, даже не поклонившись народу:
– Не за свой город, не за Нижний один, а за все государство Московское подымать надо ополчение.
– Эка хватил! – крикнул Захарьин.
– Цыц! – сказал ему сосед-посадский и так ткнул под бок, что старик пискнул.
– Не я говорю, – продолжал Минин, – наше горе говорит. Неужто бесчинству да насилию и конца нет? Неужто у народа русского ни силы, ни управы нет на врагов?
Гул пошел по толпе.
– Так не бывать же такому бездолью! – крикнул Минин.
Гул в толпе рос. Послышались неясные, отдаленные выкрики.
– Вишь, как говорит! – взволнованно сказал какой-то посадский в толпе.
Минин вытер рукавом пот со лба.
– Воюем мы врозь. Псков – особо, а Казань – особо, а Астрахань – особо же. А купец, вишь, говорил, что Нижний один за себя постоит. Коли так даже будет, осилят нас, прибьют нам на шею железное ярмо железными гвоздями, и будем и мы и дети наши холопами, и родину свою забудем, и родной язык забудем.
Молчание.
– Граждане нижегородские! – продолжал Минин в наступившей тишине. – Опомниться надо, начинать надо великое земское дело. По всем городам собирать в ополчение служилых дворян. По деревням да дорогам собирать и простых ратных людей – кто захочет, созывать всех в одно место, давать им коней да оружие, да одевать, да кормить добро, чтобы было доброе войско.
Минин увлекся, рассказывая давно обдуманный план. Речь его сделалась плавной и спокойной.
– И для того дворянам за службу землей не платить и мужиков дворянам в кабалу не давать, а платить дворянам за службу доброе жалованье деньгами – тогда свары да драки за землю не будет и мужик в войско пойдет. Будем и его кормить, дадим и ему оружие да жалованье. А войско надобно большое.
Минин перевел дух.
– Денег надобно много! – выкрикнул он.
– Вишь, чего ему надо! – скалил зубы купец в толпе.
Купца стеснили, кто-то ткнул кулаком в шею.
– Молчи, язва! – слышен чей-то сердитый голос.
– Так мы, посадские, – продолжал Минин, – кузнецы, да плотники, да седельники, да мясники, собрались да приговор написали – дать каждому от своих достатков третью деньгу на общее дело, собрали до двух тысячей.
– Рублев?! – изумленно спросил купец.
– Да этого мало! – снова повысил голос Минин. – Коли подымать ополчение, коль идти на врагов всей землей, денег надо великую силу! И железо надо – оружие ковать. И меди надо – пушки лить! И свинца надо, и селитры… Коли купцы не помогут, коли кто здесь есть еще из посадских с достатком, не дадут своей доли, – погубим великое дело! А коли все решат да дадут, так и купцов приневолим, И пойдет о нас добрая слава, и в других городах народ подымется!
Голос Минина снова зазвучал со страшною силою:
– Так неужто ж не станет нам доброй воли? Неужто добро свое, рухлядишку свою пожалеем, а землю родную не пожалеем?! Жен и детей заложим… Головы свои… Жизнь свою отдадим!..
Минин остановился, переводя дыхание.
– Постой! – вдруг послышался отчаянный крик где-то в глубине молчащей толпы.
– Постой! – кричал старый крестьянин в армяке, в лаптях и с котомкой за спиной, расталкивая людей и пробираясь на паперть.
– Постой! Дай мне сказать! – задыхаясь, проговорил он, влезая на паперть и становясь против Минина.
Прошел гул по толпе.
Крестьянин обернулся к народу.
– Православные! – крикнул он и низко поклонился.
Гул вырос. Крестьянин вдруг сел на ступеньку и схватился за онучу, разматывая ее.
Толпа не переставала гудеть.
Крестьянин размотал онучу быстро, встал босой ногой и протянул Минину монету.
– В онучах ее носил, – громко сказал он. – Даю тебе деньгу, не третью, а одну.
Крестьянин повернулся к народу и показал потемнелую деньгу.
– Я ее с Архангельска нес! Били меня да искали, так я не дал. А ему сам отдал… Давай шапку! – прибавил, поворачиваясь опять к Минину.
Минин сорвал шапку, поклонился.
Толпа волновалась уже вся.
– Миныч! Миныч! – кричали люди.
– Миныч, прими сукно! Шапку давай!
– Головы свои отдадим! – кричал человек в толпе.
Плачущие женщины неверными пальцами вынимали серьги из ушей.
Одежды, свертки сукон, шапки с деньгами, сапоги, кафтаны, оружие грудой вырастали на каменном полу паперти, К Минину подобрался подьячий с чернильницей и пером.
– Миныч! – всхлипывая, сказал он. – Записывать надо да список спрятать. Обманут тебя, мы же и обманем.
– Не обманете, – сказал Миныч.
– А воеводой кто будет? – мрачно сказал из толпы Алябьев.
– Есть один воевода! – крикнул Роман из толпы. – Пожарский Дмитрий, что бился за народ в Москве.
Замолчала толпа.
– О Пожарском думал и я, – сказал Минин.
На Волге
…уже пустыня силу прикрыла.
«Слово о полку Игореве»В середине января из Кремля, плохо обложенного войсками Трубецкого и Заруцкого, выбрался пан Маскевич доставать кормы.
Для спокойствия взял он с собой часть своего имущества: на шею надел ладанку, в нее вложивши изумрудный крест и нитку крупного жемчуга, надел на себя кафтан парчовый, шубу соболью, к поясу привязал кошель, в кошеле – золото, драгоценные камни, и такие же камни, но резные, и опять жемчуг.
Другими же вещами ценными – парчой в кусках, чернолисьими мехами, мехами собольими, персидскими тканями, серебром в ломе – набил он овсяные мешки, взвалил на дюжего чалого мерина и того мерина велел ставить всегда у знамени своего отряда.
Ночью клал пан Маскевич те мешки под голову.
Из Москвы шли на северо-запад разоренными местами. Вышли на реку Шошу. Тут прежде город был Микулин, теперь торчала одна церковь. Пошли дальше. Деревни пустынны. Пробовали в избах печи и золу: в иных местах горяча, недавно убежали люди.
Избы стояли в больших зимних, белых, снеговых шапках.
Тихо кругом, будто теми шапками уши закрыты.
Внутри избы черны – топятся без труб.
Вышли на Волгу, стали грабить между пятью русскими городами – между Старицей, Ржевом, Погорелым, Волочком и Козельском.
Ночевали раз в селе, называемом Роднею. Село большое, дворцовое. Людей не видно, собаки не брешут. А на дорогах помет конский еще не промерз.
Крестьяне, жившие в Родне, вместо всякой иной повинности обязаны были ставить на царскую кухню капусту.
В каждой избе было по две-три кадки квашеной капусты, приправленной чесноком и анисом. Есть капуста резаная, есть капуста головами. Есть зеленая капуста, и внутри кочна врощен огурец, и он зимой зеленый.
Сверлили дворы пиками, искали зерновые ямы. Нашли.
По запаху искали хлеб печеный, тоже нашли.
Жолнеры не могли досыта наесться.
Водка была с собой. Пили водку со ржаным хлебом, с капустой, с зеленым огурцом.
Пили до вечера, разделись. Раздетые, ночью встали и опять ели и пили.
Кругом тихо. На избах шапки снеговые, дорогу замело, снега кругом рыхлые.
Спали в тишине.
Ночью началась стрельба на краю деревни и крики. Оказалось, крестьянский отряд – звали тех людей «шиши» – крадучись, следовал за ротой Маскевича, и под самое утро, когда в небе звезда показалась, названная в честь пресвятой богоматери Мария, а восток розовел, напали шиши на отряд.
Маскевич спал на полатях над печью. Печку вытопили жарко, амбарными дверьми.
Прыгнул Маскевич с полатей. Тьма.
Сабля при себе.
Вскричал спросонок:
– Седлай штаны, натягивай коней!
Но было уже некогда.
Русские пришли на лыжах, а кони панские в снегу проваливались.
Били мужики гусар дубинами, кололи ножами.
Отстреливались от них паны из пистолей.
Вскочили на неоседланных лошадей, ускакали, кто смог.
В лесу без штанов холодно. Завернул Маскевич ноги в барсовую шкуру, что была на его коне вместо потника.
Холодно, тихо. Солнце встало. Лес большой.
Тут вспомнил Маскевич – все пожитки в деревне.
– За что наказуешь, бог, верного раба своего, пана Самуила Маскевича?
Ехали долго. По дороге встретили старого мужика. Взяли его проводником, чтобы не заблудиться.
Тихие лесные тропы проложены крестьянскими узкими дровнями, всаднику все время надо нагибаться, чтобы не задеть головой снегом покрытые ветви.
Спотыкалась под Маскевичем рыжая кобыла, спотыкался, хоть и был без вьюков, дюжий чалый мерин, что жался по привычке к знамени.
Ехали долго. Услышали вдалеке – кто-то по-польски ругается.
Встретили воина в синем плаще, с длинным копьем.
Сказал воин, уставивши копье на старика:
– Ведет вас холоп прямо на русскую засеку.
Поговорили, что делать с холопом. Хотели на кол посадить, но вытесать кол не было времени.
Срубили мужику голову саблей.
С сокрушением сказал Маскевич:
– Страха своего мы с него обратно не получили.
И, так сказав, снял со старика посконные его портки, надел на себя. Стало много теплее.
Ехали долго.
На другой день встретили пана Струся с тремя тысячами буйного войска. Ехать стало спокойнее. Добрались к Москве, перешли реку у Девичьего монастыря, прорвались с боем к Кремлю.
В Кремле нерадостно. Деревянные дома больше поразобраны. Те две тысячи быков, что пригнал в сентябре Сапега, съедены.
Пошел Маскевич к себе, в Борисовы палаты, поставил коня в переднюю, полез под кровать: там ларь был с вещами.
Украдено!
Снял пан тяжелые, подкованные сапоги, сел на кровать.
Постучались в дверь. Пан не ответил.
Дверь открылась. Вошел Конрад Буссов, пастор, в фиолетовом шелковом подряснике. Еретик-лютеранин, но образованный человек.
– Что думает делать пан, вернувшись из славного похода? – спросил пастор.
– Я думаю, – сказал Маскевич, – и думают мои товарищи, что когда попадает лиса в капкан хвостом, то лучше ей тот хвост откусить. Мой хвост уже откусили шиши. Я говорил с товарищами: мы попытаемся прорваться из Кремля домой.
– Эней, – сказал пастор, – муж, воспетый Виргилием, создатель Римской империи, к которой принадлежит и наша держава, потому что император австрийский несомненно наследник Августа, а тот наследник Энея, – Эней, пан, убежал из Трои, посадив отца на плечи и взявши сына за руку. Я тоже так сделал бы, если не имел под Москвою поместий. Поэтому я одобряю ваше мудрое решение и могу ему помочь. Сколько вы хотите за вашего чалого мерина? Уедете вы не завтра, а кони в конюшнях уже отъели от голода друг у друга хвосты. Считайте, что ваша лошадка сдохла. А я дам вам за нее золотую цепь.
Пан Маскевич сердился на чалого мерина за то, что тот так бежал из деревни, а надо было ему упираться, если вьюки были оставлены в деревне. Глупая скотина!
– Вы зарежете его?
– Зарежу!
– Покажите цепь.
И дело состоялось.
Скоро узнал Маскевич, что он продешевил и продешевил сильно: корова стоила несколько сот флоринов, кусок сала – несколько червонцев. Все собаки и кошки были скуплены и посолены. На засол же купил Буссов чалого мерина. Он знал, что в Нижнем стояла новая рать, под предводительством Минина и Пожарского.
Цены должны были подняться.
Рать в Нижнем была не так велика: часть людей послали против шведов с заслонами, часть пришлось отправить на низ.
Деньги, что собрал Миныч, роздали в жалованье. Идти было не с чем.
Заняли у именитых людей Строгановых четыре тысячи сто пятнадцать рублей. С тем и пошли. Пошли не на Суздаль, как сперва собирались, а на Ярославль. И пошли не в январе, а в начале марта. На Суздали места были слишком грабленые и битые. Тут восставали мужики много раз, рубили их тушинцы и поляки и даже жгли в Шуе.
Идти решили по Волге вверх, правым берегом, собирая остатки разбитых отрядов.
Пришли в Балахну. Город под рукой у Нижнего. И Пожарского и Минина здесь все знают. Минин здесь ратником был, в ополчении Алябьева.
Город тих, разграблен. Колодцы, из которых берут рассол для солеварен, обветшали.
Встретили ополчение хорошо. Дивились люди на смелость ополчения, дивились, качали головой и присоединялись.
Пошли дальше. Шли чинно, деревень не трогали, кормились из котлов.
Когда по Нижнему шли, казалось, что три тысячи народу – много, и в Балахне еле разместились. А как вышли на простор – река широка, дорога по-зимнему высока и крива уже по-весеннему.
Шли, задевая шапками за ветки деревьев. Было тихо. Рать казалась малою. Шла, теряясь в снегах.
Будто обоз идет.
Широкая Волга вся казалась дорогой. Шли будто обочиной.
Дорога широка – чай, в версту. Потерялись люди на дороге. И говора не слышно, и песни не слышно. Все съедают снега.
Прошли Городец. Малый город, тоже спаленный.
Юрьев-Поволжский стоит на склоне крутой горы. Город сожжен.
Встретили с колокольным звоном. Дали денег, татарский отряд присоединился. Вспомнили здесь сотника Федора Красного, что рубился с поляками.
Пошли в Решму. Город жженый. Тут пришли плохие вести из Владимира: Трубецкой и Заруцкий присягнули самозванцу, вору, который объявился во Пскове.
Значит, с кем встать под Москвой?
Собрал Козьма Минин десять грамотеев, достал бумаги, и Пожарский сразу десятерым диктовал письма, а списки послали не на одну Москву, а на все города.
Писал Пожарский:
«Как сатана ослепил их очи? На их же глазах их калужский царь был убит и без головы вонял перед всеми целые шесть недель. И сами же они из Калуги писали в Москву и в другие города, что царь их убит, и теперь целуют крест мертвецу».
В Решму пришли остатки отряда Гришки Лапши, крестьянина. Тут же закупили валенки для войска и пошли дальше, на Кинешму.
В синих снегах двухаршинное узкое знамя казалось каплей крови.
Нес знамя, на котором написаны были стены Иерихона и Иисус Навин, Семен Хвалов.
На нем валенки, рукавицы, штаны, шуба баранья и теплая шапка. Но стремянный томился.
Когда подъезжал к нему князь, говорил Хвалов тихо:
– Жалованьишко, князюшка, что тебе положили, все в сохранности. Ужель теперь не проживем, Дмитрий Михайлович? Только всуе мятемся, как говорил прозорливец Иринарх. Ведь я знаю, раны твои незажившие рубахи кровавят. Куда бредем, князюшка? В Нижнем хоть кормы дешевы. Нам бы схорониться куда! Икрой бы я тебя кормил с лимоном! Ты бы, солнышко мое, оздоровел, а там и увидел бы, кому служить.
Шло войско тихой и долгой дорогой.
Кинешма-город горел дважды. Теперь отстроились мало. Ополчение встретили колокольным звоном. Жалели людей, сомневались, головой качали и присоединялись к рати.
В Кинешме дали казны в подмогу. От Кинешмы до истоков Луха верст тридцать, а там и Мугреево – Пожарского вотчина. Вся та сторона стародубских князей. Замельчали они, но там каждая речка своя. А Хвалов хоть и рязанец, но ему бы в Мугреево! Там тишина и теплые избы.
На пути не теплело: дорога шла к северу.
Вез Семен Хвалов ополченское знамя, и устала его рука.
Нагнал он князя. Едет князь на морозе, а щеки у него не краснеют, белеют.
Сжалось сердце у Хвалова, сказал он прямо:
– Воевода! Отсюда до дому тридесять верст. Князь, скажись недужным. Народ, Дмитрий Михайлович, вокруг нас битый, ненадежный. Нам ли с копейщиками воевать? Нам ли короля осилить? Видишь, князь, мы идти-то не умеем. Все протратили. Миныч – мужик, воеводского обычая не знает. Пушки-то надо отдельно везти, в подряд их надо сдать доброму человеку, чтобы было кому отвечать. А он их везет при полках!
Князь молчал.
– Князюшка, – говорил Хвалов, – мы вот Городец проехали. Поедем в Мугреево! Там кругом болота песчаные, отсидимся.
Тут подъехал Роман.
Сильно он с Москвы переменился и носил теперь польский палаш, немецкий панцирь и два пистоля при седле.
– Дмитрий Михайлович, – сказал он, – еще мужики пришли, с пищалями. В Шуе недожженные!
– Семен, – сказал Дмитрий Михайлович, – отдай знамя Роману. Пройдешь к мужикам, поведешь их к Минычу – он распорядится. А ты будь при котлах. Да не плачь, Семен. На Москву идем, а она слезам не верит.
Шли дальше. Белые каменные церкви стояли в пустырях, где были когда-то большие села.
Горели те церкви на ветру. От черной копоти, унесенной ветром вбок, испуганными, косыми казались очи-окна церквей.
Около города Плеса Волга поширела. Тут пришли вести из Костромы. Воевода – за Сигизмунда, заперся в Ипатовском монастыре. Миныч решил в Плесе не останавливаться, на Кострому идти не мешкая.
У Костромы ждали ополчения люди из Галича да из Соли Галической. Пришли по реке Костроме.
Это были те остальцы, что отсиделись в болотах, на сухих гривах за засеками.
Пошли через реку в город.
У монастыря стена высокая. Со стены снег сбрасывают, накатывают темные пушки.
Стали у стены, и тут поднялись против воеводы в Костромском посаде, а потом и люди в монастыре. Привели воеводу к Пожарскому на веревке.
Шля дальше, дошли до Ярославля и встретились с людьми из Вологды, из Романова, из Кашина, из Торжка, кузнецы пришли из Павлова, из Устюжны-Железнопольской.
Миныч начал скупать коней отощалых, сено возить из дальних мест, пока еще не совсем прошла зимняя дорога. Набирали сукна, шили кафтаны для войска, обучали ратников, как стрелять, чтобы не заронить искры с фитиля себе же в порох.
Из-под Москвы шли дурные вести. Когда стаял снег, гарнизон сменился. Ушел Гонсевский, переправившись через реку по живому мосту. Увез с собой две короны, драгоценные жезлы.
Трубецкой вылазку пропустил. В лесу встретили врагов мужики, бились, но не устояли.
В Варшаве
Мы поручили почтенному брату Франциску сказать тебе нечто об этом предмете и желаем, чтоб ты имел к нему обычное доверие.
Письмо римского папы к королю Сигизмунду
В большом кресле, украшенном старательной деревянной резьбой, сидел одетый в черный бархатный колет усталый, узкогрудый человек с глазами надменными и с мешками под глазами.
За ним стена, обтянутая штофными обоями, статуэтка мадонны с модной лампадой в виде пылающего сердца. На стене висели картины, изображающие того же узкогрудого человека, но свежелицым и в латах. На одной картине человек был пеш, на другой он сидел на лошади. Это король Сигизмунд.
Перед сидящим в кресле стоял военный – толстый, краснолицый, седоусый.
Высокий гребень нагрудника делал осанку надменной. Он старался стоять скромно, но латы мешали нагнуть голову.
Король сердился.
– Если без фраз, гетман Ходкевич, то что же делать с нашей Москвой?
– Вы потратили, ваше королевское величество, много денег и усилий для возвращения вашего престола шведского. Подумайте, ваше королевское величество, о тройной короне: от нашей Польши через русские земли вы достигнете земель шведских. Море Балтийское будет лежать в ваших ладонях. И вот для этого, для того чтобы Москва была вашей навсегда, мне нужно двенадцать тысяч отборного войска.
Король встал.
– Сейм не даст денег, – сказал он спокойно и вдруг начал сердиться. – Смоленск взят, – сказал он, подходя к гетману и стуча в вороненый нагрудник эфесом своей шпаги. – Смоленск взят мною, царя Шуйского я вчера показывал гостям на пиру. Русские бояре лижут мне руки. Эта седьмая жена Ивана, мать того Дмитрия, и она просит у меня деревень. На кого вам нужно войско?
– Мне нужно денег и войско, чтобы победить народ, – упрямо повторил Ходкевич, подняв веки.
– Денег! Я дал своих денег больше миллиона. Я сам отливал артиллерию для Польши! – закричал король. – Его святейшество, – спокойнее сказал король, перекрестился и продолжал: – его святейшество папа римский, – и голос его вдруг взвизгнул так, что зазвучала лампада, – обещал мне деньги и не дал. Я просил у испанского короля, у еврея Фугера. Для того чтобы сражаться, пан Ходкевич, надо поменьше осторожности и побольше смелости!
Ходкевич уже не притворялся покорным. Он открыл рот для того, чтобы сказать что-то.
– Ваше величество, – раздался спокойный голос, и между двумя собеседниками показалось бритое лицо брата Франциска, – ваше величество, пан Ходкевич известен всему миру как величайший воин. Вспомните, как бил он лютеран-шведов, отмывая кровью Нидерланды от ереси, и бился с неверными янычарами.
– Никто никогда не упрекал меня ни в трусости, ни в жалости, – сказал тихо Ходкевич, дыша глубоко и редко.
Брат Франциск продолжал:
– Из любви к Иисусу один наш брат, монах Николай, исходил подмосковные леса, изъездил холодные русские реки, стоял на коленях в холодных русских церквах, слушая безумную молитву еретиков… Там через Москву идут дороги на Восток. Еще одно усилие – и ваше императорское величество получит в руки ключи мира. Надо кончать войну.
Карта, изрисованная лесами, верблюдами, людьми на лыжах лежала на столе. Гетман подошел.
– Вот здесь, – сказал он, коснувшись рукой карты, – вот здесь, за рекою Ра, которую русские зовут Волгой, стоит ополчение с каким-то князем Пожарским.
– Какое мне дело до какого-то ополчения в глубине страны! Они не решатся пойти на нас. Я знаю, вы писали. Они пируют в Ярославле, не решаясь идти на нас.
Епископ вздохнул.
– Отец де Мело пишет – этот Пожарский простодушен и тверд, он любит грубые песни своего народа и долго сидит за обедом, но он тверд. С ним некий Минин из простых людей, – он, кажется, мясник. Он собирает коней, кормит их, он чистит их скребницей в стране, которая лежит вся в развалинах. Он сеет хлеб и ждет срока. Ваше королевское величество, я боюсь людей, которые сражаются тогда, когда они хотят, а не тогда, когда хочет враг. Они пойдут и поведут на нас толпы мужиков, как только уберут хлеб.
– Что же, он опасен, этот Пожарский? – не поднимая головы от карты, спросил король.
– Чернь ему верит, – сказал епископ.
– Что же! – продолжал король, все еще смотря на карту. – Тогда этот Пожарский может умереть внезапно, ну хотя бы так, как недавно умер от ножа в Париже мой кузен Генрих.
Король сел. Молчали все трое.
– Ну хорошо, – сказал король, обращаясь прямо к брату Франциску. – Вы дадите мне денег?
– Из любви к христианскому делу орден святого Иисуса даст вашему королевскому величеству деньги заимообразно. Его святейшество Павел Пятый посылает вам вместе с пастырским своим благословением сорок тысяч червонцев и, что чувствительнее, благостно отказывается от сборов в пользу престола апостола Петра, также передавая эти священные деньги на поход против московитов.
Ярославль
Страна эта достаточно плодоносна.
ГерберштейнЯрославль стоит при впадении в Волгу реки Которосль. От Ярославля идут дороги на Вологду, на Белоозеро, на Обонежье, на Приладожье. Идет дорога на Москву через Переяславль-Залесский и Троице-Сергиев. Отсюда идет дорога на Кострому, а из Костромы – на Галич и Вятку.
Город был богат, но укреплен слабо. Есть в нем крепость рубленая, с каменными башнями, и рядом земляное укрепление. И под городом монастырь с каменными стенами.
В Ярославле стояли долго: прямо на Москву идти было нельзя. В подмосковном ополчении верх взяли тушинцы – Трубецкой да Заруцкий.
Шли на врага, как на волков, обложивши Москву, прочесывая лес, выгоняя зверя криком, стуком и оружием.
Отправили людей на Пошехонье. Очистили Пошехонье. Потом очистили Углич и Кашин. Пододвинулись к Переяславлю-Залесскому, оттеснили оттуда Заруцкого. Послали войска в Тверь, Ростов, Владимир, Касимов.
В сторону Новгорода послали войско, чинили северные крепости. Послали людей в Сибирь. В Ярославле завели разряды – Поместный приказ, Сибирский приказ, Посольский приказ. Поставили в Ярославле денежный двор.
Старались, чтобы в занятых местах люди сеялись спокойно.
Скупали коней за деньги, коней выхаживали.
Собирали даточных людей – крестьян вооруженных.
Из-под Москвы пришли казачьи атаманы, числом семнадцать, со своими отрядами.
Сибирский царевич Араслан с татарами, казаками и стрельцами тоже пришел в Ярославль.
Из-под Москвы пришли грамоты от Ивашки Заруцкого да Дмитрия Трубецкого. Писали они, что теперь им ведомо, что Сидорка подлинный вор, а не Дмитрий Московский или хоть Калужский.
Звали Трубецкой и Заруцкий нижегородское ополчение к себе под Москву, на помощь.
А Миныч не шел и не пускал Дмитрия Михайловича. Ковал оружие, выхаживал коней, обряжал людей в суконные кафтаны, строил государство.
Семену Хвалову от всего того было не легче: мест много, а ему не дают ни в Поместном приказе, ни в Сибирском, ни в Денежном дворе. Хоть бы коней послали купить или селитры для порохового зелья!
Ни чести, ни жалованья.
Живет, как прежде, при князе, ночует у его лавки на полу.
Скучал Семен Хвалов, рязанец.
Куземка Минин, тот кого хочет – за стол сажает, не хочет – не сажает, всеми делами правит, бояр да купцов принуждает, на грамотах имя его ставят, хоть и не первым.
А Хвалов все стремянный. И что в том, что князь его держит за своего и ходит он с княжьими детьми гулять!
Встретил в Ярославле в земляном городе Хвалов Михаилу Обрезка, холопа орловского.
– Откуда, Мишка?
– А у вас тут дыр много. Был я в монастыре Бориса и Глеба, что на реке Устье. Про Иринарха Блаженного слышал? У него был по важным делам. У монастыря, знаешь, мельница на реке. Я с мукой всплыл по Устью до Которосли, – а по ней два ста верст, – и прямо попал в ваш Ярославль.
– По делу ехал?
– Да так. Покоя у меня на себя нет.
Посидели, выпили. Мишка платил. Еще выпили. Показал Хвалову Мишка алмазы, и изумруды, и цепи золотые, и парчу.
Говорил:
– В Москве набрал, пока ты с Пожарским на Лубянке коптился.
Разошлись. Встретились опять. Познакомил Мишка Хвалова с Иваном Доводчиковым, смолянином, со смоленским стрельцом Шандой. Опять пили.
Сказал раз Михайла Семену:
– Нам врагов все равно не избыть. Если избудем ляхов, шведы придут. Не быть нашему государству. Видишь, как твой князь перед шведами лисит? Шведы своего принца на наш престол загадывают, а от Пожарского в том отказу нет.
– Дмитрий Михайлович, – сказал Семен, – остроги против шведов ставит.
– Вот я и говорю – лисит.
Подумал Хвалов и говорит:
– А мне все едино, что шведы, что ляхи, что вор Псковский. У меня обида своя.
А Мишка сказал:
– Силу литовских и польских людей мы знаем. У них пушки, золото, казна и короны, а у вас Куземка шелудивых лошадей покупает да выхаживает. Скоморохов набрал с попами, мужиков косопузых да с королем воевать хочет.
– Куземка – главная обида, – сказал Хвалов.
– Вот как будет князь пушки смотреть, – молвил Мишка, – мы его кругом зажмем, а ты снизу ножом и пырни.
– Князя ножом?!
– Он и есть твой обидчик. Чем ты хуже Куземки?
Хвалов ничего не ответил. Пошел к князю проситься на шубный двор. Князь его не отправил. Просился Хвалов собрать кабацкие деньги. Опять его князь не отправил.
Об отсыле просил Хвалов не только из жадности: он хотел отвести князя от беды.
Не встречался Хвалов с Мишкой суток трое. Потом заскучал. Встретились, пили, Хвалов взял у Обрезка денег.
Кончалось лето. Хлебные поля вокруг Ярославля пожелтели. Началась уборка хлеба по всему Заволжью. Ссыпали хлеб в овины. На ульях ломали соты, собирали воск. Отправляли воск на Архангельск.
Дороги желтели от соломы, народ веселел. Подвозили железо, заваривали и ковали пушки. Чинили обозы, смазывали колеса. Дмитрий Михайлович и Козьма Минин пошли осматривать кузню.
Тяжелыми молотами проковывали кузнецы куски крицы, отжимая сок от железа. На станке, приводимом в движение водой, медленно вращались пушечные стволы.
То была новость – сверлить, а не выковывать пушки.
Шел Дмитрий Михайлович хромая, опираясь на Романа. Куют кузнецы ядра. Долгая, дорогая работа. Дорогая вещь война. Куют стволы мушкетные и карабинные. Двадцать алтын за ствол. А ядра – десять алтын за пуд. Всё деньги.
Кует кузнец, поворачивает подручный ядро.
– Скоро куешь, Иван Тимофеич! – напрягая голос и морщась от внезапно ожившей боли, прокричал Пожарский.
– У нас-то скоро и споро, Дмитрий Михалыч, – привычно прокричал кузнец, – у вас-то, гляди, не так!
Подручный щипцами отнес готовое ядро в сторону и задержался у горна.
Кузнец продолжал:
– Ребята кругом говорят, Кузьма Миныч: чего, мол, ждем?, Народу много и снаряду много, а Москвы не видать.
Пожарский повернулся к Минычу.
Тот ответил спокойно:
– Рассудить надо. Шведы от Новгорода идут. Надо туда людей послать, заслоны поставить? Надо. Стрельца обучить надо, а не то он в порох искру заронит – перекалечится, дурак.
– Людей обучить надо, – сказал кузнец. – Не будем теперь поленьями биться.
– А ты помнишь? – сказал Пожарский.
– Как не помнить Сретенку! – сказал Миныч. – А главное – мужику хлеб надо дать убрать, скирды сложить, помолотить. Он от хлеба не уйдет.
– Бог помощь, – низко кланяясь, проговорил подошедший Захарьин.
Он держал в руках какой-то длинный предмет, завернутый в тонкий шелковый, с вышитыми узорами платок. За ним стоял другой, тоже благообразный, и тоже держал в руках длинный сверток, но не в шелку, а в чистом холсте.
– Здравствуй, дядя, – ответил Миныч.
Пожарский обернулся. Захарьин поклонился еще раз и развернул шелковый платок. Оказалась кривая, слегка расширяющаяся к концу, на изгибе, сабля с крестообразной рукояткой. Стук кузнечных молотов постепенно стих. Собрались кузнецы. Подошел сам мастер Никита Зотов.
– Дмитрий Михайлович, – сказал Захарьин в наступившей тишине, протягивая саблю Пожарскому, – прими от сердца.
Пожарский взял саблю, прикинул вес, дохнул на лезвие, сказал:
– Серый египетский булат.
Дохнул и Никита Зотов.
– Серый Дамаск. – И сказал, подтверждая: – Арабское хитрое изделие.
– Торгуем мы железом, – сказал Захарьин, – по случаю всенародного ополчения.
– Торгуем мы железом, – повторил второй купец, развертывая холст – в нем лежало два пищальных ствола. – Купили мы пищальные стволы, хотим продать для общего дела. Вот и принесли для примера два. Красного железа, доброй иноземной работы.
Один ствол взял Минин, другой – Пожарский. Оба начали смотреть. Минин посмотрел, передал Никите Зотову. Тот поставил саблю косо и через ствол посмотрел на ее лезвие, пользуясь сталью как зеркалом. Покачал головой. Толпящиеся кругом кузнецы вздохнули разочарованно.
Минин улыбнулся и весело взглянул на Захарьина.
– Положь-ка сюда, дядя, – сказал он, взяв в руку саблю.
Никита Зотов вдруг развеселился и длинным рукавом очистил место на столе.
Минин положил ствол, огляделся во все стороны, обрал рукав повыше, сказал печально:
– Давно не рубил.
Потом крепко уставил ноги, нахмурившись, оглядел всех, взмахнул саблей и с коротким мясницким придыханием мощно ударил по железу. Ствол был разрублен пополам, и оба куска остались рядом.
Захарьин смотрел растерянно. Минин спокойно вздохнул после усилия, поднял конец разрубленного ствола, осмотрел внимательно, сказал:
– Заварка плоха. Вишь, разошлась. В стрельбе-то не будет цельно. Нам таких не надобно.
– Нашу, нашу попробуй, – сказал Никита Зотов, кладя второй ствол.
– Миныч, покажь! – кричали кузнецы.
Миныч осмотрел саблю и сказал:
– Вашу работу я знаю. А сабля хороша. Вот что, дядя, саблю мы оставим, сабля хороша. А стволы нам твои не надобны. Не ходи ты к нам, дядя, не чини себе с беспокойной головы убытку.
Миныч с Пожарским пошли к выходу. У кузницы стояли широкоротые короткие мортиры, камнеметы с квадратным дулом, выкованные фальконеты, литые пушки.
Дмитрий Михайлович шел, хромая, смотрел, хорошо ли литье, хороша ли ковка.
Народ теснился вокруг князя и пушек.
– Князя не давите, – сказал Роман, отжимая людей от Дмитрия Михайловича. – Чего толкаетесь? Не в церкви ведь.
Больше всего берег Роман бедро князя. Знал, что не зажила его рана.
Посмотрел Роман вниз и увидел руку с ножом.
Сунулся Роман сам на нож и принял удар себе в ногу. Закричал Роман. Люди побежали.
Кузнецы поймали человека, привели. Они пушку снизу смотрели и видели, кто ударил.
– За усердие спасибо, – сказал Дмитрий Михайлович, – только это человек свой, Семен Хвалов, мой послуживец. Ты, Семен, прости, они любя меня охраняют.
– Дмитрий Михалыч, – сказал кузнец Иван Тимофеич, – ты ему на рукав посмотри – вишь, прорезан. А в рукаве нож. Я его так с ножом и зажал.
Князь не сразу поверил, спорил. Но Хвалов уж больно потерялся и не ругался даже. Рукав у него и в самом деле прорезан и окровавлен.
Был допрос. Привели Семена к огню и к пытке. Семен повинился, назвал Обрезка. Тот повинился, назвал еще пятерых – одного стрельца смоленского.
И те винились. Говорили про Ивашку Заруцкого и какого-то монаха латинского, которому служат.
Допрашивали Семена перед войском, и он опять винился.
Дмитрий Михайлович у войска выпросил жизнь Хвалову. Отпустили и других людей. К изменам привыкли. А Пожарский был из князей прирожденных и привык на своем дворе сам судить. И Семена он отпустил.
Уже торопились. Известно было, что Карл Ходкевич идет на Москву с великим войском. Вышли из Ярославля с песнями. Скоморохов было великое множество. Шли они перед ротами, танцуя и играя на ложках. Прошли семь верст и ночевали. Не с усталости, а с того, что Миныч смотрел, не натерли ли хомуты коням шеи и не сбили ли люди ноги.
Утром встали пошли уже на Москву торопясь.
Иноземцы снова
Русский народ есть самый недоверчивый и подозрительный в мире.
Капитан МаржеретПереяславль-Залесский стоял горелым. За высоким валом, на пожарище, расположилось русское войско. Надо было стоять осторожно – могли набежать польские и литовские люди.
Сюда к Дмитрию Михайловичу из города Архангельска приехал англичанин Шоу непрошенным.
Вез он с собою письмо; в письме было сказано, что послали его цезаря римского сенатор Андриан и английского короля комнатный дворянин князь Ортер Антон и что с ним будут дворяне и капитаны со своими людьми, всех человек семьдесят или восемьдесят.
Из Архангельска извещали, что Яков Шоу прислан от Сандомирского воеводы дочери, Марины.
Похоже было, что Шоу попал не туда, куда ждал, – хотел начать воевать, а пришлось ему вести переговоры.
Известно было, что и под Москвою бродят немецкие роты, ищут пристанища.
И что сам Яков Шоу капитану Маржерету товарищ, и что навстречу ему идет поручик Шмидт.
Приказано было немца поставить в деревне Кулакове и в Переяславль привести ночью, чтобы он полков не видал. Немца расспрашивали, сколько у него народу. В речах немчин не разошелся. Капитанов и ротмистров человек двадцать, а прочих людей человек до ста.
Августа в десятый день Яков Шоу был введен в Переяславль, в разрядную избу.
Князь Дмитрий Михайлович, бояре и воеводы давали ему руки сидя.
Грамоты от него приняли, и князь Дмитрий Михайлович велел ему сесть на скамейку и молвил, что речи выслушали, а грамоту переведут и ответ ему учинят.
Перевели грамоту, говорили по полкам, со стольниками и чашниками, и с дворянами из городов, и со всякого чина людьми. Советовались, надобны ли немецкие люди в наем или нет.
И всяких чинов люди говорили, что наемные ратные люди не надобны и верить им нельзя. Позвали Шоу опять, и Дмитрий Михайлович сказал наемнику:
– Наемные люди из иных государств нам не надобны. До той поры польские люди Московского государства были сильнее, пока государство Московское было в розни. Северные города были особо, а Казанское, Астраханское царства и понизовые города были особо же, а в Пскове был вор, а кто с вором рубился, за засеками сидели, звались остальцами. А ныне все Российское государство, видя польских, немецких и литовских людей неправду, узнав воровских людей завод, вместе собрались и у ратных дел поставили выборного всей Русской земли Козьму Миныча да меня, стольника и воеводу Пожарского. Оборонимся и сами Российским государством от польских людей, и без наемных рук. И дивимся мы, что приняли вы всех товарищей француженина Якова Маржерета, который Москву пожег, – кровь лил нашу, а теперь нам продается против своих друзей поляков. Так вы в Московское государство не ходите и себе своим приходом убытков не чините.
Посадили Якова Шоу в возок с верхом, закрыли кожами наглухо, чтобы не подсматривал, и отправили в Архангельск обратно. А дьяку Путиле, что был в Архангельске, послали грамоту с бранью за нераденье.
«И то учинил ты, дьяк Путила, нераденьем пьян. Вам бы тех иноземцев расспросить подлинно, а к нам без указу не отпущать. Преж сего и не в такое расстроенное время, при государях, о посланниках и гонцах и всяких иноземцах расспрашивали подлинно, а без указов к Москве не отпущивали».
И остались приезжие люди в Архангельске и отряды немецкие, бродящие вокруг Москвы, без службы.
А Конрад Буссов и пастор Бер голодали в то время в осажденном Кремле.
Разговор душевный
…страшно убо и бедно есть мирским человеком к священным вещам прикасатися… Или судити их, аще и согреших и то от бога истязан будет.
СтоглавЕхали Миныч с князем Пожарским в монастырь Бориса и Глеба, что на реке Устье.
– Хороши луга, – говорил Козьма Миныч, – и не кошены. У монахов-лодырей, прости мое прегрешение, господи, мох на лугах.
– Труден, Миныч, подвиг монашеский, – сказал Дмитрий Михайлович. – Зато чтут Иринарха даже в иных землях. И человек он простой, сын крестьянский, из ближнего села Кондакова. Сильно чтут Иринарха. Сидит у него – я самовидец – в келье монах, был еретик, а Иринарх его обратил. А тот монах не простой, из знатных лузитанских людей, говорят, был другом Жигимунда.
– Жигимунда польского? – спросил Миныч.
– – То прежде было, – ответил Пожарский. – Я у Иринарха Блаженного благословения на бой спрашивал – не дал провидец, и не было счастья: сгорела Москва. В гордости я провинился, Миныч!
В монастыре гостей уже ждали, провели к Иринарху с поклонами.
Дмитрий Михайлович посмотрел на монаха: еще сильнее поседели кудри Иринарха, поседели и заржавели от железного кольца, надетого вокруг лба, и на стене новина – железный кнут из цепи.
Миныч осмотрел келью: невелика, на стенах вериги, связки поясные в пуд тяготы, восемнадцать оковцев железных и медных, – то праздничный старцев наряд. Всего праведных трудов Иринарха пудов пятнадцать, меди не считая.
Помолчали, помолились. Звенел преподобный медными крестами. После молитвы сказал:
– Знаю я, князь Дмитрий Михайлович и Миныч, ваше дело. Идите под Москву и не бойтесь богоотступника Ивашку Заруцкого. Убежит атаман от вас, аки дым от лица огня. Славу вы добудете, и крест я вам даю тому в подтверждение.
И дал старец крест.
Поклонились праведнику Дмитрий Михайлович и Миныч, хотели идти.
Продолжал Иринарх:
– И где ни будет Иван Заруцкий, узрите славу божью.
Обрадовался князь. А Иринарх, все медля, сказал:
– Нет праведного моего друга отца Николая. Не с кем мне говорить. Ушел друг, оставил по себе другого Николая же, из Японской земли послушника. Усерден послушник, но сладости нет в его беседе. И вот меня бес смущает, князь, и я к тебе за советом. Мучают нашу землю разными муками, такое делают, что и сказать нельзя, обнаготили Русь, разорили и посекли людей, села кругом стоят черным-черны, а не трогают нас, не дает мне бог мученического венца. Почему, князь, приходят и уходят польские и литовские люди, слушают, как я их проклинаю, смеются и называют меня «батькой»? И пан Макулинский, и Сапега ясновельможный, и сам Лисовский-воевода не злобятся на меня, дети зла.
Так сказал Иринарх и потрогал ласковой рукою броню Пожарского и его кривую саблю.
Поклонился Дмитрий Михайлович Иринарху и сказал:
– Где мне учить тебя, святой отче!
Спросил Миныч:
– Так охрабряешь ты нас, святой отец?
– Охрабряю во имя господа.
В келью вошел низкорослый, широколицый, безбородый монах и ликовался с Иринархом, своей щекою касаясь волосатой и праведной щеки старца.
Поговорил он тихо с Иринархом. Улыбнулся старец, сказал Дмитрию Михайловичу:
– Вижу я – ты в великой ужасти, как на такое великое дело идти. Как дойдешь до Троице-Сергия монастыря, отслужи там молебен с водосвятием, и сердце твое будет легко.
Вышли богомольцы, остался брат Николай, трогал Иринарховы вериги тонкими желтыми пальцами и ужасался. А ему Иринарх рассказывал о своих видениях.
Видел старец ночью юношу в белых ризах, с светлым лицом. Вещал юноша хулу на игумена Данилку за скаредность и гордость.
Ахал японец, восхищаясь видением.
На дворе монастыря, около треглавой звонницы, ждали уже отдохнувшие кони князя и нижегородского посадского человека, выбранного всей русской земли – Миныча.
Ехали к Троице-Сергию торопясь.
Вот она, Троица, с полосатыми от пролитой на врагов смолы стенами, с немолчным птичьим криком, с изрытыми оврагами, с военным мусором вокруг стен.
Здесь ждали Дмитрия Михайловича атаманы и казаки от Трубецкого. Пришли разведать, нет ли у князя на них какого-нибудь замышления. Миныч принимал казаков ласково, шутил и разговаривал. Были то атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов. Подарили им нижегородцы денег и сукон и проводили с честью.
Начали молебен. Служили попы многие, молились жарко, рыдал, молясь, узколицый келарь Авраамий Палицын.
Время шло. Молились. Воздух был неподвижен. Молились долго, дым кадильный подымался в небо.
Не терпелось Минычу. Из Москвы приехал племянник Петр, сказал, что на дороге неладно: поляки хотят перенять русскую рать в лесу.
Молебен все шел и шел, с великим водосвятием.
Вдруг дунул ветер с полночи, поднял хоругви, нагнул дымы кадил, дунул ветер на сторону московскую.
– Чудо! – сказал, крестясь и вставая, Козьма Миныч. – Чудо явное и милость Сергия-Никона чудотворца. Умрем за дом пресвятой богородицы!
Он первый сел на коня.
Дул ветер на Москву.
– Чудо! – сказали воины.
Пошло все войско на Москву с ветром.
Допевали монахи молебен на пустом поле, кашляя от кадильного дыма.
Шла рать спешно. Сказал племяннику шепотом Миныч:
– Больно долго молились. Говорят в народе: при простом человеке один бес, а при монахе бесов семеро. Езжай скорей скорого в монастырь Бориса и Глеба, посмотри там беса желтого.
Утром пришли в келью Иринарха ратные люди. При них монахи. Осмотрели келью, нашли одни припасы – пуд меду, четыре пуда соли.
Грамот никаких.
В келье иноземных монахов нашли брошенную рясу.
Письма нашли от Карла Ходкевича о Пожарском.
Погнались за теми людьми – не догнали. Самого старца допрашивали. Плакал Иринарх о своей простоте, влачили его четверо воинов на длинной цепи по земле, тащился за старцем, подымая пыль, березовый обрубок.
Иринарх оказался виновным только в простоте. Подержали его в темнице, и сказал игумен:
– Отпустим старца Иринарха в келью его на обещание – да не во зле испустит дух свой, боряся против судеб божиих.
За себя боялся игумен. Но ничего, обошлось.
Бой у Москвы
Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша.
«Слово о полку Игореве»Стали отдельным станом нижегородские ополчения, заняв стену Белого города от Москвы-реки до Петровских ворот.
Между стеной Белого города и Кремлем на пожарище росла крапива.
Тихо в Кремле, не шумят, не поют поляки.
Солнце встает.
С деревянным стуком на Фроловской башне пошли часы.
Но осень уже уменьшила часы солнца.
Медленно, со стуком поворачивались дубовые колеса, скрепленные железными обручами.
Вверху неподвижное изображение солнца. Это стрелка, показывающая час на голубом, медленно вращающемся циферблате.
Часы пробили час.
Им ответили другие часы, на башне, обращенной к Москве-реке.
В таборах и острожках вокруг Кремля пробуждались люди.
Пожарский стоял со своей ратью от Петровских ворот до Москвы-реки.
Вставали в русском стане по звуку русских часов, находящихся в плену у врагов.
С шумом, с говором подымалась казачья рать за рекою Яузой.
С шумом проснулся лагерь Карла Ходкевича в березовой роще на Поклонной горе, и сразу запели в нем трубы, зашумели немцы, поляки, литовцы, венгры, черкасы, как звали тогда казаков с Украины.
С Ивана Великого затрубила труба негромко и жалобно. Поляки в Кремле перекликались со своей помогой.
Часы пробили два, солнце поднялось выше.
Казаки Трубецкого вплавь, вброд и по наведенным бревнам – лавам – переходили через Москву-реку, располагаясь в Климентовском острожке, среди копченых труб и обгорелых церквей, там, где когда-то была Кадашевская слобода.
Улицы отличались от пустырей только тем, что на них росла трава, а не бурьян и крапива. Ополчение окопалось около дороги, ставило дощатые и плетеные щиты гуляй-городов.
В Замоскворечье, у церкви святого Климента, в острожке, занятом казачьим отрядом, не готовились к бою.
Ждали ляхов в другом месте, знали, что будут переходить они реку не в городе.
Через Москву-реку перешли пять сотен всадников Пожарского на помощь Трубецкому.
Еще длинны были тени, когда начал переправляться Ходкевич на другой берег, к Девичьему монастырю, с того места, где река Сетунь впадает в реку Москву.
Берег Москвы-реки здесь пологий. С высокого противоположного берега били пушки Ходкевича, стреляли мушкетеры; под защитой своего огня поляки переправились на противоположный берег и начали теснить нижегородское ополчение.
Восемь часов продолжалась сеча, и никто не слыхал, как звонят, измеряя бой, кремлевские часы.
Русских, ослабленных тем, что пять сотен лучшего войска отправлены были к Трубецкому, поляки оттеснили к Чертольским воротам.
Литовские, польские, венгерские отряды рубили всадников Пожарского.
В тыл ему вышли поляки из Кремля.
Рать Пожарского билась в две стороны.
Пришлось спешить людей, принять войско Ходкевича в копья.
Вылазку из Кремля отбили, и поляки потеряли на вылазке знамя.
Войско Трубецкого стояло и смотрело, как рубят нижегородцев.
Смеялся боярин:
– Богаты пришли нижегородцы, все в сукнах, – отстоятся и одни против Ходкевича.
Не могли спокойно смотреть на битву люди тех сотен, которые были посланы на помощь Трубецкому из ополчения Пожарского.
Трубецкой не хотел отпускать их, но они его не послушались и быстро рванулись через реку.
Смутились атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов. Пришли атаманы, начали кричать Трубецкому:
– От вашей боярской ссоры Московскому государству и ратным людям пагуба становится!
И, так сказав, поплыли через реку на помощь Пожарскому.
Войско Ходкевича было отбито.
Наступила осенняя ночь.
Во тьме, смазав колеса, чтобы не скрипели, двигался вдоль берега Москвы-реки обоз пана Ходкевича – вел его Григорий Орлов.
Польские войска, опередивши возы, уже успели войти в город, когда появились казаки и с боем овладели обозом.
Второго сентября, когда еще не начался день, пошли на вылазку осажденные из Кремля. Они переправились через Москву-реку, заняли русский острог у церкви Георгия на Яндове и засели там, распустив на колокольне польское знамя.
Ходкевич ночью повел войска с Воробьевых гор к Донскому монастырю.
Бой колеблется
Тогда бо от множества вопля и кричания обою стороны не бе слышати и пищального стуку, но токмо огнь и дым восходяща.
Сказание Авраама ПалицынаВ узких окопах стояли люди Пожарского.
Они подпускали к себе воинов Ходкевича и били в упор из пушек и пищалей.
По двум дорогам, по Ордынке и Пятницкой, наступал Ходкевич. Левое крыло отряда Пожарского подалось назад и снова укрепилось. Люди укрылись по ямам, залегли за печные трубы.
В центре остались пушки и пехота.
Пожарский защищал подходы к Кремлю.
Карл Ходкевич, бывалый воин, сражался в Нидерландах под предводительством герцога Альбы и видел, как принц Мориц Оранский восстановил в своих войсках древнее изобретение – шаг в ногу под музыку и движение отдельными сомкнутыми ротами.
Ходкевич сражался со шведами, сражался с турками, и удивить его в военном деле было трудно.
Военная задача Ходкевича состояла в том, чтобы прорваться через Пятницкую к Красной площади, там, где были ворота в Китайгородской стене.
Переправа через Москву-реку была под огнем артиллерии Кремля.
Если бы Пожарский еще отступил, то он попал бы и под огонь Ходкевича и под огонь воинов Струся и Будилы со стен Кремля.
Дмитрий Михайлович держался из последних сил.
Войско нижегородское спаяно было крепко.
Но оно в бою третий день.
Вперед идти не было сил, назад отступить было нельзя.
Дмитрий Михайлович прожил жизнь гордую и горькую.
Он не отступал даже тогда, когда не верил в победу.
Думал Дмитрий Михайлович:
«Вот встану я, обнищалый потомок князей Стародубских, – жизнь мою возьмите, чести не отдам».
Дмитрий Михайлович смотрел на то, как славно бьются нижегородцы; он видел, что бой колеблется.
Ходкевич рвался к Кремлю, фронт медленно поворачивался вокруг Климентовского острожка.
Гетман хотел втоптать Пожарского в Москву-реку.
Спускалось солнце. Гремели впереди пушки оружейника Никиты Давыдова.
В пыли и дыму стрелял Давыдов то в немцев, то в венгров, то в поляков.
Ему казалось, что огонь пушки моет поле, но снова выступает из земли новая рать.
Дмитрий Михайлович смотрел, как поддается левое крыло нижегородцев.
Налетали конные. Ученое войско.
Дралися по-разному. То били палашами, то стреляли в упор из пистолетов, отходили в сторону шеренгами; налетала вторая шеренга, опять стреляла.
Двигались по-тогдашнему, улиткой.
Налетали многими шеренгами.
Били артиллерией.
Повалены были дощатые щиты гуляй-городов, на боку лежали турусы, показывая переломанные колеса.
Отступали медленно, оттягивали пушки, зацеплялись опять за печные трубы, садились в погребные ямы, стреляли опять.
Кислый дух стоял от пушек, охлаждаемых уксусом.
По Ордынке и Пятницкой наступал Ходкевич, вбивая русских в землю.
Он видел, что казаки отошли за Яузу. Тогда он направил удар на острожек у церкви Климентия. После жестокой сечи над острожком поднялось польское знамя.
Тогда ожили казачьи таборы. Плохо вооруженные, полуголые люди с оружием в руках бежали через реку на врагов.
Ходкевич протискивался, как кабан через колючки, между войском Пожарского и казачьими отрядами.
Казаки отбили острожек и остановились.
«Тот, кто сражается, стоя на месте, тот побежден уже», – думал гетман, посылая венгров, пятигорцев и польские хоругви друг за другом.
Надо было прорваться по Пятницкой в том месте, где можно навести мосты к Кремлю.
Уже обозы подвигались к реке, везли хлеб и сало.
К ночи надо было быть в Кремле. Час решал судьбу боя.
Ходкевич продирался между казачьим острожком и развалинами гуляй-городков.
Он смотрел на бой со стен Донского монастыря и ждал часа, когда можно бросить последние силы, чтобы смять русских.
Бой колебался.
Приближалась музыка, знакомая и чужая, не русская и не польская – менуэт.
Ходкевич смотрел со стены.
Приближался отряд, отряд немалый – батальона два. Люди шли журавлиным шагом.
Доброе войско, треть людей с мушкетами. Впереди флейтисты, за флейтистами люди с алебардами, за алебардистами палач с черным мешком на голове и с большим мечом на боку.
За палачом два воина – один старый, седой, в шлеме, другой помоложе, в широкополой шляпе. За ними флейтисты.
В такт флейтам, мягким шагом, вытягивая ноги, полутанцуя, шли батальоны.
У реки гремел бой. На Климентовском острожке виднелось русское знамя.
Дымились вдали окопы Пожарского, его линия отступала, но все еще не прерывала связи с казаками.
Два человека – один в шлеме, другой в шляпе – поднялись на стену.
– Ясновельможный пан гетман, – начал седобородый, – мы сражались и с вами и против вас, всегда если не с успехом, то с умением. Мы знаем, ясновельможный пан, искусство хождения в ногу и искусство движения сомкнутыми ротами. Наши воины будут даже копать укрепления, если им заплатить за это отдельно.
Бой вдали казался неподвижным.
Подковой голубела Москва-река.
Серели вдали деревянные кровли над белыми кремлевскими стенами. Палец Ивана Великого сверкал золотым наперстком купола.
– Мы сражались, – сказал седобородый, – с господином Маржеретом в великий день, когда храбрецы изрубили московитов. Одежды наши были тогда кровавы. Но мы ушли, пан гетман, из Москвы. Нам дали только две короны и два жезла из единорога, двадцать золотников на воина пришлось нам, а эту кость продать трудно. Мы вели переговоры через господина Шоу с Пожарским и не сговорились.
Шмидт говорил медленно: он понимал дело – надо было тянуть, цена на помощь нарастала.
– Добыча московская, – сказал он, – делится не так, как разделили бы ее вы, господин Ходкевич, ученик принца Морица Оранского, ученик древних, победитель шведов и покровитель наук! Мы пойдем в бой, если получим долю добычи, равную с долей воинов гарнизона. После московского пожара нам заплатили, ясновельможный пан, собольими шкурами без хвостов, а шкура без хвоста подобна женщине с обритой головой. Она не может обрадовать сердце. Такая шкура также похожа на душу без тела.
Вдали, сливаясь, гремели выстрелы.
Ходкевич смерил полуостров Замоскворечья взглядом. Русские еще держались.
Со стен кремлевских нельзя было достать русские тылы.
Лавы – от казачьего лагеря в сторону острожка – были пусты.
– Я принимаю предложение воинов, – сказал он. – Слово мое крепко. Расплата вечером. Русские стоят сейчас между вами и платой. В бой бегом!
И он еще раз взглянул на дальний русский фронт.
Полами раздували русские огонь в жаровнях.
В жаровнях калились ядра.
Дымили жаровни, пахло баней.
Пороховой дым не проходил. Кислый пар уксуса смешивался с горьким пороховым дымом и с запахом московской пыли.
Стояло войско нижегородское крепко. Вперед идти было нельзя, назад отступить было нельзя.
Пушкарь рядом с Дмитрием Михайловичем поднял дуло мортиры, заложил порох, забил сухими тряпками, на сухие тряпки положил мокрые, забил туго, на мокрые тряпки клещами опустили ядро – пушка вздохнула паром, потом ахнула, прыгнула назад и послала каленое ядро.
Дмитрий Михайлович посмотрел вперед.
– Ну, поп Ерема, держись, – услышал он.
Это сказал один ополченец своему длинноволосому соседу.
– Новые идут, пешие.
Упало ядро, прорвало дорогу среди идущих.
Они шли, переходя в бег, вытягивая ноги по-журавлиному, падая весом всего тела на вытянутый носок.
Впереди шел седовласый загорелый человек в кованом панцире.
Свистели менуэтом флейты.
Пехота шла.
Три дня бился Дмитрий Михайлович и устал от железа доспехов, чувствовал кольчужную мисюрку на голове, и шлем, и нагрудник, и поножи, и железные перчатки, и раны под оружием. Во рту было горько.
Стреляли пушки, стреляли пищали.
Уже видны лица врагов. Вот приближается старый немец, надевая добрый шлем на седую голову.
Дмитрий Михайлович молча пошел вперед.
Он переступил через последний, тоже разбитый, щит гуляй-города и молча пошел на немцев, и молча, без крика, пошли за ним нижегородцы.
Полки рубились без крика от великой усталости.
Ударил Дмитрий Михайлович немца саблей, загремел панцирь. Прошла сабля по краю нашейника.
Падает немец, закрывает серые глаза.
Утихла музыка. Бегут.
А слева крик. Гремя железом, подскакал арзамасский дворянин.
– Дмитрий Михайлович, – сказал он хрипло, – прорвали! На вас немцев пустили, а нас потоптали. Мост строят, Дмитрий Михайлович!
– Саблю где потерял? – хрипло сказал Дмитрий Михайлович. – Еще долга будет битва!
Спускалось солнце. На Кремле часы били четырнадцатый час[1].
Берег Москвы-реки истоптан.
Весело ругаясь, из черных, хрустящих обгорелых бревен строили жолнеры наплавной мост.
Николай де Мело, монах земли Португальской, страстотерпец, иезуит, он же служка Иринарха, в белой сутане, на белом коне стоял, подымая желтой, сухой рукой черное тонкое распятие.
Кремлевская стена окаймлялась вбок бегущими дымами пушечных выстрелов, подымающимися из-под двускатной дощатой кровли, венчающей стену.
Николай де Мело чувствовал себя как жаждущий, который погрузил чашу в воду и слышит, как она наполняется со звоном.
То, о чем он мечтал в Индии, в Китае, в Москве, о чем бредил в Соловках, в обледенелом погребе, о чем молчал в монастыре у Иринарха, совершалось.
Воистину будет Москва третьим Римом, с папой-иезуитом!
Венцом бессмертной и неисчислимой славы сверкали кремлевские колокола, и колокольня Ивана Великого была как гарпун, которым прикончили кита, как копье, которым прикололи слона, и монаху казалось, что он сжимает в руке белое древко колокольни.
От Кремля тоже наводят мост. Сейчас сомкнутся два моста, как руки.
– Ныне отпущаеши, господи, раба твоего! – шептал де Мело и одновременно думал: «А жить я буду долго!»
В Кремле суетились радостные, оживленные и слабые люди. Все крыши церквей, все окна звонниц были наполнены пестрым народом.
Смотрели вниз, на сечу и на Климентовский острожек там, за рекой.
В Климентовском острожке вся земля устлана трупами.
Стояли толпой над убитыми израненные казаки.
Старик монах тонким голосом причитал перед ними, кланялся им, умолял о чем-то, любуясь собственным своим плачем.
Причитал старик по-церковному:
– Яко от вас начася дело доброе, вы стали крепко за истину и православную христианскую веру, и раны многие приемлющих, и глад и наготу терпящих, и прославше во многих дальних государствах своею храбростью и мужеством. Ныне же, братья, – плакал монах, – все то доброе начало единым временем погубить хотите…
Идут на Москву иноземные люди.
Стояли казаки, не верили они Авраамию Палицыну, знали его в таборах: был келарь троицкий в Польше послом, и присягнул келарь польскому королевичу Владиславу за то, что паны дали монастырю беспошлинную торговлю конями. И с Сапегой был друг монах, а сейчас, видно, не сговорились.
– Изыдите же на противных! – кричал монах.
Колебались казаки.
Удар за ударом принимали нижегородцы.
– Умрем, Козьма, – сказал Пожарский. – Лучше смерть, чем жизнь поносная!
– Дмитрий Михайлович, – ответил Минин спокойно, – дай мне воинов, и я инако промыслю.
– Бери кого хочешь, – сказал Пожарский.
Козьма на коне переплыл наискось Москву-реку.
Посмотрел – у Крымского двора стояли две гетманские роты, конная и пешая.
От Чертольского ручья видно было большое, стройно наступающее гетманское войско.
У закоптелой стены Белого города стояли три сотни русской конницы.
Козьма выехал к ним, примериваясь.
Закричал:
– Москва, Москва! – И повел людей за собой без сомнения.
Поляки, не дождавшись удара, дрогнули и побежали.
Конные потоптали пеших.
Минин не остановил победы, не дал врагам оправиться и с несколькими сотнями врубился в самый центр гетманских войск.
Услыша Козьму, увидя ярость боя, все русские люди, залегшие по крапивам, спрятавшиеся по ямам, встали, как воскресшие.
За конницей Козьмы бежала на поляков яростная русская рать.
Опять заговорили пушки Никиты Давыдова, пошли в атаку копейщики Пожарского.
Козьма вел свое войско, и оно росло. Вскакивали, выбегали все новые люди, присоединяясь к всадникам и довершая их удар.
Рядом с Козьмой скакал любимый его племянник Петр. Сын любимой сестры, храбрый парень, рослый, смелый.
Оглянулся Козьма и увидел, что падает племяш с коня, странно разведя руки.
Козьма не задержал свою лошадь.
Вот поворачивают строй поляки.
Но казаки, увидев натиск Минина, ударили на поляков из острожка.
– Москва! – закричал Козьма и врубился в польский строй.
Дрогнули поляки.
Гетман стоял на стене Донского монастыря.
Он следил за боем по карте, получал донесения.
Бой усиливался.
«Хороший повар не пробует беспрестанно пирога, – думал Карл Ходкевич, – огонь сделает свое дело. Надо будет выйти из шатра так, чтобы ехать в Кремль не останавливаясь. Этот Пожарский упорен, однако».
Среди шума выстрелов поднялся крик.
Вбежал адъютант и прохрипел что-то.
– Что? Победа? – спросил Ходкевич.
– Подкрепления, гетман! – губами, без голоса, сказал адъютант.
– Я сам! – сказал гетман и выбежал из палатки.
Поле битвы изменилось так, как изменяется лес, когда налетит буря и все ветки поворачиваются в одну сторону.
Буря летела со стороны Москвы-реки.
Польская кавалерия, венгры, немцы бежали к монастырю, стремясь к одному – протоптать себе дорогу назад.
Не вступая в стремя, вскочил Ходкевич на коня, с несколькими людьми поскакал навстречу бегущим, кричал, проклинал, ударил кого-то саблей.
Буря продолжалась.
Люди бежали, коня гетмана повернули. Ему показалось, что он сам кричит вместе с толпою то же самое.
Падали рядом с ним, тяжело бряцая о пыльную землю доспехами, люди. Неторопливо свистели пули.
Пролетела стрела, гетман улыбнулся на нее, а потом вспомнил, что бежит.
Вот обозы. Лошади выпряжены, и брошены возы, задраны оглобли, кони скачут.
Кони скачут, канонада тише; человек рядом с гетманом снимает шлем, лицо его бледно. Это капитан.
– Я спас вас, пан гетман! Я вывел вашу лошадь из боя.
Там, в тылу, шумят люди. Мимо продолжают скакать всадники.
Поляков в Кремль прорвалось несколько сот человек, но без провизии. Удар Минина был так силен, что гетман восстановить своих сил уже не смог. Обозы гетмана, обозы, которые должны были накормить кремлевских сидельцев, были захвачены, войско рассыпалось.
Утром, когда московские часы пробили первый час, лагерь поляков был пуст, пуст был и Донской монастырь. Поляки за ночь ушли к Можайску.
Войско Ходкевича не собралось больше никогда. Оно рассыпалось от того удара, разбрелось – кто домой, кто грабить.
Ночью веселились русские в своих окопах.
Ночью искал Минин племянника своего по полю битвы, искал среди убитых, среди растоптанных, идя по следу атаки.
Ранним утром нашел он Петра растоптанным, похоронил.
Ранним утром хоронили своих убитых русские. Стояли над могилами Козьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский, а потом всем войском поперек Замоскворечья, от Москвы-реки до Москвы-реки, плели два плетня. Между теми плетнями насыпали землю и так охватили поляков крепостью.
Работали днем и ночью. За работой смотрели Пожарский и Минин.
Русские войска пишут в Кремль полякам и получают ответ
Поляцы бегут до внутреннего града превысокого Кремля. И тамо утверждают врата жестокими запоры.
Повесть кн. Катырева-РостовскогоПрорваться из Кремля уже не мог никто.
Тех людей, которые ночью пытались по веревкам спуститься со стен, убивали саблями.
У Пушечного двора, у Егорьевского монастыря и на Кулишках поставили туры, а за ними пушки.
Но Дмитрий Михайлович не хотел разбивать кремлевские соборы и послал польскому рыцарству в Кремль письмо:
«Полковникам Стравинскому и Будиле, ротмистрам, всему рыцарству, немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в крепости, князь Дмитрий Пожарский челом бьет. Ведомо нам, что вы, сидя в осаде, терпите страшный голод и великую нужду, что вы со дня на день ожидаете своей погибели. Хотя Струсь ободряет вас прибытием гетмана, но вы видите, что он не может выручить вас. Вам самим известно, что Карл Ходкевич приходил со своим войском; много было тогда войска; никогда прежде не бывало столько ваших людей, и, однако, мы, надеясь на милость божью, не убоялись множества. Теперь вы сами видели, как гетман пришел и с каким бесчестьем и страхом он ушел. Сдавайтесь в плен. Объявляю вам: не ожидайте гетмана. Бывшие с ним черкасы на пути к Можайску бросили его и пошли разными дорогами на Литву. Дворяне и боярские дети в Белеве, Ржевичане, Старичане перебили и других ваших военных людей, вышедших из ближайших крепостей… Сами вы знаете, что ваше нашествие на Москву случилось неправдой короля Сигизмунда и польских и литовских людей и вопреки присяге. Вам бы в этой неправде не погубить своих душ и не терпеть за нее такой нужды и такого голода… Ваши головы и жизнь будут сохранены вам. Я возьму это на свою душу и упрошу согласиться на это всех ратных людей. Которые из вас пожелают возвратиться в свою землю, тех отпустят без всякой зацепки. Если некоторые из вас от городу не в состоянии идти, а ехать им не на чем, то, когда вы выйдете из крепости, мы вышлем таким подводы…»
На это письмо отвечено было заносчиво:
«От полковника Мозырского, хорунжего Осипа Будилы, от ротмистров, поручиков и всего рыцарства, находящегося в Московской столице, князю Дмитрию Пожарскому.
Мать наша отчизна, дав нам в руки рыцарское ремесло, научила нас также тому, чтобы мы прежде всего боялись бога, а затем хранили нашему государю и отчизне верность.
Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно того, чтобы его выслушали наши шляхетские уши, мы не удивились по следующей причине: ни летописи не свидетельствуют, ни воспоминание людское не сохранило, чтобы какой-либо народ был таким врагом для своих государей и непокорным слугой, как ваш. Ты, сделавшись изменником своему государю, светлейшему царю Владиславу Сигизмундовичу, восстал против него, и это осмелился сделать не только ты сам, человек не высокого звания или рождения, но и вся земля изменила ему. Впредь не пишите к нам ваших московских сумасбродств – мы их уже хорошо знаем. Мы не закрываем от вас стен: добывайте их, если они вам нужны, а напрасно царской земли шишами, шпынями и блинниками не пустошите, лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть хлоп по-прежнему возделывает свою борозду, Куземка пусть занимается своей торговлей.
Так здоровее царству будет.
Писано в Московской столице 21 сентября 1612 года».
Шпыни, о которых писали поляки, – это и шпильманы – скоморохи – и вообще озорники-охальники.
Блинники – это московские ремесленники.
Хлопы – русские мужики.
В золоченых палатах сидел похудевший Конрад Буссов, терзаемый голодом и сомнениями. Он думал о том, что не пора ли пойти к русским: «Поверят или не поверят?»
«Не поверит Куземка». И Конрад Буссов записал в летописи своей:
«Боже милосердый! Положи предел сей войне кровопролитной; смягчи сердца упорных египтян; да покаются они во грехах своих и да покорятся законному государю! Внуши, господи, его величеству королю Польскому благое намерение спасти воинов, столько долго томимых осадою, и даруй Русской земле мир и тишину, во славу своего имени, для блага самих россиян и всех иноземцев! Да исполнится моление мое!»
Не писались слова, не вспоминались изречения библейские. Был ли когда-нибудь университет с пивом, Плавт существовал ли?
А там, в черной, обугленной Москве, заговорили пушки: это князь Дмитрий Пожарский громил стены из Пушечного двора. Ложились на кремлевские дворы, на кровли каленые ядра.
За жестокими запорами
Пусть оправдаются и дадут ответ в этом те, кто были сообщники в этом деле. И желали будто бы чести своему государю и ввели его в такое обидное, постыдное и позорное бесчестие, а народ московский возбудили, раздразнили и своими насильственными поступками заставили его, разбившегося было на много частей, прийти к согласию и единению.
Из речи литовского канцлера Льва Сапеги, (февраль 1613 года)Во время боя между нижегородским ополчением и войсками гетмана Карла Ходкевича стольник Григорий Орлов, владетель села Нижнего Ландеха с деревнишками и иных многих поместий, провел триста возов с провизией по низкому берегу Москвы-реки, потом бродом, все ночью. Довел возы до Чертольских ворот и здесь был встречен русскими. Польский отряд, не приняв боя, бежал, оставив возы.
Стольник Григорий Орлов пробрался в Кремль.
Кремль сильно переменился. Дворец Самозванца, что стоял на крыше годуновского дворца, растащен. И лестница к нему растащена. Деревянный дворец Василия Шуйского – растащен.
В золотых палатах выломаны двери и косяки. Все стоплено, хотя еще не зима.
Трава в Кремле вся сощипана до земли. Листья с деревьев сорваны, и кора снята. Той пехоте, что прорвалась с Орловым, было хуже всего. С Китай-города, из разоренных лавок, приносили воловьи кожи. Долго варили, потом ели.
Кожу воловью не укупишь. У всех золотыми цепями набиты мешки. Жемчуг завязан в узлы. Пан Херлинский продавал мерина за пятьсот злотых – четверть себе отрезывал.
Вместе с поляками сидели в осаде Буйносовы, Романовы, Салтыковы и боярин новоманерный, Федька Андронов. Они затворили ворота своих домов и Орлова к себе не пустили.
Гришка Орлов испугался не сразу. Все думал, штуку какую новую измыслить.
Утром шарил по ямам, есть хотел. Нашел голову и ноги человеческие. Не испугался, но заскорбел.
На другой день видел – шли мимо Никольских ворот московские мастеровые люди, несли в мешках уголь. Москвичи народ не боязливый и для краткости, чтобы срезать дорогу, брели под самой стеной. Гайдуки выскочили из-под стены, одного порвали и съели, а другие отбились.
Ночью стучался Орлов к Романовым в ворота. Никто не ответил. На другой день прокрались в Кремль от Ходкевича жолнер Воронецкий и казак Щербина. Сказали полковнику Будиле, что гетман вернется.
Выслушал их полковник, отпустил, не сказавши, куда пойти и где взять харчи.
Бродили Щербина с Орловым по Кремлю, нашли в церкви наплыв со свечей. Нашли книгу старую, пергаментную. Варили с воском. И мышь купили за пятнадцать злотых, съели. К утру Щербина засердился, решил бояр грабить, пока не ослабел. Орлов стал у стены. Щербина перелез через стену, начал шарить. Мстиславский вышел сам. Щербина ударил его кирпичом.
Прибежали слуги. Щербину схватили. Схватили и Воронецкого. На Гришку не обратили внимания.
Воронецкому отрубили голову. Щербину повесили.
Всего было недавно воинов четыре тысячи пятьсот, не осталось и тысячи четырехсот.
Орлов бродил. Встретил приятеля Петряковского. Вместе ночевали в пустых приказах.
Утром открылись двери в царе-борисовские палаты. Полковник Будила вызвал к себе капитанов, ротмистров и русских. Горница Будилы была завалена вещами, корона царская лежала на боку в углу в пренебрежении. Полковник говорил торжественно и красноречиво:
– Ни в каких хрониках, ни в каких историях нет известий, что кто-либо сидящий в осаде терпел такой голод. История осады Сагунта и бедствия при осаде Иерусалима не могут сравниться со страданиями нашими. Их запишет бог. Вчера судное дело было во взводе пана Леницкого. У него гайдуки съели умершего гайдука их взвода, и родственник покойного, гайдук из другого десятка, жаловался на это мне и доказывал, что он, как родственник, имел право на тело. Я поручил разбор дела ротмистру, и он, не зная, что делать, колебался, какой вынести приговор, и, опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места. То, господа бояре, непереносно. Нам, господа бояре, вас кормить нечем. Вы нам говорили, что Русская земля бояр слушает, – и то обман. Вы даром у нас сидите, на своих запасах. Коли вы Русской земли хозяева, идите за стены править своими подданными. А мы здесь свое горе и стыд одни избудем.
Стольник Григорий Орлов был других крепче и начал с паном Будилой спорить.
– Заруцкого не купили ли? Купили. Надо еще кого купить. Нижегородцы-то казаков боятся? Боятся. Что князя Дмитрия Михайловича убить не сумели, то стыд. Я холопа своего Мишку Обрезка на то дело пожертвовал, а денег дали мало. Так вы, ясновельможные паны, нас не гоните. Лучше корзины спустим со стен с жемчугом али золотом, ночью. Я людей знаю. Не устоят, хоть хлеба туда да положат.
Орлова послушали, корзины опустили.
Подняли пустые.
Ждали еще день.
Потом собрали всех бояр, велели идти: хочешь – на Красную площадь, к казакам, хочешь – через Троицкие ворота, к Пожарскому.
Обернули бояре ноги, распухшие от цинги, парчой, надели богатые шубы, взяли иконы, вышли, рыдая, на мост, к широкой, бескрышей Кутафьей башне. Плакал Михаил Федорович Романов. Скрипели два подъемных моста, опускаясь по бокам башни. Набежали казаки. Нижегородцы бояр не отдали, позволили только раздеть. Романова встретить пришли люди от Трубецкого и от Лыкова.
С боярами вместе вышел Конрад Буссов в священническом облачении. Его не убили, только начали попрекать ересью. Гришка Орлов побоялся Пожарского, пошел на сторону Яузы, и его казаки разнесли на саблях. Двадцать седьмого октября[2] открылись ворота Кремля. Струсь вышел со своим войском к Трубецкому, Будила – к Пожарскому, которого недавно позорил в письме. Казаки хотели ворваться в Кремль, чтобы посмотреть, что там осталось. Миныч не позволил. Вошли в Кремль немногие люди.
Везде грязь, обрывки дорогих материй, каменья, книги.
В палатах стоят серебряные бочки с золотыми обручами. В них насолена человечина.
Разобрали вещи. Те вещи, что не из государственного хранилища, отложили особо. Сосчитали казаков. Было их одиннадцать тысяч. Между ними разделили доспехи, ружья, сабли, а также найденные в Кремле деньги. Каждый казак получил деньгами и ценными вещами по восемь рублей.
Кремль вымыли.
Люди в ополчении жалованье получили, а крестьянским отрядам денег не дали, но позволили строиться в Москве, не платя два года налогов. И начали строить в Белом городе новые дома.
На краю чужой земли
Счастлив, кого ваш взор вниманья
удостоит.
Кто сердца вашего любовь себе
присвоит…
Пушкин, «Борис Годунов»Не дойдя еще до Астрахани, Волга распадается на протоки. Однако около города река еще широка.
Проходит Волга мимо Астрахани, и чем ближе к морю, тем мельче она и тем больше в ней камыша.
Лежит Астрахань на луговой стороне Волги, Астраханский кремль стоит на Заячьем бугре.
Стоит на том бугре еще Безродная слобода, или Сиротское местечко. Живут в ней беглые люди из России, никакого родства не помнящие.
Астраханский кремль построен при Борисе Годунове. В то время было постройке двадцать пять лет.
Кремль не мал, в нем есть каменные палаты и подземные погреба с кирпичными сводами.
Сама Астрахань город богатый, торгует шелком, на рынках здесь много пряностей, тканей, дорогих камней. Идут отсюда икра и рыба.
Сверху приходят по Волге большие баржи с лесом и хлебом и разными товарами.
По Хвалынскому морю приходят персидские корабли.
Путь на Россию охраняется крепостями, поставленными по берегам Волги.
Живут здесь между Волгой и Доном казаки, и на другой реке – Яике, что впал в Каспийское море, тоже живут казаки.
Есть еще русские люди и на Тереке.
За морем живут персияне, у них крашеные бороды, царство их великое.
Через Хвалынское море путь на Памир, за Памиром богатая Индия.
В Астраханском кремле сидят Иван Мартынович Заруцкий с Мариной.
Прибежали они сюда через степь, удалось Ивану Мартыновичу убить воеводу и склонить на свою сторону ногайских татар.
Татары стояли в копченых юртах у самого города.
В Астрахани беглецы задержались и передохнули.
Встретили они здесь католического монаха, отца Ивана, которому римский папа дал имя Фаддей, послав его к персидскому шаху Аббасу для проповеди христианства.
Фаддей в Астрахани задержался.
Прибежал в Астрахань и португальский монах Николай де Мело. Ушел он из пустыни. Ушел целым, только поседел сильно.
Еще был с Мариной бернардинец – отец Антоний, немецкой земли человек.
Открыли монахи в Астраханском кремле домовую церковь и начали вершить дела.
Для благочиния тайно повенчали они Марину с Заруцким.
Был Иван Мартынович Заруцкий человеком неграмотным, не сильно храбрым, но предприимчивым.
С Кремля видна широкая, блистающая зимним льдом Волга.
Волга в тот год замерзла на два месяца, а соленое озеро около Кремля не замерзло, только соль осела в воде хрусталями, и казалось, что лежат на дне озера бесценные сокровища.
Маленького сына Марининого Ивана перемазали по католическому обычаю. Статс-дама Марины Мнишек, Варвара Казановская, приняла монашество.
В астраханских церквах запретили звонить в колокола. Напоминали те колокола Марине и монахам московские набаты.
Астрахань – богатый город. Добывают здесь черную икру, которая славится по всей Европе. Ели ее монахи с лимонным соком, ели и хвалили.
Вина в Астрахани нет, хотя и посадили в том году под городом виноградные лозы.
Приходили в кремль ногайцы; те ногайцы – царицы Марины союзники. Давали им жалованье порохом, холстом и сукнами.
Антоний-бернардинец был немец, отец Николай – португалец, Фаддей – итальянец.
Ссорились друг с другом монахи, спорили на плохой латыни, прибавляя русские и польские слова.
Иван-Фаддей вспоминал генуэзского капитана Павла. Генуэзец говорил, что лежит через Астрахань великий путь на Восток.
Был тот капитан человеком с безумной и ненасытной душой. Занимаясь торговыми делами в Сирии, Египте и Понте, он узнал по слухам, что благовония можно подвозить вверх по реке Инду из отдаленной Восточной Индии, откуда по непродолжительному сухому пути, перевалив через горный хребет, их можно перевезти в реку Окс; эта последняя берет начало почти из тех же гор, как и Инд, и в противоположном с ним направлении изливается в Хвалынское море. Далее безопасное и легкое плавание вплоть до устья реки Волги.
Николай де Мело сердился, потому что путь на Индию принадлежал великой его Лузитанской державе, но был захвачен испанцами.
Совещались монахи у карт географических, расспрашивали армян, и выходило, что путь не так труден. И мирились между собой монахи, запивая ссору водкой и заедая икрой. Слушал споры на незнаемых языках Заруцкий.
С Волги дула метель, снег был желт от песка, и желтыми стояли на дворе тяжелые, холодные сугробы.
Заносило желтый снег через щели в комнаты.
Заруцкий совещался с казаками, приходил к нему атаман Треня Ус, пил водку с Мариной, на сына ее смотрел ласково, но говорил, что Безродная слобода царевичу служить не хочет.
– Говорят безродные, что рода у них нет, а есть родина, и панам служить они не хотят.
Писали монахи письма, рассылал Заруцкий те письма во все стороны.
Выходил Николай де Мело на базары, заходил в лавки. В лавках свет только сверху, в лавках сидят и торгуют неведомые люди, ничего не говорят.
Плохо, когда на войне нет слухов.
Собрались монахи на совещание, привел Мело краснобородого персидского купца Хаджи-мирзу.
Ехал он к шаху.
С ним пошло двадцать казаков, с есаулом Яковом Гладким, и монах Иван-Фаддей.
Решено было просить у шаха Аббаса денежной казны и хлебных запасов для войны с Москвой.
Уехало посольство.
В марте получил Заруцкий грамоты. Одна грамота была от царя Михаила, а другая – от земского собора.
Предлагалось Заруцкому сдаться, и вины, говорилось, его будут отпущены, а не то возьмут Ивана Мартыновича силой.
– Надо бежать, – сказал отец Антоний. – И в священном писании рассказывается, как бежал от Ирода Иосиф с пречистой девой Марией и божественным ребенком в Египет. Так и мы увезем царевича Ивана Дмитриевича к иранским египтянам.
На страстной неделе 1614 года восстали астраханцы, начали биться безродные люди с Маринкиным войском.
Заруцкий с восемью стами людей заперся в кремле.
Из Ирана на Астрахань пришли торговые караваны. Получил Заруцкий письмо.
Писал Иван-Фаддей, что он за всех молится, и посылал шахское письмо со своим переводом.
Спрашивал шах про Марину, хороша ли она лицом и сколь хороша, молода ли она и сколь молода и горячие ли у нее руки. Прислал подарок – не то скипетр, не то погремушку из слоновой кости с зеркальцами.
– Надо ехать, – сказал Иван Мартынович Заруцкий.
– Ехать надо, – сказал отец Николай. – Сила божья и в немощи совершается. Может быть, вам, наияснейшая пани царица, предстоит быть просветительницей этой великой страны.
Дождались ночи. Ночью прорвались к Волге, захватили струги и поплыли вверх по реке, потому что знали: снизу плывут из Астрахани терские люди, которые тоже против Марины.
На другую ночь повернули и поехали камышами к морю.
Слышно было, что в Астрахани звонят во все колокола.
Гребли на стругах молча. На заре вдали увидали русские лодки, на лодках стрельцы.
Струги Марины пошли в камыши.
Ждали в камышах. Мимо проплыли русские в челнах, с шумом и смехом.
В камышах шли, упираясь веслами. Сзади гремели выстрелы. Переждали ночь, выплыли в море, поплыли на юг. Стругов было уже мало. Берега моря пустынные. У камней лежат тюлени.
Плыли долго, долго. Марина плакала, потому что взяли в плен Варвару Казановскую.
Марина плакала, ночью бредила.
Море качало лодки широкой волной.
Садилось солнце; в красных волнах качалось солнце.
Ветер крепчал, белая пена обшила горностаем багровые холодные волны. Было море как царская мантия.
Бредила Марина.
Николай де Мело ночью трогал ее горячие руки.
Антония-бернардинца в лодке не было, остался он в Астрахани.
Через несколько дней нагнали беглецов струги ушедших от погони казаков. Всего собралось до шестисот человек.
Выехали на реку Яик, решили переждать погоню.
На берегах, по пескам, рос странный серо-желтый мох.
Ночью крупные лягушки перекликались и квакали голосами, похожими на человеческое хохотание.
Плыли долго. Множество птиц сидело на тихих берегах.
Мело выходил на берег смотреть – на берегу рос дикий ревень, который столь драгоценен.
Португалец утешал всех, что уже начинаются восточные земли.
Остановились, окопались на высоком берегу.
Треня Ус достал Марининому сыну синее, но жирное верблюжье молоко. Ребенка он взял к себе; ни Марине, ни Заруцкому уже не было до того дела.
Думали, что уже переждали, поплыли вниз, к Каспию.
Остановились на лесистом высоком Медвежьем острове. Ночью отец Николай де Мело разбудил панну Марину.
– Ночь тиха, – сказал он. – Не кричат птицы ночные на берегу. Лягушки и те поутихли. Я старый человек, я знаю, панна, что мы окружены. Там, на берегу, в зарослях, стрельцы с длинными ружьями. Я должен быть счастлив, потому что мученический венец приближается и господь бог мой простит мне водку, которую я пил в Астрахани, и ссоры с этими монахами, которые не понимают, что нельзя быть ни холодным, ни жарким!
– Я царица российская, – ответила Марина.
– Дочь моя, хотя ты и не мне приносила свою исповедь, но ты дочь нашей церкви. Ты как Магдалина, которая заплатила любовью за переезд на богомолье. Ты платила своей любовью за наш путь через эту страну. Именем господа бога моего я принимаю эту вину на себя, а с меня ее снимет генерал нашего ордена и покроет ее ризой бесчисленной славы Иисуса, и грехи наши потонут, как тонут звезды в свете солнца. Солнце скоро встанет. Быть может, мы вместе с тобою гонялись за тенью.
– Трубецкой присягал мне, – сказала Марина. – Мне присягала вся Москва. Заруцкий спит рядом. Шах мне вернет мое царство. Я верю в бога и в мой женский гений.
– Царица моя, я постараюсь умереть завтра, потому что знаю московитские тюрьмы. Исполняя волю меня пославшего, я нес людям смерть и убивал их, как зима траву. Те люди, которые убьют нас, счастливые: они крепко знают, что стоят на собственной земле. Я не могу вас утешить, панна Марина. Если бы ваш сын был бы у вас, я покрыл бы его полою рясы и унес, и мы выходили бы его в наших коллегиях и начали бы спор с начала… Впрочем, я устал. Нет ли водки у вас, царица российская?
– Спросите у казаков.
– Они не дадут. Они вообще ненадежны. Слышите, как они молчат? Они знают, что уже пойманы. Боже мой, боже мой! За что ты оставил нас?.. Впрочем, я считаю мнение о несуществовании бога правдоподобным.
Наутро связали казаки Заруцкого и Марину и выдали стрельцам.
Иезуит защищался и был утоплен.
Трене Усу казаки дали убежать.
Пленных повезли в Астрахань, а в конце июля поодиночке отправили связанными вверх по Волге.
В Москве Заруцкого казнили. Марина не нужна была более ни королю Сигизмунду, ни сыну его Владиславу, ни августинцам, ни бернардинцам, ни иезуитам, ни даже седоусому Юрию Мнишеку, воеводе, Марининому отцу.
При размене пленных записали о Марине поляки не без удовольствия, что умерла панна в тюрьме с тоски по воле.
Впрочем, говорили и так, будто задушили ее между двумя матрацами.
А Николая де Мело объявили в Португалии мучеником и причислили к лику святых.
Эпилог
…а ему де, князь Дмитрию, не токмо меня, холопа твоего Бориска, и меньшого моего брата можно быть меньше многими месты.
Из челобитной боярина Бориса Михайловича Салтыкова. Лето 7122 (1613). ( Дворцовые разряды»)Знамя ополчения Пожарского найдено в крестьянской избе.
Известия Нижегородской архивной комиссии. Сборник 11, Нижн. Новг. 1913.Тридцать лет прошло с тех пор, как сам Сигизмунд вел войско на Москву и был разбит под Волоколамском крестьянскими отрядами.
Тридцать лет прошло с тех пор, как на царство был избран Михаил Федорович Романов, тушинского Филарета-митрополита сын. Отдали Михаилу голоса и те, кто хотел короновать воренка, Маринкиного сына. Грамоту об избрании подписали не сразу.
Во время венчания Дмитрий Трубецкой держал скипетр, Пожарский – державу.
…А боя того под Москвой забыть нельзя. Ночью проснешься, не открывая глаз, видишь – свет пурпуровый мерцает над полем, а звука нет. Не слышишь, как сердца не слышишь, пищального стука. А огонь мерцает в небе. А потом вспомнишь Козьму и откроешь глаза. Тишина, под тобою лисий мех, находишь окно в стене, и все прошло, и болят старые раны, и одно осталось – бесчестье.
Борька Салтыков Мишке Романову руку держал. А он Михаила Салтыкова сын, и отец его ушел в Литву и там остался, а брата его новгородцы на кол посадили. И он на том колу сдох.
Мишка Романов Салтыкову боярство дал…
Пошло потом Мишкино царство. Сидел он на престоле, принимал послов, по бокам стояли рынды в белом атласе., И рынды от той чести бегали и больными сказывались, все в споре, кто первый да кто второй. И государь велел их сыскивать и ожидал их многое время. Приводили людей к государю, а они здоровы, не больны. А потом, когда начались пожалования, пожаловал государь в бояре Бориса Михайловича Салтыкова и милость велел ту говорить боярину князю Пожарскому, А сказывал всегда меньший большому. И сказал тогда Дмитрий Михайлович, что он меньшим Салтыкову быть не может. И пошел разбор, и принесли книги, и считали, кому кто в версту, и приводили Дмитрия Михайловича, и били на него челом за бесчестье, и разгибали старые книги, в Кремле сохраненные, и оказалось, что считал себя Пожарский старше Лыковых на четыре места. А Салтыковы Лыковых старше на много мест.
Прошло тридцать лет. Было то в самый Николин день, в сентябре. Вот сидит Дмитрий Михайлович у себя в Мугрееве, над рекой Лухой. Кругом леса, болота, пески красные. Глушь!
Тридцать лет прошло, а обида не прошла.
«… И вели меня, Дмитрия Пожарского-Стародубского, через город приставы. А на лошадь садиться не давали. И привели к Салтыкову на двор. Двор новый. Старый он изменой спалил. И поставили меня на нижнем крыльце, а дьяк Борьку Салтыкова вызвал. И учал дьяк речь говорить, что государь, говоря с бояры, велел боярин князь Дмитрия Пожарского за бесчестье боярина Бориса Михайловича Салтыкова выдать Борису головой и в разряде то велено записать. А Бориска, на верхней ступени стоючи, на царском жалованье бил челом, а я, князь Дмитрий, на дворе стоя, бесчестил Бориску и говорил ему про его измены. А он на мои слова смеялся. И шел я с его изменного двора пешком. И все то записано в разрядах…»
Сидит в своем саду Дмитрий Михайлович. Деревья пожелтели, рябина красна. В разрывах между деревьями видны длинные желтые поля, и дальние сосновые леса, и пески, и голубая река Луха. Высокий сад у Пожарского.
Роду бесчестье записано в разряды.
Миныч помер давно. Не найдешь, не скажешь ему, что случилось. Тогда он сердце утишил, а сердце болит, в сердце обида записана.
Не поговоришь с Минычем. Помер, давно помер. Умер, людишек своих освободил, с хлебом стоячим, земляным и амбарным, отпустил на волю.
А он, Дмитрий Михайлович, у себя в Мугрееве сидит, забытый. Только и славы осталось, что собор Казанский, на Пожаре построенный. До тех мест гнал он врагов на московском разорении.
Пора в монастырь идти, схиму принять. И имя выбрал князь: Козьмой будут его в схиме звать, Миныча именем.
Идет Дмитрий Михайлович из сада в поле. Рожь везут.
В такую осень под Москвой бились. Хороша была битва под Москвой!
А крестьян Иосифового монастыря, что Жигимунда разбили, с женами и детьми, с хлебом стоячим и земляным отдали на старые жеребья – монахам пахать по-прежнему.
И бегут люди на Дон, к рыбам и зверям.
Кабы забыть обиду и раны!
Когда моложе был, все деньги, что заслужил за службу, отдал палатному мастеру, поставил на Красной площади собор Казанской божьей матери на вечную память. А лучше было бы поставить собор на вечные обиды забвенье!
На пожне лежит хлеб обломанный, забытный.
Съесть хорошо такой хлеб – покойница мать говорила. Забыть, быть стариком, как все, сидеть на солнышке, не вспоминать боя у Зарайска, и боя под Москвой, и славного города Ярославля.
– Не ешь, боярин, – сказал старый мужик, разгибая спину и выходя из высокой ржи.
– Здравствуй, Роман!
– Не ешь, боярин! Тот хлеб не забытный. Я его положил для прохожих людей, холопов беглых, скоморохов и иного люда, что идут мимо наших мест на Волгу и Дон. Страннический тот, боярин, хлеб, а не забытный. Нам с тобой, боярин, нечего забывать. Пускай Хвалов забывает. Жив, гадюка! В Суздали кабак держит, забогател! А нам забыть нельзя… Я, князь, знамя наше в избу унес, в избе держу, у образов. Раскроена была Россия. А мы сшили. Сшили крепко.
1939 г.
Примечания
1
Число часов было разное – судя по долготе дня.
(обратно)2
Седьмого ноября нового стиля.
(обратно)

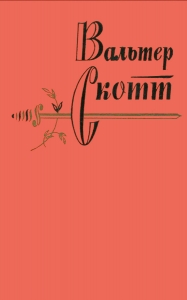
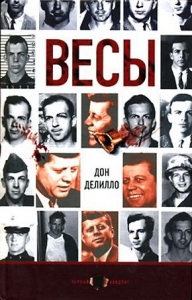
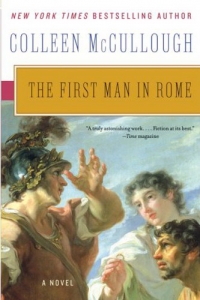
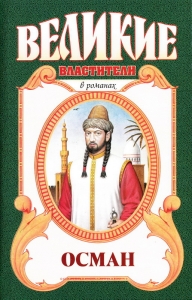
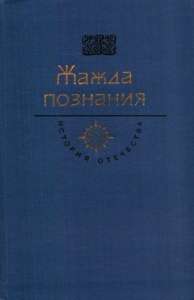
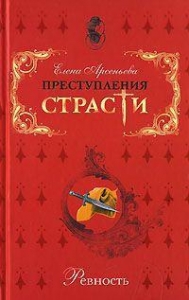
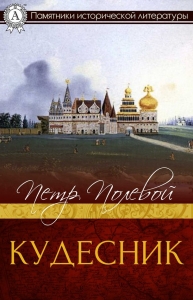
Комментарии к книге «Минин и Пожарский», Виктор Борисович Шкловский
Всего 0 комментариев