Энн Райс Иисус: Возвращение из Египта
Кристоферу
Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова — из народа иноплеменного,
Иуда сделался святынею Его, Израиль — владением Его.
Море увидело и побежало; Иордан обратился назад.
Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.
Что с тобою, море, что ты побежало, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад?
Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?
Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,
превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.
Псалом 1131
Мне было семь лет. Много ли знаешь, когда тебе семь? Всю жизнь — по крайней мере, так мне казалось — мы жили в Александрии, на улице Плотников, вместе с другими галилеянами и рано или поздно собирались вернуться на родину.
День клонился к вечеру. Мы играли, его ватага против моей, и когда он, здоровяк и вечный задира, в очередной раз налетел на меня и сбил с ног, я вдруг почувствовал исходящую откуда-то изнутри силу и крикнул:
— Ты никогда не дойдешь туда, куда идешь!
Он побелел и упал на песчаную землю, все столпились вокруг. Жарко светило солнце. Я смотрел на его обмякшее тело и тяжело дышал.
Вдруг все попятились. Улица примолкла, только издалека доносился стук молотков. Не помню, чтобы здесь когда-нибудь было так тихо.
— Он умер! — сказал Маленький Иосий.
И по толпе покатилось:
— Умер, умер, умер…
Я знал, что это правда. Мой противник безвольной кучкой лежал на пыльной дороге. Внутри меня сделалось пусто. Извергнувшаяся сила забрала с собой все и исчезла.
Тут выскочила его мать, и ее крик заметался между домами, переходя в вой. К нам отовсюду побежали женщины.
Мама подхватила меня на руки и бегом понесла с улицы прочь, во двор и дальше, в полумрак нашего дома, где уже столпились мои двоюродные братья и сестры. Иаков, мой старший брат, плотно задернул за нами занавеску и, повернувшись спиной к свету, сказал:
— Это Иисус. Он убил его.
Ему было страшно.
— Не смей так говорить! — воскликнула мама. Она прижала меня к себе так крепко, что я едва дышал.
От шума проснулся Большой Иосиф.
Вообще-то Большой Иосиф считается моим отцом, потому что он женился на маме, но я никогда не называю его папой. Меня приучили называть его по имени, не знаю почему.
Он спал на циновке. В тот день мы работали в доме Филона, а после обеда, когда стало совсем жарко, Иосиф и остальные мужчины прилегли отдохнуть. Он приподнялся на локте и спросил:
— Что там за шум снаружи? Что случилось?
Он смотрел на Иакова, своего сына от первой жены, которая умерла до того, как Большой Иосиф женился на маме.
— Иисус убил Елеазара, — повторил Иаков. — Он проклял его, и тот упал замертво.
Судя по крикам, на улице собиралось все больше людей. Сонный Иосиф смерил меня непонимающим взглядом, потом не торопясь поднялся и пригладил ладонями свои густые курчавые волосы.
В дверь по одному прошмыгивали младшие и собирались вокруг нас.
Маму била дрожь.
— Мой сын не мог этого сделать, — проговорила она. — Он никогда бы так не поступил.
— Я сам видел, — возразил Иаков. — И еще я видел, как он слепил из глины воробьев в день отдохновения. Учитель сказал ему, что в субботу этого делать нельзя, а Иисус посмотрел на них, и они ожили. А потом улетели. Ты же сама видела. Он убил Елеазара, мама, я не вру.
В сумраке комнаты лица братьев и сестер казались белыми пятнами. Маленький Иосий, Иуда, Маленький Симеон и Саломея — все внимательно следили за происходящим, боясь, что в любой момент их могут прогнать. С Саломеей мы были одногодки и очень дружили. Я относился к ней как к родной сестре.
Потом пришел мамин брат Клеопа, из взрослых он больше других любил поговорить. Он был отцом собравшихся в доме двоюродных братьев и сестер, за исключением Большого Силы, который как раз входил в комнату. Сила был даже старше Иакова. Вслед за ним появился и его брат Левий. Они оба тоже хотели знать, что происходит.
— Иосиф, там все собрались, — сказал Клеопа. — Йонатан бар Заккай и его братья говорят, что Иисус убил их мальчика. Они завидуют нам, потому что мы получили работу в доме Филона и еще одну работу перед этим, они завидуют, что мы получаем все больше и больше заказов, им кажется, что они бы выполнили их лучше нас…
— Так мальчик мертв? — спросил Иосиф. — Или он жив?
Саломея подскочила ко мне и шепнула:
— Оживи его поскорей, Иисус, ты ведь оживил птичек!
Маленький Симеон засмеялся. Не думаю, что он понимал, о чем идет речь. Маленький Иуда догадывался, по ничего не говорил.
— Хватит, — сказал Иаков, вечно командующий нами, младшими детьми. — Саломея, веди себя тихо.
Я прислушался: с улицы доносились сердитые крики и еще какие-то звуки. Это камни ударялись о стены нашего дома. Мама тихо заплакала.
— Да как они смеют! — крикнул дядя Клеопа и выбежал из дома. Иосиф последовал за ним.
Я вывернулся из маминых рук и, прежде чем она успела поймать меня, юркнул вслед за дядей и Иосифом, прямо в толпу соседей, которые ожесточенно жестикулировали, кричали, махали кулаками. Я помчался так быстро, что они даже не заметили меня. Я как рыба нырял в громкоголосые скопления людей и выныривал, пока не оказался возле дома Елеазара.
В доме все женщины стояли спиной к двери, поэтому никто не видел, как я прокрался внутрь.
В комнате, где он лежал, было темно. Его мать склонилась на плечо сестры и тихо всхлипывала. Горела всего одна лампа, очень слабая.
Бледный Елеазар с вытянутыми вдоль тела руками покоился на циновке. На нем была та же туника, в которой он играл на улице, и ноги были грязными. Он был мертв. Между приоткрытых губ белели зубы. Вошел врач-грек — на самом деле он был евреем — и склонился над Елеазаром. Осмотрев тело, он покачал головой. Потом увидел меня и приказал:
— Вон отсюда.
Мать Елеазара обернулась и вновь заголосила. Я склонился над умершим.
— Просыпайся, Елеазар, — шепнул я. — Просыпайся.
Я протянул руку и положил ладонь ему на лоб. Из меня полилась сила. Голова закружилась так сильно, что я закрыл глаза, но услышал, как он сделал вдох.
Его мать все кричала и кричала, так что заболели уши. Ее сестра кричала. Все женщины в доме кричали.
От накатившей слабости я осел на пол. Врач-грек пристально смотрел на меня сверху вниз. Я очень плохо себя чувствовал. В темную комнату набивались все новые люди.
Елеазар очнулся и, не успел еще никто ничего понять, бросился на меня с кулаками, изо всех сил молотя по голове, по бокам, пиная снова и снова.
— Сын Давида, сын Давида! — дразнил он. — Сын Давида, сын Давида! — и бил в лицо и под ребра, пока наконец его отец не подхватил драчуна на руки.
Мне было так больно, что я не мог дышать.
— Сын Давида! — верещал Елеазар.
Кто-то поднял меня и вынес из дома на улицу. От боли я все не мог как следует вдохнуть. Мне казалось, что кричит вся улица, еще громче, чем раньше: кто-то вопил, что сюда идет учитель, дядя Клеопа ругался по-гречески на Йонатана, отца Елеазара, Йонатан орал в ответ, а Елеазар все не умолкал:
— Сын Давида, сын Давида!
Оказалось, меня нес Иосиф. Он старался побыстрее вернуться домой, но толпа не пускала его. Клеопа толкнул отца Елеазара, тот попытался ударить Клеопу, но другие мужчины схватили его за руки. Крики Елеазара доносились уже откуда-то издалека.
Наконец раздался голос учителя:
— Этот мальчик явно не умер. Успокойся же, Елеазар. Кому в голову могло прийти, что этот крикун мертв? Елеазар, замолчи! Разве можно спутать его с мертвецом?
— Он оживил его, вот что он сделал, — объяснил ему кто-то из родни Елеазара.
Мы вошли в наш двор, и вся толпа двинулась за нами. Мой дядя и родня Елеазара по-прежнему ругались, а учитель призывал всех к порядку.
Вскоре к нам присоединились еще два моих дяди: Алфей и Симон, братья Иосифа. Они подняли руки, успокаивая толпу. Их рты были плотно сжаты, глаза широко раскрыты.
Мои тети, Саломея, Есфирь и Мария, тоже были здесь, а вокруг них прыгали и бегали их дети, как будто на празднике. Только старшие из мальчиков, Сила, Левий и Иаков, молча стояли вместе с мужчинами.
А потом я ничего не видел, потому что оказался на руках у мамы, и она унесла меня в дом. Там царил сумрак. Тетя Есфирь и тетя Саломея пошли с нами. В стену ударилось еще несколько камней. Я услышал, как учитель возвысил голос, говоря что-то по-гречески.
— У тебя на лице кровь, — прошептала мама. — Прямо на глазу, много крови. Тебе разбили лицо! — Она плакала. — Что они сделали с тобой! — причитала она на арамейском, нашем родном языке. Обычно мы нечасто говорили на нем.
— Мне не больно, — возразил я, имея в виду, что это не важно.
Вокруг нас сгрудились мои двоюродные братья и сестры, и впереди всех — улыбающаяся Саломея. Ее сияющее лицо будто говорило мне, что она знала, что я смогу оживить Елеазара. Я поймал ее ладошку и крепко сжал в своей руке.
Но Иаков смотрел на меня все так же мрачно.
Пятясь, с поднятыми руками с улицы в дом вошел учитель. Кто-то сорвал занавеску, и стало очень светло. Один за другим в дом возвратились Иосиф и его братья, за ними — Клеопа. Нам пришлось подвинуться, чтобы всем хватило места.
— Мы же говорим об Иосифе! О Клеопе и Алфее! Неужели вы хотите их прогнать? — обращался к толпе учитель. — Они прожили с нами семь лет!
Разъяренная семья Елеазара напирала на него, заставляя отступать в глубь комнаты. Отец Елеазара протиснулся в дом.
— Да, семь лет! Пора уже и честь знать! Пусть убираются в свою Галилею, все до одного! — кричал Йонатан. — Семь лет — это слишком долго. Их мальчишка одержим дьяволом! И верьте мне, когда я говорю, что мой сын был мертв!
— А ты жалуешься, что он жив? В этом дело? — воскликнул дядя Клеопа.
— Сумасшедший какой-то! — добавил дядя Алфей.
Так они и продолжали кричать и поносить друг друга, сжимая кулаки, а женщины кивали и бросали друг на друга злобные взгляды. К ссоре присоединялись все новые и новые слушатели из задних рядов.
— О, да разве можно так говорить! — покачал головой учитель, совсем как в Доме учебы. — Иисус и Иаков мои лучшие ученики. А эти люди ваши соседи. Почему вы их возненавидели? Прислушайтесь к своим словам!
— Ах, ученики! Ваши драгоценные ученики! — возмущался отец Елеазара. — Нам надо жить и работать. В жизни есть более важные занятия, чем учеба!
Еще несколько человек пробилось в комнату. Моя мама прижалась к стене, не отпуская меня. Я хотел убежать, но не мог. Потому что она очень боялась.
— Да-да, именно, работа! — перебил его дядя Клеопа. — И кто это сказал, что нам нельзя здесь жить? Что значит: выгнать нас отсюда? Это все потому, что нам дают работу, а вам нет, просто мы лучше ее делаем…
Внезапно Иосиф поднял руку и громко крикнул:
— Тихо!
И все замолчали. Вся эта толпа народу притихла. Никогда раньше Иосиф не повышал голоса.
— Господь да пристыдит вас за эту ссору! — сказал Иосиф. — Вы сломаете стены моего дома.
Никто не отозвался. Все молча смотрели на него. Елеазар остановился у самой двери и замер, подняв глаза. И учитель молчал.
— Елеазар жив, — продолжал Иосиф. — А мы — мы возвращаемся домой в Галилею.
И вновь ответом ему была тишина.
— Мы отправимся в Святую землю, как только закончим начатые работы. Если нам предложат что-нибудь еще, мы передадим новые заказы вам, если вы не будете возражать, а затем попрощаемся.
Отец Елеазара вытянул шею, потом кивнул и развел руками. Затем пожал плечами, постоял, склонив голову, развернулся и пошел прочь. Его люди тоже стали расходиться. Елеазар посмотрел на меня и вслед за остальными покинул наш дом.
Вскоре двор опустел, и тетя Мария, египтянка, на которой женился Клеопа, попыталась приладить занавеску на место.
В доме теперь оставалась только наша семья и учитель. Учитель был недоволен. Он смотрел на Иосифа и хмурился.
— Возвращаетесь на родину? — спросил учитель. — И забираете с собой моих лучших учеников? Забираете моего Иисуса? А что вы найдете на родине, позвольте спросить? Там вас ждет земля, полная молока и меда?
— Ты смеешься над нашими предками? — нахмурился дядя Клеопа.
— Или насмехаешься над самой Святой землей? — подхватил дядя Алфей. Он говорил по-гречески так же хорошо, как учитель.
— Я ни над кем и ни над чем не насмехаюсь, — ответил учитель, взглянув в мою сторону, — но мне непонятно, как можно покинуть Египет из-за какой-то мелкой ссоры с соседями.
— Эта ссора здесь совершенно ни при чем, — сказал Иосиф.
— Тогда почему? Иисусу здесь отлично живется. Да что там, сам Филон восхищается его успехами, и Иаков прекрасный ученик, и…
— Да, но ведь это не Израиль, верно? — перебил его Клеопа. — И наш дом не здесь.
— Верно. И учите вы наших детей на греческом языке, и Священное Писание читаете по-гречески! — горячился Алфей. — Вечерами мы учим их ивриту, которого ты, учитель, не знаешь, а Дом учебы здесь греческий. А Филон — что Филон? Да, он и его друзья дают нам работу, и это очень хорошо. Мы неплохо здесь жили, и мы благодарны ему за все, но он тоже говорит и читает на греческом языке и удивляется тому, что наши мальчики знают столько всего на греческом…
— Весь мир сейчас говорит по-гречески, — возразил учитель. — Евреи в каждом городе империи говорят и читают Писание по-гречески…
— В Иерусалиме не говорят по-гречески! — выкрикнул Алфей.
— В Галилее мы читаем Священное Писание на иврите, — добавил Клеопа. — А вот ты на нашем языке ни слова не знаешь, а еще учитель!
— Ох, как же я устал от ваших обвинений! И почему я мирюсь с вами? Возвращаетесь в какую-то грязную деревню и забираете с собой мальчиков! Бросаете ради этого Александрию!
— Да, бросаем, — сказал дядя Клеопа, — только не ради какой-то грязной деревни, а ради дома моего отца. Так знаешь ты хоть одно слово на иврите? — И он пропел на иврите свой любимый псалом, которому давно научил и нас: — «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Ну, знаешь ли ты, что это значит, а?
— А сам ты знаешь, что это значит? — выпалил учитель. — Я бы хотел послушать твои объяснения. Ты знаешь только то, чему научил тебя писец в твоей синагоге. Тебе еще повезло, что ты смог выучиться греческому языку, чтобы спорить здесь со мной. Да что вы вообще знаете, упрямые евреи? Пришли в Египет в поисках убежища, а уходите такими же твердолобыми, какими были.
Мама никак не могла успокоиться. Учитель снова обратил свой взгляд на меня:
— Забираете от меня такого ребенка, такое сокровище…
— А что, у нас, по-твоему, есть иной выход? — спросил Алфей.
— О нет, не надо спрашивать такое… — прошептала мама. Она очень редко выражала свое мнение вслух.
Иосиф поглядел сначала на нее, потом на учителя.
— Всегда одно и то же, — протяжно вздохнул тот. — Во времена невзгод вы приходите в Египет. Отбросы Палестины всегда оказываются…
— Отбросы! — воскликнул Клеопа. — Ты называешь наших предков отбросами?!
— И они тоже не говорили по-гречески, — вставил Алфей.
Клеопа рассмеялся:
— Как и Господь на горе Синай!
Дядя Симон тихо заметил:
— И первосвященник в Иерусалиме, возлагая руки на жертвенного козла, вероятно, забывает перечислить наши прегрешения на греческом.
Теперь засмеялись все, и старшие братья, и даже тетя Мария. Только мама все плакала. Я должен был оставаться рядом с ней.
Иосиф улыбнулся.
А учитель сердился, продолжая:
— …Если случился голод, все идут в Египет; если нет работы, все идут в Египет; если Ирод устраивает кровавую бойню, снова все идут в Египет, как будто царя Ирода хоть сколько-нибудь волнует судьба горстки галилейских евреев вроде вас! Кровавая бойня, ха! Как будто…
— Хватит, — сказал Иосиф.
Учитель замолчал. Все мужчины уставились на него. Никто не проронил ни слова. Все замерли.
Что случилось? Что такого сказал учитель? «Кровавая бойня». Что это такое?
Иаков нахмурился так же, как взрослые мужчины.
— Вы думаете, что люди об этом не говорят? — нарушил молчание учитель. — Хотя я не верю россказням всяких бродяг.
Ему никто не ответил. Потом заговорил Иосиф.
— Господь дал нам терпение! — сказал он. — Но мое терпение кончилось. Мы возвращаемся, потому что там наш дом. — Иосиф не сводил взгляда с учителя. — И потому что это земля Господня. И потому что Ирод мертв.
Последние слова Иосифа повергли учителя в изумление. Все остальные тоже очень удивились. Даже мама удивилась, и я заметил, как переглядываются между собой женщины.
Мы, дети, знали, что Ирод царь Святой земли и что он плохой. Вот и совсем недавно он совершил ужасную вещь — осквернил храм. По крайней мере, так мы поняли из разговоров взрослых, хотя подробностей нам не рассказывали.
Учитель вопросительно смотрел на Иосифа.
— Иосиф, мудрый человек таких слов не скажет. О царе так говорить нельзя.
— Он мертв, — повторил Иосиф. — Сообщение о его смерти придет сюда через два дня.
Учитель строго прищурился. Остальные молчали, уставившись на Иосифа.
— Откуда тебе это известно? — спросил Иосифа учитель.
Ответа он не получил. Вместо этого Иосиф заговорил о другом:
— Нам надо будет многое сделать перед отъездом. С завтрашнего дня мальчикам придется работать с нами весь день. Боюсь, в школу они больше не пойдут.
— Что скажет Филон, когда узнает, что вы забираете с собой Иисуса? — продолжал расстраиваться учитель.
— Какое дело Филону до моего сына?
Это заговорила мама. Ее слова снова вынудили всех замолчать. Я понимал, что здесь все очень непросто.
Некоторое время назад учитель отвел меня к Филону, богатому и ученому человеку, чтобы показать ему своего лучшего ученика. Филону я так понравился, что он даже взял меня с собой в Великую синагогу, такую же большую и красивую, как языческие храмы в городе. В Великой синагоге собирались в день отдохновения все богатые евреи; наша семья никогда туда не ходила. Мы ходили в маленький молитвенный дом на нашей улице.
Вот после того, как Филон познакомился со мной, он и стал поручать нам работу в своем доме: например, просил сделать деревянные двери, или скамейки, или книжные полки для новой библиотеки. А вскоре и его друзья стали давать нашей семье работу, что означало хороший и постоянный заработок.
Когда меня приводили к Филону, он обращался со мной как с гостем.
И даже сегодня, когда мы устанавливали новые двери и переносили свежеокрашенные скамейки из мастерской в дом Филона, я видел его, он специально подходил к Иосифу, чтобы похвалить меня.
Но говорить о том, что Филон полюбил меня, было неправильно, и я чувствовал, что слова учителя неприятны взрослым. Они работали на Филона и его друзей, работали много и тяжело.
Учитель не ответил моей маме.
Наконец Иосиф произнес:
— Разве Филона удивит известие о том, что мой сын возвращается со мной на родину, в Назарет?
— Назарет? — холодно переспросил учитель. — Что за Назарет? Никогда не слышал о таком городе. Вы пришли сюда из Вифлеема. Ваши ужасные истории о том, почему вы… Филон считает, что Иисус — самый многообещающий ученик из всех, что ему встречались. Если ты позволишь, он даст твоему сыну отличное образование. Вот какое дело Филону до твоего сына. Филон сам говорил, что он позаботится об этом…
— Филону нет никакого дела до нашего сына, — сказала мама, вновь поразив всех. Ее пальцы стискивали мои плечи.
Не бывать мне больше в доме с мраморным полом. Не сидеть в библиотеке с пергаментными свитками. Запах чернил. Греческий язык — язык всей империи. Знаешь, что это? Это карта империи. Подержи вот этот край, чтобы свиток не скручивался. Смотри. Всеми этими землями правит Рим. Вот он где, Рим. А это Александрия. Вот Иерусалим. Смотри, вот Антиохия, Дамаск, Коринф, Эфес. Это все великие города, и в них живет много евреев, которые говорят по-гречески и учат Тору на греческом языке. После Рима самый большой город — Александрия, и мы с тобой живем здесь.
Я вернулся из воспоминаний к настоящему. На меня пристально смотрел Иаков. Учитель обращался ко мне:
— …Тебе ведь нравится Филон, правда? И нравится отвечать на его вопросы. И ты любишь заниматься в его библиотеке.
— Мой сын останется с нами, — спокойно сказал Иосиф. — Мы не отдадим его Филону.
Учитель продолжал смотреть на меня. Это было неправильно.
— Иисус, говори! — потребовал он. — Ты хочешь, чтобы Филон учил тебя и дальше, да?
— Господин мой, я сделаю так, как скажут мне родители, — ответил я. И пожал плечами. Что я мог изменить?
Учитель отвернулся и всплеснул руками.
— Когда вы отправляетесь? — спросил он.
— Как только сможем, — ответил Иосиф. — Сначала надо закончить работу.
— Я передам Филону, что Иисус уезжает.
С этими словами учитель направился к выходу, но Иосиф остановил его.
— Мы хорошо заработали, живя в Египте, — сказал Иосиф. Он вынул из своей сумки деньги и вложил их в руку учителя. — Благодарю тебя за то, что ты учил наших детей.
— Да, я их учил, а теперь ты забираешь их в… Как называется это место? Иосиф, в Александрии евреев больше, чем в Иерусалиме.
— Может, и так, учитель, — вмешался Клеопа, — но Господь обитает в храме Иерусалимском, и его земля — это Святая земля.
Все мужчины одобрительно засмеялись, и женщины тоже, и я засмеялся вместе с Саломеей и Иудой, Иосием и Симеоном.
Учитель ничего не смог возразить на это, только кивнул.
— Если мы сможем быстро закончить работу, — продолжил Иосиф, — то успеем в Иерусалим на празднование Песаха.
Его слова утонули в радостных криках. Иерусалим. Песах. Все были в восторге. Саломея захлопала в ладоши. Дядя Клеопа улыбался.
Учитель склонил голову. Он приложил к губам два пальца. А потом благословил нас:
— Да пребудет с вами Господь. Да будет ваше путешествие быстрым и безопасным.
Учитель ушел.
И тут же вся семья заговорила на нашем родном языке — впервые за несколько последних часов.
Мама осмотрела меня, собираясь заняться моими порезами и ушибами.
— Ой, от ран и следа не осталось, — прошептала она удивленно. — Ты здоров.
— Да почти ничего и не было, — улыбнулся я.
Я был так счастлив, что мы возвращаемся домой.
2
В тот вечер, после ужина, когда мужчины дремали на циновках во дворе, пришел Филон.
Иосиф предложил ему выпить вина, и Филон сел, не боясь запачкать свои белые одежды, и скрестил ноги, как все мужчины. Я устроился рядом с Иосифом, надеясь на разрешение внимать их беседе, но мама забрала меня в дом.
Однако сама она, прислушиваясь, замерла у занавески и разрешила мне стоять возле нее. Тетя Саломея и тетя Есфирь тоже были с нами.
Филон хотел оставить меня у себя, чтобы выучить и затем отправить к Иосифу уже образованным юношей. Иосиф молча выслушал предложение Филона, а потом отказался. Он мой отец, и он должен вернуть меня на родину, в Назарет. Он знает, что таков его долг. Потом Иосиф поблагодарил Филона и предложил еще вина и сказал, что позаботится о том, чтобы я получил хорошее образование, подобающее еврейскому мальчику.
— Ты забываешь, мой господин, — негромко пояснил он, — что в субботу по всему миру все евреи становятся философами и учеными. И в Назарете в том числе.
Филона порадовали такие слова, он кивнул и улыбнулся.
— По утрам он будет ходить в школу, как все мальчики, — продолжал Иосиф. — И мы будем обсуждать с ним Писание и пророков. Мы обязательно пойдем в Иерусалим, и там, во время празднований, он сможет послушать учителей храма, как доводилось слушать не раз и мне.
Филон захотел сделать подарок — дать деньги на мое обучение — и попытался вложить в руку Иосифа кошель с деньгами, но Иосиф отказался.
После этого Филон не торопился уходить. Вместе с Иосифом они поговорили о самых разных вещах: о городе, о работе, которую выполняли наши мужчины, и об империи. Потом Филон спросил, откуда Иосиф узнал о смерти царя Ирода.
— Эта новость скоро дойдет и до Александрии, — сказал Иосиф. — Что же до меня, то я получил известие во сне, мой господин. А это означает, что нам пора возвращаться.
Мои дяди, которые все это время тихо сидели в темноте, подошли к беседующим и горячо поддержали Иосифа. О царе Ироде они отзывались очень плохо. Странные слова учителя о кровавой бойне все не выходили у меня из головы, но на этот раз о ней речи не было, и вскоре Филон решил, что пора уходить.
Он поднялся, из вежливости не отряхнув пыль с полотняных штанов, многократно поблагодарил Иосифа за хорошее вино и пожелал нам доброго пути.
Я выскочил из дома вслед за ним. Мне хотелось пройтись немного с Филоном. Его сопровождали два раба с факелами, и никогда раньше улица Плотников так ярко не освещалась в ночное время. Я знал, что изо всех дворов, где соседи отдыхали в вечерней прохладе, приносимой бризом со стороны моря, за нами внимательно наблюдают.
Филон сказал, чтобы я всегда помнил Египет и карту империи, которую он мне показывал.
— А почему все евреи не возвращаются в Израиль? — спросил я его. — Если мы евреи, разве не должны мы жить на земле, которую дал нам Господь? Я не понимаю.
Он задумался.
— Еврей может жить где угодно и по-прежнему оставаться евреем, — произнес он немного погодя. — У нас есть Тора, пророки и традиция. Мы живем, как положено жить евреям, где бы мы ни находились. И разве не несем мы с собою Слово Единого Истинного Бога, куда бы мы ни шли? Разве не распространяем Его Слово среди язычников, где бы мы ни жили? Я живу здесь, потому что мой отец жил здесь и его отец жил здесь. Ты возвращаешься на родину, потому что твой отец хочет этого.
Мой отец.
По моему телу побежали мурашки.
«Иосиф не отец мне».
Я всегда это знал, но понимал, что говорить это никому нельзя. И сейчас промолчал. Только кивнул.
— Не забывай меня, — попросил Филон.
Я поцеловал его руку, и он склонился ко мне и расцеловал в обе щеки.
Он пошел домой, где его, вероятно, ждал изысканный ужин в окружении мраморных полов и ламп, богатых занавесей и открытых веранд на верхнем этаже, откуда видно было море.
Филон обернулся один раз и помахал мне рукой, а потом и он, и его слуги с факелами скрылись из виду.
Мне стало грустно, но только на миг — грусть длилась ровно столько, чтобы я навсегда запомнил ее, и тут же растаяла. Я был так счастлив, что мы возвращаемся в Святую землю!
И я заторопился домой.
В темноте я приблизился к нашему двору и услышал, что там кто-то плачет. Оказалось, это мама, она сидела рядом с Иосифом.
— Но почему мы не можем поселиться в Вифлееме? — говорила она. — Мне кажется, нам следует идти туда.
Вифлеем. Там я родился.
— Никогда, — ответил Иосиф. — Мы даже думать не должны об этом. — Как всегда, он был с ней ласков. — Как тебе это только пришло в голову — вернуться в Вифлеем?
— Я все это время надеялась… — всхлипнула мама. — Прошло уже семь лет, и люди наверняка все забыли, а ведь большинство из них даже и не поняли ничего…
Дядя Клеопа тихо смеялся, лежа неподалеку на спине. Он надо всем так смеялся. А вот дядя Алфей молчал. Он, кажется, смотрел на звезды. Я заметил, что в дверях стоит Иаков и внимательно слушает разговор.
— Вспомни обо всех знамениях, — продолжала уговаривать Иосифа мать. — Вспомни о той ночи, когда пришли люди с востока. Да ведь одно только это…
— Вот именно, — перебил ее Иосиф. — Ты думаешь, такое могло забыться? Нет. И мы никогда не сможем вернуться туда.
Клеопа снова засмеялся.
Ни Иосиф, ни мама не обращали на Клеопу никакого внимания. Иосиф обнял маму за плечи.
— Они вспомнят звезду, — прошептал он, — вспомнят пастухов, спустившихся с холмов. Они вспомнят людей с востока. А самое главное, они вспомнят ночь, когда…
— Не говори об этом, прошу тебя, — взмолилась мама и закрыла уши ладонями. — Пожалуйста, не говори.
— Разве ты не понимаешь, что мы должны взять его и идти в Назарет? У нас нет выбора. И кроме того…
— Какая звезда? Какие люди с востока? — не сдержал я любопытства. Я просто не мог больше молчать. — Что тогда случилось?
И вновь тихо-тихо засмеялся дядя Клеопа. Мама взглянула на меня. Она не знала, что я вернулся.
— Все хорошо, не волнуйся, — сказала она.
— Что случилось в Вифлееме? — повторил я.
Иосиф внимательно посмотрел на меня.
— Наш дом в Назарете, — произнесла мама громким уверенным голосом. — В Назарете у тебя братьев и сестер больше, чем ты можешь сосчитать. Старая Сарра ждет нас, и Старый Юстус. В той общине почти все наша родня. Мы вернемся в наш дом. — Она встала и поманила меня за собой.
— Да, — поддержал ее Иосиф. — Мы отправимся, как только будем готовы. Возможно, на сборы у нас уйдет несколько дней, но мы успеем в Иерусалим к Песаху, а потом двинемся дальше, в Назарет.
Мама взяла меня за руку и повела в дом.
— А кто такие люди с востока, мама? — упирался я. — Расскажи!
Дядин смех все не стихал, и даже в темноте я заметил странное выражение на лице Иосифа.
— Как-нибудь вечером я все тебе расскажу, — пообещала мне мама. Ее слезы высохли. Для меня она всегда была сильной, только рядом с Иосифом становилась как дитя. — А пока не задавай этих вопросов. Еще рано. Я сама все тебе расскажу, когда придет время.
— Верно, — кивнул Иосиф. — Я не хочу, чтобы ты спрашивал.
Они оба были нежны со мной, но слова их звучали строго и странно. Все, что они говорили в тот день, было непонятным.
Напрасно я их перебил. Если бы я промолчал, узнал бы больше. Я догадывался: то, о чем они говорили, — великая тайна. А как же иначе? И взрослые, обнаружив, что я слышал их разговор, поняли, что совершили ошибку.
Спать не хотелось. Я лежал на одеяле в ожидании сна, но он все не шел, и это меня радовало. Я никогда не хотел спать, а сегодня к тому же мысли неслись вскачь. Мы возвращаемся домой, надо обдумать все, что произошло за день, и те странные вещи, о которых говорили взрослые.
Да, так что же сегодня случилось? Стычка с Елеазаром и давний случай с воробьями, насколько я его помнил, представлялись мне яркими образами, которые я не мог описать словами. Никогда раньше я не ощущал ничего подобного той силе, что исходила из меня перед тем, как Елеазар умер, и потом, когда он поднялся с циновки. «Сын Давида, сын Давида, сын Давида…»
Мало-помалу все заснули. Женщины спали в своем углу, рядом со мной устроился Маленький Юстус, младший брат Симона. Маленькая Саломея тихонько баюкала крошку Есфирь, которая каким-то чудом не плакала.
Клеопа во сне принимался кашлять, бормотал что-то невнятное, потом снова засыпал.
Неожиданно кто-то тронул меня рукой. Я открыл глаза. Рядом со мной стоял Иаков, мой старший брат.
— То, что ты сегодня сделал… — прошептал он.
— Да?
— Убил Елеазара, а потом оживил его…
— Да?
— Никогда больше так не делай, никогда, — сказал он.
— Хорошо, — ответил я.
— Назарет — маленькое поселение.
— Я знаю.
Он повернулся и скрылся в темноте.
Я перекатился на другой бок, подложил под голову руку, закрыл глаза. Другой рукой я стал поглаживать головку Маленького Юстуса, и он, не просыпаясь, придвинулся ко мне поближе.
Что я знал?
— Иерусалим, — прошептал я. — Там, где в храме пребывает Господь.
Меня никто не слышал. Филон как-то говорил мне, что это самый большой храм в мире. Я вспомнил глиняных птичек, слепленных мной. Я видел, как они ожили, захлопали крыльями, я услышал мамин вздох, крик Иосифа: «Нет!», а потом они улетели, стали точками в небе.
— Иерусалим.
Я видел, как поднимается с циновки Елеазар.
Филон говорил мне в тот день, когда мы впервые встретились в его доме, что храм настолько прекрасен, что посмотреть на него приходят тысячи людей, и язычники, и евреи со всех городов империи, мужчины и женщины, они приходят к храму со всего света, чтобы принести жертву Господу Всевышнему.
Я широко раскрыл глаза. Вокруг меня все спали.
Так что же случилось? Великое преткновение.
Откуда взялась та сила? Осталась ли она во мне?
Иосиф не сказал о происшедшем ни слова. Мама тоже не спрашивала, как я это сделал. И, кажется, о воробьях, что ожили в день отдохновения, мы никогда не вспоминали.
Нет. Со мной никто об этом не говорил. А расспросить сам я не мог. И обсуждать это с чужими недопустимо. И невозможно остаться в Александрии и учиться у Филона в его великолепном доме с мраморными полами.
Надо быть очень осторожным в дальнейшем, ведь я могу ненароком неправильно использовать силу, способную убить Елеазара или оживить.
Да, одно дело радовать взрослых — Филона, учителя и других — быстрыми успехами в учебе; удивлять всех своими познаниями в Писании на греческом языке и на иврите — спасибо Иосифу, дяде Клеопе и дяде Алфею. Но эта сила — совсем другое дело.
Я начинал что-то понимать, но мне пока еще не хватало слов, чтобы выразить это.
Хорошо бы пойти к Иосифу, разбудить его, попросить помочь разобраться во всем. Но я знал, что он велит не спрашивать об этом — как велел не спрашивать про подслушанный нынче вечером разговор. А почему? Потому что эта сила, моя сила, каким-то образом связана с тем, о чем они беседовали и о чем говорил учитель, когда все вдруг замолчали и уставились на него. Да, все это связано.
Мне стало грустно, так грустно, что я чуть не заплакал. Это из-за меня всем приходится уходить отсюда. И хотя мои родные радовались, я чувствовал себя виноватым.
И все это придется держать внутри себя. Но я узнаю, что случилось в Вифлееме. Так или иначе, я узнаю, хотя и должен слушаться Иосифа.
А пока надо понять, что было самой сокровенной тайной в событиях сегодняшнего дня? Что было самым главным? Я понял: нельзя неправильно использовать свои способности. Нельзя неправильно использовать себя.
Меня сковал холод. Я как будто онемел и стал совсем-совсем маленьким. С трудом я натянул на себя одеяло. Сон. Он опустился ко мне, словно ангел.
Надо спать, когда все спят. Надо идти туда, куда все идут. Надо верить, как все верят. Я прекратил бороться со сном и перестал задумываться. Дремота побеждала меня. Мне так хотелось спать, что я уже не мог думать.
Снова закашлялся Клеопа. Он заболевал, и уже не в первый раз. В эту ночь по клекоту в его груди я знал, что болезнь будет тяжелой.
3
Через несколько дней в город пришло известие о смерти Ирода. Галилеяне и иудеи говорили только о ней. Как Иосиф узнал об этом раньше всех? К нам приходил учитель, требуя объяснений, но Иосиф ничего ему не сказал.
Мы работали допоздна, стремясь закончить начатые заказы. Мы доделывали двери, скамьи, арочные проемы, мы строгали, шлифовали, полировали, а потом относили готовые изделия на покраску. Затем надо было забирать их и устанавливать в доме людей, нанявших нас. Эта последняя задача нравилась мне больше всего, потому что я мог увидеть много разных комнат и новых лиц, хотя работать нам полагалось с опущенной головой, не поднимая глаз из уважения к хозяевам. Но все равно я видел кое-что. Узнавал новое.
Домой мы в эти дни возвращались затемно, усталые и голодные. У нас оказалось больше работы, чем рассчитывал Иосиф, но он не хотел покидать Александрию, не выполнив всех своих обещаний. Тем временем мама отправила письмо Старой Сарре и своим двоюродным сестрам, сообщая о нашем возвращении. Писал его под ее диктовку Иаков, а на почту мы сбегали вдвоем. Подготовка к отъезду делала нашу жизнь замечательной.
Соседи, узнав, что мы скоро покинем их, снова стали хорошо к нам относиться. Они приносили нам подарки — маленькие керамические лампы, глиняные чашки, отрезы ткани.
На общем совете семьи было решено, что мы поедем по суше, и запланировали покупку ослов, но в этот момент со своей постели поднялся дядя Клеопа и, натужно кашляя, сказал:
— Я не хочу умереть в пустыне.
Он буквально за пару дней очень побледнел, исхудал и даже не ходил со всеми работать. Больше он ничего не прибавил. Ему никто не ответил.
В итоге нас ожидало морское путешествие. Все понимали, что оно обойдется гораздо дороже, но Иосиф сказал, что так тому и быть. Мы поплывем в порт Ямния и успеем в Иерусалим к празднику, а потом Клеопе станет лучше.
Наконец настало время прощаться. Мы надели лучшие одежды из шерсти, обули на ноги сандалии, взвалили на спину тюки и мешки с вещами. Провожать нас пришла вся улица.
Лились слезы. Даже Елеазар пришел и кивнул мне на прощание, и я кивнул ему в ответ, а потом нам пришлось прокладывать себе дорогу в порт через самую плотную толпу, что я когда-либо видел. Мама подталкивала нас сзади, я схватил Саломею за руку, а Иаков все повторял, чтобы мы держались вместе и никуда не разбегались. Вновь и вновь трубили в трубы глашатаи, призывая один за другим корабли. И наконец раздался сигнал к погрузке на корабль, идущий в Ямнию, и еще один, и еще. Вокруг нас все кричали и махали руками.
— Паломники, — сказал дядя Клеопа. Он снова смеялся, как до болезни. — Весь мир направляется в Иерусалим.
— Весь мир! — взвизгнула Маленькая Саломея. — Ты слышал?
Я засмеялся вместе с ней.
Мы с ней пробирались, проталкивались, протискивались сквозь толпу, вцепившись в свои котомки, а над нашими головами кричали и жестикулировали мужчины, женщины льнули друг к другу, хватали нас за руки, притягивали к себе, и вдруг мы оказались перед сходнями. От неожиданности я чуть не упал в мутную воду.
Никогда раньше нога моя не ступала на доски палубы, и после того, как все наши тюки и мешки были сложены в одном месте, а женщины, взобравшись на них, начали переговариваться друг с другом из-под скрытых покрывалами лиц, мы с Саломеей убежали гулять по кораблю, удостоенные самой важной и строгой гримасы Иакова. Пригибаясь и лавируя между взрослыми, мы пробились к борту, откуда можно было увидеть порт и провожающих, которые махали нам вслед, что-то кричали и переговаривались между собой. Мы прижались к поручням и смотрели, не обращая внимания на то, что сзади нас все время толкали чьи-то животы и спины.
Мы видели, как подняли сходни, как забросили на корабль канаты, как последний матрос запрыгнул на борт и как стала увеличиваться полоса воды между нами и берегом, и вдруг нас качнуло — это корабль вышел в открытое море, и все пассажиры радостно закричали. Я обнял Саломею, и мы засмеялись от радости и от ощущения, что мы плывем.
Мы махали и кричали что-то людям на берегу, которых даже не знали, и они отвечали нам, и я чувствовал, что все вокруг меня полны счастья.
Сначала я думал, что Александрия вот-вот скроется из виду за кораблями и мачтами, но чем дальше мы отплывали, тем лучше я видел город — видел по-настоящему, как никогда раньше, и тихая боль утраты снизошла на меня. Не будь со мной восторженной Саломеи, я не был бы так счастлив. Но она стояла рядом — и я радовался вместе с ней.
Ветер подул сильнее, воздух наполнился чистым и свежим запахом моря, он пропитывал наши волосы и холодил наши лица. Мы в самом деле покидали Египет. Мне хотелось разрыдаться в голос, как маленькому.
Потом все вокруг закричали, чтобы мы смотрели на возвышающийся слева от корабля Александрийский маяк — как будто его можно было не заметить.
С берега я, конечно, много раз любовался на великий маяк. Но теперь мы проплывали совсем рядом с ним — и это ни с чем не могло сравниться!
Все головы были повернуты в одну сторону, люди указывали туда же, и вскоре мы с Саломеей тоже смогли хорошенько его рассмотреть. Он стоял на маленьком острове — гигантский факел, достающий до самого неба. Проплывая мимо, мы взирали на него как на святое чудо, удивленные и зачарованные.
Корабль плыл дальше, и то, что раньше казалось медленным, теперь стало очень быстрым: море бросало нас вверх и вниз, и некоторые женщины от страха плакали.
Люди запевали гимны. Земля таяла вдали. Даже маяк постепенно становился все меньше, пока не пропал из виду.
Толпа путешественников, прижимавшая нас к борту, рассеялась, я обернулся и впервые увидел огромный квадратный парус, наполненный ветром, матросов, тянущих канаты, рулевых у штурвала, паломников, устроившихся на вещах. Я понял, что нам пора возвращаться к родным — нас наверняка уже искали.
Люди пели все громче и громче, и вскоре весь корабль подхватил один гимн, и мы с Маленькой Саломеей тоже присоединились к многоголосому хору, но ветер уносил наши голоса прочь.
Какое-то время мы плутали, пробираясь между чужими людьми, но в конце концов нашли свою семью. Мама и тети пытались шить, стараясь не обращать внимания на ветер, срывающий покрывала с их голов. Тетя Мария сказала, что у дяди Клеопы лихорадка. Он свернулся калачиком и спал под одеялом. Он все пропустил.
Иосиф устроился неподалеку, на одном из сундуков, взятых нами с собой. Он, как всегда, молчал, глядя на синее небо, на мачту и тугие паруса. А вот дядя Алфей вступил в спор с другими пассажирами о трудностях, которые, вероятно, ждали нас в Иерусалиме.
Иаков весь обратился в слух, и скоро я тоже стал прислушиваться, хотя не смел приблизиться к спорящим из-за боязни, что они уйдут, если заметят меня. Мужчины стояли плотной группой и пытались перекричать усиливающийся ветер, еле удерживая взмывающие в воздух накидки, наклоняясь то в одну сторону, то в другую, балансируя на уходящей из-под ног палубе.
Мне нужно было услышать, о чем идет речь, и я рискнул придвинуться к ним. Маленькая Саломея хотела пойти со мной, но ее не пустила мать, и я помахал ей, давая понять, что скоро вернусь и чтобы она подождала меня.
— Говорю вам, это опасно, — произнес по-гречески один из них. Это был высокий мужчина с очень темной кожей, богато одетый. — На вашем месте я бы в Иерусалим не ездил. У меня все иначе, там мой дом, там ждут меня жена и дети. Я должен ехать. Но говорю вам, сейчас не время отправляться в Иерусалим на паломничество.
— Я хочу быть там, — ответил другой, тоже свободно владеющий греческим языком, хотя на вид из небогатых. — Хочу посмотреть, что происходит. Я находился в городе, когда Ирод сжег заживо Матфия и Иуду. — Он кивнул моему дяде. — Теперь хочу увидеть, как Ирод Архелай воздаст всем по справедливости. Люди, которые помогали его отцу, должны быть наказаны. То, как Архелай поведет себя, многое определит.
Я был поражен. О царе Ироде я слышал многое, но ничего не знал о новом царе, его сыне — Ироде Архелае.
— Ну а что же он говорит людям? — спросил дядя Алфей. — Должен же он что-то сказать.
Дядя Клеопа, впервые за время плавания покинувший общество женщин, внезапно перебил его.
— Наверняка он скажет им все, что ему заблагорассудится, — заявил он таким тоном, как будто ему все известно. — Архелаю надо выждать, когда Цезарь признает его царем. Он не может править, пока его власть не подтвердит Цезарь. А до тех пор все его слова — пустой звук. — И мой дядя по обыкновению язвительно засмеялся.
Интересно, что подумали о нем его собеседники?
— Разумеется, он просит людей проявить терпение, — снова заговорил первый мужчина. Греческая речь свободно лилась с его уст, такая же красивая, как речь Филона или нашего учителя. — Ну да, он ждет подтверждения и я от Цезаря и поэтому просит всех подождать. Но толпа не слушает его посланников. Толпа ждать не хочет. Она хочет действия. Она жаждет мести. И, кто знает, может, она ее и получит.
Его слова озадачили меня.
— Вы должны понять, — произнес мужчина в бедных одеждах, более сердитый, чем другие, — что Цезарь не ведает обо всех злодеяниях старого Ирода. Как может Цезарь знать обо всем, что происходит в империи? Говорю вам, виновные должны поплатиться за свои преступления!
— Да, — согласился высокий мужчина, — но не во время же Песаха в Иерусалиме. Там соберутся паломники со всей империи.
— А почему нет? — горячился второй. — Почему не на глазах у всего мира? Может, тогда до Цезаря дойдет, что Ирод Архелай не стоит во главе тех, кто настаивает на воздаянии, кто жаждет возмездия за кровь убиенных.
— А почему царь Ирод сжег тех двух учителей Закона? — Вопрос сорвался с моих губ неожиданно.
Иосиф тут же обернулся ко мне, хотя все это время сидел в глубокой задумчивости, и посмотрел сначала на меня, а потом на спорщиков. Но высокий мужчина, более уравновешенный из двух, уже стал отвечать мне.
— Потому что они повергли наземь золотого орла, которого Ирод водрузил над воротами великого храма, вот почему, — спокойно объяснил он. — В Законе четко говорится: в нашем храме не должно быть изображений живых существ. Ты уже достаточно большой, чтобы знать такие вещи. Разве тебя не учили этому? Конечно, храм построил Ирод, но это совсем не значит, что он может вносить в него изображение живого существа. Стоило ли трудиться стольким людям над возведением храма, если после этого Ирод захотел нарушить Закон и установить на воротах образ орла? Он осквернил храм.
Я понял его, хотя слова его были непростыми. Я поежился.
— Они были фарисеями, те учителя Закона, — продолжал высокий мужчина, не сводя с меня взгляда. — Они привели с собой учеников, чтобы свергнуть орла. И за это Ирод забрал их жизни!
Ко мне подошел Иосиф. Сердитый спорщик обратился к нему:
— Не забирай его, пусть учится. Он должен знать имена Матфия и Иуды. Оба мальчика должны их знать. — Он указал на меня и на Иакова. — Они поступили правильно и справедливо. Они понимали, что за чудовище этот Ирод. Все знали. Вы-то прятались в Александрии, вас это не касалось. — Он посмотрел на моих дядей. — Ну а мы жили с ним и с его злодеяниями. Все пострадали от них, и великие, и ничтожные, говорю вам. Однажды царю Ироду пришло в голову, что родился новый царь, сын Давида, подумать только! И он послал своих солдат за две мили от Иерусалима, в город Вифлеем, чтобы…
— Хватит! — прервал его Иосиф, выставив вперед ладонь, правда, при этом он улыбался и кивал.
Быстро и решительно он отвел меня к женщинам. Иакову он разрешил остаться и слушать разговор дальше. Ветер уносил их слова прочь. До меня не доносилось ни звука.
— Так что же случилось в Вифлееме? — спросил я Иосифа.
— Ты будешь слышать рассказы о деяниях Ирода всю жизнь, — негромко объяснил Иосиф. — Помнишь, что я сказал тебе? Есть некоторые вопросы, которые тебе пока еще рано задавать.
— А мы все равно пойдем в Иерусалим?
Иосиф не ответил.
— Иди, сядь рядом с матерью и другими детьми, — велел он.
Я послушался.
Море разбушевалось не на шутку. Корабль качало и швыряло. Мне сделалось муторно и холодно.
Маленькая Саломея ждала меня. Я втиснулся между ней и мамой и, согревшись, почувствовал себя лучше.
Иосий и Симеон уже заснули на самодельной постели из наших тюков и котомок. Сила и Левий устроились вместе с Илией, племянником жены дяди Клеопы, Марии, который жил с нами. Вместе они рассматривали паруса и снасти.
— О чем говорили взрослые? — поинтересовалась Саломея.
— В Иерусалиме неспокойно. Надеюсь, мы все же туда пойдем, я хочу увидеть его. — Я вспомнил об услышанном и воскликнул восторженно: — Саломея, только подумай, люди со всей империи направляются сейчас в Иерусалим!
— Знаю, — отозвалась она. — Эта поездка — лучшее из всего, что с нами происходило.
— Ага, — выдохнул я. — И еще я надеюсь, что Назарет тоже хорошее место.
Услышав мои слова, мама вздохнула и запрокинула голову, задумавшись.
— Да, сначала тебе надо показать Иерусалим, — печально произнесла она. — А что касается Назарета, то, кажется, такова воля Господня.
— Это большой город? — поинтересовалась Маленькая Саломея.
— Это вовсе не город, — откликнулась мама.
— Не город? — удивился я.
— Деревня, — пояснила она. — Но однажды там побывал ангел.
— Так говорят люди? — воскликнула Маленькая Саломея. — Говорят, что в Назарете бывал ангел? Это правда?
— Люди так не говорят, — сказала мама, — но я знаю, что это правда.
И замолчала. Вот так она всегда: обронит что-нибудь непонятное — и все. После этого сколько ни проси, ни словечка от нее не добьешься.
Вернулся дядя Клеопа, ослабший и кашляющий, улегся на мешки, и тетя накрыла его одеялом.
Он услышал, как мы с Саломеей беседовали об ангеле — мы обсуждали, вдруг нам тоже повезет его увидеть, — и засмеялся своим странным смехом.
— Моя мама говорит, что однажды в Назарет низошел ангел, — сказал я ему. Я надеялся услышать в ответ новые детали этого происшествия. — Мама говорит, что это правда.
Но он лишь смеялся, укладываясь поудобнее на ночь.
— Что бы ты сделал, отец, — спросила его Маленькая Саломея, — если бы своими собственными глазами увидел в Назарете ангела?
— То же самое, что сделала моя возлюбленная сестра, — ответил он. — Послушался бы ангела во всем. — И вновь зазвучал его тихий смех.
Маму эти слова страшно рассердили. Она поглядела на брата. Тетя взяла ее за руку и покачала головой, уговаривая не обращать на Клеопу внимания. Она всегда себя так вела, когда ее муж говорил что-то странное.
Обычно так же поступала и мама, она прощала брату все, но только не в этот раз.
Маленькая Саломея тоже заметила, как нахмурилась моя мама. Это было так удивительно, что я растерялся. Оглянувшись, я увидел Иакова — он уже вернулся и стоял неподалеку. Значит, он тоже все слышал. Меня это очень огорчило. Я не знал, что делать. Один лишь Иосиф сидел спокойно, как всегда, и ничего не говорил, погруженный в свои мысли.
И тут я заметил нечто, на что раньше никогда не обращал внимания, хотя это было так очевидно: Иосиф обычно выполнял все просьбы Клеопы, но не отвечал на его вопросы. Ради Клеопы Иосиф принял решение путешествовать морем, а не сушей. И ради Клеопы мы направлялись сейчас в Иерусалим, хотя там нас могли ожидать опасности. Но Иосиф никогда не реагировал на шутки Клеопы.
А дядя над чем только не смеялся. Он мог засмеяться даже в молитвенном доме, если какая-нибудь история о пророках покажется ему забавной. Его тихий смех подхватывали младшие дети, в том числе и я. Вот так же он веселился над историей про Илию. А когда учитель рассердился, Клеопа стал настаивать, что в ней есть смешные моменты. Он утверждал, что учитель и сам должен это понимать. И потом все мужчины заспорили с учителем о той истории с Илией.
Мама вновь занялась своим шитьем. Ее лицо разгладилось. Она склонилась над отрезом тонкого египетского хлопка. Все выглядело так, как будто ничего не произошло.
Капитан судна громким голосом отдавал все новые и новые команды матросам. Казалось, они не знали ни минуты отдыха.
Я понимал, что сейчас мне лучше помолчать.
Вокруг нас блестело и сверкало море, благословенное море, под нами вздымался и падал с волн корабль, неся нас вперед, некоторые семьи пели гимны, знакомые нам, и мы от всей души принялись подпевать…
Зачем ломать голову над этими загадками?
Мы плывем в Иерусалим.
4
К тому времени, когда корабль прибыл в небольшой стары и порт Ямния, даже Маленькая Саломея и я устали от непрерывной качки. В порт заходили только корабли с паломниками и медлительные грузовые суда. Нам пришлось бросить якорь далеко от земли, потому что бухта оказалась мелкой и каменистой.
До берега мы добирались на маленьких лодках. Мужчины разделились: часть из них заботилась о женщинах в одной из них, а остальные присматривали за детьми в другой. Высокие волны пугали меня, и я боялся выпасть за борт прямо в море. Но все равно был в восторге.
Еще не достигнув суши, мы выпрыгнули прямо в воду и пошли к берегу через пену прилива. Там мы все упали на колени и поцеловали песок от радости, что добрались до Святой земли, а потом, мокрые и дрожащие, заторопились в город, расположенный довольно далеко от порта. Там мы нашли постоялый двор, чтобы отдохнуть.
После корабля заваленное сеном небольшое помещение показалось нам тесным, но никто не обращал внимания на неудобства. И я заснул под споры мужчин, под тихую беседу женщин, под крики и смех все новых и новых паломников, ищущих место для ночлега.
На следующий день возле постоялого двора продавали ослов. Их хватило всем, и мы, попрощавшись с туманным морем, отправились в путь через прекрасную равнину с редкими рощами. Нам предстояло идти к холмам Иерусалима.
Клеопу пришлось посадить на осла, хотя сначала он пытался возражать, и продвигались мы вперед довольно медленно. Многочисленные семьи паломников то и дело обгоняли нас, но мы были так счастливы находиться в Израиле, что не хотели торопиться. Иосиф сказал, что времени у нас предостаточно и мы успеем добраться до Иерусалима к очищению.
Когда настало время устраиваться на отдых, мы расположились не внутри постоялого двора, а на улице, в огромном шатре. Путники, шедшие к морю, паломникам навстречу, предупреждали, что дальше идти не следует, что лучше свернуть на север и двигаться сразу в Галилею. Но к этому времени Клеопа начал бредить, распевая слабым голосом псалом «Если забуду тебя, Иерусалим» и все другие песни о городе, что он знал.
— Отвези меня к вратам храма и оставь там, несчастный, — говорил он Иосифу, — если намерен идти прямиком в Галилею!
Иосиф сказал, что мы пойдем в Иерусалим и в храм все вместе.
Но женщин охватил страх. Они боялись того, что могло ожидать нас в Иерусалиме, и волновались за Клеопу.
Кашель у дяди то усиливался, то утихал, его постоянно била лихорадка, ему хотелось пить, он метался. И все время тихонько смеялся. Он смеялся над детьми, над тем, что говорили люди, он смотрел на меня и тоже смеялся. А иногда его веселили собственные мысли.
На следующее утро нам предстоял крутой и тяжелый подъем в гору. Наши соседи по морскому плаванию давно ушли вперед, и мы оказались среди тех, кто прибыл в Святую землю из других мест. Греческая речь теперь звучала наравне с арамейской, а иногда я слышал и латынь.
Однако наша семья перестала говорить по-гречески, мы общались между собой только на родном языке.
На третий день мы, взойдя на очередной холм, разглядели вдали Святой город. Младшие дети запрыгали от радости. Все кричали, и даже Иосиф улыбался. Нас ожидал долгий и извилистый путь, но мы видели впереди цель нашего путешествия — это священное место, жившее в наших молитвах и в наших сердцах с самого рождения.
Вокруг городских стен раскинулся огромный лагерь из разнообразных палаток, горели костры, готовилась пища, и чем ближе мы подходили, тем плотнее становился поток паломников, так что последние часы пути мы продвигались еле-еле. Вокруг нас теперь почти все говорили по-арамейски, только изредка я слышал греческое слово. Наши мужчины высматривали в толпе родных и знакомых, и то и дело раздавались приветственные крики.
Когда мы приблизились к городу, я уже ничего не мог разглядеть. Нас, детей, плотно обступили взрослые. Меня крепко держал за руку Иосиф. Я только чувствовал, что мы двигаемся, медленно-медленно, и что стены совсем недалеко.
И вот мы вошли в открытые городские ворота.
Иосиф наклонился и подхватил меня на руки, а потом посадил себе на плечи. Тогда я увидел храм, возвышающийся над узкими улочками.
Мне стало грустно, что Маленькая Саломея этого не видит, но Клеопа громко объявил, что хочет взять ее к себе на осла, и тетя Мария подняла Саломею, так что она тоже все могла рассмотреть.
Надо же! Мы в Святом городе, в Иерусалиме, а прямо перед нами — великий храм!
Пока мы жили в Александрии, я, как и положено добронравному еврейскому ребенку, никогда не поднимал глаз на языческие храмы. Я не смотрел на языческие статуи. Зачем нужны эти идолы мальчику, которому запрещено делать подобные вещи и который не видел в них никакого смысла? Но так или иначе я проходил мимо чужих храмов, слышал музыку, доносившуюся оттуда. И хотя я глядел только на те дома, куда мы с Иосифом держали путь, по большей части, к счастью, находившиеся в еврейском квартале города, все-таки я знал о том, что они существуют, и даже краешком глаза мог оценить их размеры. Наверное, самым великолепным зданием, в которое я до сих пор входил, была Великая синагога. Разумеется, в языческие храмы входить вообще было нельзя, потому что — и это знали даже малыши — в них обитали языческие боги, во имя которых эти храмы и возводились.
Итак, я имел представление о размере языческих храмов и жилищ богатых людей. Будучи же сыном плотника, я умел сравнивать большое и маленькое.
А вот Иерусалимский храм не с чем было сравнить. Иосиф, и Клеопа, и Алфей, и даже Филон много раз описывали мне храм, и все же я оказался не готов к тому, что увидел.
Это было здание такое большое, такое величественное и такое мощное, оно так сияло золотом и белизной, так далеко простиралось и направо, и налево, что в моей голове исчезли всякие воспоминания о богатом городе Александрии, я забыл о чудесах Египта. У меня перехватило дыхание. От восторга я онемел.
Клеопа взял на руки Маленького Симеона, чтобы и он тоже увидел храм, Маленькая Саломея держала крошку Есфирь, заливавшуюся слезами без всякой причины, тетя Мария несла Иосия, Алфей же подхватил моего двоюродного брата Маленького Иакова.
Что касается Большого Иакова, моего брата, который знал уже очень многое, то он видел храм раньше, когда был маленьким. Он приходил сюда с Иосифом еще до моего рождения. Но даже Иаков был поражен открывшимся зрелищем. И сам Иосиф молчал, как будто забыв о нас и сдавливающей нас толпе.
Мама дотянулась рукой до моего колена, я поглядел на нее сверху вниз и улыбнулся. Она показалась мне красивой как всегда, застенчивой, несмотря на скрытое почти полностью под покрывалом лицо, и несомненно счастливой оттого, что все мы наконец пришли в Иерусалим. Она, как и я, восхищенно взирала на храм.
Вокруг нас все заполонили люди. Их было огромное количество, они толкались, двигались, приходили и уходили, и тем не менее чувствовалось, что все благоговейно взирают на храм, пытаясь объять умом его размер, желая охватить все до единой мелочи, надеясь запомнить этот момент навсегда, ведь многие прибыли сюда издалека, или после большого перерыва, или впервые.
Я хотел идти дальше, хотел войти в храм — я думал, это мы и собираемся сделать, — но я ошибался.
Мы шли по направлению к храму, но, продвигаясь вперед, постепенно теряли его из виду. Мы углубились в кривые и узкие улочки, дома сходились над нашими головами, толпа сдавливала нас все сильнее. Наши мужчины стали спрашивать горожан о синагоге галилеян, где можно было устроиться на отдых.
Я видел, что Иосиф устал. Мне ведь уже исполнилось семь лет, а он нес меня уже довольно долго. Я попросил, чтобы он опустил меня на землю.
Клеопу снова охватила лихорадка, но он — да, он смеялся, на этот раз от счастья. Он просил воды. И сказал, что ему необходимо искупаться, а тетя Мария ответила, что пока нельзя. Женщины решили, что нужно немедленно уложить его в постель.
Тетя чуть не плакала от беспокойства за Клеопу, и Маленький Симеон вдруг захныкал, поэтому я попытался взять его на руки. Малыш оказался слишком тяжел для меня, и его забрал Иаков.
Мы шли и шли по узким улицам. Такие улицы вполне могли быть и в Александрии, только здесь скопилось гораздо больше народу. Мы с Маленькой Саломеей смеялись по поводу того, что, мол, в Иерусалиме собрался весь свет — действительно, повсюду раздавалась быстрая речь, громкие голоса, многие говорили по-гречески, но некоторые паломники говорили на иврите, да, люди говорили на иврите, однако чаще всего я слышал арамейскую речь.
Когда мы пришли к синагоге — большому трехэтажному строению, то узнали, что места больше не осталось. Только мы развернулись, чтобы отправиться на поиски синагоги александрийцев, как мама увидела своего родича, Зебедея, и его жену, и его детей, и они все бросились к ней с объятиями и поцелуями и стали настаивать, чтобы мы пошли с ними и разделили место, выделенное им на крыше. Там уже ждали нас другие родственники.
Жена Зебедея звалась Мария Александра, она была двоюродной сестрой моей мамы, но ее всегда звали Марией, как маму и как мою тетю Марию, которая вышла замуж за маминого брата Клеопу. И когда эти три женщины обнялись и поцеловались, они воскликнули: «Три Марии!» — и одно это сделало их совершенно счастливыми, не говоря уже обо всем остальном.
Иосиф остался, чтобы заплатить за ночлег, а мы пошли вслед за Зебедеем и его семьей. Вместе с ним здесь были его братья, также с женами и детьми. Сначала мы пересекли двор, где паломники привязывали на ночь ослов и поили и кормили животных, а потом вскарабкались по лестнице. Мужчины несли Клеопу на руках, и он опять смеялся, на этот раз от неловкости.
На крыше нас приветствовала многочисленная родня.
Среди всех выделялась одна старая женщина, которая сразу протянула руки к моей маме.
— Елизавета! — воскликнула мама.
Это имя я хорошо знал. И помнил, как зовут сына Елизаветы — Иоанн.
Мама упала в объятия старой женщины. После слез и первых вопросов настала моя очередь знакомиться с Елизаветой и ее сыном. Иоанн оказался молчаливым мальчиком примерно моих лет.
Как я сказал, о маминой родственнице Елизавете я был наслышан, как и о многих других, потому что мама часто писала домой из Египта и получала в ответ письма из Иудеи и из Галилеи. Иногда она брала меня с собой, когда ходила к местному писцу, чтобы продиктовать свои послания. А когда письма приходили к нам, их читали и перечитывали, так что с каждым именем было связано множество историй.
Елизавета мне сразу очень понравилась: двигалась она неторопливо и с большим достоинством, и лицо ее радовало взор, хотя словами я не могу выразить, чем именно. У меня часто возникают такие ощущения по отношению к старым людям, мне кажется, что морщины на их лицах достойны уважения и изучения и что их глаза посреди складок кожи светятся особенно ярко. Однако хватит размышлений, ведь сейчас я пытаюсь рассказать вам эту историю с точки зрения ребенка, а не взрослого.
Мой родич Иоанн повадками походил на мать, но при этом чем-то напоминал и моего брата Иакова. Я присмотрелся и понял, что они действительно похожи. Иоанн выглядел взрослее своих лет, и у него были необычайно длинные волосы.
Иоанн и Елизавета носили белые полотняные одежды, очень чистые.
Из разговоров я знал, что Иоанна с рождения посвятили Господу. Поэтому ему никогда не стригли волосы и за ужином не давали вина.
Все это я заметил за какие-то пару секунд, а потом меня подхватил водоворот приветствий, слез, объятий и всеобщей суматохи.
На крыше некуда было яблоку упасть. Иосиф узнавал все новых родственников, а так как Мария и Иосиф между собой тоже состояли в родстве, то радость встречи удваивалась. В то же время Клеопа громко отказывался пить принесенную женой воду, Маленький Симеон расплакался, его плач подхватила крошка Есфирь, которую пытался успокоить ее отец Симон.
Зебедей и его жена обустраивали место, куда бы мы могли положить одеяла, а тем временем Маленькая Саломея уговаривала не плакать крошку Есфирь. Маленький Зокер вырвался из рук родителей и пустился наутек. Маленькая Мария тоже раскапризничалась — все это происходило вокруг меня одновременно. Я уже не мог сосредоточиться на чем-то одном.
Не успели взрослые оглянуться, как я схватил Маленькую Саломею за руку и побежал с ней прочь, где-то проскальзывая, кого-то перешагивая, и наконец мы оказались у края крыши.
Вдоль края шла невысокая стенка, ее хватало лишь на то, чтобы мы не упали…
И я снова увидел храм! Заполненные людьми городские крыши окружали его, вздымаясь и опадая на холмах и подступая к могучим стенам храма.
С улицы под нами доносилась музыка, я слышал, как люди пели, от костров поднимался дым, вкусно пахнущий съестным, и повсюду бурлила разноязыкая речь паломников — и внизу, и на крышах, — и этот гомон казался песнопением.
— Наш храм, — с гордостью произнесла Маленькая Саломея, и я кивнул. — Господь, создавший небеса и землю, обитает в храме, — продолжила она.
— Господь повсюду, — ответил я.
Она удивленно посмотрела на меня.
— Он же в храме! Я знаю, что Господь везде. Но сейчас мы должны говорить, что он в храме. Ведь мы здесь, чтобы пойти в храм.
— Да, — согласился я и устремил взгляд на величественное строение.
— Чтобы быть со своим народом, он в храме, — настаивала Саломея.
— Да, — снова согласился я. — И… везде. — Я не сводил глаз с храма.
— Почему ты так говоришь? — спросила она.
Я пожал плечами.
— Ты сама знаешь, что это правда. Господь с нами, с тобой и со мной, прямо сейчас. Господь всегда с нами.
Она радостно засмеялась, и я тоже.
Дым от костров висел перед нами как полупрозрачное покрывало, и весь этот шум был как другое покрывало. От них мои мысли прояснились.
«Господь повсюду и Господь в храме».
Завтра мы войдем в него. Завтра мы войдем во двор внутри его стен. Завтра. А потом мужчины пойдут на первое окропление кровью красной телицы, готовясь к трапезе Песаха, во время которого они все вместе будут вкушать яства в Иерусалиме, чтобы вновь отпраздновать наше возвращение из Египта много лет назад. Я останусь с детьми и женщинами. А Иаков пойдет с мужчинами. Мы будем смотреть с нашего места, но все равно внутри стен храма. Будем близко к алтарю, где принесут в жертву агнца. Будем рядом со Святилищем, куда может входить только первосвященник.
Прежде всего нам рассказывали про храм и Закон. Про храм мы знали все. И Закон выучили наизусть. Нас учили дома Иосиф, Алфей и Клеопа, а потом в школе — учитель.
Стоя посреди шума Иерусалима, я ощущал внутри себя покой. Похоже, Маленькая Саломея чувствовала то же самое. Мы стояли рядом, не разговаривая и не двигаясь, и все эти слова, смех, детский плач и даже музыка некоторое время нас не касались.
Потом к нам подошел Иосиф и повел обратно к семье.
Женщины как раз вернулись с улицы и принесли купленную там еду. Настало время всем собраться и помолиться.
Иосиф взглянул на Клеопу, и впервые я увидел скользнувшую по его лицу тень беспокойства.
Дядя все еще ссорился со своей женой из-за воды. Он никак не хотел ее пить. Я присмотрелся к нему и понял, что он не осознает, что делает. У него что-то случилось с головой.
— Иди сядь рядом со мной! — крикнул он мне.
Я послушался и устроился справа от него, скрестив ноги. Мы все сидели очень плотно. Маленькая Саломея разместилась по левую руку от отца.
Клеопа сердился, но ни на кого в отдельности. Вдруг он спросил:
— А когда мы пойдем в Иерусалим? Кто-нибудь помнит еще, что мы собирались в Иерусалим?
Все очень испугались. Моя тетя не выдержала и вскинула в отчаянии руки. Маленькая Саломея притихла и боязливо взглянула на отца.
Клеопа огляделся и понял по лицам окружающих, что сказал что-то не то. И вдруг снова стал самим собой, раз — и все. А потом взял чашку с чистой водой и припал к ней. Напившись, он глубоко вздохнул и посмотрел на свою жену. Тетя приблизилась к нему. Возле нее села моя мама и обняла ее. Тете нужно было поспать, но сейчас она не могла лечь.
Похлебка оказалась горячей, только что с огня. Я понял, что страшно голоден. Хлеб тоже был еще теплый.
Наконец мы приготовились благословить нашу пищу. Это будет нашей первой молитвой, произнесенной всеми вместе в Иерусалиме. Я склонил голову. Молитву повел Зебедей, как самый старший, на наречии нашей семьи. Слова немного отличались от тех, что я знал, но все равно молитва была хорошей.
После молитвы мой родич Иоанн бар Захария уставился на меня с таким видом, как будто он знал нечто очень важное, но ничего не сказал.
И вот мы смогли окунуть хлеб в похлебку. Она была удивительно вкусной — не просто бульон, а густая наваристая смесь из чечевицы, мягких разваренных бобов, перца и специй. А еще после острой похлебки нам дали погрызть сушеные фиги, и мне они очень понравились. Я ни о чем не думал, кроме еды. Даже Клеопа поел немного, чем всех порадовал.
Это был первый настоящий ужин с тех пор, как мы покинули Александрию. И еды было вдоволь. Я съел столько, сколько смог.
После ужина со мной захотел поговорить Клеопа и попросил всех оставить нас вдвоем. Тетя Мария лишь взмахнула рукой и пошла прилечь ненадолго, чтобы потом присоединиться к другим женщинам в хозяйственных делах, а тетя Саломея занялась Маленьким Иаковом и другими малышами. Маленькая Саломея помогала кормить крошку Есфирь и Маленького Зокера, своих любимцев.
Мама подошла к Клеопе.
— Зачем он тебе? Что тебе надо? — спросила она брата и села слева от него, не слишком близко, но и не далеко. — Почему ты хочешь, чтобы все ушли? — Она говорила ласково, но твердо.
— Уходи, — сказал он ей. По его голосу можно было подумать, что он пьян, но он не пил. Он всегда пил вина меньше, чем остальные. — Иисус, подойди поближе, чтобы расслышать, что я буду шептать тебе на ухо.
Мама отказалась уходить.
— Не искушай его, — попросила она.
— И что ты хочешь этим сказать? — спросил Клеопа. — Неужели ты думаешь, что я пришел в Священный город Иерусалим, чтобы искушать его?
Потом он схватил меня за руку. Его пальцы горели.
— Хочу рассказать тебе кое-что, — обратился он ко мне. — Запомни это. Мои слова должны остаться в твоем сердце навсегда, вместе с Законом, слышишь? Когда она сказала мне, что ей явился ангел, я поверил ей. Ангел явился ей! Я поверил.
Ангел — тот ангел, что приходил в Назарет. Он являлся маме. Клеопа говорил это, когда мы плыли на корабле. Но что это значит?
Мама все смотрела на брата. Его же лицо увлажнилось, глаза стали огромными. Я чувствовал, как дядю трясло в лихорадке. Я даже видел это.
Он продолжал:
— Я поверил ей. Я ее брат или нет? Ей было тринадцать, ее обручили с Иосифом, и говорю тебе, она никогда не покидала нашего дома без присмотра, никто не мог быть с ней без нашего ведома, ты знаешь, о чем я — о мужчине. Этого не могло быть, и я — ее брат. Помни, что я говорю тебе. Я поверил ей. — Он откинулся на тюк из одежды, лежащий у него под боком. — Невинное дитя, дитя в услужении Иерусалимского храма, она ткала храмовую завесу с другими избранными, а потом была дома у нас на глазах.
Клеопа дрожал. Он пристально посмотрел на маму. Она отвернулась, а потом отошла. Но не очень далеко. Она стояла спиной к нам, рядом с нашей родственницей Елизаветой.
Елизавета наблюдала за Клеопой и за мной. Не знаю, слышала она нас или нет.
Я не двигался. Я смотрел сверху вниз на дядю. Его грудь вздымалась и падала с каждым хриплым вдохом, и вновь и вновь его сотрясал озноб.
Мой мозг напряженно работал, складывая воедино все собранные мной кусочки информации. Я пытался понять слова Клеопы. Мне было всего семь лет, но я всю жизнь спал в одном помещении с мужчинами и женщинами, и другие комнаты тоже не запирались, или же отдыхал во дворе, под открытым небом, где мы спасались от летней жары. Я всегда жил рядом с взрослыми, я слышал и видел многое. Мой мозг трудился, складывая кусочки так и этак. Но все равно я никак не мог понять, что хотел сказать Клеопа.
— Помни, что я сказал тебе. Я поверил! — повторял он.
— Но на самом деле не до конца? — прошептал я.
Его глаза широко распахнулись, и на его лице появилось новое выражение, как будто он пробуждался из своей лихорадки.
— И Иосиф тоже не уверен? — снова шепотом спросил я. — Вот почему он никогда не ложится с ней.
Мои слова опережали мысли. Я сам удивился тому, что сказал. Мне стало холодно до самых костей. Но я не стал исправлять того, что произнес.
Дядя Клеопа приподнялся на локте и приблизил ко мне свое лицо.
— Все как раз наоборот, — проговорил он. Он дышал с трудом. — Иосиф не прикасается к ней, потому что верит. Разве ты не понимаешь? Как он может прикоснуться к ней после такого? — Клеопа улыбнулся и потом засмеялся своим тихим странным смехом. — А ты? — шептал он. — Предстоит ли тебе вырасти и выполнить пророчества? Да, предстоит. И предстоит ли тебе быть ребенком, прежде чем ты станешь мужчиной? Да, предстоит. Иначе никак. — Его глаза глядели куда-то вдаль, как будто он не видел то, что окружало нас сейчас. Ему было трудно дышать. — Так же все было и с царем Давидом. Помазанный, а затем снова посланный к стаду, подпаском, помнишь? До тех пор, пока не призвал его Саул. До тех нор, пока Господь Бог не позвал его! И никто не может понять этого! Они все не понимают, что ты должен расти как все дети! И в половине случаев они даже не знают, что с тобой делать! А я — я уверен! И всегда был уверен!
Он снова лег, усталый, не в силах продолжать, но его глаза следили за мной. Он улыбался, и я слышал его смех.
— Почему ты все время смеешься? — спросил я.
Дядя Клеопа пожал плечами.
— Я все еще удивляюсь, — ответил он. — Да, удивляюсь. Я видел ангела? Нет, не видел. Может быть, если бы он явился мне, то я бы не смеялся, а может быть, смеялся бы еще сильнее. Мой смех — это мои слова, тебе не кажется? Помни это. Да, и прислушайся, что говорят на улицах. Там, здесь. Они хотят справедливости. Хотят мести. Ты слышал их? Ирод сделал то, Ирод сделал это. Они забросали камнями солдат Архелая! Какое мне теперь до этого всего дело? Все, что я сейчас хочу, это хотя бы час подышать без боли!
Он протянул ко мне руку, обнял за затылок, и я наклонился и поцеловал его мокрую щеку.
Пусть его боль уйдет.
Дядя глубоко вдохнул и потом как будто погрузился в забытье; его грудь стала подниматься и опускаться медленнее и спокойнее. Я положил руку ему на грудь и ощутил, как бьется внутри тела сердце.
«Силы еще хотя бы ненадолго. Какой в этом вред?»
Затем я отошел. Мне захотелось уйти к краю крыши и там плакать. Что я сделал? Может быть, ничего. Но почему-то я так не думал. А его слова — что они значат? Как мне понять все это?
Я хотел найти ответы на вопросы, да, но этот разговор с дядей Клеопой только добавил новых загадок, и у меня разболелась голова. Мне было страшно.
Я сел и прислонился к низкой стене. Ее верхний край оказался почти вровень с моей головой. Вокруг меня сгрудились семьи родственников, я видел перед собой спины и лица, журчали тихие разговоры, негромко напевали дети. Мне казалось, что я спрятался.
Уже стемнело, в городе зажгли фонари, на улицах раздавались громкие радостные восклицания и много музыки. Кое-где все еще готовили на кострах пищу, а может, это люди грелись у огня, потому что с наступлением темноты похолодало. И я продрог. Мне хотелось посмотреть, что происходит внизу, но потом я передумал. Мне было все равно.
Маме являлся ангел. Ангел. Я не сын Иосифа.
Тетя Мария застигла меня врасплох. Она резко развернула меня к себе лицом, присев рядом на корточки. Ее лицо блестело от слез, а голос дрожал.
— Ты можешь вылечить его? — спросила она.
Я так удивился, что не знал, как ответить.
В этот миг подошла мама и ухватила меня за руку. Они обе стояли надо мной, их накидки касались моего лица. Они шептались о чем-то. Сердито шептались.
— Ты не можешь просить его об этом! — говорила мама. — Он еще совсем ребенок, и ты знаешь это!
Тетя Мария всхлипывала. Что я мог сказать ей?
— Я не знаю! — выпалил я. — Не знаю!
Теперь заплакал и я. Подтянул к себе колени, прижался к стене и стал утирать слезы.
Они ушли.
Семьи вокруг меня стали укладываться на ночь. Матери уже убаюкали малышей. На улице один человек играл на волынке, а другой пел. Сначала их было хорошо слышно, но потом все постепенно стихло.
Дымка спрятала звезды, но вид города, освещенного фонарями, карабкающегося с холма на холм, с храмом, возвышающимся как гора в дрожащем свете огромных факелов, изгнал из моей головы все тревожные мысли.
Мне вдруг стало хорошо. Я решил, что завтра в храме буду молиться о том, чтобы понять все эти слова — не только те, что сказал мой дядя, но и все остальные, слышанные мною.
Вернулась мама.
У стены оставалось как раз достаточно места для того, чтобы она опустилась рядом со мной на колени.
Свет факелов озарил ее лицо, когда она обратила взор к храму.
— Послушай меня, — сказала она.
— Слушаю, — не задумываясь, отозвался я по-гречески.
— То, что я тебе скажу, говорить пока не следовало бы. — Мама тоже перешла на греческий.
На улице шумели, на крыше все еще не прекратились тихие вечерние разговоры, но я отлично слышал каждое ее слово.
— Я не могу больше ждать, — говорила мама. — Мой брат виноват в этом. Почему он не страдает молча? Но нет, он никогда не умел молчать. Поэтому я скажу. А ты слушай. Не задавай мне вопросов. В этом ты должен слушаться Иосифа. Но сейчас внимай мне.
— Хорошо, — повторил я.
— Ты не дитя ангела, — сказала она.
Я кивнул.
Она повернулась ко мне. В ее глазах отражался огонь факелов.
Я молча ждал.
— Ангел сказал мне, что на меня снизойдет сила Господа, и действительно, на меня опустилась тень Господа — я почувствовала ее, и со временем во мне зашевелилась новая жизнь, и это был ты.
Я по-прежнему ничего не говорил.
Она опустила глаза.
Теперь уже и город внизу стал стихать. В свете факелов мама казалась мне прекрасной. Такой же прекрасной, какой была для фараона Сарра, а для Иакова — Рахель. Мама была красивой. Скромной, но очень красивой, сколько бы покрывал она ни надевала, скрывая свою красоту, как бы низко ни опускала голову, как бы сильно ни краснела.
Я хотел забраться к ней на колени, чтобы она обняла меня, но я не шевелился. Сейчас не надо было двигаться, не надо было ничего говорить.
— Вот так все и случилось, — продолжила она, вновь поднимая на меня взгляд. — Я никогда не была с мужчиной, ни тогда, ни сейчас, и никогда не буду. Я посвящена Господу.
Я опять только кивнул.
— Ты ведь не понимаешь все это… нет? — спросила она. — Тебе не понять, о чем я говорю.
— Понимаю, — ответил я. — Я понимаю. — Иосиф не мой отец, да, я знал это и раньше. И никогда не называл Иосифа отцом. Да, согласно Закону он считался моим отцом, и он женился на моей маме, но он не мой отец. А она всегда была как девочка, а другие женщины были ей как старшие сестры, верно, и это я тоже знал. — С Господом все возможно, — сказал я. — Господь сотворил Адама из грязи. У Адама не было матери. Значит, Господь мог сотворить ребенка без отца. — Я пожал плечами.
Она покачала головой. Сейчас она не была похожа на девочку, но и на женщину тоже не походила. Она была ласковой и немного печальной. Когда она заговорила, я не узнал ее голоса.
— Чтобы ни говорили тебе люди в Назарете, — сказала она, — помни о сегодняшнем разговоре.
— Люди будут что-то говорить?
Она закрыла глаза.
— Вот почему ты не хотела возвращаться обратно… в Назарет? — спросил я.
Мама глубоко вздохнула. Она закрыла рот ладонью. Мой вопрос поразил ее. Помолчав, она снова заговорила, мягко, как всегда:
— Ты ничего не понял из того, что я сейчас сказала!
Я видел, что ей больно, что она вот-вот заплачет.
— Нет, мама. Я все понял. Правда, понял, — заторопился я утешить ее. Я не хотел причинять ей боль. — Господь всемогущ.
Она была разочарована, но ради меня собралась с силами и улыбнулась.
— Мама, — позвал я и потянулся к ней.
Голова моя разбухла от мыслей. Воробьи. Елеазар, сначала мертвый на улице, а потом оживший и встающий с циновки на полу. И много других вещей, которые уже не вмещались в мой переполненный мозг. А слова дяди Клеопы? Что они значат? «Ты должен расти как все дети! Так же все было и с царем Давидом. Помазанный, а затем снова посланный к стаду, подпаском, помнишь? Не надо огорчать ее».
— Да, я понимаю, — сказал я маме еще раз. Я улыбнулся ей улыбкой, которую берег только для нее. Это даже была не улыбка, а знак. У нее тоже была особая улыбка для меня.
И теперь она отодвинула все, что случилось, и протянула ко мне руки. Я поднялся на колени, и она прижала меня к себе.
— Ну все, хватит на сегодня, — сказала мама. — Тебе достаточно моего слова, — шепнула она мне на ухо.
Немного погодя мы с ней встали и пошли к семье.
Я лег на приготовленную для меня постель из наших вещей, мама укрыла меня, и вот так, под звездами, под песни города и тихий смех Клеопы я крепко уснул.
Ведь я никогда еще не был так далеко.
5
Утром на улицах было столько народу, что мы почти не могли двигаться, но тем не менее все, включая младенцев на руках у матерей, направлялись в сторону храма.
Клеопа за ночь отдохнул и выглядел немного лучше, хотя по-прежнему был очень слаб и поэтому шел с помощью мужчин.
Я сидел на плечах у Иосифа, а Маленькая Саломея — на плечах у дяди Алфея, и мы сумели взяться за руки. Было так здорово смотреть сверху, как толпа несет нас по извилистым улицам и под арками. И вот мы вышли на огромное открытое пространство перед длинной лестницей и вздымающимися ввысь золотистыми стенами храма.
Здесь женщины с малышами и мужчины разделились и медленно направились к ритуальным ваннам, чтобы как следует вымыться перед тем, как пройти в ворота храма.
Это омовение отличалось от окропления и очищения перед Песахом, которые совершаются в три этапа и начнутся сегодня с первого окропления мужчин внутри храма.
А сейчас мы просто смывали грязь, осевшую на нас во время нашего путешествия из Египта, чтобы войти в пределы самого храма. Наша семья хотела этого, и ванны ждали нас, так что мы вымылись, хотя Законом это не требовалось.
На мытье ушло много времени. Вода была холодной, мы замерзли и с удовольствием снова оделись и вышли на солнце, где присоединились к женщинам. Маленькая Саломея и я нашли друг друга и смогли вновь взяться за руки.
Народу, казалось, стало еще больше, хотя как сюда могло вместиться столько людей, я не представлял. Многие напевали псалмы на иврите. Кое-кто молился, закрыв глаза. Некоторые просто разговаривали друг с другом. Ну а дети плакали, как им и полагается.
Иосиф опять посадил меня к себе на плечи, и, щурясь от яркого света, отражающегося от стен храма, мы начали восхождение по лестнице.
Чем выше мы поднимались, ступенька за ступенькой, тем величественнее казался нам храм. Всех, как и меня, поражали его размеры, и восхищенные слова наши звучали как молитва.
Нам не верилось, что люди могли построить стены такой высоты и украсить их мрамором невиданной белизны. Голоса эхом разбегались между стен.
Когда мы поднялись до самого верха лестницы и стали медленно подходить к воротам, я заметил внизу на площади солдат, пеших и конных. Я разглядел, что это не римские солдаты, но не понял, какие именно. Людям, идущим в храм, они не нравились. Даже с большого расстояния я видел, как вскидывались вверх кулаки, как гарцевали лошади, и мне даже показалось, что через головы летят камни.
Долгое стояние в медленной очереди к воротам утомило меня. Мне даже захотелось, чтобы Иосиф активнее проталкивался вперед. Он так легко уступал другим. И еще нам приходилось держаться всем вместе, в том числе и с Зебедеем и его людьми, с Елизаветой и Маленьким Иоанном, и с другими родственниками, чьих имен я не запомнил.
Наконец мы прошли через ворота и, к моему удивлению, оказались в огромном туннеле. Я едва мог разглядеть прекрасные украшения на стенах и потолке, там и тут из толпы взлетали молитвы и терялись в гулком пространстве. Я тоже молился, но по большей части смотрел по сторонам, горло у меня перехватило от восторга, и я не мог вдохнуть — точно так же, как я не мог сделать вдох, когда Елеазар сильно ударил меня.
Из туннеля мы вышли на широкую площадь внутри первого двора храма, и все как один восторженно закричали.
По обе стороны от нас высились колонны крытых портиков, между ними повсюду были люди, впереди же взметнулась ввысь стена Святилища. На крышах тоже стояли люди, но нам они казались крошечными фигурками, так что невозможно было разглядеть их лица. Вот каким большим было это священное место.
В дальних портиках, судя по звукам и запахам, продавали животных тем, кто хотел принести жертву. От шума и разнообразия красок у меня закружилась голова.
Солнечный свет казался таким ярким, каким никогда не бывал на узких городских улицах. Воздух был чист и сладок.
Еще я услышал лошадей, но не цокот копыт, а ржание — лошади так ржут, когда их резко останавливают.
Но я не стал оборачиваться, потому что не мог оторвать взгляд от сияющих стен, что обрамляли дворы, заполненные паломниками. Я был слишком мал, чтобы пойти с мужчинами. Я знал, что сегодня останусь с женщинами. Зато я смогу увидеть, как мужчин окропят перед очищением.
Для меня все это было чудом, и я не могу описать словами восторг, охвативший меня оттого, что мы находились во дворе храма. Я отлично понимал, что меня окружали люди, пришедшие сюда со всей империи, и все именно так, как нам и представлялось. Клеопа жил ради того, чтобы оказаться здесь. Ради того, чтобы очиститься и вкусить с нами праздничную трапезу. Может быть, он доживет и до того дня, когда мы доберемся домой.
Это был наш храм, это был храм Клеопы, и так замечательно, что мы могли войти в него и приблизиться к Богу.
На крышах дальних портиков собралось множество людей, они все куда-то бежали, и на других крышах тоже происходило какое-то движение. Как я сказал, их было плохо видно и слышно с такого расстояния, но все же я понял по тому, как они махали руками, что все они что-то кричат.
Внезапно вся толпа, заполонившая площадь, и мы вместе с ней качнулись сначала в одну сторону, а потом резко в другую. Я даже испугался, что Иосиф упадет, но он удержатся на ногах.
Вопль вознесся над народом. Мужчины кричали, женщины визжали. Думаю, дети были в восторге. Я все еще сидел на плечах у Иосифа, но нас так плотно сдавили со всех сторон, что он не мог шевельнуться.
И тут я увидел, что слева в нашу сторону направляется множество вооруженных всадников. Нас понесло прочь от них, как будто толпа была водой, а затем — на них, мама и тетя Мария кричали, и Маленькая Саломея визжала и тянулась ко мне, но мы с ней оказались слишком далеко друг от друга.
Почти все вокруг нас кричали по-арамейски, но я различал и греческие слова.
— Уходите, уходите, — надрывались мужчины. Но уходить было некуда. Внезапно раздалось овечье блеяние, как будто кто-то выпустил всех овец из загона. Затем послышалось мычание коров и быков — ужасный звук.
Солдаты с поднятыми копьями приближались, а нам некуда было деться.
Затем полетели камни.
Все завопили еще громче. Я видел, как в одного солдата попало несколько камней, и он упал с лошади. К нему потянулись руки, и он исчез в толпе. Какой-то человек в накидке взобрался на испуганное животное и стал бороться с другим солдатом, и тогда тот солдат дважды вонзил меч в живот этого человека. Фонтаном брызнула кровь.
Я пытался дышать, широко раскрывая рот, но не мог, как будто Елеазар опять пнул меня в живот. Иосиф старался спустить меня вниз на землю, но было слишком тесно, и я не мог слезть. Я не хотел слезать. Как ни ужасно было это зрелище, я хотел все видеть.
Подобные события разворачивались во всех уголках храма. Толпа паломников, как огромная морская волна, покатила обратно к выходу, к воротам.
Молитвы неслись отовсюду, но не радостные псалмы, как раньше, а мольбы о помощи, мольбы о спасении. Кое-кто упал и не мог подняться.
Иосиф с помощью других мужчин смог наконец снять меня и поставить прямо перед собой. Крепко сжав мои плечи, он толкал меня вперед, сквозь плотный вал людей, напирающих и орущих что было мочи.
В какой-то момент стало так тесно, что я не мог сделать и шагу, и моя туника застряла между телами испуганных паломников.
— Маленькая Саломея! — крикнул я. — Маленькая Саломея, где ты?
— Иешуа, — отозвалась она по-арамейски, — я здесь! Я увидел ее: она пробиралась ко мне, отчаянно извиваясь между взрослыми. Я подтянул ее, чтобы она встала возле меня, перед Иосифом. Где-то над нашими головами раздался знакомый смех. Это смеялся Клеопа. Оказалось, он стоит совсем рядом.
Толпа сначала повалила куда-то вбок, а потом вперед, и мы упали. Чьи-то руки тянули меня вниз, и я спрятал Маленькую Саломею под себя, правой рукой прижимая ее голову.
— Сядьте на колени и не двигайтесь с места, — скомандовал Иосиф.
А что мы могли еще сделать?
Среди всеобщего шума я услышал плач моей мамы:
— Сын мой, сын мой!
Иосиф и Клеопа воздели руки к небу и стали молиться Господу. Правой рукой я держал Саломею, поэтому воздел только левую.
— О Господи, ты прибежище мое! — воскликнул Иосиф.
Клеопа произнес другую молитву.
— Простираю к тебе руки мои, Господи! — шептала мама.
Маленькая Саломея плакала:
— Господи, избавь меня!
Вокруг нас люди призывали Господа.
— Пусть падут нечестивые в сети свои, — раздался рядом со мной голос Иакова.
— Избавь меня, Господи, избавь меня от гонителей, что вокруг меня, — молился я.
Но я даже не слышал собственного голоса. Молитвы вокруг меня становились все громче и вскоре перекрыли вопли и крики тех, кто сражался с солдатами. Ужасно ревели быки, и пронзительные голоса женщин причиняли мне боль.
Я боялся поднять голову, но все же окинул взглядом происходящее. Почти все паломники упали на колени. Зебедей привстал, воззвал к Господу и склонился в поклоне, и так же делали многие другие, кого я не знал.
Через это море молящихся бегом пробирались люди, перелезали через наши плечи, ползли по спинам, стремясь выбраться из храма.
Внезапно кто-то придавил меня сверху, я упал на мраморные плиты пола, рядом с Маленькой Саломеей, но не убрал руку с ее головы.
Меня обуял бешеный гнев, и я стал вырываться, желая освободиться и встать на ноги. Я толкался и извивался, пока наконец не выбрался из-под Иосифа — это он прижимал меня к полу, — и поднялся во весь рост, будто собирался бежать.
Я видел огромную площадь. Далеко впереди люди метались во все стороны, между ними носились обезумевшие от шума овцы, и солдаты направляли своих коней прямо на паломников, а люди, даже те, что преклонили колена в молитве, поднимались и бросали в солдат камни.
Некоторые скопления людей были неподвижны, как груды мертвых тел.
Псалмы летели к Небу:
— К тебе прибегаю, Господи… Я воззвал к тебе, Господи…
Верховые солдаты мчались за людьми, мужчинами и женщинами, которые устремились прямо в нашу сторону.
— Иосиф, смотри, — крикнула мама. — Держи его, спрячь его.
Я вырывался из рук, тянущих меня к земле.
Люди бежали прямо по коленопреклоненным паломникам, как будто те были камнями на берегу моря. Молящиеся стонали и вскрикивали, а когда к нам направился один из всадников, по обе стороны от него падали тела.
Все-таки меня прижали к плитам, одна рука давила мне на затылок, а вторая в спину. Прямо у меня над ухом фыркнула лошадь, процокали копыта.
Мое лицо впечаталось в мрамор.
И тем не менее краем глаза я видел ноги лошади. Она стала пятиться, и в этот момент из группы неподвижных, закутанных в накидки фигур поднялся человек, достал из-за пазухи камень и бросил в солдата. При этом он выкрикнул по-гречески:
— Никто, кроме Господа нашего, не может править нами! Так и передай Ироду. И Цезарю!
В солдата полетел еще один камень, и еще один.
Копье ударило дерзкому прямо в грудь и пронзило его насквозь.
Человек уронил очередной камень, который он достал из-за пазухи, и упал на спину с широко раскрытыми глазами.
Мама всхлипнула. Маленькая Саломея закричала:
— Не смотри, не смотри!
Но мог ли я отвернуться от человека в последние мгновения его жизни? Мог ли я отвернуться в его смертный час?
Солдат потянул свое копье, и человек приподнялся вместе с ним. Кровь полилась из его рта.
Чтобы освободить оружие, солдат дергал его туда-сюда, и тело человека моталось из стороны в сторону, наконец копье выскочило, и он рухнул наземь. Он упал на левый бок, лицом прямо ко мне.
Больше я не видел лошадь. Я только слышал ее, слышал, как она пустилась вскачь. Я видел, как солдата схватили со всех сторон паломники, значит, его стащили с лошади и она убежала. Потом солдата тоже не стало видно, его скрыли согнутые спины, только взлетали и опускались сжатые в кулак руки.
Наши мужчины склонились в молитве.
Умирающий человек, если и слышал их речи, никак не показал этого. Ему было все равно. Нас он не видел, хотя его глаза были обращены прямо на меня. Он не знал, что случилось с солдатом. Кровь вытекала из его рта на камни.
Моя мама вскрикнула страшным голосом.
Люди, учинившие расправу с всадником, выпрямились и побежали прочь. Вслед за ними помчались некоторые из паломников, но большая часть осталась стоять на коленях и молиться.
Тело солдата было покрыто кровью.
Пронзенный копьем человек попытался приподнять руку, но она бессильно упала. Он умер.
Меня и умершего разделил поток людей. Снова заблеяли овцы.
Мама стала медленно заваливаться на бок, я попытался удержать ее и не смог; она упала на землю с закрытыми глазами.
Над нашими головами вновь полетели камни.
Да пришел ли хоть кто-нибудь в храм, не спрятав в одежды камня для этого побоища?
Камни сыпались и на нас, ударяли по нашим спинам и головам.
Когда Иосиф поднял руки, вознося молитву Господу, я снова выскользнул из-под него и встал на колени.
Толпа поредела и рассыпалась. Тут и там лежали тела, похожие на охапки окровавленной шерсти, приготовленной для мытья.
Куда бы я ни бросил взгляд, повсюду сражались и гибли люди.
На крышах прекрасных портиков люди, казавшиеся мне крошечными темными точками на фоне неба, атаковали солдат, а те рубили мечами всех, у кого в руках был камень или палка.
В стороне от меня, где теперь образовалось свободное место, еще один человек набросился на солдата и всем телом наткнулся на меч. Острие вышло между лопаток. К убитому бросились женщины и стали его оплакивать. Они не думали о себе, эти женщины. Они плакали и кричали. Они выли, как собаки. Солдаты не трогали их.
Но к первому убитому никто не подошел, он лежал на боку, с окровавленным ртом, уставившись на меня слепыми глазами. Он лежал один.
А солдаты уже были повсюду, их оказалось несчетное количество, я бы никогда не смог пересчитать их. Пешие, они шли сквозь остатки коленопреклоненных паломников, мимо семей молящихся, заходя и справа, и слева одновременно.
Больше никто не нападал на них.
— Молись! — сказал мне Иосиф, прервав свои молитвы лишь на миг.
Я послушался. Я поднял руки и начал молиться.
— Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их.
Появились еще солдаты, теперь конные. Они выкрикивали какие-то команды на греческом языке. Сначала я не расслышал, но потом один из них, ведя лошадь в поводу, приблизился к нам.
— Уходите, отправляйтесь по домам! — говорил он. — Убирайтесь из Иерусалима, таков приказ царя.
6
Тишина не была безмолвной. Ее наполняли плач, стоны, цокот и ржание лошадей, крики солдат, которые приказывали нам отправляться по домам.
На крышах портиков лежали мертвые тела, брошенные всеми. Я видел их. И тот убитый человек тоже лежал одинокий. Повсюду метались овцы, животные без единого изъяна, предназначенные для жертвоприношения. Люди пытались их поймать. И еще они гонялись за быками, ревевшими от страха, и этот рев был самым громким звуком.
Наконец мы поднялись с колен вслед за Иосифом и пошли за ним, все вместе. Клеопу трясло, но он все равно смеялся, только очень тихо, чтобы солдаты не услышали.
Тетя Саломея и тетя Есфирь вели мою маму под руки. Вдруг она стала оседать и слабо застонала. Иосиф рванулся ей на помощь, но ему помешали малыши, путающиеся под ногами. А я держал Маленькую Саломею.
— Мама, нам нужно уходить, — уговаривал я, держась поблизости. — Мама, просыпайся. Мы уходим.
Она старалась быть сильной. С помощью родственников она двигалась вперед. Дяде Алфею приходилось отвечать на вопросы Силы и Левия, они шепотом все спрашивали у него что-то, только я не мог расслышать, что именно. Моим братьям шел пятнадцатый год, и они наверняка воспринимали происходящее иначе, чем мы, младшие дети.
Все люди двигались по направлению к воротам.
Клеопа был единственным из нас, кто, как жена Лота, все оглядывался и оглядывался назад.
— Смотрите, — обращался он ко всем, кто мог слышать его. — Видите вон там священников? — Он указывал на верх дальней стены внутреннего двора. — Как они догадались убежать туда? Они что, знали, что на нас нападут солдаты?
И тогда мы тоже увидели над воротами скопление людей, которые могли наблюдать ужасные события с безопасного места. Я еле различал их. Мне показалось, что они были одеты в нарядные одежды и головные уборы, но я не уверен.
Что они думали, глядя на нас с высоты? И кто придет позаботиться о том мертвом человеке? Смоют ли его кровь с мраморных плит? Весь храм был осквернен кровью. Его придется очищать.
Но времени разглядывать священников у нас не было. И я хотел одного: поскорее уйти отсюда. Я еще не боялся. Я был удивлен. Страх придет позже.
Позади нас маршировали солдаты, выкрикивая приказания. Они отдавали их по-гречески, повторяя затем на арамейском языке.
Это были те же самые солдаты, что убивали паломников. Мы двигались так быстро, как только могли.
— В этом году Песах праздноваться не будет, — кричали они, — Праздник закончен, Песаха не будет! Песаха не будет. Все расходитесь по домам!
— Песаха не будет! — пробормотал себе под нос Клеопа и засмеялся. — Как будто это от них зависит, будет Песах или нет! До тех пор пока в мире жив хоть один еврей, когда наступит Песах, тогда и будет Песах!
— Тише, — попросил Иосиф. — Не смотри на них. Чего ты добиваешься? Чтобы они еще раз смешали кровь евреев и галилеян с кровью жертвенных животных? Не дразни их!
— Это кощунство, — воскликнул Алфей. — Нам нужно как можно скорее уходить из города.
— Но правильно ли будет покинуть Иерусалим в такое время? — спросил мой двоюродный брат Сила.
Дядя Алфей строго приказал ему молчать.
Дядя Симон, самый спокойный из всех, как всегда, ничего не говорил.
Когда мы медленно проходили по туннелю, нас обгоняло много людей. Иосиф взял меня на руки, кто-то подхватил Маленькую Саломею. Остальных детей тоже несли мужчины. Клеопа хотел поднять Маленького Симеона, своего самого младшего сына, который плакал от усталости и просился на руки, однако опять закашлялся, поэтому Симеона взяла на руки моя мама.
Это был хороший знак. Она держала на руках ребенка, значит, с ней все в порядке.
В темноте туннеля было довольно плохо видно, но теперь это не имело значения. Маленькая Саломея все плакала и не успокаивалась, как бы ни утешала ее тетя Мария. Я не мог дотянуться до нее — она оказалась далеко позади меня.
— Песаха не будет! — повторил Клеопа, когда приступ кашля закончился и он снова смог говорить. — Значит, этот царь, который не стал дожидаться, пока Цезарь подтвердит его право на трон, взял да отменил Песах! Этот царь, руки которого теперь по локоть в крови, как и у его отца…
— Ни слова больше, — прервал его Алфей. — Если они услышат тебя, то все мы окажемся в беде.
— Конечно. Ведь им ничего не стоит убить десятки невинных людей, как мы сами только что видели, — не унимался Клеопа.
Иосиф произнес тем же тоном, которым иногда говорил в Александрии:
— Пока мы не покинем Иерусалим, ты не произнесешь об этом ни слова!
Клеопа ничего не ответил. Но больше ничего не говорил. Никто ничего не говорил.
Мы вышли на свет и вновь увидели множество солдат, которые презрительно отдавали людям приказы.
На улицах тоже лежали убитые. Сначала могло показаться, что они просто спят. Наши женщины при виде мертвых принялись плакать и причитать. Нам приходилось обходить или переступать через тела. Родственники погибших оплакивали их, стоя на коленях, кое-кто молил о помощи, и мужчины начали раздавать монеты тем, кто попадался у нас на пути. Но некоторые люди были так потрясены горем, что не могли думать о деньгах.
Плакали даже те, кто торопился уйти подальше от храма. Наши женщины заливались слезами, и тетя Мария рыдала громче всех, потому что для нее это было первое паломничество, она мечтала о нем все время, что прожила в Египте, и вот что случилось, когда она попала сюда!
В синагоге, где уже собрались почти все наши родственники, царил страх. Иосиф собрал нас во дворе, пока женщины торопливо поднялись на крышу за вещами. Сам он вместе с Алфеем отправился раздобыть ослов. Иаков сказал нам, детям, стоять смирно и тихо и присматривать за малышами. Я держал за руку Маленькую Саломею и Маленького Симеона. Клеопа прислонился к стене и, улыбаясь, бормотал что-то еле слышное.
Плач по убиенным заглушал все другие звуки. Я никак не мог забыть об убитом человеке, который погиб совсем рядом с нами. Похоронит ли его кто-нибудь? А если нет, то что с ним будет?
Я не смотрел в лицо того солдата, который убил его. Я не смотрел в лицо ни одному солдату. Все, что я видел, это высокие сапоги, доспехи, темные и начищенные, и их копья. Смогу ли я когда-нибудь забыть их копья?
— Уходите из Иерусалима! — Даже сейчас кто-то из них кричал на иврите во дворе синагоги. — Уходите из Иерусалима, возвращайтесь домой! Песаха не будет.
Тот мертвый человек, должно быть, знал, когда бросал камень, спрятанный под одеждой, что солдат убьет его. Он ведь специально пронес в храм камни и заранее собирался бросать их.
Но при этом он выглядел совсем как мы. Та же простая накидка, туника, те же темные волнистые волосы, борода, как у Иосифа и моих дядей. Еврей, как и мы, хотя кричал он по-гречески. Почему же он поступил так? Почему он бросился на солдата, зная, что тот вооружен?
Я вновь увидел, как копье пронзило того человека и то, как он потом смотрел на меня. Эта картина проносилась в моей голове снова и снова. Я видел мертвых во дворе храма и разбежавшихся овец. Я закрыл глаза ладонью. Я не знал, как избавиться от страшных видений.
Мне стало холодно. Я прижался к маме, которая тут же раскрыла руки, чтобы обнять меня. Я уткнулся носом в ее мягкую накидку.
Мы стояли рядом с Клеопой. Маленький Симеон, которого я все еще держал за руку, вертелся и играл с отцом. Я сказал дяде:
— Почему тот человек бросал камни, ведь он знал, что солдаты убьют его?
Клеопа видел это. Мы все это видели, правда? Сначала Клеопа задумался, глядя на лучик света, падающий во двор синагоги из-за высоких стен.
— Это был хороший момент, чтобы умереть, — ответил он мне. — Лучшего момента в его жизни, наверное, и не было.
— Ты думаешь, это хорошо? — спросил я.
Он засмеялся своим тихим смехом и посмотрел на меня:
— А ты? Ты как думаешь, хорошо это было или нет? — Но дожидаться моего ответа он не стал, а тут же начал шептать мне в ухо по-гречески: — Архелай дурак. Цезарю остается только посмеяться над ним. Царь евреев! — Он покачал головой. — Мы беженцы в собственной стране. Вот в чем правда. И вот почему они сражались! Они хотели избавиться от злосчастной семьи царей, которые строят языческие храмы и живут как языческие тираны!
Иосиф схватил Клеопу за руку и потянул его в сторону.
— Не говори об этом, — сказал Иосиф, пристально глядя в глаза Клеопе. — Больше никаких разговоров здесь, понятно? Мне все равно, что ты думаешь, главное — молчи.
Иосиф вернулся к увязыванию поклажи на купленных ослах. Чуть мягче он добавил:
— Сейчас ни слова, понимаешь меня, брат?
Клеопа не ответил. Тетя Мария подошла к дяде и утерла ему пот со лба.
То есть я был не прав, когда думал, что Иосиф никогда не реагирует на речи Клеопы.
Однако Клеопа не подал виду, что слышал слова Иосифа. Он с улыбкой погрузился в рассеянную задумчивость, как будто Иосиф и не говорил ничего. Лицо его покрывали капли пота, хотя день был нежарким.
Наконец все собрались, и Иосиф и Зебедей вывели нас из двора.
— Брат мой, — обратился Иосиф к Клеопе, — когда мы выедем за ворота, я хочу, чтобы ты поехал верхом на осле.
Клеопа кивнул.
Проходя по узким улицам, мы сбились плотной толпой, как стадо овец. Плач женщин, звучащий повсеместно, усиливался, когда мы шли под арками или в самых узеньких переулках. Я видел, что окна и двери плотно захлопнуты. Деревянные ворота дворов закрыты. Люди перешагивали через просящих милостыню, что сидели, сгорбившись, вдоль дороги. Мужчины кидали им монеты. Иосиф вложил одну монетку мне в ладонь и сказал, чтобы я дал ее какому-нибудь несчастному, и когда я так и сделал, тот поцеловал мои пальцы, принимая милостыню. Это был старый человек, худой и седой, с ярко-голубыми глазами.
Я очень устал, у меня болели ноги и ступни, но не время было жаловаться.
Как только мы вышли за городские ворота, нам открылась картина еще более ужасная, чем та, свидетелями которой мы стали в храме.
Шатры паломников были разорваны в клочья. Повсюду лежали тела убитых. Все было усыпано вещами и товарами, но никто не подбирал их — людям было не до их добра.
А между беспомощными людьми разъезжали взад и вперед вооруженные всадники, выкрикивая приказы, не проявляя ни капли уважения к погибшим, ни доли сочувствия к скорбящим. Они все время двигались сами и заставляли всех двигаться тоже. Они держали копья наготове. Некоторые обнажили мечи. Они были повсюду.
И здесь мы не могли задержаться, чтобы помочь кому-нибудь, как не могли остановиться в городе. Солдаты подталкивали копьями всех замешкавшихся, и люди торопились в попытке избежать унизительного тычка в спину.
Но больше всего нас ужаснуло количество убитых. Куда ни бросишь взгляд, везде мертвые тела. Им не было числа.
— Это была кровавая расправа, — сказал дядя Алфей. Он притянул к себе своих сыновей, Силу и Левия, и сказал громко, чтобы мы все услышали: — Оглянитесь на содеянное этим человеком. Смотрите и не забывайте никогда.
— Я вижу. Но разве мы не должны остаться? Мы должны сражаться! — горячо воскликнул Сила. Он говорил громким шепотом, так что мы услышали его, и тут же тихо запричитали женщины, умоляя его замолчать, и Иосиф твердо сказал, что о том, чтобы остаться, не может быть и речи.
Я заплакал. Я заплакал, сам не зная почему. Мне казалось, что я разучился дышать, и я не мог остановить слезы.
Мама стала успокаивать меня:
— Скоро мы уйдем в холмы, далеко-далеко отсюда. Ты с нами. И мы идем в мирное место. Там, куда мы идем, войны нет.
Я попытался проглотить слезы, но не сумел: мне было страшно. Раньше я никогда так не боялся. И снова перед моими глазами встал образ того мертвого человека.
Потом я заметил, что на меня смотрит Иаков. И Иоанн, сын Елизаветы. Сама Елизавета ехала на осле. И когда я увидел, что двое мальчиков смотрят на меня, я перестал плакать. Хотя это было очень трудно.
Дорога становилась все тяжелее, и мои мысли теперь были заняты трудностями пути, потому что мы поднимались все выше и выше в гору и скоро уже могли увидеть вдалеке под нами весь город. Чем выше мы забирались, тем меньше я боялся. И вот уже Маленькая Саломея оказалась возле меня. Взрослые загораживали нам город, но я не хотел смотреть на него. И никто не остановился, чтобы оглянуться и сказать, как прекрасен храм.
Мужчины заставили Клеопу сесть на осла и тетю Марию тоже посадили верхом. Они оба держали на руках малышей. Дядя как обычно что-то бормотал себе под нос.
Так шел наш караван.
И все же мне казалось, что неправильно было покидать Иерусалим таким образом. Я думал о Силе и о том, что он сказал. Да, уходить было неправильно. Несправедливо было торопиться покинуть храм в тот час, когда ему больше всего требовалась наша помощь и забота. Но, вспомнил я, ведь есть же сотни и сотни священников. Священники знают, как очистить храм, и почти все они живут в Иерусалиме и, значит, не могут уйти из города. То есть они — и первосвященник с ними вместе — останутся в городе и очистят храм как положено.
Они, разумеется, знают, что нужно делать с телом того убитого человека. Священники проследят за тем, чтобы его обмыли, обрядили и похоронили так, как следует. Правда, я старался не задумываться об убитом человеке слишком сильно, потому что не хотел снова расплакаться.
Вокруг нас высились холмы. Наши голоса подхватывало эхо. Люди начали петь, но на этот раз они пели печальные псалмы, полные боли и скорби.
Потом мимо нас пронеслись всадники. Пропуская их, мы прижались к обочине. Женщины закричали от страха. Маленькая Саломея спала на руках у Клеопы, который, похоже, тоже задремал и во сне разговаривал и смеялся.
Я заплакал. Я ничего не мог поделать с собой. Мимо нас неслась толпа всадников, и нам пришлось покинуть Иерусалим.
— Мы придем сюда на следующий год, — пообещал мне Иосиф. — И еще через год. Ведь теперь здесь наш дом.
— И может быть, к следующему году Архелая уже не будет, — сказал Клеопа, не открывая глаз, но Иаков и я услышали его. — Царь евреев! — фыркнул Клеопа. — Надо же, царь евреев.
7
Сон. Надо проснуться. Я всхлипываю. Человек падает, в его груди торчит копье. Вот он снова падает, и опять в его груди копье. Просыпайся, говорит мне кто-то, и слышатся еще чьи-то голоса. Мокрое прижалось к моему лицу. Всхлипы. Я открыл глаза. Где мы?
— Просыпайся, — сказала мама.
Оказалось, что я лежу между женщин, вокруг темно, единственный свет — лампа, да в небе полыхает какое-то зарево.
— Тебе приснился страшный сон, — прошептала мама. Она прижала меня к себе.
Мимо нас промчался Иаков. Маленькая Саломея позвала меня.
— Иисус, проснись! — крикнул мой родич Иоанн, который до тех пор не произнес ни слова.
Где это мы, в пещере? Нет. А, это дом наших родственников — здесь живут Иоанн и его мать. Остаток пути Иосиф нес меня на руках, и я заснул.
Женщины утирали слезы с моего лица.
— Тебе приснился дурной сон.
От сильного плача во сне я охрип и закашлялся. Мне было страшно, и казалось, что ничего ужаснее со мной уже не могло случиться. Я прижался к маме. Я уткнулся в нее лицом.
— Это царский дворец, — крикнул кто-то. — Они подожгли царский дворец!
Вокруг было шумно, мимо дома проскакали лошади. Стало темно. Но затем на потолке вновь задрожали красные отблески.
Елизавета тихо молилась, а один из мужчин сказал, чтобы дети отошли от дверей.
— Погасите все лампы! — приказал Иосиф. Вновь послышался звук скачущих лошадей, кто-то кричал на улице.
Я не хотел знать, о чем все говорили, почему дети визжали и кричали и почему Елизавета молилась. Меня поглотил страх.
Даже зажмурившись крепко-крепко, я видел вспышки красного света. Мама поцеловала меня в макушку.
Иаков сказал:
— Горит Иерихон. Дворец Ирода в огне. Все в огне.
— Дворец отстроят заново, — отозвался Иосиф. — Он горел и раньше. Цезарь Август проследит за тем, чтобы его построили опять. — Его голос был спокоен. Я почувствовал, как он положил ладонь мне на плечи. — Ты не бойся, малыш. Тебе нечего бояться.
На мгновение я снова провалился в сон. Храм, человек бросается навстречу копью. Я сжал зубы и заплакал, и мама прижала меня к себе изо всех сил.
— Мы в безопасности, малыш, — сказал Иосиф. — Мы в доме, мы все вместе, и мы в безопасности.
Женщины, что сидели рядом, поднялись. Они захотели посмотреть на пожар. Маленькая Саломея радостно визжала от восторга, так же как во время наших игр. Дети бегали взад и вперед, ссорились за место, откуда было лучше видно.
Маленький Симеон повторял как зачарованный:
— Пожар, пожар!
Я открыл глаза. Через распахнутую дверь, в которой столпилась детвора, виднелось полыхающее красным небо, и от одного его вида меня охватила дрожь. Никогда я не видел такого неба. Я отвернулся. У противоположной от входа стены лежал дядя Клеопа. Его глаза блестели. Он улыбнулся мне.
— Зачем? — спросил я его. — Зачем подожгли Иерихон?
— А почему бы и не поджечь его? — вопросом на вопрос ответил дядя. — Пусть Цезарь Август узнает, как мы ненавидим человека, пославшего солдат смешать нашу кровь с жертвенной кровью! Известие об этом достигнет Рима раньше Архелая. Пламя громче слов.
— Как будто пламя может говорить, — возразила мама, но думаю, что никто ее не услышал.
Сила вбежал в дом с криком:
— Это Симон, один из рабов самого Ирода. Он назвал себя царем и собрал огромное войско. Это он поджег дворец!
— Останься в доме, никуда не выходи! — велел ему дядя Алфей. — Где твой брат?
Левий тоже пришел, и выражение его лица ужаснуло меня. Он тоже боялся, и от этого мне стало еще страшнее.
Все мужчины поднялись и направились из дома смотреть на пожар. Я видел их темные силуэты на фоне неба. Их было много, и они все время двигались, как будто в странном танце.
Вот и Иосиф поднялся.
— Иешуа, вставай, ты тоже должен посмотреть, — позвал он меня.
— О, зачем? — воскликнула мама. — Разве это обязательно?
— Пойдем, посмотришь на то, что натворила банда грабителей и убийц, — продолжал Иосиф, не отвечая ей. — Ты увидишь, как люди превращаются в безумных, празднуя смерть старого Ирода. Увидишь, что скрывается под внешним спокойствием, когда царь насаждает свою власть жестокостью. Пойдем.
— А почему надо позволять тиранам жить в роскоши? — спросил Клеопа. — Тиранам, которые убивают собственный народ? Тиранам, которые строят театры и цирки в Иерусалиме, в самом священном городе? Это же места, куда не пойдет ни один добропорядочный еврей. Первосвященники, которых они назначают, — это же люди, которых они, тираны, хотят продвинуть. Но ведь первосвященник входит в Святая Святых! Первосвященник — не наемный слуга.
— Брат мой, — прошептала мама, — я сойду с ума!
Я дрожал так сильно, что боялся встать на ноги, но все же поднялся и взял Иосифа за руку.
Он вывел меня из дома. Вся наша семья стояла на вершине холма, даже женщины, кроме моей мамы, а вокруг в темноте собрались другие семьи, жившие в этой деревне.
Облака над долиной кипели в огне пожара. Воздух наплывал то горячими волнами, то холодными, и люди разговаривали громко, как на празднике, дети бегали кругами, и приплясывали, и возвращались снова посмотреть на огонь. Я прижался к Иосифу.
— Он еще слишком мал, — раздался тихий мамин голос. Она вышла из дома вслед за нами.
— Он должен это видеть, — ответил Иосиф.
Огромное, жаркое зарево внезапно взорвалось стеной пламени, такого яростного и высокого, что казалось, будто огонь дотянулся до самых звезд небесных. Я отвернулся. Я не мог смотреть на это. Плач рвался из меня, отрывистый и хриплый. В моих глазах плясали языки пламени. От него было не спрятаться. Мои легкие наполнились дымом. Мама хотела взять меня на руки, но я, не желая сопротивляться, все же сопротивлялся, и тогда меня подхватил Иосиф и несколько раз позвал по имени.
— Мы далеко от пожара! — успокаивал он меня. — Он нам ничего не сделает. Слышишь? Ты слышишь меня?
Но я все вырывался, и тогда ему пришлось крепко прижать меня к своей груди, лишив возможности двигаться.
Он быстро понес меня обратно в дом.
Я плакал не переставая. От рыданий у меня болела грудь. Болело сердце.
Мы опустились на пол, и Елизавета обхватила мое лицо руками. Я увидел ее глаза прямо перед собой.
— Послушай, что я скажу тебе, дитя мое, — произнесла она. — Не надо плакать. Думаешь, ангел Господень пришел бы к твоему отцу, Иосифу, и сказал бы ему отвести тебя домой, если бы это было опасно? Пути Господни неисповедимы. Так что утри слезы и доверься Господу. Приляг на груди своей матери, вот так, и не плачь. Пусть мама обнимет тебя. Ты в руках Господа.
— Ангел Господень, — прошептал я. — Ангел Господень.
— Да, — кивнул Иосиф, — ангел Господень пребудет с нами до тех пор, пока мы не придем в Назарет.
Мама нежно обнимала меня.
— Мы уйдем отсюда, — заговорила она тихим, ласковым голосом. — Мы просто проходили мимо. Скоро мы будем в нашем собственном доме. Мы будем есть фиги с нашего дерева и виноград из нашего сада. В очаге мы каждый день будем печь хлеб, — рассказывала она, снова устроившись на полу возле Клеопы. Я всхлипывал, уткнувшись носом ей в шею. Она гладила меня по спине.
— Верно, верно, — подтвердил Клеопа.
Я обхватил маму за шею и задышал глубже и реже.
— Скоро мы придем в Назарет, — сказал Клеопа, — и туда никто, я обещаю тебе, малыш, никто не придет за тобой.
Внезапно мне захотелось спать, очень сильно. Но что имел в виду Клеопа? Кто не придет за мной? Кто ищет меня? Я не хотел засыпать, я хотел расспросить его, что он хотел сказать этими словами. Придут за мной. Кто? Что это за странные истории? И зачем маме являлся ангел? Из-за всех наших злоключений я совсем забыл о том, что она сказала мне на крыше синагоги в Иерусалиме. А Елизавета только что упомянула, что ангел являлся и Иосифу. Раньше Иосиф ничего не говорил о том, что он видел ангела.
Я проваливался в глубокий сладкий сон, но на краткий миг успел подумать, что все эти истории связаны. Нужно только понять как. Да! Ангелы. Ангел приходил раньше, и ангел пришел еще раз. Ангел здесь. Я это знаю, да? Нет. Но тут сон окончательно сморил меня, и я перестал противиться ему, чувствуя себя в безопасности.
Мама тихонечко завела песню на иврите, и ей подпевал Клеопа. Ему стало лучше в последнее время, гораздо лучше, только он все еще кашлял. Но зато разболелась тетя Мария, хотя никто почему-то не переживал за нее.
Завтра мы покинем это ужасное место. Здесь останутся наши родственники, и в том числе странный серьезный мальчик Иоанн, который так редко говорил и так часто смотрел на меня, и наша любимая Елизавета, его мать, а мы все отправимся в спокойный Назарет.
8
Как только рассвело, в деревню въехали вооруженные всадники.
Мы как раз собрались в круг, чтобы попрощаться с Елизаветой, но, заслышав приближение грабителей, сгрудились в дальней комнате дома, все до единого.
Клеопа не вставал со своего места, потому что ночью он очень сильно кашлял и у него снова началась лихорадка. Он лежал со своей вечной улыбкой и не сводил влажных глаз с низкого потолка у нас над головами.
До нас доносились крики, и блеяние ягнят, и кудахтанье птицы.
— Они забирают все, — возмутилась Мария Александра, жена Зебедея.
Другие женщины зашикали на нее, а Зебедей погладил ее по руке.
Сила собрался подойти к занавеси на двери и выглянуть наружу, но его отец жестом велел ему вернуться в дальний угол.
Даже малыши, которых приводило в восторг любое событие, притихли.
Тетя Есфирь, жена Симона, держала на руках крошку Есфирь и каждый раз, когда девочка начинала хныкать, давала ей грудь.
Я больше не боялся, но сам не знал почему. Я стоял среди женщин вместе с другими детьми, только Иаков стоял рядом с отцом и мужчинами. Иаков уже не ребенок, подумал я, глядя на него. Если бы мы остались в Иерусалиме, если бы не случилось восстания, то Иаков вошел бы в Святилище сынов Израиля с Силой, Левием и остальными взрослыми.
Мои мысли прервала мама. Она внезапно схватила меня за руку. Я почувствовал, как страх охватил всех взрослых.
В передней комнате были чужаки. Маленькая Саломея прижалась ко мне, и я крепко обнял ее, а мама обняла меня.
Занавес рванула чья-то рука. В комнату хлынул свет. Ослепленный, я моргал и жмурился. Мама сжимала меня изо всех сил. Никто не сказал ни слова и не пошевельнулся. Я знал, что нам всем нужно вести себя тихо и ничего не делать. Все знали это, даже самые маленькие из нас. Младенцы плакали, но почти неслышно, и не из-за того, что чужие люди сорвали с двери занавес.
Их было трое или четверо, черные фигуры на фоне дневного света, большие и грубые. Их ноги под шнуровкой сандалий были обмотаны тряпками. Один накинул на себя звериные шкуры, другой надел на голову блестящий шлем. Свет играл бликами на мечах и кинжалах.
— Ха, посмотрите-ка сюда, — сказал мужчина в шлеме. Он говорил по-гречески. — Кто это у нас здесь? Полдеревни, не меньше.
— Давайте сюда все, что у вас есть! — скомандовал другой, вваливаясь в комнату. Он тоже говорил по-гречески. У него был грубый голос— Слышите? Все, что у вас есть, до последнего динария, вы все, немедленно. Все золото и серебро. Женщины, снимайте браслеты. Мы вспорем вам животы, если увидим, что вы что-то проглотили, или если вы по-хорошему не отдадите требуемое!
Никто не двинулся. Женщины стояли как каменные.
Маленькая Саломея заплакала. Я обнимал ее так сильно, что, должно быть, сделал ей больно. Но чужакам никто не отвечал.
— Мы боремся за свободу вашей земли, — сказал один из них. Снова по-гречески. — Вы, тупицы безголовые, разве вы не знаете, что происходит в Израиле?
Он шагнул к нам и стал махать кинжалом сначала перед лицом Алфея, потом Симона, потом Иосифа. Но наши мужчины ничего не сказали.
Никто не двигался. Все хранили молчание.
— Вы слышите меня? Я перережу вам горло, всем до единого, начиная с детей! — крикнул грабитель, отступая.
Один из его спутников пнул наши увязанные перед дорогой котомки, другой схватил одеяло и отбросил его. Наконец заговорил Иосиф, очень тихо, на иврите:
— Я не понимаю вас. Что вы хотите? Мы мирные люди. Мы вас не понимаем.
Затем вступил Алфей, тоже тихо и на иврите:
— Пожалуйста, не причиняйте вреда беззащитным детям и женщинам. Пусть никто не скажет про вас, что вы пролили невинную кровь.
Теперь настала очередь грабителей застыть неподвижно. Потом один из них отвернулся.
— О, эти тупые крестьяне, — воскликнул он по-гречески. — Эти безграмотные свиньи.
— Да они, похоже, денег никогда и не видали, — сказал другой. — Здесь ничего нет, только старое тряпье да вонючие дети. Жалкие оборванцы. Жрите свою грязь спокойно.
— Да, пресмыкайтесь, пока мы боремся за вашу свободу, — подхватил третий.
Они развернулись и ушли, тяжело ступая, раскидав на ходу корзины и одеяла.
Мы ждали. Я чувствовал напряженные руки мамы у меня на плечах. Я видел Иакова, и он был удивительно похож на Иосифа, странно, что раньше я не замечал этого.
Постепенно крики и шум в деревне стихли.
Заговорил Иосиф.
— Запомните это, — сказал он. Он переводил взгляд с Иакова на меня, с Маленького Иосия на Иоанна, стоящего рядом с матерью, на моих братьев, которые все смотрели на него. — Помните. Никогда не поднимайте руки в свою защиту. Будьте терпеливы. Если вступаете в беседу, говорите просто.
Мы закивали. Мы понимали, что случилось. Мы все понимали. Маленькая Саломея всхлипывала. И вдруг моей тете Марии стало плохо. Она зарыдала, повернулась и села рядом с Клеопой, который все так же глядел в потолок. Можно было подумать, что он умер. Но он был жив.
Дети всей гурьбой рванули к дверям маленького дома. Люди выбегали на улицу. Нашествие грабителей разъярило их. Женщины ловили напуганную домашнюю птицу. А посреди всего этого я увидел, что на дороге на спине лежит человек — совсем как Клеопа, замерший на циновке, только у этого человека изо рта лилась кровь. Он был похож на паломника, убитого в храме.
В нем больше не было души.
Вокруг него суетились люди, но никто не оплакивал его, никто не опустился рядом с ним на колени.
Потом пришли двое мужчин с веревкой, обвязали его, подхватили и потащили прочь.
— Это один из них, — сказал Иаков. — Не смотри туда.
— А кто его убил? — спросил я. — И что с ним теперь сделают?
В свете дня мне было не так страшно, как ночью. Но я знал, даже в тот момент, что ночь придет. И мне снова станет очень страшно. Я догадывался, что страх ждет меня. Страх был чем-то новым в моей жизни. И он был ужасен. Даже когда я не ощущал его, я помнил о нем и знал, что он вернется. Больше он никогда не исчезнет.
— Его похоронят, — ответил Иаков. — Нельзя оставлять тела непогребенными. Это грех перед Господом. Его положат в пещеру или закопают в землю. Все равно куда.
Нас позвали в дом.
В комнате прибрались, подмели полы и расстелили красивые ковры — расшитые цветами, сотканные из шерсти. Нам сказали сесть в круг вместе с взрослыми, вести себя тихо и слушать, потому что Елизавета хотела поговорить с нами перед тем, как мы снова отправимся в путь.
И я вспомнил, что нас уже созывали для этого сегодня утром, только не успели достать ковры, а потом появились всадники.
А теперь мы собрались снова и продолжили наши дела, как будто ничего не было, как будто никто не умер на улице совсем недавно.
Нас было так много, что круг получился очень плотным. Женщины немного успокоили младенцев, и стало достаточно тихо для того, чтобы Елизавета смогла говорить. Я сидел впереди Иосифа, со скрещенными ногами, так же как он; справа от меня сидела Маленькая Саломея, прислонившись спиной к своей матери. Клеопа остался лежать в дальней комнате.
— Я буду говорить кратко, — начала Елизавета.
Утром, когда я проснулся, она рассказывала нам о прадедушках и прабабушках, о том, кто на ком женился и кто в какую деревню уехал. Я не запомнил все имена. Но наши женщины и мужчины повторяли их вслед за Елизаветой, чтобы заучить все, что она сказала.
Теперь, начав говорить, она качнула головой и подняла руки. Из-под накидки, покрывавшей ее голову, виднелись темные пряди с серебристыми нитями седины.
— То, что я вам сейчас скажу, я не могла написать в письме. Когда я умру, а это случится скоро… Нет-нет, не возражайте. Я знаю, что мне недолго осталось. Я вижу признаки. Когда я умру, Иоанн пойдет жить с нашими родственниками среди ессеев.
И тут все сразу заахали и заохали. Даже Клеопа появился в дверях, закутавшись в одеяло, сжимая грудь ладонью.
— С чего вдруг ты приняла такое решение? — воскликнул он. — Отправить ребенка к людям, которые не желают ходить в храм! Отправить к ним не кого-нибудь, а Иоанна, сына священника! Ты сама всю жизнь была замужем за священником, и Захария был сыном священника, и все до него.
Клеопа проковылял в середину круга, придерживая одеяло, и там с трудом опустился на колени. Моя мама тут же стала устраивать его поудобнее, расправлять одежды, подкладывать подушки. А он продолжал:
— И ты хочешь послать Иоанна, чья мать принадлежит к дому Давида и чей отец из дома Аарона, жить с ессеями? С ессеями? С людьми, которые считают, что они лучше остальных знают, что хорошо и что плохо, и кто праведник, и что угодно Господу?
— А кто такие, по-твоему, ессеи? — тихо спросила Елизавета. Она была терпелива, желая, чтобы ее поняли. — Разве они не дети Авраама? Разве они не из дома Давида и не из дома Аарона, не из других племен израильских? Разве они не чисты? Разве не чтят они Закон? Говорю тебе, они отведут Иоанна в пустыню и там научат его и позаботятся о нем. И он сам, мой сын, хочет этого, и у него есть на то причины.
Иоанн смотрел на меня. Почему? Почему не на свою мать, на которую смотрели сейчас все остальные? По его лицу трудно было что-либо сказать. Он просто смотрел на меня, и я видел в нем только глубокое спокойствие. Иоанн не был похож на маленького мальчика. Скорее на маленького мужчину. Он сидел напротив своей матери, в простой белой тунике, но сшитой из шерстяной ткани гораздо лучшего качества, чем моя одежда или одежда членов моей семьи, а поверх туники на нем была накидка из столь же тонкой шерсти. Я видел все это и раньше, но не придавал значения, а теперь все эти детали привлекли мое внимание, и Иоанн очень меня заинтересовал. Однако Клеопа продолжал говорить, и я стал прислушиваться к его словам.
— Ессеи! — возмущался он. — Неужели никто из вас не вступится за мальчика, прежде чем он станет сыном людей, которые не стоят перед Господом в назначенное время? Неужели один я имею голос? Елизавета, на головах наших предков я клянусь, что это не может…
— Брат, успокойся, — отвечала Елизавета. — Береги свою страсть для своих сыновей. Это мой сын, доверенный мне Господом в мои преклонные годы вопреки всякому вероятию! Ты говоришь не с женщиной, когда говоришь со мной. Ты говоришь с Саррой древних времен, с Анной древних времен. Ты говоришь с одной из избранных. Разве я не должна давать этому ребенку то, что, по-моему, хочет для него Господь?
— Иосиф, не позволь этому случиться, — обратился Клеопа к Иосифу.
— Ты ближе мальчику, чем я, — ответил Иосиф. — Если хочешь возразить его матери, возражай.
— Я не возражаю ей, — сказал Клеопа. В его груди заклокотал кашель, а тело скрутил приступ боли. Тетя Мария беспокоилась за него, и мама тоже. Клеопа поднял руку, прося о терпении, но кашель все не прекращался. Наконец он смог договорить: — Ты упомянула Сарру, жену Авраама. Ты упомянула Анну, мать Самуила. Но ни одна из них не нарушила заповедей Господа. А ты посылаешь своего мальчика жить с теми, кто поворачивается спиной к храму Господа?
— Брат, у тебя короткая память, — возразила Елизавета. — К кому пришла твоя сестра Мария, когда узнала, что избрана понести ребенка Иешуа? Она пришла ко мне, а почему? Сейчас, пока эту деревню не настигла очередная беда, я умоляю вас выслушать мое решение и не спорить со мной. Я не ищу вашего согласия, а хочу поведать вам о своем решении. Говорю вам, мальчик отправится к ессеям.
Никогда раньше я не слышал, чтобы женщина говорила так властно. Конечно, на улице Плотников в Александрии были уважаемые женщины, которые могли успокоить расшалившихся детей одним хлопком в ладоши, и были женщины, которые задавали в синагоге такие вопросы, что учителю приходилось сверяться со своими свитками. Но речь Елизаветы была сильнее и яснее, чем все, что я когда-либо слышал.
Клеопа замолчал.
Елизавета продолжила более тихим голосом:
— Наши родственники уже живут с ними — внуки Маттафия и Наоми, которые давным-давно ушли в пустыню к ессеям, и я говорила с ними, они согласны взять Иоанна хоть сейчас. В их правилах принимать детей и воспитывать их в строгости, очищении и посте, а все это близко моему сыну. И он будет учиться у них. Он узнает учения пророков и слово Господне. В пустыне, вот где он хочет быть, и когда я отправлюсь к нашим предкам, он уйдет туда и будет жить там до тех пор, пока не станет мужчиной и не решит для себя, что делать дальше. Я уже договорилась с ессеями, и они только ждут слова от меня или когда он сам придет к тем, кто живет на другом берегу Иордана, и они заберут его далеко отсюда, где воспитают в стороне от людских дел.
— Почему ты не хочешь пойти с нами в Назарет? — спросил ее Иосиф. — Мы будем рады взять тебя. Твой брат, разумеется, поддержит меня, ведь мы идем жить в дом его родителей, мы все…
— Нет, — покачала головой Елизавета. — Я останусь здесь. Меня похоронят рядом с моим мужем Захарией. И я скажу вам причину, по которой мой сын должен уйти.
— Так назови же эту причину, — сказал Клеопа. — И ты знаешь, что я хотел бы, чтобы вы жили с нами в Назарете. Ведь это будет правильно, если Иоанн и Иешуа вырастут вместе. — После этих слов он, как ни сдерживался, закашлялся. Но я знал, что если бы не кашель, то дядя Клеопа сказал бы еще многое.
— Именно это я и не могла написать в письме, — произнесла Елизавета. — Прошу, слушайте внимательно, потому что я скажу это лишь единожды.
Матери зашикали на детей. Клеопа прочистил горло.
— Говори же, — потребовал он. — А то я умру, так и не узнав этой причины.
— Все вы знаете, что после того, как вы, Иосиф, Мария и малыш, ушли в Египет, Ирод пребывал в беспокойном и мстительном состоянии духа.
— Да, знаем, — проговорил Клеопа, — эту часть можно пропустить. — И он снова закашлялся.
— И все вы также знаете, что Иоанн родился, когда и я, и Захария были в крайне преклонном возрасте, так же как Сарра и Авраам были в преклонном возрасте, когда у них родился Исаак. — Она остановилась и посмотрела по очереди на каждого из нас, маленьких детей, сидящих внутри круга, и мы кивнули ей в знак того, что мы поняли. — Вы знаете, как Анна молила Господа о ребенке, да, дети? Помните, как она стояла и молилась, а кое-кто подумал, что она пьяна? Кто может сказать мне, кто так подумал, а?
— Священник Илия, — быстро ответил Сила. — А она сказала ему, что молится, и объяснила почему, и он тоже помолился за нее.
— Верно, — кивнула Елизавета, — вот и я так же молилась, но вы не знаете, что рождение моего сына было предсказано.
Я не знал этого. И видел, что другие тоже удивились. Что касается Иоанна, то он тихо сидел, глядя на мать, и казалось, ничто не волновало его. Он был погружен в глубокую задумчивость.
— Так вот, предоставлю вашим отцам объяснить вам, как все это случилось, у меня есть свои причины не говорить об этом сейчас, упомяну лишь, что было сказано, что ребенок у нас родится в конце жизни волею небес и после этого я должна буду посвятить его Господу. Вы видите, что его волос не касалась бритва и он не вкушал вина. Он принадлежит Господу.
— Господу ессеев? — спросил Клеопа.
— Пусть она договорит, — попросила мама. — Неужели ты забыл все, что знал?
Дядя умолк.
Елизавета продолжала. Она снова обвела всех нас взглядом. И никто не говорил, все ждали, пока она закончит свою речь.
— Мы происходим из дома Давида, — сказала Елизавета. — И вы знаете, что Ирод так ненавидит всех нас и других, в ком есть хоть капля царской крови, что он сжег все записи в храме, и все пострадали оттого, что погибли книги, в которых записывались имена наших предков с начала времен. И вы знаете, что случилось перед тем, как вы ушли в Египет, помните, что заставило мою возлюбленную сестру Марию бежать в Египет вместе с младенцем, Иосифом и с тобой, Клеопа.
Я не посмел задать вопрос, который вертелся у меня на кончике языка. Я-то не знал, что заставило нас бежать в Египет! Но она продолжала говорить.
— Царь Ирод повсюду разослал своих шпионов, — сказала она. Ее голос стал хриплым и низким.
— Мы знаем это, — тихо проговорила мама. Она слегка приподняла руку, и Елизавета взяла ее ладонь и сжала, и они кивнули друг другу, их накидки почти соприкасались. Они словно делились секретом, не произнося ни слова.
Потом Елизавета снова обратилась ко всем:
— Так вот, люди Ирода, его солдаты, грубые, как те грабители, что только что приходили в нашу деревню, в этот самый дом, желая лишить нас всего ради своих ничтожных войн, пришли в храм в поисках моего Захарии, чтобы расспросить о его ребенке, о сыне дома Давида. Они хотели сами увидеть этого сына.
— Мы об этом ничего не знали, — прошептал Иосиф.
— Говорю же вам, я не могла писать об этом в письме, — пояснила Елизавета. — Мне надо было дождаться вашего приезда. Того, что сделано, назад не воротишь. Итак, они разыскали его в храме, эти солдаты, когда он вышел из Святилища, где выполнял свои обязанности священника. И вы думаете, он сказал им, где найти его сына? Захария к тому времени уже спрятал меня и младенца. Мы ушли в пещеры неподалеку от того места, где жили ессеи, и они носили нам еду. Мой муж не сказал солдатам, где мы скрылись. Они толкали его и заставили упасть на колени прямо перед Святилищем, и другие священники не могли помешать им. Но вы думаете, они хотя бы попытались? Вы думаете, хоть один писец пришел на помощь моему мужу? Вы думаете, высшие священники выразили протест?
Теперь глаза Елизаветы были направлены прямо на меня. Медленно она перевела взгляд на Иосифа и Марию, а потом и на всех остальных.
— Они били Захарию. Они били его, потому что он ничего не сказал, и в конце концов очередной удар в голову убил его. Прямо перед лицом Господа.
В молчании мы ждали, что она скажет дальше.
— Многие видели, что случилось. Но они не понимали, в чем причина. Знали только несколько священников. И они послали мне весть. Рассказали нашим родственникам, те передали другим, и кто-то нашел ессеев и сообщил им. А ессеи сказали мне.
Мы все были потрясены ужасной новостью. Моя мама склонилась и опустила голову на плечо своей сестре, и та обняла ее. Но потом Елизавета выпрямилась, и мама вместе с ней. Елизавета снова заговорила.
— Родственники Захарии, все священники проследили за тем, чтобы его похоронили рядом с предками, — сказала она. — И вы думаете, что после этого я хоть раз зашла в храм? Ни разу до тех пор, пока вы не пришли в Иерусалим. Только когда тиран умер и попал в вечное пламя и огонь пожирающий. Только когда все истории про Иоанна и Иешуа были забыты. И что же мы увидели, представ перед Господом?
Никто не отважился ответить ей.
— Посему Иоанн отправится к ессеям, и это случится скоро. Там он будет в безопасности. А сейчас отправляйтесь в Назарет, пока сюда не нагрянула новая шайка грабителей. У меня им взять нечего. Я стара, а Иоанн юн, и нас они не тронут. Но мы с вами больше не увидимся. Нет. И разумеется, Иоанн должен услышать голос Господа. Он посвящен Господу, и ессеи знают, что он дал обет. Они позаботятся о нем, и он будет учиться до тех пор, пока ему не придет время. А теперь идите.
9
Солдаты Ирода, грабители, человек, убитый в храме, священник, убитый теми, кто искал его сына, а этот сын — мой двоюродный брат.
«Иешуа и Иоанн». Почему его рождение предсказали, и как мы связаны, и самый главный вопрос: что случилось в Вифлееме? Что заставило мою семью отправиться в Египет, где я прожил всю жизнь?
Однако думать я сейчас не мог, просто испытывал поочередно то любопытство, то страх. Страх стал частью моих мыслей. Страх стал частью истории. Мой родич Захария, священник с седыми волосами, падает под ударами солдат Ирода. И вот мы в этой деревне слышим отовсюду сердитые голоса: это жители возмущаются грабителями, печалятся об утраченном имуществе и ожидают дальнейших бед.
Наших животных мы нашли на окраине деревни, у привязи, где мы их и оставили. Рядом с ними стояла старая беззубая женщина и смеялась.
— Они хотели украсть их! — восклицала она. — А животные отказались двигаться. — Она кивала и хлопала себя по коленям, заливаясь довольным смехом. — Они просто не сдвинулись с места.
Неподалеку стоял маленький дом, у которого прямо на земле сидел старик и тоже смеялся.
— Они забрали мой талит[1], — выкрикнул он. — Я сказал им: «Берите, братья, берите!» — Он махнул рукой и продолжал смеяться.
Мы быстро погрузили на ослов свой скарб, водрузили Клеопу на спину одного из животных, усадили и тетю Марию, а затем моя мама обняла Елизавету, и они заплакали.
Маленький Иоанн стоял и смотрел на меня.
— Мы обойдем Иерихон и по долине направимся в Назарет, — объявил нам Иосиф.
Когда мама наконец рассталась с Елизаветой, мы двинулись в путь. Я и Маленькая Саломея шли впереди вместе с Иаковом, за нами увязалось еще несколько детей. Клеопа пел псалмы.
— А кто такие ессеи? — спросила меня Маленькая Саломея.
— Не знаю, — признался я. — Я слышал не больше, чем ты. Откуда мне знать?
Иаков вмешался в наш разговор:
— Ессеи не слушаются священников храма. Они считают, что настоящие священники только у них. Они потомки Садока. Они ждут, когда настанет время очистить храм. Они одеваются в белое и молятся вместе. Но живут раздельно.
— Так они хорошие или плохие? — хотела знать Маленькая Саломея.
— Для наших родственников они достаточно хороши, — ответил Иаков. — Откуда нам знать? Есть фарисеи, есть священники, есть ессеи. Скажем же молитву все вместе: «Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь един».
Мы пробормотали молитву вслед за ним на иврите. Мы повторяли ее каждый день по утрам, когда просыпались, и вечером. Я почти не задумывался над словами. Когда мы читали ее, то переставали делать все другие дела и произносили слова молитвы от всего сердца.
Я ничего не хотел говорить о том, что тревожило меня. У меня было неприятное чувство, что Иаков знал многое, но я не мог расспросить его при Маленькой Саломее. Мое настроение становилось все мрачнее, и страх подступал все ближе.
Мы шли очень быстро, вниз по склону горы, и перед нами разворачивалась равнина, прекрасная, залитая солнечным светом, заросшая пальмами. Она очаровала меня, несмотря на то что кое-где еще дымились пожарища. Повсюду были рассыпаны селения. Я видел, что местные жители занимались своими повседневными делами, как будто грабители вовсе не приходили сюда.
Нас обгоняли группы паломников, многие с песнями, кое-кто верхом на лошадях, и все радостно приветствовали нас.
Мы следовали через деревни, где на улицах играли дети и из открытых дверей пахло готовящейся едой.
— Видишь, — сказала мне мама, словно догадавшись, о чем я думал, — теперь все так и будет вплоть до самого Назарета. Грабители пришли и ушли, но мы остаемся теми, кто мы есть. — Она улыбнулась, и мне показалось, что больше я никогда не буду бояться.
— А правда, что эти люди сражаются за свободу Святой земли? — спросила Маленькая Саломея. Она обращалась теперь не к женщинам, а к мужчинам, словно последние события сплотили нас.
Клеопу этот вопрос насмешил. Он взъерошил волосы на голове у дочки.
— Дочь моя, если люди хотят войны, они найдут повод, — сказал он. — За свободу Святой земли сражаются самые разные люди уже сотни лет — то есть грабят и разоряют мирные поселения, когда им только заблагорассудится.
Иосиф молча покачал головой. Алфей на ходу приобнял Маленькую Саломею.
— Ты не волнуйся, — сказал он. — Раньше нами правил царь Кир, а теперь правит Август Цезарь. Но нам все равно, потому что Господь в небесах — единственный царь, которого мы знаем в наших сердцах. Пусть кто угодно называет себя царем здесь, на земле, нам все равно.
— Но ведь Давид был царем Израиля, — сказал я. — Давид был царем, а после него — Соломон. И царь Иосия, он тоже был великим царем Израиля. Нас научили этому прежде всего остального. И мы все из рода Давида, и Господь говорил Давиду, что он будет царствовать над Израилем вечно. Разве не так?
— Вечно… — повторил Алфей. — Но кому из нас ведомы пути Господни? Господь сдержит свое обещание Давиду, но как — нам не дано знать.
Он отвернулся, говоря это. Мы уже спустились в долину. С гор вместе с нами шло множество людей. Толпа становилась все плотнее.
— Вечно… что такое «вечно» в понимании Господа? — спросил дядя Алфей. — Тысяча лет — ничто для Господа, краткий миг.
— Но придет ли царь? — настаивал я.
Идущий впереди Иосиф обернулся и посмотрел на меня.
— Господь выполнит обещанное Израилю, — сказал Алфей, — Но мы не знаем как и когда.
— А ангелы являются только в Израиле? — спросила Маленькая Саломея.
— Нет, — ответил Иосиф. — Они являются где им угодно и когда им угодно.
— А почему мы должны были уйти в Египет? — не унималась Маленькая Саломея. — Почему люди царя Ирода…
— Сейчас не время задавать такие вопросы, — перебил ее Иосиф.
Моя мама вмешалась в беседу:
— Это время придет, и мы расскажем вам все подробно, чтобы вы поняли. Но не сейчас.
Я догадывался, что они так скажут. Но все-таки шанс узнать что-то новое радовал, и я был благодарен Маленькой Саломее за то, что она затеяла этот разговор. Мои старшие двоюродные братья Сила и Юстус куда-то ушли, не видел я поблизости и остальных родичей и поэтому не знал, что они думали о рассказе Елизаветы. Наверняка старшим мальчикам известно больше моего. Возможно, Сила о многом молчал.
Я замедлил шаг и вскоре оказался недалеко от дяди Клеопы, сидящего на осле.
Клеопа слышал наш разговор, я был уверен в этом. Я кому-нибудь обещал, что не буду задавать ему вопросы? Кажется, нет.
— Я живу для того, чтобы рассказать тебе все, — сказал Клеопа.
Но только он произнес эти слова, как возле нас появился Иосиф и пошел рядом с нами.
— Все-таки надеюсь, что ты живешь, чтобы позволить мне рассказать моему сыну то, что сочту нужным. — Он говорил мягко, но настойчиво. — Хватит вопросов. Хватит разговоров о дурных вещах, случившихся давным-давно. Мы покинули Иерусалим. Мы далеко от опасностей. День только начинается, и мы успеем пройти большую часть пути, прежде чем разобьем лагерь.
— Я хотела увидеть Иерихон! — воскликнула Маленькая Саломея. — Можно мы зайдем в Иерихон, хотя бы ненадолго? Я хочу посмотреть на дворец Ирода. Интересно, что там осталось после пожара.
— Мы хотим пойти в Иерихон! — пропел Маленький Симеон.
И его крик подхватила вся детвора, даже дети паломников, недавно присоединившихся к нам, а я засмеялся, заметив улыбку Иосифа.
— Слушайте меня, — сказал он. — Сегодня вечером мы искупаемся в реке Иордан! В самой реке Иордан! Мы впервые омоем в ней наши тела и наши одежды! А потом ляжем спать в долине, под звездами!
— Река Иордан! — закричали все в радостном возбуждении.
Иосиф поведал нам историю о прокаженном, который пришел к пророку Элише, и пророк сказал прокаженному искупаться в реке Иордан, и тот исцелился. А Клеопа завел рассказ о том, как Иешуа пересекал Иордан, и потом Алфей начал следующую историю, и я слушал одно предание за другим, а мы тем временем шли дальше.
Зебедей и его люди догнали нас. Мы не видели их с тех пор, как покинули Елизавету, и Зебедей тоже знал притчу, связанную с рекой Иордан, и Зебедеева жена Мария Александра, которую все звали Мария, вскоре запела: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями его!»
У Марии был красивый высокий голос. Мы запели вместе с ней: «Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!»
Мы были большим кланом и передвигались медленно, с многочисленными остановками, чтобы женщины передохнули, а крошку Есфирь запеленали в чистую холстину. Моя тетя Мария чувствовала себя очень плохо, я это видел, но мама успокоила меня, объяснив, что это хороший знак — у нее будет новый малыш, и я перестал волноваться. Клеопа много раз сходил с осла — по нужде, что означало найти укромное место в стороне от дороги и облегчиться.
Клеопа был слаб, и с ним ходила моя мама, держа его под руку, отчего он сердился. Но ему требовалась помощь, а мама не позволяла другим мужчинам помогать ему. Она говорила: «Это мой брат» — и уходила с Клеопой.
Он делал это так часто, что ему самому стало смешно, и он рассказал нам забавную историю из Писания о том времени, когда царь Саул сражался с юным Давидом, опасаясь, что Давид станет новым царем. Однажды царь Саул зашел в пещеру по нужде, а его враг Давид уже был там и мог бы убить царя. Но поступил ли так Давид? Боже избави. Во мраке пещеры Давид подкрался к совершенно беззащитному Саулу и, пока тот облегчался, отрезал кусок от царской мантии Саула, одеяния, которого не носил никто, кроме царя.
Через некоторое время, в надежде помириться с царем Саулом, Давид послал ему этот кусок мантии, чтобы показать: он, Давид, имел возможность убить царя Саула, но мог ли Давид убить царя помазанного? Боже избави.
Мы все очень любили истории про царя Саула и Давида. Даже Сила и Левий, обычно скучавшие, когда взрослые рассказывали нам притчи, сейчас внимательно слушали Клеопу. Все это время Клеопа говорил по-гречески, и этот язык был привычен и нравился нам, хотя вида мы не показывали.
Клеопа рассказал чудесную историю о том, как Саул, огорченный тем, что Господь перестал разговаривать с ним, отправился к гадалке в Аэндор, чтобы просить ее вызвать дух пророка Самуила для предсказания судьбы Саула. На следующее утро предстояла большая битва, и Саул, потерявший благорасположение Господа, пребывал в отчаянии. Вот почему он искал женщину, умеющую беседовать с духами умерших. Но царь Саул незадолго до этого издал приказ о том, что призывать духов мертвых и гадать запрещается. С большим трудом для него нашли гадалку.
И она призвала дух пророка Самуила, и он появился из земли и спросил: «Почему ты нарушаешь мой покой?» А затем предсказал, что враги Саула победят Израиль и что Саул и его сыновья погибнут.
— И что же случилось потом? — спросил Клеопа, оглядывая нас.
— Гадалка усадила царя Саула за стол и накормила его, чтобы он набрался сил, — ответил Сила.
— Именно это нам сейчас совсем не помешало бы!
Все засмеялись.
— Говорю вам, мы не будем есть и пить, пока не достигнем реки Иордан! — провозгласил Клеопа.
И мы шли дальше.
Показалась река.
За высокой травой в воде отражался красный свет заходящего солнца.
В реке купалось много народа. Со всех сторон с берегов спускались люди, кто-то уже устраивал стоянки. Мы слышали, как отовсюду неслось пение, и одна песня сливалась с другой.
Мы с разбегу вошли в воду, и вода доходила нам до колен. Мы омыли наши тела и наши одежды. Мы пели и кричали. Прохладный воздух не беспокоил нас, потому что мы быстро согрелись и вода казалась нам теплой.
Клеопа слез со своего осла и тоже вошел в реку. Он воздел руки к небу. Он громко запел, так что все слышали его:
— Аллилуйя, аллилуйя! Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его.
И все подхватили псалом:
— Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его!
Вся река наполнилась пением, те, кто был на берегу, тоже присоединились к нам.
Я никогда не видел своего дядю таким, как сейчас, когда он смотрел на красное небо, воздев руки, и лицо его исполнилось молитвенным светом. Исчезла вся его язвительность, исчез его гнев. Людские дела не касались его. Он пел не для людей. Он пел и пел, ни на кого не глядя. Он смотрел на небеса, на темнеющий небосклон с красными лентами, оставленными умирающим солнцем, и с первыми яркими звездами.
Я шел в воде и пел, и когда я приблизился к Клеопе и обнял его за спину, то почувствовал, что он дрожит под накидкой, полы которой лежали на воде.
Он даже не знал, что я стоял рядом с ним.
«Останься со мной. Господи, Отец Небесный, пусть он останется со мной, Отец Небесный, прошу тебя! Слишком ли много я прошу? Если я не могу получить ответы на свои вопросы, то пусть побудет со мной этот человек, хотя бы недолго, столько, сколько ты позволишь».
Я ослаб. Мне пришлось держаться за дядю Клеопу, а иначе я упал бы. Что-то происходило. Сначала быстро, а потом медленно. Больше не было реки, не было темного неба и не было пения, зато вокруг меня появилось много других, и этих других было столько, что не сосчитать: больше, чем песчинок в пустыне или в море.
«Пожалуйста, пожалуйста, пусть он останется со мной, пожалуйста, но если он должен умереть, пусть будет так…»
Я тянул руки вперед и вверх. Я превратился в струну. На какой-то миг, на один краткий миг, я узнал ответы на все вопросы и осознал, что зря переживал, но потом чудесный миг прошел, бесчисленные другие поднялись вверх и ушли туда, где я не мог видеть их и чувствовать.
Темнота. Покой. Люди смеются и переговариваются, как они обычно это делают перед сном.
Я открыл глаза. Что-то отлетело от меня, как волна, накатывающаяся на берег, вдруг отходит, такая большая и сильная, что ее не удержать. Ушло. Что бы это ни было, оно ушло.
Я испугался. Но я был сухой, накрыт чем-то, вокруг было мягко, тесно и темно. Надо мной мигали в небе звезды. Люди все еще пели, и везде горели огни, огни факелов и свечей и костров между шатров. Я был укрыт, мне было тепло, мама обнимала меня.
— Что случилось? — спросил я.
— Ты упал в реку. Должно быть, ты устал, ты сильно молился и устал. Вместе с тобой молилось много людей, и ты взывал к Господу. Но теперь ты здесь, я уложила тебя, так что спи. Закрывай глаза, а когда проснешься утром, ты поешь и снова станешь сильным. Столько событий, а ты еще мал, но уже недостаточно мал, и ты большой мальчик, но еще недостаточно большой.
— Но мы здесь, мы дома, — сказал я. — И кое-что случилось.
— Нет, — возразила мама.
Она так и думала. Она не понимала и тихо улыбалась. Я видел ее улыбку в свете костра и чувствовал тепло огня. Мама говорила мне правду, как всегда. Я огляделся. Иаков крепко спал, и рядом с ним спали младшие братья Зебедея и много-много других детей, я даже не знал всех имен. Маленький Симеон прижался во сне к Маленькому Иуде. Маленький Иосиф похрапывал.
Мария, жена Зебедея, беседовала с Марией, женой Клеопы, торопливо и встревоженно, но слов я не мог разобрать. Они стали подругами, это было видно, и Мария-египтянка, жена Клеопы, жестикулировала и рисовала руками картинки. Мария Зебедеева кивала.
Я закрыл глаза. Другие, целая толпа других, такие славные, как одеяло, как ветер, пахнущий рекой. Они здесь? Что-то шевельнулось во мне, некое знание, ясное, как будто кто-то говорил мне: «Это не самое трудное».
Это длилось лишь мгновение. Потом я снова стал самим собой.
Тут и там раздавались псалмы, и люди, идущие мимо, тоже пели. Я был счастлив лежать так, с закрытыми глазами.
— Господь будет царствовать вовеки, — пели люди, — Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя!
До меня донесся голос тети Марии, Клеопиной жены:
— Я не знаю, где он. Он все еще где-то там, у реки, поет с ними, разговаривает. Они то кричат друг на друга, то начинают петь.
— Пойди присмотри за ним! — прошептала мама.
— Но он стал крепче, говорю тебе. Лихорадка у него прошла. Он вернется, когда захочет прилечь. Если я пойду к нему сейчас, он рассердится. Я не пойду. Зачем идти? Зачем говорить ему что-то? Когда он захочет лечь, он сам вернется.
— Но мы должны приглядывать за ним, — беспокоилась мама.
— Разве ты не видишь, — сказала ей тетя Саломея, — что он хочет именно этого? Если ему суждено умереть, то пусть он умрет, споря о царях, о налогах и о храме, у реки Иордан, обращаясь к Господу. Пусть он воспользуется своей последней силой.
Они помолчали.
Потом женщины заговорили об обыденных вещах и о своих тревогах. Но я не хотел этого слышать. Везде грабители, везде горят деревни. Архелай отправился к морю, чтобы плыть в Рим. Если римляне еще не выступили из Сирии, то вот-вот выступят. Сигнальные костры передают им, что здесь происходит. Весь город Иерусалим поднялся. Я свернулся калачиком, придвинулся к маме, мое тело сжалось как кулак.
— Хватит, — сказала женщинам моя мама. — Ничто не меняется.
Сон. Я провалился в полудрему.
— Ангелы! — громко сказал я и открыл глаза. — Но я не разглядел их как следует.
— Лежи тихо, — шепнула мне мама.
Я засмеялся про себя. Она видела ангела до того, как я родился. Ангел сказал Иосифу, чтобы он привел нас обратно. Я слышал, как он рассказывал об этом. И я видел их. Я видел их; правда, всего один краткий миг. Меньше чем миг. Они явились мне в несметном количестве, бесчисленные как звезды, и на краткий миг я видел их. Ведь видел? Как они выглядели? Не важно. Это не самое трудное.
Я повернулся, устроился поудобнее на свернутом и положенном в изголовье одеяле. Почему я не присмотрелся к ним? Почему не удержал их? Почему позволил им уйти? Да потому, что они никуда не уходят, они всегда здесь! Нужно просто уметь видеть их. Это похоже на то, как открывают деревянную дверь или отодвигают занавеску. Только эта занавеска плотная и тяжелая. Может быть, и занавеси на входе в Святая Святых такие же — плотные и тяжелые. И занавеси могут упасть, закрыться, раз — и ничего не видно.
Моя мама видела ангела, который разговаривал с ней; значит, он вышел из толпы бесчисленных ангелов, он явился ей, сказал слова. Но что значили его слова?
Мне снова захотелось плакать, но я удержался. Я был счастлив и печален. Меня переполняли чувства, как чашу с водой. Я был так полон, что мое тело под покрывалами свернулось, и я крепко ухватился за мамину руку.
Она высвободила пальцы и улеглась рядом со мной. Я почти заснул, но не совсем.
Вот как надо это делать, думал я. Мысли скользили одна за другой. Вот как надо это делать, чтобы никто не знал. И никому не говорить, даже Маленькой Саломее или маме. Нет. Только Отцу Небесному. Я сделал это, да? И потом я узнаю, что случилось в Вифлееме. Я все узнаю.
Они пришли снова, великое множество, но на этот раз я просто улыбался и не открывал глаз. Вы можете приходить, я не буду из-за вас подпрыгивать и просыпаться. Нет, вы можете приходить, даже если вас так много, что нет вам числа. Вы приходите оттуда, где нет чисел. Вы приходите оттуда, где нет грабителей, нет пожаров, где люди не гибнут на копьях. Вы приходите ко мне, но вы не знаете того, что мне известно. Нет, не знаете.
А откуда я это знаю?
10
Что скрывала темнота? Кто нарушил ночной покой?
На следующее утро долину реки заполонили люди, спасающиеся от восстания. Мы проснулись от криков и плача. Близлежащие деревни горели. Уложив вещи на ослов, все двинулись дальше на север.
Сначала наш путь пролегал вдоль реки, потом пожары и стенания заставили нас свернуть на запад, но и там мы видели сражения и бегущих людей, с мешками за плечами и с детьми на руках.
Мы пересекли реку в обратном направлении и снова столкнулись с теми же ужасами. По дорогам сплошным потоком шли несчастные, плачущие люди, которые рассказывали о бандах грабителей и о царях-самозванцах, поджигающих без всяких причин селения, забирающих все на своем пути: и скотину, и золото. Во мне поднялся страх и стал таким реальным, что недавнее ощущение счастья казалось сном даже в ярком свете дня.
Я потерял счет дням; названия городов и селений, что мы проходили, не задерживались в моей памяти. Вновь и вновь нас останавливали разбойники. Они пробирались через толпы беженцев с криками и проклятиями, хватая все, что попадалось им на глаза.
Мы сбивались в плотную группу и ничего не говорили. На ночевку мы останавливались до темноты, вдали от поселений, которые обычно были пусты и сожжены.
В одном городе нам пришлось прятаться от разбойников, которые поджигали вокруг дом за домом. Маленькая Саломея заплакала, и я утешал ее и говорил, что скоро мы придем домой, хотя не так давно сам рыдал при виде горящего Иерихона. Сила и Левий страстно желали сразиться с грабителями, угрожавшими нам. Иаков же строго повторял указание его отца сохранять спокойствие и молчать, и так как разбойников было огромное множество, не сопротивляться им.
Надо помнить, говорили старшим мальчикам мужчины, что нападавшие вооружены мечами и кинжалами. Они убивают мимоходом. Они «жаждут крови». И мы не должны «провоцировать» их.
Иногда же мы шли до поздней ночи, хотя вдоль дороги уже расположились лагерями другие паломники и беженцы, и мужчины спорили, а в центре спора всегда был Клеопа. Тетя Мария говорила, что он счастлив, ведь его речи слышат столько новых людей.
Его больше не мучила лихорадка.
Я старался держаться поблизости от дяди. А он не переставал высказывать свое мнение о царе Ироде Архелае, что бы ни говорил ему Иосиф, и Алфей тоже махнул на Клеопу рукой. Архелай уплыл в Рим, это было известно. Но туда же отправились и другие дети Ирода — «те, кому повезло выжить», как говаривал Клеопа. Ходили слухи, будто за тридцать с лишним лет правления царь Ирод убил пятерых из своих детей, а также бесчисленное множество других беззащитных людей.
Брат Иосифа Симон был молчалив, и немногословны были его сыновья и дочери, как обычно. Их эти вещи не интересовали. Не интересовали они и мою маму.
Когда мы расставались с Зебедеем и его женой Марией Александрой, пролилось много слез, потому что «три Марии» больше не будут вместе до тех пор, пока не соберутся вновь в Иерусалиме на праздновании Песаха, а при том, как шли дела, кто мог сказать, когда это будет?
— И Елизавета, как же Елизавета? — рыдали они. — Одна-одинешенька, и маленький Иоанн уходит к ессеям!
Они заново переживали расставание с Елизаветой, хотя мы ее покинули уже давно, еще у Иерихона. Женщины поплакали о людях, которых я не знаю, а потом Зебедей и его родня сели на ослов и поехали к Галилейскому морю, в Капернаум. Я тоже хотел поехать к Галилейскому морю. Я хотел увидеть его всем сердцем.
Я скучал по морю. То есть я скучал по морю, когда мог отвлечься от всепоглощающего страха. Александрия была узкой полоской суши между Великим морем и озером. В Александрии всегда пахло водой и с моря дул прохладный ветерок. А сейчас мы забрались в глубь страны, земля здесь была каменистой и твердой. И иногда шел дождь.
Мужчины говорили, что сезон дождей заканчивается и что сейчас дождям пора прекратиться, но в обычное время они бы им радовались. Однако об урожае никто не думал, все только мечтали убежать от беспорядков и грабежей. Когда шел дождь, мы закутывались в наши накидки, но все равно мерзли.
А еще дожди заставляли женщин волноваться из-за Клеопы, но дядя прекрасно себя чувствовал. Он вообще перестал кашлять.
Те, кто обгонял нас по дороге, рассказывали о новых мятежах в Иерусалиме. Говорили о том, что туда из Сирии направляются римские солдаты. Наши мужчины вскидывали руки кверху.
Мы шли, и с нами шло еще много других паломников — они возвращались домой, — и все вместе мы начали подниматься в более высокую и более зеленую местность, и мне она очень нравилась.
Куда ни глянь, виднелись рощи, и на склонах паслись овцы, и здесь мы иногда видели земледельцев за работой — могло даже показаться, что войны вовсе не было.
И я забывал на время о грабителях и об опасностях. А потом вдруг из-за холма выезжал отряд всадников, и мы с криками бежали прочь. Иногда толпа бездомных паломников не вызывала у них интереса, и они объезжали нас, не трогая. В другой раз они мучили мужчин, которые ничего не говорили им, только смиренно просили оставить нас в покое, и могло показаться, что наши мужчины глупые, хотя они не были такими.
Каждый вечер у нашего костра усаживались незнакомые люди: галилеяне, идущие на север в другие деревни, и некоторые оказывались нашими родственниками, но такими дальними, что мы их раньше не знали, а другие были беженцами, спасающимися от набегов и пожаров. Мужчины сидели вокруг костра, передавали по кругу бурдюки с вином и спорили, обсуждали и кричали друг на друга. Маленькая Саломея и я очень любили слушать эти вечерние беседы.
Повсюду вожаки мятежников поднимали восстания, так говорили мужчины. Среди них был Афронт с братьями, они собирали войско, и с ними шло много народу. А на севере был Иуда бар Езекия по прозвищу Галилеянин.
И не только римские войска двигались к Иерусалиму, к ним присоединились и арабы, которые жгли деревни, потому что ненавидели Ирода, а отразить нападения арабов и навести порядок никто не мог — царя больше не было. Римляне делали только то, что было в их силах.
Все это заставляло нас и всех, кто шел с нами, пробираться как можно быстрее в Галилею, хотя мы понятия не имели, в каком месте нам встретятся внушающие ужас войска.
Мужчины горячо спорили.
— Да, все говорят о злодеяниях царя Ирода, да, он был тираном и монстром, — говорил один из них. — Но посмотрите, что случилось с нашим народом в мгновение ока после его смерти! Так не значит ли это, что нам нужен тиран?
— Мы бы отлично прожили и под римским правителем Сирии, — заметил Клеопа. — Нам не нужен царь евреев, который сам не еврей.
— Но кто же будет вершить власть здесь — в Иудее, и в Самарии, и в Перее, и в Галилее? — спросил Алфей. — Римские чиновники?
— Уж лучше они, чем Ироды, — ответил Клеопа. И многие поддержали его.
— А что, если римский префект придет в Иудею со статуей Цезаря Августа и провозгласит его Сыном Божьим?
— Никто так не поступит, никогда, — решительно отмел такую возможность Клеопа. — Нас уважают во всех городах империи. Мы соблюдаем субботу, нас не заставляют служить в армии. Уважают даже Закон наших предков. Говорю, лучше они, чем эта семья сумасшедших, которые строят козни друг против друга и проливают родную кровь!
Споры не кончались. Мне нравилось засыпать под них. Громкие голоса мужчин внушали мне чувство безопасности.
— Скажу вам то, что видел сам, — сказал Алфей. — Когда римляне подавят восстание, они убьют невинных людей вместе с виновными.
— Почему невинные должны страдать? — спросил Иаков, мой брат, который уже стал одним из мужчин, как будто всегда принадлежал к их числу.
— Солдаты, входя в деревню или город, не могут определить, кто из жителей невиновен, а кто виноват, — объяснил незнакомый мне человек, еврей из Галилеи. — Вас сметут и не заметят. Говорю вам, когда они придут, прячьтесь. У них нет времени выслушивать ваши уверения в том, что вы ничего не сделали. Они налетают как саранча, одна туча за другой, сначала грабители, а потом солдаты.
— И эти люди, эти великие воины, — воскликнул Клеопа, — эти новые цари Израиля, повсюду восстающие из рабства, эти неожиданно помазанные правители, куда они приведут эту страну? Только к еще большим несчастьям, вот куда!
Моя тетя Мария, египтянка, вскрикнула.
Я открыл глаза и сел.
Тетя внезапно поднялась, покинула группу женщин и подошла к мужчинам, с трясущимися руками, с залитым слезами лицом. Я видел ее слезы в свете костра.
— Прекратите, замолчите! — крикнула она. — Мы ушли из Египта, чтобы выслушивать это? Мы покинули Александрию, пересекли долину Иордана в страхе и ужасе, и когда наконец наступил покой и мы почти достигли дома, вы пугаете детей своими криками и пророчествами, но вы не знаете воли Господа, вы ничего не знаете! Может, завтра, подойдя к дому, мы увидим, что Назарет сожжен дотла.
Завтра. Назарет. В этом чудесном краю?
Две другие женщины подскочили к Марии и отвели ее прочь от мужчин. Клеопа пожал плечами. Остальные мужчины продолжали говорить, но уже гораздо тише.
Клеопа качал головой и пил вино.
Я поднялся и подошел к Иосифу, который смотрел на огонь. Была у него такая привычка.
— Мы уже скоро придем в Назарет? — спросил я его.
— Может быть, — ответил он. — Мы уже близко.
— А что, если он сожжен дотла?
— Не надо бояться, — тихо проговорил Иосиф. — Он не сожжен, я знаю это наверняка. А теперь иди, ложись.
Алфей и Клеопа посмотрели на Иосифа. Кое-кто из мужчин уже забормотал молитвы, предваряющие ночной сон. Они разбредались по своим постелям под открытым небом.
— Откуда нам знать волю Господню? — бормотал Клеопа, глядя в сторону. — Господь хотел, чтобы мы покинули прекрасную Александрию ради этой земли. Господь хотел, чтобы мы… — Он замолчал, потому что Иосиф отвернулся.
— Что плохого случилось с нами до сих пор? — спросил Алфей.
Клеопа сердился и не смог сразу найти слова для ответа.
— Что плохого случилось? — повторил Алфей. — Нет, скажи мне, Клеопа, что плохого случилось с нами?
И все посмотрели на Клеопу.
— Ничего плохого не случилось, — прошептал он наконец. — Мы все преодолели.
Этот ответ всех удовлетворил. Именно таких слов все ждали.
Когда я лег, Иосиф накрыл меня одеялом. Земля подо мной была прохладной и пахла травой. Я чувствовал сладкий аромат деревьев, растущих неподалеку. Мы устроились на склоне холма, кто-то под деревьями, а кто-то на открытых участках, как я.
Маленький Иуда и Маленький Симеон, не просыпаясь, прижались ко мне с обеих сторон.
Я смотрел на небо. В Александрии я никогда не видел таких ясных звезд, а здесь их было великое множество, словно песчинок на берегу или слов, что доведется мне спеть.
Мужчины разошлись, у костра никого не осталось, и огонь потух. Но от этого только лучше стали видны звезды. Я не хотел спать. Я никогда не хотел спать.
Вдалеке раздался шум. Я слышал крики. Они доносились от подножия холма, еле слышные голоса. Я повернулся в ту сторону и различил в темноте отблески пламени. Я ненавидел то, как они шевелились, эти языки пламени, но мужчины не вставали. Никто не шевельнулся. Мы лежали в темноте. В нашем лагере ничего не изменилось, и на соседних стоянках все осталось по-прежнему. В небольшой долине внизу ржали лошади. Рядом со мной появился Клеопа.
— Ничего не меняется, — сказал он.
— Как ты можешь так говорить? — спросил я. — Мы вот идем вперед и видим, как все становится другим.
Мне отчаянно хотелось, чтобы крики смолкли, И скоро их стало почти не слышно. Зато ярче заполыхало зарево. Я боялся огня.
Потом у подножия послышались жалобные стоны, они становились все громче, приближаясь к нам. Это причитала женщина. Я думал, что скоро она утихнет, но она не замолкала. И вот уже слышны ее шаги — она бежала, тяжело ступая, вверх по склону.
Ее стоны заглушал мужской голос, выкрикивающий в темноте ужасные слова, полные ненависти и злого намерения, он вышвыривал их в ночь, в ответ на женские стоны.
Этот мужчина называл женщину по-гречески блудницей, он говорил, что убьет ее, когда поймает, и страшно проклинал ее словами, которые раньше я никогда не слышал.
Наши мужчины поднялись. Поднялся и я.
И вот уже женские шаги раздаются совсем близко, чуть ниже по склону. Она тяжело дышит и больше не может причитать и плакать. Далекий огонь не дает достаточно света, чтобы разглядеть ее во тьме.
Клеопа с другими мужчинами бросился вперед, и я видел во мраке, на фоне багрового неба, как они потянулись к женщине, как только она появилась. Они толкнули ее на землю позади себя, на одеяла, и застыли, не двигаясь. Я слышал, как дышит беглянка, как она кашляет и всхлипывает, а наши женщины утешают ее, словно маленького ребенка, и тянут прочь, подальше.
Я остался стоять; позади меня замер Иаков.
На фоне далекого пламени я увидел, как по склону поднялся и остановился, увидев нас, мужчина. Он был пьян. От него пахло вином. Я видел, как трясется его голова.
Злобным голосом он призывал женщину, обзывал ее плохими именами — какие я только изредка слышал на базаре, — и такими словами, которые, как я знал, вообще нельзя было произносить вслух.
Потом он замолчал.
Вся ночь вдруг тоже стала беззвучной, только хриплое дыхание мужчины нарушало полную тишину да шелест травы под его ногами.
Женщина издала слабый всхлип — сдавленное рыдание, которое она не сумела сдержать.
И тогда мужчина засмеялся и направился прямо в ту сторону, где стояли мой отец и мои дяди, и они схватили его: один темный силуэт поглотил другой, меньший силуэт. И теперь ночь была полна глухих, но громких звуков.
Все вместе они переместились выше по холму, и мне казалось, что было их очень много, может, и два сына Алфея присоединились к ним, потому что все происходило быстро и раздавалось много звуков. Я догадывался, что это были за звуки. Наши мужчины били пьяного разбойника.
А он уже перестал ругаться и бушевать. В лагере тоже никто ничего не говорил, только женщины шепотом успокаивали беженку.
Потом мужчины ушли.
Не знаю почему, но я не побежал за ними сразу. Когда же я опомнился и рванулся следом, мой брат Иаков сказал мне:
— Нет.
Женщина тихо плакала:
— Я одинокая вдова, говорю вам, нет у меня никого, кроме служанки, а муж умер всего две недели назад, и они набросились на меня как саранча, говорю вам. Что же мне делать? Куда идти? Они сожгли мой дом. Они забрали все. Они сломали то немногое, что я имела. Это негодяи, говорю вам. А мой сын считает, что они борются за нашу свободу. Говорю вам, вся грязь поднимается со дна, а Архелай в Риме, и рабы убивают своих хозяев, и весь мир в огне. — Она причитала без остановки.
Я ничего не видел в темноте и мог только прислушиваться, не возвращаются ли мужчины. Пока их не было слышно. Я весь покрылся мурашками.
— Что они делают с ним? — спросил я Иакова, которого еле различал во тьме.
В его глазах отражался огонь. Внизу, в долине, еще бушевал пожар, но было понятно, что он начинает стихать.
— Ничего не говори, — велел мне Иаков. — Ложись лучше спать.
— Мой дом, — горевала женщина, — мое хозяйство, моя бедная девочка, моя Рива — если они поймали ее, она погибла. Их было так много. Она погибла, погибла, погибла.
Женщины утешали ее, как утешают нас, малышей, когда мы огорчаемся, — не словами, а звуками.
— Иди спать, — повторил Иаков.
Он мой старший брат. Я должен делать то, что он мне скажет. И Маленькая Саломея тихо плакала в полудреме. Поэтому я пошел на свое место и обнял Саломею и поцеловал ее. Она обхватила мои пальцы своими, и я понял, что она снова сладко спит.
Я лежал без сна, пока не вернулись мужчины.
Клеопа снова лег рядом со мной. Маленький Симеон и Маленький Иуда все это время проспали, как будто ничего и не было. Маленькие дети, они такие. Стоит им только заснуть, как ничто их не разбудит. Все стихло. Даже женщин почти не было слышно.
Клеопа зашептал молитву на иврите. Я не мог разобрать слов. Другие мужчины тоже молились. Женщины шептались так тихо, что могло показаться, будто и они молятся.
Я тоже стал молиться.
О бедной девушке, которая осталась там, рядом с горящим домом, я думать не мог. Я молился о ней, не думая. И незаметно для себя заснул.
11
Когда я проснулся, то первым делом увидел синее небо и деревья вокруг себя.
Назарет где-то в этом краю — в краю деревьев и полей.
Я встал, вознося утреннюю молитву, вытянув руки.
— Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь един! Люби же Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими.
Я был счастлив.
Потом я вспомнил прошлую ночь.
Мужчины как раз должны были вернуться из дома погорелицы, так сказали мне мои тети. А сама женщина осталась в лагере, и еще к нам пришла ее служанка, которая все-таки не погибла. Одета она была как положено: в накидке поверх туники, но заливалась слезами и идти могла, только опираясь на руку Клеопы, который помог ей подняться вверх по склону холма.
При виде девушки появившаяся ночью женщина вскрикнула и бросилась к ней.
Мужчины принесли мешки с вещами, оставшимися от сгоревшего дома. И еще они привели с собой на веревке крупную, медлительную телку с испуганными глазами.
Та женщина и ее служанка запричитали по-гречески, а потом обнялись. Когда женщина разговаривала с моими тетями и мамой, то обращалась к ним на нашем языке. Вокруг заново обретших друг друга хозяйки и служанки собрались наши женщины и тоже стали обнимать их, успокаивать и целовать.
Женщину звали Брурия, а служанку — Рива, она для Брурии была как дочь родная. И Брурия возносила молитвы за то, что Рива избежала смерти.
Наконец мы все присоединились к потоку людей, идущих по дороге, и снова устремили стопы к Назарету.
Из разговоров взрослых я узнал, что грабители забрали у Брурии все, что она имела, — тонкие шелка, посуду, зерно, бурдюки с вином, а что не смогли унести, подожгли. Они даже спалили оливковые деревья. Однако им не удалось найти тайник в погребе под домом. И поэтому уцелело золото, которое оставил Брурии ее покойный муж. И Рива тоже спряталась в том погребе.
И еще я узнал, что эти две женщины дальше пойдут с нами и потом тоже останутся с нами.
По пути мы узнали и еще кое-что.
Сгорел, оказывается, не только Иерихон, но и другой дворец Ирода, в Амафасе. И римляне не смогли остановить арабов, так что те продолжали разбой. Они поджигали селение за селением.
Но грабители, напавшие прошлой ночью на дом Брурии, как она утверждала, были обычными пьяницами, и хозяйку поддержала Рива, еле успевшая спрятаться, и обе плакали прямо на ходу.
Яма под домом. Я никогда не видел погребов.
— Нет царя, нет мира, — сказала Брурия, бывшая дочерью Езекии, сына Галеба, и она перечислила все имена своего рода вплоть до древних времен и все имена из рода ее мужа.
Даже мужчины прислушивались к ней. Услышав то или иное имя, они кивали и удовлетворенно бормотали что-то. Мужчины не смотрели на Брурию и на ее служанку, но шли недалеко от них и молча слушали.
— Иуда бар Езекия — мятежник, — объясняла женщина. — Старый Ирод посадил его в тюрьму. Но царь не казнил его, а надо было. Теперь он баламутит умы молодым. Он устроил свой двор в Сепфорисе. Ограбил тамошний оружейный склад. Он правит оттуда, но римские войска уже выступили из Сирии. Я оплакиваю Сепфорис. Все, кто не хочет умирать, должны бежать оттуда.
Так я узнал название города — Сепфорис. Мне было известно, что в этом городе родилась моя мама, там отец ее Иоаким был писцом, а его жена Анна, моя бабушка, тоже родилась там. Они все пришли в Назарет, только когда мама обручилась с Иосифом, который жил со своими братьями в доме Старой Сарры и Старого Юстуса, а те были родственниками Иоакима и Анны, так же как и Иосиф. Часть дома отдали Иоакиму, Анне и моей маме, так как это был большой дом, со многими комнатами для семей, выходившими на большой двор. И в этом доме они и жили, пока не пошли в Вифлеем, где родился я.
Когда я подумал об этом, мне стало ясно, что мне известно не все. Я знал, что Иосиф и мама поженились в Вифании, в доме Елизаветы и Захарии, и этот дом находился недалеко от Иерусалима. Но теперь Елизавета и ее сын Иоанн не жили в нем.
Нет, они вынуждены были скрываться, как сказала нам Елизавета.
Я вспомнил все, что знал, и опять захотел получить ответы на свои вопросы.
Но мне слишком не терпелось увидеть Назарет, чтобы долго задумываться над этим. Тем более что вокруг нас расстилался благолепный край. Слово «благолепный» я выучил из псалмов и, глядя на эту землю, осознал, что оно значит.
Старая Сарра и Старый Юстус ждали нас в Назарете. Мы написали им и сообщили, что возвращаемся домой. Старая Сарра приходилась тетей моей бабушке Анне и одному из родственников Иосифа, но кому именно, я не запомнил.
Склоны холмов и долины между ними становились все зеленее и зеленее. Мы не остановились, даже когда пошел дождь.
В Александрии нам перечитывали письма Старой Сарры много-много раз, и она не забывала поименно назвать всех детей, когда писала нам, и к этому времени, конечно, уже ждала нас.
Мужчины почти не разговаривали, зато Брурия и Рива говорили без остановки, и мужчины слушали, по крайней мере, мне так казалось. В конце концов Брурия решилась рассказать о своей самой горькой печали. Она не могла удержать ее в себе. Сын Брурии убежал из дома, чтобы присоединиться к восставшим в Сепфорисе! Его звали Галеб, и вполне возможно, сказала Брурия, что он уже погиб. Она не надеялась снова увидеть сына.
Мужчины ничего не сказали на это. Они просто кивали.
— Кому может понадобиться Назарет? — еле слышно пробормотал Клеопа.
— Все будет в порядке, — отозвался Иосиф. — Я знаю. Высоко в небе висело солнце. Облака плыли белые, похожие на паруса кораблей. В полях трудились женщины.
Мы уже довольно долго поднимались вверх по склону, когда наконец вышли к маленькому селению, разрушенному и пустому. Все заросло высокой травой. Крыши провалились внутрь. Люди давно покинули это место. Следов пожара не было. Большинство людей, шедших с нами по дороге, не стали здесь задерживаться.
Но наша семья остановилась.
Клеопа и Иосиф вели нас мимо развалин.
Вскоре мы увидели ручей, бьющий между камней и наполняющий большую ванну, окруженную высокими ветвистыми деревьями. Какое чудесное место!
Мы разбили лагерь, и мама сказала мне, что мы проведем тут ночь, а в Назарет пойдем утром.
Мужчины отправились к ручью, чтобы искупаться, а женщины достали для них чистые одежды. Мы ждали их. Потом женщины собрали всех детей, и мы тоже искупались и переоделись во все чистое. Женщины даже нашли по тунике и накидке для Брурии и Ривы.
Вода была холодной, но все смеялись и радовались, и чистые одежды хорошо пахли. Они пахли Египтом.
— Почему мы не можем пойти в Назарет прямо сейчас? — спросил я. — Еще ведь рано.
— Мужчинам надо отдохнуть, — ответила мне мама. — И похоже, что скоро снова пойдет дождь. В таком случае мы спрячемся в домах. А если нет, то останемся здесь.
Мужчины вели себя как-то странно. Я не обращал на это внимания в течение дня, но теперь не мог не удивиться. Они были непривычно молчаливы.
Каждый день нас подстерегали новые опасности, и каждый день мы менялись. И нам приходилось справляться с тем, что встречалось нам на пути. Но на этот раз мужчины вели себя иначе. Даже Клеопа притих. Он сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, смотрел на холмы и, казалось, не замечая людей, идущих мимо нас по дороге в Галилею. Но когда я взглянул на Иосифа, как обычно делал в подобных случаях, то увидел, что тот совершенно спокоен. Он вынул маленькую книгу в переплете и стал читать, шепотом проговаривая слова. Буквы в книге были греческими.
— Что это? — спросил я его.
— Это рассказы Самуила о Давиде, — ответил он.
Я стал слушать. Однажды во время битвы Давид захотел попить воды из колодца врагов, но, когда принесли ему воду, он не смог пить ее, потому что его люди подвергли себя огромной опасности, чтобы добыть эту воду. Люди могли даже умереть, добывая ее для Давида.
Закончив чтение, Иосиф поднялся и позвал Клеопу отойти с ним в сторону.
Женщины и дети собрались вокруг Брурии и Ривы слушать, как те рассказывают о том, что происходило в их краю.
Иосиф, Клеопа, Алфей, двое сыновей Алфея и Иаков — все вместе подошли к Брурии и попросили поговорить с ними.
Они отошли к рощице из невысоких деревьев, которые так красиво колыхались на ветру.
Их голоса были еле слышны, но кое-что я мог разобрать.
— Нет, но ведь ты лишилась своего дома. Нет, но ведь… И все, что у тебя было…
— Говорю тебе, у тебя есть право…
— Это плата. Плата.
И женщина воздела руки кверху, затрясла головой и ушла от мужчин.
— Никогда! — крикнула она им.
Они все вернулись вслед за ней и легли и снова затихли. Иосиф думал. Он тревожился. Потом снова стал спокоен как обычно.
Люди шли по дороге и даже не видели нас. Ехали всадники.
После еды, когда все спали, я стал думать о том человеке в темноте, о пьянице.
Я понял, что его убили. Но я не говорил этого даже себе. Просто знал. И я понял, почему они это сделали. Еще я догадался, что он собирался сделать с женщиной.
И понял, что мужчины помылись и надели чистые одеяния, как требовал Закон, но они не будут чисты вплоть до заката. Вот почему мы не пошли в Назарет в тот же день. Мужчины хотели прийти домой чистыми.
Но можно ли очиститься от такого? Как смыть кровь человека с рук своих и что делать с деньгами, которые у него были, с деньгами, которые он украл, деньгами, омытыми в крови?
12
И вот мы поднялись на вершину очередного холма.
Перед нами простиралась огромная долина, усеянная оливковыми деревьями и цветущими полями. Какая красота!
Но великий дьявол, огонь, снова пылал, большой и далекий, и дым поднимался до самых небес, под белые облака. У меня застучали зубы. Вернулся страх. Я пытался прогнать его.
— Это Сепфорис, — воскликнула мама, и то же самое кричали другие женщины.
Мужчины подхватили этот крик. И взмыли ввысь наши молитвы, а мы сами стояли на вершине холма и не шли вниз.
— А где же Назарет? — огорченно всхлипнула Маленькая Саломея. — Он тоже горит?
— Нет, — ответила моя мама. Она нагнулась к нам и показала: — Назарет вон там.
Я посмотрел туда и увидел деревню, раскинувшуюся на холме. Белые дома, один над другим, густые деревья, справа и слева пологие склоны и зеленые равнины, а вдали другие селения, еле различимые под ярким небом. А за всей этой красотой — огонь.
— Ну, что будем делать? — спросил Клеопа. — Спрячемся в холмах, потому что Сепфорису конец, или пойдем домой? Я бы сказал — домой.
— Не торопись так, — остановил его Иосиф. — Вероятно, лучше будет остаться здесь. Не знаю.
— И это говоришь ты? — удивился его брат Алфей. — Я думал, ты знаешь наверняка, что Господь позаботится о нас, а теперь мы в часе ходьбы от дома. Если на нас нападут грабители, я бы предпочел укрыться в своем доме в Назарете, а не в этих холмах.
— У нас есть погреб? — быстро спросил я, не желая, чтобы подумали, будто я перебиваю мужчин.
— Да, у нас есть погреб. В Назарете в каждом доме есть погреба. Они старые и нуждаются в ремонте, но они есть. А эти разбойники, должно быть, повсюду, куда бы мы ни пошли.
— Это все Иуда бар Езекия, — сказал дядя Алфей. — Думаю, он покончил с Сепфорисом и сейчас двинулся дальше.
Брурия принялась причитать над судьбой своего сына, и Рива подхватила ее стенания. А моя мама старалась обнадежить их.
Иосиф тем временем обдумал ситуацию и сказал:
— Да, Господь позаботится о нас, вы правы. И мы пойдем. Я не вижу, чтобы в Назарете происходило что-то плохое, и путь отсюда до деревни тоже выглядит безопасным.
Дорога привела нас в уютную лощину, и вскоре мы уже шли мимо фруктовых садов и бесконечных рядов оливковых деревьев, вдоль обширных ухоженных полей. Продвижение наше было медленным как никогда, но нам, детям, не разрешали бежать вперед.
Я так радовался скорой встрече с Назаретом и был настолько переполнен счастьем от вида прекрасного края, раскинувшегося перед нами, что мне захотелось петь. Но никто не пел, и поэтому я запел про себя, в душе: «Хвалите Господа, Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву».
Дорога была каменистой и неровной, однако путников обвевал нежный ветерок. Я разглядывал цветы на деревьях, маленькие башни вдали на возвышениях, но, к своему удивлению, не заметил в полях ни единого человека.
Я нигде никого не видел.
И на пастбищах не паслись овцы и коровы.
Иосиф велел нам идти быстрее, и мы старались изо всех сил, хотя это было нелегко из-за тети Марии, которая совсем расхворалась, как будто беды Клеопы перешли на нее. Мы тянули за собой ослов и по очереди несли на руках Маленького Симеона, а он, скучая по матери, капризничал и плакал, что бы мы ни делали.
Наконец-то мы вступили на склон, ведущий к Назарету! Я упрашивал взрослых, чтобы мне разрешили побежать вперед, и мне вторил Иаков, но Иосиф сказал «нет».
Назарет встретил нас пустотой.
Его главная улица вела вверх по склону, от нее в обе стороны разбегались маленькие улочки, застроенные белыми домами, некоторые из них были двух- и трехэтажными и с внутренними дворами. И везде было пусто, как будто никто не жил в этих домах.
— Поспешим, — сказал Иосиф. Лицо его потемнело.
— Что же здесь случилось, что заставило всех спрятаться? — тихо промолвил Клеопа.
— Не разговаривай. Пойдем, — нахмурился Алфей.
— А где прячутся люди? — спросила Маленькая Саломея.
— В погребах. Они все спрятались в погребах, — ответил ей мой брат Сила, но его отец тут же приказал ему замолчать.
— Позволь мне забраться на самую высокую крышу и посмотреть, что происходит! — обратился к Иосифу Иаков.
— Хорошо, — согласился Иосиф, — но пригибайся пониже, не высовывайся, чтобы тебя никто не заметил, и немедленно возвращайся к нам.
— А можно мне с ним? — взмолился я, но ответом мне стал решительный отказ.
Сила и Левий надули губы, огорченные тем, что отпустили не их, а Иакова.
Иосиф же тем временем все быстрее вел нас по главной улице к вершине холма. Где-то посреди подъема он остановился. И я понял, что мы дома.
Это было большое строению, гораздо больше, чем я предполагал, очень старое и обветшалое. Стены нуждались в покраске, кое-где виднелись дыры, а деревянные рамы, поддерживающие виноградную лозу, почти совсем сгнили. Но это был дом для многих семей, как нам рассказывали, трехэтажный, с открытым хлевом в большом дворе. Двери многочисленных комнат выходили во двор. Широкая крыша нависла над старыми деревянными дверями, давая благодатную тень. Посреди двора росла огромная смоковница. Я никогда еще не видел такого высокого дерева.
Смоковница была очень старой и кривой, с длинными ветвями, которые, переплетаясь, нависали надо всеми уголками двора, создавая живую крышу из молодой ярко-зеленой листвы. Под деревом стояли скамейки. А над низкой стеной, отгораживающей двор от улицы, на полусгнивших деревянных рамах вилась виноградная лоза.
Это был самый красивый дом, в который ступала моя нога!
Для меня, попавшего сюда с перенаселенной улицы Плотников, из комнат, в которых спали вместе и женщины, и мужчины, и вечно плачущие младенцы, этот дом показался дворцом.
Да, у него была земляная крыша, и я видел, что поверх нее настелены сухие ветки, и стены испещрены потеками, в щелях гнездятся голуби — единственные живые существа в этом поселении, — и камни во дворе истерты. Внутри, скорее всего, будут земляные полы. В Александрии у нас тоже были земляные полы. Об этом я даже не задумывался.
А думал я о том, что этот дом приютит большую семью. Я думал о смоковнице и о славной лозе, усыпанной белыми цветочками. В душе я славил Господа за все это.
Но где же та комната, в которой моей маме явился ангел? Где она? Мне хотелось поскорее найти ее.
Все эти счастливые мысли разом промелькнули в моей голове.
А потом раздался звук — звук столь пугающий, что он тут же вытеснил все остальное. Лошади. По улицам двигались лошади. Позвякивание, цокот и голоса мужчин, выкрикивающих что-то на греческом языке.
Иосиф посмотрел в одну сторону, затем в другую.
Клеопа прошептал молитву и велел Марии завести всех детей в дом.
Но прежде чем мы успели сделать хоть шаг, снова раздались голоса, и теперь мы расслышали, что они по-гречески приказывают всем выйти из домов. Моя тетя застыла, словно превратившись в камень. Даже малыши притихли.
С обоих концов улицы к нам приближались всадники. Мы все вошли во двор, чтобы они могли проехать. Но спрятаться не успели.
Это были римские солдаты, закованные в броню, верхом на конях, в закрытых шлемах и с копьями.
Да, я и раньше видел римских солдат, в Александрии они были повсюду, входили в город, покидали его, проходили маршем, женились на женщинах из еврейского квартала. И даже моя тетя Мария, египтянка, жена Клеопы, что сейчас стояла с нами, была дочерью еврея — римского солдата, и ее дяди тоже служили в римской армии.
Но эти воины были совсем другими. Покрытые потом и пылью, они переводили тяжелый взгляд с одного дома на другой.
Их было четверо, двое поджидали вторую пару, спускающуюся с холма, и все вместе они встретились как раз напротив нашего двора. Один из них приказал нам не двигаться.
Воины пытались сдерживать своих танцующих лошадей, но покрытые пеной кони непрестанно двигались, поднимая пыль. На этой улице им было слишком тесно.
— Ха, ну только посмотрите! — воскликнул один из римлян по-гречески. — Похоже, это и есть все население Назарета. Вся деревушка принадлежит им. А нам-то как повезло: все жители уже собраны в одном дворе! Как удобно!
Никто не ответил ему. Рука Иосифа сжимала мне плечо с такой силой, что мне было больно. Никто не шевельнулся.
Другой солдат махнул говорливому товарищу, чтобы тот помолчал, и приблизился к нам, насколько позволила беспокойная лошадь.
— Что вы можете сказать в свою защиту? — спросил он.
Первый солдат снова крикнул нам:
— Назовите нам причину, по которой вас не следует распять вдоль дороги вместе с остальным сбродом.
И опять ответом было молчание. Потом тихо заговорил Иосиф.
— Господин мой, — произнес он по-гречески, — мы идем из Александрии, желая вернуться в родной дом. Мы ничего не знаем о том, что здесь происходит. Мы только что вошли в деревню и обнаружили, что она безлюдна. — Затем он указал на наших ослов, нагруженных тюками, корзинами и одеялами, и на наши ноги. — Посмотри, мы все покрыты дорожной пылью, господин. Мы готовы служить тебе.
Такой длинный ответ удивил солдат, и их предводитель, тот, кто говорил больше всех, въехал на лошади во двор, потеснив наших ослов. Он оглядел нас, и наши тюки, и женщин, сбившихся в кучу, и малышей.
Но прежде чем он сказал что-либо, заговорил второй воин:
— Давай возьмем двух человек и оставим остальных в покое. У нас нет времени, чтобы обыскивать каждый дом в деревне. Выбери из них двоих и пойдем.
Моя тетя пронзительно вскрикнула, и мама тоже, хотя обе они пытались сдержаться. Тут же заплакала Маленькая Саломея. И заревел Маленький Симеон, непонятно отчего. Тетя Есфирь забормотала что-то по-гречески, но слов я разобрать не смог.
Я так перепугался, что перестал дышать. Они сказали «распять», и я знал, что это значит. Я видел распятых под стенами Александрии, хотя всего лишь мельком, потому что мы никогда, никогда не хотели смотреть на распятых. Прибитые к кресту, раздетые догола, умирающие под взглядами любопытных — несчастные являли собой ужасное и жалкое зрелище.
И еще я боялся потому, что видел: нашим мужчинам тоже страшно.
Предводитель солдат замолчал, задумавшись.
Второй воин не успокаивался:
— Так мы преподадим всей деревне хороший урок. Берем двоих и отпускаем остальных.
— Мой господин, — медленно подбирая слова, снова обратился к римлянину Иосиф. — Как доказать тебе, что мы ни в чем не повинны и только что прибыли сюда из Египта? Мы простые люди, господин. Мы соблюдаем и свой закон, и ваш, и всегда соблюдали.
Он не выказывал страха, и другие мужчины не выказывали страха, но я знал, что они перепуганы. Я ощущал их ужас так же, как ощущал воздух вокруг себя. У меня застучали зубы. Если бы я заплакал, то зарыдал бы навзрыд. Но я не плакал. Сейчас плакать нельзя.
Женщины дрожали и всхлипывали так тихо, что их почти не было слышно.
— Нет, эти люди ничего плохого не сделали, — наконец решил глава римлян. — Поехали дальше.
— Но подожди, нам ведь нужно привести из этой деревни хоть кого-нибудь, — возразил его товарищ. — Не хочешь же ты сказать, что здесь не оказывали поддержки бунтовщикам? Мы еще не обыскивали дома.
— Как мы осмотрим все эти дома? — произнес предводитель. Он оглядел нас еще раз. — Ты и сам только что говорил, что это невозможно. Так что поехали.
— Ну тогда возьмем хотя бы одного человека, всего одного, чтобы задать пример. Говорю тебе, одного. — И солдат придвинулся к нам и стал разглядывать наших мужчин.
Его старший товарищ по-прежнему молчал.
— Берите меня, — сказал Клеопа. — Я готов.
В один голос запричитали женщины, тетя Мария упала на руки моей мамы, Брурия осела на землю, рыдая.
— Ради этого была продлена мне жизнь: чтобы я отдал ее за свою семью.
— Нет, пойду я, если кто-то должен идти, — возразил Иосиф. — Я пойду с вами, — обратился он к римлянам. — Если вам нужен один человек, берите меня. Не знаю, в чем моя вина, но я пойду.
— Нет, пойду я, — перебил его Алфей. — Если кто-то должен идти, позвольте мне сделать это. Только скажите, за что я умру.
— Нет, ты не пойдешь с ними, — вскинулся Клеопа. — Разве ты не понимаешь, ведь именно поэтому я не умер в Иерусалиме. И теперь я могу предложить свою жизнь ради блага своей семьи.
— Нет, я пойду, — заговорил Симон и шагнул вперед. — Господь не дарует жизнь человеку, чтобы тот погиб на кресте. Возьмите меня, — сказал он солдатам. — Я всегда был медлителен. Всегда последний. Вы знаете, — продолжил он, повернувшись к нам, — у меня никогда ничего не получалось. Хоть теперь я пригожусь на что-то. Позвольте мне сослужить добрую службу братьям и всем своим родственникам.
И тогда все братья заговорили разом, перекрикивая друг друга, даже толкаясь несильно и стараясь встать впереди всех. Каждый убеждал остальных, что именно он должен погибнуть, но в таком шуме разобрать их доводы было трудно. Клеопа говорил, что он все равно болен, Иосиф — что он глава семьи, а Алфей — что он оставляет после себя двух почти взрослых сыновей, и так далее.
Солдаты, которые от удивления замолчали, через некоторое время расхохотались.
И в это время с крыши спрыгнул Иаков, мой двенадцатилетний брат, помните, он забирался наверх, чтобы осмотреть окрестности, и вот он спрыгнул во двор, подбежал к солдатам и сказал, чтобы они забирали его.
— Я пойду с вами, — выкрикнул он. — Я пришел в дом моего отца, и его отца, и отца его отца, и я умру за этот дом.
Солдаты засмеялись еще громче.
Иосиф оттащил Иакова назад, и братья снова заспорили. Неожиданно внимание солдат привлекло какое-то движение в доме. Один из них показал туда пальцем, и я тоже обернулся в том направлении.
Из дома — из нашего дома — вышла старая женщина, такая старая, что ее кожа была похожа на иссохшее дерево. В руках она держала поднос с пирогами, а на плече у нее висел бурдюк с вином. Это была Старая Сарра, догадался я.
Другие дети тоже обернулись, заметив, куда уставились римские солдаты, но мужчины продолжали спорить о том, кто пойдет на крест. Поэтому мы не расслышали всего, что сказала Сарра, выйдя на порог.
— Прекратите, хватит кричать, — приказал предводитель солдат. — Вы что, не видите, старая женщина хочет что-то сказать!
Тишина.
И Старая Сарра мелкими шагами пересекла двор и подошла почти к самым воротам.
— Я бы поклонилась вам, — сказала она по-гречески, — но слишком стара для этого. А вы молоды. У меня есть сладкие пироги для вас и лучшее вино с виноградников нашей родни с севера. Вы, должно быть, устали в чужой стране.
Ее греческий был столь же хорош, как у Иосифа. И она говорила как человек, привыкший рассказывать длинные истории.
— Ты готова накормить воинов, которые распинают твой народ? — спросил ее предводитель римских солдат.
— Господин мой, я угостила бы тебя амброзией олимпийских богов, — ответила Сарра, — позвала бы танцовщиц и музыкантов и наполнила бы нектаром золотые сосуды. Только помилуй этих детей дома отца моего.
Солдаты теперь смеялись так, как будто до этого они не смеялись никогда. Но делали это не злорадно и враждебно, лица их смягчились, и мы тоже увидели, как они устали.
Сарра подошла к ним и протянула поднос, и они взяли пироги, все четверо воинов, в том числе и тот злой солдат, который хотел забрать одного из нас. Он даже взял бурдюк с вином и отпил немного.
— Твое угощение лучше, чем нектар и амброзия, — сказал предводитель римлян. — Ты добрая женщина. Глядя на тебя, я вспоминаю свою бабушку. Если ты скажешь, что ни один из этих людей не является разбойником, если ты скажешь, что ни один из них не участвовал каким-либо образом в мятеже в Сепфорисе, я поверю тебе. И еще объясни мне, почему этот город пуст.
— Эти люди ни в чем не повинны, как они сами сообщили тебе, — отвечала ему старая женщина, отдавая поднос Иакову, потому что солдаты съели все пироги. — Они жили в Александрии семь лет. Они ремесленники, работают по камню, серебру и дереву. У меня есть их письмо, где они сообщают о своем намерении вернуться домой. А это дитя, моя племянница Мария — дочь римского солдата, который служит в Александрии, а его отец участвовал в походах на север.
Тетя Мария, хотя была не в силах стоять без помощи других, при этих словах слабо кивнула.
— Вот это письмо, я ношу его с собой. Оно пришло из Египта месяц назад, доставленное римской почтой. Прочитайте сами. Оно написано по-гречески, писцом с улицы Плотников. Взгляните.
Она вытащила из-за пазухи сложенный пергамент, тот самый пергамент, что мама посылала ей из Александрии. Я тогда ходил к писцу вместе с ней.
— Нет, не надо, — сказал солдат. — Мы должны были подавить этот мятеж, понимаешь? И полгорода сгорело в пожарах. Когда такое происходит, страдают все. И никому из вас эти мятежи не нужны. Посмотрите на эту деревню. Посмотрите на поля и сады. Это богатая земля, хорошая земля. Зачем бунтовать? А теперь половина Сепфориса в руинах, а работорговцы увозят с собой женщин и детей.
Один из его товарищей посмеивался, разговорчивый воин порывался что-то сказать. Но предводитель продолжал:
— Мятежники никогда не смогут объединить страну. Но они все равно провозглашают себя царями и надевают на головы короны. И мы получаем из Иерусалима известия, что там дела еще хуже. Вы, наверное, тоже знаете, что с юга к Иерусалиму уже подходит большая армия?
— Когда придет смерть к одному из нас, — промолвила старая женщина, — молись, чтобы души наши были завязаны в узел жизни в свете Господа.
Солдаты уставились на нее.
— И чтобы не выбросил Он наши души, как выбрасывает души тех, кто творит зло, как бы пращою, — договорила Сарра.
— Хорошая молитва, — сказал предводитель.
— А вино еще лучше, — улыбнулся один из его товарищей, передавая ему бурдюк.
Предводитель глотнул вина.
— Ох, хорошо, — сказал он. — У тебя действительно отменное вино.
— Неужели ты думаешь, что я дала бы тебе кислятины, когда речь идет о жизни моей семьи? — спросила его Сарра.
Римские воины снова засмеялись. Им нравилась эта старуха. Старший воин попытался отдать ей бурдюк, но она отказалась.
— Возьмите вино с собой, — сказала она. — Вам приходится выполнять нелегкую работу.
— Да, работа нелегкая, — вздохнул солдат. — Воевать — это одно. Казнить — совсем другое.
Во дворе повисло напряженное молчание. Предводитель воинов смотрел на нас и на Сарру, как будто взвешивал что-то, а потом произнес:
— Благодарю тебя, старая женщина, за твою доброту. Что же касается деревни, то пусть все останется как есть.
С этими словами он направил свою лошадь к воротам и выехал на улицу. Мы, все как один, поклонились ему.
Сарра обратилась к предводителю, и он остановился, чтобы выслушать ее.
— Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!
Солдат задержал взгляд на старой женщине, не обращая внимания на лошадей, нетерпеливо перебирающих в пыли копытами, потом кивнул и улыбнулся.
И они уехали.
Как они появились, так и исчезли — с шумом и лязгом. После чего Назарет снова опустел и затих.
Ничто не двигалось, кроме цветов на зеленой лозе, что росла во дворе. И еле заметно шевелилась молодая листва на смоковнице, такая свежая!
В наступившей тишине слышно было, как воркуют голуби под крышей и поют вдалеке другие птицы.
Иосиф негромко спросил Иакова:
— Что ты видел с крыши?
Иаков ответил ему:
— Кресты, много крестов, по обеим сторонам дороги, идущей из Сепфориса. Людей я не разглядел, зато кресты видны хорошо. Не знаю, сколько людей распято. Может быть, пятьдесят.
— Все кончилось, — сказал Иосиф, и все разом задвигались и заговорили.
Женщины столпились вокруг Старой Сарры, взяли ее под руки, осыпали поцелуями и стали призывать нас, детей, чтобы мы подошли и поцеловали ее руку.
— Это Старая Сарра, — говорила нам моя мама. — Она — сестра матери моей матери. Все, все подойдите к Старой Сарре, — звала она нас. — Подойдите, я познакомлю вас.
Одежды Сарры запылились, но все равно были мягкие, а руки маленькие и такие же морщинистые, как лицо. Глаза, хоть и скрытые складками кожи, ярко блестели.
— А, Иисус бар Иосиф, — сказала она. — И мой Иаков! А это кто? Ну-ка, дайте-ка я сяду на свою скамейку под деревом, а вы все идите со мной, подходите ближе, я хочу разглядеть вас получше. Вот так, вот так. Ах, какой малыш, дай-ка я возьму его на руки!
Всю свою жизнь я слышал рассказы о Старой Сарре. Мне часто читали ее письма. Старая Сарра — это человек, в котором соединялся род моего отца и род моей мамы. Я не помню всех родственных связей, хотя мне повторяли их несчетное количество раз, но все равно: я знаю, что это так.
И вот все мы собрались под смоковницей, и я сидел у ног Старой Сарры. Вокруг нас перемешались солнечный свет и тень. Воздух был чист и прохладен.
Старые большие камни, которыми был вымощен двор, настолько истерлись, что на них уже не видно было следов орудий каменщика. Виноградная лоза, усыпанная белыми цветками, подрагивающими на ветру, очаровала меня. По сравнению с Александрией в Назарете было удивительно просторно, и все предметы здесь казались мягкими.
Мужчины занялись животными. Старшие мальчики стали заносить вещи в дом. Я думал помочь мужчинам, но мне хотелось послушать, что говорит Старая Сарра.
Мама, держа на коленях Маленького Иуду, поведала Старой Сарре историю Брурии и ее рабыни, Ривы, а потом они сами, Брурия и Рива, сказали, что с этих пор будут работать на нас и каждый день будут готовить для нас пищу собственными руками и прислуживать каждому из нас, пусть только им скажут, где что лежит и чем можно пользоваться. Вокруг меня не стихали разговоры.
Все остальные жители Назарета прятались в погребах под своими домами, пояснила нам Старая Сарра, а некоторые даже укрылись в пещерах.
— Я же слишком стара, чтобы ползать под землей, — сказала она, — и к тому же стариков не убивают. Помолимся же о том, чтобы солдаты не вернулись.
— Их тысячи, — сказал Иаков, который видел их с крыши.
— Можно мне тоже забраться на крышу и посмотреть на солдат? — спросил я у мамы.
— Лучше сходи к Старому Юстусу, — сказала мне Старая Сарра. — Он лежит в постели и не может двигаться.
И мы немедленно прошли в дом: я, Маленькая Саломея, Иаков и два сына Алфея. Нам пришлось миновать четыре комнаты, прежде чем мы нашли Старого Юстуса. Его постель была приподнята над полом, рядом горела лампа, наполняя комнату легким ароматом. Рядом с Юстусом уже сидел Иосиф на маленькой деревянной скамеечке.
Старый Юстус поднял руку и попытался присесть на постели, но не смог. Иосиф назвал старику наши имена, но тот смотрел только на меня. Потом он откинулся на подушку, и я понял, что он не может говорить. Минуту спустя Старый Юстус закрыл глаза.
Да, нам рассказывали о Старом Юстусе, но сам он никогда не писал писем. Он приходился дядей Старой Сарре и был даже старше ее. И еще он родственник Иосифу и моей маме, как и Сарра. Хотя, опять же, я не могу перечислить все колена, связывающие нас, как может мама. Она произносит их, как псалом.
В доме вскоре запахло едой — свежевыпеченным хлебом и мясной похлебкой, приготовленными для нас Старой Саррой.
Несмотря на то что на улице ярко светило солнце, мужчины заставили всех собраться в доме. Они закрыли все двери, даже дверь, ведущую в хлев, где стояли теперь наши ослы, и зажгли лампы, а мы расселись в полумраке вдоль стен. Было тепло. Я не возражал, что приходится сидеть в доме, Ковры на полу были толстые и мягкие, и все мои мысли затмило предвкушение ужина.
О, всем сердцем мне хотелось осмотреть окрестные поля и рощи, пробежаться по улицам, увидеть, что за люди здесь живут, но прогулки придется отложить до тех пор, пока не закончатся эти ужасные события.
А здесь, в доме, мы были в безопасности, женщины хлопотали по хозяйству, мужчины играли с малышами, а огонь в очаге освещал все вокруг уютным сиянием.
Наконец женщины разложили на блюдах сушеные фиги, и изюм в меду, и сладкие финики, и пряные оливки, и другие вкусные вещи, которые мы привезли из Египта в наших котомках. Вместе с густой похлебкой с чечевицей и бараниной, настоящей бараниной, наш ужин показался мне пиром.
Иосиф благословил чаши с вином, и мы повторяли за ним:
— О Господь наш, Царь Вселенной, создавший плод виноградный, который мы пьем, выводящий из земли хлеб, который мы едим, благодарим Тебя за то, что наконец мы добрались до нашего дома, да сохрани нас от зла. Аминь.
Если кто и оставался в деревне в это время, мы не знали этого. Старая Сарра сказала, чтобы мы проявили терпение и веру в Господа.
После ужина Клеопа подошел к Старой Сарре и обнял ее, и поцеловал ее руки, и она поцеловала его в лоб.
— А что ты знаешь, — спросил он шутливо, — о богах и богинях, что пьют нектар и едят амброзию?
Другие мужчины негромко засмеялись.
— Поройся в ящиках, полных свитков, когда у тебя будет на это время, о любопытный, — ответила Старая Сарра. — Ты думаешь, мой отец не нашел в этом доме места для Гомера? Или для Платона? Ты думаешь, он никогда не читал своим детям по вечерам? Вряд ли ты знаешь то, чего не знала бы я.
Мужчины один за другим подходили к Старой Сарре и целовали ей руку, а она принимала их поцелуи.
Мне показалось, что эти их поцелуи несколько запоздали, и при этом никто не сказал Сарре ни слова благодарности за то, что она сделала.
Когда мама укладывала меня в комнате с мужчинами, я спросил ее об этом: почему никто не поблагодарил Сарру. Она нахмурилась и покачала головой, а потом прошептала, что я не должен об этом говорить. О том, что женщина спасла жизни мужчин.
— Но у нее же седые волосы, — сказал я.
— Все равно она женщина, — ответила мама, — а они — мужчины.
Посреди ночи я проснулся в слезах.
Сначала я не понял, где нахожусь. Я ничего не видел. Потом я осознал, что рядом со мной мама, и тетя Мария, и Брурия. Они все ласково успокаивали меня. Так я догадался, что мы дома. Я дрожал так, что у меня стучали зубы, но холодно мне не было. Из темноты ко мне подошел Иаков и сказал, что римляне ушли из деревни. Они оставили несколько воинов, чтобы охранять распятия и загасить остатки мятежа, но большая часть войска покинула эти края.
Иаков говорил уверенно и спокойно. Он лег рядом со мной и обнял меня одной рукой.
Мне хотелось, чтобы поскорее наступил день. Я чувствовал, что, если бы сейчас было светло, мой страх прошел бы. Я снова заплакал.
Мама стала напевать мне тихонечко:
— Боже! Новую песнь воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида от лютого меча. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши — как искусно изваянные столпы в чертогах. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
Постепенно сон сморил меня.
Когда я проснулся, то увидел, что из-под двери, ведущей во двор, пробивается утренний свет. Женщины уже встали, но я выскользнул на улицу незаметно, так что никто не успел остановить меня. Сладкий и теплый воздух окутал меня.
Иаков вышел сразу вслед за мной, и я побежал к лестнице, ведущей на крышу, поднялся и отыскал лестницу, ведущую на соседнюю, более высокую крышу. Вместе с Иаковом мы подползли к краю и посмотрели в сторону Сепфориса.
Он был так далеко, что я мог разглядеть только кресты. Все было так, как рассказывал Иаков. Я не мог сосчитать, сколько их было. Между крестами двигались люди. По дороге тоже шли люди в обоих направлениях, ехали повозки. Огонь уже потушили, хотя к небу все еще поднимались струйки дыма, и мы видели, что сгорел не весь город, а только небольшая его часть. Правда, толком мы ничего не могли разглядеть.
Справа от меня карабкались вверх по склону дома Назарета, один за другим, а слева от меня они опускались вниз. На крышах мы никого не увидели, но зато заметили, что кое-где на них лежат циновки и одеяла, и еще я рассмотрел, что вокруг деревни расстилаются зеленые поля и повсюду темнеют пышные рощи. В Назарете было много деревьев.
Когда я спустился, во дворе меня уже ждал Иосиф, он строго посмотрел на нас и спросил:
— Кто разрешил вам забираться на крышу? Туда лазить нельзя!
Мы кивнули. Иаков вспыхнул и обменялся с Иосифом взглядом. Я увидел, что Иакову стыдно, а Иосиф простил его.
— Это все из-за меня, — сказал я. — Я первый побежал на крышу.
— Больше так не делай, — попросил Иосиф. — Ведь солдаты могут вернуться.
Я опять кивнул.
— Что же вы видели? — спросил Иосиф.
— Вокруг спокойно, — ответил Иаков, — Солдаты ушли. Люди снимают с крестов тела. Но некоторые деревни сгорели дотла.
— Я не видел никаких деревень, — удивился я.
— Это маленькие поселения возле города, — объяснил мне Иаков.
Иосиф снова укоризненно покачал головой и забрал Иакова с собой — работать.
Под старыми ветвями смоковницы сидела на своей скамье Старая Сарра, укутанная в одежды, чтобы уберечься от утренней прохлады. Листья за прошедший день еще больше выросли, их зелень потемнела. В руках у Сарры было шитье, но она не столько шила, сколько выдергивала нити из ткани.
К воротам подошел старик, кивнул Старой Сарре и двинулся дальше. Затем прошло несколько женщин с корзинками, издалека донеслись детские голоса.
Я прислушался внимательнее, и тогда мне стало слышно воркование голубей, и мне даже показалось, что я различаю шелест листвы и пение женщин.
— О чем замечтался? — спросила меня Старая Сарра. В Александрии повсюду были люди — везде, всегда; там никогда нельзя было побыть одному. Люди вместе ели, работали, играли, спала — всегда вместе. А здесь было так… так тихо.
Я хотел петь. Петь, как поет дядя Клеопа. Мне припомнилось, как внезапно он иногда начинал петь. Теперь я понимал его.
В воротах показался маленький мальчик; за ним виднелся второй. Я сказал им:
— Заходите.
— Да, теперь можешь зайти к нам, Тода, и ты тоже, Маттай, — проговорила Старая Сарра. — А это мой племянник, Иисус бар Иосиф.
Тут же из дома вышел Маленький Симеон, за ним следовал и Маленький Иуда.
— А я могу добежать до вершины холма быстрее всех, — заявил мальчик Маттай.
Тода напомнил другу, что им пора возвращаться к делам.
— Рынок снова заработал. Вы уже видели рынок? — спросил Тода.
— Нет. А где он?
— Идите, посмотрите, — разрешила нам Старая Сарра.
Город возвращался к жизни.
13
Рынок оказался всего лишь площадкой у подножия холма. Люди раскинули на ней палатки и навесы, разложили свои товары на одеяла и сели рядом. В основном тут женщины продавали овощи с собственных огородов. Забрел сюда и странствующий торговец, среди товаров которого имелось даже серебряное блюдо. А другой торговец предлагал холсты, крашеную пряжу и множество всяких мелочей, например чаши из мягкого камня и пару небольших книжек.
На рынке я подружился еще с несколькими мальчиками, но матери старались держать детей поблизости от себя. А за мной вскоре пришел Иаков.
Город становился все оживленнее. Мимо нашего дома шли на рынок женщины, в других дворах появились старики и старухи, даже на полях работало несколько мужчин.
Но люди тревожились, негромко обсуждали печальную судьбу Сепфориса, и никто не чувствовал себя в безопасности, кроме тех, кто был совсем мал и мог не замечать бед.
Когда я вернулся, то оказалось, что у нас во дворе собрались соседские дети и играют вместе с Маленькой Саломеей и другими моими младшими братьями и сестрами. Однако остальные члены семьи усердно трудились.
Прежде всего им нужно было оценить, что в доме нуждалось в ремонте в первую очередь. Сначала они взобрались на земляную крышу, осмотрели ее, подняли ветви, наваленные сверху, отыскали щели. Затем прошли по всем комнатам, обращая внимание на стены и на надежность полов верхних этажей. Предстояло заново побелить штукатурку в тех местах, где она посерела и даже почернела. На стенах первого этажа в ярком свете, льющемся из распахнутых дверей, я разглядел следы кромок различных цветов и размеров, когда-то украшавших проемы.
Иосиф и Клеопа обсудили, нельзя ли восстановить эти узоры. В Александрии я видел, что они умеют это делать очень быстро. Сам я тогда был еще слишком мал и не мог провести кистью идеально ровную линию. Но сейчас я вырос, мне уже можно было поручить такую работу.
Ясли в хлеву требовали покраски, рамы, поддерживающие виноградную лозу во дворе, нужно было починить (это я заметил сразу, как только вошел во двор первый раз).
Больше всего при осмотре дома меня поразили два огромных резервуара, в которых хранилась дождевая вода. Оба резервуара протекали и нуждались в ремонте.
А последним открытием стала большая миква, высеченная в камне под домом много лет назад.
Теперь миква использовалась как ванна для очищения. В Египте я ничего подобного не видел. Внутри миквы имелись ступени, ведущие на самое дно, чтобы человек мог спуститься под воду и выйти обратно, даже не нагнув головы. Сейчас в ванне была лишь половина положенного объема воды и стенки во многих местах осыпались или почернели. Иосиф сказал, что нам придется вычерпать отсюда всю воду и заново оштукатурить микву. Воду для нее накачивали из резервуаров. А благодаря обильным дождям сейчас оба резервуара были полны.
Как нам сказали, эту ванну построил дедушка Старой Сарры, когда пришел в Назарет. Он построил этот дом для себя и своих семерых сыновей. Иосиф знал их имена, все до одного, только я не запомнил их, как не запомнил всех тех, кого они породили. Знаю только, что отец моей мамы и отец матери Иосифа были одними из их потомков. Сейчас у меня не хватало терпения слушать все эти истории. Мне хотелось приступить к работе.
К середине дня повсюду трудились метлы и щетки: женщины выбивали из ковров пыль. Клеопа сходил с женщинами на рынок, чтобы купить свежей провизии для вечерней трапезы; печь во дворе горела весь день.
Брурия сидела во дворе и оплакивала своего сына, который ушел с мятежниками в Сепфорис. Она считала, что он погиб. Мы все знали, что это означало: скорее всего, его прибили к одному из крестов вдоль дороги, но мы старались не говорить об этом. Никто не собирался в Сепфорис, по крайней мере в ближайшее время. Мы молча трудились.
К наступлению темноты дом уже был разделен между семьями: Алфей, его жена и двое сыновей получили свои несколько комнат; Клеопа, тетя Мария и их малыши — свои; а Иосифу, маме и мне достались комнаты, соседние с комнатами тети Марии, и еще с нами должны были жить Старая Сарра и Старый Юстус. Дядя Симон, тетя Есфирь и крошка Есфирь поселились возле хлева, в середине дома.
Даже Брурия и ее рабыня Рива получили в свое распоряжение комнату.
Еще в доме жила старая служанка, худая молчаливая женщина по имени Ида, которую я не заметил днем раньше. Она заботилась о Старой Сарре и Старом Юстусе и спала на полу в их комнате. Я так и не понял, умела ли эта женщина говорить.
Ужин опять был плотным. Мы доедали вчерашнюю похлебку, ели свежий хлеб и сладкие фиги и финики. Все рассказывали о том, что было сделано за день в доме и во дворе, и о том, как хотелось всем прогуляться в садах на окраине деревни, походить по улицам, узнать, кто как жил все это время, и увидеться с теми знакомыми и родными, с которыми еще не успели поздороваться.
После еды мы все прилегли, отдыхая, изредка переговариваясь. В это время со двора в общую комнату заглянул какой-то человек. Иосиф немедленно поднялся и подошел к гостю, чтобы поговорить. Через некоторое время он вернулся, плотно закрыв дверь, оберегая тепло дома от вечерней прохлады, и сказал нам:
— Римские легионы ушли из Галилеи. Осталось лишь несколько человек, чтобы присматривать за порядком до тех пор, пока Архелай не вернется домой.
— Благодарение Всевышнему, — пробормотал Клеопа, и все, в тех или иных словах, сказали то же самое. — А что насчет распятых? Их сняли с крестов?
Все знали, что человек, распятый на кресте, мог прожить два дня или даже больше.
— Не знаю, — ответил Иосиф.
Старая Сарра склонила голову и запричитала на иврите.
— Последний солдат прошел по главной дороге около часа назад, — продолжал Иосиф.
— Молюсь о том, чтобы они никогда не вернулись, — проговорила мама.
— Распятый должен быть снят с креста до захода солнца! — воскликнул Клеопа. — Это позор, и уже прошли дни с тех пор, как…
— Клеопа, оставь, — перебил его Алфей. — Мы здесь, и мы живы!
Дядя собирался возразить, но мама потянулась к нему и положила ладонь ему на колено.
— Прошу тебя, брат! — шепнула она. — В Сепфорисе тоже есть евреи, и они знают свой долг. Предоставь им заняться распятыми.
После этого все замолчали. Мне не хотелось отправляться спать, но постепенно сонливость одолевала меня.
Когда я улегся, то почувствовал себя странно: ведь я впервые спал без Симеона, и без Иосия, и без остальных малышей.
Раньше меня всегда укладывали вместе с женщинами и младшими детьми. Но теперь дети спали со своими матерями. А моя мама была со Старой Саррой, Старым Юстусом, Брурией и рабыней Ривой, хотя у последних имелась своя комната. Я скучал по Маленькой Саломее. Я скучал даже по крошке Есфири, которая, проснувшись, немедленно принималась плакать и останавливалась, только когда засыпала вновь.
Теперь я, как взрослый, буду спать в комнате вместе с Иосифом и Иаковом. И все-таки я спросил у Иосифа, нельзя ли мне прижаться к нему, и он сказал, что можно.
— Если я заплачу во сне и проснусь, ты отнесешь меня к маме? — спросил я его.
— Если захочешь, то отнесу, — ответил он. — Ты еще слишком мал, чтобы спать с нами, но тем не менее тебе семь лет и ты уже многое понимаешь. Скоро тебе исполнится восемь. Так реши, чего ты хочешь? Если попросишь, я отнесу тебя к твоей матери.
Я не ответил. Потом повернулся к стене и закрыл глаза.
За ночь я ни разу не проснулся.
14
Только на третий день после прибытия в Назарет нам разрешили гулять и бродить где угодно. К тому времени Клеопа сходил в Сепфорис и вернулся обратно. Он рассказал, что все тела уже сняты с крестов и в городе снова установился порядок, даже рынок работает. Со смехом он добавил, что там очень требуются плотники, ведь необходимо заново отстроить уничтоженные пожаром здания.
— У нас и здесь пока много работы, — заметит Иосиф. — А Сепфорис будет строиться и после того, как нас не станет.
Действительно, работы у нас было много. Сначала мы осушали микву. Для этого нам, детям, пришлось залезть в холодную воду, где мы наполняли водой кувшины и передавали их наверх мужчинам. Потом ванну штукатурили, а когда с этим было закончено, мы стали штукатурить стены дома.
Я был счастлив, потому что теперь мог выйти за пределы деревни, и, как только у меня появилось свободное время, отправился в лес. По дороге мне встречались дети, много детей, и я хотел поиграть с ними, но сначала решил погулять среди деревьев, взобраться на холм, сбежать вниз, на луг.
Александрию все называли городом, полным удивительных вещей. Она известна своими празднествами, шествиями, храмами и дворцами, а также домами с мраморными полами вроде того, в котором жил Филон. Зато здесь повсюду растет зеленая трава.
Она так вкусно пахнет, лучше любых благовоний. А под деревьями земля кажется такой мягкой! Из долины, расстилавшейся ниже Назарета, дул легкий ветерок, и я наблюдал, как он играет с кроной сначала одного дерева, потом другого, передвигаясь все дальше и дальше. Шелест листьев над головой я готов был слушать бесконечно. Под сенью деревьев я поднимался вверх по склону до тех пор, пока снова не вышел на луг, в густую траву, и там я лег. Земля была сырой, потому что ночью прошел дождь, но мне нравилось так лежать. Я посмотрел в сторону деревни. Сверху я разглядел мужчин и женщин, работающих на огородах и дальше, в полях. Насколько я мог судить, они выпалывали сорняки.
Но мои мысли занимали не люди, а рощи и леса, что росли и здесь, и там, и далеко-далеко, под синевой небес.
Я потерял себя. Растворился. Я как будто напевал что-то еле слышно, и это тихое пение наполняло меня, но я не пел. И мне было несказанно приятно. Иногда я чувствовал что-то похожее перед тем, как заснуть. Но сейчас я не хотел спать. Я не дремал. Я неподвижно лежал на траве и слушал стрекот крошечных существ, что копошились вокруг меня в высокой траве. Я даже видел дрожание их крылышек. Прямо передо мной разворачивался целый мир этих созданий, таких маленьких, что они с трудом переваливали через травинки.
Я медленно перевел взгляд на деревья. В них снова запутался ветер, и они покачивались взад и вперед, как будто танцевали. В солнечном свете листва казалась серебристой, и ни один листок не прекращал движение ни на миг, даже когда ветер стихал.
Вновь мои глаза обратились на то, что было непосредственно передо мной, — на крошечных существ, которые быстро двигались по траве и земле. Мне пришло в голову, что, улегшись на землю, я раздавил нескольких из них, а может, даже и очень многих. Чем дольше я вглядывался, тем больше я их различал. Их миром была трава. Они знали только ее и ничего больше. И кем же был для них я, что опустился на землю отдохнуть и насладиться мягким ароматом, мимоходом забрав жизни множества их собратьев?
Я не жалел об этом. Мне не было грустно. Моя ладонь опустилась и примяла несколько стебельков, и крошечные существа, оказавшиеся под ней, засуетились и задвигались с удвоенной скоростью. Весь их мир потрясло до основания, но мне не было слышно ни звука.
Земля подо мной — постель. Птичьи рулады — музыка. Птицы проносились высоко в небе так быстро, что я едва различал их. А потом прямо перед собой я увидел цветочки, растущие среди травинок, такие мелкие, что сначала я их не заметил. Цветочки с белыми лепестками и желтой сердцевиной.
Ветер усиливался, раскачивая надо мной ветви деревьев. С них дождем посыпались листья. Беззвучный дождь.
Но что это? Кто-то идет сюда. Из под деревьев ниже по склону появился человек и направился в мою сторону.
Это был Иосиф. С опущенной головой он поднимался к вершине холма, где я лежал. Его одежды развевались на ветру, и я обратил внимание, что он очень похудел за время нашего путешествия из Александрии. Должно быть, мы все похудели.
Из уважения к нему мне следовало подняться, я знал, но мне было так хорошо лежать в сладкой траве, и эта странная музыка, неизвестно откуда доносившаяся, по-прежнему наполняла все мое тело, поэтому я не встал, а только взглянул на Иосифа, когда он подошел ко мне.
Тогда я был слишком неразумен, чтобы осознать: эти несколько минут в траве под кронами деревьев были первыми в моей жизни, что я провел в одиночестве. Я почувствовал только, что мой покой нарушен — но что иначе и быть не могло. Разве было у меня время, чтобы созерцать мир до тех пор, пока он не потеряет все острые грани и углы? Наконец я поднялся на ноги — с трудом, как будто просыпаясь после долгого сна.
— Знаю, — печально произнес Иосиф, — Назарет всего лишь маленькая деревушка, одна из множества на этом свете. Ей нечем похвастаться перед великой Александрией. Наверное, ты сотни раз вспоминал о своем наставнике Филоне, и о друзьях, и обо всем том, что мы оставили там. Я знаю. Знаю.
Я не смог ответить сразу. Я пытался. Мне хотелось сказать, что я видел и чувствовал, каким мягким и сладким все здесь казалось мне и как мне нравилось это место. Не в силах подобрать слова, я замешкался и не остановил Иосифа.
— Но ты должен понять, — продолжал он, — что в небольшой деревне тебя никто не станет искать. Здесь ты надежно спрятан.
Спрятан.
— Но зачем прятать…
— Нет-нет! — Он не дал мне договорить. — Сейчас никаких вопросов. Наступит время, и я все тебе расскажу. Запомни одно: никому ничего не рассказывай. — Он замолчал и посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я понял его слова. — Не упоминай о том, о чем беседовали у костра мужчины. Никогда не разговаривай ни с кем, кто не принадлежит нашему дому. Не рассказывай, где мы были и почему, и все свои вопросы храни в сердце. Когда ты подрастешь, я сам расскажу все, что тебе нужно знать.
Я не сказал ни слова.
Он взял меня за руку. Мы пошли обратно в деревню. По дороге мы миновали наш садик, помеченный несколькими камнями. Участок весь зарос сорняками. Но деревья были еще крепкими. Среди них выделялось одно высокое и старое дерево, все ветви которого были обвязаны маленькими полосками ткани.
— Это оливковое дерево посадил дед моего деда, — сказал мне Иосиф. — А вот это дерево называется гранатовым. Подожди, скоро оно зацветет и сплошь покроется красными цветами.
Он ходил по саду от одного плодового дерева к другому. Вокруг на холме были участки других людей, и они все были тщательно ухожены и засажены разными растениями.
— Завтра мы вскопаем здесь землю, — решил Иосиф. — Еще не слишком поздно, и женщины смогут посадить виноград, огурцы или что-нибудь еще. Спросим у Старой Сарры, она подскажет. — Он внимательно вгляделся в мое лицо. — Тебе грустно?
— Нет, — быстро ответил я. — Мне здесь нравится! — Мне отчаянно хотелось найти правильные слова, чтобы он понял. Слова вроде тех, из которых составлены псалмы.
Иосиф подхватил меня на руки и поцеловал в обе щеки, и мы продолжили наш путь к дому. Он не поверил мне. Он решил, что я просто стараюсь не огорчать его. Мне же хотелось сейчас побежать в лес, вскарабкаться на еще один холм. Мне хотелось делать то, что невозможно было сделать в Александрии. Но нас ждала работа. Когда мы вошли во двор, оказалось, что он полон: к нам все шли и шли люди, желая поздороваться после долгих лет разлуки.
15
Старая Сарра сравнивала нас с налетевшим вихрем. Алфей с сыновьями, Левием и Силой, полностью починили крышу, причем очень быстро и очень хорошо: чтобы проверить, насколько она прочна, мы прыгали и топали по ней изо всех сил. Наши соседи, чей дом стоял выше по склону, тоже обрадовались. Дело в том, что одна из их дверей выходила прямо на нашу крышу, а мы разрешили им пользоваться ею как в старые времена, и они тут же расстелили там свои одеяла. Для нас оставалось достаточно места — над основной частью дома, с левого края, выходившего к дому, что стоял ниже по склону, и в дальней части, тоже обращенной к домам, расположенным ниже нашего.
Теперь на всех крышах Назарета расположились женщины с шитьем и малышами. По краям каждой крыши шел невысокий парапет — вроде того, что я видел в Иерусалиме. Он был необходим, чтобы дети не свалились вниз. Кое-кто вынес на крыши горшки с цветами и фруктовыми деревьями. Я не знал названий всех этих растений.
Зимние холода почти совсем прошли. Иногда в воздухе еще чувствовалась прохлада, и мне это не нравилось, но я знал, что скоро станет совсем тепло.
Клеопа со своим старшим сыном, Маленьким Иосием, который был все еще очень мал, и с младшим сыном Симона Маленьким Юстусом, чуть постарше и сообразительней, оштукатурили микву специальной штукатуркой, не пропускающей воду. Наша семья знала, как замешивать такую штукатурку из материалов, что имелись в здешних деревнях. И вскоре ванна стала белой. Можно было наполнять ее водой из резервуара. На дне, однако, оставалось крохотное отверстие, через которое всегда должна вытекать вода. Так делается для того, чтобы вода была «живой». По Закону только «живая вода» годилась для очищения.
— Вода становится живой из-за этого отверстия? — спросила Маленькая Саломея. — Она становится ручьем?
— Да, — ответил дочери Клеопа. — Вода течет. Значит, она живая. Этого достаточно.
В тот день, когда ванну наполнили водой, мы все собрались вокруг нее. Вода была яркой и прозрачной, но холодной. Она красиво поблескивала в свете ламп.
А мы с Иосифом строили новые рамы для виноградной лозы, растущей вокруг дома и вдоль стены, отделяющей двор от улицы. С крайней осторожностью мы переносили зеленые ветки на новые рамы, стараясь не повредить их. Кое-какие кусты все же погибли, и это было очень печально, но большинство прижились, и самые тяжелые ветки мы подвязали к раме новыми веревками.
Иаков занялся ремонтом скамеек в доме. Он разбирал их на части, выбрасывая то, что безнадежно испортилось, а из оставшихся частей собирал новые, крепкие скамейки.
К ограде часто подходили соседи — мужчины, направляющиеся на работу в поля и желающие переброситься парой слов, или женщины с корзинками по дороге на рынок, эти задерживались иной раз подольше. Почти все они были друзьями Старой Сарры, но не такими старыми, как она. А еще к нам заходили мальчики, предлагая помощь. Вскоре у Иакова завелся новый друг — Левий, он приходился нам родственником. Его родители владели плодородными полями и оливковыми рощами. Спустя несколько дней после нашего прибытия Маленькая Саломея тоже подружилась со стайкой девочек примерно одного с ней возраста. Теперь она могла пригласить их в дом, где они шептались и хихикали.
Женщинам в Назарете приходилось работать гораздо больше, чем в Александрии, ведь там у них была возможность каждый день покупать свежий хлеб и овощи, а иногда и готовую похлебку. Здесь же, чтобы испечь хлеб, они вставали с рассветом. Воду не развозили по домам, и женщинам надо было ходить за ней к ручью за деревней. Кроме того, на их плечи легла уборка комнат на верхних этажах, в которых пока никто не жил, мытье сколоченных Иаковом скамеек, подметание двора и земляных полов во всем доме.
Земляные полы в Назарете ничем не отличались от александрийских, только здесь они были более утоптанными и поэтому не такими пыльными. А вот ковры в нашем доме оказались замечательными: мягче и толще, чем египетские. С большим удобством мы откидывались на ковры и подушки после вечерней трапезы, чтобы отдохнуть.
И вот, незаметно для нас, поглощенных работой, наступил священный день отдохновения — суббота. Но женщины были готовы к нему: они запасли праздничные блюда, главным из которых была сушеная рыба, замоченная в вине и затем обжаренная, а также финики, орехи (раньше я их никогда не пробовал) и свежие фрукты с окрестных полей и садов, а еще оливки и много других вкусных вещей.
Все это разложили на блюда, после чего зажгли светильник, чтобы пригласить субботу в дом. Это было обязанностью моей мамы, и она прочитала негромкую молитву, поднося к лампе огонь.
Мы все прочитали благодарственные молитвы за наше возвращение домой и приступили к занятиям, все вместе, с пением, разговорами и довольными улыбками. Ведь это была наша первая суббота в этом доме.
Занимаясь, я одновременно думал о том, что Иосиф сказал Филону: суббота делает из всех нас ученых. Она делает из нас философов. Я не очень точно представлял себе, кто такие философы, но слышал это слово и раньше. Я предполагал, что оно относится к людям, которые изучают Закон. Учитель в Александрии как-то сказал, что Филон — философ. Да, все сходится.
А теперь мы все стали учеными и философами — в этой большой комнате, убранной и вымытой, свежие после омовения и погружения в микву, в чистых одеждах, и все это было сделано до заката. Иосиф читает, сидя возле лампады, от которой сладко пахнет оливковым маслом.
Да, и еще у нас, как у Филона, есть свитки, хотя не так много — нет, не так много. Но все же они у нас есть, я не знаю, сколько именно, потому что они все хранятся в сундуках, ключи от которых держат при себе Иосиф и Старая Сарра.
А часть свитков спрятана — захоронена под землей, в погребе, куда нам, детям, пока не разрешают заходить. Если на дом нападут разбойники или если в доме будет пожар (одна мысль об огне заставила меня поежиться), то эти свитки не пропадут.
Как же мне хотелось взглянуть на этот подвал! Но мужчины сказали, что он очень обветшал и нуждается в ремонте и поэтому малышам туда спускаться пока нельзя.
До начала субботы Иосиф достал и разложил перед нами некоторые из свитков. Часть из них были совсем старыми и обтрепанными по краям. Но все они были правильными и нужными.
— Запомните же, больше мы не читаем по-гречески, — сказал Иосиф, обводя нас взглядом. — Здесь, на Священной земле, мы читаем только на иврите. Нужно ли объяснять кому-нибудь почему?
Мы дружно рассмеялись.
— Но что же мне делать с книгой, которую мы все так любим? Она ведь написана на греческом языке!
Иосиф поднял один из свитков. Это была Книга Ионы. Мы захлопали в ладоши и стали просить почитать нам ее.
Он тоже засмеялся. Больше всего на свете он любил, когда все мы собирались вокруг него и слушали, как он читает. А у нас давно не было возможности вот так посидеть.
— Скажите же, что мне делать, — попросил он, — Почитать вам ее по-гречески или пересказать на нашем языке?
Снова мы захлопали в ладоши, радостные, что услышим, как Иосиф пересказывает историю Ионы. Мы обожали слушать, как он это делал. И в действительности он никогда не читал нам ее только по-гречески. В какой-то момент он всегда откладывал книгу и дальше пересказывал ее сам, потому что очень любил ее и знал наизусть.
Иосиф с воодушевлением приступил к рассказу о том, как Господь призвал пророка Иону и повелел ему проповедовать в Ниневии («Это великий город!» — заметил Иосиф, и мы повторили за ним). Но что сделал Иона? Он попытался убежать от Господа. Может ли хоть кто-нибудь убежать от Господа?
Он прибыл к морю, нашел корабль, отправляющийся в далекие земли. Однако маленькое судно попало в ужасный шторм. И все иноверцы принялись молить своих богов о спасении, но море бушевало, бросая на путешественников дождь, гром и черные тучи.
Шторм продолжался так долго, что моряки стали тянуть жребий, чтобы узнать, кто виновник такой непогоды, и жребий указал на Иону. Но где же он? А он крепко спит в трюме корабля.
— Так ты спишь, незнакомец? Храпишь в трюме нашего корабля? — произнес Иосиф, изображая сердитого капитана.
Мы засмеялись и захлопали, а он продолжал:
— Как же поступил Иона? Он рассказал морякам, что ослушался Господа Бога, сотворившего этот мир, и что нужно бросить его в море, потому что он ныне бегает от лица Господа и Господь рассердился. А что сделали моряки? Выбросили Иону в море? Нет! Они стали грести изо всех сил, чтобы доплыть до суши, но…
— Но шторм продолжался! — хором подхватили мы.
— И они стали молиться Господу в страхе перед Ним, и что они сделали?
— Они сбросили Иону в воду!
Иосиф посерьезнел, сощурился.
— Да, моряки испугались Господа и принесли Иону в жертву, и он опустился в глубины морские, где Господь сотворил огромную рыбу, чтобы она…
— Проглотила Иону! — воскликнули мы.
— И Иона провел в животе кита три дня и три ночи!
Мы притихли. Хором, повторяя за Иосифом, мы произнесли молитву, которую Иона послал Господу, прося о спасении. Мы знали ее наизусть, на нашем родном языке, и знали ее на греческом языке. Вместе с детьми молитву прочитали и мужчины, и женщины, что сидели с нами.
— До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.
Я закрыл глаза, когда мы дошли до этого места:
— Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего…
Я вспомнил о храме. Я вспомнил не о толпах внутри его и не о человеке, пронзенном копьем, а об огромной массе мрамора и золота, сияющего на солнце, о песнопениях верующих, накатывающих, как волны на берег, — я видел, как морские волны набегают одна за другой, одна за другой, а наше судно качается на якоре, и волнам нет конца…
Я так глубоко погрузился в свои воспоминания о воде, бьющей о борт корабля, о пении, стихающем и усиливающемся вновь, что когда очнулся, то оказалось, что история Ионы уже подходит к концу.
Теперь Иона сделал все так, как велел ему Господь. Он пошел в «великий город Ниневию» и стал кричать: «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена».
— Все люди поверили в Господа! — сказал Иосиф, поднимая брови. — Они объявили пост и оделись во вретище, все — от старшего из них до самого малого. Проповедь Ионы дошла и до самого царя могущественной Ниневии; он встал с престола своего, снял свое царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле! — Иосиф поднял руки, чтобы подчеркнуть важность этого момента. — Царь! — повторил он и кивнул. — Потом он повелел провозгласить по всей Ниневии от имени его, царя, и вельмож, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Господу.
Иосиф сделал паузу и выпрямился, оглядывая нас, а потом вопросил, повторяя слова жителей Ниневии:
— Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой?
А потом он взмахнул руками, чтобы мы вместе ответили.
— И Господь помиловал их, — протянули мы хором. — И не навел на них бедствия.
Иосиф, помолчав, задал следующий вопрос:
— Но кто же огорчился? Кто не был доволен? Кто покинул город в ярости?
— Иона! — грянули мы.
— О Господи! — воскликнул Иосиф в роли Ионы. — Не сие ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис.
Мы не удержались и расхохотались, а Иосиф поднял палец, призывая к терпению, и продолжил голосом пророка:
— Ибо знал я, что Ты — Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый.
Мы все согласно закивали.
— И ныне, Господи, — воскликнул Иосиф от имени гордого Ионы, — возьми душу мою от меня; ибо лучше мне умереть, нежели жить.
Снова грянул смех.
— Иона так устал и расстроился, что уселся прямо у ворот Ниневии. И устроил себе там кущу и сел под нею в тени, чтобы посмотреть, что будет с городом. Вдруг еще что-то произойдет… И тогда у Господа появился план. Произрастил Господь ночью вьющееся растение над головой Ионы, чтобы избавить его от солнечного зноя и вместе с тем от огорчения, ибо пророк находил в этом успокоение своему огорченному духу.
И так прошел день и ночь, и пророк спал под этим растением… и кто знает? Может, ветры пустыни были не так холодны под его листвой. Как вы думаете?
Но радость Ионы о тенистом растении была непродолжительна. На следующий день, при появлении зари, червь по повелению Господа подточил растение, и оно засохло.
Иосиф остановился. Он поднял палец:
— Когда же взошло солнце, навел Господь знойный ветер, да, мы знаем, каким бывает ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и упал без чувств! — Иосиф шлепнул себя по коленям и кивнул: — Пророк упал без чувств от жары и ветра. И что он сказал?
Мы хихикали, но тихо, ожидая, чтобы Иосиф вскинул руки и выкрикнул голосом Ионы:
— Лучше мне умереть, Господи. Лучше умереть, нежели жить.
Тут мы дали волю смеху, и Иосиф подождал минутку, чтобы мы успокоились, но потом снова посерьезнел, хотя все еще с улыбкой, и заговорил добрым голосом Господа:
— Неужели ты так сильно опечален тем, что растение засохло?
Иона отвечал:
— Я очень огорчился, даже до смерти.
Тогда, отечески вразумляя пророка, Господь сказал:
— Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил, ведь оно в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, где людей счетом шестьдесят тысяч, людей, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
И мы все заулыбались и закивали согласно, и всех нас обуревали те же чувства, что и всегда при чтении этой истории, и смех согрел нас, как всегда.
После этого Клеопа почитал нам немного из книги Самуила. Мы никогда не уставали слушать эту книгу.
Позднее, когда мужчины углубились в беседы и споры о Законе и пророках, обсуждая со всех сторон тонкости, ускользающие от меня, я заснул. Мы все так и спали в ту ночь — подле горящей лампы, не раздеваясь.
Ночь субботы перешла в утро. Праздник будет продолжаться до заката.
Все позавтракали хлебом, приготовленным заранее, и тогда заговорила Старая Сарра.
Она сидела, прислонившись спиной к стене, обложенная подушками с обеих сторон, и прошлым вечером мы не слышали от нее ни слова.
Теперь же она сказала:
— Осталась ли теперь в этом селении синагога? Или она сгорела до основания?
Никто не ответил ей.
— А, так значит, ее нет, верно? — спросила она.
И опять никто не ответил ей. Я еще не видел в Назарете синагоги. То есть она была, только я не знал, где именно.
— Ответь мне, племянник! — настаивала Старая Сарра. — Или я потеряла не только терпение, но и разум?
— Здесь есть синагога, — сказал Иосиф.
— Тогда отведи туда этих детей, — сказала Сарра. — И я пойду с ними.
Иосиф ничего не ответил.
Я никогда не слышал, чтобы женщина так разговаривала с мужчиной. Однако это была не обычная женщина, а очень древняя и седая. Это была Старая Сарра.
Иосиф смотрел на нее. Она смотрела на Иосифа. Потом она подняла подбородок кверху.
Наконец Иосиф поднялся и жестом велел нам тоже встать.
Вся семья, за исключением мамы, Ривы и самых маленьких, которые будут только мешать нам в молитвенном доме, пошла по улице вверх по холму, куда я раньше не ходил. К ручью на краю деревни я уже бегал и решил, что он весьма красив, однако вверх по холму я пока не поднимался.
Дома на вершине холма снаружи выглядели такими же, как и во всей деревне — покрытые штукатуркой, беленые и с дворами, но дворы были просторнее, а смоковницы и оливковые деревья, что росли в них, выглядели совсем старыми. Из открытых дверей нам улыбались красивые женщины, одетые в тончайшие одежды, ярко-белые с золотой вышивкой по краям. Мне нравилось смотреть на них. В одном хлеве я заметил привязанную лошадь, это была первая лошадь, увиденная мною в Назарете. А еще мы миновали человека за письменным столом со скрещенными ножками. Он сидел на стуле с такими же ножками и читал на свежем воздухе свитки. Он махнул рукой Иосифу, когда мы шли мимо.
На улицах нам тоже попадались люди, они кивали нам и либо обгоняли нас, потому что мы двигались довольно медленно, либо шли следом. Никто не работал. Все жители здесь, похоже, соблюдали субботу.
Когда мы поднялись на самый верх, я увидел, как мой родственник Левий и его отец Иехиель выходят из большого дома с хорошо сделанными дверями и окнами, со свежевыкрашенными переплетами, и вспомнил, что эти наши родственники владели большим куском здешних угодий.
Они оба пошли вслед за нами, а мы начали спускаться на другую сторону холма. Теперь улица была не такой широкой и прямой, как на нашей стороне, она извивалась и поворачивалась, но все равно к нам присоединялось все больше людей.
Наконец я увидел впереди скопление деревьев, через которое вела тропа, выведшая нас к источнику. Вода с шумом и плеском падала с утеса и до краев наполняла две каменные ванны.
Большая из двух ванн оказалась так переполнена, что из нее текли ручейки, и вот именно к ней и подошла наша процессия. Люди стали мыть руки под струйками воды.
Мы тоже омыли ладони и руки, стараясь не замочить одежду. Вода была холодной. По-настоящему холодной. Но мне нравилось плескаться в ней. Я оглядел источник выше и ниже ванн: он весело петлял между камнями и уступами — совсем как дорога, по которой мы пришли сюда.
Потом я выпрямился и стал щипать и тереть ладони, пытаясь разогреть их.
Слева от ручья, в стороне от дороги, стоял молитвенный дом, или синагога. Ее хорошо было видно: большое здание с широко открытой дверью, через которую просматривались комнаты и лестница с одной стороны. Вокруг зеленела аккуратно скошенная трава.
Мы приблизились к входу и стали ждать своей очереди, чтобы войти внутрь.
Я заметил, что мужчины — Клеопа, Алфей, Иосиф и Симон — и Старая Сарра передвинулись в конец нашей группы, встав позади меня. Остальные женщины вместе с детьми прошли вперед, Клеопа поддерживал Старую Сарру под руку. Сила и Левий вошли внутрь. Иаков тоже остался стоять позади меня вместе с моими дядями и Иосифом.
Иосиф тихонько подтолкнул меня к открытой двери.
Мужчины встали по обеим сторонам от меня.
Я помедлил на пороге. Помещение было огромным по сравнению с маленькой синагогой, в которой мы собирались в Александрии. Туда ходили лишь мы и наши соседи, другие люди ходили в свои синагоги, их было много по всему городу. А в этом молитвенном доме вдоль стен стояли скамьи, поднимаясь ступенями, так что люди сидели на них, как в театре или как в Великой синагоге в Александрии, куда меня однажды водил Филон.
Скамьи по левую сторону от входа заполняли женщины. Среди них я разглядел своих тетушек и Брурию, присоединившуюся к нам беженку. На полу сидели дети, много-много детей, они заняли весь пол, в том числе перед скамьями с правой стороны, где сидели мужчины.
У противоположной стены возвышалась кафедра, за которую можно было встать и читать.
Я оглянулся, пытаясь понять, проходить мне дальше или пока нет. За моей спиной собралось множество людей; они ждали, когда можно будет войти. А передо мной никого не было — путь был свободен.
Однако слева стоял мужчина с длинной бородой, на вид очень мягкой, когда-то черной, а теперь наполовину седой. Волос было столько, что я почти не видел рта мужчины. Из-под молитвенной накидки, скрывавшей длинные волосы с проседью, на меня смотрели темные глаза.
Он выставил перед собой руки и заговорил тихим голосом, все время глядя только на меня, но обращаясь при этом ко всем собравшимся:
— Я знаю Иакова, верно, и Силу, и Левия, я помню их. А это кто? Кто он?
В синагоге стало тихо.
Я заметил, что все взгляды обратились на меня. Мне это не понравилось. Я начал бояться. Тогда заговорил Иосиф.
— Это мой сын, — сказал он. — Это Иисус бар Иосиф бар Иаков.
Как только он замолчал, я почувствовал, что мужчины, стоявшие вокруг, придвинулись ко мне еще плотнее. Клеопа положил руку на мое плечо, и дядя Алфей тоже. И дядя Симон придвинулся ближе и тоже притронулся ко мне.
Бородатый человек продолжал держать руку, не пуская меня внутрь, но лицо его смягчилось. Он внимательно посмотрел на меня, потом на собравшихся.
И тут раздался голос Старой Сарры, ясный, как всегда. Она стояла позади нас.
— Ты знаешь, кто он такой, Шеребия бар Ианнай, — проговорила она. — Нужно ли напоминать тебе, что сегодня суббота? Пропусти его.
Раввин, должно быть, посмотрел на нее. Но я не собирался оборачиваться, чтобы проверить это. Я уставился прямо перед собой, но ничего не видел. Может быть, я видел земляной пол. Может быть, я видел свет, проникающий сквозь окна. А может, лица, обращенные к нам.
Но как бы там ни было, я знал, что раввин смотрел на Старую Сарру. Я знал, что один из двух других раввинов, сидящих на скамье, что-то зашептал ему.
А затем мы все оказались внутри.
Мои дяди сели с самого края скамьи, причем Клеопа вообще разместился на полу и махнул мне рукой, чтобы я садился рядом с ним. Иаков, вошедший в синагогу раньше нас, подошел и сел возле Клеопы. Потом со своих мест поднялись два других мальчика, чтобы присоединиться к нашей группе. Мы все собрались в одном из дальних от входа углов.
Старая Сарра продвигалась к своему месту на женской половине медленно, с помощью тети Саломеи и тети Марии. И впервые я обратил внимание на то, что мама не пошла с нами. А она ведь могла пойти. За малышами присмотрела бы Рива. Но ее с нами не было.
Раввин приветствовал прибывающих людей, и наконец в синагоге не осталось свободного места.
Я не поднял глаз, когда послышалась его распевная речь, хотя понял, что он читает наизусть.
— Это говорит Соломон, — говорил он на иврите. — Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями, и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд! Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих.
Вслед за раввином эти слова стали повторять мужчины и мальчики, и тогда он стал говорить медленнее, чтобы мы успевали повторить всю фразу.
Мой страх исчез. Люди не думали больше о нас. Однако я не забыл, как раввин расспрашивал нас, не забыл, что он хотел остановить нас. И еще я вспомнил слова, сказанные мамой в Иерусалиме. Я помнил ее предупреждение. Я знал: что-то не так.
В синагоге мы провели несколько часов. Сначала было чтение, затем беседы. Кое-кто из детей заснул. Спустя некоторое время часть людей ушла, на смену им пришли другие. Внутри синагоги было тепло.
Раввин ходил по комнате, задавая вопросы, помогая с ответами. Иногда среди собравшихся раздавался смех. Потом мы пели. Потом снова начались разговоры, беседы о Законе и даже споры на повышенных тонах. Но меня в конце концов сморил сон, и я заснул, положив голову на колено Иосифа.
Сквозь дрему я слышал, как все запели. Это было слаженное, красивое пение, не такое, как разрозненные псалмы пришедших на Иордан людей. Но я не проснулся.
Меня разбудил Иосиф и сказал, что нам пора идти домой.
— Я не могу нести тебя в субботу! — шепнул он. — Поднимайся.
И я встал и вышел из синагоги, опустив голову, ни на кого не взглянув.
Мы пришли домой. Мама сидела у стены рядом с очагом, укутавшись в одеяла. Она тут же подняла голову и посмотрела на Иосифа. В ее глазах светился вопрос.
Я подошел к ней, устроился у нее в ногах и снова заснул.
Я просыпался несколько раз до наступления вечера. Мы не оставались одни. Дяди сидели в свете ламп, которые в субботу не гасят, и перешептывались.
Даже если бы у меня была возможность задать Иосифу вопрос, что бы я спросил у него? Спросил бы о том, о чем он не хотел мне рассказывать, о чем запретил мне говорить? И мне не хотелось, чтобы мама узнала о том, как раввин не хотел пускать меня в синагогу.
Мои воспоминания стали звеньями одной цепи. Начиная со смерти Елеазара на улице Александрии и все, что случилось дальше, звено за звеном. Что они говорили тогда в Александрии о Вифлееме? Что случилось в Вифлееме? Я там родился, но что с этим связано?
Я снова видел, как в храме умирал человек, как испуганная толпа рвалась к выходу, видел наше долгое путешествие, языки пламени, лижущие небо, слышал голоса разбойников. Меня колотила дрожь. Я не хотел называть словами то, что чувствовал.
Я подумал о Клеопе, который считал, что умрет в Иерусалиме, а потом вспомнил разговор с мамой на крыше в Иерусалиме. Что бы ни говорили тебе в Иерусалиме… явился ангел… мужчины не было… дитя в услужении в храме, ткала храмовую завесу… явился ангел.
Иосиф сказал мне:
— Ну же, Иешуа, сколько еще мне смотреть на твое печальное лицо? Завтра мы пойдем в Сепфорис.
16
Дорогу в Сепфорис заполонили люди, начиная от самого Назарета, а ведь на пути лежали и другие деревни, хоть и меньшие по размеру. И мы склоняли головы, проходя мимо крестов, хотя тела уже давно сняли. На этой земле пролилась кровь, и мы печалились. Мы видели сожженные дома, обгорелые стволы деревьев, нам встречались люди, просящие милостыню и рассказывающие о том, как разбойники отняли у них все, что было, или о том, как солдаты разграбили их дома.
Снова и снова мы останавливались, и Иосиф раздавал таким людям деньги из семейного кошеля. А мама говорила им слова утешения.
У меня зуб на зуб не попадал, и мама думала, что мне холодно. Но я не мерз. Меня колотило от вида пожарищ в Сепфорисе, хотя значительная часть города уцелела и на рынке шла бойкая торговля.
Тетушки довольно быстро продали расшитое золотом полотно, привезенное из Египта именно с этой целью, и получили за него больше денег, чем рассчитывали. То же самое произошло с браслетами и чашами, также предназначенными на продажу. Наш кошель заметно потяжелел.
Тогда мы пошли к несчастным, сидящим посреди горелых балок и пепла, — некоторые из них оплакивали погибших, другие сидели с протянутой от нужды рукой.
— Вы не видели такого-то? Вам не встречался такой-то? — набрасывались они на всех с расспросами.
Мы раздавали вдовам деньги из нашего кошеля. И тоже плакали — то есть плакали я, Маленькая Саломея и некоторые женщины. Мужчины ушли вперед, оставив нас одних.
Люди сказали нам, что сгорел самый центр города — дворец Ирода, склад оружия и еще близлежащие дома, где расположились мятежники со своими людьми.
На вершине холма уже работали мужчины, расчищая место для новых построек взамен сгоревших. И повсюду ходили солдаты царя Ирода. Они сурово оглядывали всех, кто встречался им на пути, но плачущие и горюющие люди не обращали на них никакого внимания.
У меня закружилась голова от всего увиденного: тут скорбели и работали, кричали и молились, продавали и покупали. Я перестал дрожать. Над нами висело ярко-голубое небо, а воздух был прохладен, но чист.
У одного из домов я заметил нескольких римских солдат, которые выглядели так, как будто в любой момент они готовы покинуть этот город, если только им разрешат. Они стояли, прислонившись к стенам, и смотрели в никуда. На их шлемах горело солнце.
— О да, — проговорила одна женщина, проследив за моим взглядом. Ее глаза покраснели от плача, а одежду покрывали пепел и пыль. — Всего несколько дней назад они зверски убивали нас, говорю тебе, или продавали всех подряд грязным работорговцам, которые слетелись сюда, чтобы заковать возлюбленных наших в кандалы. Они забрали моего сына, единственного сына, он пропал! И что же он такого сделал? Он лишь хотел найти свою сестру, а она? Она исчезла, пока шла из моего дома в дом своего мужа!
Брурия стала всхлипывать, вспомнив о своем сыне. Она собралась пойти со своей рабыней к стене, на которой люди писали о пропавших родственниках и близких, хотя и не верила почти, что ее сын когда-нибудь найдется.
— Будь осторожна, обдумай то, что напишешь на этой стене, — посоветовала ей тетя Саломея. Остальные женщины закивали.
Со стороны руин выходили люди и приглашали всех желающих поработать:
— Хотите стоять тут и рыдать день напролет? Идите лучше со мной, я заплачу вам за разборку завала!
Или так:
— Мне нужны люди, чтобы таскать землю. Кто хочет?
В руках они держали монеты и пускали ими солнечные зайчики, привлекая внимание людей.
А люди плакали и сквозь слезы выкрикивали проклятия. Они проклинали царя, разбойников и римских солдат. Кто-то из них шел работать, а кто-то оставался.
От толпы на площади отделились наши мужчины — с новой тележкой, нагруженной свеженапиленными досками, мешками с гвоздями и даже кровельной черепицей, как объяснил мне Иосиф.
На самом деле мужчины долго спорили о черепице. Клеопа считал, что это весьма надежная и относительно дешевая кровля, а Иосиф утверждал, что земляная крыша вполне нас устраивает, и Алфей соглашался с Иосифом, говоря, что наша крыша слишком велика, чтобы всю ее покрывать черепицей.
— И кроме того, сейчас строится столько зданий, что через день черепицы нигде не найдешь.
К ним подошел мужчина и предложил работу.
— Вы плотники? Я заплачу вам вдвое больше, чем другие. Скажите, сколько вы хотите. Ну же. И приступите к работе прямо сейчас.
Иосиф поклонился и отказался.
— Мы только что прибыли из Александрии, — объяснил он. — Мы выполняем только квалифицированную работу…
— Но мне как раз и нужны квалифицированные рабочие! — воскликнул хорошо одетый мужчина. — Мне нужно достроить дом для моего господина. Все, что было сделано, сгорело. Остался один фундамент.
— А нам нужно отремонтировать наш дом, — сказал Иосиф и сделал знак, что мы уходим.
Со всех сторон нас окружили люди, желающие купить доски с нашей тележки или предложить нам работу. Иосиф пообещал, что мы скоро вернемся. Богатого управляющего звали Яннай.
— Я запомню вас, — сказал он Иосифу. — Вы египтяне.
Нас это рассмешило, и мы весело отправились обратно, в мир и покой нашего двора.
Но все так и стали нас называть — египтянами.
Идя по дороге, я оглядывался на город и видел в лучах закатного солнца множество людей, занятых делами. Дядя Клеопа заметил, куда я смотрю, и сказал:
— Ты когда-нибудь видел муравейник?
— Да.
— А наступал на него?
— Нет, но я видел, как однажды на муравейник наступил другой мальчик.
— И как повели себя муравьи? Они стали бегать вокруг, но далеко не убежали, а потом быстро построили муравейник заново. То же самое и с войной, большой или малой. Люди просто живут дальше. Они поднимаются и живут дальше, потому что им нужны вода, хлеб и крыша над головой, поэтому, что бы ни случилось, они начинают все вновь. Однажды тебя могут схватить солдаты и продать в рабство, а на следующий день они даже не обратят на тебя внимания. Потому что все кончится. Им скажут, что все кончено.
— Почему моего сына учишь мудрости ты, а не я? — спросил Иосиф Клеопу.
Мы спокойным шагом шли за тележкой. Наш ослик был нетороплив. Клеопа, смеясь, ответил:
— Если бы я не попался в ловушку женщины, то стал бы пророком.
Он насмешил своей шуткой всю семью. Даже я не удержатся и засмеялся. И моя тетя, жена Клеопы, промолвила:
— Он говорит лучше, чем поет. Но если бы про муравья был псалом, он бы спел его.
Мой дядя тут же запел, и тетя вздохнула, но вскоре мы все подхватили псалом Клеопы. Правда, псалма про муравьев не знал никто.
Когда пение стихло, Клеопа задумчиво произнес:
— Мне следовало стать пророком.
Даже Иосиф засмеялся над этими словами. Жена Клеопы предложила:
— Начинай прямо сейчас. Скажи нам, успеем ли мы дойти до дома прежде, чем начнется дождь.
Клеопа обнял меня за плечи.
— Ты единственный, кто слушает меня, — сказал он, глядя мне в глаза. — Запомни мои слова: нет пророка в своем отечестве!
— Я не послушала тебя в Египте, — напомнила ему жена.
И мы снова все засмеялись, включая и самого Клеопу. Потом послышался нежный мамин голос:
— Я всегда тебя слушаю, брат мой, и всегда слушала.
— Да, сестра, это верно, — согласился Клеопа. — И ты не возражаешь, когда я хочу чему-нибудь научить твоего сына, потому что его дедушки больше нет в живых, а я чуть не стал писцом.
— Ты чуть не стал писцом? — изумился я. — Мне никогда об этом не говорили.
Иосиф поднял палец, чтобы привлечь мое внимание, и покачал головой, давая мне понять: «Нет».
— А что ты об этом знаешь, брат мой? — обратился к Иосифу Клеопа, но его тон был дружелюбным. — Когда мы пришли в Иерусалим, чтобы отдать Марию в дом, где ткут храмовую завесу, несколько месяцев я провел, занимаясь в храме. Я учился с фарисеями, с лучшими из них. Я сидел у их ног. — Он сжал мое плечо, чтобы удостовериться, что я слушаю его. — В колоннаде храма можно найти много учителей. Лучших в Иерусалиме учителей. Ну, и не самых лучших тоже.
— Ученики там тоже бывают разные, хорошие и не очень, — тихо добавил Алфей, но все услышали его слова.
— Да, неизвестно, кем бы я мог стать, если бы не пришлось идти в Египет! — вздохнул Клеопа.
— Почему же ты пошел? — невольно вырвалось у меня.
Он взглянул на меня. Все притихли. Несколько минут мы шли в молчании. Потом на губах Клеопы появилась добрая улыбка:
— Я пошел в Египет, потому что туда пошли мои родственники — ты, моя сестра, ее муж и его братья.
Я не получил ответа на свой вопрос — настоящего ответа. Но уже некоторое время я догадывался, что если я и смогу узнать что-нибудь, то только от дяди Клеопы.
Над нашими головами раздались низкие раскаты грома.
Мы прибавили шагу, но вскоре хлынул дождь, и нам пришлось свернуть с дороги и спрятаться под деревьями. Землю под ними укрывал плотный ковер из старой опавшей листвы.
— Ну что, пророк, — улыбнулась мужу тетя Мария, — можешь ли ты остановить дождь, чтобы мы продолжили путь?
Раздался дружный смех, но Иосиф остался серьезным.
— Не забывайте, что святой человек действительно может остановить дождь или, наоборот, призвать его. Запомните мои слова, — продолжал он. — Во времена моего прадеда в Галилее жил один святой человек, Хони — начертатель кругов. По его слову дождь мог пойти, а мог прекратиться.
— И расскажите детям, что стало с Хони, — попросила Иосифа тетя Саломея. — Вы всегда останавливаетесь на самом интересном месте.
— Что с ним стало? — спросил Иаков.
— Евреи забили его камнями в храме, — пожал плечами Клеопа. — Им не понравилась его молитва! — Он рассмеялся, а потом, подумав, засмеялся снова, как будто чем больше он думал об этом, тем смешнее ему становилось.
Однако я не мог понять, что тут смешного.
Между тем дождь припустил по-настоящему, и ветки над нашими головами больше не спасали нас от воды.
Где-то в глубине мозга возникла маленькая мысль, такая маленькая, что мне она казалась размером не больше моего мизинца.
«Хочу, чтобы дождь прекратился».
Глупая, конечно, мысль. Но я вспомнил обо всех странных событиях, что случались со мной, — о воробьях, о Елеазаре… Я поднял голову.
Дождь прекратился.
Я так удивился, что уставился на облака и, кажется, перестал дышать.
А вокруг меня все ликовали и, радостные, отправились домой.
Я никому не стал рассказывать о случившемся, хотя очень встревожился, очень. И все равно я понимал, что никому нельзя говорить ни слова о том, что я сделал.
Когда мы вернулись, Назарет показался мне особенно красивым после дождя. Я уже полюбил нашу улицу, беленые дома и виноград, весело вьющийся по рамам и стенам, несмотря на весеннюю прохладу. А на старой смоковнице в центре двора за несколько последних дней стало еще больше листьев.
Нас встречала Старая Сарра. Маленький Иаков читал вслух Старому Юстусу. А малыши играли во дворе и бегали по комнатам.
Все печали и горести Сепфориса оказались где-то далеко.
И так же далеко остался дождь.
17
В тот вечер было решено, что в доме останемся работать мы с Иосифом, а Алфей с сыновьями Левием и Силой, Клеопа и, возможно, Симон отправятся в Сепфорис, где наберут еще работников и возьмут заказ Янная. Предлагались хорошие деньги. И погода установилась отличная.
А еще все мальчики, где бы они ни работали, по утрам должны ходить в синагогу, где три раввина учат детей грамоте и Закону. Только после занятий нам можно будет присоединиться к мужчинам, то есть где-то около полудня.
В школу мне идти совсем не хотелось. Но понял я это только тогда, когда все мужчины нашей семьи вновь зашагали вверх по улице. Мне стало страшно.
Я оглянулся и увидел, что Клеопа ведет за руку Маленького Симеона, дядя Алфей Маленького Иосия, дядя же Симон сопровождал Левия и Силу. Может, все идет как надо?
Возле школы стояло трое мужчин, которых я уже видел в синагоге, и мы остановились перед старейшим из них. Он пригласил нас войти. Этот человек в субботу ничего не говорил и не учил.
Конечно, он был слишком стар, а в субботу я почти не разглядел его, потому что боялся делать это в синагоге. Оказалось, что он был учителем в школе.
Иосиф обратился к нему:
— Вот наши сыновья, их надо учить. Что мы можем сделать для вас?
С этими словами он протянул раввину кошель, однако раввин не взял его.
Когда я увидел это, мне стало плохо.
Никогда прежде я не сталкивался с тем, чтобы мужчина отказался принять кошель. Я поднял глаза и увидел, что старик смотрит прямо на меня. Я тут же уставился в землю. Мне хотелось плакать. Я не мог вспомнить ни слова из того, что говорила мне мама в ту ночь в Иерусалиме, только видел перед собой ее лицо. И лицо Клеопы, когда он, умирающий, как все думали, заговорил со мной.
У старого раввина волосы и борода были совершенно седыми. Его одежды были пошиты из тончайшей шерсти, а кисточки приторочены, как положено, голубой нитью. Он заговорил тихим добрым голосом:
— Да, Иосиф. Иакова, и Силу, и Левия я знаю. Но кто такой Иисус бар Иосиф?
Ни слова не промолвили мужчины, стоявшие позади меня.
— Ребе, ты видел его в субботу, — ответил Иосиф. — Ты знаешь, что он мой сын.
Мне не надо было смотреть на Иосифа, я слышал по его голосу, как ему неловко.
Я собрал все свои силы и взглянул на старика. Он же не отводил взгляда от Иосифа.
Из глаз моих полились слезы. Я ничего не мог с ними поделать. Они текли по щекам, как ни старался я их остановить.
Старый раввин молчал. Все тоже молчали. Потом заговорил Иосиф — голосом, которым он обычно произносил молитву:
— Иисус, сын Иосифа, сына Иакова, сына Матфана, сына Елеазара, сына Елиуда из племени Давида, который пришел в Назарет по велению царя, чтобы заселить Галилею языческую. И сын Марии, дочери Анны, дочери Маттафии, и Иоакима, сына Самуила, сына Заккая, сына Елеазара, сына Елиуда из племени Давида, — сын Марии, дочери Анны и Иоакима, одной из тех, кого послали в Иерусалим, чтобы быть среди восьмидесяти четырех избранных девочек в возрасте до двенадцати лет и одного месяца, которые каждый год ткут две храмовые завесы для храма, что она и делала, пока не выросла и не вернулась домой. И так записано в храме, указаны годы ее услужения и вся ее родословная, а также день, когда был обрезан этот ребенок.
Я закрыл глаза и медленно открыл их снова. Раввин выглядел довольным, и когда он заметил, что я смотрю на него, то даже улыбнулся. Потом он снова поднял взгляд на Иосифа.
— Здесь нет никого, кто бы не помнил твоей помолвки, — сказал он. — И есть еще кое-что, что трудно забыть. Разумеется, ты понимаешь все это.
Опять установилось долгое молчание.
— Я помню то утро, — продолжил раввин таким же тихим и добрым голосом, как раньше, — когда твоя юная нареченная вышла из твоего дома с плачем…
— Ребе, здесь маленькие дети, — прервал его Иосиф. — И некоторые вещи им должны рассказывать отцы в положенное время.
— Отцы? — переспросил раввин.
— По Закону я отец этого ребенка, — твердо произнес Иосиф.
— Но где ты женился на своей нареченной и где был рожден твой сын?
— В Иудее.
— В каком городе Иудеи?
— Это недалеко от Иерусалима.
— Но не в Иерусалиме?
— Мы поженились в Вифании, — ответил Иосиф, — в доме родственников моей жены, священников храма, — Елизаветы и ее мужа Захарии.
— Ах вот как! И там же родился ребенок?
Иосиф явно не хотел говорить, где я родился. Но почему?
— Нет, — неохотно сказал он. — Не там.
— А где же?
— В Вифлееме.
Раввин застыл на мгновение, потом повернул голову в одну сторону и в другую, где стояли два других раввина, и они тоже посмотрели на него. Но ничего не было сказано.
— В Вифлееме, — задумчиво повторил раввин. — В городе Давида.
Иосиф промолчал.
— Почему же ты покинул Назарет и отправился в Вифлеем? — спросил его раввин. — Ведь родители жены твоей, Анна и Иоаким, уже были в преклонных годах?
— Из-за переписи, — отвечал Иосиф. — Я должен был пойти. В Вифлееме у меня был надел земли, на который вернулись мои предки после пленения, и я должен был или подтвердить свои права на эту землю, или потерять ее. Поэтому я пошел туда, где родились мои предки.
— Хм… — задумался раввин. — И ты подтвердил свои права.
— Да, подтвердил, а потом продал землю. Затем ребенка обрезали, и его имя внесли в записи храма, как я уже говорил, и их можно прочитать.
— Действительно, можно, — протянул раввин, — но только пока новый царь евреев не сочтет нужным сжечь эти записи, чтобы скрыть свое происхождение.
Это замечание вызвало тихий смех со стороны мужчин, его подхватили и старшие мальчики, находящиеся в комнате. Я только тогда заметил их.
Я же не понял, что значат эти слова. Наверное, речь шла о дурных поступках старого царя Ирода, которым конца не было.
— А потом ты пошел в Египет? — продолжил расспросы раввин.
— Да, мы работали в Александрии: я, мои братья и брат моей жены, — кивнул Иосиф.
— А ты, Клеопа, оставил свою мать и своего отца, чтобы сопроводить сестру в Вифанию?
— У матери и отца были слуги, — сказал Клеопа. — И с ними была Старая Сарра, дочь Элиши, и Старый Юстус еще не был немощным старцем.
— Да, я помню, — согласился старый раввин, — и ты совершенно прав. Однако как же твои родители оплакивали своего сына и свою дочь!
— Мы о них тоже горевали, — сказал Клеопа.
— И ты взял в жены египтянку.
— Еврейскую женщину, — возразил Клеопа, — рожденную и воспитанную в одной из еврейских общин Александрии. И в хорошей семье, которая посылает вам в дар вот это.
Подарок оказался полной неожиданностью для всех. Клеопа держал на ладони два маленьких свитка, оба в изящных футлярах с бронзовой отделкой.
— Что это? — спросил старый раввин.
— Боишься прикоснуться, ребе? — спросил Клеопа, подходя поближе к раввину. — Это два коротких договора, составленных Филоном Александрийским, ученым и философом, если хотите, которого весьма уважают раввины Александрии. Свитки куплены на рынке и переданы тебе в качестве дара.
Раввин протянул руку.
Я затаил дыхание, когда он смыкал на свитках пальцы.
Я и не знал, что у моего дяди есть свитки, писанные самим Филоном. Я и мечтать не мог о таком. И то, что раввин принял их, так обрадовало меня, что на моих глазах вновь выступили слезы. Однако я не произнес ни звука.
— Сколько же седых волос у этого Филона Александрийского? — проговорил раввин, и все рассмеялись, и опять я не понял почему.
Тем не менее я чувствовал себя гораздо лучше. Ведь говорили не обо мне.
— Если бы ты был его обвинителем, то он бы точно поседел! — ответил Клеопа.
Я услышал, как Иосиф шепотом отчитывает Клеопу, но мальчики в комнате смеялись, и на лице старого раввина засияла широкая улыбка.
Клеопа не мог остановиться.
— Давайте соберем деньги, — обвел он комнату рукой, — и отправим раввина в Александрию. Там очень нужны фарисеи, чтобы приструнить нерадивых!
Снова смех. Смеялся старый раввин. Смеялись два других раввина. Смеялись все.
— Благодарю тебя за подарок, — сказал старый раввин. — Ты не изменился за это время. Что ж, раз вы теперь вернулись, и все знают, какие вы умелые работники, то посмотрите сами, какую работу нужно произвести в синагоге, которую наш старый плотник, Господь упокой его душу, не смог выполнить в годы, пока вас не было.
— Я уже вижу, что нужно сделать, — ответил Иосиф, — и мы твои слуги, мы сделаем все, что ты пожелаешь. Сразу скажу, что внутри здание нужно заново покрасить и поправить дверные проемы, а наружные стены мы оштукатурим и еще починим скамьи, если нам будет это позволено.
Тишина.
Я оторвал глаза от пола. Три старика смотрели прямо на меня.
Почему? Что еще они хотят спросить? Что еще нужно сказать? Я почувствовал, что лицо мое снова вспыхнуло. Я краснел, но не знал почему. Я краснел под взорами всех и каждого, кто был в комнате. Слезы текли по моим щекам.
— Посмотри на меня, Иисус бар Иосиф, — обратился ко мне раввин.
Я послушался.
Он спросил меня на иврите:
— Почему финикийцы состригли Самсону волосы?
— Прошу простить меня, ребе, но это были не финикийцы, — ответил я на иврите. — Это были филистимляне. А сделали они так для того, чтобы лишить Самсона силы.
Потом он заговорил по-арамейски:
— Где сейчас Элиша, вознесенный на небо на колеснице?
— Прошу ребе простить меня, — ответил я, тоже по-арамейски. — Вознесен в колеснице был не Элиша, а Илия, и он сейчас с Господом.
Следующий вопрос был на греческом:
— Кто тот, что пребудет в саду Эдемском и записывает все, что происходит в этом мире?
Я ответил не сразу. Подумав, сказал по-гречески же:
— Никто. В Эдеме никого нет.
Раввин посмотрел направо, потом налево. Два другие раввина тоже посмотрели на него, затем они все вместе воззрились на меня.
— В Эдеме никто не записывает деяния нашего мира? — повторил старый раввин, подняв брови.
Я снова задумался. Я отлично понимал, что должен говорить то, что знаю. Однако я не мог объяснить, откуда у меня это знание. Или это память? Я сказал по-гречески:
— Люди говорят, что это Енох, но Эдем пуст и будет пуст до тех пор, пока Господь не скажет, что весь мир снова станет раем.
Раввин вернулся к арамейскому языку:
— Почему Господь нарушил свое обещание царю Давиду?
— Господь не нарушил его, — немедленно ответил я. Это я знал давно и твердо. Мне даже не надо было задумываться над ответом. — Господь не нарушает обещаний. Престол Давида там…
Раввин заговорил не сразу. Молчали и остальные. Старые раввины на этот раз даже не переглядывались друг с другом.
— Почему на престоле нет царя из рода Давидова? — спросил раввин громче, чем раньше. — Где этот царь?
— Он придет, — сказал я. — И дом его будет вечен.
Лицо раввина смягчилось. Он снова заговорил тихим голосом.
— Не плотник ли построит этот дом? — проговорил раввин.
Смех. Старики засмеялись первыми, потом — мальчики, сидевшие на полу. Но старый раввин не смеялся. Я заметил, как по его лицу скользнула печаль, но потом она исчезла, и раввин ждал моего ответа, глядя на меня добрыми глазами.
Лицо мое пылало.
— Да, ребе, — выпалил я. — Плотник построит дом царя. Плотник всегда нужен. Даже сам Господь время от времени становится плотником.
Старый раввин удивленно смотрел на меня. Все вокруг зашумели. Мой ответ никому не понравился.
— Объясни, что это значит, — велел мне раввин на арамейском языке.
Я припомнил слова, что не раз говорил мне Иосиф:
— Разве не Господь сказал Ною, какого размера должен быть ковчег и из какого дерева его строить? Разве не Он сказал, что ковчег нужно осмолить внутри и снаружи, не Он ли сказал, какой высоты сделать ковчег и где Ной должен прорубить окно, а где дверь, с точностью до локтя?
Я остановился.
Лицо старейшего из раввинов медленно осветилось улыбкой. Больше я ни на кого не смотрел. Было тихо.
— И разве не верно, — продолжил я на нашем родном языке, — что Господь сам послал пророку Иезекиилю видение о новом храме, определив размеры галерей, и колонн, и ворот, и алтаря, показав, как все должно быть сделано?
— Да, это верно, — улыбался старый раввин.
— И еще, господин мой, — не умолкал я, — разве не Премудрость сказала, что, когда Господь создавал мир, Премудрость была там как главный работник, и если Премудрость не есть Господь, что тогда Премудрость?
Тут я умолк, удивившись собственным словам. Не знаю, откуда они взялись. Но потом я продолжил:
— Ребе, разве Навуходоносор не отправил плотников в Вавилон вместо того, чтобы убить их, потому что они знали, как строить? И когда Кир, царь персидский, повелел, что мы можем вернуться, плотники пошли домой строить храм, как указано это было Господом.
Тишина.
Раввин отступил. Я не мог понять выражение его лица. С опущенной головой я стал мучительно перебирать, что я сказал не так.
Не выдержав, я снова заговорил.
— Почтенный ребе, — сказал я, — со времен Синая там, где Израиль, там и плотник — плотник, чтобы построить скинию. И не сам ли Господь сказал нам, каковы должны быть размеры скинии, и…
Наконец раввин остановил меня. Он засмеялся и поднял руку, призывая меня и всех остальных к тишине.
— Это хорошее дитя, — произнес он, глядя поверх меня на Иосифа. — Мне нравится этот ребенок.
Остальные старики закивали, увидев, что кивнул старейший из них. Снова зазвучал смех, но не громкий хохот, а тихое посмеивание, бегущее по комнате.
Старый раввин указал на пол прямо перед собой.
Я уселся на циновку.
Раввин побеседовал еще немного, дружелюбно и спокойно, с Иаковом и другими мальчиками нашей семьи, но я уже ничего не слышал. Я знал только, что худшее позади. Сердце мое билось так громко, что я не сомневался, этот стук слышали все. Слезы я так и не вытер, но плакать перестал.
Наконец мужчины ушли. Начались занятия в школе.
Старый раввин задавал вопросы и отвечал на них, а мальчики повторяли за ним. С закрытыми дверями в комнате скоро стало тепло.
В то утро в школе со мной больше никто не заговаривал, и я тоже не задавал вопросов, просто заучивал ответы вместе со всеми и пел, а еще я иногда взглядывал на раввина, а он смотрел на меня.
Когда мы вернулись домой, вся семья собралась, чтобы поесть, и, разумеется, возможности расспросить взрослых у меня не было. Но по их лицам я видел, что они никогда не расскажут мне, почему старый раввин так долго говорил со мной. Я видел это по их глазам, по тому, как они смотрели на меня, как будто стараясь доказать, что все в порядке и все так и должно быть.
А мама выглядела счастливой, значит, догадался я, она не знала о том, что произошло в школе. Она улыбалась и сияла как девочка, раскладывая еду и уговаривая нас съесть еще немного, хотя мы уже наелись.
Я устал так, словно весь день помогал укладывать мраморные плиты. После еды я прошел в женскую комнату, не давая себе отчета в том, что делаю, улегся на мамину циновку и мгновенно заснул.
Меня разбудили громкие голоса и дурманящие ароматы похлебки и свежего хлеба. Оказалось, что день уже клонится к вечеру, я проспал полдня как младенец, и настала пора снова садиться за стол.
Я сходил к ванне, чтобы омыть холодной водой лицо и руки, а после склонился и окунул ладони в микву. Потом я вернулся и принялся за еду.
Закончив с похлебкой, я получил чашку с маслом и медом.
— Что это? — спросил я.
— Ешь, — сказал Клеопа. — Разве ты не знаешь, что это?
Иосиф при этих словах негромко рассмеялся, его смех подхватили мои дяди — их смех был как ветер, перебегающий с дерева на дерево.
Мама взглянула в мою чашку.
— Раз дядя говорит тебе, что надо есть, ешь, — сказала она.
Клеопа тихо проговорил:
— Маслом и медом будет он питаться, пока не научится отвергать злое и избирать доброе.
— Знаешь, чьи это слова? — спросила у меня мама.
Я поел масла и меда и предложил угощение Иакову, но он уже насытился. Тогда я вернул чашку Иосифу, и он передал ее дальше.
— Я знаю, что это слова Исайи, — ответил я маме, — но когда он их сказал и кому, не помню.
И снова все засмеялись. Я тоже смеялся.
Но я действительно не помнил. И не сильно старался вспомнить.
Мне хотелось задать один вопрос Клеопе, однако у меня не было такой возможности. Уже темнело. Я слишком долго спал днем. После школы я ничего не сделал, чтобы помочь взрослым. Больше так поступать нельзя, решил я.
18
Со временем я полюбил утренние часы, посвященные занятиям. Трех раввинов мы называли старейшими, а самым старшим из них был великий учитель, тоже священник, но уже слишком старый, чтобы ходить в Иерусалим, и он рассказывал нам самые удивительные истории, которые я когда-либо слышал. Его звали Берехайя бар Финеес, и он всегда был дома ранними вечерами, если кто-нибудь из мальчиков хотел зайти к нему в гости, а жил он почти на самой вершине холма в просторном доме, потому что у него была богатая жена.
По утрам мы повторяли и заучивали отрывки из священных книг, примерно так же, как делали это в Александрии, но здесь мы всегда читали на иврите и разговаривали чаще всего на нашем родном языке. А если очень постараться, то можно было уговорить рава Берехайю рассказать нам о его собственных приключениях.
Вечерами же он сидел в своей библиотеке, раскрыв дверь, выходящую во двор. Он всегда с улыбкой называл свою библиотеку скромной, и такой она и была, если сравнивать ее с огромной библиотекой Филона, однако это было теплое и приятное место, куда хотелось зайти. Раввин всегда с удовольствием отвечал на любые наши вопросы. Я же, как бы ни уставал после работы, каждый день поднимался на холм, чтобы если не поговорить с равом Берехайей, то хотя бы недолго посидеть у его ног.
Его добрые слуги всегда угощали нас, мальчишек, прохладной водой, и я готов был часами сидеть в маленькой библиотеке и слушать рассказы раввина, но надо было возвращаться домой.
Самым младшим из учителей был немногословный рав Шеребия, и он тоже был священником и тоже не мог ходить в храм, так как однажды пережил ужасное приключение по дороге от Иерихона. Когда настала его очередь выполнять обязанности священника, он пошел в храм, а по дороге на него напали разбойники. Они избили его и его брата, и он упал со скалы, сильно повредив ногу. Иерусалимским врачам, лечившим его, пришлось отрезать эту ногу.
Теперь у него была деревянная нога, однако ее было не видно под одеждами, поэтому со стороны он выглядел как здоровый человек с быстрыми, уверенными движениями. Но Господу не могут служить священники, лишившиеся какой-либо части тела, и тогда Шеребия стал раввином в деревенской школе. Все уважали его за ученость. Говорили, что фарисеем он стал только после того, как не смог ходить в храм. Его братья также были священниками, только жили не в Назарете, а в Капернауме, недалеко от нашей деревни.
Средний по возрасту учитель, тот самый, что первым встретил нас в синагоге, звался рав Иаким. Он был великим фарисеем, и хотя все три раввина носили голубые кисточки на своих одеждах, именно рав Иаким был самым строгим во всех своих привычках и обычаях и старался нас приучить к тому же.
Все члены большой семьи рава Иакима, включавшей дядей, братьев и сестер с мужьями и детьми, были фарисеями. Они ели только в обществе друг друга, как было принято среди фарисеев, и не соблюдали те традиции Назарета, которые расходились с их правилами. Но все жители обращались к ним, когда надо было решить какой-то сложный вопрос. Два брата рава Иакима были деревенскими писцами, они писали письма под диктовку жителей Назарета и читали письма для тех, кто был слишком стар и не мог читать. Эти люди писали и другие документы, в которых возникала нужда, и очень часто можно было видеть, как они сидят в своем дворе, склонившись над столом, а рядом стоит житель деревни, объясняющий, что ему нужно. А иногда жители кричали или плакали — это случалось, когда писцы читали письма с дурными вестями.
Этих трех учителей жители часто просили быть судьями в спорах, но были в деревне и другие старые люди, которые из-за преклонного возраста редко покидали свои дома, но, когда возникала такая необходимость, они собирались все вместе и разбирали дела.
Люди приходили также и к Старому Юстусу, нашему дяде, чтобы узнать его мнение по тому или иному вопросу. А ведь Старый Юстус не мог говорить, и я ясно видел, как видели и все остальные, что он не понимает ни слова из того, что ему рассказывают. И тем не менее люди шли к нему и изливали свои печали, а он кивал в ответ. А иногда широко раскрывал глаза и улыбался. Он любил, когда с ним разговаривали. И люди радовались, видя, что он доволен, и от этого у них тоже поднималось настроение, и они уходили домой, рассыпаясь в благодарностях.
Мама только качала головой. И Старая Сарра качала головой.
И должен сказать, что и к Старой Сарре приходило много людей. К ней шли и мужчины, и женщины. Мне даже казалось, что Сарру так почитали благодаря ее возрасту и уму, что больше никто и не помнил, мужчина она или женщина.
Мне доводилось слышать кое-что из того, с чем приходили люди к Старому Юстусу и Старой Сарре, и я очень много узнал о деревне: и того, что мне было интересно, и того, чего мне знать не хотелось.
Многое я узнал и от других детей, живших в деревне: от слепой Марии, которая всегда сидела во дворе дома своего отца, полная смеха и любящая поговорить, и от мальчиков, приходивших поиграть со мной, например, от Симона-дурака, который совсем не был дураком, зато все время смеялся и был очень добр ко всем, и от Ясона Толстого, который действительно был толстым, и от Круглого Иакова, и от Высокого Иакова, и от Смелого Михаила, и от Даниила Усердного, которого звали так потому, что за любое дело он принимался с жаром.
Но ни от кого не услышал я ответов на вопросы, которые глодали мою душу. Я изо всех сил старался не забыть мамины слова, — я повторял их всякий раз, когда делал какую-то медленную работу, например шлифовал ножки стола, или когда мы шли в школу или возвращались обратно. Но меня всегда отвлекали разговоры или пение, и я не мог как следует сосредоточиться. Конечно, я помнил, что сказала мне мама, но помнил не слова, а образы. Моей маме явился ангел; ни один мужчина не был моим отцом… Но что все это значит?
Я думал над этим, когда только мог, но у нас было много работы и разных дел.
Всегда, когда я не работал, я навещал раввинов. Я не хотел уходить от них. Рав Берехайя очень интересовался нашей жизнью в Александрии и часто расспрашивал меня об этом городе. Ему нравилось слушать, как я рассказываю, и его жене Мириамне, той самой богатой и совсем еще не старой женщине, нравилось, и ее отец, старик с белыми волосами, часто приходил в ту комнату, где мы беседовали.
Рав Берехайя прочитал свитки Филона, которые подарила ему наша семья, и у него возникли вопросы о Филоне, на которые я, как мог, ответил, особенно подчеркивая, что Филон всегда был добр и щедр ко мне и даже водил меня посмотреть Великую синагогу, и упомянул, что Филон изучал Закон и писания пророков и говорил о них так, как будто был раввином, хотя был недостаточно стар для этого, как считали люди. И я подробно описал прекрасный дом Филона — но не слишком подробно, как положено.
Плотник должен внимательно относиться ко всему, что он говорит о домах тех, на кого работает. Дом — это личное владение, меня всегда этому учили. Однако дом Филона наполняли молодые ученики, туда приходили александрийские раввины, и поэтому я счел возможным описать узоры на мраморном полу и полки со свитками, поднимающиеся к самому потолку.
Еще мы говорили о порте Александрии и о Великом маяке, который я отлично разглядел, отплывая с семьей на корабле. И я рассказал о храмах, которые не мог не видеть даже самый послушный еврейский мальчик, поскольку они стояли повсюду и были очень красивы, и о рынке, где можно купить практически все, что угодно, и о том, что люди в Александрии говорят и на греческом, и на латыни, и на многих других языках.
Я тоже знал несколько слов по-латыни, правда, совсем немного.
Всем было интересно послушать и о кораблях, а мне в Александрии довелось видеть много судов, потому что там были не только морские суда, которые отправлялись из порта в Грецию, Рим и Антиохию, но и речные, ходившие по реке Нил.
Порой мне казалось, что в таких рассказах я вижу Александрию отчетливее, чем когда жил в ней. Наверное, потому, что вопросы Мириамны и старого раввина, ее отца, помогали мне вспомнить то, что забылось или стерлось из памяти. Я вспомнил о библиотеке, которую перестроили после того, как ее сжег Юлий Цезарь. И я вспомнил об особом еврейском празднике, когда мы отмечали перевод Закона и писаний пророков и других священных книг на греческий.
Здесь, в Назарете, никто не собирался учить нас на греческом языке, но этот язык в округе знали очень многие, особенно в Сепфорисе, где располагались говорящие на греческом языке солдаты царя. Говорили на нем и большинство ремесленников, и наши раввины (они не только говорили на нем, но и писали). Они знали греческий перевод Писания. У них были его копии. Так они мне сказали. Но учили нас здесь только на иврите, а дома и между собой мы говорили по-арамейски. В синагоге Писание читали на иврите, а потом раввин объяснял прочитанное на языке, понятном для всех. Это делалось для того, чтобы те, кто не знает священного языка, все равно могли понять, о чем говорится в Писании.
Я бы хотел все время проводить вместе с равом Берехайей. Но этому не суждено было сбыться.
Мы с Иосифом недолго занимались ремонтом нашего дома. Вскоре нам пришлось пойти в Сепфорис, потому что там было очень много работы. Люди нуждались в крыше над головой после ужасной войны, и у них имелись деньги, чтобы заплатить. Нам даже предлагали заплатить в два раза больше, чем полагалось за день труда, но Иосиф не брал таких денег, прося ровно столько, сколько мы обычно получали в Александрии. И он брался только за такую работу, где мы, по его мнению, были нужнее всего.
Он и его братья и мой дядя Клеопа осматривали руины дома, расспрашивали владельцев о том, что оставалось непонятным, и потом выстраивали дом заново точно так, как было. Они сами следили и за покраской, и за оштукатуриванием, и за каменотесными работами и заботились о том, чтобы было сделано все, от начала и до конца, как принято это было в Египте. Мы с Иаковом научились ходить на рынок и отбирать рабочих из людей, собравшихся там в поисках заработка.
Всегда, чем бы мы ни занимались, нам приходилось что-то поднимать, держать, переносить, мы кашляли от пыли и пепла. И еще меня пугали слухи о новых бедах в Иерусалиме, где, как говорили люди, полыхало настоящее восстание. Вся Иудея сражалась, а в холмах Галилеи нашли убежище разбойники.
Также я слышал разговоры о том, что несколько молодых людей, несмотря на все то, что случилось в Галилее, собираются пойти в Иерусалим, чтобы сражаться в этой войне. Они считали, что это их священный долг.
Тем временем римские войска старались подавить восстание в Иудее, и с ними по-прежнему были арабские войска, и эти арабы жгли иудейские поселения. А вся семья царя Ирода была сейчас в Риме, где они ссорились и спорили перед Августом, решая, кто из них должен взойти на престол.
Но что бы я ни слышал, зубы мои больше не стучали от страха, и в нашей семье мало говорили об этих событиях. Повсюду вокруг нас вырастали новые здания, предназначенные для царя из рода Иродов, кто бы им ни стал. Со всей окрестности в Сепфорис стекались люди — кто латал крыши, кто подносил воду для работников, кто смешивал краски, кто готовил раствор для каменной кладки. Наша семья могла предложить таким людям столько работы, что сколько бы ни находилось желающих помочь, рук все равно не хватало.
Как-то дядя Клеопа оглядел город и сказал задумчиво:
— Теперь Сепфорис станет еще больше, чем раньше.
— Но кто же будет царем? — спросил я.
Он издал звук, показывавший, сколь сильна его нелюбовь ко всему семейству Иродов, но ничего не ответил мне, поскольку в этот момент на него многозначительно посмотрел Иосиф.
В городе по-прежнему оставались римские воины, чтобы поддерживать порядок и следить за тем, чтобы мятежники, спрятавшиеся в холмах, не вернулись. И еще им приходилось выслушивать бесконечные жалобы горожан: о сыне, который ушел из дома и не вернулся, о доме, который сгорел дотла, и о многом другом. И солдаты иной раз вскидывали руки кверху и умоляли людей замолчать, не зная, что делать с их просьбами.
Солдаты пили в открытых тавернах и покупали еду у уличных торговцев. Они смотрели, как мы работаем. Они ходили к писцам, чтобы те написали письма их женщинам и детям.
Сепфорис был еврейским городом. У меня не было в этом никаких сомнений. Здесь не было ни единого языческого храма. Здесь редко встречались женщины, готовые поговорить с солдатами, только пожилые хозяйки таверн, да и то зачастую у них были свои мужчины. Солдаты зевали и украдкой бросали взгляды на наших женщин, идущих по своим делам, но что они могли увидеть? Наши женщины всегда одевались как положено, носили сверху покрывала и накидки.
В Александрии же в толпе часто попадались гречанки и римлянки, среди которых тоже были скромные женщины, укрытые накидками, но были и другие, которые любили находиться в общественных местах. Нам не разрешали смотреть на таких женщин, однако это не всегда получалось.
Здесь все было по-другому.
Когда стало известно о волнениях в Иерусалиме, люди стали собираться группами, чтобы обсудить эту новость, и принялись бросать долгие взгляды на солдат, а те тут же нахмурились, прекратили все дружелюбные разговоры с жителями и ходили по улице небольшими отрядами, а не поодиночке. Однако ничего плохого не случилось.
Что касается нашей семьи и многих других, мы работали, какие бы новости ни доходили до нас. Во время работы мы негромко молились. Собираясь перекусить в середине дня, мы благословляли Господа и благословляли нашу еду и питье. После еды мы снова брались за работу.
В общем, работать мне нравилось. Но гораздо больше мне нравилось учиться в Назарете.
Ну а больше всего я любил ходить в Сепфорис и обратно. Воздух был теплым, урожай почти собран, повсюду рощи, куда ни взглянешь. На миндальных деревьях цветки уже завяли, но многие другие деревья еще стояли в полном цвету. Каждый день я замечал что-то новое.
Я хотел свернуть с дороги и углубиться в лес, но не мог. Поэтому иногда я убегал вперед и ненадолго входил в придорожные рощи. Когда-нибудь, думал я, у меня будет время, чтобы бродить по окрестным лесам и деревням, а сейчас моя жизнь и так полна.
Разве можно просить о большем, имея то, что у нас есть?
19
Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я заболел.
Однажды после обеда меня охватила лихорадка. Клеопа догадался об этом раньше меня, а потом и Иаков тоже сказал, что болен. Клеопа приложил к моему лбу ладонь и сказал, что мы должны немедленно возвращаться в Назарет.
Последний час пути Иосифу пришлось нести меня на руках. Я заснул, но скоро проснулся от жажды и сильной боли в горле. Мама очень испугалась, увидев меня, и тут же уложила в постель. Маленькая Саломея тоже заболела. Сначала нас было четверо больных, а потом пятеро. Все мы лежали в одной комнате.
Вокруг меня постоянно раздавался кашель. Мама часто опускалась на колени у моей постели и смачивала мои губы водой. Я слышал, как она говорила Иакову:
— Ты должен попить! Просыпайся!
Маленькая Саломея все время стонала. Я прикоснулся к ней. Она вся горела.
Мама говорила мне:
— Кто знает, что это за болезнь. Может быть, от римлян. Они могли привезти ее с собой. А может быть, дело в том, что нас долго здесь не было, а потом мы вернулись. В деревне больше никто не заболел, только наши дети.
Но заболели не только дети — расхворалась и тетя Мария. Клеопа внес ее в комнату, где лежали больные, и уложил на одеяла. Он звал ее по имени. Казалось, что он сердится, но это было не так. Она не отвечала ему. Все это я видел сквозь пелену сна. Нам часто пела Старая Сарра. Когда я не мог видеть ее в полумраке, я слышал ее пение.
У меня болело все тело — плечи, бедра, колени, — но я мог спать и видеть сны.
Впервые в жизни мне стало казаться, что сон — это такое место, куда можно уйти.
Оглядываясь назад, я вижу, что вплоть до этой болезни я всегда боролся со сном. Мне никогда не хотелось убежать в небытие, спрятаться в нем. Даже в холмах, когда я был страшно напуган ревущим огнем и разбойниками, я хотел, чтобы огонь исчез, чтобы разбойники ушли, но не стремился укрыться в тишине сна. Укрыться в материнских объятиях — да. Но не во сне.
Однако во время болезни, когда руки и ноги причиняли мне боль, моим единственным спасением была возможность провалиться в глубокий сон.
Даже когда я не спал, я дремал и видел сны. Это были самые хорошие сны в моей жизни. Я знал, что нахожусь в Назарете. Я знал, что мама и тетя Мария где-то неподалеку. Я знал, что мне ничего не грозит.
И в то же время я шел по дворцу. Этот дворец превосходил по размерам даже дом Филона в Александрии. Когда я подобрался к краю зала, я увидел синее море. По обеим сторонам от меня из воды поднимались скалы, и линия берега изгибалась. Вдали я видел сад, в котором горело множество огней. Бессчетное количество огней. Колонны поддерживали над моей головой крышу. Капители колонн украшал резной узор из листьев аканта.
На мраморной скамье сидело существо с крыльями. Оно выглядело как очень красивый человек и напомнило мне Аввесалома, сына Давида, который славился своей красотой. Вдруг с этим существом произошла странная вещь: у него стали расти волосы.
— Ты стараешься стать похожим на Аввесалома, — догадался я.
— О, ты очень умный для своих лет, — отозвался странный человек. — Рав любит тебя. — У него был нежный музыкальный голос, а глаза синие, как море, и очень блестящие. По краю его туники бежала красно-зеленая вышивка — лоза, усыпанная мелкими цветками. Он улыбнулся мне: — Мне хочется спросить у тебя кое-что. Ты знаешь, почему ты здесь?
— Здесь? В этом дворце? — переспросил я. — Я сплю, и это мой сон.
Мне стало смешно, и я засмеялся. Во сне я слышал свой смех. Потом я взглянул на море. Над ним клубились высокие облака, а далеко, у самого горизонта, виднелись корабли. Мне казалось, что я различаю, как поднимаются весла, вижу людей у руля. Удивительно, как много можно увидеть при полной луне!
Все вокруг меня было прекрасно.
— Этот дворец достоин императора, — сказал человек с крыльями. — Почему бы тебе не поселиться здесь?
— Мне? В этом дворце? — удивился я.
— Ну да. Здесь-то жить определенно лучше, чем в грязном и пыльном Назарете, — заметил он своим чудесным голосом, сладко улыбаясь.
— Откуда ты знаешь? — спросил я.
— Я жил и здесь, и там, — ответил он, и лицо его потемнело. Приветливая улыбка сменилась гримасой презрения.
Я снова повернулся к морю, к кораблям, быстро и плавно двигавшимся под луной, уплывавшим вдаль посреди темной ночи, хотя ночью плавание опасно. Но корабли были так красивы.
— Да, они выходят из порта Остии, — проговорил человек с крыльями, — эти замечательные галеры выходят из Остии. Ваш Архелай торопится домой. А также его братья и сестры.
— Я знаю, — сказал я.
— Кто ты? — спросил он нетерпеливо. Но я не боялся. Ведь это всего лишь сон, и он скоро закончится. Все сны рано или поздно заканчиваются.
Я смотрел на человека. Он сердился, хотя старался скрыть это. У него не получалось. Теперь он напоминал мне моих младших братьев. Но он же далеко не ребенок.
— И ты тоже не ребенок! — вспыхнул он.
— А, понимаю! — сказал я с глубоким удовлетворением. — Сразу-то я не понял. Когда ты со мной, ты не знаешь, что случится потом, верно? Ты не знаешь, что будет! — Я залился смехом. — Ты обречен не знать, чем все закончится!
Он так рассердился, что не смог удержать улыбку на лице.
А как только улыбка исчезла, он заплакал. Он не мог сдержаться. Взрослый человек расплакался как ребенок, чего мне еще не доводилось видеть.
— Ты же знаешь, что я таков, каков есть, из любви, — проговорил он сквозь слезы. — То, что я есть, — из любви.
Мне стало жаль его. Но надо быть осторожным. Он закрыл лицо руками, но следил за мной сквозь пальцы. Да, он плакал, но в то же время наблюдал за мной, и мне было невыносимо жалко смотреть на него. Я не хотел его видеть. И помочь ему я не мог.
— Кто ты? — спросил он снова. Он сердился так, что даже перестал плакать, и протянул ко мне руки. — Я требую, чтобы ты сказал мне!
Я сделал шаг назад, прочь от него.
— Не смей прикасаться ко мне, — приказал я. Я не злился, просто хотел, чтобы он понял. — Никогда, никогда не прикасайся ко мне.
— А ты знаешь, что происходит сейчас в Иерусалиме? — спросил он. От гнева его лицо покраснело, а глаза становились все больше и больше.
Я не ответил ему.
— Давай я покажу тебе, ангельское дитя, — сказал он.
— Не утруждай себя, — отказался я.
И тем не менее вместо синего моря передо мной открылся просторный двор храма. Я не хотел его видеть. Я не хотел думать о людях, которые снова сражались друг с другом, как тогда, когда я был в Иерусалиме. Однако на этот раз все было гораздо хуже.
В римских солдат стреляли из луков с колоннады, в них бросали камни, повсюду люди бились на мечах, и так продолжалось до тех пор, пока из-за колонн не появилось пламя, ужасное, беспощадное пламя. Его языки извивались и хватали застигнутых врасплох евреев, и люди кричали и молили Господа о спасении.
Пожар охватил весь двор. Некоторые из евреев побросали оружие и бросились прямо в ревущий огонь, и римляне тоже побежали внутрь, а другие выходили с руками, полными сокровищ. Храмовых сокровищ, священных сокровищ, сокровищ Господа. Я не мог выносить вопли несчастных людей.
— Господи Всевышний, смилуйся над ними! — воскликнул я.
Мне было невыносимо страшно. Я дрожал. Все мои страхи вернулись ко мне, только теперь они стали еще больше. В моем мозгу вспыхивал один пожар за другим, как будто каждый язык пламени поджигал другой, и так до тех пор, пока огонь не достиг звезд.
«Из глубины взываю к Тебе, Господи».
— И это все, что ты можешь сделать? — спросил меня этот странный человек. Он стоял совсем близко от меня, нарядный в своем богатом облачении. Он улыбался, но в синих глазах горел гнев.
Я закрыл лицо руками. Я не мог смотреть. В ушах раздавался его голос:
— Я наблюдаю за тобой, ангельское дитя! Хочу посмотреть, что ты будешь делать. Ну так продолжай: ходи как дитя, ешь как дитя, играй как дитя, работай как дитя. Но я наблюдаю за тобой, — говорил он. — Может быть, не в моих силах узнать будущее, но я знаю одно: твоя мать — шлюха, твой отец — лжец, в твоем доме — земляные полы. Твое дело обречено на неудачу. Каждый день, каждый час ты проигрываешь, я знаю это. Ты думаешь, твои маленькие чудеса помогут этим глупым людям? Говорю тебе, всем правит хаос. А хаосом правлю я.
Я смотрел на него. Я знал, что, если захочу, могу ответить ему. Слова найдутся сами собой, и они расскажут мне то, о чем я пока не знаю, они извлекут это знание из моей головы с той же легкостью, с какой извлекут из моего рта звуки. И все станет передо мной как на ладони, все ответы, весь ход Времени. Но нет, этого не должно случиться. Нет, ни так, ни каким-либо другим образом. Я ничего не ответил ему. Его несчастье причиняло мне боль. Его потемневшее лицо причиняло мне боль. Его гнев ранил меня.
Я проснулся, лежа в полумраке, весь покрытый потом, мучаясь от жажды.
Единственным источником света была лампа. Со всех сторон доносились стоны. Я не понимал, где нахожусь, не знал, что это за комната, что за место — так сильно болела голова. Невыносимо.
Превозмогая боль, я возвращался к реальности. Я почувствовал, что недалеко сидит моя мама, но не рядом со мной, а с кем-то другим. Клеопа молился шепотом. И еще раздался странный голос, женский:
— Если так пойдет и дальше, ты не захочешь, чтобы она вернулась…
Я закрыл глаза, и мне приснился новый сон. Я видел поля пшеницы вокруг Назарета и цветущие миндальные деревья, такие же, как те, что мы видели, возвращаясь из Египта. Я видел деревни с белыми домами, прилепившимися к склонам холмов. Тонкие листочки, летящие в нежном дуновении ветра. Я видел воду. То существо снова хотело вторгнуться в мой сон, но я не пустил его. Нет, не хочу в мир дворцов и кораблей.
— Нет, — сказал я. — Я не пойду туда.
Мамин голос прошептал:
— Тебе снится сон. Не бойся. Я держу тебя. Все хорошо.
Хорошо.
Прошло много дней и ночей, прежде чем я вернулся в сознание. Мне потом об этом сказали.
И даже тогда я почти все время спал. Однажды меня разбудили рыдания и причитания, и я понял, что кто-то умер.
Когда я открыл глаза, то увидел, что моя мама кормит Маленького Симеона, который лежал среди подушек, укутанный одеялами. Рядом спала Маленькая Саломея. У нее было влажное от пота лицо, но я видел, что она тоже выздоравливает.
Мама взглянула на меня и улыбнулась. Однако лицо ее было бледным и печальным, я догадался, что она плакала, и еще я услышал, что одним из плачущих и стенающих в дальней комнате был Клеопа. Я снова слышал, как плачет взрослый мужчина. Совсем как в том сне.
— Скажи мне! — шепнул я маме. Страх сжимал мне горло.
— Детям лучше, — ответила она. — Разве ты не помнишь? Я говорила тебе еще вчера вечером.
— Нет, скажи мне кто.
Она не отвечала мне.
— Тетя Мария? — спросил я и повернулся, чтобы посмотреть туда, где она лежала все эти дни. Там было пусто.
Мама закрыла глаза и застонала. Я прильнул к ней, положил руку на колено, но не думаю, что она это почувствовала. Она качалась из стороны в сторону.
Когда я проснулся в следующий раз, уже шла поминальная трапеза. Во всяком случае, мне так показалось.
Я слышал, как играли флейты, эти звуки резали воздух как деревянные ножи.
Со мной был Иосиф, он заставил меня выпить немного супа. Рядом сидела Маленькая Саломея, взволнованная, с широко раскрытыми глазами.
— Ты знал, что моя мама умерла?
— Мне очень жаль, — сказал я.
— И младенец тоже умер, потому что был внутри ее.
— Мне очень жаль, — повторил я.
— Ее уже похоронили. Ее положили в пещеру.
Я промолчал.
Вошли мои тети, Саломея и Есфирь, они принесли Саломее супу, накормили ее и уложили. Маленькая Саломея без остановки задавала вопросы о своей матери.
— Ее накрыли? — спрашивала она. — Она была бледной?
Ее просили успокоиться.
— Она плакала, когда умирала?
Я заснул.
Когда я проснулся, дети в комнате все еще спали. Теперь здесь лежали и мои старшие братья, тоже заболевшие.
Я смог встать только на следующее утро.
Сначала я решил, что в доме все еще спят, и вышел во двор.
Было тепло. За время моей болезни листья на смоковнице стали очень большими. Виноградную лозу усыпали белые цветы. Высокое синее небо стояло надо всем огромным куполом; в нем плыли белые облака, не грозившие дождем.
Я был так голоден, что готов был съесть что угодно. Я не помнил, чтобы когда-нибудь так сильно хотел есть.
Из комнат, что занимал Клеопа со своей семьей на другой стороне двора, послышались голоса. Я вошел и увидел там маму и дядю. Они сидели на полу и разговаривали, перед ними стояли блюда с хлебом и соусом. Окно занавешивала лишь тонкая ткань. На плечи мамы и Клеопы падал свет.
Я присел рядом с мамой.
— …И буду заботиться о них. Я обниму их и прижму к себе, потому что теперь я их мать, а они — мои дети. — Вот что говорила она Клеопе. — Ты понимаешь меня? Теперь они мои дети. Они братья и сестры Иисуса и Иакова. Я могу позаботиться о них. Я хочу, чтобы ты верил мне. Все обращаются со мной как с ребенком, но я уже не девочка. Я буду им настоящей матерью. Мы все одна семья.
Клеопа кивал, но вид у него был рассеянный.
Он подал мне хлеба, прошептал слова благословения, и я повторил их за ним, тоже шепотом. А потом набросился на хлеб.
— Нет-нет, не ешь так быстро, — остановила меня мама. — Тебе еще нельзя. И выпей вот это. — Она придвинула ко мне чашку с водой. Мне же хотелось еще хлеба.
Мама провела рукой по моим волосам. Поцеловала меня.
— Ты слышал, что я говорила сейчас твоему дяде?
— Они мои братья и сестры, — кивнул я, — и всегда ими были. — И я затолкал в рот еще один кусок хлеба с соусом.
— Все, хватит, — сказала мама. Она собрала блюда с едой, поднялась и вышла из комнаты.
Я остался сидеть вместе с дядей. Только придвинулся к нему поближе.
Его лицо было спокойным, как будто горе и слезы ушли, оставив после себя пустоту.
Он обернулся и посмотрел на меня очень серьезно.
— Как ты думаешь, Господь Всевышний должен был забрать одного из нас? — спросил он. — И раз меня помиловали, то вместо меня забрали ее?
Я так удивился, что едва дышал. Мне тут же вспомнилась моя молитва о том, чтобы он жил, которую я вознес Небесам на реке Иордан. Я помнил силу, что лилась из меня в Клеопу, когда я прикоснулся к нему рукой, а он пел псалмы, стоя в реке, и ни о чем не знал.
Я пытался сказать что-нибудь, но слова не шли.
Что мне оставалось? Только заплакать.
Он обнял меня, успокаивая.
— Ах, мой родной.
— Господи! — начал молиться он. — Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть… Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
Мы несколько недель не выходили за пределы нашего двора.
Мои глаза болели на свету. Мы с Клеопой покрасили часть комнат свежей побелкой. Однако те, у кого была работа в Сепфорисе, ходили в город.
Наконец все выздоровели, даже крошка Есфирь, за которую тревожились сильнее всего, потому что она была совсем еще младенцем. Однако я видел, что с ней все будет в порядке: она снова начала громко плакать, как раньше.
Рав Шеребия, священник с деревянной ногой, пришел к нам в дом с водой очищения, чтобы окропить нас, а потом приходил и в последующие дни. Эту воду он сделал из пепла красной телицы, которую зарезали и сожгли в храме, как предписано Законом, и живой воды из источника, что течет возле синагоги на краю деревни.
Водой очищения окропляли несколько дней подряд не только нас, но и весь дом, и всю кухонную утварь и горшки, в которых держали воду, вино и пищу. Окропляли все, даже микву.
После каждого окропления мы окунались в микву; и после заката на последний день окропления мы все и наш дом очистились.
Мы стали нечисты оттого, что под крышей нашего дома умерла тетя Мария. Для нас это была очень важная и торжественная церемония, особенно для Клеопы, который читал отрывки из Книги Чисел, где говорится об очищении и о том, как его проводить.
Меня захватил этот ритуал. Я решил для себя, что мне обязательно нужно будет когда-нибудь пойти в Иерусалим и своими глазами увидеть, как закалывают и сжигают красную телицу.
Когда-нибудь, но не сейчас, когда там идет война, только не сейчас. Через какое-то время в Иерусалиме наступит мир, и мы сможем пойти туда. Какое это будет зрелище, думал я: торжественное заклание телицы и ее сожжение, вместе с кожей, плотью, кровью и внутренностями. Так получают пепел, нужный для воды очищения. В храме столько удивительного, чего я еще не видел! Только теперь там сражаются люди.
Сейчас я помнил храм, заваленный мертвыми телами, заполненный стонущими людьми. Я помнил, как в храме умер человек, заколотый копьем. Тот солдат на лошади, что убил его, в моих воспоминаниях виделся мне существом, составленным из человека и лошади. Я помнил его копье, омытое кровью. А еще я помнил храм, каким видел его в своем сне, том странном сне… Как мне могло такое присниться?
Но все это ушло далеко-далеко.
После ритуала очищения на нас снизошел покой.
Я не мог сообразить, делали мы нечто подобное в Александрии или нет, и у меня оставались лишь смутные воспоминания о младенце, умершем, когда я жил в Египте. То был новорожденный сын моего дяди Алфея. Но в этом краю существовала традиция выполнять такие ритуалы в строгом соответствии с Законом. И все с радостью так и поступали.
Правда, я понимал, что мои дяди не стали дожидаться очищения, прежде чем вновь приняться за работу в Сепфорисе. Они не могли себе этого позволить. Некоторые из них не прерывали работы во все время нашей болезни. А женщины ходили на рынок и в огород, потому что иначе было нельзя. Я не задавал об этом никаких вопросов. Я понимал, что мы делали все, что было в наших силах. И я доверял решениям своих дядей и Иосифа. Люди делают только то, что могут.
Через некоторое время после очищения, когда я еще даже не начал выходить со двора, среди моих дядей возник жаркий спор.
В те дни в Сепфорисе было столько работы, что они могли выбирать, брать ли самую тяжелую работу, или самую любимую, или самую сложную, где они могли показать свое мастерство. Однако Иосиф, который принимал решение, назначал за любую работу одинаковую цену. Дяди считали, что это неверно, и их поддерживали другие плотники в Сепфорисе. Все хотели получать двойную плату за сложную и тонкую работу, а Иосиф отказывался поднимать цену.
Наконец мы все собрались и пошли на вершину холма к раву Берехайе, хотя им хотелось бы поговорить с равом Иакимом, самым строгим фарисеем.
— Нам нужен фарисей для решения этого вопроса, — сказал дядя Клеопа.
И все согласились, включая Иосифа. Но никто не мог обратиться к младшему раввину перед тем, как обратиться к старшему.
Рав Берехайя выслушал нас и тут же послал к раву Иакиму, фарисею, наказав сделать так, как скажет тот.
Для нас, детворы, места в доме рава Иакима не нашлось. Мы остались на улице, но становилось все жарче, и мы вернулись домой.
Мужчины отсутствовали довольно долго, но когда они пришли, то были в хорошем настроении. Похоже, решение рава Иакима устроило всех: в те дни, когда наши мужчины будут получать двойную плату, мы, дети, можем заниматься в школе до самого обеда. И Иосиф согласился на это!
Мы захлопали в ладоши! Это была замечательная новость. Мы с Иаковом радостно переглянулись. Даже Сила и Левий обрадовались. Обрадовался и Маленький Симеон, едва ли понимая, о чем идет речь.
Значит, мы сможем научиться большему. А семья получит больше денег.
Мама выглядела очень довольной.
В тот вечер за ужином мы пили хорошее вино, и в свете ламп Иосиф прочитал нам одну из греческих историй, которую мы обожали, со свитка, привезенного из Александрии: историю Товита.
Вся наша семья собралась послушать эту историю, даже женщины, потому что нам всем очень нравилось слушать, как ангел Рафаил явился Товии, сыну Товита, но не признался, что он ангел, и как он велел Товии поймать рыбу, что пыталась поглотить юношу, и приготовить из ее внутренностей снадобья, и как приказал ему жениться на молодой девушке Сарре, дочери Рагуила, и как Товия испуганно спрашивал, не правда ли это, что у Сарры уже было семь женихов и всех их убил в ночь свадьбы демон.
Мы хохотали, когда Иосиф читал эту часть голосом наивного Товия. А потом Иосиф снова стал ангелом Рафаилом:
— Послушай же меня, брат: ей следует быть твоею женою, а о демоне не беспокойся.
И Иосиф читал дальше голосом ангела о том, что Товия должен вложить внутренности рыбы в курильницу, и тогда запах внутренностей отгонит демона навсегда.
— Такой запах отогнал бы кого угодно, не только демона! — воскликнул Клеопа. Засмеялись все, даже мама.
Затем Иосиф быстро прочитал дальнейшие указания ангела Рафаила:
— Когда же тебе надобно будет приблизиться к ней, встаньте оба, воззовите к милосердому Богу, и Он спасет и помилует вас. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века, и ты спасешь ее, и она пойдет с тобою, и я знаю, что у тебя будут от нее дети, и будут они братья и сестры, и хватит уже об этом.
И снова мы засмеялись, да так сильно, что слезы потекли у нас из глаз.
— Так вот как это делается! — сказала тетя Есфирь, и взрослые снова засмеялись, переглядываясь.
— «И хватит об этом»! — восклицала тетя Саломея, вызывая новые взрывы хохота среди женщин, как будто матери знали, что в этих словах еще больше смешного, чем мы догадывались.
— Уж ангел-то знает! — веселилась тетя Есфирь. И вдруг все примолкли. Смех стих.
Я увидел, что все сначала смотрели на мою маму, а потом отводили глаза в сторону.
Мама же, опустив голову, помолчала немного, а потом улыбнулась. Она засмеялась. Она качала головой и смеялась, и все подхватили ее смех.
В этой истории было еще много забавных мест, и мы знали их все. От запаха рыбьих внутренностей демон бежал, и тогда ангел связал его. Товия полюбил Сарру, а отцу ее Рагуилу так понравился, что тот не хотел отпускать его из своего дома, и брачный пир длился четырнадцать дней, а когда Товия добрался домой, то он сумел вылечить слепого отца опять же с помощью рыбьих внутренностей, как научил его ангел, и снова был брачный пир, и все были счастливы. Затем шла более серьезная часть истории, длинные и прекрасные молитвы Товии, которые мы все знали наизусть и повторили хором по-гречески.
Когда мы уже близились к концу, Иосиф, который вел нас, стал произносить слова медленнее, как будто здесь они имели для нас большее значение, чем когда мы были в Египте.
— Иерусалим, город Святый! Он накажет тебя за дела сынов твоих и опять помилует сынов праведных. Славь Господа усердно и благословляй Царя веков, чтобы снова сооружена была скиния Его в тебе с радостью…
Мы все подумали о сражениях, что по-прежнему шли в Иерусалиме. Молитва продолжалась, и я постарался отодвинуть воспоминания прочь; я видел теперь храм таким, каким он был до того, как в нем началось побоище.
Я видел высокие стены, видел сотни людей, собравшихся там, чтобы помолиться, проходящих через ванны, через туннель, во двор язычников. Я слышал, как люди выкрикивают строчки из псалмов.
А мы молились, повторяя за Иосифом:
— Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному; роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радостными…
Внутри меня засиял свет, и я погрузился в сон, сладостный, легкий сон, сквозь который я слышал слова молитвы, все еще лежа на циновке, подложив руку под голову: «И назовут Тебя Избранным и будут звать так во веки веков».
Вот так болезнь покинула наш дом. Смерть покинула наш дом. И вся нечистота исчезла из него. И слезы. И хотя мой сон о странном создании с крыльями и прекрасными глазами все еще беспокоил меня и то, что я не могу никому рассказать о нем, тревожило мое сердце, вскоре я сумел спрятать воспоминание о нем подальше, как спрятал воспоминание о залитом кровью храме. И жизнь снова продолжалась. Я был счастлив и знал это, потому что еще раньше я хорошо понял, что такое несчастье и что такое страх, болезнь и горе. А теперь все это прошло.
20
Как только мама мне разрешила, я искупался в микве, где вода сейчас была очень холодная и высокая, скрывающая меня с головой, и надел чистые одежды, а потом поднялся по холму к дому великого рава Берехайи. Слуги сказали мне, что он в синагоге, и я отправился туда, не забыв омыть руки в источнике, потому что никто ведь не знал, что я только что вымылся в микве.
Я вошел и сел с краю, удивившись, что в синагоге собралось необычно много народу для этого дня недели. Но вскоре я понял, что все они слушают не раввина, а мужчину, который пришел в Назарет, чтобы рассказать о последних событиях в Иерусалиме. Он был фарисеем, богато одетым, с густой проседью в волосах, прикрытых накидкой.
Среди собравшихся я заметил моего брата Иакова, и Иосифа, и Клеопу. Здесь же были и мои старшие братья.
Рав Берехайя улыбнулся, увидев меня, и жестом велел мне сидеть спокойно, пока мужчины разговаривают.
Незнакомый мне фарисей говорил по-гречески, но время от времени вкратце повторял сказанное на нашем языке.
К началу его рассказа я опоздал и поэтому слушал с середины.
— Этот Сабин, римский прокуратор, приказал своим людям окружить храм, и евреи рассыпались на крыше колоннады. Они бросали в римлян камни. Воздух то и дело прорезали стрелы. Но римские стрелы не могли достать евреев, потому что те сидели слишком высоко. Тогда этот Сабин, этот безбожник, единственной целью всех деяний которого было одно — найти царские сокровища в отсутствие царя, этот жадный человек тайком поджег колоннады, да-да, прекрасные колонны нашего храма с их покрытой лаком позолотой. Они вспыхнули, и евреи оказались в огне. Пожар разошелся мгновенно. Огнем охватило даже крышу храма, колонны пылали сверху донизу. И все золото сгорело в огне. И люди на крыше погибли. Сможем ли пересчитать всех погибших?
Мой страх снова возвращался ко мне. Несмотря на то что в комнате было тепло, я дрожал, как от холода.
— …И римляне бросились прямо в огонь, чтобы добраться до сокровищ Господа, а евреи, беспомощные, могли только смотреть. Римляне ворвались прямо в хранилища. Они обокрали, в своей неутолимой жадности, дом Господа.
Все было так, как я видел в моем сне. Я опустил голову и зажмурился. А фарисей продолжал говорить, и я видел то, о чем он рассказывал.
Битва сменялась новой битвой, римским легионам не было числа, вдоль дорог вырастал лес крестов.
— Распято две тысячи человек, — сказал фарисей. — Римляне ловили и тех, кто пустился в бегство. Они забирали любого по малейшему подозрению и распинали. Кто знает, были ли эти люди виновны? Ведь римляне не могут отличить среди нас хороших от плохих! Они не знают. А арабы, сколько же деревень сожгли они на своем пути, прежде чем римский военачальник Вар отослал их домой! Не сразу римляне поняли, что арабам нельзя поручать поддерживать мир и порядок.
Затем мы выслушали длинный перечень имен и названий — какие поселения сгорели, какие семьи лишись крова…
Я не мог открыть глаза. Я видел языки пламени на фоне ночного неба. Я видел бегущих людей. Наконец на мое плечо опустилась рука, и я услышал голос рава Берехайи:
— Слушай внимательно.
— Хорошо, ребе, — шепнул я.
Я взглянул на фарисея, расхаживающего перед собранием, пока люди горячо обсуждали одного из главарей мятежников — Симона, который спалил дворец в Иерихоне и которого теперь преследовал Грат, военачальник Ирода, перешедший на сторону римлян. Правление Симона закончилось. Но было еще много других…
— Они прячутся в пещерах, что на севере! — взмахнул рукой фарисей. — Их никогда не поймают.
Люди перешептывались, кивали.
— Их там целые семьи, целые кланы разбойников. А теперь говорят, что Цезарь разделил нас между детьми Ирода, и эти наши будущие правители, если их можно так назвать, уже плывут на всех парусах в наши порты.
Я видел ночное море под полной луной. Мой сон становился явью.
Посланник замолчал с таким видом, как будто он мог много еще чего добавить, но не стал этого делать.
— Мы будем ждать правителя, которого нам назначат, — сказал он наконец.
С задних рядов раздался чей-то голос:
— Пусть правят священники храма!
Его возглас подхватили другие мужчины:
— Священники знают Закон и живут по Закону. Почему мы не имеем священников из дома Садока, как должны иметь по Закону? Говорю вам, очистите храм от скверны, и пусть священники снова правят нами.
Мужчины подскочили со своих мест. Они кричали друг на друга. Поднялся такой шум, что ничего не было слышно.
Со своего места встал и рав Иаким. Только когда поднялся на ноги старый рав Берехайя, замолчали мужчины.
— Мы послали наши просьбы Цезарю, — проговорил рав Берехайя. — Цезарь принял решение, и мы скоро узнаем какое. До тех пор подождем.
Он оглядел всех присутствующих, повернулся в одну сторону, потом в другую, пока не обвел взглядом каждого.
— Кто знает родословную священника, что в этот час служит в храме? — спросил он. — Кто знает, есть ли сейчас первосвященник?
Его слова встречены были одобрительными кивками. Мужчины стали рассаживаться по скамейкам.
После этого все стали задавать вопросы посланнику-фарисею, а он отвечал на них.
Я незаметно выскользнул из синагоги на улицу. На теплом воздухе моя дрожь прекратилась. Я прошел через деревню и поднялся на один из холмов.
Небо висело надо мной огромное, и по нему плыли белые корабли-облака.
В траве пестрели полевые цветы, высокие и низкие. Оливковые деревья были увешаны плодами.
Я лег на траву и прикоснулся к цветкам, что росли поблизости. И я посмотрел наверх, сквозь ветви оливкового дерева. Мне так хотелось увидеть небо, составленное из кусочков. Счастье охватило меня. Вдалеке, кажется, в деревне, ворковали голуби, я слышал, как жужжат пчелы в ульях. Я слышал, как растет трава, хотя, конечно, это было невозможно, я понимал. Это все были звуки единения и мягкости — звуки, так непохожие на звуки города.
Мне вспомнилась Александрия. Мысленно я снова оказался у огромного открытого храма в честь Августа Цезаря возле порта, где так много садов и библиотек. Я много раз видел этот храм, когда мы ходили в портовые склады за нужными нам материалами.
Я вспомнил и наши процессии, которыми мы, евреи Александрии, самая большая часть населения города, отмечали перевод Писания на греческий язык. Язычники, наверное, никогда ничего подобного и не видали! И мы пели об этом в наших псалмах.
И я вспомнил море.
Да, я часто вспоминал обо всем этом… но эту землю я любил. И я познал любовь этого места ко мне, любовь густых лесов, поднимающихся вверх по склонам холмов, где росли кипарисы, платаны и лавры. А ведь не так давно я даже не знал их названий. Меня научил им Иосиф.
Из глубины сердца полилась моя молитва:
— Отец Небесный, благодарю тебя за все это.
Разумеется, долго побыть в одиночестве мне не удалось. Меня нашел Клеопа.
— Не надо огорчаться, — сказал он мне.
— Я не огорчаюсь, — ответил я, поднимаясь с земли. — Я совсем не огорчаюсь. Наоборот, я очень счастлив.
— А-а, — протянул Клеопа. — Просто мне показалось, что все эти разговоры в синагоге расстроили тебя.
— Нет, — покачал я головой. — А вот это, — указал я на место, где только что лежал, — это мое счастливое место. Я прихожу сюда, чтобы подумать, и мои мысли обращаются в молитвы.
Ему понравилось то, что я сказал. Мы стали вместе спускаться с холма.
— Хорошо, — сказал Клеопа. — Тебя не должны огорчать эти битвы и поражения. Римляне доберутся до каждого мятежника в Иудее. Тот дурак, Симон, лишь один из них. Но они поймают и Афронга, царя-пастуха, и его братьев. Они разыщут и тех воров из Галилеи. Они сейчас попрятались в пещеры в верховьях Иордана. Но когда им что-нибудь понадобится, они выйдут оттуда, и ты услышишь, как они с воплями пронесутся по деревням. О, не бойся, ничего подобного в Назарете не случится, если только… Кого бы ни поставили царствовать в Иудее, Архелая или Антипа, Цезарь — тот судья, к кому мы пойдем. Скажу тебе одну вещь о Цезаре. Он не хочет, чтобы в Иудее были беспорядки. И эти Ироды будут править до тех пор, пока здесь нет беспорядков.
Я остановился и взглянул на него:
— Ты хочешь, чтобы все так и оставалось? Чтобы мы всегда имели над собой Цезаря?
— А что здесь плохого? — спросил он. — Кто еще будет поддерживать мир?
Острый нож страха вонзился мне в живот.
— Неужели на престол Давида не сядет наш царь? — проговорил я.
Дядя Клеопа долго смотрел на меня, прежде чем ответить.
— Я хочу мира, — произнес он наконец. — Я хочу строить, и штукатурить, и красить, и кормить своих детей, и быть со своей семьей. Вот что я хочу. И этого же хотят римляне. Знаешь, они вовсе не плохие люди, римляне. Они поклоняются своим богам. Их женщины скромны. У них свои традиции, у нас свои. Ну не думаешь же ты, что все язычники — это необузданные злодеи, которые сжигают своих детей, чтобы накормить Молоха, и каждый день совершают в своем доме кощунство?
Я засмеялся.
— Конечно, мы сейчас в Галилее, где у людей бытуют такие представления, — продолжал он. — Стоит же побывать в городе, подобном Александрии, стоит посетить Рим, как начинаешь понимать, что это иллюзии. Ты знаешь это слово?
— Знаю, — гордо кивнул я. — Выдумки. Сны.
— Ах, — вздохнул он. — Ты единственный, кто понимает меня.
Я снова засмеялся, довольный похвалой.
— Слушай меня, я твой пророк, — сказал дядя.
— Ты будешь моим пророком? — тут же спросил я.
— А что? Чего ты хочешь?
— Ответь на мои вопросы. Почему меня остановили у входа в синагогу? Почему Иосиф не хотел говорить, где…
— Нет, — оборвал меня Клеопа и покачал головой. Он сжал голову руками и нахмурился. — Я не могу. Иосиф не хочет, чтобы я говорил с тобой об этом.
— Иосиф запретил мне спрашивать об этом у него самого, запретил даже просто спрашивать.
— А ты знаешь почему?
— Он не хочет, чтобы я знал, — ответил я, пожимая плечами.
Дядя Клеопа опустился передо мной на колени и взял меня за плечи обеими руками. Он смотрел мне прямо в глаза.
— Просто он сам не понимает, — сказал он. — А если человек что-то не понимает сам, он не может объяснить это другим.
— Иосиф? Не понимает?
— Да, так я сказал. Но помни: это только для твоих ушей.
— А ты понимаешь? — поинтересовался я.
— Я пытаюсь, — ответил он, поднял брови и улыбнулся. — Ты знаешь меня. Ты знаешь, что я пытаюсь. А Иосиф ведет себя по-другому: он ждет. Ждет, когда Господь сам все объяснит. Иосифу не нужно понимать, потому что он полностью доверяет Господу. Послушай, есть одна вещь, которую я могу рассказать тебе, и ты хорошенько запомни, что я тебе сейчас скажу. С твоей матерью говорил ангел. И к Иосифу являлись ангелы. Но ко мне ангелы не приходили.
— Ко мне тоже не приходили, но… — Я умолк на полуслове. Я не мог рассказать об этом — ни о Елеазаре в Египте, ни о том, как прекратился дождь, и уж конечно, не о том, что случилось, когда Клеопа стоял в Иордане, а я прикоснулся к нему рукой. Не мог я рассказать, что ночью на берегу Иордана я видел множество других существ, заполнявших всю темноту вокруг меня.
Клеопа погрузился в задумчивость. Он медленно поднялся и посмотрел через поля на горы, поднимающиеся на востоке и на западе.
— Скажи мне, что случилось! — попросил я тихим голосом. Я молил его: — Расскажи мне все.
— Давай лучше поговорим о сражениях, восстаниях, о царях из рода Иродов. Это гораздо проще, — ответил мой дядя. Он все еще смотрел вдаль.
Потом он обернулся ко мне:
— Я не могу рассказать тебе то, что ты хочешь знать. Я ведь и сам всего не знаю. Если же я попытаюсь рассказать тебе хотя бы часть, то за это твой отец прогонит меня из дома. Ты знаешь, он так и сделает. А я не хочу, чтобы в нашем доме были неприятности. Тебе сейчас сколько лет, восемь?
— Не совсем, — ответил я, — но скоро будет восемь!
Он улыбнулся.
— Да, скоро ты станешь совсем взрослым! — согласился он. — Теперь я вижу, как ты вырос. Как же это я раньше не замечал? Слушай же, когда-нибудь, до того, как умереть, я расскажу тебе все, что знаю. Обещаю тебе… — Дядя снова замолчал, задумавшись.
— Что?
На его лицо опустилась тень мрачной решимости.
— Вот что я тебе скажу, — начал он. — Сохрани это в своем сердце. Настанет день… — И тут он затряс головой и отвернулся.
— Говори же, ну! Я слушаю.
Когда он вновь обернулся ко мне, на губах его играла обычная насмешливая улыбка.
— Вернемся к Цезарю Августу, — сказал он. — Какая разница, кто собирает налоги и ловит воров? Какая разница, кто стоит у городских ворот? Ты видел храм. Разве можно восстановить и очистить храм, если римляне не наведут в Иерусалиме порядок? Ирод Архелай отдает приказ убивать прямо в храме. Воры и мятежники стоят на галереях храма и пускают стрелы. Я согласен на римский порядок, да, пусть здесь будет мир, какой был в Александрии. Скажу тебе еще кое-что о римлянах. Их чаша полна, а это очень хорошо, когда у того, кто правит тобой, полная чаша.
Я ничего не ответил ему, но я впитывал каждое слово и запомнил их все до единого.
— Что они сделали с Симоном, с тем бунтовщиком, которого поймали?
— Его обезглавили, — ответил Клеопа. — И по-моему, он легко отделался. Хотя меня не волнует, что он сжег два дворца Ирода. Дело не в этом. Мне не нравится все остальное: беззаконие, разрушения…
Он замолчал и внимательно посмотрел на меня.
— Ох, ты же еще слишком мал, чтобы понять это, — пробормотал он.
— Ты говорил это десятки раз, — заметил я.
Он рассмеялся.
— А я понимаю, — настаивал я. — У нас нет еврейского царя, который бы правил нами всеми, у нас нет царя, которого бы мы любили.
Он печально кивнул, глядя на небо, на бегущие облака.
— Для нас ничего не меняется, — сказал он.
— И это ты уже говорил.
— И скажу еще не раз. Завтра я возьму тебя с собой в Сепфорис, ты поможешь мне закончить стены в доме, который мы строим. Это легкая работа. Я уже обозначил контуры и сам смешаю краски. Тебе надо будет только закрасить. И ты будешь работать, как работал в Александрии. Вот чего мы хотим, не так ли? Хотим работать, и любить Господа всем сердцем, всей душой, и следовать его Закону.
Мы снова зашагали к нашему дому.
Я не поделился с дядей Клеопой тем, что тревожило меня. Как ни хотелось мне рассказать ему о странном сне, я не мог этого сделать. А если я не мог рассказать об этом Клеопе, значит, не мог рассказать никому. Я не смогу расспросить старого раввина о человеке с крыльями и о видениях горящего храма, которые он мне показал.
И кто поймет ту ночь у Иордана, полную иных существ?
Мы уже почти спустились с холма. В ближайшем к нам саду пела женщина, у ее ног играли малыши.
Я остановился.
— В чем дело? — спросил Клеопа. — Пойдем, — потянул он меня за рукав.
Я не послушался.
— Дядя, — обратился я к нему. — О чем ты собирался сказать мне там, наверху? Скажи сейчас.
Он застыл.
Еле слышно я проговорил:
— Мне надо знать.
Дядя Клеопа молчал, но в нем произошла еле уловимая перемена: он как будто смягчился. Когда он наконец заговорил со мной, его голос был удивительно добр:
— То, что я скажу, сохрани в своем сердце. Настанет день, и тебе придется давать ответы.
Мы смотрели друг на друга. Я первый отвел взгляд.
«Мне придется давать ответы!»
Перед моими глазами вдруг вспыхнул закат над рекой Иордан, полыхнул огонь в воде, но не страшный, а сказочно красивый, и я снова ощутил присутствие тех, иных существ, бесчисленным множеством окружавших меня.
И ко мне на мгновение, как молния, пришло понимание. Я понял все!
Оно исчезло сразу же, только появившись. И я чувствовал, что должен отпустить его, это понимание. Да, я должен отпустить его.
Мой дядя все еще пристально смотрел на меня.
Он нагнулся и откинул волосы у меня со лба. И поцеловал меня.
— Ты улыбаешься? — спросил он удивленно.
— Да, — согласился я. — Ты прав.
— В чем?
— Я слишком мал, чтобы понять, — сказал я.
Со смехом он ответил на это:
— Тебе меня не одурачить!
Он выпрямился, и мы пошли дальше.
21
То лето было таким благодатным!
Ветки старой смоковницы в нашем дворе гнулись под тяжестью второго урожая фиг, сборщики оливок обивали ветки в садах, и меня переполняло доселе неизведанное счастье.
Для меня это время стало началом времен — наши последние дни в Александрии и приход в Назарет.
Шли месяцы, мы закончили ремонтировать наш дом, и теперь все жили в чистых и красивых комнатах — и семьи моих дядей, Симона, Алфея и Клеопы, и я с Иосифом и мамой.
Рабыня-гречанка Рива, которая пришла к нам с Брурией, родила ребенка.
Об этом много шептались, судили и рядили, даже дети. Вот и Маленькая Саломея шепнула мне как-то:
— Очевидно, она не слишком хорошо пряталась от тех разбойников!
Но та ночь, когда родился младенец, когда я услышал его первый плач и то, как Рива напевает ему греческую колыбельную, и как Брурия поет ему, и как мои тети смеются и поют вместе, та ночь, когда не гасили лампы, была радостной ночью.
Проснулся Иосиф и взял младенца на руки.
— Это не арабское дитя, — сказал он тете Саломее, — это еврейский мальчик, и ты знаешь это.
— Кто говорит, что это арабское дитя? — воскликнула Рива. — Я же говорила…
— Хорошо, хорошо, — успокоил ее Иосиф, — назовем его Ишмаэль. Так все будут довольны?
Я сразу же полюбил этого малыша.
У него был славный маленький подбородок и большие черные глаза. Он не плакал без перерыва, как новый младенец тети Саломеи, который заливался ревом при малейшем звуке. И Маленькая Саломея с удовольствием носила дитя на руках, пока его мать работала. Вот так у нас появился Маленький Ишмаэль. Маленький Иоанн тети Саломеи и Алфея был одним из пятнадцати Иоаннов в деревне, где также насчитывалось семнадцать Симонов, тринадцать мальчиков по имени Иуда и больше Марий, чем пальцев на двух руках. И это если считать только родственников на нашей стороне холма.
Но я тороплю события. Малыши родились зимой.
Лето же показалось мне очень жарким без морского бриза, что постоянно дул на побережье, и поэтому каждый вечер, возвращаясь из Сепфориса, мы купались в ручье, и всем было очень весело. Мальчишки устраивали друг с другом водяные битвы, а за поворотом смеялись и визжали девочки. Выше по течению в камнях был вырублен резервуар, и женщины наполняли в нем кувшины, не забывая поговорить и посмеяться. И даже моя мама приходила иногда по вечерам, чтобы встретиться с другими женщинами.
Тем же летом деревня отпраздновала две свадьбы, и обе длились с утра до утра, и казалось, что все жители деревни пили и плясали на тех свадьбах. Мужчины танцевали с мужчинами, а женщины танцевали с женщинами, танцевали даже девушки, робея и сбиваясь в стайку поблизости от навеса, где сидели невесты. Невест же скрывали тончайшие накидки, а на руках у них поблескивали золотые браслеты.
В деревне очень многие играли на флейте, а несколько человек играли на лире, и женщины били в тамбурины над головой, а старики звенели кимвалами, чтобы задать ритм пляскам. И даже Старого Юстуса вынесли на улицу и усадили в подушки у стены. Он кивал и улыбался, глядя на свадебное празднество, хотя по подбородку у него текли слюни и Старой Сарре приходилось вытирать их.
Самыми неутомимыми танцорами были отцы невест, выплясывавшие на радостях как сумасшедшие — они раскачивались, размахивали руками, и подпрыгивали, и вертелись вокруг себя в развевающихся одеждах с яркой отделкой. А некоторые из гостей напились допьяна, и их поднимали и уносили по домам их братья или сыновья, но при этом никто не шептался неодобрительно, как обычно.
На свадьбах гостей угощали на славу: жареным ягненком и густой чечевичной похлебкой с мясом. И лились слезы, а мы, детвора, допоздна играли в полях, бегали, кричали и прыгали в темноте, потому что никому не было до этого дела. Я убегал в лес так далеко, как только смел, а потом шел вверх на холм и смотрел на звезды и танцевал, подражая мужчинам на свадьбе.
В тот год случилось столько всего, что мне и не вспомнить.
Хорошо помню одну свадьбу, когда выдавали замуж дочь богатого землевладельца Александру — красавицу, как все говорили, а невеста она была и вовсе на загляденье, в свадебной накидке с золотыми нитями. Когда свадебная процессия с носилками и факелами подошла к ее дому, все восхищенно запели.
На тот праздник пришли люди из других деревень. Пришли и фарисеи, чтобы пожелать новобрачным счастья. Они отказывались от угощения, и тогда мать красавицы Александры подошла к ним, поклонилась до земли и сказала раву Шеребии, что пища была приготовлена в строгом соответствии с Законом, что все блюда чисты и что если он не отведает угощения в честь свадьбы ее дочери, то она, мать, тоже не будет есть и пить, хотя выдает замуж свою единственную дочь.
Раввин Шеребия велел своему слуге принести ему воды для омовения рук, поскольку фарисеи всегда так делали — смачивали пальцы прямо перед едой, даже если руки у них были совершенно чистыми, а потом вкусил толику от угощения, подняв кусочек так, чтобы все видели, и все возрадовались, и остальные фарисеи последовали его примеру, даже рав Иаким. А ведь фарисеи никогда ни с кем не ели, только в обществе других фарисеев.
А потом рав Шеребия, несмотря на деревянную ногу, начал плясать, и тогда все мужчины стали плясать тоже.
Наш возлюбленный рав Берехайя вышел вперед и станцевал медленный и необычный танец, который восхитил всех нас, мальчишек, его учеников. Более того, отец его жены, не желая ни в чем уступать, тоже сплясал как мог, и все старики после этого тоже плясали.
Мать Александры ушла сидеть рядом с невестой и другими женщинами, и они все вместе радовались, что на пир пришли фарисеи.
Работы тоже было много.
Здания вырастали в Сепфорисе, как трава на полях. Пожарища залечивались, как заживают раны. Рынок расширялся, потому что все больше торговцев приходили, желая продать свой товар тем, кто заново строил и обставлял дома. И туда же приходило много людей в поисках работы, так что мы всегда могли нанять столько работников, сколько требовалось. Нас же все называли египетским кланом.
Никто не жаловался на наши цены. Наша семья делала все: Алфей и Симон присматривали за строительством фундамента, полов и стен, Клеопа и Иосиф сколачивали красивые столики, книжные полки и римские стулья, которые мы научились делать в Александрии.
Я научился рисовать ровные кромки и даже простые цветы и листья, хотя в основном я пока только закрашивал контуры, которые наносили для нас, детей, более опытные мастера.
Мы занимались и каменной кладкой, и тогда требовалось большое терпение, чтобы подобрать подходящие по размеру и цвету мраморные плиты и определить, куда их положить в соответствии с задуманным рисунком. Самый дорогой пол мы клали в деревне Кана для одного человека, который вернулся домой с греческих островов и хотел построить себе красивую библиотеку.
Нас приглашали поработать в других деревнях. Торговец из Капернаума просил нас поработать у него, и мне очень хотелось, чтобы мы взялись за эту работу, потому что тогда бы мы оказались совсем рядом с Галилейским морем, но Иосиф сказал, что сначала надо закончить работу в Сепфорисе и только потом искать работу в отдаленных деревнях и городах.
И еще мы много делали дома, в Назарете: мы приносили работу с собой, например сколачивали ложа или мастерили инкрустированные столы. По ходу дела нам пришлось познакомиться с лучшими мастерами по серебру и эмалям, что имелись в Сепфорисе, и мы ходили к ним, когда требовалось украсить наше изделие.
Если что и огорчало меня в то лето кроме разговоров о солдатах, преследующих в Иудее бунтовщиков, — а они не прекращались, — так это то, что я больше не мог проводить с Маленькой Саломеей столько же времени, сколько раньше.
Она постоянно была занята, помогая женщинам, хотя в Александрии ее помощь почти не требовалась. Несмотря на то что мужчины приносили в дом все больше денег, женщины трудились не покладая рук.
В Александрии еда чаще всего покупалась, а здесь они сажали, растили и собирали в огороде овощи. За хлебом они раньше ходили на улицу Пекарей, здесь они должны были сами печь весь хлеб, размолов предварительно зерна в муку, ради чего им приходилось каждое утро очень рано вставать.
Когда бы я ни пытался поболтать с Маленькой Саломеей, она отмахивалась от меня, и разговаривать со мной она стала таким же голосом, каким женщины разговаривают с детьми. Она как будто повзрослела за одну ночь. И всегда у нее на руках был ребенок: либо крошка Есфирь, которая теперь стала капельку спокойнее, и бывали моменты, когда она не плакала, либо ребенок одной из женщин, пришедших навестить Старую Сарру. В Саломее не осталось больше той девочки, которая шепталась и смеялась со мной в Александрии, не осталось в ней и испуганного ребенка, плачущего во время нашего путешествия на север из Иерусалима. Время от времени она ходила вместе с нами в школу — у нас училось несколько девочек, сидевших отдельно от мальчиков, — но ей хотелось поскорее закончить с занятиями и вернуться домой, к работе, как она говорила. Клеопа внушал ей, что она должна научиться читать и писать на иврите, однако ей самой этого не хотелось.
Я скучал по ней.
А вот что женщины любили делать, так это ткать. Когда наступила теплая погода и они вынесли свои станки во двор, разговоры пошли по всему Назарету.
Оказалось, что женщины в этих краях использовали станок с одной поперечной рамой, и им приходилось стоять возле него. А мы привезли из Александрии больший по размеру станок, с двумя рамами, скользящими относительно друг друга, перед которым женщина могла сидеть. Посмотреть на наш станок приходили женщины со всей деревни.
Как я сказал, женщина сидела, работая за таким станком, и работа ее шла гораздо скорее. Моя мама умела ткать очень быстро, и у нее получалась прекрасная материя, которую потом мы продавали на рынке. Всегда, когда у мамы было время, то есть когда Маленьким Симеоном и Маленьким Иудой занималась Маленькая Саломея, она садилась за станок.
Она любила ткать. За годы, проведенные ею при храме, когда она в числе восьмидесяти четырех девочек — избранных — ткала храмовые завесы, она научилась ткать очень быстро и ловко. У нее получалась ткань высочайшего качества, на рынке ее считали лучшей. Еще мама умела красить ткани в разные цвета, даже в пурпурный.
Нам объясняли, что тех девочек-ткачих специально отбирали, потому что храмовые завесы и все остальные вещи, которыми пользуются в храме, должны быть сделаны теми, кто находится в состоянии совершенной чистоты. И лишь девочки не старше двенадцати лет могут считаться таковыми. Более того, выбирали их из одних и тех же семей на протяжении многих лет, к таким относилась как раз и мамина семья. Однако мама редко рассказывала о своих днях в Иерусалиме. Она говорила только, что завеса очень велика по размеру и с очень сложным узором, поэтому за год они могли соткать всего два полотна.
Именно эти завесы скрывали вход в Святая Святых, где пребывал сам Господь.
Ни одна женщина не допускалась в Святая Святых; туда входил только первосвященник. Маме нравилось ткать храмовую завесу: ведь плоды ее труда находились в таком священном месте.
Многие женщины в нашей деревне приходили поговорить с моей мамой и посмотреть на ее ткацкий станок. И поэтому с тех пор, как можно стало выносить станок во двор и все узнали о нем, у мамы стало больше подруг. И те из наших родственников, которые раньше не приходили, стали наведываться в гости.
Даже когда лето кончилось, они не перестали навещать маму. К ней заходили девушки, у которых еще не было своих детей, и держали на коленях наших малышей. И это было хорошо для мамы. Потому что сначала она боялась.
В деревне, подобной Назарету, женщины знали все. Невозможно объяснить, как им это удавалось. Но так оно было, и так оно будет всегда. И поэтому мама знала о вопросах, которые мне задали, когда Иосиф повел меня первый раз в школу. И ей было больно.
Я догадывался о ее чувствах, потому что умел читать любое движение ее губ и ее глаз. Я знал, что она чувствовала. Я видел, что она боялась других женщин.
К мужчинам она не испытала никакого страха, потому что ни один добронравный мужчина не станет смотреть на нее или говорить с ней, он никак ее не потревожит. Таков был уклад в нашей деревне. Мужчина не заведет разговор с замужней женщиной, если только он не ее родственник, и даже в таком случае он не останется с ней наедине, если только он не брат ей. Вот почему она не боялась мужчин. А женщин? Женщин она боялась вплоть до того времени, пока они не заинтересовались ее ткацким станком.
Я не обращал внимания на этот страх до тех пор, пока ситуация не изменилась. Только когда мама перестала вести себя робко и пугливо, я понял, что случилось. И обрадовался.
И еще одна мысль пришла мне в голову, тайная мысль, одна из тех, о которых я не мог рассказывать: моя мама невинна. Иначе быть не может, ведь тогда она опасалась бы и мужчин, верно? Но перед ними она не испытывала страха. И она не боялась ходить к ручью за водой, не боялась продавать сотканное ею полотно. Ее глаза были столь же невинны, как глаза Маленькой Саломеи. Вот какая тайная мысль пришла мне в голову.
Наша Сарра была слишком стара для тонкой работы с иглой, да и вообще для любой работы, но она учила маленьких девочек вышивать, и они частенько собирались вокруг нее, разговаривали, и смеялись, и рассказывали друг другу истории, а мама сидела за станком неподалеку.
Так вот, в нашем дворе всегда кипела работа: кто-то стучат молотком, кто-то полировал деревянные детали, кто-то шил, кто-то ткал. Добавьте к этому ревущих младенцев, ползающих по камням малышей постарше, бегающую и смеющуюся детвору, открытый хлев, где стояли ослы, которые перевозили наши грузы в Сепфорис, старших мальчиков, снующих с охапками сена, и пару мальчиков помладше, втирающих позолоту в одну из восьми новых кушеток для пиров, которые заказал у нас один человек, и женщин, готовящих еду на огне, и циновки, расстеленные на камнях перед обедом, и всех нас, собравшихся для молитвы и пытающихся утихомирить расшумевшихся малышей хотя бы ненадолго, пока мы благодарим Господа за все Его дары. И вот тогда вы получите представление о нашей жизни в первый год пребывания в Назарете, который навсегда запечатлелся в моей памяти и оставался со мной все то время, что я там провел.
«Спрятан», — говорил Иосиф. Я был спрятан здесь. А от кого или от чего, он не объяснял. И я не мог спросить. Но я был счастлив. И когда я думал об этом и о странных словах Клеопы о том, что мне самому придется отвечать на вопросы, то мне начинало казаться, что я — это не совсем я. В таких случаях я ощупывал себя с ног до головы и переставал размышлять.
Занятия в школе шли очень хорошо.
Я учил новые слова — слова, которые я слышал и говорил сам, но значения которых не знал. В основном это слова из псалмов. «Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные. Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу».
Тьма ушла; смерть ушла; огонь ушел. И хотя люди все еще поговаривали о тех юношах, что убежали из дома, чтобы сражаться на стороне мятежников, и иногда какая-нибудь женщина принималась рыдать и причитать, получив дурные известия о пропавшем сыне, все же наша жизнь была полна добра.
Долгими летними вечерами я прятался в рощах, сбегал с холмов — забредал так далеко, что уже не видел Назарета. Я находил цветы такие красивые, что мне хотелось сорвать их и посадить дома. А дома сладко пахло древесными стружками и оливковым маслом, которое мы втирали в дерево. И всегда в доме витал аромат свежего хлеба, а стоило нам войти во двор, как мы уже по запаху знали, что на ужин будет чудесный соус.
На рынке Сепфориса мы покупали вкусное вино. На огороде у нас вырастали нежные дыни и крепкие огурцы.
В синагоге, изучая Писание, мы хлопали в ладоши, и танцевали, и пели. Занятия в школе были немного труднее. Учителя заставляли нас писать на восковых табличках, а те, у кого не получалось, должны были переписывать задание несколько раз. Но даже эти трудности не пугали меня. Время летело быстро.
Вскоре созрели оливки, и люди пошли в сады, стали обивать ветви длинными палками и собирать упавшие плоды. Пресс для выдавливания оливкового масла работал без перерыва, и мне нравилось проходить мимо него и смотреть, как работают на нем мужчины и как льется ароматное масло.
Женщины нашей семьи давили оливки в маленьком прессе, чтобы приготовить чистейшее масло для дома.
В садах поспели виноградные гроздья, и фиги тоже созрели, и их было столько, что хватило на все: и засушить, и приготовить с ними пироги, и съесть свежими. На самом деле, и в садах, и во дворе фиг уродилось столько, что мы носили их продавать на рынок у подножия холма.
Виноград же, который не съели, разложили на улице, чтобы он высох и превратился в изюм. Вино в Назарете не делали, потому что на здешней земле не было больших виноградников. Зато этот край был богат пшеницей, и ячменем, и овцами, и лесами, и вот за это все я и любил его.
Когда похолодало, пошли первые дожди. Гром гремел над крышами, стучали капли, и все возносили благодарственные молитвы. Резервуары нашего дома наполнились, и в микву потекла свежая вода.
В синагоге рав Иаким, самый строгий фарисей из всех, сказал нам, что только теперь вода, текущая по трубам в микву, стала «живой» и что когда мы омываемся в «живой» воде, то выполняем волю Господа. Мы должны молиться, чтобы дождевой воды хватило не только для полей и для ручьев, но и для наших резервуаров и нашей миквы, сказал он.
Рав Шеребия не во всем согласился с равом Иакимом, и они принялись цитировать разных пророков и мудрецов, высказывавшихся по этому поводу, и спорить «вообще», как они говорили, пока наконец старый раввин не пригласил нас всех поблагодарить Господа за то, что он отворил окна небесные, и за то, что поля скоро будут готовы к новым посадкам.
Вечером, за ужином, слушая, как стучит по крыше дождь, мы обсуждали рава Иакима и «живую» воду. Меня беспокоил этот вопрос, и Иакова тоже.
Мы пришли в Назарет, когда дожди уже закончились и наша миква была наполовину пуста. Мы оштукатурили ее заново и потом наполнили водой из резервуара, в котором вода хранилась уже долгое время. Но ведь это же была дождевая вода, правда? Значит, она была «живой», когда мы наполняли ею микву?
— Ведь это была «живая» вода? — хотел убедиться я.
— Если нет, — уточнял Иаков, — то, значит, омовение в микве не очищало нас.
— Мы часто купались в ручье, помните? — пытался успокоить нас Клеопа. — А что касается миквы, то в ее дне есть маленькая дырочка, так что вода в ванне все время движется. И когда дождь наполнил резервуары, это была «живая» вода. Так что решено: вода в микве всегда была «живой».
— А рав Иаким говорит, что этого недостаточно, — настаивал Иаков. — Почему он так говорит?
— Этого достаточно, — вмешался Иосиф. — Просто он — фарисей, а фарисеи очень осторожны. Вы должны понять: они считают, что если будут очень осторожны во всем, что делают, то у них будет меньше возможностей нарушить Закон.
— Но зачем они утверждают, что наша миква не чиста? — спросил дядя Алфей. — Наши женщины берут воду…
— Ну хорошо, — вздохнул Иосиф и пустился в объяснения. — Представьте, что вдоль обрыва идут две тропы. Одна идет рядом с краем, а вторая — далеко от него. Та тропа, что дальше, безопаснее. Вот этой тропой и идут фарисеи — они стремятся идти как можно дальше от края, чтобы ни в коем случае не сорваться с обрыва, то есть не впасть в грех. Вот почему рав Иаким так верит в старинные обычаи и строго придерживается их.
— Но это же не Закон, — напомнил дядя Алфей. — А фарисеи говорят, что все это — Закон.
— Рав Шеребия сказал, что это Закон, — робко вставил Иаков. — Он сказал, что Моисей получил Закон от Господа, но Закон не был написан, поэтому его передавали друг другу мудрецы.
Иосиф пожал плечами.
— Мы делаем все, что в наших силах. И уже начались дожди. И наша миква — что? Она полна свежей дождевой воды!
Он вскинул руки кверху, говоря это, и улыбнулся, и мы засмеялись в ответ, но смеялись мы ее над раввином, нет. Мы смеялись так, как всегда смеемся, когда говорим о чем-то непонятном для всех нас.
Рав Иаким был очень строг во всем, что касалось соблюдения Закона и обычаев, но в остальном это был мягкий, мудрый человек, умеющий рассказывать удивительные истории. Порой я не хотел ничего, только слушать его.
Постепенно я стал понимать одну очень важную вещь: все рассказы были частью одной великой истории, они были нашей общей историей, они объясняли, кто мы такие. Я не понимал этого раньше, но теперь увидел это так ясно, что затрепетал от восторга.
Зачастую в школе и иногда в синагоге рав Берехайя вставал на свои старые, дрожащие ноги, воздевал руки к небу и с опущенной головой, но при этом глядя вверх, выкрикивал, обращаясь к нам:
— Но кто мы такие, дети, скажите мне! И мы пели ему в ответ:
— Мы народ Авраама и Исаака. Мы пришли в Египет во времена Иосифа. Мы стали там рабами. Египет был для нас геенной огненной, и мы страдали. Но Господь освободил нас, Господь послал Моисея, чтобы он вел нас, и по воле Господней расступились воды моря Красного, и привел нас Господь в Землю обетованную!
На горе Синай дал Господь Моисею Закон. И мы — святой народ, народ священников, народ Закона. Мы — народ великих царей: Саула, и Давида, и Соломона, и Иосии.
Но Израиль согрешил в глазах Господа. И Господь послал Навуходоносора Вавилонского, чтобы разрушить Иерусалим и даже Дом Господа.
И все же наш Господь не скор в гневе, и тверд в любви, и полон милости, и послал он избавителя, чтобы окончить наше пленение в Вавилоне, да, он послал Кира Персидского, и мы вернулись в Землю обетованную и заново отстроили храм. Повернись и посмотри в сторону храма, поскольку каждый день первосвященник совершает жертвоприношение за народ Израиля Господу Всевышнему. Во всем мире живут евреи, святой народ, преданный Закону и Господу, и смотрит в сторону храма, и не знает других богов, кроме Господа.
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть.
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими.
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем.
И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая».
Нам не нужно было находиться в храме, чтобы соблюдать священные праздники. Евреи по всему миру соблюдают их.
Тем более что пока было небезопасно идти в храм. Однако к нам приходили новости о том, что война в Иерусалиме прекратилась и что храм очищен. То же самое говорили нам сигнальные костры из самого Иерусалима.
И в День очищения мы встали на рассвете, чтобы увидеть первый луч, так как знали: в этот день первосвященник встает с первым лучом, чтобы начать церемонии в храме и омовение — одно из многих сегодняшних омовений.
Мы надеялись и молились, что не случится мятежа в этот день, не будет беспорядков и волнений в храме.
Потому что в этот день первосвященник постарается вымолить прощение всех грехов народа Израиля. Он наденет свои лучшие одежды. Рав Иаким, сам помазанный священник, описал нам его облачения, и мы заучили их описание, данное в Писании:
— Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти и виссона и сделают ефод. И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы. Сделай наперсник судный искусною работою и вставь в него оправленные камни в четыре ряда; сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых. И будет носить первосвященник имена сынов Израилевых на наперснике у сердца своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред Господом. И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежи на ней: «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, и будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним.
Да, поистине великолепный наряд!
Но прежде чем первосвященник наденет все эти одежды, не менее красивые и богатые, чем одежды любого языческого священника в любом храме, он оденется в простое полотно, чистое и белое, чтобы совершить жертвоприношение.
В этот день первосвященник возлагает руки на тельца, которого принесут в жертву за Израиль. И он возлагает руки на двух козлов.
Так вот, один из этих козлов будет принесен в жертву, а другой — другой унесет все грехи Израиля в пустыню. Этот козел будет изгнан к Азазелю.
И что же такое Азазель, спрашивали мы, маленькие мальчики, хотя, конечно, мы уже знали. Азазель — это зло, это демоны, это мир за границами нашего мира, где нет Закона, в пустыне. И все понимали, что здесь означает слово «пустыня», поскольку народ Израиля уже ходил по пустыне перед тем, как войти в Землю обетованную. Козел же, отправленный к Азазелю, вернет туда все грехи в знак того, что грехи Израиля были прощены Господом и что зло может забрать себе обратно все злое, поскольку мы не хотим иметь с ним ничего общего.
Но самой важной частью церемонии является вход первосвященника в Святая Святых храма, в место, где пребывает Сам Господь, в место, куда дозволено входить только первосвященнику.
И весь Израиль в это время молится, чтобы сила Господня не поразила первосвященника, но чтобы его молитвы о прощении от его имени и от имени всех нас были услышаны и чтобы он вышел обратно к людям, побывав пред лицом Господа.
В предвечерний час мы собрались в синагоге, где раввин прочитал нам свиток, который читал в этот момент первосвященник во дворе женщин: «И в десятый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание: смиряйте тогда души ваши».
Раввин произнес для нас слова, которые говорил сейчас первосвященник толпе, собравшейся в храме:
— Здесь написано больше, чем я прочитал перед вами. Наконец опустилась темнота. Мы стояли босиком на крыше и ждали. Вдруг закричали те, кто стоял на самых высоких местах. Они увидели сигнальные огни из ближайших деревень с южной стороны, и теперь и они разожгли огонь, чтобы передать добрую весть дальше на север, восток и запад:
— Первосвященник вышел!
Все потонуло в гомоне радостных выкриков. Мы плясали. Наш пост закончен. Полилось в чаши вино. Пищу клали на разожженные угли.
В очищенном и обновленном храме первосвященник вышел из Святая Святых целым и невредимым. Его молитвы за Израиль закончены. Его жертвоприношения закончены. Его чтения закончены. И теперь он, как и мы, отправлялся вкусить праздничную трапезу в кругу семьи.
Ранние дожди принесли пользу. Начались посадки.
И прямо в День очищения начинался праздник кущей, в течение которого весь Израиль должен был семь дней прожить в кущах, построенных из веток в память о путешествии из Египта в Ханаан. Для детей же это было особенное удовольствие.
Мы собрали лучшие ветви, что нашли в лесу, предпочитая всем остальным ветки ив, растущих вдоль ручья. И мы поселились в этих кущах, все, и женщины, мужчины, и дети, как будто кущи были нашими домами, и пели радостные псалмы.
Наконец в Назарет пришла новость о том, что Ирод Архелай и Ирод Антипа прибыли домой, а также все остальные, кто ездил к Цезарю Августу. Мы собрались в синагоге, чтобы выслушать рассказ молодого священника, присланного из Иерусалима с целью сообщить последние известия. Он хорошо говорил по-гречески.
Ирод Антипа, сын ужасного Ирода Великого, должен был стать правителем Галилеи и Переи. А Ирод Архелай, которого все еще сильно ненавидели, будет этнархом Иудеи, а другим детям Ирода достались другие провинции. Одной из дочерей отвели дворец в греческом городе Аскалоне. Мне сразу понравилось название этого города.
Когда я позднее спросил Иосифа о прекрасном городе Аскалоне, он сказал мне, что по всему Израилю и Перее и даже в Галилее рассыпаны греческие города — города с храмами в честь идолов из золота и мрамора. Вокруг Галилейского моря стояло десять греческих городов, и они назывались «Десятиградие».
Мне удивительно было слышать это. Я привык к Сепфорису и его еврейскому укладу. Я знал, что Самария — это Самария, и мы не имели никаких дел с самаритянами, хотя они располагались близко к нашим границам. Но я и понятия не имел, что в нашей земле стоят языческие города. Аскалон. Такое красивое название. В голове у меня сложился образ принцессы Саломеи, дочери царя Ирода, гуляющей по своему дворцу в Аскалоне. Что же для меня дворец? Я знал, что это такое, как знал я, что такое языческий храм.
— Вот что значит империя, — сказал мне дядя Клеопа. — Только не расстраивайся из-за этого — из-за того, что среди нас живут все эти иноверцы. Ирод, царь евреев! — язвительно протянул он. — Он построил множество храмов в честь императора и своих языческих богов. Вот вам и царь евреев.
Иосиф жестом велел Клеопе замолчать.
— В этом доме мы — в земле Израиля, — сказал он.
Все засмеялись.
— Ага, — хмыкнул Алфей, — а за дверью начинается империя.
Мы не знали, смеяться над его словами или нет, и Клеопа кивнул нам в знак того, что да, это шутка.
— Но где же начинается Израиль и где заканчивается? — спросил Иаков, сидевший с нами.
— Здесь! — воскликнул Иосиф. — И там! — указал он. — И везде, где соберутся вместе евреи, соблюдающие Закон.
— А мы когда-нибудь увидим эти греческие города? — поинтересовался я.
— Ты видел Александрию, значит, ты видел лучший из них, величайший, — сказал Клеопа. — Ты видел город, который уступает только Риму.
Мы все закивали согласно.
— Помни же тот город и помни все это, — продолжил Клеопа, — поскольку каждый из нас являет собой полную историю того, кто мы такие, понимаешь? Мы были в Египте, как был там наш народ, и так же, как они, мы вернулись домой. Мы видели сражение в храме, и наш народ видел битву под Вавилоном, но теперь храм восстановлен. Мы страдали на пути сюда, как народ наш страдал в пустыне и под бичом врагов, но мы вернулись домой.
Мама оторвалась от своего шитья.
— Ах, так вот почему все было именно так, — негромко воскликнула она, как ребенок, что-то вдруг понявший. Она покачала головой и снова взялась за иголку. — Раньше я не понимала…
— Что? — спросил ее Клеопа.
— Не понимала, почему ангел пришел к Иосифу и сказал ему возвращаться домой, невзирая на кровопролитие и беспорядки. Но ты сейчас все объяснил!
Она взглянула на Иосифа.
Он улыбался, но я думаю, он улыбался потому, что сам раньше не додумался до этого. А ее глаза горели как у ребенка, и она, моя мама, верила как дитя.
— Да, — согласился Иосиф. — Кажется, это разумное объяснение. То был наш путь через пустыню.
Дядя Симон, спавший почти все это время на циновке, положив голову на локоть согнутой руки, при последних словах Иосифа проснулся и сказал сонным голосом:
— Еврей всему может найти разумное объяснение.
Сила расхохотался так, что чуть не упал.
— Нет, — тихо заметила моя мама, — это верно. Все дело в том, как посмотреть. Я помню, в Вифлееме, когда я спрашивала у Господа: «Как? Как?», потом…
Она остановилась и взглянула на меня, а затем провела рукой по моим волосам, как часто это делала. Мне всегда нравилось, когда она гладила меня так, но я не прижался к ней. Я уже вырос.
— А что же случилось в Вифлееме? — спросил я. И вспыхнул от стыда. Я забыл наказ Иосифа не спрашивать об этом. Меня пронзила острая боль. — Простите меня. Я не хотел это говорить, — прошептал я.
Мама ласково посмотрела на меня, и я видел, что она понимает, как мне неловко. Потом она перевела взгляд на Иосифа. Все остальные молчали.
Мой брат Иаков пристально смотрел на меня тяжелым взглядом.
— Ты там родился, как ты и сам знаешь, — раздался мамин голос. — Ты родился в Вифлееме. В городе тогда было много народу. — Она говорила неуверенно, запинаясь, поглядывая то на Иосифа, то на меня. — В тот вечер в Вифлеем пришло много народу, и мы не могли найти места, где остановиться. А нас было много — Клеопа, и Иосиф, и Иаков, и я. Хозяин постоялого двора предложил нам переночевать в хлеву. Он находился в пещере позади постоялого двора. Там было тепло и удобно, и еще Господь послал снег.
— Снег! — воскликнул я. — Я хочу увидеть снег.
— Что ж, может быть, когда-нибудь увидишь, — ответила она.
Все по-прежнему молчали. Я смотрел на маму. Она хотела рассказывать дальше. Я видел это. И она понимала, как сильно я хочу узнать, что было дальше.
И она снова заговорила.
— Так ты и родился в том хлеву, — тихим голосом продолжила она. — И я спеленала тебя и положила в ясли.
Все засмеялись добрым смехом, как часто смеются в нашей семье.
— В ясли? Где лежит сено для ослов? Неужели в этом и заключался секрет Вифлеема?
— Да, — подтвердила мама, — и из всех младенцев в Вифлееме в ту ночь у тебя была, наверное, самая мягкая постель. А животные согревали нас своим теплом, тогда как ночующие в постоялом дворе мерзли.
И снова вся семья засмеялась.
Это воспоминание порадовало всех, за исключением Иакова. Иаков мрачнел все сильнее. Его мысли устремились куда-то далеко. Насколько я мог судить, ему было лет семь, когда это произошло, примерно столько же, сколько мне сейчас. Разве мог я знать, о чем он думает?
Он посмотрел на меня. Наши глаза встретились, и что-то пробежало между нами. Он тут же отвернулся.
Я хотел, чтобы мама рассказала что-нибудь еще.
Но взрослые уже заговорили о других вещах — о хороших дождях, о сообщениях, что в Иудее устанавливается мир, о надеждах на то, что мы сможем отправиться в Иерусалим на празднование Песаха, если все так и дальше пойдет.
Я поднялся и вышел.
На улице было темно и холодно, но после нагретого воздуха комнат дышалось легко.
Я услышал еще не все, что случилось в Вифлееме! Наверняка было что-то еще. Я не в силах был собрать все кусочки воедино: все вопросы, события, сказанные слова и сомнения.
Я помнил свой ужасный сон. Я помнил человека с крыльями и те неприятные вещи, которые он говорил. Во сне они не задели меня. Но теперь они жалили меня снова и снова.
О, если бы только можно было поговорить с кем-нибудь! Но рядом не было никого, никого, кому я мог бы рассказать, что у меня на сердце. И никогда не будет!
Я услышал позади себя шаги, неуверенные, медленные шаги, а потом мне на плечо легла рука. По прерывистому дыханию подошедшего я догадался, что это Старая Сарра.
— Возвращайся в дом, Иисус бар Иосиф, — сказала она, — здесь слишком холодно. Нечего здесь стоять и смотреть на звезды.
Мне не хотелось уходить, но я повернулся и сделал, как мне было велено. Я вернулся со Старой Саррой в дом и вновь погрузился в теплое собрание членов семьи. На этот раз я лег, как мужчины, положив голову на согнутый локоть, и уставился на жаровню, где догорали угли.
Малыши начали капризничать. Мама встала, чтобы успокоить их, а потом позвала Иосифа помочь ей.
Мои дяди разошлись по своим комнатам спать. Тетя Есфирь сидела в другой части дома, с крошкой Есфирью, которая, как обычно, плакала навзрыд.
Только Старая Сарра сидела у стены, но не на полу, а на скамейке, потому что она была слишком стара, чтобы сидеть на полу. И еще Иаков был с нами. Он мрачно смотрел на меня, и в его глазах отражался огонь.
— В чем дело? — спросил я его. — Что ты хочешь сказать? — добавил я, но очень тихо.
— А? Что я слышу? — пробормотала Старая Сарра и тяжело поднялась. — Кажется, Старый Юстус? — спросила она у нас, прислушиваясь. И ушла в другую комнату. На самом деле с ее дядей было все в порядке, просто он так ослаб, что не мог глотать и кашлял.
Мы с Иаковом остались одни.
— Говори, что хотел, — сказал я ему.
— Люди видели кое-что, — выговорил Иаков с трудом. — Когда ты родился, они кое-что видели.
— Что?
Он отвел взгляд. Он сердился. В двенадцать лет мальчик принимает на себя иго Закона. А Иакову двенадцать уже исполнилось.
— Люди говорят, что они видели кое-что, — повторил он. — Но я скажу тебе только то, что видел сам, собственными глазами.
Я ждал.
Его глаза, холодные и требовательные, вновь обратились на меня.
— К нам пришли волхвы. К дому, где мы жили в Вифлееме. Мы там провели некоторое время и нашли хорошее жилье. Мой отец занимался делами, разыскивал родственников, встречался с ними. А вечером к нам пришли волхвы. Это мудрецы с востока, может быть, из Персии. Они умели читать по звездам и верили в чудеса, а еще они давали советы царям Персии о том, что делать и чего не делать в зависимости от знамений. С волхвами пришли их слуги. Они были богатыми людьми, в красивых одеждах. Они пришли и спросили про тебя. Они принесли дары. И называли тебя царем. От удивления я не мог говорить.
— Они сказали, что видели в небесах великую звезду, — продолжал Иаков, — и они пошли за ней, и она привела их к тому дому, где мы остановились. Ты был в колыбели. И они положили перед тобой дары.
Я ни о чем не смел спрашивать Иакова.
— Все в Вифлееме видели, как пришли волхвы со слугами. Они ехали на верблюдах, эти люди, и говорили властно. Так вот, тебе они кланялись. А потом они ушли. Это был конец их путешествия, и они были удовлетворены.
Не было никаких сомнений в том, что Иаков говорит правду. Ни одна ложь не сорвалась еще с губ моего брата Иакова, ни разу.
И еще я знал, что он догадывается о том, что это из-за меня тот мальчик в Египте сначала умер, а потом ожил. И он видел, как я оживил глиняных воробьев. Я почти забыл о том случае.
Царь. «Сын Давида, сын Давида, сын Давида».
В комнату вернулись женщины. И неизвестно откуда появились мои старшие братья.
Тетя Саломея собрала еду и хлеб, что оставались после ужина.
Старая Сарра вновь заняла свое место на скамье.
— Молитесь, чтобы это дитя проспало до утра, — пробормотала Старая Сарра.
— Не тревожься, — сказала тетя Саломея. — Рива даже когда спит, одним глазком все равно приглядывает за ними.
— Истинное благословение эта девушка, — заметила моя мама.
— Бедной Брурии уже не было бы с нами, если бы не эта девушка. Она заботится о Брурии, как будто та — ребенок. Бедная Брурия…
— Бедная Брурия…
И так далее.
Вскоре мама велела мне ложиться спать.
На следующий день мой брат Иаков избегал смотреть на меня. Ничего удивительного. Он и так почти никогда не смотрел в мою сторону. Дни шли, а он так и не взглянул на меня.
Зимние месяцы несли с собой холод.
Когда настало время праздновать Хануку, мы зажгли множество светильников в нашем доме. Если забраться на крышу, то было видно, что по всей деревне горят большие костры и в других деревнях тоже. А на улицах мужчины плясали с факелами в руках, как пляшут в Иерусалиме.
Наутро восьмого дня, когда праздник заканчивался, меня разбудили громкие крики, доносившиеся с улицы. Тут же все, кто был в комнате, проснулись и выскочили из дома.
Я даже не успел спросить, что случилось, и бросился вслед за всеми.
С неба лился ровный серый свет раннего зимнего утра. И Господь послал нам снег!
Весь Назарет был красиво укрыт снегом. И в воздухе парили крупные хлопья, и дети ловили их, как будто это листья падали с дерева, но снежинки таяли, лишь коснувшись ладони.
Иосиф смотрел на меня с загадочной улыбкой. Вместе со всеми мы вышли под безмолвный снегопад.
— Ты молился о снеге? — спросил он. — Что ж, вот тебе снег.
— Нет! — воскликнул я. — Я не делал этого. — Или?..
— Будь осторожен с тем, о чем ты молишься! — шепнул он мне. — Понимаешь?
Его улыбка стала шире, и он вывел меня со двора, чтобы я тоже прикоснулся к снегу. Его смех и радость прогнали мой испуг.
Но тут я заметил, что Иаков, стоявший в стороне от всех, под крышей, которая нависала над двором, смотрит на меня. Когда Иосиф отошел, Иаков подкрался ко мне и шепнул:
— Может, помолишься о том, чтобы с Небес посыпалось золото?
Мое лицо вспыхнуло жарким огнем.
Но Иаков уже был с другими мальчиками. И мы почти никогда, никогда не оставались с ним наедине.
Позже в тот день — на рассвете закончился восьмой день Хануки — я ушел в свою любимую рощу, единственное место во всем свете, где я мог побыть один. Снег лежал толстым слоем. На ногах у меня была намотана шерстяная ткань, а сверху надеты сандалии, но, пока я добрался до рощи, ткань промокла и я замерз. Остаться в роще надолго я не мог, но все же я постоял под деревьями, думая и разглядывая чудесный снег, спрятавший поля и одновременно украсивший их — как прячут и украшают женщину красивые одежды.
Каким свежим, каким чистым он казался!
Я стал молиться. Отец Небесный, скажи мне, что ты хочешь от меня. Скажи мне, что все это значит. «У всего есть своя история». А здесь какая история?
Я закрыл глаза, а когда открыл, то увидел, что небо подарило нам еще больше снега, и он стал завесой для Назарета. Я смотрел, и на моих глазах деревня медленно исчезала, но я знал, что она оставалась на месте.
— Отец Небесный, я не буду молиться о снеге, Отец Небесный, я не буду молиться о том, что не в Твоей воле. Отец Небесный, я не буду молиться, чтобы кто-то умер или жил, о нет, никогда, никогда не буду молиться, чтобы кто-то умер, и никогда, никогда, никогда я не попытаюсь призвать дождь или остановить дождь или призвать снег, никогда, пока не пойму, что это значит, все это…
И тут моя молитва превратилась в поток воспоминаний, и снежинки легли на мои ресницы, пока я смотрел вверх на деревья. Снег тихо падал мне на лицо, словно целовал меня.
Я спрятан в снегу, я спрятан и в безопасности, спрятан даже от себя самого.
Вдалеке кто-то звал меня.
Я очнулся от своей молитвы, очнулся от неподвижности, от мягкости снега, и побежал вниз по склону, и отзывался, и торопился к теплому огню и к семье, собравшейся вокруг него.
22
Мой первый год в Земле обетованной закончился тем же, чем и начался: празднованием еврейского Нового года.
Ирод Архелай и римские солдаты из Сирии установили порядок в Иудее — по крайней мере, видимость порядка, — так что мы сочли возможным пересечь земли Ирода Архелая, перейти долину Иордана и подняться в холмистые окрестности Иерусалима. То есть мы отправились праздновать Песах.
Я ощущал себя куда более взрослым человеком по сравнению с тем грустным и испуганным ребенком, что год назад шел по тому же пути, только в обратном направлении. Я узнал много новых слов, с помощью которых мог осмысливать увиденное. И мне нравилось путешествовать. Мне нравились улыбки и смех паломников. И я с радостью снова искупался в реке Иордан.
К мужчинам нашей семьи присоединились другие жители деревни, и их жены пошли с ними, и целая толпа молодых девушек в сопровождении отцов и матерей, и все мои новые друзья из деревни, многие из которых приходились мне родней, а многие — нет.
Дожди в этот год были хороши, все так говорили, и земля долго оставалась зеленой.
Старая Сарра тоже решила пойти в Иерусалим. Мы усадили ее на спину осла и радовались, что она с нами. Вокруг нее всегда толпились родственники. Моя мама была с нами, но тетя Есфирь и тетя Саломея остались дома, чтобы присматривать за малышами, и Маленькая Саломея осталась им помогать.
Беженка Брурия тоже присоединилась к нам, вместе со своей рабыней — гречанкой Ривой. Новорожденного сына Рива носила за спиной, что не мешало ей прислуживать всем и каждому.
Иосиф, беря с нами Брурию, надеялся на то, что, когда мы будем проходить ее родные места, она захочет вернуться домой и восстановить свои права на то, что осталось от ее дома и хозяйства. У Брурии сохранились письменные документы, подтверждающие эти права, кроме того, ее соседи и знакомые подтвердили бы, что Брурия жила там. Иосиф рассчитывал на это.
Но Брурия не собиралась так поступать. У нее вообще не осталось желаний. Она жила как будто во сне, всем помогала, но для себя ничего не хотела. И в ее отсутствие Иосиф попросил, чтобы мы никогда не судили ее, чтобы были к ней добры. Если она хотела остаться с нами навсегда, то пусть будет так. Ведь когда-то и мы были чужаками в египетской земле.
Никто и не возражал, чтобы Брурия осталась с нами, мама так и сказала. Рива же для женщин была большой подмогой, добавила тетя Саломея. Гречанка была скромна, как еврейские женщины, так же чистоплотна и трудолюбива и старалась соблюдать все наши обычаи.
Мы все полюбили Брурию и Риву. И когда Брурия прошла мимо места, где когда-то стоял ее дом, и ничего не сказала, нам стало жаль ее. Это была ее земля, и она должна была владеть ею.
А еще вместе с нами в путь отправились фарисеи. Они шли единой группой, с животными для женщин и стариков и со слугами. Также в Иерусалим захотели пойти и другие семьи из Назарета и из многих окрестных деревень тоже.
По дороге мы встретили наших родственников из Капернаума — рыбаков с их женами и сыновьями. Среди них были и Зебедей, возлюбленный брат моей матери, и его жена Мария Александра, которая тоже доводилась маме родственницей, а еще два далеких родственника Иосифа и много-много других, часть из которых я знал или помнил по рассказам, а других — нет.
Вскоре человеческому потоку на дороге уже не видно было конца. Все разговаривали и пели псалмы — так же как в первый день нашего пребывания в Иерусалиме в прошлом году. Мы пели самые красивые псалмы, которые назывались славословиями.
Когда мы стали подниматься вверх по холмам от реки Иордан к Священному городу, я почувствовал, что ко мне возвращается мой страх. Мне захотелось обнять маму, только я не хотел, чтобы кто-то еще узнал о том, что я боюсь. Уже давно ночные кошмары перестали мучить меня, но теперь они вернулись. Укладываясь спать, я всегда старался найти местечко поближе к Старой Сарре, потому что, когда я просыпался от плача, ее голос сразу успокаивал меня и прогонял страшные сны прочь. Я знал, что в таких случаях обычно просыпался и Иаков, а мне очень не хотелось, чтобы он знал о моих слезах. Я хотел быть сильным, быть настоящим мужчиной.
Путешествие наше оказалось совсем не трудным. По дороге мы радовались, глядя на то, как отстраиваются заново сожженные деревни. Иерихон уже отремонтировали, и он стоял во всей своей красе. Вокруг него росли прекрасные финиковые пальмы, и рощи бальзамового дерева тоже оправились от недавних пожаров.
Должен сказать, что бальзамовое дерево не растет больше нигде в мире, только здесь, из него получают очень ценное ароматическое масло и продают во всем мире, получая взамен много денег. Особенно охотно это масло покупали в Римской империи.
В этом году я видел Иерихон, залитый солнцем, а не в языках пламени, внушающих ужас и страх. Разумеется, всем захотелось посмотреть на фундамент, заложенный для строительства нового дворца, и на то, как работали плотники. Мои дяди осмотрели все, от подготовленных для укладки каменных плит до площадок, очищенных от леса для строительства новых покоев Архелая.
Сразу после Иерихона мы направились в деревню, где в прошлом году расстались с Елизаветой и ее сыном Иоанном.
Чем ближе мы подходили к этой деревне, тем сильнее волновалась мама, а также Зебедей и его жена. От Елизаветы уже давно не приходило писем.
Когда мы прибыли, их домик встретил нас заколоченными дверями. Я боялся, что это станет для мамы ударом, и так оно и случилось, но она справилась с чувствами.
Вскоре мы нашли своих дальних родственников, которые рассказали нам, что Елизавета, жена священника Захарии, месяц назад слегла, и после этого ее забрала к себе родня из Вифании, что находится возле Иерусалима. Она больше не могла говорить, сказали нам, и почти не двигалась. А Маленький Иоанн отправился жить к ессеям в пустыню. Несколько ессеев пришли за ним, чтобы отвести в предгорья на берегу Мертвого моря.
Наконец мы миновали долгие горные перевалы и вышли к горе Елеонской, откуда через долину Кедрона открывался величественный вид на Священный город. Выше всего поднимались к небу белые стены храма, украшенные золотом, а на холмах вокруг них рассыпалось во все стороны множество маленьких домиков.
Все заплакали от радости и стали благодарить Господа за то, что увидели Иерусалим. Но меня все не отпускал страх, однако я никому не говорил об этом. Иосиф поднял меня, чтобы мне было лучше видно, но скоро опустил на землю, так как я был уже слишком тяжел, чтобы носить меня на руках. Дети шныряли между взрослых, стараясь пролезть в передний ряд. Я не побежал за ними.
Я ощущал страх как болезнь, поднимающуюся вверх по горлу, от которой мне было не спрятаться. Не помогало даже солнце в небесах. Я не видел его. Я не видел ничего, кроме тьмы. Думаю, Старая Сарра догадалась о моих чувствах, потому что она обняла меня и прижала к себе. Мне полегчало от запаха ее шерстяных одежд и мягкого прикосновения ее ладони.
Закончив молиться, люди стали показывать друг другу, где стояли обгоревшие колонны и где шло новое строительство. Все заспорили, пытаясь понять, что осталось целым, а что отстроено заново.
— Что же, такой поворот событий весьма устраивает плотников и каменщиков, — с горечью в голосе пробормотал Клеопа. — Кто-то сжигает и ломает, а мы строим.
Мы засмеялись, потому что это была правда, но Иаков сердито уставился на Клеопу, как будто не хотел, чтобы тот говорил подобные вещи.
Мой дядя Алфей тоже вставил слово:
— Да, плотники и каменщики Иерусалима всегда довольны. Они трудятся над храмом с самого рождения, по крайней мере большинство из них!
— И закончить никогда не смогут, — подхватил Клеопа. — Да и зачем? У нас ведь есть цари с кровью на руках; стремясь искупить вину, они строят великие храмы, словно это сделает их праведниками в глазах Господа. Ну и пусть строят. Пусть приносят жертву. Пророки уже сказали про их жертвы…
— Достаточно разговоров против царей, — перебил его Алфей, — мы входим в город.
— И так сказали пророки, — тихо добавил Иосиф со скупой улыбкой.
Клеопа еле слышно повторил слова пророка:
— Да, Я — Господь, Я не изменяюсь.
И они продолжали говорить о том, что наш храм был самым великим храмом в мире. Но все это я слышал сквозь страх, сжимающий мою душу, и вспоминал тела во дворе храма, а еще — бесконечное, невыносимое горе, которое говорило: «Кроме горя, ничего тебе не суждено более». Это навсегда останется со мною.
И вновь меня кто-то приподнял. Это был мой дядя Алфей.
Я взглянул на храм, борясь со страхом, поражаясь вновь размеру величественного строения и тому, что город, казалось, растет в стороны от храма и держится на нем. Город — часть храма. Город — ничто без него. В Иерусалиме нет никакого другого храма, кроме этого. И его бело-золотые стены действительно прекрасны — яркие, чистые, нетронутые, по крайней мере с этого расстояния.
Да, в городе есть и другие крупные здания. Дядя Клеопа указал на огромный дворец Ирода и на башню Антония, высившуюся рядом с храмом и всегда полную солдат. Но по сравнению с храмом они — ничто. Храм — это Иерусалим. Я понял это. И солнечный свет засиял для меня снова. Страх, тяжелые воспоминания, мрак — ушли.
Мама захотела добраться до Вифании, которая находилась совсем недалеко от места, где мы стояли. Она мечтала повидать Елизавету, свою возлюбленную сестру. Но наши родственники предложили сначала спуститься с холмов и войти в Иерусалим, чтобы найти жилье на дни празднования. Поэтому мы пошли в Иерусалим.
Дорога была забита людьми, их становилось все больше, поэтому мы шли медленно и иногда вообще останавливались, а чтобы поддержать наш дух, пели псалмы.
Когда мы подошли к самому городу, оказалось, что самое трудное еще впереди: нам предстояло пройти через ворота, а толпа давила на нас, и все малыши очень устали. Кое-кто из детей плакал. Другие заснули на руках у матерей. Я считал себя уже слишком взрослым, чтобы проситься на руки, и шел сам, поэтому мне было не видно, куда мы идем и что собираемся делать.
Как только мы оказались на узких городских улицах, до нас докатились слухи, что все синагоги переполнены, дома заняты паломниками и что город не вмещает всех прибывших. Тогда Иосиф решил, что мы вернемся и пойдем в Вифанию, где жили наши родственники. Он рассчитывал на то, что мы сможем разбить там лагерь.
Нам-то казалось, что мы придем в Иерусалим прежде многих, заранее. Мы надеялись пройти очищение в храме — тот же самый ритуал, что мы проводили и в деревне, с пеплом, и «живой» водой, и двумя окроплениями, только нам хотелось пройти его и в храме.
Однако довольно скоро стало понятно, что с теми же намерениями в город пришло множество других людей. Праздник Песаха привлек в Иерусалим весь мир.
В такой давке вполне естественными были ссоры, а некоторые паломники даже кричали друг на друга. Когда я услышал крики, у меня застучали зубы. Но насколько я мог видеть, никто не дрался. Высоко, по верху стен, ходили солдаты, я старался не смотреть на них. У меня болели ноги, я хотел есть, но знал, что все чувствуют себя так же.
Мы долго и с трудом выбирались обратно из города, а затем поднялись в холмы и пошли в деревню Вифанию. Я так устал, что решил оставить на завтра всю свою радость и благодарность за возможность снова увидеть Иерусалим.
День еще не закончился, но уже начал клониться в сумерки. Повсюду вдоль дороги в Иерусалим и в Вифанию, прямо под открытым небом люди устраивались на ночь. Мама и Иосиф взяли меня за руки, и мы отправились искать Елизавету.
Дом родственников, приютивших ее, был большим и богатым, с ровными каменными плитами, недавно покрашенный, с узорчатыми занавесками на дверях. Нас встретил молодой человек — такой благовоспитанный, что сразу становилось понятно: он богатый. Одет он был в белоснежные одежды, на ногах носил хорошо пошитые сандалии. Черные волосы и борода блестели от ароматического масла. С гостеприимной улыбкой он приветствовал нас на пороге своего дома.
— Это твой родич Иосиф, — тут же сказала мне мама. — Иосиф — священник, и его отец Каиафа — священник, и его отец раньше был священником. Это наш сын Иисус, — обратилась она к мужчине, положив руку мне на плечо. — Мы пришли навестить мою сестру Елизавету, жену Захарии. Нам сказали, что она больна и что вы приютили ее по доброте своей, за что мы несказанно вам благодарны.
— Елизавета и моя сестра, так же как и твоя, — ответил молодой человек мягким голосом. У него были быстрые темные глаза, и он открыто улыбнулся мне, и я перестал бояться его. — Входите в дом, прошу вас. Я бы предложил вам остаться у нас на ночь, но вы сами видите: у нас все занятно. Дом переполнен…
— Что ты, мы пришли совсем не за этим, — быстро заговорил Иосиф. — Мы только хотим навестить Елизавету. Но не позволишь ли ты нам разбить лагерь неподалеку от твоего дома? Видишь ли, нас пришло довольно много, из Назарета, и из Капернаума, и из Каны.
— Прошу вас, располагайтесь, — ответил молодой священник. Он пригласил нас следовать за ним. — Елизавету вы найдете спокойной, но молчаливой. Не знаю, вспомнит ли она вас, не стоит сильно надеяться на это.
После долгого пути по холмам наши одежды и обувь были покрыты пылью, и, входя в дом, мы пачкали полы. Я видел это, но мы ничего не могли с этим поделать. К тому же в каждой комнате мы встречали паломников, сидящих и лежащих на одеялах, то и дело мимо нас пробегали женщины с кувшинами и другой утварью, и в результате в доме уже и без нас было довольно грязно. Так что нам оставалось лишь идти дальше.
Мы вошли в комнату, в которой находилось столь же много постояльцев, сколько и в других, но в ней были большие окна, сквозь которые в помещение лился предзакатный свет, отчего воздух в комнате казался теплым. Иосиф провел нас в дальний угол, где на поднятой над полом постели, среди подушек и одеял, укутанная белыми шерстяными одеждами лежала Елизавета. Она смотрела в окно. Думаю, она следила за движениями зеленых листьев на дереве.
Из уважения к вновь прибывшим люди в комнате затихли. Наш родич нагнулся к Елизавете и взял ее за руку.
— Жена Захарии, — тихо проговорил он, — к тебе пришли родственники.
Елизавета не шевельнулась.
Мама опустилась перед постелью, поцеловала Елизавету и заговорила с ней, но вновь ответа не было.
Елизавета неотрывно смотрела в окно. Она выглядела теперь гораздо старше, чем год назад. Ее руки иссохли и искривились в запястьях под странным углом. Она выглядела почти такой же старой, как наша возлюбленная Сарра. Как поникший цветок, готовый упасть с лозы.
Мама обернулась к Иосифу и припала к нему, плача. Наш родич Иосиф покачал головой и сказал, что они делают все, что только в их силах.
— Она не страдает, — утешал он маму. — Видишь, она просто дремлет.
Но мама никак не успокаивалась, поэтому я вышел вместе с ней, пока Иосиф говорил с нашим родственником. Они вместе вспомнили всех своих предков и определили точные связи между нашими семьями, рассказали, кто на ком женат и кто куда уехал, — обычная беседа глав семей. А мы с мамой ждали Иосифа на улице, где еще не совсем стемнело.
Дяди и Старая Сарра уже расстелили одеяла и уселись отдыхать. Наш лагерь был разбит в хорошем месте, чуть в стороне от основной массы паломников и недалеко от колодца.
Несколько наших родственников из дома, где лежала Елизавета, вышли к нам и предложили еду и питье, и наш родич Иосиф тоже был с ними. Все они были одеты в белые одежды, и все говорили красиво и обращались с нами ласково, возможно, даже более ласково, чем с себе подобными.
Самый старший из них — отец Иосифа по имени Каиафа — поговорил с нами и пояснил, что мы находимся настолько близко с Иерусалимом, что можем праздновать Песах прямо здесь, в Вифании. Нам не нужно беспокоиться о том, что мы не вошли в городские стены. Что такое стены? Мы побывали в Иерусалиме и находимся в Иерусалиме сейчас и, как только окончательно стемнеет, даже увидим огни города.
Потом к нам пришли еще несколько женщин из дома и предложили одеяла, но у нас было достаточно своих.
Затем Старая Сарра и мои дяди отправились навестить Елизавету, пока не стало слишком поздно. Иаков тоже пошел с ними.
Когда все мы собрались вместе, а наши богатые родственники ушли в Иерусалим исполнять свои обязанности в храме, Старая Сарра сказала, что ей понравился молодой Иосиф бар Каиафа, что он приятный человек.
— Они потомки Садока, и это самое главное, — ответил Клеопа. — Остальное не так уж важно.
— Почему они такие богатые? — спросил я.
Мой вопрос всех насмешил.
— Они разбогатели за счет шкур, остающихся после жертвоприношений, — ответил мне Иосиф, — и это принадлежит им по праву. — Он не смеялся со всеми. — И еще потому, что они происходят из богатых семей.
— Ну да, а как же иначе? — хмыкнул Клеопа.
— О богатых всегда говорят плохое, — заметила Старая Сарра.
— А что хорошего можешь сказать о них ты, старая женщина? — тут же спросил Клеопа.
— А, собранию мудрейших угодно выслушать меня! — воскликнула Сарра. Снова раздался смех. — Да, мне есть что сказать о них. Как ты думаешь, стал бы их кто-нибудь слушать, если бы они были бедняками?
— Среди священников много бедняков, — вскинулся Клеопа. — Ты знаешь это не хуже меня. В нашей деревне священники бедны. Захария был беден.
— Нет, он не был беден, — не согласилась с ним Старая Сарра. — Богатым его нельзя назвать, но бедным он никогда не был. И конечно, среди священников много таких, которые кормятся своим трудом, они вынуждены это делать. И они предстают перед лицом Господа. Но те, кто стоит на самом верху, те, кто охраняет храм? Разве может охранять храм человек, которого не боятся другие люди?
— Какая разница, кто они? — спросил Алфей. — Если они выполняют свои обязанности, если они не оскверняют Святилища, принимают жертвы из наших рук — мне все равно, кто они.
— Да, нет никакой разницы, — сказал Клеопа. — Старый Ирод назначил первосвященником Иоазара, потому что тот подходил ему. А теперь Архелай хочет поставить своего человека. Как давно уже Израиль не избирал первосвященника? Как давно уже Господь не избирал первосвященника?
Я поднял руку, как в школе, и дядя Клеопа обернулся ко мне.
— Откуда люди знают, — спросил я, — что священники выполняют то, что должны выполнять?
— Все пристально наблюдают за ними. — Мне снова отвечал Иосиф. — Наблюдают другие священники, наблюдают левиты, писцы, фарисеи.
— О да, фарисеи наблюдают, и еще как! — усмехнулся Клеопа.
И мы дружно засмеялись. Мы любили нашего фарисея рава Иакима. Но он и вправду всегда строго следил за тем, как соблюдаются правила.
— А ты, Иаков? — обратился к моему брату Клеопа. — У тебя нет вопросов?
Впервые я увидел, что Иаков глубоко задумался. Когда он поднял взгляд, его лицо было мрачным.
— Старый Ирод один раз убил первосвященника, — сказал он тихо. Он говорил, как другие мужчины. — Он убил Аристобула, потому что тот был прекрасен, выходя к людям. Это верно?
Мужчины закивали, и Клеопа подтвердил:
— Да, это верно. — Он повторил слова Иакова: — Он утопил Аристобула за то, что тот был прекрасен, выходя к людям. Все знали о том, что его погубили за то, что он выходил к людям в красивом облачении и люди любили его за это.
Иаков отвернулся.
— Что это за разговоры! — нахмурился Иосиф. — Мы пришли в Дом Господа, чтобы принести жертву. Мы пришли, чтобы очиститься. Мы пришли вкусить от Песаха. Давайте же прекратим эти разговоры!
— Да, забудем их, — кивнула Старая Сарра. — Говорю вам, Иосиф бар Каиафа — прекрасный молодой человек. А когда он женится на дочери Анны, то станет еще ближе к властям предержащим.
Мои тети и Александра согласились с ней. А Клеопа очень удивился.
— Мы не пробыли здесь и двух часов, а вы, женщины, уже знаете, что Иосиф собирается жениться! И как вы умудряетесь все так быстро разузнать?
— Да это всем известно, — ответила Саломея. — Если бы ты отвлекся на минуту от цитирования пророков, то тоже это знал бы.
— Кто знает, — задумчиво сказала Старая Сарра, — может, Иосиф бар Каиафа однажды станет первосвященником!
Я понимал, почему она так сказала, хотя Иосиф был еще довольно молод. В его манере двигаться и говорить было что-то такое, что привлекало к нему людей, располагало их к нему. Он был добр ко всем; встречая нас, он действительно беспокоился о том, как мы устроимся, несмотря на то что мы небогаты. В его черных глазах проглядывала сильная душа.
И об этом же сейчас спорили мои дяди и тети, особенно горячились мужчины и говорили своим женщинам помолчать, твердили, что женщины вообще ничего в этом не понимают, а некоторые даже настаивали на том, что назначения нового первосвященника еще не случилось. И все-таки все они понимали, что в любой момент Архелай может сменить первосвященника. Как только пожелает.
— Да неужели ты стала пророком, Сарра, — спрашивал Клеопа, — что стала предсказывать, кто станет первосвященником?
— Вероятно, — отвечала Сарра. — Я знаю, что молодой Иосиф достаточно хорош, чтобы быть первосвященником. Он умен и благочестив. Он наш родственник. Он… он тронул мое сердце.
— Ну что ж, дадим ему время, — согласился Клеопа. — И да будут благословенны наши родичи за то, что так гостеприимно приютили нас. — Затем Клеопа повернулся к Иосифу, который молчал все это время. — А ты что скажешь?
Иосиф вскинул голову, улыбнулся и поднял глаза к небу, шутливо изображая глубочайшую задумчивость, а потом сказал:
— Иосиф бар Каиафа высокий человек. Очень высокий. И стоит он высоко, и руки у него длинные, которые двигаются плавно, как птицы, плывущие в небе. И он женится на дочери Анны, нашего брата, что родствен дому Боэта. Да, он будет первосвященником.
И мы все рассмеялись. Даже Старая Сарра смеялась.
Я поднялся.
Страх покинул меня, но тогда я еще не знал этого.
Нас ждал сытный ужин, и он удался на славу.
Из дома Каиафы нам принесли густую похлебку из чечевицы с множеством специй. И еще восхитительную пасту из соленых оливок в масле и сладкие финики, которые мы редко ели дома. И как всегда, было вдоволь пирогов с сушеными фигами, очень сытных и вкусных. Хлеб был свежим, легким и теплым — только что из печи.
Жена Каиафы, мать Иосифа, стояла в дверях своего дома, лично наблюдая за тем, как нам подают вино. Ее накидка была надлежащей длины и скрывала волосы. Виднелась лишь малая часть ее лица. Я разглядел ее в свете факелов. Она приветливо махнула всем рукой и вернулась в дом.
Мы говорили о храме, о нашем очищении, о самой трапезе — из горьких трав, пресного хлеба и жареного мяса — и о молитвах, которые мы скажем. Мужчины повторили все это, чтобы мы, мальчики, все поняли, но раввины в школе уже рассказывали нам о проведении Песаха, и мы знали, чего ожидать и что делать.
И мы стремились исполнить все ритуалы Песаха, потому что в прошлом году из-за сражений и страха у нас вообще не было праздничной трапезы. Мы хотели предстать перед Господом хотя бы в этом году, как требовал от нас Закон.
Должен сказать, что Иаков к этому времени уже закончил школу. Ему исполнилось тринадцать лет, и перед Господом он был мужчиной. И Сила с Левием, которые были еще старше, тоже больше не ходили в школу. Они оба соображали весьма медленно. Раввины не хотели, чтобы они бросали занятия, но братья часто отпрашивались под предлогом, что им нужно помогать взрослым. На самом деле им нравилось работать. Поэтому я думаю, что, когда мужчины повторили для нас все ритуалы и правила Песаха, Сила и Левий были рады.
Когда мы заканчивали ужин, к нам пришли мальчики из соседних лагерей. Они вели себя достаточно дружелюбно. Но я думал о Иоанне бар Захарии, который ушел вместе с ессеями. Мне было интересно, доволен ли он жизнью.
Говорили, что он сейчас был далеко-далеко в пустыне. И как же часто он мог видеться со своей матерью? Если бы он пришел к ней сейчас, узнала бы она его или нет? Нет, зачем я об этом думаю? Мне снова вспомнились те давнишние загадочные слова о том, что его рождение было предсказано. И моя мать пошла к его родителям, когда узнала, что скоро родит меня. Мне ужасно хотелось увидеться с Иоанном. Доведется ли нам встретиться?
Все знали о том, что ессеи не приходят на Песах. Ессеи держатся обособленно, ведут более строгий образ жизни, чем даже фарисеи. Ессеи мечтают об обновленном храме. Однажды в Сепфорисе я видел группу ессеев, все они были в белых одеждах. Это был отдельный народ. Они считали, что только они могут называться истинным Израилем.
В конце концов я не стал играть с мальчиками, хотя мне хотелось отвлечься, но вместо этого я нашел Иосифа. Уже было совсем темно, и город под нами наполнился светом. Огни храма горели ярко и красиво. На самом деле я искал дядю Клеопу, но не мог же я бродить по всей деревне и стоянкам паломников.
А Иосиф смотрел на город и, наверное, слушал музыку, потому что до нас доносилось пение и звон кимвал. В руках у него была чашка с вином, и он время от времени делал глоток. Рядом с ним, как ни странно, никого не было.
Без лишних разговоров я прямо спросил его:
— Увидимся ли мы когда-нибудь с Иоанном?
— Кто знает? — вопросом на вопрос ответил он. — Ессеи живут за Мертвым морем, у подножия гор.
— Ты веришь в то, что они хорошие люди?
— Они — дети Авраама, как и все мы, — сказал он. — Ессей — далеко не самый худший путь для человека. — Он помолчал минутку, а потом продолжил: — Таковы уж евреи. Ты ведь знаешь, что в нашей деревне есть люди, которые не верят в Воскресение последнего дня. И есть в нашей деревне фарисеи. А ессеи, они верят всем сердцем и очень стараются угодить Господу.
Я кивнул.
Да, я знал, что все в нашей деревне хотели пойти в храм и что для них очень важно соблюсти все праздники как положено. Но я не сказал этого. Я не сказал этого потому, что слова Иосифа показались мне верными. Вопросов у меня больше не было.
Меня переполняла печаль. Мама очень сильно любила свою родственницу Елизавету. Я видел их мысленно, двух женщин, обнимающихся в последний раз. И мне было бы очень любопытно поговорить с Иоанном. В нем была какая-то необычная серьезность — да, правильное слово, наконец-то я его нашел! — серьезность, которая влекла меня к нему.
Другие мальчики в лагере были очень дружелюбны ко мне, и сыновья священника говорили гладко и любезно, но мне не хотелось быть с другими людьми.
Иосиф остался сидеть, а я ушел. Он запретил мне спрашивать о тех вещах, что тяжким грузом висели на моем сердце. Запретил.
Я лег на постеленную для меня циновку и почувствовал, что хочу спать, хотя небо надо мной только начало наполняться звездами.
Вокруг меня не прекращался спор взрослых; одни говорили, что нынешний первосвященник нехороший человек, что Ирод Архелай был изначально не прав, поставив его на это место, а другие утверждали, что первосвященник вполне приемлем и что нам нужен только мир, что мы не хотим восстаний.
Их сердитые голоса пугали меня.
Я поднялся, свернул циновку, вышел из лагеря и направился на склон холма, освещенный звездами. Как же хорошо было уединиться!
Неподалеку были разбиты другие стоянки, но все они были меньше нашей — маленькие группы людей вокруг неярких точек-костров, рассыпавшиеся по холмам, а над ними бледная красавица луна в окружении звездочек. Я видел, как повсюду в черном небе вспыхивали все новые и новые звезды, складываясь в замысловатые узоры.
У меня под ногами шелестела мягкая, сладко пахнущая трава, воздух по ночам уже остывал не так сильно. Я подумал об Иоанне: видит ли он эти звезды в далекой пустыне?
Неожиданно мое одиночество было нарушено. Ко мне подошел Иаков. Он плакал.
— Что с тобой? — спросил я, поднимаясь с циновки и беря его за руку.
Никогда я не видел своего старшего брата в таком состоянии.
— Мне нужно сказать тебе, — проговорил он сквозь слезы. — Прости меня. Прости за все плохое, что я тебе говорил. Прости за… за то, что я плохо к тебе относился.
— Плохо относился ко мне? Иаков, о чем ты?
Нас никто не слышал. Вокруг было темно. Никто не заметил нас.
— Я не смогу пойти завтра в храм, пока на сердце у меня такой груз. Я так плохо относился к тебе.
— Да нет же, — сказал я ему. Я протянул руки, чтобы обнять его, но он отпрянул от меня. — Иаков, ты не делал мне ничего плохого!
— Я не имел права рассказывать тебе о том, что в Вифлеем приходили волхвы.
— Но я же хотел узнать об этом, — возразил я. — Я хотел знать, что случилось, когда я родился. Я хочу знать все, Иаков. Ах, если бы ты рассказал мне, что тогда произошло…
— Я рассказал тебе о волхвах не потому, что ты хотел этого. Я сделал это, чтобы доказать, что сильнее тебя! — прошептал он. — Я сделал это, чтобы показать, что я знаю то, чего ты не знаешь!
Это правда, я знал это. Это нелегкая правда. Иаков всегда умел говорить такую нелегкую правду.
— И все-таки ты сказал мне то, что я очень хотел знать, — сказал я. — И поэтому для меня было хорошо, что ты рассказал мне это.
Он замотал головой. Слезы еще быстрее полились из его глаз. Он плакал, как плачут мужчины.
— Иаков, ты понапрасну расстраиваешься. Говорю тебе, я люблю тебя, ты мой брат. Не страдай из-за этого.
— Мне нужно сказать тебе кое-что еще, — вновь прошептал он, словно мы не могли разговаривать вслух. Вокруг нас не было никого, только мы двое на темном склоне под луной. — Я ненавидел тебя с самого твоего рождения, — послышались его слова. — Я ненавидел тебя еще до того, как ты родился. Ненавидел за то, что ты пришел!
Мое лицо горело. Я весь покрылся мурашками. Никто и никогда не говорил мне такое. Прошло несколько секунд, прежде чем я выговорил:
— Я не обиделся.
Он не ответил.
— И вообще я не знал, что ты ненавидишь меня, — продолжал я. — То есть нет. Наверное, я знал, но думал, что это пройдет. И вообще не обращал на это внимания, даже если знал.
— Ты только послушай себя, — проговорил Иаков с очень печальным видом.
— А что?
— Ты мудрее своих лет, — ответил мне брат, в тринадцать лет высокий как мужчина. — У тебя не такое лицо, какое было, когда мы покидали Египет. У тебя было лицо мальчика, а глаза такие же, как у твоей матери.
И я понял, что он хотел сказать этим. Мама всегда выглядела как ребенок. Но я и не догадывался, что я теперь не такой.
Я не знал, что сказать на это.
— Прости меня за эту ненависть, — сказал Иаков. — Я искренне прошу прощения. И я всегда буду любить тебя и буду верен тебе.
Я кивнул.
— Я тоже люблю тебя, брат мой, — сказал я.
Иаков лишь молча утирал слезы.
— Ты позволишь мне обнять тебя? — спросил я.
Он согласно кивнул, и мы обняли друг друга. Я крепко прижался к нему и чувствовал, как он дрожит. Вот как тяжело ему было.
Я медленно отодвинулся. Он не отвернулся и не ушел.
— Иаков, — спросил я, — почему ты ненавидел меня?
Он вздохнул.
— Причин слишком много, — ответил он. — И всего я не могу тебе сейчас сказать. Когда-нибудь ты поймешь.
— Нет, Иаков, скажи мне сейчас. Я должен знать. Умоляю тебя. Скажи.
Он надолго задумался.
— Нет. Я не тот человек, кто может рассказать тебе, что было.
— Кто же этот человек? — воскликнул я. — Иаков, скажи мне, почему ты стал ненавидеть меня. Скажи мне хотя бы это. Почему?
Он смотрел на меня, и лицо его снова было полно ненависти. А может, это была всего лишь боль. В темноте его глаза горели огнем.
— Я скажу тебе только, почему я должен любить тебя, — сказал он наконец. — Когда ты родился, явились ангелы. Вот почему я должен любить тебя! — Он снова заплакал.
— Это тот ангел, что приходил к маме? — уточнил я.
— Нет. — Он замотал головой. Он улыбнулся, но то была горькая, мрачная улыбка. — Ангелы пришли в ту самую ночь, когда ты родился. Мы были в Вифлееме, на постоялом дворе, то есть в хлеву при постоялом дворе. Вокруг нас было навалено сено, стояли животные, а мы все собрались в одном углу, а рядом сидели другие люди, потому что места в городе не было. И твоя мать родила тебя у дальней стены, не издав ни звука. Она не кричала и даже не плакала. Ей помогала тетя Саломея, и они подали тебя моему отцу, чтобы он посмотрел на тебя. И я тоже увидел тебя. Ты плакал, как плачут младенцы — потому что они не умеют еще говорить. Потом тебя спеленали свивальником, как пеленают младенцев, чтобы они не шевелились и не поранились случайно. И тебя положили в ясли, прямо в мягкое сено, потому что колыбели у нас не было. Твоя мать лежала в объятиях тети Саломеи. Только тогда она заплакала, и то был ужасный плач.
К ней подошел мой отец. Ее прикрыли, лоскуты и тряпки, принесенные для родов, убрали. Он обнял ее. «Почему здесь? — плакала она. — Разве мы что-то сделали не так? И нас теперь наказывают за это? Почему в этом хлеву? Как так могло случиться?» Вот что она спрашивала. И он не знал, что ответить.
Понимаешь? Ангел явился ей и возвестил о твоем рождении, а роды случились в хлеву.
— Понимаю, — ответил я.
— Слушать, как она рыдала, было невыносимо, — повторил Иаков. — И мой отец не знал, что сказать ей. Но вдруг открылась дверь, и в хлев ворвался холодный воздух, и все укутались плотнее и закричали, чтобы дверь закрыли. Оказалось, что пришли какие-то мужчины и с ними мальчик со светильником в руках. Это были пастухи. Их ноги были обернуты овчиной, чтобы не замерзнуть на снегу, и так все догадались, что они пастухи.
Ты, конечно же, знаешь, что пастухи никогда не оставляют свое стадо, во всяком случае, не посреди ночи, не зимой, но они все бросили и пришли в хлев, и лица у них были такие, что все, кто был в хлеву, поднялись и собрались вокруг них, все до единого. И я тоже.
Можно было подумать, что светильник зажег их лица! Никогда я не видел таких лиц!
Они направились прямо к яслям, где лежал ты, и посмотрели на тебя; и они опустились на колени, и коснулись земли головами, и подняли руки кверху.
Они вскричали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Все уставились на них.
Твоя мать и мой отец ничего не сказали, только посмотрели друг на друга. А потом пастухи поднялись на ноги, повернулись направо, потом налево, рассказывая всем, что к ним в поле явился ангел, прямо посреди снега, где они караулили свой скот. Никто не остановил их рассказ. И все, кто находился в ту ночь в хлеву, столпились вокруг пастухов.
Один из них поведал, что ангел сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях».
Иаков замолчал.
Весь его облик переменился. Исчезли, как и не бывало их, всякий гнев и слезы. Лицо его смягчилось, а глаза широко раскрылись.
— Христос Господь, — повторил он. Он не улыбался. Он вновь оказался в Вифлееме, в ту самую минуту, и он был сейчас с пастухами. Голос его был тих и полон умиротворенности.
— Христос Кириос, — повторил он на греческом языке, ведь мы с ним говорили на нем большую часть наших жизней. — Радость переполняла их, тех пастухов. Восторг. Вера. Никто не мог усомниться в их словах. Никто.
Иаков умолк. Казалось, воспоминания полностью захватили его.
Я не мог вымолвить ни слова.
Так вот что скрывали от меня. Да, и я знал, почему скрывали. Но теперь мне известно начало, и я намерен узнать все остальное! Я должен узнать, что сказал ангел, явившийся моей маме. Я должен знать все. Я должен знать, почему я обладал властью забирать и давать жизни, властью останавливать и призывать дождь и снег, если я вообще обладал ею, и что мне с этой властью делать. Я больше не мог ждать. Мне необходимо знать.
И больше всего меня пугали слова, сказанные Клеопой, — о том, что мне придется давать ответы людям.
Все эти сведения и чувства уже не умещались в моей голове. Я даже не знал, как задать вопросы, которые пока оставались без ответа.
И Иаков, мой брат, вдруг показался мне маленьким, хотя стоял рядом со мной. Он превратился в нечто хрупкое и далекое. На мгновение я ощутил, что вообще далек от всего того, что окружает меня, — от этого холма, травы, горных вершин за Иерусалимом, от обрывков песен и музыки, доносившихся издалека, и от всплесков смеха, — но что все это бесконечно прекрасно и что я люблю все это и люблю моего брата Иакова, особенно его. Я люблю его всем сердцем и понимаю его и его печаль. Он снова заговорил, и глаза его двигались, как будто он видел то, о чем рассказывал.
— Те пастухи, они сказали, что Небеса полны ангелов. Что в Небесах сонм ангелов. Они воздевали руки кверху, когда говорили это, словно снова видели ангелов. И они сказали, что ангелы пели такие слова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Иаков склонил голову. Плакать он перестал, но слезы оставили его усталым и опустошенным.
— Ты только вообрази, — сказал мой брат по-гречески. — Небеса от края и до края. И они видели это и пришли в Вифлеем в поисках младенца, что лежал в яслях, как велели им ангелы.
Я ждал.
— Как же я мог ненавидеть тебя за это? — вопросил Иаков у самого себя.
— Ты был тогда совсем маленьким мальчиком — еще младше, чем я сейчас, — предположил я.
Он мотнул головой.
— Ты слишком добр ко мне, — проговорил Иаков едва слышно. Я еле разбирал его слова. — Я не заслужил твоей доброты. Я плохо относился к тебе.
— Но ты же мой старший брат, — напомнил я.
Краем туники он вытер еще влажное лицо.
— Нет, — сказал Иаков. — Я ненавидел тебя, — повторил он. — А это грех.
— А куда делись те люди, пастухи, которые рассказали об ангелах? — спросил я. — Где они сейчас? Как их зовут?
— Не знаю, — ответил брат. — Они потом ушли, в снегопад. И на своем пути рассказывали всем то же самое, что и нам. Они вернулись к своим стадам. Они должны были вернуться. — Он смотрел на меня. В лунном свете я увидел, что ему стало чуть легче. — Но понял ли ты, как обрадовалась твоя мать? Нам было знамение. И она уснула рядом с яслями, где лежал ты.
— А Иосиф?
— Называй его отцом.
— А отец?
— Он был таким, как всегда: слушал, мало говорил. И когда люди в хлеву стали расспрашивать его, он не дал им ответов. Люди подходили один за одним, опускались на колени, чтобы посмотреть на тебя, и молились, а потом возвращались на свои места, в углы хлева, под одеяла. На следующий день мы нашли другое жилье. Но все в городе уже знали о тебе. К нам в дверь постоянно стучали, просили разрешения взглянуть на тебя. Приходили даже старики, еле держащиеся на ногах. Приходили юные мальчики. Но Иосиф сказал, что мы не задержимся в Вифлееме надолго. Дождемся только, когда тебе можно будет сделать обрезание и принести жертву в храме. И волхвы с востока тоже пришли в тот дом. Если бы только волхвы не сказали Ироду…
Неожиданно Иаков замолчал и отвернулся от меня.
— Если бы только волхвы не сказали Ироду что? Что дальше?
Но больше он ничего не успел мне сказать. По склону к нам медленно поднимался Иосиф. Я узнал его в темноте, по шагам.
— Что-то вы надолго пропали, — сказал Иосиф. — Возвращайтесь. Я не хочу, чтобы вы бродили далеко от нашей стоянки.
Он ждал нас.
— Я люблю тебя, брат мой, — сказал я Иакову.
— И я люблю тебя, брат мой, — ответил он. — И я никогда больше не буду тебя ненавидеть. Я не буду завидовать тебе. Зависть — отвратительное чувство, ужасный грех. Я буду любить тебя.
Иосиф зашагал к стоянке.
— Я люблю тебя, брат мой, — повторил Иаков, — люблю тебя, кем бы ты ни был.
«Кем бы я ни был! Христос Господь… не сказали Ироду».
Иаков положил руку мне на плечо. И я тоже обнял его.
И разумеется, идя вслед за Иосифом в лагерь, я понимал, что Иосиф не должен знать о том, что Иаков рассказал мне все эти вещи. Иосиф всегда был против этого. Он предпочитал не говорить ни о чем. Он пытался жить сегодняшним днем.
Но я должен узнать и все остальное! Я должен знать, из-за чего мой брат ненавидел меня долгие годы, почему раввины останавливали меня в дверях школы и расспрашивали о том, кто я такой.
И не эти ли странные события заставили Иосифа перебраться со всей семьей в Египет? Нет, не может быть.
Даже если обо мне говорил весь Вифлеем, мы могли бы уйти в другой город. Мы могли бы вернуться в Назарет. Да, а как же ангел, которого видела моя мама?
У нас же были родственники здесь, в Вифании. И не только богатые священники. Тут жила и Елизавета. Почему мы не пошли к ней? А, ведь тогда люди Ирода убили Захарию! Неужели Захария погиб из-за тех рассказов? Из-за рассказов о том, что на свет родился ребенок, который был Христос Господь! О, если бы я лучше запомнил, что говорила нам Елизавета в прошлом году о том, как прямо в храме убили Захарию!
Сколько же еще мне придется мучиться в неведении?
Позже в ту ночь я лежал на одеяле с закрытыми глазами и молился.
В голове моей проносились все известные мне высказывания пророков. Я знал, что цари Израиля были помазанниками Господа, но ангелы их не возвещали. Нет, ведь царей не рождала женщина, никогда не бывшая с мужчиной.
Наконец я уже не мог больше думать. Слишком много непонятного.
Я смотрел на звезды и пытался разглядеть среди них сонм ангелов, поющих Небесам славу. Я молился о том, чтобы ангелы пришли ко мне, как приходят они к любому человеку на земле.
Бесконечная благодать вдруг снизошла на меня, в душе настал покой. Я подумал: «Весь мир есть храм Господень. Все сущее есть Его храм».
И то, что мы построили на далеком холме, это всего лишь одно маленькое здание, здание, где мы показываем свою любовь к Господу, который создал все. Отец Небесный, помоги мне.
Когда я скользнул в сон, раздалось великое пение, а когда проснулся, то не сразу понял, где нахожусь. Мой сон был как золотая завеса, отдернутая передо мной.
Я хорошо себя чувствовал. Стояло раннее утро. На небе еще не погасли звезды.
23
Я больше не был ребенком. По традиции мальчик принимает иго Закона только по достижении двенадцатилетнего возраста, но все равно — я уже не ребенок. Я понял это, когда смотрел в то утро на игры других детей.
Я понял это, когда мы присоединились к паломникам, направляющимся к храму.
Как и в предыдущий день, была ужасная давка. Часами мы стояли без движения и пели, чтобы скрасить ожидание, или очень медленно продвигались вперед. Наконец мы окунулись обнаженными в ванны с холодной водой, а потом надели чистые одежды, что принесли с собой в котомках.
И вот мы уже в туннеле, двигаемся к внутреннему двору. Здесь голоса заядлых спорщиков, не успокоившихся и в храме, эхом отскакивали от потолка и иногда звучали очень сердито, но меня они больше не пугали.
Мой ум занимала история, которую не успел закончить Иаков.
Наконец поток паломников, поющих на всех языках мира, излился во внутренний двор храма. Мы с радостью увидели над головами чистое небо. Здесь толпа немного поредела, мы смогли вздохнуть полной грудью, но вскоре оказались в новой давке — в очереди, чтобы купить птиц для нашего жертвоприношения. Дело в том, что Иаков хотел принести жертву в искупление греха. И я догадался, что именно поэтому мы сегодня пошли в храм.
Какой грех хотел искупить Иаков, я не знал. Или знал? Но разве это мое дело? Клеопа сказал, что мне тоже следует посмотреть. Вот почему я здесь оказался.
Наше первое окропление в ритуале очищения должно было состояться только на следующий день. И вот тут я не мог удержаться от вопросов.
— Как же так? Мы отправляемся в Святилище для принесения жертвы, а сами еще не получили очищения? — спросил я.
— Но мы же чисты, — сказал Клеопа. — Мы очистились перед выходом из Назарета, в нашей микве. Сегодня утром мы искупались в ручье рядом с домом Каиафы. И только что окунулись в ванну. Окропление же — это часть Песаха. Так мы получаем полное очищение на тот случай, если мы как-либо соприкоснулись с нечистотой, не зная этого. — Он пожал плечами. — И такова традиция. Но у Иакова нет причин чего-то ждать. Иаков чист. Поэтому мы сейчас идем в Святилище.
— Пусть греческие евреи проходят через ритуал очищения перед входом, — вставил дядя Алфей, который тоже пошел с нами. — И евреи из всех других стран.
Иосиф ничего не сказал. Он положил ладонь на плечо Иакова и вел его и нас через толпу.
Для того чтобы купить птиц, которых тщательно отобрали и признали, что они без изъяна, мы должны были поменять наши деньги на шекели, которые принимались в храме.
Над столиками менял, что стояли вдоль колоннады, я увидел обгорелую крышу, тянущуюся в обоих направлениях. Крышу чинили работники с блестящими от пота телами. Одни скоблили и чистили уцелевшие камни, другие подгоняли по размеру новые камни и крепили их с помощью раствора. Мне эта работа была хорошо известна.
Но никогда раньше я не бывал в столь огромном здании. Со своего места я не видел ни левого, ни правого конца колоннады. Капители колонн восхитили меня совершенством линий. Большая часть позолоты уже была восстановлена.
Вокруг меня все громче и разгневаннее звучали голоса. Мужчины и женщины спорили с менялами. Клеопа терял терпение.
— Какой смысл спорить? — по-гречески обратился он ко мне. — Послушай их. Разве они не знают, что менялы это те же грабители? — Клеопа назвал менял тем же греческим словом, которым мы называли мятежников, живших в холмах, тех самых, что спустились и захватили Сепфорис, после чего туда пришли римляне.
В наше первое посещение храма кровопролитие не позволило нам даже добраться до столиков менял. Теперь же мы пробились к столам, и нас оглушил сердитый гомон.
— Раз ты хочешь купить двух птиц, то должна дать мне вот такие монеты! — говорил по-гречески мужчина женщине, стоявшей перед ним с выражением полного непонимания на лице. Она что-то спрашивала у него на арамейском языке, который отличался от нашего, но все же я мог понять некоторые слова.
Когда Иосиф, не говоря ни слова, протянул женщине нужные монеты, она замотала головой и не приняла их.
Иосиф, и Клеопа, и остальные мужчины обменяли свои деньги молча, но потом Клеопа не выдержал и воскликнул:
— Ах вы, кучка воров! Наверное, вы горды собою!
Менялы отмахнулись от него, почти даже не оторвавшись от своих дел. Иосиф сердито взглянул на Клеопу.
— Только не в Доме Господнем, — сказал он.
— А почему нет? — спросил Клеопа. — Господь знает, что они воры. Они берут слишком большую плату за обмен.
— Оставь это, — сказал дядя Алфей. — Сегодня еще не было стычек и волнений. Хочешь стать заводилой?
— А почему они берут большую плату? — спросил у отца Иаков.
— Я не знаю, много они берут или нет. Но я готов заплатить столько, сколько они просят, — отвечал ему Иосиф. — Мы пришли сюда, взяв достаточно денег, чтобы купить птиц. У меня не взяли больше, чем я готов был отдать.
Мы были уже в том месте, где держали голубиц. Жарко светило солнце. Я сбил ноги о плиты, покрывавшие двор, хотя это были красивые плиты. Я слышал в толпе все больше сердитых голосов, все больше ссор, и громче людей был клекот и воркование птиц. Нам пришлось долго ждать, прежде чем мы добрались до их клеток.
Вонь там стояла хуже, чем в любом хлеву Назарета. Сквозь решетки сочилась грязь.
Здесь даже Иосифа удивили цены, которые просили за животных для жертвоприношений. Однако торговец был резок и немногословен, он просто указал на толпу ждущих людей.
— Хочешь, сам садись здесь и торгуйся с этими людьми! — буркнул он. — Или неси своих птиц без изъяна из самой Галилеи! Ты ведь из Галилеи, я прав? Я догадался по твоей речи.
Куда ни повернись, везде люди ссорились. Одна семья пришла вернуть птиц, потому что священник отказался их принять. Торговец кричал по-гречески, что птицы были безупречны, когда он их продавал. И опять Иосиф предложил семье заплатить за других птиц, но отец семейства отказался, правда, поблагодарил Иосифа за щедрость. Женщина рыдала:
— Я шла сюда четырнадцать дней, чтобы принести эту жертву.
— Послушайте, позвольте нам заплатить за пару голубей для вас! — настаивал Клеопа. — Я не дам денег вам в руки, — обратился он к женщине. — Я передам их этому человеку, а он даст вам двух новых птиц. Тогда это будет ваша жертва, а не наша. Понимаете? Вы же ничего у меня не возьмете, чтобы получить ее. Деньги возьмет торговец.
Женщина перестала причитать. Она посмотрела на мужа. Тот подумал немного и согласился.
Клеопа заплатил.
Торговец дал женщине двух бьющих крыльями голубей, а птиц, проданных ей ранее, тут же сунул обратно в клетку.
— Ах ты воришка несчастный! — пробормотал Клеопа.
— Да, да, — кивал торговец.
Иаков быстро сделал свою покупку.
Мне в голову пришла мысль, напугавшая меня. На этот раз это было не воспоминание о сражениях или о человеке, погибшем на копье, это была совсем другая мысль. Я подумал, что это место не является домом молитвы, это вовсе не прекрасное обиталище Яхве, куда все приходят поклониться Ему. Заповеди о жертвоприношениях казались такими простыми, когда мы заучивали их в школе по священным книгам. Здесь же я видел огромную рыночную площадь, до краев наполненную шумом, злобой и разочарованием.
Повсюду в плотной толпе евреев ходили язычники. В душе я краснел от стыда за то, чему они были свидетелями. И все же я понимал, что большинство из них не обращают внимания на ссоры и раздраженные крики. Они пришли посмотреть на храм и на вид были даже счастливее, чем евреи вокруг них, хотя во двор женщин, куда направлялись сейчас мы, язычников не допускали.
Разумеется, у язычников были собственные храмы, перед которыми язычники-торговцы продавали животных для жертвоприношений. Я видел множество таких торговцев в Александрии. Возможно, они точно так же ругались и обманывали.
Однако наш Господь — это Господь, который сотворил все сущее на земле, наш Господь невидим, наш Господь — Господь над всем и вся. Наш Господь обитает только в нашем храме, и мы — его святой народ, все до одного.
Когда мы вошли во двор женщин, Старая Сарра, мама и другие женщины остались там, так как дальше женщинам идти не дозволялось. Тут народу было уже не так много. Язычники не могли сюда входить под страхом смерти. Теперь мы действительно находились в храме, хотя гомон жертвенных животных сопутствовал нам и здесь, так как некоторые люди прибыли сюда со своими коровами, овцами и птицами.
Губительные пожары не достигли этого места. Вокруг нас все сияло золотом и серебром. Колонны были сделаны по греческому образцу, такие же прекрасные, как виденные нами в Александрии. Часть женщин поднялась на галерею, откуда они могли наблюдать за жертвоприношением во внутреннем дворе, но Старая Сарра не могла подниматься по лестнице, и поэтому наши женщины остались с ней.
Покидая женщин, мужчины договорились с ними, что мы встретимся в юго-восточном углу внешнего двора. Однако я не представлял себе, как здесь можно кого-то найти, и немного беспокоился.
А потом мы долго поднимались по лестнице. Мои ноги горели. Но меня постепенно наполняло новое ощущение счастья, и впервые за много дней мои болезненные воспоминания, страхи, мои тревоги совершенно покинули меня.
Я был в Доме Господа. Я слышал пение левитов.
У ворот во внутренний двор нас остановил левит-привратник.
— Этот мальчик слишком мал, — указал он на меня. — Почему вы не оставили его с женщинами?
— Он старше своих лет и хорошо знает Закон, — сказал Иосиф. — Он подготовлен, — добавил он.
Левит кивнул и пропустил нас.
И вновь нас сжала толпа, и в ушах звенело от блеяния и мычания. В руках Иакова бились две голубицы.
Но вот сквозь шум стала пробиваться музыка. Я различил звуки труб, кимвал и глубокие, переливчатые голоса поющих. Никогда я не слышал такой полнозвучной красивой музыки, как пение левитов. В отличие от радостного и несколько сумбурного исполнения псалмов паломниками и от быстрых свадебных песен, в исполнении левитов песни звучали протяжно, торжественно и почти печально. Их голоса лились с удивительной силой. Еврейские слова сливались в хоре воедино. Этим песням не было ни начала, ни конца.
Они так захватили меня, что только спустя некоторое время я осознал, что происходит прямо передо мной.
Священники в одеждах из белого холста и в белых же тюрбанах двигались взад и вперед, принимая из рук паломников жертвенных животных. Я видел, как на заклание вели агнцев и козлов. Я видел, как несли птиц.
Священники так плотно обступили алтарь, что за их спинами я не мог разглядеть, что они делают, видел только, как брызгала над их головами и между телами кровь. Руки священников были в крови. Их прекрасные белые одежды были забрызганы кровью. Жаркий огонь полыхал на алтаре. И пахло жареным мясом — пахло так сильно, что не передать словами. Каждый мой вдох был наполнен этим запахом.
Иосиф указал мне на алтарь с благовониями, и я его увидел, но аромата не ощутил.
— Смотри, вон стоят певцы, ты их видишь? — спросил Клеопа, нагибаясь к моему уху.
— Да, — ответил я, — Иаков, смотри. — Я различил между снующими туда-сюда фигурами священников хор левитов.
Они стояли на ступенях, ведущих в Святилище, их было великое множество — бородатых мужчин с длинными кудрями, все со свитками в руках. И еще я увидел лиры, из которых левиты извлекали удивительной красоты звуки, которые я раньше не уловил в их богатой и непривычной для меня музыке.
Когда я увидел певцов, их пение зазвучало еще громче в моих ушах. Оно было так прекрасно, что я как будто плыл в нем. Вскоре оно совершенно затопило все остальные звуки.
Все мои тревоги ушли, оставив меня молиться. Под эту музыку и при виде всего происходящего слова моей молитвы перестали быть словами — они превратились в чистое поклонение Господу, который сотворил все сущее.
«Господи, Господи, кем бы я ни был, чем бы я ни был, каково бы ни было мое предназначение, я часть всего этого, часть этого мира, который есть бесконечное чудо — как эта музыка. И Ты с нами. Ты здесь. Ты соорудил здесь свою скинию, посреди нас. Эта музыка — Твоя песнь. Это Твой дом».
Я заплакал, но то был тихий плач. Никто не увидел моих слез.
Иаков сомкнул веки, вознося молитву. Он ждал, когда к нему подойдет священник и возьмет двух его голубиц. Священников было столько, что я не мог бы их сосчитать. Они принимали агнцев и козлов, которые блеяли до последнего мига своей жизни. Кровь собиралась в специальные сосуды, как требовал Закон, а затем выплескивалась на камни алтаря.
— Вы, конечно, знаете, — напомнил нам Клеопа громким шепотом, — что этот алтарь — не престол благодати. Престол благодати — дальше, за певческим хором, в Святилище, скрыт под великой завесой. И вы никогда его не увидите. Ваша мать была среди тех, кто ткал храмовые завесы, по две в год. О, какая на этих завесах вышивка! Только первосвященник может войти в Святая Святых. И когда первосвященник входит туда, она наполняется облаком благовоний.
Я думал об Иосифе Каиафе. Я рисовал в уме, как он входит в это святое место. Потом я подумал о юном Аристобуле, первосвященнике, которого убил Старый Ирод.
«Если бы только волхвы не сказали Ироду…»
Я вдруг вспомнил слова мамы: «Ты не сын ангела». Я был еще совсем маленьким мальчиком, когда услышал их. Я не думал об этих словах с тех самых пор, как она произнесла их на крыше синагоги здесь, в Иерусалиме. Я не разрешал себе размышлять о них. Но теперь все картины, что нарисовал своим рассказом Иаков, заиграли красками.
Однако я боролся с такими мыслями, я отталкивал эти кусочки, не составляющие целого.
Я хотел покоя и счастья, которые ощущал всего минуту назад. И они вернулись ко мне.
И полностью завладели мною, и я уже не был мальчиком, стоящим среди других паломников. Я превратился в свою душу, как если бы она выросла до размеров моего тела и вышла из меня наружу и поплыла по волнам музыки, словно невесомая. И в таком виде я мог бы пойти в Святая Святых, и я так и сделал, пролетел через ворота, сквозь стену, сквозь завесу и дальше.
«Они называли тебя Христос Кириос. Христос Господь».
«Господи, скажи мне, кто я. Скажи мне, что я должен делать».
К реальности меня вернул звук плача. Тихий звук посреди музыки и еврейских молитв, возносящихся вокруг нас.
Это плакал Иаков. Его трясло.
Я снова посмотрел на огромный алтарь жертвоприношения, на священников, выплескивавших кровь на камни. Кровь принадлежит Господу. Она принадлежала Господу, когда текла в животном, и сейчас она тоже принадлежит Ему. Кровь — это жизнь животного. Ни один израильтянин никогда не вкусит крови. Камни алтаря залиты кровью.
Это было темное и прекрасное зрелище, темными и прекрасными были музыка левитов и молитвы, повторяемые на иврите. Даже непрестанное движение священников взад и вперед стало казаться мне ритуальным танцем.
Нет. Я больше не ребенок. Нет.
Я вспомнил о людях, убитых здесь год назад. Я вспомнил о людях, сгоревших внутри этого храма во время восстания. Я вспомнил о крови на камнях храма. Кровь. И кровь.
Иаков крепко держал бьющихся птиц, которые всеми силами старались вырваться из его рук. Его пальцы были как клетка вокруг них.
— Я признаю свой грех, — прошептал он на иврите. — Я виноват, что завидовал и злился.
Он подавлял рыдания. В тринадцать лет он был мужчиной, который плакал. Я не знал, догадывался ли кто-нибудь еще, почему он плакал. Потом я увидел, что плечо моего брата сжимает рука Иосифа. Отец хотел успокоить его. Иосиф поцеловал его в щеку. Иосиф любит Иакова. Он очень любит его. И меня он любит. Иосиф любит всех, но каждого по-своему.
Иаков держал птиц, склонив голову, когда в нашу сторону направился один из священников.
— Ибо младенец родился нам, — повторял Иаков слова пророка Исаии. — Сын дан нам; владычество на раменах Его… — Он боролся со слезами, но продолжал: — И нарекут имя Ему: Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Я обернулся и посмотрел на него. Почему он читает эту молитву?
— Пусть Господь простит мне мою зависть. Пусть отпустит мои грехи, и да буду я очищен. Да не убоюсь я. Позволь мне понять. Я раскаиваюсь.
Неожиданно священник стал перед нами, высокий, весь заляпанный кровью — и на бороде, и на лице его были капли. Но все равно он был красив в белых одеждах и митре. Рядом с ним стоял левит. Священник держал в руке золотую чашу. Он, прищурившись, взглянул на Иакова, и Иаков кивнул и передач ему голубиц.
— Это искупительная жертва, — сказал Иаков. Меня протолкнули вперед, чтобы мне было лучше видно, но вскоре священник затерялся среди других служителей храма, и я не видел, что они делали у алтаря. Но из Писания я знал, что они делают. Одной голубице сворачивают шею и сливают из нее кровь. Это была искупительная жертва. А тело второй голубицы сжигают.
Мы провели у алтаря не очень много времени.
Все закончилось. За все заплачено сполна.
Мы пошли назад, к выходу, пробираясь через толпу паломников, и вскоре вышли в суматоху двора язычников. На этот раз мы шли не по середине двора, а вдоль колоннады, которую называют «Соломонов притвор».
Там, у колонн, сидели учителя в окружении молодых людей. Женщины тоже останавливались, чтобы послушать их. Я услышал, что один из них учил на арамейском языке, а другой, вокруг которого собралось больше всего народу, задавал вопросы по-гречески.
Я хотел остановиться и послушать, но мужчины двигались вперед. Каждый раз, когда я замедлял шаги, чтобы взглянуть на учителей, чтобы услышать хоть слово, кто-нибудь из мужчин брал меня за руку и тянул дальше.
Наконец впереди показалась великолепная крытая галерея. Толпа почти совсем рассеялась.
Мы прошли мимо лестницы, ведущей из храма, и вскоре я понял почему. В тени одной из колонн сидела Старая Сарра, рядом с ней устроилась наша печальная беженка Брурия, и Рива играла неподалеку со своим малышом. Тут же были мама и мои тетушки.
А я и забыл о них. Я ведь даже не знал, где их искать. Старая Сарра немедленно приняла Иакова в свои объятия и поцеловала его.
Так как мы все очень устали, то уселись вместе с женщинами. И я заметил, что многие люди поступают так же, несмотря на то что совсем рядом работали каменщики. Мы все сдвинулись в одну плотную группу, чтобы на нас никто не наступил.
К этому моменту очень многие паломники покидали храм. Даже двое или трое торговцев попрятали птиц по клеткам и спускались по лестнице. Но торговля жертвенными животными шла еще довольно бойко, и по-прежнему оттуда доносились недовольные жалобы и даже крики. У столиков менял тоже еще стояли люди.
Левиты же, которые продавали масло и муку для жертвоприношений, уже сложили свои столы. А потом я увидел охранников — людей, которые назывались стражей храма. Они подошли к лестнице и стали следить за порядком в потоке уходящих.
Вскоре заканчивалось вечернее жертвоприношение агнца. Я точно не знал, как оно проводится. Мне предстояло еще столько всего узнать. Со временем знания придут ко мне. Об этом я не беспокоился.
Недалеко от нас я увидел слепого, сидящего на табурете. У него была очень длинная и совсем седая борода. Он говорил по-гречески, ни к кому конкретно не обращаясь, а может, обращаясь ко всем сразу. Люди бросали ему монетки. Кто-то останавливался на секундочку, чтобы послушать старика, а потом шел дальше. Из-за шума я не мог разобрать, что он говорил. Тогда я спросил у Иосифа, можно ли мне подать слепому денег и послушать его.
Иосиф обдумал мою просьбу, потом дал мне динарий, что по тем временам было очень много. Я взял монету и побежал к старику, где уселся у его ног и стал слушать.
Слепой говорил по-гречески, красиво и гладко, как говорил сам Филон. Он цитировал один из псалмов:
— Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня…
Он остановился, чтобы ощупать монету, которую я положил ему на колени. Я прикоснулся к его руке. Его глаза покрывала бледно-серая пленка.
— И кто же это дает мне столь щедро и садится у ног моих? — спросил он. — Сын Израиля или тот, кто ищет Господа?
— Сын Израиля, учитель, — ответил я по-гречески. — Ученик, что ищет мудрости твоих седин.
— И что ты хочешь узнать, дитя? — спросил слепец, направив взгляд невидящих глаз вперед. Мою монету он спрятал в складках своей шерстяной накидки.
— Учитель, расскажи мне, пожалуйста, кто такой Христос Кириос?
— О дитя, существует много помазанников, — ответил он. — Но кто из помазанных есть Господь? Кто это может быть, если не сын Давида, царь помазанный, пришедший от корня Иессеева, чтобы править Израилем и принести мир в нашу землю?
— А что, если ангелы пели, когда родился помазанник, ребе, — спросил я, — и что, если волхвы принесли ему дары, следуя за звездой?
— Эта старая история, дитя, — сказал он. — История из Вифлеема, история о том, как младенец родился в хлеву. Так ты знаешь ее? Почти никто про нее больше не спрашивает. Это печально. Я боялся, что ее совсем забудут.
Я онемел.
— Люди говорят: «Вот, здесь Мессия» или «Там Мессия», — продолжал старик, произнося слово «мессия» на иврите. — Мы узнаем, когда Мессия придет, разве можно не узнать этого?
Восторг переполнил меня, я даже не знал, что сказать.
— Скажи мне, дитя, слова пророка Даниила… «Шел как бы Сын человеческий…» Ты здесь ли еще, дитя?
— Да, ребе, но что это за история, ребе, о ребенке в яслях, что родился в Вифлееме? — спросил я.
— Это ужасная история, и кто знает, что случилось на самом деле? Все произошло так быстро. Только Ирод мог сделать такое, кровожадный и злой человек! Но я не должен так говорить. Его сын — царь.
— Но, ребе, что он сделал? Мы здесь одни, нас никто не слышит.
Он взял мою руку.
— Сколько тебе лет, дитя? Твоя рука мала и груба от трудов.
Я не хотел говорить ему, сколько мне лет. Я знал, что он удивится.
— Ребе, я должен знать, что случилось в Вифлееме. Умоляю тебя, скажи мне.
Он затряс седой головой.
— Случилось неописуемое, — сказал он. — Как мы допустили, что нами правит такая семья? Эти люди в порыве ярости убивают собственных детей! Сколько своих детей уничтожил Ирод? Пять? И что сказал Цезарь Август про Ирода, узнав, что тот убил двух своих сыновей? «Лучше я буду свиньей Ирода, чем его сыном». — Старик засмеялся.
Из уважения я тоже засмеялся, но мои мысли были заняты совсем другим.
— Дитя, ответь мне, — попросил старик. — В слепоте моей я не могу больше читать книги, а книги для меня все, мое утешение, и мне приходится платить, чтобы кто-нибудь почитал мне. Книги — мое сокровище. Я не расстанусь с ними, чтобы заплатить мальчику, который почитал бы мне те из них, что еще целы. Я не могу отдать те книги, что переписал сам, или книги, что переписаны другими в строгом следовании Закону. Скажи мне из Захарии: «В тот день… В тот день…» Последнюю строчку, дитя.
— «И не будет более ни одного торговца в Доме Господа в тот день», — послушно процитировал я.
Он кивнул.
— Ты слышишь их? — спросил слепой.
Он имел в виду менял и людей, что спорили с ними.
— Да, я слышу их, ребе.
— В тот день! — воскликнул он. — В тот день.
Я смотрел на его глаза, на толстую пленку. Она была как молоко на его глазах. Если бы только… Но я же обещал. Если бы только я знал, что это правильно, если бы только… Но я обещал.
Его пальцы, запыленные, слабые, сжимали мою ладонь.
И я сжал его руку и помолился в сердце своем за него.
«Господи всемилостивый, если только такова Твоя воля, дай ему утешение, облегчи долю его…»
Рядом со мной стоял Иосиф. Он сказал:
— Пойдем, Иешуа.
— Да благословит тебя Господь, ребе, — сказал я и поцеловал его руку.
Он махал мне вслед, хотя я уже ушел.
Как только Старая Сарра смогла подняться на ноги и Рива надежно привязала ребенка у себя за спиной, мы направились к выходу.
На лестнице, ведущей в туннель, Иосиф остановился. Он держал меня за руку. Иаков к тому времени уже ушел вперед.
К нам бежал тот слепой старик, только теперь глаза его стали темными и яркими. Он щурился, глядя то направо, то налево, потом заметил Иосифа.
Смотреть на старика было так же удивительно, как на воскрешение мертвого человека к жизни. В моей груди громко стучало сердце.
— Здесь был ребенок! — кричал старик. — Дитя! — Он оглядывал лестницу сверху донизу, всех людей, идущих по ней. — Мальчик двенадцати или тринадцати лет, — сказал он. — Я только что слышал его голос. Куда он пошел?
Иосиф покачал головой, подхватил меня сильными руками, перекинул через плечо и понес вниз по лестнице и в туннель.
Всю дорогу домой он не сказал мне ни слова.
Я хотел сказать ему слова моей молитвы, объяснить, что я молился всем сердцем, что я не хотел делать того, что делать нельзя. Я молился, я вложил все в руки Господа.
24
Последующие дни стали радостными и насыщенными для нашей семьи. Мы ходили на окропление в храм и искупались во второй раз, как положено. А в перерыве мы бродили по улицам Иерусалима, разглядывали драгоценности, и книги, и ткани, что продавались на рыночной площади, а Клеопа даже купил маленькую книгу на латыни, Иосиф же купил для моей мамы тонкого шитья, которое она потом сможет прикрепить к накидке и носить на деревенские свадьбы.
Вечерами в Вифании звучала музыка и даже устраивались танцы между стоянками.
И сама праздничная трапеза в вечер Песаха была замечательным событием.
Сам Иосиф надрезал шею ягненка, а потом священник и левит собрали кровь. Затем мясо зажарили, и в соответствии с нашими обычаями мы съели его с горькими травами и пресными хлебцами, которые напоминали нам о египетском плене и о том, как Господь освободил нас из него и провел через Красное море в Землю обетованную.
Пресные хлебцы мы ели потому, что, уходя из Египта, мы не имели времени печь дрожжевой хлеб; горькие же травы мы ели потому, что наш плен был горек; а ягненка мы ели потому, теперь были свободны и могли чествовать Господа, который спас нас. И это была кровь ягненка на дверных косяках израильских сынов, что заставила ангела смерти пройти мимо нас, когда ангел умертвил всех первенцев Египта за то, что фараон не отпускал нас.
И конечно, все мы в нашей маленькой общине не могли не видеть особого значения во всем этом, поскольку год назад и мы вернулись из Египта, пройдя через войну и страдания, и нашли Землю обетованную в Назарете, откуда мы с радостью пришли к храму Господню.
На следующий день, когда праздник закончился и многие паломники стали покидать Иерусалим, в нашей семье тоже задумались над тем, когда отправиться в обратный путь, и что надо еще сделать, и когда Старая Сарра будет готова к путешествию, и так далее. Я же отправился искать Иосифа, но не смог найти его.
Клеопа сказал мне, что Иосиф ушел вместе с моей матерью на рынок в Иерусалим. Теперь, когда народу в городе стало гораздо меньше, они хотели купить немного ниток.
— Я хочу сходить в храм и послушать учителей, что сидят в притворе, — сказал я Клеопе. — Мы ведь сегодня еще не уходим?
— Нет, сегодня мы никуда не пойдем, — ответил он. — Если хочешь пойти, то найди кого-нибудь из взрослых, чтобы проводил тебя. Один не ходи. — И он вернулся к беседе с мужчинами.
Так вот, за все это время Иосиф ни разу не заговорил со мной про того слепого человека. То, что случилось со старцем, напугало Иосифа. Я не знал этого, когда мы спешили вниз по лестнице в тот день, но потом подумал и понял.
И еще я не знал, заметил ли Иосиф, что я изменился. А я изменился.
А вот мама заметила это. Заметила, но не встревожилась. Ведь я не стал печальным. Я просто перестал играть с другими мальчиками. И еще, оттого что я видел теперь все другими глазами, я стал задумчивее, но вовсе не печалился. Я прислушивался к разговорам мужчин. Я уделял внимание вещам, которых раньше для меня вовсе не существовало. И большую часть времени я проводил в уединении.
Время от времени я испытывал соблазн разгневаться на тех, кто не говорит мне о том, что я хочу узнать. Однако стоило мне вспомнить нежелание слепого старика бередить в памяти «неописуемые» ужасы, я понимал, почему мне не рассказывают всего. Мама и Иосиф старались защитить меня от чего-то. Но так не могло продолжаться дальше. Я должен знать.
Я вышел к дороге, которая вела из деревни к храму. Там я встретил нашего родственника Иосифа, он с другими членами семьи как раз направлялся в храм. Он узнал меня и улыбнулся.
Я пошел вслед за ним.
Он оглянулся пару раз, окликая меня по имени, что удивило меня, и жестом приглашал присоединиться к их группе. Я приблизился, но все равно шел позади. Ведь я столько времени провел под открытым небом, а Иосиф бар Каиафа был в чистых белых одеждах, как и его спутники, тоже священники, скорее всего.
И тем не менее я делал так, как велел мне Клеопа: я шел с взрослыми. Я был не один.
Когда мы достигли Храмовой горы, я скользнул в нужную мне сторону.
Во дворе язычников народу было немного, и я впервые смог полностью оценить величественные размеры храма, изящество украшений. Все было именно так, как описывал Клеопа.
Но я пришел сюда не за этим.
Я прошел к Соломонову притвору, чтобы послушать учителей.
Их было несколько, рядом с некоторыми собралось много людей, рядом с другими — меньше. Но я искал очень старого человека, человека, который был бы морщинист и сед.
Побродив немного, я увидел самого старого здесь учителя. Он был худ, с глубоко посаженными блестящими глазами, с седыми прядями, выбивающимися из-под накидки, хорошо одетый. В кисточках на его одежде виднелись голубые нити. Вокруг него собралось довольно много мальчиков, большая часть которых была значительно старше меня.
Я стал наблюдать и слушать.
Старый учитель один за другим задавал вопросы жадно ловящим его слова слушателям. Он часто смеялся, и смех его был дружелюбен, но в то же время была в нем некая властность. Он говорил то, что считал необходимым. Он не тратил слов попусту. И голос его был чист, как у молодого мужчины.
Его вопросы походили на те, что задавали нам раввины в школе. Я подошел ближе и тоже стал отвечать. Мои ответы понравились ему. Он кивнул мне, приглашая сесть у его ног. Мальчики потеснились, давая мне место. Я даже не думал об Иакове. Я просто отвечал на вопросы учителя. Рав Берехайя хорошо обучил меня. И вскоре старый учитель стал спрашивать других мальчиков, чтобы и они имели возможность проявить себя.
Потом зазвучали трубы, возвещая вечернее жертвоприношение, и мы прекратили занятие, чтобы помолиться.
И вот настал момент, которого я ждал, хотя даже не знал четко, чего именно жду. Мое сердце часто забилось. Мальчики разошлись по комнатам, где они спали, или по домам, кто жил в Иерусалиме. А раввин пошел в библиотеку храма, и я последовал за ним вместе с еще несколькими мальчиками.
Библиотека оказалась очень большой, даже больше, чем библиотека Филона. В ней было несметное количество свитков, а еще стояли столы, за которыми, склонив головы, работали писцы. Когда вошел старый раввин, они встали из уважения к нему.
Но раввин прошел мимо них в собственный кабинет и позволил мне пойти с ним. Один из мальчиков всю дорогу расспрашивал его про Закон.
К их беседе я прислушивался лишь краем уха. У меня была другая цель.
Наконец я остался наедине с раввином. Он уселся за свой стол, и ему принесли чашку вина. В комнате зажгли лампы. Нас окружали полки со свитками. Пахло пергаментом, папирусом и горящим маслом. Если бы мое сердце не стучало так сильно, я бы внимательнее тут осмотрелся.
— Чего же ты хочешь от меня? — спросил старый учитель. — Ты долго ждал. Скажи, что тебе нужно.
Я помолчал, но мне в голову не пришло ни единой мысли, ни единой подсказки, что и как сказать. Тогда я решил начать с того, что уже знал:
— Восемь лет назад в Вифлееме родился младенец. Ангелы пели пастухам, когда он родился. Ангелы называли его Христос Господь. Через несколько дней три человека с востока, персидские волхвы, пришли к младенцу с дарами. Они утверждали, что их вела звезда.
— Да, — сказал старик. — Я знаю эту историю.
— Что случилось с этим младенцем?
— Зачем тебе знать это? Почему ты вообще об этом говоришь?
— Умоляю тебя, скажи мне. Я не могу думать ни о чем другом, только об этом. Я не пью и не ем, думаю день и ночь. Я должен узнать об этом ребенке.
Он подумал над моими словами, отпил вина.
— Хорошо, я скажу тебе, — промолвил он. — Чтобы ты наконец мог подумать о чем-нибудь другом. И заняться учебой, как должно.
— Да, — согласился я.
— Эти волхвы, как ты их называешь, эти мудрецы пришли в Иерусалим. Они пришли во дворец Ирода, который стоял к югу от Вифлеема. Они сказали ему, что шли за звездой. Они сказали, что знамения в Небесах поведали им о рождении нового царя. — Раввин замолчал на мгновение, потом продолжил: — То были богатые мужчины, хорошо одетые, с караваном верблюдов и слугами. Они были советниками при своих правителях. И они несли дары этому младенцу. Однако возле Иерусалима звезда повисла над скоплением деревень. Они не могли найти то место, где находится ребенок. Ирод принял этих людей, притворился, что очень хочет узнать, кто же этот царь. — Старик горько улыбнулся и снова отпил вина.
Я ждал.
— Ирод созвал нас всех, старейшин, писцов, всех, кто знает Писание, чтобы мы решили, где мог родиться истинный царь Израиля. Как всегда в подобных ситуациях, Ирод разыграл перед нами и волхвами горячую заинтересованность. Он буквально умолял нас скорее сказать, что говорят Священные книги.
Старик покачал головой. Он отвернулся, скользнул взглядом по стенам, потом медленно обернулся ко мне.
— Мы сказали ему, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Это была правда, не более того. Уж лучше бы мы ничего ему не сказали. Но ведь мы не знали тогда, что в Вифлееме уже родилось дитя и что его рождение сопровождалось чудесными знамениями! Мы не слышали об этом, потому что ребенку было всего несколько дней от роду. Еще никто не рассказывал об ангелах, о матери-деве. Все это мы узнали позже, гораздо позже. Мы знали только то, что говорит Писание. И мы думали, что эти люди с востока были язычниками, которые ищут неизвестно что. Поэтому мы ответили не хитростью, а правдой. А что касается Ирода, то мы отлично понимали, что этот человек хочет чего угодно, только не найти истинного царя, Христа.
Он опустил голову.
Ожидание было невыносимо для меня.
— Ребе, что же было дальше? — спросил я.
— Волхвы отправились в Вифлеем. Мы потом узнали об этом. Они нашли дитя. Они принесли ему дары. Однако они не вернулись к Ироду, как он просил их. Они ушли домой, по неизвестной дороге. И когда Ирод услышал об обмане, то впал в ярость. Рано утром, когда было еще темно, он послал солдат из своей крепости в Вифлееме и наблюдал с парапета, как они вошли в каждый дом и убили каждого ребенка младше двух лет!
Я вскинул руки к небу. В горле моем застыли рыдания.
— Они выхватывали детей из рук матерей. Они бросали их головой на камни. Они перерезали им горло. Они убили всех. Не осталось в живых ни единого малыша.
— Нет, это невозможно! — выдохнул я, не в силах кричать. — Они не могли так сделать!
— О да, могли и сделали, — печально сказал раввин.
Рыдания, перехватившие мне горло, грозили вырваться наружу. Я не мог шевельнуться. Я хотел закрыть лицо руками, но не смог.
Потом меня затрясло, и я заплакал. Заплакал всем телом, всей душой.
Руки раввина сжали мне плечи.
— Сын мой, — бормотал он, — сын мой.
Но я не мог остановиться.
Я не мог остановиться и не мог рассказать ему. Я не мог сказать никому! Это случилось из-за меня! Я закричал, закричал, как в ту ночь, когда видел горящий Иерихон. Ужас, охвативший меня, был в тысячу раз сильнее, чем страх, в тысячи раз. Ноги больше не держали меня.
Кто-то поднял меня. Раввин шептал мне на ухо ласковые слова. Но ужас не отпускал меня, и я ничего не понимал.
Я видел младенцев. Я видел, как их бросали на камни. Я видел перерезанные горла. Я видел перерезанные горла агнцев, приносимые в жертву в храме. Я видел кровь и несчастных матерей. Я плакал и не мог остановиться.
Вокруг меня переговаривались люди. Руки подхватили меня и понесли куда-то.
Меня положили на кровать. Я чувствовал холодную ткань на лбу. Судорожные всхлипы душили меня. Я не мог открыть глаза. Я не мог отвернуться от убитых младенцев, от крови на алтаре, от крови на детях. Я видел того человека, погибшего в храме с копьем в груди. Я видел, как он падает. Я видел крошку Есфирь, она истекала кровью. Младенцы на камнях. Господи Небесный, нет. Это не из-за меня. Нет.
— Нет, нет… — Я повторял это снова и снова, ничего другого я не мог выговорить.
Меня приподнимали.
— Открой рот, выпей!
Я захлебывался жидкостью — медом, вином. Я пытался глотать.
— Они мертвы, мертвы, мертвы!
Не знаю, сколько это продолжалось, но в конце концов пришли слезы, я заплакал по-настоящему и тогда смог сказать:
— Я не хочу спать. Во сне я увижу их.
25
Я болел. Мне хотелось пить. Голоса и руки такие добрые. Мне давали пить мед и вино. Я спал, и холодная ткань на лбу приносила облегчение. Если мне и снились сны, я их не помнил. Я слышал музыку — глубокие звучные голоса левитов. Я плыл в ней. Только изредка я видел младенцев, невинно убиенных, и скорбел о них. Я утыкался лицом в подушку и плакал.
Надо проснуться, думал я, но не мог. Только однажды я очнулся, было темно, рядом со мной на стуле сидел старый раввин и спал. Это тоже было похоже на сон, и я снова соскользнул в полузабытье, не в силах противиться слабости.
Но настал момент, когда я открыл глаза и понял, что здоров.
Тут же передо мной возникли ужасные картины убийства младенцев в Вифлееме, но я уже мог видеть их без слез. Я сел в постели и огляделся. Старый раввин действительно сидел в этой же комнате за столом. Заметив, что я не сплю, он тут же подошел ко мне. В комнате был еще один человек, и он тоже приблизился к моей постели.
Незнакомый мне мужчина, более молодой, чем раввин, приложил ладонь к моему лбу и посмотрел мне в глаза.
— Что ж, он пришел в себя, — заметил он. — Ну, безымянный мальчик, теперь ты снова с нами. Скажи что-нибудь.
— Благодарю вас, — проговорил я. Горло болело, однако я предположил, что это всего лишь от долгого молчания. — Спасибо, что позаботились обо мне. Я нечаянно заболел.
— Вставай, я дам тебе чистую одежду, — сказал более молодой мужчина. — Я помогу тебе.
Поднявшись, я увидел, что на мне новая туника, и доброта этих людей тронула мое сердце.
Когда я искупался в ванне и переоделся, старый раввин отпустил второго мужчину и попросил меня сесть.
Напротив него стоял табурет. Не думаю, что раньше мне доводилось сидеть на табурете. Я сделал, как мне сказали.
— Ты всего лишь маленький мальчик, — начал раввин, — и я забыл об этом. Маленький мальчик с большим сердцем.
— Я хотел получить ответы на свои вопросы, ребе. Мне это было очень нужно. Я бы не перестал спрашивать.
— Но почему? — удивился раввин. — Младенец, рожденный в Вифлееме, мертв уже восемь лет, ты же сам сказал! Только не надо снова плакать.
— Хорошо, я не буду.
— И его мать-дева, кто может поверить такому.
— Я верю в это, ребе, — возразил я. — И младенец не погиб. Его спасли.
Долгие секунды он не сводил с меня глаз.
И тогда с внезапной остротой я почувствовал, что теперь отделен от всех, кто окружает меня. Мне стало так грустно от этого, так горько.
Я догадывался, что старик не воспримет мои слова серьезно, догадывался, что он скажет: даже если младенец спасся из Вифлеема, это всего лишь история, и избиение младенцев было лишь еще одним ужасным деянием Ирода.
Но он не успел сказать это. Я услышал знакомые голоса. Они звучали совсем близко.
Пришли мама с Иосифом.
Мама окликнула меня по имени из другой комнаты. Я тут же встал и пошел ей навстречу, а она быстро сказала сопровождавшему их писцу, что да, это их сын, и заключила меня в объятия.
Иосиф целовал руки старого раввина.
Многое было сказано в те первые минуты после встречи, но я почти ничего не услышал, запомнил только, что меня искали три дня.
Раввин похвалил мои ответы на вопросы, что он задавал мальчикам в храме. Насколько я уловил, он ничего не рассказывал о нашей беседе про Вифлеем и о моей болезни.
Я подошел к нему и поцеловал его руки, благодаря его за все то время, что он потратил на меня, и он сказал в ответ:
— Хорошо, хорошо, а теперь ступай, отец и мать ждут тебя.
Иосиф хотел заплатить за три дня, которые я провел в доме раввина, но старик отказался.
Когда мы вышли в ослепительно яркий внешний двор, мама взяла меня за плечи.
— Почему ты так поступил? — спросила она. — Мы страшно волновались!
— Мама, теперь я должен узнать все как есть, — ответил я. — Я должен знать все то, что Иосиф запрещает мне спрашивать у него или у тебя. Я должен понять, что мне делать!
Для нее это был жестокий удар. Я едва мог смотреть ей в лицо.
— Мне очень жаль, — сказал я, — прости меня. Но это правда.
Она посмотрела на Иосифа, и он кивнул ей.
Мы вместе вышли из храма и оказались в старом городе, его узкие улочки вывели нас к синагоге галилеян. Там, в маленькой и чистой комнате, они жили, пока искали меня.
В комнате было окно, так что помещение хорошо освещалось.
Мама села у стены, скрестила ноги. А Иосиф тихо вышел.
Я ждал, что он вот-вот вернется, но его все не было.
— Садись и выслушай меня, — сказала мне мама. Я сел напротив нее. Свет падал ей на лицо.
— Я никогда об этом не рассказывала, — начала она. — И расскажу только один раз.
Я кивнул.
— Не перебивай меня, пока я не закончу.
Я снова кивнул.
Она отвела взгляд и начала:
— Мне было тринадцать лет. Меня обручили с Иосифом, моим родственником, как было у нас принято. Да, мы дальняя родня, но все же принадлежим к одному роду. Старая Сарра сказала моим родителям, что одобряет эту помолвку, я же еще даже не вернулась к тому времени из Иерусалима, где ткала храмовые завесы. Я едва знала его. Потом мы увиделись. Он был хорошим человеком.
Меня воспитывали в строгости. Я никогда не выходила из дома. За водой ходили слуги. Клеопа научил меня читать и всему остальному, что я знаю. Я должна была выйти замуж в Назарете, так как мои родители переехали из Сепфориса в дом Старой Сарры. У нее был большой дом, мы теперь в нем живем.
И вот однажды утром я проснулась очень рано и не могла понять почему. Еще даже не рассвело. Я поднялась. Моя первая мысль была о матери: может, она звала меня. Я пошла к ней в комнату. Она спала, и с ней все было в порядке.
Тогда я вернулась к себе. И вдруг комната наполнилась светом. Это произошло мгновенно. В полной тишине. Свет был везде. Все, что было в комнате, там и осталось, только засияло ярким светом. Это был свет, который не жег глаза, но при этом был невероятно ярок. Представь, что ты смотришь на солнце и тебе не надо щуриться — вот какой это был свет.
Я не боялась. Я просто стояла, и вот посреди этого ярчайшего света возникла неподвижная фигура — похожая на мужскую, только гораздо выше. Я понимала, что это не мужчина.
Внезапно раздался голос. Он сказал мне, что я — избранная среди женщин, что со мною Господь. Он сказал, что из моего чрева родится сын по имени Иисус и что он будет велик и назовется Сыном Всевышнего. Он сказал, что Господь даст ему престол Давида, отца Его, и он воцарится в доме Иакова вовеки, и Царству его не будет конца. Я заговорила с ним. Я спросила, как это может быть, ведь я никогда не была с мужчиной. Тогда голос сказал, что Святой Дух снизойдет на меня. Он сказал еще, что Святой ребенок, рожденный от меня, будет Сыном Божьим.
Впервые за все это время мама посмотрела на меня.
— Этот голос, это существо, этот ангел хотел от меня ответа, и я сказала: «Я раба Господня. Да будет мне по Слову твоему».
И почти сразу же я почувствовала жизнь внутри себя. Нет, конечно, не вес младенца, это приходит позже, и движения тоже. Но я ощутила перемену, я знала, что это произошло. Я знала! А свет полностью исчез.
Я выбежала на улицу. Я не хотела этого делать, я вообще не понимала, что делаю. Я стала кричать. Я кричала, что ко мне явился ангел, явился и говорил со мной, и что скоро у меня будет ребенок.
Она оборвала свой рассказ.
— И что это принесло мне? Нескончаемые насмешки всего Назарета. Правда, со временем многие забыли об этом.
Я ждал продолжения.
— Самое трудное было рассказать об этом Иосифу бар Иакову. — Мама снова вернулась к событиям прошлых лет. — Но мои родители хотели подождать. Они верили мне, да, и все же хотели подождать. А когда они увидели, что их дочь-девственница действительно носит ребенка, когда уже нельзя было отрицать это, тогда и только тогда они поговорили с Иосифом. Но то, что видели они, видели и все остальные.
Ангел явился и Иосифу, когда тот спал. Иосиф не стал выбегать на улицу и кричать, как я. К тому же к нему приходил не тот ангел, что явился мне и наполнил комнату светом, нет. Но это тоже был ангел, и ангел сказал Иосифу, чтобы тот взял меня в жены. Иосифу было все равно, о чем судачила вся деревня. Ему нужно было идти в Вифлеем на перепись, он поговорил с Клеопой, и было решено, что мы все вместе пойдем в Вифанию, где я и Клеопа можем остановиться у Елизаветы, и что там мы с Иосифом и поженимся, и тогда со всем слухами будет покончено раз и навсегда. Стояла зима, и наше путешествие оказалось долгим и трудным, но мы все дошли, и братья Иосифа тоже пошли с нами, как ты знаешь, и Маленький Иаков, наш возлюбленный Иаков.
Дальнейшие события она пересказывала уже спокойнее и медленнее.
Она рассказала мне то, что я уже слышал от Иакова, — о переполненном хлеве, о пастухах, появившихся среди ночи, об их просветленных лицах, об ангелах, которых они видели. Она рассказала мне и о волхвах с дарами.
Я слушал ее так, как будто не знал обо всем этом.
— Я знала, что нам придется уходить из Вифлеема, — говорила мама. — Там тоже пошли разговоры. Сначала пастухи, потом волхвы. Люди приходили к нам днем и ночью. Однажды утром Иосиф проснулся и сказал, что мы должны немедленно уходить из Вифлеема. Мы собрались и через час покинули город. Он не объяснил мне причину столь поспешного ухода — просто сказал, что во сне снова видел ангела. Сначала я не знала, что мы идем в Египет. Мы шли целыми днями, до позднего вечера.
Ее лицо омрачилось воспоминаниями. Она снова отвернулась от меня.
— Мы долго скитались, все мы, — рассказывала она. — Мы жили в разных египетских городках. Мужчины брались за любую работу, какую могли найти, и мы не бедствовали. У плотников всегда есть работа. Люди были добры к нам. Ты был моей главной радостью. Я почти ни о чем не задумывалась, ты был в центре моей жизни. Любая женщина хотела бы иметь такого славного ребенка. И все это время я не знала, почему мы ходим из города в город. Наконец мы вернулись на север Египта и обосновались в Александрии, на улице Плотников. Мне, Саломее и Есфири там очень нравилось. И Клеопе тоже.
Только спустя годы до меня дошли известия о случившемся в Вифлееме. Истории о том, что там родился Мессия и что царь Ирод вскипел завистью и гневом и послал своих солдат из крепости, что стояла всего в нескольких милях от города. Они убили всех младенцев! В предрассветных сумерках погибло почти двести малышей.
Она смотрела на меня.
Я изо всех сил старался не плакать, не бояться, не дрожать — я ждал.
Она склонила голову, ее лицо напряглось. Когда она наконец снова подняла глаза, в них стояли слезы.
— Я спросила Иосифа: «Ты знал, что это случится? Ангел, что являлся тебе, сказал тебе?» — «Нет, — отвечал он, — я не знал об этом». Тогда я спросила: «Как Господь мог допустить, чтобы убили невинных младенцев?» — Она закусила губы. — Я не могла этого понять. Мне казалось, что наши руки запачканы кровью!
На миг мне показалось, что я не сдержу слез и расплачусь, но огромным усилием воли я справился с собою.
— Иосиф сказал мне тогда: «Нет, это не наши руки испачканы кровью. Пастухи приходили поклониться нашему ребенку. Язычники приходили поклониться ему. Злой царь хотел убить его, потому что тьма не выносит света, но ей не поглотить света. Тьма всегда стремится победить свет. И все же свет будет сиять. Как ты не понимаешь? Мы защищаем его и делаем все, что в наших силах, и Господь будет вести нас».
Наши глаза встретились. Она пристально глядела на меня.
Она положила обе руки мне на плечи.
— Ты рожден не от мужчины, — сказала она.
Я молчал.
— Ты рожден от Бога! — прошептала она. — Не тот сын божий, каким называет себя Цезарь. Не тот сын божий, каким называет себя хороший человек. Не тот сын божий, каким называет себя царь помазанный. Ты — единородный Сын Божий!
Она не отводила взгляда, но ни о чем не спрашивала меня. Ее руки лежали у меня на плечах. Глаза, не мигая, смотрели мне в душу.
Когда она заговорила снова, голос ее стал мягче, тише.
— Ты — сын Господа Бога! — сказала она. — Вот почему ты можешь убивать и воскрешать, вот почему ты можешь исцелить слепого, что видел Иосиф, вот почему ты можешь помолиться о снеге, и пойдет снег, вот почему ты можешь спорить с дядей Клеопой так, что он забывает, что ты еще маленький мальчик, вот почему ты можешь слепить воробьев из глины, и они полетят. Держи свою силу внутри. Храни ее до тех пор, пока твой Отец Небесный не покажет тебе, что пришло время использовать ее. Если он сделал тебя ребенком, то, значит, ты должен расти, как все дети, и постепенно набираться мудрости.
Я медленно кивнул.
— А теперь пойдем с нами домой, в Назарет. А не в храм. О, я знаю, как сильно тебе хочется остаться в храме, знаю. Но нет. Господь Небесный не послал тебя в дом храмового учителя или в дом священника храма, или писца, или богатого фарисея. Он послал тебя Иосифу бар Иакову, плотнику, и его невесте, Марии из рода Давида, что жила в Назарете. И поэтому ты пойдешь вместе с нами в Назарет, домой.
26
С Елеонской горы мы в последний раз окинули взглядом город Иерусалим.
Иосиф сказал мне то, что я уже знал: три раза в год мы будем ходить в Иерусалим и отмечать великие праздники и со временем я хорошо узнаю великий город.
Обратно до Назарета мы добрались быстро, потому что с нами не было всей семьи. И тем не менее мы не спешили и спокойно беседовали о красотах вокруг нас и о мелочах нашей повседневной жизни.
Когда мы перешли через горный хребет и увидели вдали нашу деревню, я сказал родителям, что никогда больше не оставлю их, как оставил в Иерусалиме, — то есть не предупредив. Я не пытался объяснить, что случилось. Я просто сказал, что больше им не надо волноваться: я никогда не уйду один от моей семьи.
Я видел, что мои слова их порадовали, однако они не очень хотели говорить о событиях последних дней. Они уже постарались спрятать эти воспоминания как можно глубже. И как только я замолчал, мама принялась говорить о каких-то простых вещах, касающихся хозяйства, а Иосиф слушал и кивал.
Я шел вместе с ними, но я был один.
Я думал о мамином рассказе — о словах Иосифа: что тьма пытается поглотить свет и что тьме это никогда не удается. Прекрасные слова, но это всего лишь слова.
Мысленным взором — без чувств, без слез, без дрожи — я видел человека, убитого в храме копьем, наблюдал, как истекает кровью жертвенный агнец, скорбел о неизвестных мне младенцах, убитых в Вифлееме. Я видел огонь в ночи, пожирающий небо над Иерихоном. Я снова и снова видел все это.
Когда мы вернулись домой, я присел отдохнуть.
Вошла Маленькая Саломея и остановилась рядом со мной. Я ничего не сказал ей, думая, что она поставит передо мной чашку супа или воды и уйдет, как всегда, такой занятой маленькой женщиной она стала.
Однако она продолжала стоять.
Наконец я поднял на нее глаза.
— Что? — спросил я.
Она опустилась на колени и приложила ладонь к моей щеке. Я смотрел на нее, и мне казалось, что она никогда не оставляла меня ради женских хлопот по хозяйству. Она всматривалась в мое лицо.
— Что с тобой, Иешуа? — тихо спросила она.
Я сглотнул. Я чувствовал, что мои слова будут слишком большими для меня, маленького мальчика, и все же я сказал:
— Просто я понял то, что каждый должен понять. Не знаю, как я раньше этого не видел.
Человек на камнях. Агнец. Дети. Я смотрел на Саломею.
— Скажи мне, — попросила она.
— Да! — шепотом произнес я. — Как я раньше этого не видел?
— Скажи мне, — повторила Саломея.
— Это так просто. Но пока сам не поймешь, никакие объяснения не помогут, кем бы ты ни был.
— Я хочу знать, — просила Саломея.
— Вот что я понял. Все, что рождено в этом мире, не важно как, не важно зачем, все рождено, чтобы умереть.
Она ничего не сказала.
Я поднялся и вышел на улицу. Уже темнело. Я направился за деревню, на склоны холма, где трава была мягкой и нетронутой. Там, рядом с рощицей, было мое любимое место, где мне нравилось отдыхать.
Я нашел в небе несколько первых звездочек, пробивающихся сквозь сумерки.
Рожден умереть, повторил я про себя. Да. А иначе зачем я появился на свет от женщины? Зачем мне плоть и кровь, если я не должен умереть? Больно, нет, мне не вынести такую боль. Я вернусь домой в слезах, если не перестану думать об этом, но этого больше не должно случиться. Больше никогда.
Когда же ангелы придут ко мне, излучая такой яркий свет, что я не буду бояться? Когда ангелы наполнят небеса пением и позволят мне увидеть себя? Когда ангелы поселятся в моих снах?
Внезапно на меня снизошел покой — как раз когда я думал, что сердце мое взорвется.
Ответ пришел как будто от самой земли, от звезд, от мягкой травы, от деревьев неподалеку, от приглушенных вечерних звуков.
Я послан сюда не для того, чтобы искать ангелов! Не для того, чтобы видеть их во снах или слушать их пение. Я послан сюда, чтобы жить. Дышать, потеть, испытывать жажду и иногда плакать.
И все, что случилось со мной, и большое, и маленькое, произошло для того, чтобы я учился. В бесконечном уме Господа есть для этого место, а я должен искать во всем урок, как бы трудно мне ни приходилось.
Я чуть не рассмеялся.
Это было так просто, так прекрасно. Если бы я только удержал в себе это понимание, этот момент — не забыл бы в череде дней, не забыл никогда, что бы ни выпало на мою долю.
О да, я вырасту, и настанет время, когда я покину Назарет, несомненно. Я выйду в мир и сделаю то, что мне предназначено. Да. А пока? А пока мне все стало ясно. Мой страх ушел.
Мне казалось, что само мироздание держит меня на ладони. Как мне могло казаться, что я один? Я в объятиях земли, в объятиях тех, кто любит меня вне зависимости от того, что они думают или понимают, я в объятиях звезд.
— Отец, — сказал я, — я дитя Твое.
Послесловие автора
В основе каждого романа, написанного мной с 1974 года, лежит историческое исследование. Я горжусь тем, что, сколько бы элементов сверхъестественного ни включало в себя повествование, сколь фантастическими ни были бы мои персонажи и сюжеты, декорации, в которых разворачивается действие, всегда исторически точны. С годами читатели признали и оценили эту характерную черту моих произведений. Если роман описывает Венецию восемнадцатого века, то можете быть уверены: все детали, упомянутые мною в романе, будь то опера, наряд, обстановка, звание, — все соответствует действительности.
Мои исторические изыскания, начавшиеся с девятнадцатого века и давшие почву двум первым романам, помимо моей воли постепенно продвигались все дальше в глубь веков, к началу нашей эры, где я надеялась отыскать ответы на фундаментальные вопросы, которые волновали меня все сильнее и в конце концов превратились буквально в наваждение.
В самой сердцевине этого наваждения была фигура Иисуса Христа, а в более широком смысле — зарождение христианства и падение античного мира. Мне отчаянно хотелось узнать, что же случилось в первом веке и почему люди так мало об этом говорят.
Прошу вас учесть, что у меня за спиной старомодное, строгое католическое детство в ирландском приходе посреди Америки сороковых и пятидесятых годов. Такой приход сейчас назвали бы католическим гетто. Мы ежедневно посещали мессу и причащались в огромной великолепной церкви, построенной нашими предками, причем некоторые из них принимали в строительстве непосредственное участие. Школьное обучение было раздельным — мальчики и девочки учились в отдельных классах. Мы изучали катехизис, Библию и жития святых. Мозаичные окна, служба на латыни, подробные ответы на сложные вопросы о добре и зле — все это навсегда отпечаталось в моей душе, а также множество сведений из истории церкви, представленной нам в форме длинной череды событий, ведущих к победе над ересью и реформацией, кульминацией которых стало восхождение Пия XII на папский престол.
Я вышла из этой церкви в возрасте восемнадцати лет, потому что перестала верить, будто она была «единственно истинной Церковью Христа, дающей спасение души своим верным чадам». Утрата веры не была вызвана каким-то конкретным событием в моей жизни. Это произошло в студенческом городке, где я испытывала, во-первых, сильное сексуальное давление, а во-вторых, давление внешнего, некатолического мира. Меня окружало множество хороших людей, и они читали книги, которые мне читать строго запрещалось. А я очень хотела почитать Кьеркегора, Сартра и Камю. И я хотела понять, как так получается, что явно неплохие люди не верят в организованную религию, но при этом горячо желают вести себя правильно и наполнить свою жизнь смыслом. Консервативный католик, каким я в то время являлась, не имел возможности выяснить это. И я порвала с церковью. И с верой в Бога.
Двумя годами позже я вышла замуж за страстного атеиста Стэна Райса, который не только не был верующим, но и был преисполнен убеждения в том, что Бога не существует. Это был один из самых достойных и увлеченных наукой людей, которых я знала. И для него, и для меня жизнь состояла в писательском творчестве.
В 1974 году вышло в свет мое первое произведение. В том романе нашли отражение снедавшие меня печать и чувство вины оттого, что я отказалась от Бога и спасения, то есть отказалась от источника света и потерялась в темном мире. Действие разворачивалось в девятнадцатом веке, то есть в контексте, который я в свое время плотно изучала, стараясь побольше узнать о Новом Орлеане — городе, где я родилась, но больше не жила.
После этого я написала не один роман, не подозревая, что все они были этапами в моих поисках смысла в мире без Бога. Как я уже упоминала, я двигалась по истории обратно, отвечая на встающие передо мной вопросы об исторических событиях — почему происходила та или иная революция, почему королева Елизавета Первая была такой, какой она была, кто в действительности является автором пьес Шекспира (об этом я не писала), что такое итальянское Возрождение и на что была похожа Черная смерть — чума, поразившая Европу в середине четырнадцатого века.
В девяностых годах я вновь поселилась в Новом Орлеане, оказавшись в окружении людей, которые ходили в церковь и верили в Бога. Это были довольно покладистые католики с развитым мировоззрением. Общение с ними, несомненно, оказало на меня определенное влияние.
И тогда же я вновь окунулась в исследовательскую работу, потому что меня заинтересовала история Древнего Рима. Я задумала написать книгу о римлянах. Кто знает, вдруг в одном из пыльных томов я обнаружу то, что хотела узнать всю жизнь, а именно ответ на вопрос: почему христианство «случилось»? Почему Рим пал?
Для меня этот вопрос всегда был самым главным. Только ответив на него, мы сможем до конца понять, кто мы сегодняшние.
Помню, как в шестидесятых годах меня пригласили в один очень приятный дом в Сан-Франциско на прием в честь известного поэта. Среди присутствующих был ученый из Европы, В какой-то момент мы с ним оказались рядом, и я спросила:
— Почему пал Рим?
Его объяснения заняли два часа. Я не могла воспринять все, что он мне говорил, но никогда не забуду сведения, почерпнутые из той беседы, — какое количество зерна нужно было доставлять в Рим из Египта, сколько земель вокруг города занимали виллы, сколько людей жило за счет подачек богачей.
То был замечательный вечер, однако ощущения, что наконец-то мне стало все ясно, тогда не возникло.
В детстве мне пришлось изучать историю католической церкви, и, хотя уроки эти были вырваны из контекста и зерна знаний падали на неподготовленную почву, представление о нашем культурном наследии я тем не менее получила. Взрослея, я не могла не задаться вопросом, почему и при каких обстоятельствах происходили те или иные исторические события.
Однажды, будучи ребенком десяти-одиннадцати лет, я лежала на маминой кровати и читала — или пыталась читать — одну из ее книг. Меня поразила фраза о том, что протестантская Реформация разделила культуру Европы надвое. Она показалась мне абсурдной, и я спросила маму, правда ли это. Она ответила, что да, это правда. Я не забыла ее слов и всю свою жизнь старалась понять, что они означали.
В 1993 году я углубилась в тот период и, разумеется, не остановилась на нем, а пошла еще дальше, в историю Шумера и Вавилона, всего Среднего Востока, затем вернулась к Египту, который изучала в колледже. Мне пришлось много поработать. Я читала специализированные археологические тексты как детективы, выискивая закономерности. Меня захватила история Гильгамеша, я размышляла над малоизвестными деталями, например орудиями каменщиков, которые держали в руках античные цари (точнее, их статуи).
Под впечатлением этих изысканий я написала тогда два романа, но одно событие не нашло в них отражения. Дело в том, что я столкнулась с загадкой, у которой не было ответа. Она была столь невероятна, что мои попытки разгадать ее выглядели абсолютно безнадежными, и мне пришлось бросить их. А загадка вот какая: как выжили евреи?
Сидя на полу своего кабинета, окруженная книгами о Шумере, Египте, Риме и трудами скептиков, посвященных Иисусу, я не могла понять, как этот великий народ смог вынести выпавшие на его долю испытания.
Именно эта загадка возвратила меня к Богу. Именно она зародила во мне мысль, что, может быть, Бог действительно существует, после чего у меня возникло и постепенно стало непреодолимым желание вновь сесть за пиршественный стол. В 1998 году я так и сделала, вернувшись в лоно католической церкви.
Но даже тогда тема Иисуса Христа и христианства не перестала волновать меня. Зачарованная, я читала и перечитывала Библию, изумляясь ее многосторонности, поэтичности, поразительным портретам женщин, вкраплениями причудливых, порой жестоких и кровавых подробностей. Во время нередких приступов депрессии я просила, чтобы кто-нибудь почитал мне Библию вслух. Особое удовольствие мне доставляли литературные переводы Нового Завета, в частности замечательно точный и красивый перевод Ричмонда Латтимора. В его обработке знакомый текст открывается нам по-новому.
В 2002 году я отложила все другие дела и сконцентрировалась исключительно на вопросах, что не давали мне покоя столько лет. Окончательное решение было принято в июле того же года. К тому времени я читала Библию постоянно, цитируя отдельные отрывки вслух своей сестре, корпела над Ветхим Заветом и наконец осознала, что пришло время полностью отдаться этой проблеме: попытаться понять Иисуса и то, как возникло христианство.
Долгие годы во мне зрела мечта описать жизнь Иисуса Христа — и вот я почувствовала, что готова. Готова рискнуть своей карьерой. Писать мне хотелось от первого лица. Остальное не имело значения.
Книгу я собиралась посвятить Христу. Посвятить Христу всю себя и свой труд. Правда, как именно это сделать, я себе не представляла. Тогда я еще не знала, каков будет мой главный герой — Иисус Христос.
Разумеется, я уже была знакома со всеми популярными теориями об Иисусе — и то, что якобы значимость его личности была искусственно раздута, и что Евангелия написаны гораздо позднее, чем принято считать, и что на самом деле об Иисусе мы ничего не знаем, и что насилие и раздоры сопутствовали продвижению христианства с первых дней. Я приобретала все книги, которые хотя бы косвенно имели отношение к волнующей меня теме, так что постепенно в моем кабинете не осталось места ни для чего другого.
Однако глубокое и планомерное исследование началось в июле 2002 года.
В августе я переехала в свою квартиру на побережье, рассчитывая спокойно поработать. Какая наивность! Я и понятия не имела, что вторгаюсь в область, где ничто не установлено бесспорно — говорим ли мы о размере Назарета, о благосостоянии семьи Иисуса, об отношении галилеян к евреям в целом, о том, почему казнили Иисуса или почему его последователи понесли его слово в мир.
Что касается границ этой области, то они практически отсутствуют. Изучению Нового Завета посвящено огромное количество трудов, начиная с книг скептиков, которые пытаются развенчать значение Иисуса для богословия или для церкви, до произведений, авторы которых на каждый аргумент скептиков приводят контраргументы со ссылками длиной на полстраницы. В конце каждой книги — огромная библиография. От яростных споров кружилась голова.
А первичный источник сведений по первому веку сам является предметом длительных разногласий. Кто-то называет Евангелия первичным источником, кто-то — вторичным, а труды Иосифа Флавия[2] и Филона Александрийского[3] подвергались тщательному изучению на предмет их ценности и правдивости.
Столь же неоднозначны были мнения относительно Мишны, Тосефты и Талмудов[4]. Можно ли доверять их описаниям первого века? Действительно ли речь в них идет об Иисусе? А если нет, то имеет ли это значение, ведь в них не упомянут и царь Ирод, построивший храм?
О, сколько же литературы мне предстояло перечитать!
Позвольте мне вернуться на несколько лет назад. В 1999 году я получила от моего издателя и наставника посылку с экземпляром книги Паулы Фредриксен «Иисус из Назарета, царь евреев». Больше всего меня поразила та часть книги, в которой Фредриксен реконструирует среду еврейской общины Назарета, в которой мог бы жить юный Иисус, и где описывается возможное посещение мальчиком Иерусалимского храма вместе с семьей, чтобы отпраздновать еврейскую пасху — Песах. Фредриксен уверена в том, что Иисус был евреем и что необходимо учитывать это, когда пишешь или говоришь о нем.
И вот шестью годами позже я написала книгу, очевидно под впечатлением от описанной Фредриксен сцены. Мне остается лишь поблагодарить Паулу и признать ее влияние.
Разумеется, моя вера — полная противоположность убеждениям Фредриксен, как видно из моей книги «Господь наш Христос». Но именно эта писательница подтолкнула меня в нужном направлении, только с ее помощью я осознала, что Иисуса надо исследовать как еврея. Вот тогда-то и началась серьезная работа.
Но возвратимся в 2002 год. Только я приступила к книге, как пришло известие от моего мужа: у него обнаружили первые симптомы опухоли головного мозга, от которой он скончается четыре месяца спустя.
Мы были женаты сорок один год. После моего возвращения в лоно католической церкви он согласился обвенчаться со мной в великолепной старой церкви, которую я посещала в детстве; роль священника взял на себя мой двоюродный брат. Это венчание я считаю величайшим подарком со стороны столь ярого атеиста, каким был мой муж. Он поступил так из любви ко мне. Сорок один год он был моим мужем. А потом его не стало.
Не знаю, так ли это, но иногда мне кажется, что мое увлечение книгой о Христе было дано мне, чтобы я смогла пережить трагедию. Зато я твердо знаю, что в последние недели жизни муж, когда был в сознании, становился святым. Он любил всех, кто окружал его, и понимал людей, которых не понимал раньше. Он хотел одарить каждого, кто помогал ему в его болезни. А до этого, уже будучи наполовину парализованным, он сумел создать три удивительных полотна, не могу не упомянуть об этом. Период любви и понимания закончился медленным впадением в кому, и затем он ушел.
После себя он оставил более трех сотен картин, написанных за пятнадцать лет, множество поэтических сборников, изданных примерно в тот же период, а также тысячи неопубликованных стихотворений. Его мемориальная галерея вскоре переедет из Нового Орлеана на его родину — в Даллас, штат Техас.
Я работала над книгой на протяжении всей болезни мужа, вплоть до его смерти. Мои книги всегда помогали мне в трудные времена. Я рассказывала мужу о том, над чем работаю. Его восхищал мой замысел, он горячо одобрял его.
С декабря 2002 года, когда умер Стэн, и до 2005 года я изучала все, что относилось к периоду, описываемому в Новом Завете, и продолжала читать, днем и ночью. Огромное количество работ скептиков и критиков веры, ожесточенная полемика и первоисточники, в основном труды Филона и Иосифа Флавия, — это лишь часть прочитанного мною.
Начала я со скептиков — тех, кто развивал идеи мыслителей Просвещения, сомневающихся в истинности Нового Завета. Я ожидала найти в их трудах сильные аргументы, неопровержимые доказательства того, что христианство по сути своей — некий обман. Я боялась, что мне придется разделить свой ум на две части: в одной будет вера, в другой — истина. И что мне тогда писать о моем Иисусе? Я понятия не имела. Однако вариантов предлагалось множество: он был либералом, женатым человеком, многодетным отцом, гомосексуалистом… Кем только он не был! Но прежде чем написать хоть слово, я должна была тщательным образом изучить все доступные мне материалы.
Все эти критики веры были так самоуверенны. Они строили свои книги на неких допущениях, не доказывая и даже не объясняя эти допущения. Разве они могут быть ошибочными? Еврейские ученые обосновывали свою точку зрения так обстоятельно: само собой, Иисус был евреем или хасидом, и за это его распяли. Вот и все.
Я читала, и читала, и читала. Иногда мне казалось, что я двигаюсь по долине, сокрытой тенью Смерти, но я продолжала, готовая рискнуть всем. Я должна была узнать, кто такой Иисус, — то есть, если хоть кто-то в мире это знал, мне необходимо докопаться, что именно знал этот человек.
Да, я не умею читать ни на одном из древних языков, но, будучи ученым, я в силах проследить за логикой доказательства; я могу свериться со ссылками и библиографией; я могу отыскать перевод библейского текста на английский язык. И не один перевод, а все существующие! Я приобрела их все, от Уиклифа[5] до Ламсы[6], включая Новую Оксфордскую аннотированную Библию и старую Библию короля Джеймса, обожаемую мной. У меня есть и старый католический перевод, и всевозможные литературные переводы, а также редко упоминаемые в научных трудах переводы Барнстоуна и Шонфилда. Все эти переводы я приобретала в надежде на то, что они прольют свет на какую-нибудь непонятную строчку.
Постепенно мне становилось ясно, что большинству из утверждений скептиков — таких, например, будто правдивость Евангелий не вызывает доверия или будто написаны они были слишком поздно, чтобы считаться свидетельством очевидцев, — не хватает последовательности. Их доказательства нелогичны. Аргументы относительно самого Иисуса полны предположений и догадок. Некоторые книги являли собой нагромождения допущений и более ничего. Абсурдные заключения выводились на основании одного-двух фактов или вовсе из пустоты.
В итоге вся теория о небожественной природе Иисуса, который случайно забрел в Иерусалим, где его по какой-то причине распяли, и который не имел ничего общего с рождением христианства и пришел бы в ужас, услышав о такой вере, — вся эта теория, широко распространенная в либеральных кругах и часто слышанная мною на протяжении тридцати лет моего атеизма, обернулась мыльным пузырем. Ни одна из прочитанных мною книг не сумела убедительно доказать ее; более того, некоторые из этих работ оказались худшими и самыми тенденциозными из всех, что мне довелось видеть.
Скептические исследования, с которыми я знакомилась в тот период, оказались неубедительными. Все, в чем преуспели их авторы, это нарезка, реконструкция и превратное истолкование Евангелий, которые после таких операций теряли свою глубину и силу. Но, разумеется, если рассматривать Евангелия как собрание различных документов или как записи более поздних «общин», они лишаются всякого значения.
Меня не убедили и рискованные постулаты тех, кто называл себя детьми Просвещения. Более того, я заметила одну очень важную деталь. Многие из таких теоретиков, очевидно, посвятивших свою жизнь изучению Нового Завета, не любили Иисуса Христа. Кто-то насмехался над ним, кто-то откровенно презирал. Эта их позиция проступает между строк, ее буквально ощущаешь при чтении текстов.
Я никогда не сталкивалась с подобным явлением ни в какой другой области исследований, по крайней мере не в такой степени. Меня это озадачило.
Люди, занимающиеся изучением правления Елизаветы Первой, не приступают к работе с единственным стремлением доказать, что Елизавета была дурой. Они не испытывают к ней личной неприязни. Они не подшучивают над ней при любом удобном случае и не тратят годы на то, чтобы разобрать ее репутацию по косточкам. Их подход к этой исторической личности будет иным: объективным. И к лицам, окружавшим Елизавету, они не будут относиться с огульной неприязнью или презрением. Если же некий исторический персонаж вызывает исключительно отрицательные эмоции, то он обычно и не является центром исследований. Порою ученому приходится изучать злодеев, но в конечном результате он приводит доказательства их положительных качеств, или их важной роли в истории, или смягчающих обстоятельств и влияния окружения. Но в общем и целом исследователи не проводят жизнь в окружении исторических личностей, которых они открыто недолюбливают.
А вот среди специалистов по Новому Завету есть такие, которые ненавидят и презирают Иисуса Христа. Конечно, мы все понимаем, сколь полезно свободомыслие в академической среде. Мы получаем пользу от огромного объема исследований библейских первоисточников и ценим их работу. Я не требую введения цензуры. Но, может быть, авторам неплохо было бы с большим вниманием относиться к чувствам будущих читателей их трудов. Может быть, им следует проявлять большую осторожность, когда дело доходит до обобщений. То, что на первый взгляд кажется твердой почвой, иногда не более чем иллюзия.
И еще один момент вызвал у меня недоумение.
Все скептически настроенные исследователи настаивали, что Евангелия были написаны позднее, что пророчества, содержащиеся в них, относятся к периоду, следующему за падением Иерусалима. Но чем больше я читала о падении Иерусалима, тем больше озадачивалась.
Падение Иерусалима было настоящей катастрофой, сопровождавшейся разорительной войной, которая в Палестине не прекращалась долгие годы, а за ней последовали восстания и гонения, карательные законы. Когда я читала об этом у С. Дж. Ф. Брэндона[7] и у Иосифа Флавия, меня поразили описания этого ужасного события, в ходе которого был навсегда разрушен величайший храм античного мира.
Раньше мне не приходилось так тщательно исследовать тот период, я еще не пыталась понять его. Но теперь, тщательно изучив имеющиеся у нас свидетельства, я сочла абсолютно невероятным то, что авторы Евангелий могли не включить разрушение храма в свои писания, как предполагают их критики.
В этом не было и нет никакого смысла.
Авторы Евангелий принадлежали к иудеохристианскому культу. Вот чем тогда было христианство. И иудаизм по сути своей имел непосредственное отношение к исходу из Египта и к исходу из Вавилона. А до исхода из Вавилона было падение Иерусалима, после чего евреи оказались в Вавилоне. Как раз тогда и разразилась та чудовищная война. Могли ли христианские авторы не писать о ней, будучи ее свидетелями? Разумеется, не могли. Разве не увидели бы они в падении Иерусалима отголоски Вавилонского плена? Разумеется, увидели бы. Они ведь писали и для евреев, и для неевреев.
Скептики же просто отбрасывают подобные рассуждения и утверждают, что Евангелия относятся к более позднему периоду, основываясь лишь на евангельских пророчествах. Совсем неубедительно, по-моему.
Прежде чем я закрою вопрос еврейской войны и падения храма, позвольте мне сделать одно предположение. Когда ученые-библеисты начнут рассматривать эту войну серьезно; когда они начнут по-настоящему изучать, что случилось в годы страшной осады Иерусалима, разрушения храма и волнений, которые продолжались в Палестине вплоть до восстания под предводительством Симона бар Кохбы; когда они сосредоточатся на преследовании христиан евреями в Палестине, на гражданской войне в Риме в шестидесятых годах, которую Кеннет Л. Джентри так хорошо описал в своей работе «До того, как пал Иерусалим», а также на преследовании еврейской диаспоры в тот же период — то есть когда все события той темной эпохи окажутся на свету изучения, вот тогда библеистика изменится коренным образом.
Пока же ученые либо игнорируют, либо небрежно обращаются с фактами того периода. Некоторые просто считают их недоразумением двухтысячелетней давности, чего я, честно говоря, понять не могу.
Зато я убеждена, что ключом к пониманию Евангелий является тезис, что все они были написаны до того, как произошли упомянутые события. Вот почему они сохранились, хотя, несомненно, они противоречат друг другу. Они к нам пришли из времени, которое для поздних христиан было безнадежно потеряно.
Продолжая свои исследования, я обнаружила работу, весьма отличавшуюся от трудов скептиков, а именно книгу Джона А. Т. Робинсона[8] «Приоритет Иоанна». Автор серьезно отнесся к словам Евангелий, и, читая данный труд, я как будто воочию видела, что происходило с Иисусом в тексте Иоанна.
Это стало поворотным моментом. Я смогла «войти» в четвертое Евангелие и увидеть, что Иисус живет и двигается. И в конце концов я смогла воспринять уникальную целостность каждого Евангелия, их индивидуальность — неизбежную метку единоличного авторства.
Разумеется, Джон А. Т. Робинсон гораздо лучше меня доказывает верность более ранней датировки Евангелий. Он с блеском сделал это в 1975 году и позднее в книге «Читая Новый Завет» призвал к ответу либеральных ученых за их допущения, но то, что он сказал тогда, и поныне не утратило своей актуальности и справедливости.
После Робинсона я сделала для себя множество открытий, среди которых — Ричард Бокхэм, который в своей книге «Евангелия для всех христиан» убедительно опровергает мнение, что Евангелия созданы изолированными сообществами, и показывает очевидное — то, что они писались для того, чтобы передаваться из рук в руки и читаться всеми.
Работа Мартина Хенгеля[9] легко справляется с беспочвенными допущениями; достижения этого автора значительны, я продолжаю изучать его.
Невозможно переоценить труд Джакоба Нейснера. Его переводы Мишны и Тосефты чрезвычайно нужны, а его эссе блестящи. Это гигант. Из еврейских авторов безусловно стоит почитать Гезу Вермеса и Давида Флуссера[10]. Давид Флуссер привлек мое внимание к таким моментам в Евангелии от Луки, которых я раньше не замечала.
Среди книг, которые рассматривают вопрос освещения истории Иисуса в литературе и которые мне показались полезными, хотелось бы назвать отличный обзор Шарлотты Аллен под названием «Человеческий Иисус». В нем анализируется, как более ранние изыскания исторической подоплеки существования Иисуса повлияли на кинематографический образ Иисуса и его образ в художественной литературе. Работа Люка Тимоти Джонсона оказала мне неоценимую помощь, а также труды Рэймонда И. Брауна и Джона П. Майера. Крайне полезна оказалась книга Шона Фрейна о Галилее, как и труд Эрика М. Майерса.
Позвольте мне также упомянуть книгу Ларри Хуртадо «Господь Иисус Христос», книгу Крэга Л. Бломберга «Историческая достоверность Евангелия от Иоанна» и книгу Крэга С. Кинера, которую я только начала читать. И я искренне восхищаюсь Кеннетом Л. Джентри-младшим.
Роджер Аус всегда умеет научить меня чему-нибудь новому, хотя с его выводами я совершенно не согласна. Работа Мэри С. Томпсон — просто замечательна.
Хочу порекомендовать также работы Роберта Альтера и Фрэнка Кермоуда, где они рассматривают Библию как литературное произведение, и «Мимесис» Эриха Ауэрбаха[11]. В целом интересны были для меня труды Эллис Ривкин, Ли А. Левина, Мартина Гудмана, Клода Тремонтана, Джонатана Рида, Брюса Дж. Малины, Кеннета Бэйли, Д. Муди Смита, Д. А. Карсона, Леона Морриса, Р. Алана Калпеппера и великого Иоахима Иеремиаса[12]. Особая благодарность сайту BibleGateway.com.
Я находила что-то новое для себя в каждой книге, которую читала.
Исследователем, чьи труды послужили основой для моих самых важных откровений и по-прежнему дают пищу для размышлений, является Н. Т. Райт[13]. Это один из гениальнейших авторов, которых я читала, а великодушие, с которым он обращается к скептикам и комментирует их аргументы, дарит вдохновение. Его вера безгранична, а познания — обширны.
В его книге «Воскресение Сына Бога» он однозначно отвечает на вопрос, преследовавший меня всю жизнь. Христианство достигло того, чего оно достигло, благодаря тому, что Иисус восстал из мертвых, утверждает Н. Т. Райт.
Именно воскресение послало апостолов в мир с силой, необходимой для того, чтобы создать христианство. Ничто другое не смогло бы этого сделать.
Райт не только обосновывает данное положение, но и помещает его в историческую перспективу. Боюсь, я не смогу воздать ему по заслугам! В моих силах лишь порекомендовать его книги всем без исключения и продолжить изучать их самой.
Конечно, моя задача далека от завершения. Предстоит прочитать и перечитать тысячи страниц перечисленных выше авторов.
Еще не полностью изучены Иосиф Флавий, Филон Александрийский, Тацит, Цицерон и Юлий Цезарь. А сколько текстов по археологии остались пока за рамками моих исследований — я еще должна буду вернуться к Фрейну и Эрику Майерсу в Галилею. И пока я пишу, постоянно обнаруживаются новые находки на раскопках в Палестине и выходят в свет новые книги о Евангелиях.
Но теперь я вижу великую связь между жизнью Христа и зарождением христианства, которая ранее ускользала от меня, и также мне стали видны скрытые трансформации античного мира, вызванные экономической стагнацией и угрозой его устоям со стороны монотеистических воззрений, в результате которых еврейские ценности смешались с христианскими, к чему античный мир, вероятно, не был готов.
Кроме этого, я собираюсь изучить труды теологов — таких как Тейяр де Шарден[14], Ранер[15] и святой Августин.
Так вот, где-то посреди моего путешествия через все эти изыскания, разочаровавшись в скептиках и их неуклюжих попытках обосновать свои выводы, я поняла кое-что о своей книге.
А поняла я вот что: самое сложное состоит в том, чтобы написать об Иисусе, каким он представляется в текстах Евангелий!
Любой может написать о либеральном Иисусе, о женатом Иисусе, об Иисусе-гомосексуалисте, об Иисусе-мятежнике. Поиск «исторического Иисуса» обернулся шуткой из-за многочисленных определении, навешиваемых на Иисуса.
Настоящая же задача в том, чтобы взять Иисуса, каким мы видим его в Евангелиях — Евангелиях, которые становились для меня все более понятными; Евангелиях, которые привлекали меня как ясные свидетельства из первых рук, продиктованные писцам, несомненно, но в ранние годы; Евангелиях, созданных до падения Иерусалима, — итак, я увидела свою цель в том, чтобы взять евангельского Иисуса и попытаться понять или вообразить, что он думал и чувствовал.
Помимо канонических Евангелий существуют и легенды — так называемые апокрифы, например, волнующие истории из Евангелия детства, где описывается мальчик Иисус, который мог поразить насмерть одного ребенка, оживить другого, превратить глиняных птичек в живых воробьев и совершать другие чудеса. В своих изысканиях я сталкивалась с апокрифами довольно часто, в разных изданиях и переработках, и не могла не запомнить их. Не забыл о них и весь мир. Часть из них фантастичны, часть — забавны, в основном они все впадают в крайности, но тем не менее они дожили в памяти людей до средневековья и вплоть до наших дней. Эти легенды постоянно всплывали в моей голове.
В конце концов я решила использовать и этот материал, включить его в канонические рамки по мере своих сил. Я видела в апокрифах глубинную истину и хотела сохранить и передать ее остальным. Разумеется, это допущение. Но я сделала его. И возможно, допуская, что Иисус обладал сверхъестественными силами в раннем детстве, я в некоторой степени поддерживаю определение Халкидонского Собора о том, что Иисус был Богом и Человеком во все времена.
В любом случае я стараюсь быть верной Павлу, который говорил, что Господь наш «опустошил себя» ради нас: мой герой тоже опустошил себя от осознания свой божественности, чтобы страдать как человек.
Свою книгу я хочу предложить всем христианам — от фундаменталистов и католиков до самых либеральных христиан — в надежде, что затронутые мною консервативные доктрины покажутся им более понятными в конкретном контексте книги. Я предлагаю книгу и исследователям, которым, может быть, приятно будет видеть, сколько академических изысканий положено в написание этого произведения. И конечно, я предлагаю ее тем людям, которые всегда восхищали меня, которые были моими учителями, — хотя лично мы с ними не встречались и вряд ли встретимся.
Я адресую книгу и тем, кто ничего не знает об Иисусе Христе, надеясь, что на этих страницах вы его увидите в той или иной форме. Я писала этот роман с любовью к своим читателям, которые следовали за мной, какие бы повороты ни закладывало мое писательское воображение. Я надеюсь, что Иисус будет для вас таким же реальным, какими были для вас другие персонажи, посланные мною в наш с вами мир.
Действительно, разве Иисус наш Господь не является самым сверхъестественным, самым необычным, самым бессмертным героем из них всех?
Если вы дочитали до этого места, благодарю вас. Можно было бы включить сюда бесконечный список использованной литературы, но я не буду этого делать.
В заключение позвольте мне выразить искреннюю благодарность тем, кто все эти годы оказывал мне поддержку и давал вдохновение:
Отцу Деннису Хэйесу, моему духовному наставнику, который всегда терпеливо отвечал на мои богословские вопросы.
Отцу Джозефу Каллиперу, чьи проповеди по Евангелию от Иоанна столь блистательны и прекрасны. Время, проведенное мною в его приходе во Флориде, я считаю одним из самых плодотворных периодов в моей исследовательской деятельности.
Отцу Джозефу Лолуччи, чьи письма и богословские рассуждения служили для меня источником вдохновения.
Отцам-редемптористам, священникам моего прихода в Новом Орлеане, чьи проповеди поддерживали меня и чей пример был для меня ярким светом во тьме. Я с сожалением покидаю их. Образование, полученное моим отцом в редемптористской семинарии в Керквуде, штат Миссури, несомненно, изменило ход всей его жизни. Я в неоплатном долгу перед редемптористами.
Отцу Дину Роубинсу и отцу Кертису Томасу из прихода Рождества Господа нашего, которые гостеприимно приняли свою новую прихожанку. Я с сожалением покидаю их.
Брату Беллету Гиото, чьи письма были полны терпения, мудрости, замечательных озарений и ответов.
И наконец, благодарю Эми Трокслер, своего друга и компаньона, которая отвечала на волнующие меня вопросы, выслушивала мои бесконечные бредовые речи, которая ходила со мной на мессу и приносила мне причастие, когда я не могла пойти, всю помощь которой мне не выразить словами. Это Эми была рядом со мной в тот день 1998 года, когда я попросила найти священника, которому я могла бы исповедаться, который помог бы мне вернуться в лоно церкви. Это Эми нашла такого священника и привела его ко мне. Это благодаря примеру Эми в трудные первые месяцы посещения мессы на английском языке я смогла привыкнуть к богослужению, столь отличному от того, что я когда-то знала. Я покидаю Эми, как покидаю Новый Орлеан, с глубочайшим сожалением.
Мои возлюбленные сотрудники, мои дорогие друзья, мой редактор Вики Уилсон, которая читала и правила рукопись с большой пользой для конечного результата, моя семья — спасибо им всем. Я живу окруженная их любовью. Это истинное благословение.
Что касается моего сына, то эта книга посвящена ему. Тут нечего добавить.
6 часов утра, 24 февраля, 2005 года
Примечания
1
Талит (талес) — мужское ритуальное покрывало у евреев.
(обратно)2
Иосиф Флавий (37 н. э. — после 100 н. э.) — древнееврейский историк.
(обратно)3
Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) — иудейско-эллинистический религиозный философ. Соединял иудаизм с греческой философией.
(обратно)4
Мишна, Тосефта, Талмуд Иерусалимский, Талмуд Вавилонский — священные книги иудаизма.
(обратно)5
Джон Уиклиф (ок. 1320–1384) — английский ученый и священник, осуществивший первый полный рукописный перевод Библии на английский язык.
(обратно)6
Джордж М. Ламса (1892–1975) — редактор и переводчик Священного Писания с арамейского языка, известного как Пешитта.
(обратно)7
С. Дж. Ф. Брэндон — английский профессор сравнительной религии, автор нескольких книг и монографий об Иисусе Христе.
(обратно)8
Джон А. Т. Робинсон (1919–1983) — британский священник и ученый, епископ англиканской церкви, автор многих книг.
(обратно)9
Мартин Хенгель (р. 1926) — немецкий протестантский библеист, богослов и историк.
(обратно)10
Давид Флуссер (1917–1999) — профессор Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Иисус».
(обратно)11
Эрих Ауэрбах (1892–1957) — немецкий филолог и культуролог, специалист по романским языкам и литературе.
(обратно)12
Иоахим Иеремиас (1900–1979) — немецкий протестантский библеист и экзегет.
(обратно)13
Н. Т. Райт (р. 1938) — епископ англиканской церкви, ведущий исследователь Нового Завета.
(обратно)14
Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) — французский ученый-палеонтолог, философ и теолог, один из первооткрывателей синантропа.
(обратно)15
Карл Ранер (1904–1984) — крупнейший католический теолог XX века.
(обратно)

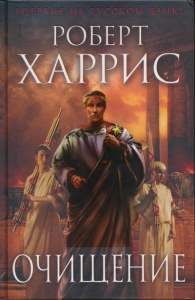
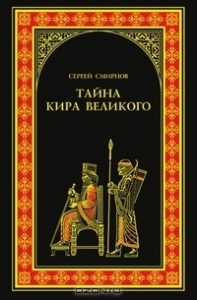

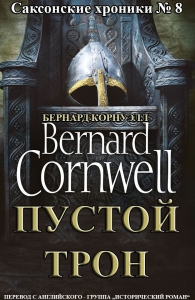

Комментарии к книге «Иисус: Возвращение из Египта», Энн Райс
Всего 0 комментариев