Хесус Маэсо де ла Торре Пророчество Корана
Часть первая Время гнева
И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
Откровение, 21: 10-13День знамения
Рассвет едва брезжил, когда послышался конский топот.
Топот затих у речного тростника, всадник приподнялся в стременах, оглянулся, желая удостовериться, что никого нет. Кругом натянутой струной стояла тишина, затем послышался короткий всплеск, будто удар веслом по воде. Перестук копыт возобновился, и неясный силуэт исчез в размытом сумраке раннего утра.
Двое путников, спавших в густой траве, проснулись в тревоге, но вокруг снова слышалось лишь фырканье пасшихся на лугу вьючных животных и кваканье лягушек. Они бежали от чумы и скопления людей в пораженных Палермо, Кантабрии и Провансе, боясь, что Бог дозволит «черной смерти» проникнуть и опустошить районы Арагона и Кастилии. Привыкшие к разным перипетиям на своем долгом пути, они обеспокоились этим рассветным явлением всадника.
Тот, что постарше, поднялся, побуждаемый непреодолимым любопытством, прихватил кривой нож и направился в сторону, где останавливался неизвестный. Его товарищ тем временем ворочался под накидкой, словно сонный червь. Осторожные шаги привели первого к месту, где в едва различимых тенях рассвета был виден какой-то мешок, медленно погружавшийся в густую тину заболоченной речной заводи. Человек пристально вглядывался, затем вздрогнул, издав возглас изумления:
— Будь я проклят, если это не ребенок!
Он подтянул к себе мешок, развязал узел, и перед его глазами появилось тщедушное и окровавленное тельце новорожденного существа, завернутого в белотканый капот, источавший ужасный запах.
— Святой Боже, — выдохнул он, показывая трупик подошедшему спутнику.
Тот внимательно осмотрел отросток на месте пупочка и тоже ужаснулся варварству произошедшего. Тронул приоткрытый ротик, из которого торчал в сторону черный язычок.
— Ребенка извлекли из чрева матери до того, как взошла луна, — негодуя, констатировал он. — А накидка мне кажется знакомой.
— Монахини ордена цистерцианцев [1], — пояснил тот, что постарше. — Я полжизни провел в монастырях и знаю этот покрой. Обитель Святого Бернарда, это уж точно.
Юноша медленным движением прикрыл трупик, чувствуя прилив отчаяния.
— Даже в монастырях уже не найдешь милосердия, — проговорил он с тоской.
— Да еще некоторые из них превратились в бордели для благородных господ, где блуд обычное дело, — откликнулся старик. — Надо ее похоронить, чтобы зверям не досталась. Уверен, что малышку даже не причастили, а мертворожденное создание навлекает беду.
— Варварство и жестокосердие царят и в здешних королевствах, — проговорил его спутник. — Запрягай коня, в городе скоро открывают ворота.
* * *
Наконец установилась сухая погода, воздух наполнился ароматами весны, хотя день намечался серый, с легкими бронзовыми солнечными тонами, оттененными пурпуром. Молчаливые путешественники, чье настроение было изрядно подпорчено, перевалили через холмы и влились в вереницу людей, направлявшихся к городу, который стряхивал с себя ночную сонливость, там и сям пуская первые печные дымы. Старик на козлах управлял видавшей виды повозкой, в которой висели сумки с ланцетами для операций и пускания крови, с сосудами для снадобий, мазей и пластырей, а его напарник трусил следом на неповоротливом и своенравном муле.
Еще издалека послышался скрип открываемых настежь городских ворот; путники миновали вереницу бредущих слепцов, подбадривавших себя краткими молитвами, и задержались на холме Санта-Хуста. Внизу сверкала Севилья, давняя цель их устремлений. Город стоял под охраной розоватых башен, словно плодовитая самка, окруженная упитанными отпрысками.
Остались позади нелегкие переходы, блуждания, всевозможные лишения — и вот, наконец, их взорам предстал город, паривший над тихими водами Гвадалквивира. Усталые взоры путешественников услаждали изящные постройки, пригородные сады с пальмами, миртами и цветущими лимонами. Меж отводных каналов высился целый бастион минаретов превращенной в кафедральный собор мечети, и пять ее сферических куполов с полумесяцем, а еще Золотая Башня Бурх ад-Джахаб, чьи тронутые рассветными бликами изразцы казались зеркальными.
Взгляд молодого путника, выглядевшего совсем юным, хотя ему было давно за двадцать, потеплел от чарующего и умиротворенного облика города, открывшегося перед ними. Закрыв глаза, он полной грудью вдыхал новые запахи, затем откинул капюшон из зеленого фетра, и миру явился орлиный нос над густыми усами, тщательно подстриженная острая бородка и короткая каштановая грива, окаймлявшая смуглое мужественное лицо. Глаза путника лучились доброжелательностью. Он умел вести себя как кабальеро, хотя находились люди, которые презирали его профессию целителя.
— Нутром чую, Фарфан, кончатся здесь наши передряги и дела пойдут в гору. А если еще и Всевышний поможет, жизнь повернется к нам самой благодатной стороной, — обратился молодой спутник к своему товарищу, коренастому старику, морщинистому и седовласому, который глядел на него из-под густых бровей.
— Ну да, вся наша жизнь только и состоит в том, чтобы колесить на нашей повозке туда-сюда, лечить карбункулы и понос да вкушать дрожжевой хлеб с копченым мясом, так что мне все равно, где пустить корни — здесь, в Сарагосе или в Толедо. Такую судьбу — уж не счесть ли высоким подвижничеством, — последовал иронический ответ.
— Все сущее не очень-то балует людей, что да то да. Но такова реальность — и смех, и слезы требуют своей лепты, — заулыбался в ответ молодой человек, пришпоривая мула.
Позади остались буйно цветущие сады, взгляд старого Фарфана следил за стаей ворон, низко пролетавшей над городскими укреплениями.
— Вот и это мне не нравится, — нахмурил он брови. — Эти птицы — предвестники беды.
Они миновали толпу поденщиков на акведуке у башни Кармоны, одной из четырнадцати башен, возвышавшихся над крепостными стенами, и вошли в город, раскошелившись на один мараведи [2] по требованию угрюмого стражника, который проверял, нет ли прокаженных в толпе калек или какого-нибудь гранадского мавра, затесавшегося среди вьючных животных. Для вновь прибывших окунуться в будничную суету такого большого и богатого города, как Севилья, было, конечно, в диковинку.
Белые площади окаймляла герань, устилавшая выступы и балконы зданий. Торговые ряды и переулки манили ароматом жареного и специй, здесь сновала целая орава коробейников, ходили надушенные дамы, молодые люди простецкой наружности, монахи в немалом количестве. Озабоченно спешили подмастерья, и никуда не торопились праздные граждане — они сторонились, давая дорогу повозкам, стремившимся в общем хаотичном движении на рынок в Алатаресе или к городскому порту, заполненному галерами и экзотическими торговыми судами, пришедшими сюда с Востока, из Фландрии, Берберии и Африки.
Привлеченные изобилием, они направились к Алькасару, предусмотрительно давая дорогу золотарям, которые с возгласами «Эй, посторонись!» везли содержимое ночных горшков местных обитателей, проехали впритирку к ступеням кафедрального собора Девы Марии, бывшей арабской мечети, мимо мавританского минарета, служившего теперь соборной колокольней — их король Фернандо [3] приказал побежденным альмоадам [4] под страхом смерти не трогать.
Далее они проследовали по переулкам Франкос и выехали на тесную площадь Сан-Франсиско, где увидели трех выставленных после ужасных пыток преступников — видимо, грабителей или оговоренных евреев, — они агонизировали на своих колодах, жажда и целый рой мух усугубляли их страдания. Здесь же на позорном столбе, стеная, висел содомит с выколотыми глазами и истерзанным телом. «Обвинен в содомском грехе» — гласила назидательная табличка, висевшая на его шее. Фарфан сплюнул в его сторону и перекрестился, а его хозяин отвел взгляд. Ему показалось, что для одного дня они повидали уже слишком много жестокостей.
Путники прошлись по лавкам рынка пряностей и задержались у ворот одного двора, привлеченные плеском воды, струившейся по каскадам, и ароматами лаванды и сандала. Это были бани королевы Хуаны, располагавшиеся на задворках обители Сан-Ильдефонсо в тени плюща — заведения чудные и невиданные в северных землях, откуда явились наши путешественники. Молодой человек с делано безразличным видом спросил своего помощника, хотя знал ответ заранее:
— Фарфан, может, нам стоит искупаться, смыть дорожную грязь? Не мешало бы. Давай, соберись с духом, по твоей гриве просто плачет мыло!
— Сеньор, ты как хочешь, но я в воду не полезу до самого Троицына дня. Обет дал, — уклонился тот.
Через час, пока слуга дремал в жарких волнах полуденного марева, молодой человек появился заметно посвежевший и элегантный. От источников они двинулись по направлению к многолюдному кварталу Омниум-Санкторум [5], обогнув пахучее сонмище ярмарки [6], пока их не привлек звон колокольчиков и запах жаркого в подворье с галереями, выходившими в патио с побеленным известью колодцем и поилкой для вьючного скота.
Между сухих лоз покачивалась бронзовая вывеска, на которой буквами соломенного цвета значилось название постоялого двора: «Дель соль». Хозяин его был хромым, с лицом, покрытым оспинами; окинув взглядом вновь прибывших, он оценил их бедноватый вид, расхристанную повозку, перешитые камзолы, отметив хорошие манеры молодого человека. Любезным жестом он пригласил их во двор, потом показал комнатку со скудной обстановкой и явно обжитой клопами кроватью и протянул руку за несколькими мараведи в качестве предварительной платы.
Новые постояльцы охотно подкрепились в здешней харчевне, где мальчик-негритенок поднес им вино, отдающее мускусом, козий сыр, две миски доброго рагу из говядины, колбасы и капусты. Отсюда, из этой забегаловки, можно было попасть в целый ряд комнат-борделей и подсобных помещений, куда заглядывали, по-видимому, обитатели самого дна городской жизни.
— Тут, думаю я, можно всего за парочку мараведи переспать с доброй бабочкой, — предположил слуга, ковыряя в зубах.
— Насколько я понимаю, тут сплошь одни мавританки и старые шлюхи, так что, Фарфан, лично я обойдусь.
Он уже доскребал миску, когда его взгляд упал в переулок. По нему как раз проходила некая дама, которую сопровождали две дуэньи и горбатый несуразный карлик. Особа эта мгновенно привлекла его интерес. По-видимому, она была натурой властной и достаточно самостоятельной, за ней тащилось несколько калек, просивших милостыню. О ее лице с крупными чертами, не имевшем ни малейших следов каких-либо притираний, даже трудно было сказать, мужчине или женщине оно принадлежит. Народ склонялся перед ней и крестился с некоторой боязливостью. Поверх накидки из белой холщовой ткани висел нагрудный крест и были, по монастырскому обычаю, нашиты языки пламени. Однако у незнакомки был до того обольстительный взгляд, что юноша, снедаемый любопытством, высунулся в окно, чтобы получше ее рассмотреть, но незнакомка уже исчезла за углом в лабиринте переулков.
— Проклятье! — воскликнул он, стараясь скрыть досаду.
— Что-то ты не в себе, хозяин. Эта служанка Господня тебя явно зацепила. И как же тебя тянет на всякую авантюру. Никак жизнь не научит?
— Эй, хозяин, кто эта женщина? — спросил молодой человек, вернувшись к трапезе и отпивая разбавленное дешевое вино, отдававшее запахом мускуса. — Вы ее знаете?
— Да кто в Севилье не знает мать Гиомар? Эта монахиня творит чудеса! Сказывают, что она лечит опухоли и нарывы, а еще избавляет от дурного глаза и изгоняет демонов. Монашеский обет не принимала, она из тех, кто просто затворяет себя в монастырской обители, чтобы творить милость. Общается с паломниками и предсказывает всякие события. Многие боятся ее, потому что она знакома с магией, сколько раз спасалась от пожара. Что до меня, то предпочитаю к ней не приближаться, сеньор; она доверенная королевы Марии [7], а обманутая женщина всегда опасна.
— Ладно, Фарфан, давай не будем терять времени и устроим сиесту. Благодарение Богу. — И они, миновав загон со свиньями, предались отдохновенному сну в прохладе своей комнатушки.
* * *
Усталые, они тут же заснули в затемненном помещении под блеяние овец. Однако скоро их разбудил громкий гвалт, какая-то тревожная беготня, отдаленный звон колоколов, хлопанье дверей, шуршание юбок по всему двору. Постояльцы откинули дурно пахнущие занавески и выглянули наружу. И не поверили своим глазам: солнечный день только клонился к вечеру, но на небе показались звезды.
— Была же ясная погода? Урагана вроде нет.
— Кажется, солнце гаснет, — откликнулся Фарфан. Движение воздуха разом прекратилось, и апельсиновые деревья с яркими цветами погрузились в пепельную серость. Оба новых постояльца выскочили наружу и двинулись через ворота Мастеров вместе с молчаливой толпой, покинувшей дома в страхе перед все более темневшим небесным сводом. Атмосфера казалась невыносимой, ледяной страх накатил на весь город. Слышались причитания, испуганные крысы опрометью кидались прятаться.
Колокола, пробившие набат, замолчали, разом прекратилось пение птиц и работа в мастерских. Закрывались ставни, люди испуганно бормотали молитвы, пытаясь найти объяснение непонятному явлению. Похоже, природа отреклась от мудрых Божьих законов, правивших миром.
— Смотрите, смотрите, солнце встретилось с другой планетой, она его окровавила! — вскрикнула какая-то женщина, указывая на исчезающее светило.
— Это явление царства Антихриста! — боязливо откликнулся какой-то церковник.
После нескольких радужных и неверных бликов тьма окончательно победила дневной свет, некая заблудшая планета встала между людьми и солнцем. До заката было еще далеко, но настоящая ночная темень накрыла город, в небе разверзлась черная бездна. Суеверный ужас охватил жителей. У Фар-фана, вперившего зрачки в чудесное явление, с затылка стекал пот.
— Сеньор, воздух холодный и какой-то противный. Животные испуганы. Все обещает беду.
— Успокойся, — проговорил молодой человек. — Запах идет от реки, там кожная мастерская и дубильня, а темнота скоро пройдет. Астрономы называют это «эклипсис» — солнечное затмение.
Однако темень, казалось, установилась навечно; народ, запаниковав, вышел из оцепенения и кинулся к церквям, дети жались к юбкам своих мамаш, все чувствовали мощь этого природного явления, не предвещавшего ничего хорошего.
— Чуете запах серы? — кричал какой-то возбужденный монах. — Это знак второго пришествия! Я слышал, в Кордове молния ударила в голову святого Рафаила, а в Риме и Авиньоне подняли голову вероотступники!
— Стаи голодных чудищ-волков добрались до могилы апостола! — заверял какой-то погонщик.
— Это верный знак того, что сатана точит свои десять рогов! — в ужасе вещал некий капеллан. — Злой дух овладел небесами! Боже милостивый!
— Мать Гиомар предсказала это: «Солнце оденется в траур, луна окровенится, звезды попадают с неба как перезрелый инжир»! — припомнил монах.
Ужас объял окрестности, слышались молитвы и жалобные возгласы, будто люди надеялись с их помощью убедить заблудшее небесное тело уйти с пути солнечного света. Все замерло до тех пор, пока мало-помалу лик светила не начал проясняться, стирая звездный спектр сначала багряными лучами, потом они заполнили небосвод, и люди отвернули лица, не в силах смотреть. После нескольких мгновений молчания всех охватило возбуждение; послышались самые необычные объяснения случившемуся.
— Sancta Maria Dei genitrix, ora pro nobis! [8] — слышалась скороговорка стоявшего на коленях капеллана.
Повсюду стали открываться двери, на углах собрались целые толпы толкователей удивительного явления. Колокольни робко возобновили свой перезвон, и, как и ожидалось, колокол кафедрального собора стал сзывать народ на крестный ход по поводу избавления от напасти.
Его устроили доминиканцы, и множество взбудораженных прихожан с молитвами протянулось по улицам в клубах ладана, умоляя Спасителя смягчить свой праведный гнев и благодаря за счастливое возвращение светила. Во главе процессии шел монах с пылающим взором, в пыльной холщовой рясе. Он на манер Левиафана возглашал, потрясая большим распятием:
— Это поклонники нечистого и ложно обращенные ослабили единение с Богом! Близок Агнец, заблудшее небесное тело предвещает это!
— Господь всемогущий, посетивший нас, мы ждем твоего пришествия! — слышалось из толпы.
Толпа втянулась в собор, где клирики в истерии жалобных пророчеств выставили реликвии святого Флорентия и возносили им молитвы. Какой-то монах с лоснящейся бородой разразился потоком проклятий в адрес иудеев, которые-де упорствуют в ереси и являются истинными виновниками зловещего затмения.
— Miserabile magnum! [9] — вещал он, подергиваясь. — Их род проклятый, который распял Христа, теперь в своих синагогах науськивает дьяволов, чтобы они сдвигали планеты с орбит.
— Ora pro nobis, Domine! [10] — вторила ему запуганная толпа.
— Знамения не лгут: волосатые гомункулусы поедают сердца в Берберии, злые духи в ведьмовском обличье устраивают беспорядки в Аквитании [11], женщины рожают бестий в Тулузе! — голосил монах. — Пусть Божья кара настигнет это треклятое племя!
Гнев расцветал в сердцах разгоряченной паствы, которая нашла виновника и причину случившегося грозного явления и в расползавшейся молве направила свой гнев на евреев, которые, сидя в пределах своего квартала по приказу коменданта и по настоянию великого раввина, в страхе пережидали, пока не улягутся страсти.
С наступлением настоящих сумерек священник благословил склоненные головы собравшихся, призвав сомкнуть ряды перед кознями дьявола и быть бдительными перед возможными бедами, предвиденными небесным явлением. Паства спешила по домам, поглядывая по сторонам, нет ли поблизости какого-нибудь злокозненного марана [12] с крючковатым носом.
— А люди здорово напуганы затмением, — заключил Фарфан, когда они направлялись обратно на постоялый двор.
— Они целиком во власти невежества и этого представления
О мире, основанного на каре небесной, — ответил его хозяин. — Сдается мне, что для евреев скоро запахнет паленым, хотя затмение — не более чем знак нормального хода Божьей природы.
— Да уж, хватает во вселенной потрясающих вещей, — покивал головой Фарфан.
— Мои учителя в Саламанке и Монпелье [13] без труда предсказывают подобные чудеса с помощью сфер Николая Орезмского и таблиц Роджера Бэкона [14]. Чудо, которое здесь наделало столько шума, определено естественной логикой мироздания.
Теплый ветер донес до них запах цветущих апельсинов, можно было с наслаждением подышать полной грудью. Они поспешили утолить свой голод краюхой хлеба, слабым винцом «Гуадейра» и куском вяленого мяса, а затем вручить себя провидению, от которого зависел первый день их работы.
Уже закрывшись в каморке, молодой человек, перед тем как затушить светильник, пошарил в дорожном мешке и вытащил кошель, где хранил самые ценные вещи. Аккуратно развязав его, он извлек медный цилиндр с медицинскими дипломами университетов Салерно и Эльмантики [15]. Позади остались годы, проведенные в аудиториях Саламанкского университета, гостеприимный дом на улице Руа, утомительное странствие на пару с верным Фарфаном по деревушкам Кастилии и Арагона, где они по дороге лечили фурункулы и вправляли кости, жизнь в Каркасоне, Салерно и Монпелье, где у Арнау де Вилановы [16] и у маэстро Мондино он обучался премудростям хирургического мастерства, а также изучал наследие исламского ученого Масихи, весьма почитавшегося медиками Европы.
Он проводил долгие вечера, неустанно роясь в старых библиотеках, на полках монастырей, в которых занимался целительством, руками, закапанными жиром светильников, разворачивал старые пергаментные свитки, исписанные арабской вязью в лучшие для медицины времена, изучал правила хирургии, составленные в Кордове, пытаясь доискаться до древних утерянных премудростей врачевания.
Бубонная чума заставила их отказаться от предложенного в Сарагосе места и попытать счастья на юге, хотя слуга сегодня же стал уверять, что приметы первого дня не могли быть более неудачными, так что вряд ли их жизнь в этом городе закончится добром. Молодой человек раскрыл потрепанную объемистую книгу. Это был «Канон врачебной науки» Авиценны на арабском языке. Молодой человек высоко ценил этот трактат, хотя и считал его неполным. Взяв тростниковую палочку для письма, скляночку, содержащую атраментум [17] и лист пергамента, он начертал готическим шрифтом:
ЯГО ФОРТУН
Целитель язв и грудных опухолей
Магистр университета Саламанки
— Прикрепи на дощечку и повесь на двери. Пусть о нас знают.
— Ты начнешь как врач гребцов, шлюх и жуликов, потому что других людей на постоялом дворе не наблюдается. Но лиха беда начало, Яго. Уж ты знаешь толк в снадобьях, можешь обезболивать, а еще убеждать — это просто талант в таком деле.
— Ну да, такие качества, наверное, не очень презренны, — ответил молодой врач, иронически усмехнувшись.
Перед тем как лечь в постель, он вышел во двор, вспомнил о таинственной монахине, которую ему довелось увидеть прямо у стен постоялого двора, и стал размышлять: кем в действительности является эта ясновидящая и кем приходится ей этот ее уродливый карлик? Если она — наперсница королевы доньи Марии, то должна владеть невероятными секретами, если помнить о взаимной вражде между четой монархов Кастилии.
Поверх черных силуэтов кипарисов и минаретов стояла желтая луна, отражаясь в ясных водах Гвадалквивира.
Судья для блудниц
Поутру Яго и Фарфан оделись получше и прошлись по границе еврейского квартала, вход в который через ворота Привилегий на рассвете открыл стражник. Попробовали булки с кунжутом в Платяных рядах, глядя, как солнце лениво облизывает колокольни церквей, сзывавших людей к воскресной мессе. Тем не менее, несмотря на умиротворение, царившее на улицах, горожане продолжали шушукаться между собой о недобрых причинах вчерашнего небесного казуса, следствием которого могло быть появление в любой момент на бывшем минарете у храма Святой Марии самого Антихриста с адовой сворой демонов.
— Какой замечательный повод для слухов и измышлений, — заметил врачеватель.
— Страх рождает суеверия, мой господин. Огради нас, Боже, от этого.
Повернув за угол обители архиепископа, они увидели толпу праздных прихожан. Это были большей частью монахини и дуэньи, которые входили в ворота у главного храма и толпились во дворике под сенью апельсиновых деревьев. Оттуда доносился громкий голос, сзывавший на воскресную проповедь.
— Подойдем ближе. Там, в храме, что-то происходит.
Внутри люди с испуганными лицами окружали импровизированный помост, на котором под мумифицированным крокодилом на портике выступал, жестикулируя, доминиканец с толстым двойным подбородком:
— Знак, поданный нам небом, говорит о многом, братья! — Голос его для убедительности то и дело возвышался. — Исполняется откровение апостола, и было бы негоже презреть его, в то время как злокозненное племя рядом с нами выжидает своего часа. Злой дух со своими подручными возвращается, с этими хулителями и палачами Христовыми, неисправимыми ростовщиками! Приближается явление Христа [18], вот о чем подан знак, дети мои, вот когда нам понадобится милосердие Божие, и не избежать никому Страшного суда.
Люди стояли безмолвно, впечатленные эмоциональной речью проповедника, который перемежал проклятия паузами и постукивал кулаками по поручню. Он говорил о библейских напастях, катастрофических бурях и исчадиях ада, потом сделал красноречивую паузу.
— Но может ли устрашить что-нибудь паству Божью? — торжественно спросил он, указав на сундучок, стоявший у его ног. — В какой-то мере да, братья. Но вас способна охранить милость, которой располагает мать святая церковь. Вот простое средство: булла, которая предохранит вас от зла. С благословления Папы Иоанна Авиньонского и покрова Святой Девы — заступницы страждущих она освободит вас от пагубных последствий небесного чуда при помощи пятилетних индульгенций, которые поддержат вас в противостоянии злому духу.
Тут же раздался ропот облегчения среди слушателей. Слава Богу, как им повезло с этими индульгенциями, они-то и помогут избежать неведомых последствий солнечного затмения и заговора маранов. Многие тут же подняли руки и стали проталкиваться к монаху, прося выдать им благословенную грамоту немедленно.
— Спокойно, братья, хватит на всех. Раздачей займется брат Пелагио, с каждого возьмет по три мараведи в качестве подаяния. Но если христианская совесть ваша подскажет вам дать больше, то Господь зачтет это, когда будет забирать вас на небеса. Да пребудут с вами всеми благодеяние и милосердие, дети мои. Аминь.
— Аминь, аминь, о сеньор! — откликнулась паства, осеняя себя крестом.
Благословив присутствующих, священник сомкнул руки в рукавах сутаны и исчез, довольный собой, за дверью алтаря. Между тем прислужник, монах простецкого вида, занялся раздачей рукописных индульгенций — маленьких кусков пергамента, залитых сургучом с печатью ордена Прорицателей и ключами апостола Петра, кротко приговаривая: спасибо, брат, спасибо, сестра. Наконец сундучок полностью поменял свое содержимое, наполнившись вместо бледных пергаментных грамот золотым сиянием сотен монет.
— Как видно, слепой гнев против евреев по-прежнему силен, и это свидетельствует о том, что кто-то раздувает вражду между общинами, которые мирно дотоле уживались, — констатировал Яго. — Сдается мне, чья-то корыстная воля движет этими бессовестными сборщиками податей от имени Бога, они пользуются невежеством, чтобы набивать мошну и брюхо.
— Молчи, сынок, нас могут услышать, хватит богохульствовать, — перебил его Фарфан. — Может, и нам купить одну буллу, чтобы уберечься от влияния заблудшего небесного тела?
— Лучше потратить эти деньги на милостыню какому-нибудь голодному бедняге. Или тебе кажется более благородным то, что проделывают эти святоши?
— Накличешь ты бед на голову своим языком, — проворчал слуга.
В восстановившейся тишине они прошли к часовне, полускрытой во тьме за коптящими свечами и поднятой пылью, где царил неуловимый мистический дух. Здесь, готовясь к Святому причастию, молились несколько дам под шелковыми черными вуалями, и Яго поддался их эмоциональному настрою. Он замер посреди молельни, где высился саркофаг короля Фернандо III, окуриваемый благовониями. Ромбовидные снопы света от фонарей высвечивали неуловимые арабески; молодой человек в волнении приблизился, чтобы прочесть эпитафию, высеченную на четырех языках Кастилии — латинском, кастильском, арабском и еврейском:
Пусть Великий Король наш, добрый, справедливый, великолепный и милостивый, покоится в Эдеме, тот, кто завоевал Сефарад, кто боялся Бога, ценил друзей и завоевал Севилью, главный город Испании, где и почил в месяц Сиван, год 5012 от сотворения мира.
«Вот кого почитали три народа, и все внесли свой вклад в прославление этого белого города. Но то были другие времена и другие люди», — умиротворенно размышлял лекарь.
Его глаза остановились на отрешенных кафедральных певчих, которые с видимым безразличием монотонными голосами начинали пение сексты, и подумал: «Что ж вы так слепы? В саркофаге лежит человек, осчастлививший вас столькими благодеяниями и давший ответ на главный вопрос вашей жизни, который вы отринули: терпимость».
Опустив голову, он покинул храм и направился к постоялому двору, погруженный в тягостные размышления, которые заставляли его сомневаться в своей вере. Белоснежный храм сиял словно живое серебро, птицы и цикады прекратили свой пронзительный концерт и попрятались в листве чудных севильских садов.
* * *
Было за полдень, когда Яго и Фарфан отправились обедать в харчевню постоялого двора «Дель Соль» с его молодым вином из дубового бочонка. Аппетиту способствовал огромный кусок бараньего мяса, подвешенный на нескольких крюках. В глубине с азартом резались в карты солдаты из корпуса морисков [19], грозного военного контингента наемников, который был призван противостоять воинствующим африканцам гранадского султана, пошаливавшим на границе и отличавшимся особой жестокостью.
Между партиями они нарезали себе куски козьего сыра и пили, изъясняясь на неповторимом жаргоне здешних харчевен, наполняя шумом всю гостиницу. Вокруг сновали портовые бродяги, попрошайки мерзкого вида и размалеванные шлюхи, бесстыдно дававшие себя щупать. Пока группа комедиантов, одетых арлекинами, выделывала у бочек замысловатые пируэты, мальчик-мориск вынес постояльцам горшок с мясом, который они умяли вместе с четвертью агуардьенте [20], изготовленного в Алькала.
За едой рядом с ними присел некий странный субъект простоватого вида, в грубом плаще, косоглазый, с торчащими усами и лоснящимся лицом. В правой руке у него была дубинка из орехового дерева с рукояткой, отделанной серебром, в левой — веер из цветных перьев. Он не походил на кабальеро, но держался как особа, имеющая положение в обществе, на что указывали и его уверенная походка, и уважительное отношение местных нищих и блудниц, коих здесь было немалое количество. Он выпил пару стаканов мансанильи [21] и, вытерев усы, спросил трактирщика:
— Есть какая тяжба на сегодня, Гонсало?
— Есть. Вон те две шлюхи меж собой не поладили. Сегодня понадобится все твое умение и красноречие, судья. — Он показал на двух женщин, у одной из которых, с пышной грудью, были кольца на руках, ногах и в ушах, другая, помоложе, была размалевана румянами из бермельона [22] и ляпис-лазури — обе ждали с видимым нетерпением.
— Так, вы обе, подойдите сюда! Чего вы не поделили в вашем занятии?
Яго пришел в изумление от необычности сцены, смысл которой дошел до него не сразу. Странный персонаж, похоже, вершил импровизированный суд прямо под связками чеснока, лука, стручков перца и свиной кожи, будучи официально уполномочен именно на разбор распрей между блудницами. Особое такое судилище для проституток.
— Именем короля слушается дело! — торжественно изрек он, после чего присутствующие в харчевне произнесли наперебой имена бабенок и установилась тишина.
— Говори, Фелиса, мы слушаем тебя. О чем спор?
— Эта бесстыжая промышляет прямо рядом с Адарвехо, — заявила та, указывая на молодуху, которая заносчиво выпятила свою высокую грудь. — Вот уже пять ночей она ошивается прямо рядом с нами у Угольных ворот и отбивает у нас лучших клиентов, мерзавка!
— Я ни у кого ничего не отбиваю, я просто жду своей очереди, как все! — колко возразила вторая, уперев руки в бока.
— У нее было мое дозволение, Фелиса, — заметил судья примирительным тоном. — Но скажи мне, сколько вас работает там?
— Шесть, но сегодня уже на одну меньше, потому что Мелиса умирает от чахотки.
— Бедняжка Мелиса уже не вернется в дело, вот ее место и может занять эта женщина, потому что она испросила его согласно правилам. Однако для вступления в дело ей необходимо отдавать вам, тем, кто здесь работает, пятую часть заработка с сего дня до Богоявления. После чего это место закрепляется за ней по праву. Кто-нибудь из давно работающих требует это место? — спросил судья и оглядел аудиторию. Никто не ответил ему.
— Сколько раз ты ею попользовался, чтобы выдать свое решение, шельма? — раздался чей-то возглас, сопровождаемый взрывом смеха, но судья лишь презрительно глянул в ту сторону.
Никто из блудниц не осмелился возразить, когда судья объявил о своем решении. Они холодно взглянули друг на друга, жестами выразив удовлетворение. Фелиса уперла руки в бока и пошутила:
— Раз никого больше нет на это место, то мне и этот приговор подойдет. Но в нашем деле надо иметь крепкие кости и твердые груди для этих портовых сукиных сынов!
Все засмеялись, а она приятельски шлепнула соперницу по заду.
— Я рад, что решение удовлетворяет все сообщество этого уважаемого промысла. Утверждаю его именем короля дона Альфонса Одиннадцатого [23]. Этот угол закрепляется за соискательницей. Dura lex, sed lex! [24] — высокопарно заключил он, ударив дубинкой о стол, чем поставил точку на официальной части.
В помещении поднялся прежний гвалт, а странный судья сосредоточился на кувшине с вином и миске с яичницей. Яго повернулся к слуге, не очень-то поверив в modus faciendi [25] необычного завсегдатая. Его грамотность и здравый ум протестовали против разыгранной сцены, да еще столь предметно подкрепленной. Однако властное поведение, уместное использование латыни, живость, с которой было разобрано дело, и справедливое решение привели его в изумление.
— Благоразумие составляет часть тяги человека к естественному, Фарфан. В этой судебной небывальщине логика и опыт странным образом превосходят чувство и рассудок.
Между тем заразительные звуки виуэлы [26] рассеяли недоумение лекаря. Фелиса, придя в игривое настроение, уселась за одним из столов, сдвинула куски черствого хлеба и кувшины и с плутовским видом завела сладострастные разговоры, которые вмиг разбудили мужские инстинкты всех, кто на нее таращился. Она выпячивала грудь и встряхивала волосами, подкрашенными хной, поводила голыми руками и округлыми плечами. Свет из окошек оживлял чувственное лицо, она умело пускала в ход всякие соблазнительные приемы — например, как бы случайно пролила несколько капель вина прямо в ложбинку между грудей.
Уличные гимнасты и комики в шутовских колпаках подыграли ей, устроив целое представление под звуки бубнов и колокольчиков. Блудницу игриво хватали за всякие места, отчего все более открывались прелести ее фигуры. Она стянула платок, поддерживавший ее пышную грудь, отчего присутствующие дружно заколотили кружками по столам. Потом села верхом на стул и задрала нижние юбки, бесстыдно демонстрируя полные ноги и приведя публику постоялого двора в полный восторг.
Солдат-беарнец [27] с бородкой и бакенбардами, возбужденный ее формами, сорвал с головы свой шлем и, хлебнув вина, схватил чаровницу за талию. Та от неожиданности издала протестующий крик, пытаясь вырваться из объятий горца. Музыка тут же смолкла, гимнасты смешались. В харчевне слышалось только жужжание мух и разгоряченное дыхание зрителей. Дерзкая выходка солдата грозила обернуться дракой.
— Эй, гасконец! — вступил Гонсало, хозяин гостиницы, а заодно и этой девки. — Пока не заплатишь деньги, что мне должен, не дотронешься до нее. Отойди.
Стражник грубо оттолкнул блудницу, в ярости выхватил из ножен внушительный меч, висевший у него на поясе; его ледяной взгляд не предвещал ничего хорошего. Неожиданно судья для блудниц [28], который до сего момента сидел, не обращая внимания на бушевавшие страсти, вышел из тени, одернул свой залатанный камзол и вновь взял на себя властные полномочия, угрожающе направив свою дубинку на наемника.
— Хозяин таверны прав. За тобой долги. Или плати, или не будешь иметь эту девку.
— А ты мне не указ! — заорал тот.
Судья даже не успел ответить, как стражник занес меч, словно намереваясь снести ему голову. Однако бычий рев его вылился в удар по засаленной столешнице, расколов ее на части. Тем не менее одна щепка проткнула насквозь руку судьи, который грохнулся между бочек, корчась от боли. Кровь хлынула на одежду из пораженной руки, а из груди вырвался прерывистый крик. Гасконец, подхватив свои вещи, толкаясь, начал выбираться наружу.
— Ты ответишь за это на ступенях Сан-Мигеля! — прокричал ему вслед судья, имея в виду портал кафедрального собора, где ежедневно вершился городской суд.
— Проклятый горец! — причитал хозяин гостиницы, хлопоча возле раненого. — Помогите кто-нибудь, у него кровь хлещет!
Яго деловито протолкался к ним, взглядом убеждая в необходимости своего вмешательства.
— Я лекарь, освободите стол, — обратился он к окружающим. — Фарфан, принеси мою сумку.
— Нехорошая рана, — сказала одна из шлюх. — Проклятый баск!
Извлечь щепу оказалась делом не длинней молитвы «Отче наш» на глазах дрогнувшего во вскрике раненого и всей любопытной компании. Потом Яго обмыл руку колодезной водой, экстрактом белены и прижег рану. Зашил и замазал все мазью приятного запаха, после чего раздался всеобщий вздох облегчения, все уважительно поглядывали на неизвестного лекаря.
— Каким это ядом ты меня потчуешь? — спросил судья.
— Это арабская мазь, она снимает боль и предотвращает заражение. В Берберии ее называют киcк из шелковой нити. Тебе нужно мазать это на ночь, пока не затянется рана.
— Так ты не только врач, но и знахарь? Храни меня, Боже.
— Одного моего приятеля ранило стрелой меньшего размера, но у него началась гангрена руки, и он окочурился, — встрял какой-то завсегдатай.
— Чудес не бывает, это наука. Здесь надо было лишь зашить как следует. Рана чистая и заживет недели за три, — пояснил лекарь. — Ты, друг, здорово поставил на место этого безмозглого солдафона. А рана твоя не воспалится, хотя до ночи у тебя будет жар, а потом ты вернешься к делу и будешь дальше выносить свои приговоры.
— Я никогда не даю им спуску, — ответил пострадавший с благодарным жестом. — Это моя работа. Судья для блудниц в Севилье, назначен властями, есть документ с печатями. А сейчас вина для всех!
Фарфан и Яго помогли судье подняться, следя за тем, как розовеет его лицо, высыхает пот и возвращается блеск раскосых глаз.
— Сколько я тебе должен за лечение? — спросил тот, вспомнив о деньгах.
— Ты мой первый пациент здесь. Мы будем в расчете, если ты просто поможешь мне найти какое-нибудь подходящее жилье в этом квартале, где я мог бы с завтрашнего дня начать прием.
Судья был несколько удивлен такой любезностью.
— Прими мою благодарность и разреши представиться, — сказал он. — Мое имя Себастьян Ортега, хотя все меня зовут Ортегилья Переметный, потому что отец мой был отрекшимся от своей веры мавром, он верил в Христа и был верен королю.
Я улаживаю не только споры между шлюхами, но и мелкие тяжбы между нашими и маврами на границе. По всем этим делам отчитываюсь перед старшим альгвасилом, работой своей доволен, она нелегкая, потому что достается и от мавров за то, что служу, и от старых христиан за своих предков. А ты какими судьбами здесь оказался, лекарь?
— Мы только вчера прибыли в Севилью, хотим открыть здесь лечебницу и аптеку. Зовут меня Яго Фортун. Это мой помощник и друг Эрнандо Фарфан, он настоящий мастер по части приготовления трав и кожных мазей, кроме того, всегда готов выдать сотню изречений из Гиппократа, большого авторитета во врачебном искусстве.
— Ну, вот вам и скажу по случаю, — промолвил слуга. — Ars longa domini mei Jacobi, vita brevis, что означает: жизнь коротка, а наука моего господина Яго необъятна. — И все заулыбались.
— Сдаюсь перед очевидным: твое лечение — лучшая рекомендация, — сказал судья. — Ученый врач Яго, с такими умелыми руками, латинскими титулами и знаниями ты достоин жить в сообществе медиков Эль-Сальвадора, но для начала вы оба воспользуетесь моим гостеприимством. Городской совет выделил мне целый дом с конюшней, помещений хватает. Следуйте за мной, только прошу, не напугайте мою жену. Когда-то она подрабатывала кое-чем, но теперь самая добродетельная из женщин.
Яго со своим спутником переглянулись в нерешительности, но пришли к заключению, что негоже отклонять такое любезное приглашение необычного судьи. Они обрадовались перспективе освободиться от клопов, а также от конюшенных слепней и беспокойной обстановки постоялого двора.
— Ты безмерно любезен, Ортега. С удовольствием переезжаем.
Вскоре они оказались в усадьбе, во дворе которой росли айвовые и лимонные деревья и стояло множество цветочных горшков, над которыми с монотонным жужжанием вились пчелы. Пышный жасмин наполнял воздух своим ароматом, а на верхней галерее смуглая полная женщина с вьющимися волосами пряла шерсть. Чтобы предупредить ее, судья поднялся наверх и негромко рассказал ей о случившемся и о своем решении пригласить лекарей к себе. Она вышла к ним с благодарностью за лечение мужа, потом показала две залитые солнцем комнаты, выходившие в тихий переулок.
— Мастер Яго, ты первый, кто предлагает свою дружбу Себастьяну Ортеге, которого не всегда оценивают по заслугам, — сказал судья. — В моем лице, а также моей жены Андреи с этого часа вы имеете верных друзей. Завтра же я готов пройтись с Фарфаном по кварталу с рожком, чтобы известить всех о том, что в этом доме принимает лекарь. А еще я позабочусь, чтобы о твоем искусстве узнала вся Севилья. — И он протянул Яго здоровую руку.
В ту ночь лекарь, слушая похрапывания верного Фарфана, чувствовал себя почти счастливым, хотя разум его был взбудоражен пережитыми сценами с Ортегой и стычкой с наемником. Было ли правильным принять приглашение этого экзотического судьи стать их покровителем в незнакомом городе? Хотя какое значение имеет разница в интересах, если речь идет о неподдельных дружеских чувствах?
«А чего мне тревожиться? — размышлял он, смыкая веки. — Провидение и фортуна — это небесные силы, способные развеять в прах любые предвидения ста мудрецов».
Неизвестное зелье
Наступила Пасха, солнце прибавило жару, и его лучи стальными мечами падали на крыши Севильи.
Яго отдыхал в прохладе двора после горячего денечка на центральной площади, где ему пришлось потрудиться над многочисленными травмами участников пасхальных состязаний и турнира всего за несколько мараведи и бесплатный обед. Он уже не помнил ни трибун, украшенных лавром, ни темно-золотых балдахинов, ни миртовых венков победителей, его даже не трогали воспоминания о прекрасных дамах, присутствовавших на самом ярком из ристалищ, которые он видел в своей жизни. Перед глазами стояли одни сломанные и вывихнутые конечности, копья, торчащие во внутренностях, пробитые кольчуги и раны, которые надо было зашивать.
Разделив скудный ужин с Фарфаном, он горько задумался над тем, что неделя шла за неделей, а они еще не вылезли из нужды. Время в городе отбивали церковные колокола, месяцы проходили в неспешной монотонности и гордой нищете. Внезапно в переулке послышались торопливые шаги, и дверь дома Ортегильи затряслась от ударов.
— Здесь живет хирург Фортун? — послышалось извне.
Фарфан открыл дверь и увидел перед собой желчного, прилично одетого кабальеро с озабоченной физиономией. Яго устало спросил:
— Кого-нибудь надо осмотреть? Кто-то из ваших близких болен или ранен?
— Пойдемте со мной, я вас прошу, — хмуро предложил визитер. — Дело требует срочного вмешательства. Вы ведь бакалавр из Саламанки, не так ли?
— Да, это так, но почему бы вам не обратиться к врачевателям из больницы Арагонцев? Это совсем недалеко отсюда.
— Случай, который привел меня именно к вам, требует как раз специалиста не из их сообщества, а их мнение мы сопоставим с вашим, так будет лучше, — сдержанно пояснил гость.
— Ну, если так, то я возьму с собой некоторые травы и средства, которые могут пригодиться.
Снаружи их ждали двое слуг с фонарями, огонь в которых мигал, словно беспокойные глаза ночного стражника. Трепетание пламени, тени на стенах и торопливые шаги людей тревожно множились в ночном безмолвии. Не прошли они и двух кварталов, как недалеко от монастыря Милости Девы Марии озабоченный незнакомец подвел группу к усадьбе — богатому дому с мавританскими ставнями и отделкой, указывавшими на внутреннюю роскошь. Яго переглянулся с настороженным Фарфаном, теряясь в догадках: быть может, речь пойдет о какой-то стычке с ранением шпагой, ему было известно о ночных дуэлях между враждовавшими между собой семействами Гусман и Понсе де Леон. Что еще могло требовать такой строгой конфиденциальности, проявленной неизвестным дворянином?
Они пересекли сад, поросший смоковницами и пальмами, тут Яго увидел пять оседланных коней и нескольких стражников, завернутых в плащи, и его беспокойство усилилось. Они поднялись по красиво инкрустированной лестнице и оказались в коридоре, освещенном факелами и охраняемом группой мавров воинственного вида. Проводник остановился перед одной из дверей и предложил Яго войти.
«Вне всякого сомнения, дело в распрях между высокопоставленными лицами города», — подумалось ему.
Комната, отделанная трипольским сафьяном, приятно пахла мускусом, ставни были закрыты, царил таинственный полумрак. Только один канделябр рассеивал трепетным светом темноту, освещая постель с балдахином из мальвового шелка. На ней покоилась женщина с волосами, похожими на черный янтарь, она была почти без чувств, голова запрокинута, лицо покрыто восковой бледностью, будто сама смерть уже струилась по складкам ее одеяла. Подняв глаза, он заметил в темной глубине алькова некоего кабальеро, сидевшего на табурете, который с тревогой держал больную за руку, пытаясь определить пульс.
Он медленно поднялся, глядя на медика изучающим взглядом. Неизвестный был высок, подтянут. В каждом его движении сквозили безупречные манеры. Широкоплечий, одетый по моде городских жителей в дамасский камзол, из-под которого высовывались посеребренные ножны, незнакомец держал себя скромно, но серо-синие глаза и рыжеватые волосы и борода придавали ему особое достоинство. Вихрь предположений поднялся в уме Яго.
— Что случилось с дамой, сеньор? — спросил он с искренней заинтересованностью. — Припадок эпилепсии? Возвратная лихорадка? Ее вид внушает тревогу.
— Да, у нее агония. Я застал ее на полу в судорогах, изо рта шла пена. Потом у нее почти пропал пульс, она без сознания. Мне кажется, это действие какого-то смертельного яда, — пояснил он, указав на поднос с двумя посеребренными бокалами. — Ради святой Марии, скорее сделайте что-нибудь!
Склонившись над пациенткой, лекарь отметил гримасу боли, исказившую черты лица женщины, ее грудь то поднималась, то безжизненно замирала. Мелкая дрожь сотрясала ее члены, дыхание было слабым и прерывистым. Он заглянул в пустые зрачки, послушал почти незаметное биение сердца, подтверждавшее сильный жар. Огорченно покачал головой, приоткрыв ланцетом посиневшие губы с остатками зеленоватой пены. Язык угрожающе опух и принял черноватый оттенок, что подтверждало окончательный диагноз.
— Честно говоря, сеньор, так и есть, она отравлена неизвестным ядом. Она может умереть, и нам будет нелегко вырвать ее у смерти.
— Вы считаете, надежды спасти ее почти не осталось, верно? — спросил незнакомец упавшим голосом.
— Да, жестокая реальность, хотя можно рискнуть. Надо попробовать установить, какой яд содержался в напитке, и посмотреть, есть ли у нас подходящее противоядие. — Говоря это, Яго рассматривал бокал, из которого пила девушка. Осторожно вылил остаток в ночной горшок: стал виден сероватый осадок, от которого исходил резкий кислый запах. Он принюхался и, подумав несколько мгновений, произнес:
— Индийская корица [29], монсеньор. Она обладает таким же смертельным действием, как укус скорпиона. Не понимаю, как сеньора до сих пор еще жива. Неприятный запах яда был заглушён обычной корицей и мускусом, все это содержалось в напитке. Эрнандо, принеси сюда настой из камеди и горечавки, быстро. А я пока попробую вызвать рвоту маслом. Могу я использовать это перо со стола?
Он намазал гусиное перо оливковым маслом и, решительно приоткрыв рот умирающей, просунул его между зубов, но та почти не реагировала на эти манипуляции. Яго еще более огорчился и сказал:
— Придется ждать рвотного. Масло уже бесполезно.
Яго несколько раз взбалтывал жидкость, остававшуюся в другом бокале, не замечая ничего подозрительного. Вылил и ее в горшок и сунул руку в бокал. Пошевелил пальцами, удовлетворенно кивнул головой и наконец с трудом ухватил и вытащил что-то. Раскрыл ладонь и продемонстрировал аристократу черный пористый камешек. Тот взглядом попросил объяснений.
— Монсеньор, то, что вы сейчас видите на моей ладони, называется камень кере, он часто применяется при отравлениях и ворожбе, когда хотят довести дело до верного конца. Несомненна злая воля того, кто совершил это преступление.
— Черная магия и ворожба в моем окружении? Святое распятие! Немыслимо! — с изумлением воскликнул идальго. — Я расследую это сатанинское дело до конца, виновник мне дорого заплатит, клянусь на Евангелии.
Неизвестный был сильно удручен, его лицо выражало безудержный гнев. В напряженном ожидании он бросал на врача нетерпеливые взгляды, хотя между обоими мужчинами быстро установилось взаимопонимание, они оба, пусть и по разным причинам, пребывали в подавленном состоянии. Яго между делом окидывал взглядом дорогую обстановку помещения, оценивая обилие украшений и шелков из Зедана, и с беспокойством следил за судорожными движениями больной. Было очевидно, что случившееся потрясло кабальеро, в волнении он метался по комнате, словно одержимый. Наконец остановился и умоляющим тоном произнес:
— Вы уже имеете в округе добрую славу. Спасите ее, и вам это зачтется, обещаю. Я боготворю эту беззащитную голубку, она занимает драгоценное место в моих чувствах.
— Всякое зло имеет свой инструментарий, сеньор, и в данном случае можно точно сказать, что средство, которое я собираюсь применить, доказало свою действенность. В Академии Гиппократа в Салерно мне открыл его мой хороший друг Бен Халиб, мусульманин, который проходил тот же курс обучения. Сейчас попробуем, надеюсь, что удастся перебить действие яда до того, как он проникнет в жизненно важные органы.
— Богу это угодно, пусть он ведет вашу руку, — перекрестил его незнакомец.
— Пока больная находится под влиянием черной желчи, отсюда и недостаток жизненных сил. С рвотным средством вернется желтая желчь и восстановится равновесие и присутствие духа, — обнадежил его медик.
Послышались шаги, оживление в коридорах, и в дверях появился помощник. В ладонях он сжимал колбу, в которой колыхалась янтарная жидкость. Яго, не теряя времени, приподнял голову девушки, тихонько приоткрыл ей рот, куда капля за каплей влил эликсир, который та была не в состоянии глотать. Черты ее померкшего лица исказились, но хотя и со слабыми стонами, ей пришлось принять в себя содержимое пузырька до последней капли. Потом она погрузилась в глубокий сон, началось сильное потоотделение, подушка и рубаха стали мокрыми. Лекарь осторожно вытирал ей лоб, с мучительным беспокойством понимая, что эта болезненная слабость вовсе не означает, что кризис прошел и наступает облегчение. Потом он сказал кабальеро, который все это время шептал молитвы, стоя на коленях у кровати:
— Сеньор, подождем, пока монастырский колокол ударит к вечерне. Если до этого часа ей не станет лучше, вам останется уповать только на Бога.
Идальго кивнул и молча опустился в кресло. В тягостном ожидании время двигалось на удивление медленно, и Яго размышлял о том, что его первое врачебное дело деликатного свойства грозило закончиться фиаско. От светильников поднимался дымок, навевавший недобрые предчувствия, и двое мужчин впивались тревожными глазами в больную, которая не подавала почти никаких признаков жизни, пребывая между сном и агонией.
Внезапно неподвижное спокойствие ночи прорезал колокольный звон монастырской обители, канонические переливы четко слышались в спальне, что угнетающе действовало на целителя и идальго, пока эти звуки не рассеялись в тишине. В безмолвии они подождали еще некоторое время, напрасно ожидая чуда. Наконец Яго развел руками в знак смирения:
— Сеньор, нам остается лишь молиться, и, наверное, вам следует позвать священника для святого причастия. — Его слова были тяжелы, как могильные плиты, что повергло кабальеро в глубокое отчаяние.
Неожиданно медик вскинулся, заслышав еле уловимый вдох. У умирающей задергались веки, стала заметна дрожь в груди. Судорожные движения тронули бессильные руки и ноги, в неподвижной тиши алькова послышался жалобный стон. Похоже, сила яда начала отступать перед лечебным снадобьем. Яго помог женщине приподняться, ее скорчила судорога, и изо рта полилась зеленая жидкость сильного едкого запаха, освободив желудок, забрызгав постельное покрывало и камзол лекаря.
— Рвотное сработало, сеньор, ее внутренности прочищаются.
Из нее, бессильной, еще выходила желчная пена, а из глаз хлынули слезы облегчения. Они текли по ее щекам цвета эфиопского эбенового дерева. В этот момент ее веки приподнялись, глаза оказались прекрасного зеленого цвета, будто две жемчужины, обрызганные росой. Яго не верил своим глазам. Это было настоящее чудо: она все дальше отходила от гибельной роковой черты, ее дыхание все более и более восстанавливалось. Она часто моргала, кожа медленно принимала нормальный оттенок. Аристократ с нежностью провел рукой по ее лбу, поправил покрывало и, признательно покивав лекарю, направился к двери, чтобы позвать прислугу.
Яго произнес слова молитвы и вдруг заметил в разжатой руке больной смятый листок бумаги, пропитанный потом, которого раньше не было видно; не зная почему, будто его могли застигнуть за чем-то предосудительным, он спрятал листок за обшлаг своего камзола.
— Вам удалось это сделать. Благодарю, — сказал дворянин, вернувшись к постели.
— Опасности уже нет, потому что яд весь вышел, — удовлетворенно констатировал Яго. — Теперь нужен отдых и уход, через несколько недель она должна полностью выздороветь. Тем не менее необходимо наблюдение лекаря.
— Так и сделаем, — заверил тот. — Как вас величать?
— Яго Фортун, монсеньор, — ответил медик кратко.
— Вы кабальеро, господин Яго? Непохоже, чтобы вы были низкого происхождения, — продолжал расспрашивать идальго, рискуя задеть его достоинство.
— Все мои предки христиане, а отец был капитаном на службе у короля Арагона.
— Позвольте, мастер Яго, в знак благодарности вручить вам это, — сказал аристократ и извлек из своего кармана семь золотых монет.
Выражение его лица резко изменилось, что еще более смутило удивленного медика. Выдержав паузу, дворянин сказал непререкаемым тоном:
— Тем не менее, господин Яго, я должен вас настоятельно просить забыть об этом происшествии и никому не говорить о том, что вы здесь видели, если хоть сколько-нибудь цените свою жизнь. Извините мой суровый тон, но необходимо, чтобы вы знали это. Дело касается интересов королевства, в которые я не могу вас посвящать, вы уж извините.
— Можете быть спокойны. Ваша просьба и моя клятва Гиппократа навсегда замкнут мои уста, — ответил встревоженный медик, наливая воды в умывальный таз. Потом спросил: — Однако, насколько я понял из ваших слов, я не смогу лично следить за выздоровлением сеньоры?
— Я как раз хотел предложить это вам: заканчивайте лечение, прошу. Кто лучше вас может это сделать, — мягко добавил он и приказал: — Хуан, войдите!
Тут же поспешно вошел человек, которого посылали на их поиски, мажордом, немедленно с любопытством устремившийся в сторону кровати и живо, с удовлетворением, всплеснувший руками.
— Само провидение ниспослало нам помощь мастера Яго. Милостью Божией и благодаря принятым мерам, здоровье больной пошло на поправку, — пояснил аристократ. — Как мы и предполагали, ее пытались отравить ядом, который налили в кувшин с медовым напитком, да еще применили при этом сатанинскую ворожбу. Богом клянусь, они мне за эти черные козни заплатят!
— Гранадский шпион какой-нибудь, монсеньор? В последнее время они легко переходят границу, этому не могут помешать ни конники Алькантары, ни начальники. А может быть, это португальцы? Вспомнили свои старые козни и обиды, нанесенные вами. Это на них похоже, — заключил мажордом, возвысив свой хриплый голос. — Вечно они тут крутятся, показывают свое к вам расположение, хотя его и в помине нет.
— Фальшь и верность всегда ходят друг за другом, Хуан, — сказал хозяин, выказывая свое к нему доверие. — Расследование я думаю поручить старшему альгвасилу. Да, а господин Яго берется проследить за выздоровлением, — сообщите страже, что он имеет сюда свободный доступ.
— Я рад выполнить ваши указания, сеньор. Все будет исполнено. Да хранит вас Создатель, — попрощался он с лекарем.
Яго поклонился, как положено, а в голове его бились неразрешенные вопросы. Кем на самом деле был этот знатный сеньор, явно представитель древнего рода и, судя по жестам, облеченный властью, который так ревностно относился к своему инкогнито и положению? Наверное, кто-нибудь из первых лиц Севильи, возможно, адмирал Кастилии или даже губернатор пограничной провинции. И кем ему приходится эта таинственная дама с янтарной кожей, нежная, как звучание пастушьей свирели, которая так стойко воспротивилась смерти, сохранив в своей руке таинственную записку? Супруга, дочь, наложница? И что означает этот грозный запрет говорить о произошедшем в этом доме?
Происшествие казалось ему весьма странным, он чувствовал, что здесь заключена какая-то загадка. Таинственный сеньор сбивал с толку. В нем не было ни капли спеси и аристократической надменности, с которыми Яго приходилось сталкиваться, в то же время были сдержанность и необыкновенная щедрость.
В сопровождении охраны они вышли на безлюдные улицы, пахнущие мочой и конским навозом, в час, когда крысы в страхе убегали из-под ног в сторону канав, по которым текла черная вода.
Бесчисленные звезды сверкали на небосклоне, а в уме лекаря теснились сомнения и подозрения. Вновь ударили колокола монастыря Милости, и Яго представил прекрасное лицо отравленной девушки, ее светящиеся изумрудные глаза. Он покрутил головой, тревога не покидала его мыслей.
Уже у себя в комнате лекарь зажег сальный светильник и разложил на столе письменные принадлежности. Потом в ночной тишине вынул из обшлага камзола сложенный пополам листок. Развернул его и убедился, что пот повредил некоторые буквы, но его лицо тут же застыло в недоверчивом изумлении: тайное послание, выскользнувшее из руки больной, было написано на незнакомом ему наречии имала, диалекте, которым пользовались гранадские мавры. Он так хотел узнать содержание этой записки, что у него испортилось настроение. Было ясно, что загадка отравленной женщины так и останется нераскрытой, пока ему не удастся найти какого-нибудь грамотея.
Он устал, его клонило в беспокойный сон, незнакомый текст пришлось оставить. Сбросив пояс, он буквально рухнул в постель. Кем же на самом деле была та девушка с бронзовым цветом лица, окруженная ореолом таинственности и очарования, которую он вернул к жизни? Кто пытался ее убить колдовским снадобьем? А ее суровый покровитель, кто он — отец, любовник, опекун? Все было окутано покровом мучительной тайны.
До того дня Яго жил в наивной беззаботности и душевной праздности, подобно ласточке, которая живет от полета к полету, а тут вдруг почувствовал, что события этой ночи повлияют на его судьбу.
Яго с наслаждением вдохнул аромат ночного воздуха, который наполнял свежими запахами комнату, и моментально заснул.
Тайна аль-Мутамида
Яго целиком погрузился в работу, которой ему раньше не хватало, а теперь было хоть отбавляй. Лечил фурункулы, различные болезни, вскрывал кожные нарывы, и больные, жившие поблизости, постепенно разносили славу о нем как об опытном и знающем целителе по всему городу.
Блудницы, наученные Ортегильей Переметным, зачастили к лекарю, замученные раздражениями срамных органов, куда проникали жуткие болезни, которые он лечил мазями, приготовленными Фарфаном. Репутация лекаря день ото дня укреплялась. А его слуга прямо с повозки продавал портовикам мази, помогавшие от египетской болезни, причины мужского бессилия, а еще обхаживал домохозяек в окрестных домах, предлагая им за квартан [30] пшеницы или селемин [31] инжира эликсиры от меланхолии, а заодно и экстракты камикуры для возбуждения в мужьях охоты до супружеского ложа.
Дружба Яго с Ортегильей и его супругой укреплялась, сказалось также и обещанное благоволение со стороны неизвестного кабальеро. Скоро им пришлось убедиться, что Ортега втайне от жены довольно ловко находит общий язык с подопечными вертихвостками, которым вовсю потворствует и частенько сам забирается на их тюфяки. Он отдавался управлению шлюхами с такой решительностью и рвением, будто был их королем, за что старший альгвасил ценил его и платил звонкой монетой и уважением.
— Господин судья, — обращался к нему Фарфан, — смотри, будет день, когда ни одна из трав в моей сумке не сможет излечить тебя от неаполитанской хвори, вот сгниет у тебя твое хозяйство.
— Мое хозяйство, — отвечал тот, — есть средоточие моего сердца, а уж оно как-нибудь убережет меня от заразы моих подопечных.
Но более всего Яго привлекали его собственные визиты в усадьбу неизвестного кабальеро, несмотря на то, что она так же, как и в первый день, была погружена во мрак таинственности и ему не удалось узнать ни одного ответа на свои многочисленные вопросы. Его сдерживала просьба идальго уважить его инкогнито, так что он не пытался расспрашивать об обитателях дома. Ни одного имени, ни рода занятий, ни даже слабого намека на что-либо. Ничего. Он общался со слугами, глядел на их каменные лица, они отвечали ему изысканным обхождением, но никогда не называли имен своих загадочных хозяев.
Ему доставляло удовольствие каждое утро общаться с девушкой. Так продолжалось до того момента, когда он сообразил, что незнакомка основательно завладела его сердцем. Он знал, что самый верный признак любви — когда мужчина воспринимает красоту женщины особо, когда возникает страстное желание видеть предмет своей страсти, когда при виде нее зажигается внутренний огонь. А у Яго сердце просто сгорало в пламени любви. Совершенные черты девушки, ее прекрасные миндалевидные зеленые глаза просто сводили молодого человека с ума.
Все в ней было прекрасно — продолговатые жемчужины в ушах, искрящийся взгляд, словно глаза ее рассыпали вокруг драгоценные кристаллы, блеск губ, похожих на спелую черешню. Бросалась в глаза ее фарфоровая утонченность, прямо-таки кошачья гибкость, которую он раньше отметил у девушек Салерно — острый взгляд, прекрасная кожа, отливающая медью, смуглая, словно сотовый мед.
В ее присутствии он готовил отвары, которые она подносила к своим прелестным губам молча и благодарно. Робость, с которой в первое время она восприняла чужого человека у своей постели, сменялась все большим удовольствием при встрече с ним. Наконец, в один из дней невидимые стены, разделявшие лекаря и его пациентку, рухнули. Часто их взгляды встречались непроизвольно, и это наполняло обоих чувством неизъяснимой нежности.
Тогда она отправляла прочь служанок-морисок, и они принимались разговаривать, то и дело замолкая, чтобы избежать опасных тем. Наконец колокола обители Милости начинали звонить к молитве пресвятой Богородицы, и их приятная встреча заканчивалась. С грустью он покидал усадьбу, оставляя больную отдыхать. И вот настало утро, когда он двинулся туда, полный решимости прояснить наконец положение вещей, а не вести очередные малозначительные разговоры. Он намеревался показать кусок пергамента, который обнаружил в ее руке, а это могло стать ключом к ее тайне.
Когда Яго стукнул дверным молотком, нещадно палившее севильское солнце умеряло в жителях всякое рвение к работе. Стражник-мориск, вооруженный кривой саблей, топая по плиточному полу, проводил его до алькова. На пороге Яго задержался, увидев пустое ложе и почувствовав приторный запах сандалового благовония. В полумраке он увидел девушку, грациозно прислонившуюся к столбику балдахина. В ушах девушки поблескивали серьги, одета она была в зихару [32] цвета индиго, на голове сафьяновая микнаа [33], лицо ненакрашено.
Яго остановился ошеломленный. Проникавшие через решетку окна лучи света образовывали вокруг ее головы ореол, так что девушка казалась ему каким-то неземным созданием. Лекарь снова почувствовал невыносимое жжение в груди, он застыл, не в силах отвести взгляд, невыразимое восхищение обуяло его.
Несмотря на то, что он смотрел против света, глаза выхватывали главное: невероятно гибкая талия, зеленые бездонные глаза, густые ресницы, нежная кожа лица, волосы — черный янтарь, — собранные в пучок серебряными заколками. Она излучала одновременно достоинство и бесконечную притягательность. Тысяча невозможных желаний всколыхнулась в сердце Яго, потерявшего дар речи. Растерянный, он улыбался, поняв, что девушка по-настоящему вернулась к жизни его усилиями. Для него этот день стал лучшим со времен создания мира.
Тем не менее он снова спросил себя, кем же могла быть эта иноверка, окруженная роскошью, вдали от своих заключенная в маленьком замке. Он знал, что мавританский квартал находится в Санта-Каталине, грязном районе близ Алондиги и Адарвехо, и никто из его обитателей, каменщиков и продавцов бобов, не мог и мечтать одеваться в такие одежды. Пышность султанских дворов, о которой ему много и со вкусом рассказывал его друг Бен Халиб, как раз и представала воочию в этой комнате, двери которой ежедневно распахивались перед ним.
— Можешь идти, Хаким, я тебя позову, — сказала она провожатому.
— Вижу, вы просто сияете, словно невеста, — произнес лекарь, нарушая очарование тишины. — Для целителя нет большей радости, чем видеть здоровой свою самую прекрасную пациентку.
— Вы всегда так любезны, сеньор Яго. Я вам обязана жизнью, которую едва не потеряла, так и не познав ее радостей, потому что от ее бед я успела настрадаться предостаточно, — тихо сказала она, приглашая юношу сесть и отведать нарезанную дыню, изюм, сваренный в меду, и жасминную воду. — Меня уже совсем не тошнит, не кружится голова, прошла горечь в горле, нет больше этого противного чувства пустоты и бессонницы — все благодаря вашему мастерству.
— Вы избежали смерти благодаря собственной воле к жизни, а еще потому, что выпили всего один глоток этой отравы. Я лишь помог вам побороть недуг с помощью этого чудесного средства — настойки Фарука, которую я вам дал, — скромно отвечал он.
— Я знаю все, но поверьте: есть еще одна причина, что помогла мне уйти от верной смерти, — прервала она его. — Это кусок пергамента, который я нашла рядом с моим Кораном. Там между страниц я храню десятки коротких молитв и сначала подумала, что он выпал из книги, когда ее перекладывала одна из моих служанок. Но, прочитав записку и рассмотрев почерк, я поняла, что это не мое. Грубая бумага, торопливый стиль, этот странный стих из Корана — все насторожило меня, я почуяла опасность. Только отпив, я поняла ее роковой смысл, хотя уже было поздно… Но, к несчастью, я потеряла эту записку.
— Наверное, это она и есть? — сказал Яго и, вытащив клочок пергамента, положил его перед изумленными глазами назарийки [34]. — Я чувствую себя воришкой, но вы мне напомнили, и я как раз собирался вернуть вам ее.
Девушка слегка покраснела, блеснули в улыбке ее белые зубы, легким жестом она взяла листок. Голос ее дрогнул, когда она прочла стих из Корана, глядя в пустоту перед собой:
— «О жены пророка! Кто совершит из вас явную мерзость, той удвоено будет наказание вдвойне. Ведь для Аллаха это — легко!» Это из суры «Аль-Ахзаб» [35], книга Дружбы. — Ее голос наполнился печалью. — С того момента, как я прочла это, не перестаю думать, как попала сюда эта записка и с какой целью.
— Так, наверное, этот негодяй, который подсыпал яду в бокал, своей рукой и написал про собственное душегубское деяние.
— У меня уже нет сомнений, что Всевышний охраняет меня своей милостью. Однако в Севилье многие думают, что я впала в смертный грех, и вот я стала целью злобной мести.
Яго воспринял эти слова как верный признак того, что ее скрытность и нежелание рассказывать о своих заботах наконец стали сходить на нет. Девушку мучили сомнения перед неизвестностью. Сердце ее нуждалось в дружеском участии, грудь с волнением вздымалась, а на глазах выступили слезы.
— Вы могли бы сказать мне, что вас так печалит. Мне можно довериться, я очень хотел бы стать вашим бескорыстным другом, — сказал он, прямо глядя в ее лицо. — Я все время спрашиваю себя, кто вы, потому что не нахожу объяснения тому, что вас окружает.
Таинственная незнакомка откинула вуаль с лица и присела на скамейку у окна. Расправила тунику, тронула локоны на висках, браслеты на запястьях и приступила к рассказу:
— Ну так слушайте. Зовут меня Субаида бинт Умар, здесь меня называют назарийка и держат как заложницу Кастилии, вроде разменной монеты между нашими враждующими странами. — Эти слова прозвучали будто из самой глубины ее исстрадавшейся души.
Яго взирал на нее с возрастающим изумлением:
— Вы заложница короля?
— Именно так. Я дочь благочестивого Умара Бен Хакима, родного дяди короля и султана Гранады Юсуфа, которому должно быть стыдно перед Всемилостивым за свои прегрешения.
— Так вы пленница, Боже праведный! Вот почему столько таинственности вокруг, просто ваш опекун боится потерять вас. Вы — гарантия мира между двумя враждующими государствами.
— Согласие между владыками в обмен на устранение меня из мира, который я любила, — призналась она, вздохнув. — Мои несчастья начались, когда король Альфонс несколько лет назад завоевал Калат-ибн-Заид [36] в Хаэне, где мой брат был алькальдом. После поражения Юсуф, мой двоюродный брат, вынужден был принять унизительные условия мира, которые затмили его разум. По одной из статей договорились, что троих детей-подростков из султанской семьи назари отдадут в качестве заложников, чтобы гарантировать выплату контрибуций.
И эти ифрис адовы, и мстительный перст Юсуфа, который взвалил на моего брата вину за поражение, выбрали меня вместе с моими двоюродными братьями.
— Наверное, вы были совсем девочкой, — предположил Яго, вконец заинтригованный.
— Мне только-только исполнилось тринадцать лет, я отчаянно сопротивлялась, не хотела мириться с таким решением. Мои братья находятся в таких же условиях заточения и забвения, один в Вальядолиде, другой в Кордове. Меня сначала поместили в монастырь, потом в эту усадьбу, пожалованную адмиралу Кастилии дону Хофре Тенорио, который обращается со мной как с дочерью, хотя и держит взаперти в этих стенах.
— Отрывать смертного от его корней это, конечно, жестоко.
— Очень жестоко. Я боготворю мир, в котором родилась и росла, лучший из возможных для меня. С тех пор я нахожу утешение во всех книгах, которые только ни попадают в мои руки, учусь без устали, наблюдаю за звездами по моим приборам, играю на виуэле и лютне. После того как меня оторвали от моих близких, я развиваю в себе хитрость лисицы, чтобы выжить при этом лживом королевском дворе, где в избытке склоки и заговоры, которые могли бы ужаснуть своим коварством и дикостью обитателей Гранады, Каира или Багдада.
Яго задумался, потом просветленно улыбнулся, будто стряхнув с себя тяжкий груз, и сказал с пониманием и сочувствием:
— Значит, тот идальго, который велел меня вызвать, а потом так щедро вознаградил за услуги, не кто иной, как адмирал Кастилии дон Хофре. Я должен был сообразить это с самого начала!
Девушка иронически улыбнулась и после неловкой паузы серьезно проговорила:
— Снова не угадали. В ту ночь вы разговаривали с самим доном Альфонсом, королем собственной персоной. Это он вас нанял и сидел с вами, когда я была при смерти.
Яго словно окаменел. Если бы в этой комнате возникла сотня единорогов, покрытых карбункулами, это не пробудило бы в нем такого внезапного и панического страха. Не в состоянии вымолвить слова, он только таращил глаза.
— Да не волнуйтесь вы так, мастер Яго, — улыбнулась девица. — С той самой ночи вы заслужили его уважение и даже восхищение, да я вам это сейчас же докажу.
— То есть кто-то думает, что вы и король?.. — потерянно пробормотал он.
— Да. Злые языки не дремлют, и враги дона Альфонса распространяют слухи по городу, что я стала его любовницей и забираюсь в его постель, будто шлюха какая из Ареналя. Но большей клеветы нельзя и придумать, магистр Яго. С тех пор как я покинула Гранаду, может, это вас и удивит, но ни один христианин в Севилье не запятнал мою честь. Все эти годы я должна была хранить невинность, потому что за меня был уплачен махр, выкуп, моим женихом — моему отцу, они договорились о моем браке, еще когда я была маленькой девочкой. Эти сплетни и злые домыслы при королевском дворе меня измучили больше, чем беспокойные ночи и дикие боли от отравления.
— Клевета легка в суждениях, для нее отношения между королем и его пленницей — лакомый кусочек. Иноверка, король, изменяющий супруге, официальная фаворитка, наконец, ваша красота — все одно к одному. Однако вы действительно получили какой-то знак, что яд предназначался именно вам?
— Я сопоставила несколько случайных деталей, и все указывает на одну цель — цитата из Корана, скрытая ненависть королевы доньи Марии ко всем женщинам, которых она подозревает в том, что они греют простыни для ее венценосного супруга. Короля любят все, кто его окружает, так что его неприятели, королева Мария и его тесть, король Португалии, боятся его настолько, что не осмелятся покушаться на его жизнь. Не сомневайтесь, целью была именно я — назарийка. А исполнила это рука какой-нибудь прислужницы королевы, убийца мог быть заслан и королем Португалии, который люто ненавидит своего зятя, а еще адмирала Тенорио — за то, что тот назло им протащил португальские знамена и штандарты по Гвадалквивиру после победы в Лиссабоне. А еще между двух огней петухом ходит этот подлый тип, маменькин сыночек, развратный жеребец, от которого я натерпелась приставаний: в отсутствие отца охраной моей ведает он.
— Кого вы имеете в виду? — спросил Яго встревоженно. — Не понял.
Лицо принцессы приняло сначала гордое, потом презрительное выражение, глаза так и метали искры, когда она ответила, понизив голос:
— Принц Педро, наследник престола, но в его венах не чувствуется королевская кровь. Ему передалась злой нрав его матери и кровожадные замыслы. Он постоянно прибегает к гаданиям одного кудесника — мавра из предместья Алондига, и начисто лишен всякой совести. Он не может простить отцу, что тот взял в любовницы донью Элеонору де Гусман, женщину, с которой разделяет свою жизнь, а на мать давно не обращает внимания. А особенно то, что отец любит и ценит своих девятерых незаконнорожденных детей — бастардов, в частности близнецов — дона Энрике и дона Фадрике.
— В Севилье не устают обсуждать любовные похождения молодого дона Педро.
— Он живет один в обители Сан-Клементе, близ реки, под снисходительным присмотром своего наставника, епископа дона Бернабе — преподобного старца, который воспитывает его по методу Regimine Principum [37], хотя и без особого успеха. Если кто и поддерживает его выходки, так это его лицемерная мать донья Мария, за царственную юбку которой он держится. А та, в свою очередь, не брезгует любовниками всякого пошиба. Среди прочих — Альбуркерке, португальский дворянин, охочий до послушниц в монастырях и церковных хорах. В Севилье нет ни одной сколько-нибудь миловидной дамы, которая не подвергалась осаде этого законченного развратника. Он не любит шутить, его стихия — ястребиная охота, девушки и любовные похождения.
— В таком случае трудно угадать того, кому понадобилось вас уничтожить.
— А у меня почти нет сомнений. Это почерк королевы Марии. Тем не менее мне иногда кажется, что я стала жертвой какого-то заговора, мне неведомого. У короля сильно испортилось настроение, с той злосчастной ночи он подозревает всех.
— Происшествие его потрясло. Это было заметно.
— Король благородный человек и очень любит донью Элеонору, «блудницу», как ее называет королева, и не обращает внимания на слухи вокруг. Меня он навещает каждую неделю, когда свободен от разъездов. Интересуется моими делами и просит, чтобы я предсказывала ему исход его военных мероприятий по моим таблицам и астролябии, а еще чтобы почитала стихи сирийского поэта Абу Нуваса, аль-Газаля или ибн Хазма, певца Кордовы, пока сам упражняется на струнах моей виуэлы. Иногда мы играем с ним в шахматы, при этом он радуется, как ребенок. Теряя фигуру, он сердится и тогда становится похож на сокола. Я любуюсь им, мне нравятся его повадки, а еще мне фактически приходится быть поверенной многих его планов. И он не тронул ни волоска на моей голове, ни складки на моей одежде, ни разу не посмотрел на меня похотливым взглядом.
— Клеветников охотно слушают, но всегда презирают, поверьте, а за непристойности и содеянное зло неизбежно придется отвечать, потому что есть Бог на свете.
— Однако они уже нанесли мне непоправимый вред, хотя это не важно, — заявила она. — Представьте себе, если бы я умерла в такой обстановке. Кастильский монарх сразу оказался бы в тяжком положении перед моим двоюродным братом в Гранаде, последствия были бы ужасны, их даже трудно предвидеть. Положение заложницы моего ранга не более прочно, чем паутинка.
— Все-таки заложников держат не вечно по условиям заключенных договоров. Рано или поздно вы вернетесь в Гранаду, — попробовал утешить свою собеседницу Яго.
— Конечно, и у меня остается лучик надежды. В скором времени Кастилия, судя по всему, предпримет захват крепости Иэльльбель-ат-Тарик [38], что даст повод для новых торгов и соглашений. Ваш государь обещает в тот же день освободить меня из заточения, и я отправлюсь к своим. Боже, как я жду этого часа!
— Пусть сбудется ваша надежда. Только слабые духом отчаиваются. Вы получите свободу и вернетесь на родину.
— Аллах невидимый да услышит вас, — ответила она. — Я целиком завишу от благоволения дона Альфонса и дона Хофре. Они с уважением относятся ко мне на этой земле — прекрасной, но чужой. Но если что-то им помешает, моя жизнь не будет стоить медного дирхама перед такими коварными противниками, как королева Мария и презренный принц Педро.
— Самый притягательный момент жизни всегда впереди, сударыня. Скоро все это превратится для вас лишь в горькое воспоминание.
Тут ее обуяло сомнение, заставившее побледнеть, а глаза наполниться горечью.
— Однако, мастер Яго, индусские таблицы астрономии Синдхинда, которые я часто просматриваю, предсказывают неудачный исход моей ссылки, какой-то непредвиденный излом в жизни, и это внушает мне страх.
— Вы, девушка, — и каббалистка? — удивился он.
— В Гранаде этим занимаются многие женщины. Вместе с моими братьями и сестрами я посещала медресе [39] в арабских кварталах Гранады, где мы знакомились с учением астронома аль-Фаццари. Это наука, а не мракобесие, — уточнила она, улыбнувшись ему.
Именно в этот момент Яго сполна оценил ее образованность и ум, так прекрасно сочетавшиеся с красотой. Ничего он так сильно не желал, как любить ее, но некая невидимая сила удерживала его от сумасшедших мыслей. Да разве когда-нибудь встретится ему девушка такого просвещенного ума, такого совершенства и красоты?
Знойное солнце, неумолимое и слепящее, било сквозь решетки балкона, наполняя светом помещение. Мирт струил свой невыразимый аромат. Врачу хотелось одного: чтобы эти минуты блаженства и покоя продлились вечно.
— Я приготовлю вам еще одно средство из плодов терминалии, — взволнованно сказал он. — Принимайте его до еды. Оно поможет преодолеть черную меланхолию, которая у вас еще остается. Эти плоды пришлось достать у генуэзцев — редкое лекарство, зато эффективное.
Девушка сказала, будто не услышав его слов:
— Прежде я должна передать вам то, что оставил для вас король, монсеньор Яго.
— Мне? Не понимаю… Он меня уже достаточно отблагодарил.
Субаида вытащила из шкафа свернутый лист пергамента, перевязанный пурпурной лентой, с которой свешивалась печать с гербом Кастилии. Лекарь скользнул глазами по тексту, говорившем о каких-то титулах. Девушка сама охотно принялась объяснять:
— Господин Яго, в благодарность за мое излечение дон Альфонс назначает вас врачом и хирургом больницы Арагонцев, вы становитесь членом Братства дель Пилар и магистром медицины Севильи. Видите, вот подпись короля, вот Николаса Сандоваля, главного магистра, а вот Бер Церцера [40] — крещеного еврея, чья слава выдающегося натуралиста и астронома не знает границ. Вы стали достойны известности и положения в обществе ранее, чем предполагали, и мое сердце особенно радо этому. Вы стали врачевателем как моих чувств, так и души. Я никогда не забуду ваших добрых слов и того, что вы вытащили меня из лап смерти.
Яго не мог поверить в случившееся и просматривал строки со своими титулами, которые плясали перед его глазами, будто маленькие духи судьбы. Закончился целый этап жизни бродячего лекаря. Он подумал о Фарфане, о своих сокурсниках в Саламанке и Салерно, о брате Аркадио — своем учителе в монастыре Веруэла, где он изучал литературу и латынь.
— Благодарю вас и его величество дона Альфонса, нашего господина, — сказал он без всякой напыщенности. — А я-то был просто доволен моим заработком.
— Не скромничайте, мастер Яго. Вы замечательный врач, и это решение справедливо. Многие больные, которых вы излечили, скажут то же самое. Ваша известность уже опережает вас, куда бы вы ни пошли.
В эту минуту он понял, что их свяжет навсегда и неразрывно нечто большее, но предпочел не углубляться в этот мысленный бред. Он сознавал, что его распирает желание, ему мучительно хотелось коснуться ее чувственных губ. Но он только сделал к ней один шаг, взял руку, поцеловал и попросил считать его навсегда своим другом. Чтобы она более не обращалась с ним официально и звала на «ты» в знак начала их дружбы. И между ними возникла неизъяснимая сердечность, и одновременно в его душе росла любовь, которая, как он уже понял, обещала быть нелегким испытанием.
— Король хотел бы, чтобы вы… то есть чтобы ты начал работать в лечебнице до начала ярмарки в честь святого Михаила. Мастер Церцер ждет тебя с нетерпением, потому что на ярмарку явится множество паломников, нуждающихся в помощи. Там ты встретишься с главами ученых обществ Севильи, а еще с некоей особой личностью, матерью Гиомар, ясновидящей, — это притворщица, которая водит за нос весь город. Осторожнее с нею, Яго. Я достаточно ее узнала, когда жила в обители. При ней все время, куда бы она ни пошла, находится этот карлик по имени Бракамонте, уродливый шут. Оба — известные лазутчики королевы, они собирают сведения у богатых послушниц и у своих нечистых на руку агентов.
Яго вспомнил, стараясь говорить не слишком нежным, но не безразличным тоном:
— Я ее случайно видел как раз в день прибытия в Севилью и могу тебя заверить, что меня поразил ее облик, а также то, что народ явно обожает ее. Даже, помнится, она предсказала затмение, так утверждали в порту.
— Предсказывать, лечить, знать что-то? Да эта монашка неграмотна, она лишь впадает в транс из-за эпилепсии, которой страдает. А то, что она знает из медицины, крайне сомнительно. Она утверждает, что Бог лечит ее рукой, которую она любит протягивать за подношениями. А еще, что Бог все предопределяет заранее, хотя эта лицемерка знает некоторые приемы, добытые у ученых людей то ли случайно, то ли какой-то ворожбой, которую я пока не могу понять, хотя остаюсь при моих подозрениях.
— То, что ты говоришь, удивительно, Субаида. Что ты имеешь в виду? Ведь она посвятила себя служению Богу и пестует послушниц из благородных семей.
Принцесса сплела пальцы, на лбу ее выступили капельки пота. Врач хотел поддержать ее, но мусульманка энергично остановила его. Взглянув на балкон, она заявила интригующим тоном:
— Ты готов к тому, чтобы выслушать невероятные вещи и предположения от человека, которому необходимо высказаться, пусть это и выглядело бы полным абсурдом?
— Ты прекрасно знаешь, что да, потому что меня всегда тянуло ко всему таинственному, однако меня тревожат твои слова и выражение лица, с которым ты все это говоришь.
Глаза принцессы на мгновение вспыхнули.
— Слушай внимательно и постарайся по-настоящему вникнуть в мои слова, потому что искреннее сочувствие обостряет память. Уже давно я подозреваю, что лечебные навыки, которыми открыто кичится эта богомолка — они-де даны ей свыше, — имеют какую-то связь с исчезнувшей библиотекой аль-Мутамида [41], последнего мусульманского владыки Севильи. В обители Сан-Клементе, которая была некогда летним дворцом эмиров Исбилии [42], остается много секретов, душераздирающих драм и потайных помещений, закрытых на замок.
Врач беспокойно пошевелился в кресле, находясь в душевном смятении. Это утро было переполнено неожиданностями. Но последнее откровение слишком обострило его и без того безмерные чувства к девушке, затмевая здравый смысл. Тем не менее он подавил изумление и спросил доверительно:
— Монахиня-христианка интересуется исламской наукой? Мне кажется это чушью, Субаида. Эти добрые женщины никогда не испытывали интереса к древним наукам. Исследователи европейских университетов отправляются в Толедо, чтобы приобщиться к науке в Кордове, где со времен калифов тайно хранится едва ли сотня палимпсестов [43], потому что их либо сожгли, либо время превратило их в прах. Ты утверждаешь, что в монастыре остались следы самых глубоких знаний мира? Если ты в этом сколько-нибудь уверена, надо было указать на это королю.
— Невозможно. Те, кто владеют этими книгами, либо используют их для собственной выгоды, либо считают их еретическими, от лукавого. Предать это гласности означало бы покончить с настоящими сокровищами всеведения. Их либо запрячут еще далее, либо уничтожат, чтобы самим избежать костра.
Принцесса оглянулась, будто удостоверяясь, что их не подслушивают, и поведала о некоторых деталях откровенного разговора, который состоялся в Гранаде между ее учителем и бабушкой, султаншей Фатимой. Сказанное сначала очаровало Яго, но потом сильно озадачило.
— Монастырь ордена Сан-Клементе в Севилье, — объясняла назарийка, — располагается на месте бывшего роскошного дворца, в котором часто бывал аль-Мутамид, невезучий король-поэт, на долю которого выпадали и радости, и горе. Дворец утопал в пышности, при короле всегда находились его фаворитка Итимад и неразлучный друг Амар, которого он потом убил собственными руками. Низложенный альморавидами-африканцами, фанатичными сторонниками Имама Непогрешимого, аль-Мутамид был сослан в местечко Агамат близ Атласа, где и умер в ужасающей нищете. Богатства эмира были разграблены, а невежественный военачальник Сир Бакр сжег его уникальную библиотеку как еретическую.
— Знание всегда покоряется варварству захватчиков, — заметил Яго.
— Из Севильи его везли в цепях вместе со всей семьей, с которой находился и придворный певец, некий поэт с Сицилии. Однажды, уже в африканской ссылке, эмир попросил сицилийца спеть ему какие-то куплеты, и тот, ударив по струнам, пропел элегическую песню, — пять раз подряд. Низложенный монарх воспринял это как предсказание, решив, что сам Аллах сообщил ему устами певца, что через пять дней он умрет. И тогда он задал своим палачам некую загадку, которую лишь немногие в тот момент поняли, полагая ее либо насмешкой над врагами, либо признаком сумасшествия, предрекавшим близкую смерть. Так вот та до сих пор не понятая никем загадка в его устах взывала к знаниям. Послушай, что он сказал: «Через пять дней я отправлюсь в невозвратный путь к Яннату, то есть в рай. Многие тщетно искали мудрости Дар ас-Суры и Священной Книги, что укрепляла мой дух в эдеме Исбилии. И я спрашиваю вас, где морю хранить свои самые отборные жемчужины, как не в раковинах, чтобы скрыть их от грабителей? Там и остались мои сокровища знаний, спрятанные за черепами изменников, предавших мою кровь».
На лице Яго появилось выражение непонимания, и он удрученно заявил:
— Я ничего не разобрал, мне это показалось бессмыслицей.
— На первый взгляд так, но те мусульмане, кто еще остался на этой земле, едины в том, что аль-Мутамид был по-настоящему ученым человеком. И я не теряю надежды раскрыть, в чем состоял тайный смысл послания, меня будто голос свыше приговорил к тому, чтобы я искала его без устали. И эту сокровенную тайну Севилья хранит в своих подземельях, уверяю тебя.
Яго, до сих пор будто пребывавшей в неизъяснимой расслабленности, вдыхал восхитительный запах ее духов, отвлекаясь от смысла ее слов. Теперь он призвал на помощь весь свой пытливый ум и, будто школьник перед уважаемым педагогом, собрал все свое внимание и вперил взгляд в прекрасные губы принцессы, боясь упустить хотя бы одно ее слово.
Все, что происходило с ним в этом алькове, казалось нереальным, и Яго едва мог противостоять тому притяжению, которое объяснялось удивительным умом назарийки и сделанными ею признаниями. Оно усиливалось огромным интересом, который он сам испытывал к ней, а ведь бывают такие секреты, которые нельзя раскрывать ни по дружбе, ни по любви. Разве, посвящая кого-либо в свои тайны, ты не доверяешь ему при этом свою свободу?
Предвидение принца дона Педро
Выйдя из оцепенения, Яго сосредоточился на захватывающем предмете разговора.
— С первого дня посещения академии Гранады я попробовала проследить за судьбой сокровища, — продолжала принцесса свой рассказ. — Учитель Тасуфин утверждал, что до сих пор не найдено ни одного тома из библиотеки аль-Мутамида в медресе Феса или в Марракеше. Кроме того, в Агамате ученые монахи говорят, что не все книги были сожжены в Севилье альморавидами, потому что в ночь накануне разгрома султан и его фаворитка Итимад спрятали самые дорогие свои сокровища. И поэтому часть тех книг, что не были обнаружены африканцами или уничтожены христианами, должна быть спрятана в каком-нибудь уголке Севильи, имеющем отношение к аль-Мутамиду.
— Мне кажется, твой дар воображения гораздо выше здравого смысла.
— Бывает, что фантазии соответствуют истине, Яго. Сознаюсь, я всегда была падка на всякие тайны, но в данном случае речь идет о реальных вещах. Аль-Мутамид порой вел себя довольно цинично, однако его предсмертные слова в африканском изгнании указывают на четкий след. Хотя очевидно и их противоречивое содержание без ясного смысла. В моем изгнании у меня хватало терпения проверить догадки моего учителя, я постаралась расшифровать эту фразу. И после долгих размышлений, подключив все свои способности, просмотрев доступные мне документы той эпохи, я, кажется, смогла найти точный смысл того странного заявления, которое сделал аль-Мутамид перед уходом в мир иной. Ко всякой загадке можно подобраться либо через криптограммы, либо путем логических умозаключений, говорю об этом без всякого хвастовства. Ты первый, кто узнает об этом.
Тон назарийки был настолько убедительным, что врач был обезоружен ее умом так же, как и ее очарованием.
— Можешь доверять мне, я не болтлив.
— Знаю, что ты надежен, с того момента, как заглянула в твои глаза, а идея моя достаточно логична, — ответила она ласково. — Послушай. Года не прошло, как я нашла хронику, полуистлевшую и обгоревшую, писанную правоведом ат-Туртуси, современником аль-Мутамида, также ставшим жертвой беспощадных альморавидов, он-то и подтолкнул меня в нужном направлении. Из этой хроники я узнала, что отец аль-Мутамида, человек, в котором жестокосердие уживалось с самым утонченным вкусом, основал во дворце Биг-Рагель на берегу реки — теперь это и есть монастырь Сан-Клементе — обитель для певцов и музыкантов. Он назвал ее Дар ас-Сура и устроил там прекрасную библиотеку, подобную кордовской или дамасской. Впоследствии его сын обогатил ее ценными томами, купленными в Багдаде, Византии и Самарканде на вес золота. Я навела справки, не уничтожили ли эту библиотеку после завоевания города королем Фернандо, однако хроники подтверждают как раз мою версию, что ее в то время никто не видел. Годы спустя, во времена Альфонса Десятого, при чистке нескольких прудов и строительстве жилища для монахинь — дворянских дочерей, удалившихся от мира, было найдено подземелье с древними сводами законов, которые непременно были бы преданы огню, если бы не спасительное заступничество доньи Беренгелы, дочери Альфонса Мудрого [44], весьма образованной женщины. Аллах, благослови ее навечно!
— Он говорит о черепах. Это что, проклятие? — полюбопытствовал врач.
— Здесь-то и скрывается самое удивительное, Яго. Это тоже ключ к разгадке. Я отбросила абсурдные домыслы и сопоставила то здравое, что об этом было написано. Отец аль-Мутамида имел ужасное пристрастие мстить своим противникам. Он отрубал им головы, а потом выставлял их на могилах, вырытых прямо в дворцовом саду. Высекал плиты без имен, только череп и царский титул как единственное и мрачное напоминание для потомков. Этот сад до сих пор существует, и я со своим детским любопытством, только-только прибыв сюда из Гранады, часто бывала там вместе с дуэньями и послушницами, играя в наши игры девочек из благородных семей. Был день, когда я, увязавшись за раненой горлицей, которая искала спасения в колодце, наткнулась на целую кучу черепов, почерневших от времени, и на плитах там можно было прочесть с десяток эпитафий, полускрытых болотной травой.
— Жутковатое зрелище, должно быть, — заметил Яго, передернув плечами.
— Леденящее, — кивнула она. — Я соскребла грязь и увидела, помимо неразборчивых знаков, черепа и кости. Еще там были какие-то развалины и над дверью арабская надпись, наверное никому не понятная, но мне она в конце концов прояснила все: «Аль-Мутамид — отец аль-Мутамида — Биллах, тот, который молит о покровительстве Бога». Возможно, именно там была библиотека. Помню, это был месяц поста, и от находки у меня заколотилось сердце. Долгими ночами я не спала и лишь через многие месяцы смогла связать между собой части того послания. Дерзкая теория учителя Тасуфина, которую он заложил однажды в незрелый ум маленькой девочки, стала обретать черты строгой истины.
— А я все-таки не могу понять четкой связи в словах эмира. На что он указывал, говоря «жемчужина» и «раковина»?
— Король аль-Мутамид называл свой молитвенный экземпляр Корана «жемчужиной», а раковиной должно быть то помещение, где спрятаны пропавшие книги.
— Может быть, — неуверенно согласился христианин. — Но чего ты добиваешься?
— Послушай то, к чему я в конце концов веду, Яго. За столько времени я собрала множество доказательств того, что книги, которые уберег от пламени аль-Мутамид, находятся в том месте, которое сегодня является обителью послушниц Сан-Клементе, называвшейся когда-то Домом поэтов или Дар ас-Сура, а помещение, где были свалены плиты и черепа несчастных, есть развалины здания библиотеки — этой спрятанной сокровищницы исламской мудрости, — заключила она без тени хвастовства в голосе.
Несмотря на свою недоверчивость, медик не мог скрыть своего восторга от услышанного. С другой стороны, встреча с такими тайнами была самым великим искушением, которое только судьба могла предложить ему, неустанному искателю сокровенной истины.
— А здание то еще на месте? — спросил он несколько виновато.
— Со времени моего пребывания в Сан-Клементе я помню полуразвалившийся домик из изразцовых кирпичей необычной архитектуры в самой глубине сада, сильно обветшалый, где обитали лишь лягушки да змеи. От него исходил резкий запах запустения и сырости. Это строение и может быть тем алтарем, что уже века хранит библиотеку аль-Мутамида, ты разве не понял? Как бы я хотела потрогать своими руками «Альмагест» Птолемея, забытый «Аль-Китаб» Самарканди, великое описание Страшного суда, «Поэтический сборник» школы аль-Хикмаха в Багдаде или книги об индусском искусстве любви, которые так нравились аль-Мутамиду. Я годами мечтала добраться до тех пыльных полок, на которых лежат эти чудесные книги, и спасти их от забвения.
— Ты будто улетела сейчас в какой-то магический мир, Субаида. Даже завидно!
— Но есть еще кое-что, Яго. Есть одна непременная вещь, которую я должна сделать во искупление собственных грехов или умереть на пути к этому. В пропавшей библиотеке находится уникальный и единственный в своем роде Коран, который только был в мусульманском мире, и я хотела бы спасти его, это дело чести. Только тогда Аллах будет доволен Субаидой, дочерью Умара.
— Единственная в своем роде священная книга? — удивленно переспросил Яго. — И что же ее так отличает от других?
— Объясню, — сказала назарийка. — Она служила аль-Мутамиду молитвенником, ее переписывали своими руками в дворцовой мастерской женщины-переписчицы из Пуэрта-де-Макарана — их руки были самыми искусными во всей Андалусии. Сам он всегда отрицал это, чтобы не навлекать гнев маврских теологов, потому что ходили слухи, будто книга имела непозволительные иллюстрации, запрещенные нашей религией, это и сделало ее уникальным экземпляром. Я-то уверена, что набожность самого короля не допустила бы подобного богохульства, но тем не менее, отправляясь в изгнание, он не взял Коран с собой, книга бесследно исчезла. И мой долг — хотя бы попытаться найти ее, даже просто из уважения к моей бабушке Фатиме, которая сама искала ее неустанно.
— Трудную цель ты поставила перед собой. Кроме того, все строится на одних рассуждениях, без каких-либо доказательств… Прости, я говорю искренне. Ты едва не погибла, но, сдается мне, тебя так и тянет испытать судьбу вновь, на этот раз с еще большим риском.
— Яго, ты должен знать, я в Гранаде почитаема как сайида, женщина из мудрого сословия. Для меня открыть эту книгу означало бы испытать истинное наслаждение, а заодно и завоевать признание среди мусульман далеко за границами аль-Андалуса [45], потому что этот экземпляр безуспешно искали в мечетях Востока и Запада, а молва о нем растеклась по всему миру, как фимиам в храмах.
— В голове не укладывается то, что ты мне рассказала, — заметил Яго, не переставая любоваться ею.
— А еще не хочется верить, что знания, сокрытые в этой обители, могут безвозвратно пропасть. Ведь ты, по всему видно, сам охоч до знаний, если даже пересек море, чтобы освоить новые методы лечения. И ты не можешь остаться безучастным перед возможностью первым прочесть труд Диоскорида «О лекарствах» [46] или медицинские трактаты Галена [47], на сегодняшний день их считают утерянными. А что скажешь насчет «Трактата о неизлечимых болезнях» Юльюля Кордовского, ни одного экземпляра которого не найдено, а ведь только за эту книгу багдадский калиф заплатил бы целое состояние? Аль-Мутамид обладал этими знаменитыми сокровищами, это было известно тем, кто гостил у него. Получив их, ты стал бы самым сведущим врачом в ближних королевствах; и эти книги, если их не сожгли африканские орды, возможно, находятся где-то рядом.
Даже столь неотразимые доводы не развеяли сомнений Яго, однако ему, завороженному назарийкой, не оставалось ничего другого, как с некоторыми возражениями принять ее версию, в общем-то сильно походившую на фантазию.
— В мои расчеты никогда не входило прославиться, занявшись продажей вразнос или воровством в королевском монастыре, но вот что действительно заманчиво, так это проверить, в здравом ли ты уме или не совсем, — сказал он с улыбкой. — То, что эти книги могут существовать, — интересное предположение для исследователя человеческих недугов вроде меня. Но не знаю, все кажется таким сумбурным…
— Ты хитрец и трусишка, насколько я тебя успела узнать. Но я уже не имею права колебаться, мне нужно отдать долг моему народу. Честно говоря, в момент, когда я усомнилась было в своих силах, появился ты, словно посланный Богом, милостивым и справедливым.
— Но почему ты уверена, что я смогу помогать тебе в таком рискованном деле?
— Потому что у нас общая дорога, Яго, а еще, как утверждает советник больницы Арагонцев, ты настоящий искатель истины и знания.
Это ее утверждение не получило ответа, и в комнате воцарилась долгая пауза. Вдруг на лице девушки появились тревога и удрученность. Отчаянный взгляд ее встретился с глазами врача, который тут же забеспокоился и спросил:
— Что-то тревожит тебя? Ты побледнела.
— Яго, одна мысль не дает мне покоя, постоянно мучает меня, — сказала она сокрушенным тоном. — Интуиция подсказывает, что попытка уничтожить меня — это часть заговора против дона Альфонса. Я попала в число тех, кто должен был пасть в самом начале заговора. И этот черный замысел, в том числе и идея устранить меня, созрел в монастырских стенах.
— Думаешь, заговор и преступление таятся в монастыре, посвященном делу Божьему? О чем ты говоришь? С тех пор, как я тебя узнал, у меня душа не на месте.
Принцесса ответила без иронии, но с оттенком презрения:
— Годы заточения в монастыре были для меня ненавистными, невыносимыми, но мне приходилось быть свидетелем некоторых тягостных происшествий, которые касаются королевы Марии и наследного принца Педро, этого юнца, склонного верить гороскопам и общаться с морисками — прорицателями и кудесниками — в кварталах Адарвехо, что всей Севилье известно.
Это было подобно укусу скорпиона, и Яго тут же спросил:
— Ты полагаешь, что они имеют отношение к тому, о чем ты мне сегодня рассказала?
— Именно так, Яго. Выведывание тайн, чернокнижие и заговоры — давно известное занятие, которому не чужды дон Педро и его мать донья Мария. Они сговорились извести меня.
— Так вот почему король дон Альфонс вздрогнул, когда я показал ему камешек с ядом, который тебе подсунули.
Нежный голос принцессы задрожал, и Яго услышал поток новых откровений, она стала рассказывать изумленному лекарю о страданиях, перенесенных ею в монастыре, а также о тайных встречах дона Педро с известными чернокнижниками-мусульманами из Адарвехо, которые часто бывали в его келье, за что получали какие-то льготы.
— Всегда полагал, что принцу пристало быть последовательным христианином и больше заботится о сохранении своего доброго имени, — заметил Яго.
— Наследника воспитывали с единственной целью: отомстить за мать. Его с малых лет поили желчью предательства и злопамятства. Потому обитель Сан-Клементе и превратилась в болото, куда заползают всякие черви.
— В Кастилии стали уже притчей во языцех распри между монархом, его пассией доньей Элеонорой де Гусман, бастардами и королевой Марией, — вставил лекарь.
Назарийка остановилась на некоторых подробностях, которые назвала «пророчеством принцу», Яго жадно внимал каждому ее слову.
— Ты становишься одним из немногих, кому известно об этих тайных встречах, пусть Бог милосердный ослепит меня, если я придумала хотя бы одно словечко из того, что мне довелось слышать, — сказала она почти шепотом. — Знай же, что в квартале Сан-Педро в Адарвехо собирается тесный круг мусульман Севильи, в основном зодчие, оценщики, ювелиры и прорицатели, лояльные подданные кастильского короля. У них свои законы, нравы и обычаи. Дон Педро пристрастился посещать их заведения, а заодно захаживает к знаменитому тамошнему астрологу по имени Бенахатим, который устраивает там свои сборища. Это отступник от истинной веры из Гранады составляет гороскопы для принца, получая за свои услуги золотом.
— Ворожба и деньги — плохие попутчики в жизни, — сказал медик.
— Помню одну зимнюю ночь, холодную и тоскливую. Со стороны реки неслись черные грозовые тучи, монахини закончили мессу. Я возвращалась из трапезной по одному из коридоров, когда услышала стук дверцы, выходящей в сад, и увидела слугу дона Педро в сопровождении, как мне показалось, какого-то мавра. Они проскользнули в темноте в его комнату. Любопытство подтолкнуло меня узнать, что это за тайный визит. Я спустилась по лестнице и спряталась под балконом в ночной тьме; там я смогла услышать обрывки разговора между астрологом и принцем, они говорили между собой на альгарабии, общем языке христиан и мусульман, живущих в аль-Андалусе.
— Обычное дело: небылицы о королях — любимая тема разговоров толпы. Но ты меня заинтриговала. Так о чем же они говорили?
— Я скажу все, что поняла, Яго. Речь шла о гороскопе, который этот королевский щенок заказал Бенахатиму, и вот что астролог сказал по этому поводу: «Высокочтимый принц, руководствуясь методом ученого Агатодемона, египетской книгой мудрости, основными датами и значительными событиями твоей жизни, местом твоего рождения в Бургосе, я предвижу в будущем твою коронацию, ведь ты единственный возможный наследник: остальные дети незаконнорожденные. Однако по твоему поручению я заглянул и в Книгу Судеб, которая мне указала так же ярко, словно все это было озарено светом, что ты, мой принц, Королевский Ворон, будешь заключен предателями твоей же крови в местечке под именем Сельва, где тебя лишат жизни и никто не сможет прийти тебе на помощь».
— Это предсказание, будь оно верным, выглядит довольно зловеще. Надо же, до чего могут дойти короли. Хотя такое общение не делает никому чести, и дон Педро должен был бы об этом знать.
— Так вот, этот прорицатель-мориск добавил: «Ужасно или нет, сир, но я не могу растолковать это положение с достоверностью, а оно постоянно возникает в моих видениях, я даже лишился сна. Я просмотрел книги христианских и мусульманских географов, и мне удалось наконец, мой сеньор, найти правдоподобное объяснение. Этот неизвестный уголок Кастилии, похоже, находится в крепости Алькарас посреди местности, называемой Кампо-де-Монтьель. Это вам о чем-нибудь говорит, дон Педро?»
— Ну он ему и предсказал, Субаида! Я дрожу, слыша это.
— Слушай дальше. Потом я некоторое время не могла расслышать, что говорил принц Педро, юнец, уверовавший в предсказания, которому с детства дурил голову этот презренный плут. Но под конец он издал свирепый крик и стал последними словами честить своего друга и кудесника из Адарвехо, который после нескольких крепких слов, я их не поняла, завернувшись в монашескую сутану, покинул монастырь, который ему, кстати, было запрещено посещать.
— Странное поведение королевского первенца. Королевский Ворон, Сельва, Алькарас, Кампо-де-Монтьель? Ради Бога сущего, что означают все эти имена?
— Да разве я знаю! Возможно, все это выдумки, чтобы заполучить побольше золота.
— Но ведь король должен был бы об этом знать, Субаида?
— Он знает, но не от меня, а от самого Бенахатима, который получил с обоих.
Не желая сказать лишнего, медик осторожно кивнул:
— А это предсказание как-нибудь связано с твоими поисками?
Глубокая пауза вновь воцарилась в алькове, потом заложница наконец выразилась ясно и убедительно:
— Дон Педро, склонный к мнительности и суевериям, знает через Бенахатима о существовании где-то в Севилье фундаментальных трудов исламской науки, и в первую очередь о Коране аль-Мутамида, и так же, как и я, желал бы изучить его. Но не для того, чтобы пополнить свои знания, что ему безразлично, а потому, что считает, будто там содержатся формулы алхимии и тайной магии. Поэтому я боюсь: случись что-нибудь с королем доном Альфонсом, моей судьбой уже будет распоряжаться его сын, и тогда жизнь превратится в ад, если мой двоюродный брат не потребует от него исполнения договоров.
— Будь я проклят! Но королю еще жить да жить, он находится в самом зрелом возрасте, не мучай себя напрасными сомнениями, пусть будущее тебя не страшит.
— Сознаюсь, я уже потеряла надежду продолжить поиски в Сан-Клементе, но в тебе я нахожу идеального союзника. Я не упрекну тебя, если ты откажешься помочь, но я столько видела зла за эти годы, что поиски клада превратились в одержимость. Найти его, уберечь от гибели. Покажи свое благородство, помоги, умоляю тебя.
— Меня ничто не заставляет, но я обязан верить тебе и могу помогать, не нарушая клятвы Гиппократа, хотя в таких делах лучше иметь терпение.
— Речь в данном случае идет о зрелом решении, я никогда от него не отступлю, а с твоей помощью мои надежды станут реальностью. Я поклялась в этом на святом Коране, который отправился со мной в изгнание и видел столько моих слез за четыре долгих года.
Назарийка привела такие неоспоримые доводы, что врач, вначале потрясенный услышанным, понял вдруг, что все это необычайно интересно, и от внутренних колебаний перешел к безоговорочному согласию участвовать в этом странном предприятии, в которое оказался замешан еще и эксцентричный наследник кастильского трона, о коем он уже слышал, что тот якшается со сводницами, проститутками, прорицателями и мошенниками-астрологами.
Хотя его первой реакцией было не связывать себя обещаниями, но в конце концов он внял аргументам своей очаровательной собеседницы и ласково заверил ее:
— Я последую за тобой в этом сумасбродном деле, хотя не знаю, куда оно нас заведет. Однако на все нужно терпение, надо ждать благоприятных обстоятельств.
Наконец они распрощались, и Яго покинул усадьбу, прояснив для себя некоторые непонятные ранее вопросы. После откровений магометанки в нем боролись смятение и радость. В душе происходили огромные перемены, взволновавшие его. Переходя двор, он услышал, как из-за шелковиц, скрывавших окна Субаиды, послышался звон арабской каниры и вновь ее голос, заставивший его сдержать шаг:
Воспоминанье Гранады Тоской мое сердце гложет, И слезы мои, словно дождик, Льются в вечерней прохладе. Послушай плач чужестранки, О иноверец прекрасный, Тебе пропою я поэму, Увитую лентой звездной, Тебе, мой друг, осветивший Надеждой мой путь одинокий.Эта девушка воцарилась в его сердце, он чувствовал к ней то уважение, которое обычно вызывают необыкновенные личности. Однако как избежать опасностей, которыми чревата такая дружба? Ведь она иноверка! Почему он пообещал ей свою помощь в таком рискованном, безрассудном и опасном деле, как ни посмотри — неосуществимом? До какой степени можно верить ужасному пророчеству арабского астролога?
Субаида, ангел небесной гармонии, исповедует нечестивую веру, она иноверка, да еще и заложница Кастилии, находится в полной зависимости от королевского каприза и превратностей переменчивой политики враждебных стран, так что обладание ее сердцем представляется более чем опасным делом.
Погруженный в мучительные раздумья, Яго уходил все дальше по дороге от постоялого двора, потому что намеревался показать своим друзьям свиток пергамента, который круто менял его жизнь. Однако чувство нереальности происходящего расхолаживало его, будто бы он разом потерял над собой контроль и оказался во власти своенравного случая. «Только когда ничего не ждешь от случайности, можешь быть хозяином собственной судьбы, хотя сегодня она мне показала одну из своих неожиданных улыбок», — подумалось ему.
Он чувствовал, как в нем боролись между собой логика и влечение влюбленного к недостижимой красавице, а душа его разрывалась от переживаний.
Ветви белой шелковицы осыпали его лицо росой, и он вернулся к реальности, с трудом отвлекшись от своих мечтаний, от раздумий о сложном и сомнительном положении, в которое он попал.
Сестра Гиомар
Теплая осень расщедрилась на проливные дожди, которые залили лагуны и смыли зловонные лужи. Моча, козий и коровий помет, вонючая грязь исчезли, и застойный воздух конца августа стал здоровым и прозрачным, а Яго и его коллеги-врачи отметили, что дизентерия и лихорадка в округе пошли на убыль.
На ранней заре Яго шел по дороге, ведшей от дома Ортегильи к лечебнице, обходя повозки, прибывшие из Альхарафе, и толпу бродяг, бондарей и горшечников, ходивших по дворам и харчевням или удалявшихся в сторону верфей.
Он поспешил проскочить мимо толпы через Угольные ворота, чтобы избежать толкотни, и под аркой загляделся на лес мачт, покачивавшихся на тихой глади реки, на домишки, разбросанные по Приморскому кварталу, что казался совсем близким из-за множества баркасов и рыбачьих лодок. Непроизвольно ему пришлось поднимать повыше ноги, чтобы не запачкать обувь в потоке нечистот, когда пришлось миновать копавшийся в мусоре поросячий выводок.
Лечебница Арагонцев, строение, похожее на расползшийся лабиринт, высилась, отнимая пространство у суровой крепости. Открытые солнцу постройки радовали глаз нового лекаря. У входа стояла статуя святого Луки из некрашеного дерева с каменной бутылью, притороченной к пустой руке. Святой встречал его каждое утро своей пустой улыбкой, в то время как целое скопление рахитичных попрошаек, увечных и сирот протягивали к нему руки, покрытые коркой грязи, прося медную монетку. Казалось, все нищие города каждое утро сползались к этому средоточию страданий. Яго расточал свое великодушие на малышей, обещая им заняться их осмотром в полдень, слушая привычное для каждого утра нытье.
— Будьте милосердны, дайте нам увидеть сестру Гиомар! — просили они, дергая его за одежду. — Мы бедные, нам нужна ее милость!
Он пересек двор, обсаженный кипарисами, с фонтаном, куда слетались на водопой голуби, прошел через приемную, где пахло йодом, спиртом и ртутью и где паломники располагались рядами на тюфяках. В лазарете ощущался покой — тихие переговоры лекарей, шаркающие шаги больных, монахи ордена святого Иеронима.
На лестнице Яго столкнулся с Исааком де Тудела, хирургом-евреем, своим ровесником, который тоже прошел аудитории Салерно; у него был искрящийся взгляд, добрый нрав, из-за которого они быстро сошлись. Исаак часто приглашал его в свою компанию, куда входили Ортегилья, Андреа, Эрнандо и даже Тереза Тенорио, дочь адмирала. Они посещали лачуги Севильи, окрестности кафедрального собора, испытывали новые врачебные методы, против чего категорически возражал их глава, врач, придерживавшийся канонов традиционной медицины.
Неожиданный перезвон колоколов заставил их оглянуться. По этому сигналу начиналась работа, медики должны были собраться у Великого магистра, мастера Николаса Сандоваля, страдающего подагрой старика с нелегким характером, ловкого в хирургии, сухопарого и тощего как селедка. Этот столп больничной иерархии имел седоватую раздвоенную бороду, густые брови и авторитарные повадки. Ходил он, опираясь на отделанную серебром трость.
— Старый гвоздодер зовет нас. Пошли послушаем, какой вздор он нам на сегодня приготовил.
— Его беда в том, что он боится новых времен. Бежим!
Около двадцати хирургов, специалистов и прислужников приветствовали друг друга сдержанными поклонами, произносили утреннюю молитву вместе со священником. После этого в зале воцарилась тишина, почти как в церкви. Из первого ряда вышел их коллега, человек низкого роста, бородка клинышком, одетый в черное, на голове фетровая шапка, на красном носу плясали увеличительные линзы. Это был не кто иной, как магистр королевской лечебницы, известный в Испании астроном Бер Церцер; встав у аналоя, он решительным движением раскрыл кипу листов и обвел собравшихся испытующим взором. Те в свою очередь смотрели на него с почтением. Раздался его сильный голос, резко отдававшийся эхом под сводами помещения:
— Вчера мы обсуждали греческую школу Салерно, а лекция этого утра коснется методов, описанных в необыкновенном труде, к несчастью утерянном для медицинской науки. Арнау де Виланова называет его великим заблуждением медицины, а Мондино де Болония приготовил специальный пюпитр на своей кафедре, потому что надеется найти его в какой-нибудь затерянной библиотеке или в лавке торговца на Сицилии или в Антверпене. Эти листы, которые вы видите, — он поднял перед собой пожелтевшие бумаги, — я случайно спас от гибели менее месяца назад.
Среди лекарей раздались отчетливые смешки и ропот разочарования.
— А знает ли ваша милость о происхождении этих рукописей? — спросил Яго, памятуя о разговоре с Субаидой.
— Они валялись в мусоре мавританского квартала, — ответил тот расстроенно. — Я два дня рылся в грудах грязного хлама, но там остались только отбросы. Горестная потеря!
— Какой учебник по медицине вы имеете в виду, маэстро? — спросил кто-то.
— Речь идет, мой молодой коллега, об известном «Трактате о лекарственных средствах» Макалы, беспощадно уничтоженном варварским племенем африканцев, которые опустошили королевства аль-Андалуса. Что потеряла врачебная наука, не имея ныне этих страниц с прекрасными иллюстрациями по лечебной ботанике! Это была сокровищница крепостной аптеки Кордовы, уничтоженная навсегда, к несчастью человечества.
— А то, что вы нашли, — достоверно, маэстро? — спросил кто-то из прислужников.
— Можно восстановить этот отрывок, которым пренебрегли крысы, в нем описано любопытное средство, которое мы сегодня же могли бы применить на практике к нашим душевнобольным из палаты святого Дамиана, — объявил он, поправляя линзы. — Я смог приготовить новое лекарство, составленное из трех простых субстанций: мускус, воловик и снадобье из меда и уксуса.
— Вы, врач-иноверец, утверждаете, что этот даин, или панацея, может помочь при эпилепсии? Не могу поверить, — засомневался настоятель Сандоваль.
— Так стоит проверить это лекарство, маэстро, потому что из тех средств, что мы применяем, ни одно не помогает. Оставим на несколько недель окуривание, холодные ванны и потогонные средства, попробуем эффективность этой настойки, может, вправду нам повезло и она вернется в медицинскую практику.
Настоятель всем видом выражал сомнение, а ученый, не обращая на это внимания, продолжил рассказ о своей находке. Наконец он свернул документ и стал называть лекарей, которые должны были навестить больных в их домах:
— Сегодня делают домашние визиты хирурги Исаак де Тудела и Саломо Морантес. Их сопроводит брат Гонсало со святыми маслами, если они потребуются.
Яго вздохнул с облегчением: он был рад, что не попал в их число, осталось пожалеть своего друга, потому что ходить по домам было довольно обременительным занятием. А пока вереница медиков — ученые кастильцы и несколько обращенных — тут же, подобрав мантии, двинулась за магистром в рутинный обход больных, начав с палаты Сан-Косме, где гнездились десятка два больных пеллагрой, египетским воспалением желез, а также больные заразной чесоткой. Они сидели и лежали в грязных рубахах, пропитанных потом и гноем. Несколько человек справляли в горшки нужду, от тошнотворного запаха было трудно дышать.
Многие от приступов боли ругались сквозь зубы, в то время как безнадежные больные, уже не нуждавшиеся в лечении, в своей отрешенности не реагировали ни на что. Один лекарь, сам весь в прыщах, лечил от сифилиса портового грузчика, смазывая его органы ртутной мазью, тот ужасно стонал. Церцер и Сандоваль осмотрели его, пояснив группе:
— Здесь будем прикладывать больше порошковой серы на язвы, в смеси с теплым маслом, а этому юнцу с воспалением глаз нужно смазывать веки аммиачной микстурой со спиртом. С Божьей помощью в ближайшие дни ему должно стать лучше.
Клирики между тем исповедовали, раздавали елей или призывали умирающих к молитве и терпению.
Процессия врачей во главе со своим руководителем напоминала гигантскую черную змею, ползшую по коридорам, звук шагов гасили циновки из дрока. Ученое сообщество прошло в обитель женщин, больных раком груди, где, мучимые разными видами саркомы, они покорно ожидали смерти — скоротечной и желанной. Эта зала была единственной, где медицинский персонал проводил кропотливые исследования мочи и кала больных. Тут же наперебой обсуждали цвет, осадок и наличие сгустков в моче, назначали кровопускание, настойку валерианы и надрезы, чтобы удалять яд из ран, если это была наружная опухоль.
— Прочищайте пустулы кипяченым желе, — приказал мастер Николас прислужникам и перешел к самому тяжелому больному — отбитому у мавров пленнику, которому следовало вырезать разросшуюся опухоль на горле.
— Этот нарост достаточно созрел, чтобы его удалить, — сказал мастер Николас, потребовав внимания ассистентов. — В данном случае мы прибегнем к выжиганию, поскольку первая попытка вырезать опухоль не дала результатов. Промойте скальпели, прижигатели и ланцеты водой с беленой из перегонного куба и расслабьте больного для операции микстурой hiera ligra [48]. Но сначала пусть капеллан его причастит.
Пациент смотрел на них скорее как на возмутителей спокойствия, чем как на лекарей, отчаяние мелькнуло в его глазах, а лицо исказилось от ужаса. Яго наблюдал за страхом больного с сочувствием и решил вмешаться, попросив ректора дать ему слово.
— Достопочтимый мастер, а почему бы вам не попробовать смесь мандрагоры с опиумной микстурой, индийскую коноплю и плющ? Это сильное обезболивающее средство, описанное Исидором Севильским и Николаем Салернским. Этот бедняга не почувствует никакой боли, когда его будут резать. Попробуйте, вы убедитесь, что средство эффективно, уверяю вас.
Двадцать пар глаз обратились к Яго, который подергивал бородку, уверенный в себе, ожидая ответа ректора, раздражительного по натуре. Тем не менее было похоже, что он не понимает, что выступать с таким дерзким замечанием рискованно. Все без исключения подумали, что Яго сейчас сделают выволочку за легкомысленное заявление. «Разве я сказал что-то неподобающее?» — спросил он себя, видя всеобщее недоумение. Но не в его натуре было уступать. Поэтому он спокойно дождался реплики иерарха королевской лечебницы.
— А вы пробовали его раньше, мастер Фортун? — спросил Церцер, сверля его беспокойными зрачками. — Мы не сторонники поспешных опытов.
— Конечно. В лечебной практике Салерно это обычное дело, — заверил он.
— Хорошо. Медицинская наука открыта дерзаниям своих сынов, только смелые люди открывают новые пути, которые потом скромно используем мы, менее безумные. Мы попробуем средство сегодня же, — ободрил его Церцер, улыбнувшись.
Помрачневший декан, не привыкший к тому, что его поправляют, сделал кислую мину и, не удостоив Яго взглядом, недовольно заключил:
— Хорошо, пусть будет так. Запишем в хронику визитов новшество нашего нового коллеги, так же как и точный рецепт изготовления средства, как предлагает наш советник. Кстати, мастер Яго, это вы дали указание убрать солому и положить циновки из дрока во вверенном вам помещении для паломников?
— Так и есть, сеньор, в соломе я заметил крысиный помет, крысы даже покусали одного больного, а еще там были гнезда паразитов. С этого дня мы уже не страдаем от этой нечисти, а спальня, где лечатся больные, страдающие подагрой ног, стала гораздо благоприятнее для здоровья.
Мастер Николас смерил его с головы до ног высокомерным взглядом и процедил — презрительно и даже с плохо скрытой враждебностью:
— Медицина, не подтвержденная практикой, не устает подавать примеры авантюрных нелепостей. Воздержитесь в дальнейшем от ваших сумасбродств.
Сдержав неприязненное чувство, Яго холодно улыбнулся, подумав, что не стоит начинать свою карьеру в самой знаменитой севильской лечебнице с конфликтов. Тем не менее, прежде чем двинуться вместе со всеми дальше, он был ободрен советником Церцером, который ему понимающе подмигнул.
В палате Сан-Роке трое лекарей старались умерить мучения больного бешенством, укушенного больной собакой, — прописанные ему прижигания заставляли того истошно вопить. Сандоваль посоветовал затянуть ремни и вытирать слюну и пену, вытекавшие изо рта, мокрой паклей; он собственноручно прикладывал куски смоченной в кипятке ткани к привязанным конечностям несчастного.
— Смажьте ему рану смолой с уксусом, должно полегчать, — заявил он, метнув косой взгляд на Яго из любопытства, как тот отреагирует на этот раз.
Далее они шли, не останавливаясь, до палаты Сан-Панталеоне, где нескольких священников, богатых людей города и знатных больных обхаживали услужливые монахи ордена святого Иеронима. Над некоторыми постелями красовались балдахины, свет струился сквозь окна со свинцовыми переплетами, ковры покрывали холодные плиты пола, и повсюду жаровни источали запах агалоко [49]. Подносы с остатками голубей и дроф, глиняные чаши с молоком, бисквиты — все это расторопно убирали хорошо обученные слуги. Мастер Николас первым делом поклонился канонику кафедрального собора, который лежал здесь, страдая болезненным мочеиспусканием и задержкой мочи.
— Как, ваше преподобие, удалось сходить по малой нужде? — спросил он, и клирик отрицательно покачал головой.
— Мастер Николас, я обращался, как вы мне советовали, к святой Регине и святому Гервасию, но они меня не услышали, хотя боли в мочевом пузыре стали меньше после микстуры и пиявок. Я вас прошу, срочно пропишите мне что-нибудь, иначе я лопну.
Врач прокашлялся и, приняв деловую мину, обратился ко всем:
— Настойка из тертого чеснока с тимьяном, лимоном и мятой, прописанная вчера, по-видимому, произвела очистительное действие. Теперь наступил момент воздействовать на пенис высокочтимого пациента бесспорным и решительным средством.
— И что за средство вы имеете в виду? — спросил один из лекарей, щуплый и незаметный.
— Одно из завершающих лечение. Толстые клопы, залитые маслом скарабеев, должны немедленно вызвать поток мочи. Попробуйте, ваша милость.
Первой реакцией Яго было изумление, в то время как остальные, исключая Исаака и Церцера, единодушно выразили одобрение и восхищение. Он не мог принять такой примитивный метод, недостойный терапевта его уровня, но еще одно возражение могло повлечь за собой серьезные осложнения. Он придвинулся по возможности ближе к ложу служителя собора, боязливо следившего за манипуляциями лекаря, который с удивительной ловкостью ввел в член клирика двух красноватых и блестящих тварей, взятых им из колбы, одновременно осторожно массируя ему низ живота.
В конце концов, может быть, потому, что церковник несколько дней сидел на строгой диете, или потому, что он выпил целый кувшин настойки, или просто представил, как пара внедренных в его препуциум [50] насекомых резвится, ползая по его внутренностям, но он вдруг дернулся, вскочил с постели, требуя судно, и, поддернув рубашку, направил свой орган туда как раз в тот момент, когда хлынула обильная оранжевая струя, звучно и быстро наполнив горшок, к непередаваемому блаженству больного.
Яго не скрывал своего удивления и внутренне заулыбался, вынужденный признать очевидное. Декан, наблюдавший за эффектом, повернулся к лекарям с видом победителя и провозгласил, явно имея в виду настроение молодого врача:
— Этим очищающим средством мы также обязаны Universitati [51] Салерно. — При этом надменный взгляд его источал сарказм.
Обход продолжился, лекари прошли через палату, где лежали больные с переломами, потом мимо больных лихорадкой, параличом и падучей, наконец, вышли во двор, где их ожидала дюжина нищих, которым они раздали микстуры, мази и чаши с репой и рагу с овощами. Каждому ректор, ссылаясь на астрологические изыскания ученых Луллия и Аверроэса [52], прописывал кровопускания, примочки и снадобья, при этом руководствуясь скорее внешним видом больного («желчь черная, желтая или флегма»), чем его жалобами.
— Мы хотим, чтобы к нам вышла сестра Гиомар, сеньор! — просили они.
— У этих убогих созданий прирожденная склонность к ворожбе, — констатировал ректор в кругу коллег, а Яго убедился, что старый врач излишне злопамятен, потому что тот снова наградил его презрительным взглядом.
Наконец звон колокола призвал всех к литургии, утренний обход был тем самым завершен. Толпа врачей тут же рассеялась, и в этот момент Бер Церцер тронул Яго за плечо:
— Прошу вас, зайдите сейчас ко мне в герболарий [53], мастер Яго. Мне нужно поговорить с вами по одному делу.
Врач-иудей, астроном, посвятивший свою жизнь изучению небесных тел и салернской медицины, пользовался заслуженной известностью в медицинских кругах Кастилии. Жил он поблизости от храма Спасителя в старой андалусской постройке с фонтанами, садом и беседками, лечились у него именитые люди, цвет дворянства: помимо самого короля Альфонса, адмирал Тенорио, воинственный архиепископ Севильи, его преподобие Хуан Санчес, с которым он часто вместе обедал.
Всем была известна необычайная эрудиция Церцера, но многие лекари больницы завидовали не столько его знаниям, сколько ста золотым дублонам, которые ему недавно отмерил султан Гранады за вылеченную фистулу, мешавшую ему ездить на лошади и развлекаться игрой верхом в персидскую пулу [54], его любимое занятие. Для Яго приглашение было не только лестным, но и неожиданным, он настроился на серьезный лад и молча пошел рядом. Через некоторое время иудей, вперив в юношу пытливый взгляд через комически качающиеся линзы, прикрепленные к шапочке, без обиняков задал ему вопрос, касающийся Субаиды, гранадской заложницы, хотя он полагал, что дело осталось в тайне.
— Вы понимаете, мастер Яго, что вашими действиями вы оказали значительную услугу этому королевству? Попади принцесса в другие руки, она умерла бы в ту же ночь. Если индийскую корицу вовремя не нейтрализовать, смерть неминуема. Лишь немногие здесь знают противоядие и необходимую дозировку его. Вы оказались в их числе.
Вопрос ученого пронзил Яго словно дротик. Его будто заманивали в ловушку с неизвестными намерениями. Разве не от него требовали абсолютной конфиденциальности в этом деле? И до какой степени Церцер знает подробности? Однако ответ не заставил себя ждать.
— Извините меня за прямоту, — продолжил тот. — Я начал этот разговор с той лишь целью, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Поверьте, когда мне рассказали про ваше искусное вмешательство, я тут же пришел в восторг, а понаблюдав за вами уже в нашей среде, проникся к вам еще большим уважением. Не повод для ревности, но ваш покорный слуга — еще одно звено в случившихся необъяснимых кознях и к тому же безусловный поклонник назарийки. Дело в том, мастер Яго, что в ту ночь вы оказались на моем месте.
— На вашем месте? Но теперь я вас понимаю еще меньше, — заверил Яго растерянно.
— Видите ли, — объяснил Бер Церцер, — в ту ночь я находился где-то между Лохой и Антекерой, по дороге из Гранады. О моей отлучке знал дон Хуан, королевский мажордом, он-то и посоветовал королю обратиться к вам на условиях особой осторожности, требовавшейся в этом деле. Живете рядом, объявили себя как лиценциат Салерно и Саламанки, да еще Ортегилья рассказал о ваших врачебных навыках одному приближенному ко двору человеку, которого он посещает по долгу службы.
— Только теперь до меня доходят некоторые непонятные ранее вещи, хотя случай был в высшей степени странным, — сказал Яго.
— И необъяснимым, конечно. Насколько мне известно, расследование пока не нашло виновных, и это при том, что нескольких подозреваемых подвергли пыткам, — сообщил Церцер.
— Найти виновника может оказаться щекотливым делом. В центре интриги король, убийцы были наверняка крайне осторожны и старались не оставить следов, — предположил Яго.
— Старший альгвасил ведет розыск среди простолюдинов, перебежчиков и португальцев. Я же стараюсь разобрать это дело с чисто политической точки зрения: каким королевствам оказалась бы выгодна смерть гранадской принцессы? Отвечаю: Арагону и Гранаде, это неоспоримо. Только им, друг мой. Арагонцам — для того, чтобы половить рыбку в мутной воде и подобраться поближе к Проливу, а гранадцам — для того чтобы разорвать договор с Кастилией. Так что расследование надо вести в этом направлении. Однако рискованно обвинять коронованных особ без веских доказательств. А я простой врач, да и еврей к тому же, — смиренно заключил он.
— Девушка, по ее словам, считает себя жертвой какого-то заговора, хотя видит в этом руку королевы Марии и наследника, — уточнил Яго.
— А что, может быть, — согласился советник, — я тоже не в восторге от этих хитроумных козней.
Задумчивость отразилась на лице молодого врача, который после некоторого молчания изменил ход разговора, задав мучивший его вопрос:
— Вы упомянули, что король рекомендовал принять меня в эту больницу. Почему?
— Действительно, — подтвердил Церцер, — он на этом настаивал. В лечебницу Арагонцев не всякого принимают, сколько бы дипломов врач ни имел. Но вы сюда влетели как метеорит — конечно, это вызвало ревность, особенно у мастера Сандоваля.
Они неторопливо шли по направлению к аптеке, теперь, понизив голос, задал свой вопрос Церцер:
— Мастер Яго, я вас спрошу еще о том, что меня сейчас более всего интересует. Это снадобье, что вы применили к заложнице короля, взято из какого-нибудь тайного трактата?
Вопрос был слишком деликатным и касался секрета, о котором не следовало особенно распространяться. Яго приготовился дать уклончивый ответ, вежливый и неопределенный. Он имел дело не с глупцом, и этот человек мог стать либо сильным противником, либо неоценимой его опорой в стенах больницы. Существовал риск, но внутренний голос подсказывал, что он поступает правильно. Более разумным представлялось стать союзником этого еврея, чем его соперником.
— Это был случайный подарок моего сокурсника в Салерно по имени Бен Халиб, — ответил он строго. — Я, как и вы, тоже стал безнадежным искателем арабских текстов по медицине, полсвета проехал в этих поисках.
— А как насчет того, чтобы показать этот рецепт узкому кругу моих друзей, алгебраистов и астрономов? Вы могли бы войти в круг уважаемых ученых, в большинстве своем академиков севильского студиума при Сан-Мигеле.
Его сомнения тут же обернулись согласием. Какая была бы польза, если бы он сокрыл средство, которое помогало ближним справиться с мучениями и болью. С другой стороны, предложение возбудило его научные аппетиты.
— С удовольствием принимаю это предложение. Обмен знаниями вдохновляет каждого искателя неизвестного, господин Церцер.
— Я считаю вас человеком, обладающим необычайным здравомыслием, — ответил тот. — Я вас приглашу заранее. Вот мы и пришли в герболарий, здесь нас ждет мать Гиомар. Сейчас вы познакомитесь с необыкновенной женщиной, я бы сказал, даже возмутительницей спокойствия. Поосторожнее с ней.
* * *
В герболарии царил такой сумрак, что вошедшие вынуждены были остановиться, чтобы привыкнуть к контрасту света и тени. Слепящий сноп бил через подвальное окно, освещая трех находившихся в помещении людей, которые от неожиданности прервали свой разговор и изобразили наигранное почтение. Глазам Яго предстала необычная картина: женщина в белом одеянии, длинном, как саван, с деревянным крестом на груди негромко беседовала с тучным монахом с невзрачными чертами лица, похожим на винный бурдюк, в присутствии карлика, который вычесывал вшей в углу. Они походили на стенные барельефы вроде тех изображений, что высекают на капителях церквей.
Вошедшие поздоровались и подошли к прилавку, отделявшему их от остальных присутствующих. Вдруг раздался треск, и что-то в глубине сдвинулось. Уродец, совершенно не заботясь об осторожности, бесстрашно, будто зверек, цепляясь за полки, полез наверх и потянул за веревку, свисавшую с потолка, — и тут же открылось все окно, мгновенно осветив мрачный до того герболарий, который сразу засиял всеми цветами радуги. После этого он вернулся на место и продолжил свое занятие, не обращая внимания на прибывших.
Сомневаться не приходилось: эта женщина, воплощение духовной хрупкости, и была той богомолкой, которая так поразила Яго в день затмения. Загадочная бледность покрывала лицо с тонкими чертами, с которого глядели серые властные глаза. Внимательно взглянув на нее, Яго остановился завороженный: монахиня производила впечатление неземного существа, витавшего в какой-то отрешенной от мира бездне. Казалось, она находится под действием наркотика.
Чувствовалось, что внутренний мир этой женщины достаточно сложен, но скрыт под оболочкой абсолютной неприступности. В складках сутаны проглядывала монашеская одежда, которую она нервно теребила пальцами. Изобразив сначала удивление при появлении хирургов, она затем проявила всю сердечность, на какую только была способна, хотя с приветствием несколько задержалась.
— Советник Церцер, чем обязана вашему визиту? — спросила она с наигранной улыбкой и почтительно кивнула на монаха. — Наверное, вы знакомы с братом Ламберто из ордена Милосердия. Мы говорили о его заботах по вызволению пленных, попавших к неверным. Благородное дело, как полагаете?
Клирик кивнул головой и провел рукой по подбородку, другую руку он прятал в рукаве сутаны. Потом пошевелил ноздрями огромного носа и вытер капли пота, струившиеся по черепу, на котором топорщились тускловатые волосы. Равнодушным голосом человека, которого не слишком обрадовала компания марана и незнакомого костоправа, он затараторил:
— На самом-то деле именно благодаря тому, что больница была вверена мудрым заботам сестры Гиомар, нам удалось вызволить двоих христиан, которых принуждали к каторжным работам в Башне де-лос-Пикос в Альгамбре. Как раз сейчас мы об этом разговаривали. И мы снова отправляемся в путь с полным кошельком, чтобы выкупить других христиан, если только нам не помешают сатанинские козни. Бог нам в помощь! — добавил он, вздохнув.
— Все мы отдаем должное вашим заслугам, — сухо ответил иудей и представил нового врача: — Меня сопровождает сеньор Яго Фортун, новый медик пилигримов, лиценциат Саламанки и Салерно. Его обширные познания в восточной медицине будут очень полезны нашей больнице. Сестра Гиомар, помогайте ему в дальнейшем, когда ему будут требоваться травы.
Монахиня утвердительно кивнула и тут же лукаво спросила:
— Маэстро Яго, эти рецепты, которые вы составляете, они из труда Авицеброна [55]«Источник жизни» или же из «Лапидария» короля Альфонса Десятого? Насколько мне известно, практическая ценность обеих книг ничтожна.
— Если бы я читал только эти справочники по ароматическим веществам, я бы до сих пор бродил по деревням, лечил чирьи и рвал зубы, — вежливо ответил Яго. — Нет, сестра, мои познания в снадобьях основаны на текстах Макалы, Авенсоара и Бен Юльюля.
— А разве эти книги, частью безвозвратно утерянные, не объявлены Римом и Авиньоном еретическими? — въедливо заметила она.
В аптеке возникла тревожная тишина, в которой четко слышалось тихое жужжание налетевших сюда мух. Взгляды еврея, монаха и карлика уперлись в Яго, который, уязвленный выпадом монахини, ответил со строгой прямотой:
— Матушка, лишь подлинная наука приближает нас к Создателю. Напротив, невежественная склонность к чудесам — прямая дорога к обскурантизму и варварству. Поверьте мне, знание есть единственное противоядие от суеверия и обмана. О да! Знаете ли вы, сестра, что Папа Иоанн Двадцать Второй [56], подписавший эту буллу, занимался алхимией в своем замке де Солвес вместе с еврейскими и мусульманскими мастерами? Вы откуда узнали об этой якобы ереси, от самого верховного понтифика?
Богомолка сделала несколько резких шагов, не в состоянии сдержать своего возмущения. Остановившись перед прилавком, она возвысила голос:
— Только Бог и молитва могут по-настоящему врачевать, милостивый государь! Настойки растений в руках врачей — не более чем средства, которые даются самим Всевышним для лечения, если это, конечно, подходит конкретной душе. И потому священники бдят, чтобы еретические писания не смущали умов богохульными доктринами. Боль мы принимаем как главное ручательство достижения спасения! — почти кричала она во гневе.
— Народ Божий, братья мои, есть греховное стадо, которое лишь путем раскаяния и страданий способно избежать ада, — нравоучительно поддержал ее монах.
Яго было не впервой сталкиваться с подобными выпадами со стороны фанатиков, обескураживающими своей нелепостью. Ему было жаль клирика и эту женщину, чья взбалмошная душа не позволяла видеть далее монашеского капора.
В момент такого нежелательного оборота их визита на лице советника Церцера отражалось беспокойство. Скандальный спор не входил в его намерения. Он сделал вид, что закашлялся, но это не возымело действия, и он с упреком обратился к юноше:
— Магистр Яго, сестру Гиомар, которая не училась в аудиториях Монпелье, считают специалистом по лечебным растениям, и многие в нашем городе обязаны ей здоровьем и жизнью. Она и другие сестры, монахини Сан-Клементе, заведуют герболарием, а также залой Санта-Агеда, где лежат больные женщины, с великой самоотверженностью и милосердием, и их деяния достойны восхищения.
— Я не сомневаюсь, мастер, и правила хорошего тона обязывают меня признать их заслуги. Простите меня. Я слишком горяч в своих оценках, — заключил Яго с иронией.
Оба, монах и богомолка, склонили головы в знак примирения, тем не менее женщина наградила Яго враждебным взглядом, который он спокойно выдержал. Затем поднял взгляд к шкафам, которые были заполнены множеством аптекарских флаконов, столько он никогда не видел, и это его мигом заворожило. Бессчетное число пыльных полок были заставлены бутылями, сосудами из глины, олова и слоновой кости со всевозможными веществами, не все из которых были ему известны. Поистине аптека больницы Арагонцев располагала редкими компонентами, на которые можно было бы рассчитывать в лечебной деятельности. На нижних полках громоздились свинцовые ящики с медицинским инструментарием: трепаны, каутеры, щипцы, сверла, долота и ланцеты, а также горшки с ароматическими растениями, пачки ароматических свечей и мешки с ладаном и мускусом.
На верхних полках, освещенных шафрановым светом, выстроились десятки керамических горшков. На них были начертаны названия по латыни, выписанные не черными чернилами атраментум, как было принято в Кастилии и Арагоне, а синими и пурпурными, которыми пользовались в арабских канцеляриях и учебных заведениях, известных под названием мадад; их трудно достать, а еще труднее найти что-либо ими написанное. Все это изобилие отвлекло Яго, он смотрел на полки восхищенными глазами. Вчитывался в буквы, чтобы удостовериться; содержимое самых близких флаконов — календула, «драконий глаз», эстрагон, calluna vulgaris, arnica montana, illicum [57] и дягиль — эти похожи как капли воды на содержимое таких же сосудов в Салерно, переданных туда по наследству из Исламской академии Сицилии. Потрясенно крутя головой во все стороны, он подумал, что такая необычайная схожесть всегда крайне любопытна.
— Великолепный набор, сестра, и не менее замечательная каллиграфия. Только на Сицилии возможно увидеть во всей красе подобную манеру письма. Уверяю вас, я по-настоящему очарован тем богатством, что собрано в этих шкафах, и завидую вам.
— Иисус Христос направлял меня, — примирительно ответила она. — А что до трав, то их нам привозят генуэзские купцы из Берберии, Китая и Индии. Остальное выращиваем на монастырском огороде. У вас какое-нибудь дело, маэстро Церцер?
Иудей заказал вещества, некоторое время назад указанные Яго, которые карлик с удивительной живостью спустил с полок и выложил перед ними. Он не был похож на тех шутов, с которыми врачу приходилось встречаться в Италии, смышленых и язвительных, суетливых, одетых в многоцветное тряпье, с позолоченными колокольчиками: мерзкий гомункул с выпуклым лбом и выпученными жуткими глазами. Доверенное лицо, самоотверженный слуга и цербер монахини в одном лице, немилосердно вонял чесноком и потом; он ловко сновал вверх и вниз по полкам, будто обезьяна, при этом его заостренные уши не упускали ни одного слова.
Богомолка, нехорошо улыбнувшись, взяла сосуд с опиумом и коноплей и прокомментировала:
— Эти средства, вызывающие галлюцинации, редки и дороги, мастер Яго. Расходуйте их разумно. Кстати, достаточно ли проверены их лечебные свойства?
— Если употреблять их в разумном количестве перед трепанацией черепа, они могут стать для хирурга неоценимым подспорьем, потому что уменьшают страдания больного. Не беспокойтесь, сестра, мне хорошо известна дозировка, — сказал он холодно.
Когда они уже повернулись, чтобы уйти, поблагодарив за расторопность в выполнении заказа, послышался медоточивый голос богомолки:
— Мастер Яго, можно задать вам один вопрос? Вы живете неподалеку от дома адмирала Тенорио? — Тон был утонченно-коварный, и у него перехватило дыхание.
— Ну да, — пробормотал он. — А почему вы об этом спрашиваете, сестра?
— Многие больные среди тамошних прихожан, как люди с положением, так и бедняки, не перестают восхвалять вашу доброту и опыт в лечении болезней.
— Призвание, ученость и доброта в отношении с ближним могут все, сестра Гиомар, и вы сами прекрасно это знаете, — сказал он и улыбнулся.
Молодого человека несколько озадачил вопрос, и только Церцер вывел его из раздумий, тем самым, может быть, отведя тему для нового спора.
— Оставайтесь с Богом. — Он потянул Яго за рукав камзола. — Нас ждут больные, надо идти.
— Поцелуйте мое распятие, мастер Яго, Господь вам в помощь, — с просветленным видом заключила монахиня, протягивая ему свой темный нагрудный крест. — Отец, — обратилась она уже к монаху, — время выходить к моим убогим. Сопроводите меня.
— О да, сестра, а по дороге я смогу рассказать вам еще кое о чем, — сказал тот еле слышным голосом, глядя на нее такими маслеными глазами, что ей это явно было досадно.
Врачи поспешно покинули помещение, отметив про себя некую заговорщицкую связь между монахиней и ее собеседником. Яго задавался вопросом: чем объясняется вся эта недоговоренность, это поведение богомолки — то враждебное, то доброжелательное. И если натура брата Ламберто выдавала его невежество, то в сестре Гиомар чувствовались ум и скрытое коварство. Или же все ограничивалось экзальтацией и набожностью?
— Церцер, не кажется ли вам подозрительным этот их странный разговор? Заметили вы, что монах старательно прятал свою правую руку? Как они испугались, когда мы вошли в аптеку!
— Возможно, там был кошель с деньгами для выкупа пленных.
— Сколько же их там было? Не думаю, маэстро. Там было что-то более легкое. Во время разговора я видел, что он боится, как бы мы этого не заметили.
— А мне показалось странным, что они стали пояснять то, чего от них никто не требовал. Их беспокойство действительно подозрительно, вы правы.
— Им явно есть что скрывать, я тоже так считаю, — подхватил юноша. — Так она на самом деле способна лечить без лекарственных средств, как свидетельствует молва?
— Да ладно вам, я сам закоренелый скептик. Водить за нос толпу легче легкого. Эта женщина страдает припадками падучей, эпилепсии — болезнью, как вам известно, Сократа, Александра и Юлия Цезаря. Во время приступов она делает всякие апокалиптические предсказания, а народу это нравится. Но помимо таких сверхъестественных способностей она обладает чудесными руками для приготовления микстур, у нее получаются мази с замечательным эффектом, и никто из нас не знает, откуда она берет их рецепты. Хотя, возможно, они к ней попали через монахов из старых монастырей ордена цистерианцев. Тем не менее в глазах безграмотного люда она воплощает ниспосланные свыше способности к ясновидению и другим чудесам.
— Как часто такие радетели сверхъестественного кончают на костре или виселице, — заметил молодой врач.
— Однако эта женщина имеет нечто, выгодно ее отличающее от других, — эрудицию.
— Меня об этом уже предупреждали, а сегодня я сам мог убедиться в этом.
— Кроме того, она пользуется расположением королевы Марии Португальской. Она наперсница королевы, всегда сопровождает ее в обители Сан-Клементе, где королева пестует бегинок — женщин-монахинь из дворянских кругов города.
— И поэтому неприкасаема, — иронически заметил Яго. — Кажется, она и в самом деле способна к левитации под влиянием галлюциногенов.
— Что да, то да, ее реакция непредсказуема. В этом вы еще не раз убедитесь. Она не моргнув глазом переходит из состояния сладкой медоточивости к разящему гневу, это можно увидеть, когда она входит в транс. Гнетущее и потрясающее зрелище.
— А с чего это она стала допытываться насчет места моего проживания? Может, ей что-то известно о лечении заложницы-назарийки?
— Невозможно, Яго. Ее почитает толпа, но у богомолки свои дела, она подчиняется своей аббатисе. А та история, которая вас беспокоит, окончилась, как и началась, в абсолютной тайне.
— Господин советник, — возразил юноша, — нет более искусного способа обманывать терпеливого человека, чем лицемерно разыгрывать святость. Уверяю вас, это ее настоящее лицо.
— Забудьте о ней, мастер Яго. Главное, что король, дон Хофре, дон Хуан, вы и я об этом знаем, — подвел черту иудей, и их тени растворились в коридоре.
* * *
Вечера становились все холоднее, к небу поднимался розоватый туман. В конце осени над Севильей простиралось неяркое пепельное небо, отказав городу в своем обычном сиянии. Серые облака, сумеречные полутени, туман над рекой и зябкие ночи хозяйничали окрест. Фарфан поставил для хозяина жаровню рядом с письменным столом, в которой потрескивали прожорливые угли и пахучие стебли лаванды.
На льняном полотенце стояло блюдо с белым хлебом, сыром и куском свинины, которые Яго съел без особого аппетита. Охваченный усталостью, он снял фетровую обувь и каркасонскую альхубу [58] поднес к губам чашку с теплым пряным напитком. С улицы неясно доносились выкрики сторожей и подвыпившего люда, слышалось монотонное жужжание прялки.
«Какую роль играет донья Гиомар во всем этом деле? — размышлял он. — Не скрывается ли что-то роковое за ее лицемерием? Но как ее разоблачишь, если слава святоши и целительницы так ценится в Севилье?»
Его мысли постепенно перешли к прекрасной Субаиде, которой он искренне желал свободы. Однако он понимал, что даже предчувствие такой любви, чистой и невозможной, было для него настоящим испытанием. Ведь любовь эта непременно должна была натолкнуться на скалу неприступности, а от ее спутницы — гордости — можно было ждать самых тяжких испытаний и лишений.
Гаснущее солнце неожиданно осветило лицо Яго косыми розовыми лучами, и на нем появилась легкая улыбка. Яго умерил свое беспокойство и предался сну. Пахло дождем.
«Епископчик, Епископчик!»
По бесконечному лабиринту переулков Севильи разносился двухтактный барабанный бой. Он отражался от стен с каждым разом все четче, багровый отсвет факелов высвечивал эскорт стражников, который вел приговоренного, подвергнутого жестоким пыткам. В бледном рассветном зареве стражники и осужденный ступали по заиндевевшей дороге по направлению к башне Минхоара, сопровождаемые сотней зевак, осыпавших их бранью. Новость облетела город, и толпа спешила не упустить зрелище.
Неяркое зимнее солнце еще не взошло, а вереницы жителей уже стекались к Восточной башне — месту исполнения приговоров. Нетерпеливая толпа, жаждавшая крови, заполонила ворота Аоара, смешавшись с поденщиками, шедшими по дороге из Кармоны. Жестокое зрелище не заставило себя ждать. На горизонте возникла голубая полоска, постепенно поглощавшая тьму, и тут же появилась повозка, в которой трясся осужденный. Толпа взревела при виде его, изрыгая проклятия и кидая камни.
— Смерть негодяю! — бушевала толпа. — На гарроту иноверца!
Слух о казни, распространяемый городскими сплетниками, дошел до Яго, который вместе с хирургом Исааком, Ортегильей и Фарфаном решил присоединиться к зрителям. Тот факт, что какой-то неверный может привлечь подобный интерес обитателей целого города, подстегивал любопытство, и они постарались пробиться как можно ближе, остановившись за два десятка шагов от эшафота. Народ кругом обсуждал преступление и личность виновника. Фарфан поглядывал на мрачную физиономию своего хозяина, который ненавидел публичные казни и никогда на них не ходил. Все же по какому-то наитию на этот раз он сделал для себя исключение из непреложного правила.
Неожиданно отблеск факелов и первые лучи солнца случайно сосредоточились на согбенном силуэте приговоренного, и это выглядело ужасно. Несчастный возник из мрака, и стало видно, что на нем не было живого места. Это было окровавленное чучело, тяжело дышавшее, издававшее при этом свист, похожий на звук кузнечных мехов. Босой, со спутанной бородой и в разорванной рубахе, он едва мог прикрыть срамное место. Потеки крови по всему телу, кисти рук отрублены, из культей сочится вязкая кровавая жижа. С какой же методичной обстоятельностью палач из Сан-Хорхе издевался над смертником! Однако присутствовавшие еле смогли сдержать вскрики оторопи и ужаса, когда увидели его пустые глазницы — две дыры, черные, как деготь. Глаза, волосы, зубы были вырваны — свидетельство бесконечной жестокости. Яго, охваченный состраданием, спрашивал себя: «Какое зло нужно было совершить, чтобы заслужить подобное наказание?»
Осужденного впихнули в железную клетку, где он должен был ждать смерти от истощения и потери крови, снося оскорбления толпы. Один из стражников сбросил со стены канат, другой привязал его за металлическое кольцо каркаса и велел поднимать клетку. С помощью нескольких жердей, под крики толпы, сопровождавшей подъем дружными криками «раз, раз, раз!», осужденного подтянули на несколько метров вверх по башенной стене. Раздался звук литавр, толпа колыхнулась, и суровый судья, театральным жестом развернув лист пергамента, провозгласил:
— Да услышат все! Этот неверный, назвавшийся Абу Яханом, объявлен виновным в подстрекательстве к беспорядкам и заговоре, он проповедовал ложную веру среди жителей Адарвехо, что категорически запрещено властями Севильи. После воздействия на него железом и колесом злодей сознался в замысле и исполнении вероломного заговора против королевской заложницы, находящейся под покровительством короля дона Альфонса и кастильской короны. В качестве наказания за злодейства досточтимый суд приговаривает его к медленной смерти в клетке. Да свершится справедливость! Именем Севильи. За сим утверждаю: Алонсо Коронель, старший альгвасил Совета.
На какой-то момент толпа затихла, осмысливая тяжесть преступлений, совершенных против короля — лучшего из монархов, который был ниспослан им Богом и которого они обожали до фанатизма. Это было слишком для какого-то презренного мавра. И приговор, вынесенный уже их чувствами, вылился в крике:
— Иноверцу — смерть!
Толпа взорвалась, обрушив на преступника шквал проклятий и камней. Осужденный согнулся за прутьями, охрана под барабанный бой ушла прочь. И вот когда шум поутих и народ стал расходиться по своим будничным делам, из жуткой клетки вдруг донесся постепенно усиливавшийся стон, похожий на жалобное моление, которое никто сперва не разобрал, пока оно не переросло в животный крик. Уже отчужденный от всех и вся, несчастный выкрикнул:
— Ла илаха ила аллах! [59] — и добавил еще что-то.
Потом смертник обмяк и сполз на пол клетки с душераздирающим стоном. Люди с отвращением уходили прочь. На стене осталась висеть железная клетка, и целая стая ворон закружила перед ней, довершая скорбную картину. Яго, охваченный тошнотворным чувством, пошел через толпу и не останавливался до рыночных лавок Алатареса. Он не знал, стоило ли радоваться смерти несчастного неверного, прощать его или сочувствовать ему. Кто мог с точностью подтвердить, что этот жалкий человек на самом деле был организатором неудавшегося покушения на Субаиду, как утверждали власти? На какой-то момент он предположил, что свершившееся как-то умиротворит мятущееся сердце назарийки и положит конец ее подозрениям, однако жестокость казни ослабляла этот, казалось бы, веский аргумент.
Притихшие приятели уселись около дымящейся жаровни и заказали овсяные лепешки со свиной поджаркой и вино, которое сразу на них подействовало. За едой Ортегилья, со смаком рыгнув, удивил присутствующих вопросом, видимо его самого изрядно занимавшим.
— А вот кто-нибудь понял последние слова этого несчастного? — выразительно сказал он. — Знаете, что он исторгнул? Страшное проклятие!
— Ты имеешь в виду ругань? — спросил Яго.
Судья блудниц снисходительно провозгласил:
— Именно! Эти слова он произнес на имада, на говоре гранадских назари.
— Не томи душу, Ортега. Говори!
— Странное получается дело, друзья, — туманно продолжил тот. — Для начала должен вам сказать, что этот тип — сенете, так называют людей одного из племен Берберии, которое когда-то пришло с гор Атласа, владений воинственного султана Осмина. Эти люди отличные вояки, грозные наемники, их боятся даже в мирное время. У них строгая конспирация, и они держат в страхе приграничные территории: совершают жестокие набеги, причиняя несчастья многим христианским семьям.
— Тогда получается, что это был убийца-фанатик? — спросил Фарфан.
Яго погрузился в раздумья, вспомнив, что говорила ему Субаида: «Мне кажется, что я стала жертвой какого-то заговора», — время показало, что она была права, хотя бы потому, что казненный вполне мог быть причастен к попытке отравления. Это меняло дело; убийца наказан, и ей можно успокоиться.
— Кто знает, насколько суд был беспристрастен. В застенке пытают всякими щипцами и угольями, любой человек сознается в чем угодно, — заявил он, думая одновременно, в чем же состояло проклятие. — Так что иноверец добавил под конец такое, что тебя так смутило, Ортега?
Судья проговорил бесстрастным тоном:
— Эти воинствующие монахи живут отшельниками в своих рибатах, где предаются медитации, изучению своего священного писания и другим тайным обрядам; их даже сами мусульмане боятся, однако верят в предсказания и откровения, будто словам самого пророка. Так вот, этот человек произнес ужасное пророчество, которого не заметило большинство присутствовавших.
— Ну, так это следствие пыток и враждебности, ничего более.
— Да нет, маэстро Исаак. У тех, кто понял его жалобный вой, волосы от этой угрозы встали дыбом, — с досадой ответил Ортегилья. — Вот это отчаянное предсказание: «Этот город создал новую веру под знаком беспощадности, и над ним сомкнутся волны черной гибели. Месть за меня — ваши кровавые слезы».
— Да будет, не верьте подобному вздору. Это бред умирающего, который надеялся напугать своих палачей, — отрезал иудей. — Бессвязная болтовня, ничего более.
— Болтовня? Ну уж нет! Свое предсмертное слово мавр говорил серьезно, сегодня, конечно, ничего не случится, но помяните мое слово: в Севилье грядут трагические события.
Фарфан перекрестился и поцеловал свой амулет. Потом произнес молитву против плохих предзнаменований, заклиная сглаз смертника. Ему никогда не нравились подобные проклятия, тем более в устах агонизировавшего от пыток иноверца, взывавшего к своим нечестивым божествам.
Яго кинул на стойку несколько монет и вышел из трактира. Еле отвязался от попрошайки, который плелся за ним, стуча по грязной оловянной тарелочке.
Придется, видимо, ждать другого случая для примирения с родом человеческим.
* * *
Мутным и робким лучом забрезжил рассвет Дня невинных [60]. Ночью прошел дождь со снегом, но город все равно готовился поразвлечься на зимнем карнавале и его главном празднике, который назывался Днем маленького епископа [61]. Едва занялся день, веревочники и рыбаки из Трианы перешли через понтонный мост, в то время как их хозяйки, ряженые дети и даже кичливые идальго, вытащив из сундуков и надев на себя лучшее платье, двинулись толпами к кафедральному собору, настроившись на всеобщее братание. Мастерские, рынки и дворы опустели, в то время как площадь Кабильдо заполнилась зеваками, жаждавшими поглазеть на веселое шествие.
Субаида, Яго, Ортега, Фарфан и родственники семьи Тенорио пришли к Бревенчатым воротам, где уже бурлила толпа. Здесь верховодила дочь адмирала донья Тереса, говорливая особа с волосами цвета спелой пшеницы, разодетая в вызывающе обтягивающее фигуру парчовое платье. Они влились в веселую толпу, в которой сновали коробейники со всякими снадобьями и реликвиями, выступали клоуны, прибывшие за пару дней до главного праздника; здесь севильские дамы, разодетые в платья с пышными кружевами и в цветные шали, готовы были получать от своих любовников и поклонников записочки с назначением свидания.
Для Яго и Субаиды это празднество было в новинку, оно напоминало карнавал после Великого поста, когда религиозные мотивы сочетались с шутовскими и дело кончалось форменной вакханалией. Народ ожидал этого с нетерпением, потому что язвительная буффонада позволяла подшучивать над строгими нравами церкви, посмеиваться над ее верховенством и напрямую издеваться над тупыми монахами и чрезмерными ревнителями disciplinae clericalis [62]. Власти дозволяли подобные празднества скрепя сердце, сдерживая рвение альгвасилов пресекать шум и беспорядки.
Многие находили в этом предлог для того, чтобы предаться чрезмерному питью и обжорству в тавернах Королевских кузниц, зная, что альгвасилы, или копьеносцы, будут смотреть на это сквозь пальцы. В тот день вино лилось рекой, мужчины закрывали лица масками, чтобы не быть узнанными, а расторопные подростки только и сновали взад-вперед с нахлобученными архиепископскими митрами [63] из фетра или соломы, прося у дам сладости и другие лакомства.
Яго и Субаида не уставали обмениваться взглядами, то заговорщицкими, то нежными, хотя к ним вплотную втерлась некая дворянская компания, которую сразу можно было отличить по высокомерному поведению, дорогой обуви и золоченым поясам. Лица у всех скрывались под шляпами в перьях, а один из них, моложавый, с реденькой бородкой, с живыми голубыми глазами, белокожий, упорно наблюдал за ними, нервно подергивая шеей. Углядев его, медик старался не упускать незнакомца из вида, отметив дамасскую шпагу и плащ, подбитый горностаем — верные знаки принадлежности к высшему сословию. Не нравились ему подобные тщеславные щеголи. От этого к тому же исходила прямо-таки волна спеси, он буквально буравил их своим взглядом, криво ухмыляясь, глядел с надменностью, которую даже не пробовал скрыть.
«Что надо этому надутому щеголю?» — досадовал Яго.
Внезапно началась какая-то суета в толпе, ожидавшей открытия ворот кафедрального собора, раздались восклицания детей, послышались звуки рожков, литавр и дудок. Яго оторвал взгляд от насмешника, вытянул шею и приподнялся на цыпочки, чтобы не упустить ничего из шествия, о котором извещали герольды. Из-за темной громады собора возникла большая повозка, украшенная гирляндами из осоки и мирта. Ее тянули шесть запряженных мулов, которые с трудом пробивались в неимоверной толчее. Впереди шествовали пажи в ливреях и барабанщики, самозабвенно колотившие своими палками. Толпа приветствовала появление повозки шумными возгласами.
— Епископчик, епископчик! — неистовствовала площадь.
Субаида удивленно вскрикнула, потому что на повозке сидел на каком-то нелепом возвышении толстый мальчик, одетый в епископское платье. Куцая митра, видавшая виды риза священника, в которую могли бы поместиться двое, и вылинявшая, когда-то пурпурная, сутана составляли его маскарадный костюм. Однако общий хохот зрителей вызвали некоторые детали его убранства. За монашеской подпояской торчали кинжалы и деревянный меч непомерных размеров — намек на известный воинственный дух архиепископа севильского, его преосвященства Хуана Санчеса, неразлучного спутника короля в его походах против гранадцев. Черная борода, сделанная из кусков шерсти, свешивалась с подбородка, а привязанный большой красный нос напоминал о склонности церковника к ароматным напиткам Бургундии и Кариньены. Расточая великодушные благословения направо и налево, он попирал своими пурпурными башмачками нескольких статистов, изображавших неверных, которые то и дело богохульничали, выкрикивая пикантные заявления по поводу пристрастий прелата и каноников.
— У нас в Гранаде, если, не дай Бог, кто осмелится посмеяться над нашими служителями Аллаха, его тут же побьют камнями за богохульство, — удивилась назарийка. — Я с детства помню праздник ид аль-Фитр на исходе Рамадана, он чем-то похож на карнавал. Представляешь, вся Гранада заполнена мужчинами и женщинами, которые осыпают друг друга цветами, брызгают розовой водой, кидают апельсины и сладкие лимоны, говорят друг другу приятное, играют на скрипках и лютнях.
— Веселье — прекрасное средство для поддержания душевного здоровья народа. Кроме того, здесь важен юмор простого люда, так он уравнивается с дворянами.
За повозкой с фривольным кортежем следовала другая, украшенная цветными ангелочками, увитая плющом и лианами, на которой возвышался возмутительный пузырь, напоминавший фаллос, и несколько певчих, одетых купидонами и херувимами, громко распевали непристойные куплеты, которые толпа тут же с хохотом подхватывала, пританцовывая в такт.
— Прыг, скок, епископ! Задери подол, покажи свой кол!
Из-под стрельчатой арки показался еще один кортеж, представлявший кафедральных каноников с восковыми кадилами. Они танцевали, подбрасывая огромные накладные животы, которые должны были свидетельствовать о жадности церковников; один из них, горбун, представлявший козла, со сбившимися набок рогами громко имитировал звуки животных, пускание ветров, отрыжку и блеяние, на что толпа многоголосно вторила ему.
— Прыгай, епископчик, скачи, каброн ![64] — кричали все, не переставая прыгать.
Шутовскую кавалькаду замыкала не менее эксцентричная повозка, ее тащила упряжка недовольно кричащих ослов, увешанных колокольчиками. А на повозке семеро монахов, балагуря, олицетворяли семь смертных грехов. Публика на балконах приветствовала их с особым подъемом, что вспугнуло голубей и ворон, гнездившихся в бойницах башни эпохи альмоадов. На этой платформе ряженые монахи показывали назидательные сценки, приводя в восторг публику, которая вовсю пользовалась случаем посмеяться над духовенством, далеко не безупречным в этом южном городе.
Один из монахов, с привязанным горбатым носом, изображал продавца индульгенций: с гротескной жадностью он набивал вырученными деньгами котелок. Другой, с непомерным животом, жадно уминал огромную краюху хлеба; третий с похотливым видом бесстыдно щупал блудницу-любовницу, на что другой монах, заломив руки, комично показывал публике: дескать, как нехорошо! Сценка была поставлена так живо и проказливо, что зрители буквально закидывали их монетами и сладостями.
Потом зрители переключились на другую сценку на той же ослиной повозке, где монах с прилепленной бородкой бахвалился перед всеми своими золотыми цепочками, а еще один предавался полуденной сиесте в углу повозки, громко храпя и пуская ветры. Его коллеги тут же изображали, будто ему снится, что он показывает рукой на дом архиепископа и злословит на ухо своему товарищу по поводу богатого убранства жилища. Из толпы раздался голос:
— Не завидуй архиепископу, его кошелек так же пуст, как у тебя после стольких лет войны.
— Зато он его сразу наполнит, случись война с маврами!
Под ритмичное звучание музыки все три платформы, окруженные клубками ряженых в масках, проследовали до улицы Франкос, не прекращая отпускать острые шутки; подросток, изображавший архиепископа, не уставал прикладываться к тощавшему на глазах бурдюку с пахучей слезой Христовой, в то время как остальные «монахи» по мере удаления от кафедрального двора распалялись все более, остроты становились смелее; некоторые показывали из складок сутан большие деревянные фаллосы и делали непристойные движения в сторону публики, которая веселилась вовсю.
— Епископчик, епископчик! — кричали все, подпрыгивая.
— Давайте не будем отделяться и пойдем за ними, — предложила дочь адмирала.
Тем временем музыканты играли серебряными плектрами на лютнях, а еще на свирелях, мельничных трещотках и виолах, подыгрывая куплетам Минго Ревульго, известных по всему королевству:
Друг, пляши хоть до упада — мы допрыгаем до ада! Ну а к аду по дороге наслаждений райских много!Шумная кавалькада задерживалась у каждой таверны, где участники шествия именем прелата Санчеса просили подать им стаканчик вина или тарелку рагу с овощами. Вскоре часть сопровождавших, молодежь пораспущенней, разгоряченная парами пива и пряных напитков, стала искать приключений. Начались стычки, часто дело доходило до приставаний к девушкам, скрывавшим свои лица, поэтому «адмиральская» группа по знаку благоразумной доньи Тересы отошла к портику торгового ряда генуэзцев. Запыхавшись, они остановились под латунной вывеской у таверны «Ла Корона», заведения с доброй репутацией, посещаемого итальянскими и ганзейскими купцами.
Здесь царила праздничная торжественность. От канделябров и жаровен исходил мерцающий свет, сандаловые курильницы облагораживали горьковатый воздух. Хозяин таверны раздал гостям тарелки и предложил отведать суп из косули с гранатами и изюмом, жаркое из баранины, приправленное орешками пинии и фисташками, а также некоторые изысканные блюда вроде севильского старинного соуса, запеканки с миндалем, корицей и молоком, и любимое кушанье Яго — аппетитную глазунью с сыром и мясным соусом, которую слуги-мориски разносили по всему залу.
— Сдается мне, тут-то мы и просидим до конца праздника, — обрадовалась Тереса.
Несколько мадьярских фокусников изрыгали огонь изо рта, будто василиски, пораженные святым Георгием, и жонглировали цветными дубинками, из кухонь доносились ароматы чабреца, перца и шафрана, которые смешивались с запахами сальных и восковых светильников. Медик потряс своим кошельком — и тут же на деревянной поверхности стола появились плошки, кувшины, краюхи белого хлеба и дымящиеся миски с кусками вкусного мяса с пряностями, а сверх того пряный напиток из Белеса и перцовая настойка из Торо.
Яго и Субаида с трудом перекидывались словами в общем гаме, не могли они также и затеряться в толпе: за ними смотрел верный Хаким с лицом, будто высеченным из голубой глины, — личный телохранитель принцессы, отправленный с нею в ссылку. Назарийка была бесконечно довольна этой прогулкой в компании со своим врачом за надоевшими стенами усадьбы Тенорио с ее тюремным распорядком. По предписаниям Корана, ей можно было выходить в город лишь в редких случаях, при этом ее всюду сопровождала баскская охрана адмирала и неотвязный Хаким, который по случаю праздника на этот раз был вооружен внушительной кривой саблей и одет в белоснежные зихару и тайласан.
Заложница была наряжена скромно в отличие от других женщин, потому что один из заветов пророка запрещал женщине украшать себя на мирских праздниках — краситься, накладывать формы и использовать одежду, привлекающую внимание мужчин. Голова ее была прикрыта платком, скрывавшим лоб и часть лица, хотя волосы в серебряных заколках и белых цветах рассыпались по плечам. Розовая туника с вышитыми краями облегала ее великолепную фигуру, перехваченную в талии сафьяновым поясом с топазами. Яго боялся на нее долго смотреть, не уставая про себя умиротворенно и завороженно восхищаться: «Клянусь распятием, эта девушка самая красивая в мире!»
Ортега, шумно потягивая легкое вино, не уставал подливать его всем, пока большинство вконец не захмелело. Тереса Тенорио, острая на язык болтушка с золотистыми волосами, с которой врач с удовольствием общался, раскраснелась, сбросила с головы высокое карамьельо [65] и, заслышав звуки музыки, увлекла часть компании танцевать грациозную гальярду [66].
К ней немедленно присоединились Андреа и Ортегилья, Фарфан и еще одна матрона с пышной грудью, так что скоро «Ла Корона» превратилась в сплошной танцевальный круговорот, сопровождаемый всеобщим пением в шафранном дыму светильников. Десятки посетителей вовлеклись во всеобщее веселье, не сдерживая плотских вожделений, безнаказанно поглощаемых полумраком салона, в то время как врач с заложницей вели разговор о всяких пустяках, чуждые царившему вокруг сумасбродству. Девушка, с улыбкой внимая речам медика, призналась:
— Ты говоришь как трубадур, мое сердце в смущении. — Она дотронулась до его губ своими тонкими пальцами. — Если бы мы могли как-нибудь провести Хакима и куда-нибудь сбежать, чтобы нормально поговорить.
— В этом пандемониуме сие невозможно, хотя идея заманчива. Знаешь что, мне тоже нужно поговорить с тобой. За последнее время произошли события, которые меня очень беспокоят, — намекнул Яго.
Гранадка широко раскрыла свои прекрасные глаза и взглянула на него кротко и почтительно, от нее исходил свежий запах мускуса.
Тут Яго отвлекся на громкий скрип ближней двери.
Он узнал их по ярко-красным плащам, суконным шапкам и башмакам из красной кожи. Они ворвались внезапно, спустившись по лестнице «Ла Короны» и заполонив салон, бесцеремонно оглядываясь по сторонам и толкая посетителей. Остановились прямо рядом с их столом, ожидая хозяина таверны, который, рассыпавшись в любезностях, предложил им стол, предназначавшийся для особых гостей. Яго успел узнать белокожего щеголя, который настойчиво разглядывал их у кафедрального собора; теперь он услышал его властный тон, увидел перевязь и эфес шпаги, на котором был выгравирован девиз, — разобрав его, он почувствовал холодок в груди. Между арабесками богатого орнамента был виден зловещий девиз: «Hoc opus est» [67].
С неприятным чувством медик спрашивал себя, разглядывая этого типа сверху донизу: «Так, значит, убивать — это его работа?» По всей видимости, для неизвестного пронзать тела ближних было обыденным занятием, о чем и гласила надпись на его клинке, и он не стоил подобного внимания, так что Яго вернулся к беседе с назарийкой. Между тем их сотрапезники продолжали танцы, благородные танцевали со своими, простой люд со своими, в то время как вновь прибывшие вовсю позволяли себе вольности в отношении девиц своей компании, которые без стыда поддавались их приставаниям.
Неожиданно в тот момент, когда Яго наливал в бокал девушки медовый напиток, какая-то женская фигура встала между ними. Незнакомка нагнулась и слащаво подмигнула обоим. Спокойствие было нарушено. Яго возмутился. Известная в городе сводня — крысиные глазки, лоснящиеся волосы, организатор тайных встреч и любовных приключений — показала им сальный мешочек и тут же, к их изумлению, сыпанула из него какого-то порошка в бокалы.
— Любезные молодые люди, из ваших пор так и исходит сама любовь, а я могу превратить ее в вечную. Это снадобье приготовлено из маргуля, оно стоит всего два мараведи, но заставит вас познать такое блаженство, которого вы оба никогда не знали. Выпейте, не пожалеете.
— Пошла прочь, я не верю в ворожбу, — отказался Яго. — Эти снадобья — для притонов, а не для благородной дамы. Уходи!
Субаида отвела взгляд, потому что всякому были известны ухищрения этих повитух, соблазнявших девственниц при помощи таких зелий. Однако плутовка настаивала и, взяв девушку за щеку своей холодной рукой, заговорила сладким тоном:
— Вижу в твоих глазах любовь бескрайнюю и томительную. — Тут у иноверки сразу заныло в груди. — Позволь дать тебе совет и мое средство, и получишь удовольствие, и будешь жить в просветлении.
— Оставь нас в покое со своими чарами, дьявольская колдунья! Вот, на тебе мараведи, иди другим голову морочь! — заявил рассерженный врач, выплескивая на пол вино из бокалов.
— Ладно, ладно, уйду, только подайте мне мою шаль, добрый юноша, — попросила она.
Яго мрачно пошел к бочке, на которой висела тряпка, и этот момент улучила хитрая старуха, чтобы обратиться к назарийке, которая растерянно слушала ее льстивые словечки, источаемые вместе с сильным запахом чеснока и кислого вина.
— Слушай, красавица, вон тот благородный молодой человек намерен встретиться с тобой наедине, он послал меня сказать, что будет ждать в задней комнате, — произнесла она, кивнув на стол аристократов. — Не пожалеешь, девушка. Согласись, мы обе будем в выигрыше.
Гранадка почувствовала приступ такой брезгливости, что после нескольких мгновений растерянности выхватила булавку, ткнула ее в руку старухи и прошептала, покраснев от гнева:
— Уйди с глаз, дьявольское отродье!
У женщины от неожиданности пошли пятна по шее. Зализывая кровь, выступившую между пальцев, она запричитала свистящим шепотом:
— Тебе лучше было ответить на его желание. Ты об этом еще пожалеешь, собака неверная!
Плюнув прямо на стол, она исчезла в толпе до того, как вернулся лекарь с ее давно не стиранной шалью. Он увидел смятение на лице заложницы, ее возмущенный взгляд и догадался, что случилось за минуту его отсутствия. По зарумянившейся щеке девушки сползала горькая слезинка. Сводница испарилась, в то время как неизвестный кабальеро, раскрыв свой кошель, смотрел на них со злобной улыбкой. Яго положил руку на эфес шпаги, намереваясь потребовать у этого молокососа ответа, но его сдержала назарийка. Между тем эпизод не ускользнул от внимания Ортегильи, склонного подмечать любые мелочи, какими бы незначительными они ни выглядели. Он все понял и, подойдя к Яго, посоветовал не обращать на это внимания. А про себя судья блудниц раздраженно подумал: «Тот, кто сегодня деспот, завтра тиран. Ах ты бастард, дьявольское отродье!»
До Субаиды, смущение которой перешло в тревогу, дошло, что она не в состоянии разрядить обстановку. С силой, удивительной для ее тонкого тела, она потянула лекаря за руку, умоляя:
— Уйдем отсюда, Яго. Меня душит этот воздух.
Ортега встретился глазами со своим другом и недвусмысленным жестом посоветовал ему принять предложение. Но Яго и не нуждался в уговорах. Взяв доспехи и накидку, он последовал за девушкой. Не успев осмыслить все случившееся, он уже оказался в компании Субаиды, Хакима и баскской охраны посреди переулка, по бокам которого журчали струи мочившихся нетрезвых посетителей таверны; они двинулись мимо нищих и влюбленных парочек, притулившихся на углах. Пользуясь теменью серого вечера, назойливые искатели легкомысленной любви осаждали столь же легкомысленных девушек, кругом шла безудержная оргия, у колонн и подъездов виднелись обнимающиеся тела, слышались сладострастные стоны. Вдали, посреди всей этой суматохи и вакханалии, еще слышался клич кортежа архиепископа, стучавший в виски будто боевой барабан:
— Епископчик, епископчик!
В голове молодого человека теснились разные мысли, не находя желанного выхода. Ситуация усугублялась тягостным молчанием назарийки, которая и не пыталась унять своего раздражения. С того момента в таверне он ничего более не желал, как только сорвать маску с наглого аристократа, явно имевшего на девушку какие-то виды. Кем должен был быть этот тип, чтобы так нагло себя вести? Он оглянулся назад, чтобы посмотреть, не следует ли кто за ними, но увидел лишь масляную лампу, которая, помигивая, освещала красочную вывеску «Ла Корона».
Неизвестность была мучительна; он боялся за Субаиду — само олицетворение доброты и деликатности. Она не заслуживала такого отношения беспутного выродка, каким бы знатным он ни был. Молодым человеком овладело неудержимое желание укрыть ее в своих спасительных объятиях, но разум и голос крови запрещали ему делать это.
Яго призвал на помощь свой такт и добрые чувства к ней, утешив себя мыслью, что мог бы любить ее только в своих мыслях, никогда, увы, не познав сладость ее чувственных губ. Но иноверка по-прежнему будила в нем безумные мечты и разжигала огонь неудержимой страсти. Она была воплощением хрупкости, и он боялся оскорбить ее малейшим намеком на плотское желание, будучи уверен, что в этом случае может лишиться ее навсегда.
Он шел, слегка отстав от нее, вдыхая запахи ночной свежести, которую нес сюда влажный воздух с песчаных речных отмелей.
Шепот в алькове
Во дворец адмирала не проникал шум веселого празднества дураков.
День склонялся к вечеру, легкий бриз доносил из порта запах шафрана и кориандра. Вечер весьма подходил для беседы, этому способствовала полная луна, свет которой пробивался сквозь жалюзи. Субаида удалилась, ее веки припухли от слез, а Яго подумал, что с такой охраной им уже не удастся побыть где-нибудь вместе. Тем не менее он подождал некоторое время на случай, если потребуется его присутствие, ведь никто, кроме него, не смог бы утешить назарийку.
Врач остался стоять перед окном в ее комнате; он рассеянно и меланхолично смотрел на город, скользя взглядом по лимонам, олеандрам и базиликам, которые тихо покачивались в прозрачном убранстве сада. Заморосил дождь, неумолимо стуча по стеклам, и его безотчетные мысли разом замедлили свой ход. Он не мог ничего поделать со своим смятением, все в нем восставало против того неприятного инцидента.
Но вот еле слышные шаги служанки, вошедшей с фонарем в руке, заставили его повернуть голову. Молча она поставила на столик с выгнутыми ножками поднос с сиропами имбиря, сабура и китайского лавра и, не глядя ему в лицо, произнесла:
— Хозяйка просит вас обождать, мой сеньор. Ей нужно проделать обряд вуду, ритуальное омовение с вечерней молитвой. Салам алейкум. — И она исчезла за драпировкой, будто привидение.
Яго порадовало такое обхождение, он расслабился и стал с наслаждением вдыхать медовые ароматы благовоний.
Наконец на пороге возникла Субаида — изысканная и очаровательная. Она была одета в голубую зихару, вышитую золотыми нитками, и оранжевый тайласан [68], складки которого спадали на плечи; тюрбан из цветных лент полностью скрывал волосы, лицо было открыто и светилось свежестью, глаза подведены кюлем, сурьмой, щеки оттеняли теплые тона амаранта и амбры. Ослепительная брошь в форме фиолетового гиацинта, любимого цветка пророка, поблескивала на груди, от хозяйки исходил свежий запах флердоранжа и слепника [69], наполняя помещение сладкой безмятежностью. Сдержанная и кроткая, Субаида умела ценить интимную обстановку.
— У меня улучшилось настроение, я помолилась Всемилостивому. Мы сможем поговорить, друг мой. — Она предложила ему сесть напротив.
— Я мог бы целый век без устали выслушивать тебя, но прежде хотел бы освободиться от груза мыслей в моей голове: почему на тебя так смотрел этот ничтожный щеголь, что там произошло с этой сводней и почему нам пришлось бежать из таверны? Что происходит, Субаида, можешь объяснить?
— Мне не хотелось бы ни мгновения из нашего времени тратить на этих ничтожеств и усиливать твою тревогу. Из того, что случилось, для меня не было ничего нового, я не могу общаться с ослом, даже если он ест из серебряной кормушки. Притязания этого типа мне отвратительны. Так вот: эта сводня передала мне приглашение на свидание от блудливого принца Кастильского.
Для лекаря это прозвучало как удар молнии.
— Так этот негодяй в маске был дон Педро? Не может быть, святое распятие!
— Так и есть, но оставь свои сомнения. Он знает, что я защищена от его притязаний, я под протекцией короля и договора, по которому вашему королевству отмерены сорок тысяч динаров золотом из Судана. Он ни волоска на мне не посмеет тронуть, успокойся.
— Не очень-то, видно, спокойно, когда за тобой ухлестывает сам наследник короны!
— Единственное, что бы меня огорчило, так это если бы корону возложили на его голову. Я с ним общалась достаточно, когда жила в обители Сан-Клементе по приезде из Гранады. Королева превратила этого юнца в мстительного нелюдима, поклонника астрологии и мистики. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов его склонность к конфликтам, ведь ему больше по нраву дуэли, а не серенады.
Однако уже от одного упоминания о произошедшем в лице мусульманки проглянуло горькое презрение, и Яго поспешил ее заверить:
— У меня уже ни капли сомнений не осталось, все теперь ясно.
— Тогда более ничего не мешает нашему общению, — сказала она. — Мы будем одни. Донья Тереса знает, что я вернусь ближе к ночи с охраной. Здесь мы далеко от всяких нескромных глаз.
Их общение удавалось на славу: меланхолично стучал дождь, вся обстановка и изумрудные глаза гранадки располагали к блаженному удовольствию от разговора. Юноша ответил ей таким же умиротворенным и открытым взглядом. Все спорные «но» исчезли, они оказались наедине, глядя друг на друга в обстановке, располагавшей к внезапному взрыву страсти. Однако назарийка тут же вспомнила о пропавшей Дар ас-Суре, ставшей главным смыслом ее жизни, и спросила:
— Ты не забыл свое обещание разведать, где спрятана библиотека аль-Мутамида? Мне кажется, ты скептически к этому относишься, Яго. Помнишь, мы так отметили начало нашей дружбы, а я не отказываюсь от надежды найти ее, даже если эта миссия потребует всей моей жизни.
Ее собеседник покаянно кивнул головой, но ответил ласково:
— Я не устаю думать об этом, но мне кажется, что у нас нет возможностей довести это дело до конца. Не вижу способа, как это сделать, поверь мне, но чувствую такое же влечение к этому проекту, как и ты, меня завораживает твоя дерзкая мечта. Имей терпение.
— На нашей стороне король Альфонс, я верю в свою звезду и надеюсь отыскать этот кладезь знаний. Он принадлежит моему народу, моей угасшей, но прекрасной империи, я боготворю ее землю и мой род. Помоги, прошу тебя!
Яго подбирал слова, не зная, как лучше предостеречь ее об опасности:
— Все это рискованно, слишком рискованно. Мы можем погибнуть. Но помогать тебе — сладостный для меня приговор.
— Это дело может перевернуть мою судьбу, Яго. Пойми, король вовсю занят приготовлениями к взятию Гибралтара.
Старые договоры рухнут, и он отдаст меня моим родичам. Времени мало, и я могу не успеть найти библиотеку. Помоги, пожалуйста! Мы раскроем многие тайны.
— Для христианина потревожить стены обители — величайшее богохульство. Нельзя ли все-таки забыть об этом?
Принцесса заметно взволновалась и поспешила заявить:
— Не могу, Яго. Но всем известно, что некоторые сеньоры используют монастырь как прикрытие для свиданий с любовницами прямо рядом с обителью, где живут монахини из богатых семей. Ты же свободен в своих перемещениях, тебя уважают в городе, и кто-нибудь из этого круга спокойно обеспечит тебе свободный вход туда.
— Всей душой хотел бы сделать, как ты хочешь, но это предприятие мне кажется безрассудным.
— Это не каприз, это священный долг, подсказанный сердцем, — настаивала Субаида. — Давай скрепим нашу дружбу и близость достойным делом, за которое нам будут благодарны будущие поколения этой благословенной земли.
— Будь по-твоему, я добуду этот клад знаний, как вытягивают яд из места укуса, и да поможет мне Христос. Хотя, возможно, меня ждет то же безумие, что проникло в твое сердце.
Она вздохнула, сказав в утешение:
— Возможности моих врагов растут, Яго. Перед тем как отправиться в изгнание, я поклялась слезами моей бабушки Фатимы, самой уважаемой гранадской вайзы, то есть проповедницы веры, поискать Святую Книгу в развалинах дворца Биб-Рагеля. Этот уникальный и необыкновенный Коран десятилетиями ищут исламские улемы. Я бы прокляла себя, если бы вернулась в Гранаду, даже не попытавшись найти его.
— Эта попытка может стоить нам жизни или репутации, Субаида.
— Мне все равно. Для мусульманина данное слово становится благословенным обетом, святым и нерушимым, обязательством, которому подчинена жизнь.
— Я уже стал твоим соучастником. Бог да простит меня за это безумие, но мое сердце желает много большего, Субаида, мое чувство к тебе безмерно.
Девушка вздохнула и ответила ему страстным взглядом, исполненная нерешительности.
— Может ли сокол любить голубку? Не привязывай себя ко мне таким образом. Я никогда не посмела бы причинить тебе вред, но мое вероисповедание запрещает любить мужчину другой веры. Твое благородство привлекает меня, но ты ведь почти ничего не знаешь о моем прошлом. Выслушай все же, может, это тебя как-то утешит: за год до того, как меня назначили в заложницы, один юноша из племени Бану Марин заплатил моему отцу значительный махр, или выкуп, как это вы называете, что означает для меня обручение.
— Так ты все-таки обручена? — прервал он ее. — Ты разрушила мои мечты.
— Твое нетерпение мешает объяснению, — заметила она ласково. — Умерь свой пыл. Положение полностью изменилось. Год назад, после смерти отца, я отправила бабушке Фатиме письмо, которым уполномочила ее уладить от моего имени перед тамошним кади [70] дело, весьма редкое для Гранады. Это было смело с нашей стороны! Я пожелала воспользоваться древним правом на фарх, то есть на расторжение помолвки в суде, однако по иску не жениха, а невесты. Речь шла об из ряда вон выходящем событии, ты не можешь себе представить, какой шум это вызвало в городе! Все были просто потрясены, уверяю тебя. Моя бабушка Фатима, дочь султанов, жена султана, мать и бабка султана осмелилась лично вести дело, используя свою необыкновенную образованность и обаяние — и она выиграла суд!
— О, это смелая и достойная женщина!
— Ну, таковы ее свойства — великодушие, логика, самоотверженность. Это одна из самых светлых женских голов в Гранадском эмирате. Красивая женщина, обладательница великолепной фигуры и тонкого ума, ей пришлось пройти через жестокие испытания, кровавые перевороты, братоубийственные распри, пережить дикие расправы над членами своего рода. Она противилась моей ссылке, но, когда уже ничего нельзя было сделать, поддержала и дала мне силы, укрепила мой дух. Я ее просто обожаю! Таким образом, мой дорогой нетерпеливец, я свободна перед глазами Господа и моего народа; надеюсь, что и отец простит меня в райских покоях пророка.
— Твои слова для меня — как бальзам, — облегченно вздохнул врач.
Назарийка жалобно возразила:
— Но та же вера отдаляет меня от тебя, я не хочу предавать мой народ.
— А я смирился с тем, что ты стала мне путеводной звездой, я готов даже отречься от всего, что имею и что я есть. Буду ждать, сколько надо.
Субаида ответила ему невыразимо очаровательной улыбкой и налила в бокал вина, добавив по одной капле мускуса и камфорного масла. Потом осторожно провела пальцами по губам кастильца и с грустью попросила:
— Яго, не страдай из-за меня, и если хоть немного ценишь наше чувство, забудь меня, когда я покину Севилью. Моя вера никогда не допустит нашей любви.
— Но я пойду за тобой хоть на край света. — Его рука коснулась нежной кожи ее лица. — Я твердо решил, Субаида, и нет силы на свете, которая может этому помешать. Даже неизменные суры твоих священных книг, — с горячностью признался он.
Мусульманка вдруг заплакала. Всхлипывая, она устремила взгляд в темноту сада в надежде, что в эту ночь на небе появится хоть одна звезда, которая могла бы ей что-нибудь посоветовать. Но надежды ее были тщетны — жизнь ее была сломана, она оставалась изгнанницей, душа разрывалась от тоски.
— Зачем нам превращать наше чувство в тяжкие цепи, — подбодрил ее Яго.
— Я чувствую, как мы все ближе к какой-то пропасти, меня точит уныние, но я постараюсь прогнать мрачные мысли.
Через несколько мгновений лицо ее просветлело, на нем возникла улыбка, разговор продолжился. Незаметно тянулись часы, слова словно ложились на музыку искусного трубадура. Мерцали огоньки потрескивавших светильников. Яго, отпив вина, спросил:
— Ты, наверное, хотела знать, что я думаю о последних событиях?
Субаида заметно заволновалась.
— Да, ты прав. Меня повергла в отчаяние казнь мусульманина, сны становятся все более тревожными. Несколько дней назад сюда пришла донья Тереса, расцеловала меня в щеки и объявила, что Божьей милостью в руки альгвасилов попал тот человек, который пытался меня отравить, и что его голова будет торчать на копье на крепостной стене. А потом пошли всякие слухи и зловещие предсказания. Что там было на самом деле, Яго?
— Я ходил на казнь: видит Бог, это было ужасающее зрелище. В оглашенном приговоре суда говорилось только, что преступник сознался в покушении на тебя как королевскую заложницу, хотя имя твое не было названо.
— А его имя назвали? Сказали, кому он служил? Мне крайне важно знать это. Я не могу быть спокойна, не зная, откуда он.
— Сказали, что он гранадец, на табличке значилось: «Абу Яхан». Ортегилья уверяет, что он из фанатиков. Умирая, несчастный разразился проклятиями, а еще он, как угрозу, повторял какое-то слово на арабском. Оно не выходит у меня из головы, потому что до того он бредил и хрипел, а тут пришел в себя и выкрикивал это слово с такой яростью, что у меня мороз пошел по коже.
Девушка явно волновалась, однако постаралась спросить как можно безразличнее:
— И что же это за слово?
— Какое-то ибада… Он повторил его три раза.
Субаида побледнела и непроизвольно дотронулась до лба.
На ее лице отразились растерянность и мучительный ужас.
— Боже милостивый, нет! Нет, не может быть, — повторяла она, став мрачнее тучи. — Несчастья преследуют меня одно за другим. Губители моей родины здесь, в Севилье!
Яго смешался, и по мере того, как росло отчаяние принцессы, новый мучительный вопрос все более тревожил его. Так что же скрывалось за тем загадочным словом в устах смертника?
— Ты уверен, что он произнес именно это слово, тебе не показалось? — переспросила она, чтобы рассеять сомнения.
— Да, так он сказал. Это слово засело у меня в голове, я никак не мог от него отделаться. Но что же в нем такого ужасного? Что тебя взволновало?
Субаида молчала несколько томительных секунд, потом промолвила убитым тоном:
— Это слово на нашем языке означает «поклонение». Оно указывает на принадлежность к тайному клану убийц. Этот клан был создан в некоем рибате [71] в Эльвире, там взрастили семена ненависти; они вершат свои кровавые преступления именем ислама по всему аль-Андалусу. Я боялась этого, но отказывалась верить. Яд этот исходил не от королевы Марии, а от самого ужасного из врагов.
— Кажется, мне придется узнать еще одну тайну твоей жизни.
— Я же говорила, что лучше со мной не связываться, хотя каждая частичка моей души жаждет обратного. Но все неизвестное, что было в моей жизни, на этом кончается, поверь. После того, что ты узнал, если хочешь, можешь совсем уйти, я тебя пойму.
— Поистине, даже любовь не должна осмеливаться проникать в некоторые человеческие тайны, но твое благополучие для меня превыше всего. Ты побледнела, настолько это серьезно?
— Да, потому что вслед за этим казненным придут другие. Они действуют организованными группами и связаны клятвой уничтожения своих врагов, — отчаянным тоном сказала принцесса. — И не остановятся ни перед чем.
— Надо сообщить об этом главному альгвасилу и королю.
— А что это даст, Яго, уж я знаю по опыту, — отрезала она. — Во дворце Альгамбры да и во всей Гранаде этого натерпелись достаточно. Их братство ведет фанатичная, нетерпимая вера, их организация закрыта, их вождей ни в чем нельзя убедить. Им неведомы жалость или милосердие к жертвам.
— Нет ничего страшнее веры, отстаиваемой кинжалами убийц.
— Угроза невидима, неслышима, но она приносит неимоверные страдания, потому что скрыта за самой тенью ее жертв.
— Послушай, но ведь ты заложница короля Альфонса и адмирала Тенорио, кто тебя может заподозрить в предательстве твоего народа?
— Не будь таким уверенным, — жалобно сказала она. — Я никак не могла даже подумать, что их руки дотянутся сюда. Они внедряются, душат, травят ядом с такой быстротой, что можно подумать — они и в самом деле посланы самим пророком на тайную и якобы святую войну.
— И кому же они подчиняются, эти выродки? — спросил врач.
Горькие складки легли у ее губ, она помолчала. Потом промолвила:
— Да самому дьяволу во плоти. Это братство наемных убийц — черное дело одной безжалостной бестии по имени Усмин ибн Абу-ль-Уллах, африканского принца, гениального полководца, подобного Ганнибалу, и политика коварного, как Иблис, падший ангел [72]. Его призвали мои родные для борьбы с кастильцами, но его помутившийся разум создал эту шайку. После недавней его смерти дело продолжают его последователи.
Любопытство возбудило Яго, его глаза молили продолжать.
— Нрав этого человека был темен, как цвет его кожи. Как никто другой, он владел оружием шантажа и коварства. За двадцать лет четыре султана моего рода, мешавшие его планам, испытали на себе его руку или были жестоко убиты.
— Подлость ослепляет людей.
— Этот человек без малейших признаков совести стал кошмаром моего детства. Осуществляя свои замыслы, он умертвил султана Мухаммада Третьего смертельным ядом, который давал капля за каплей. Подосланный убийца отравил благородного султана Насра, его брата, а один из невидимых злодеев лишил жизни моего дядю Исмаила прямо на глазах у детей. Мало того, он убрал и моего двоюродного брата и друга Мухаммада Четвертого, доброго юношу, которого я любила, как родного брата. Как я ненавижу этих негодяев! Они запятнали кровью моих родных все стены Альгамбры. Какое омерзение я чувствую из-за всех этих нелепых смертей!
— Все их преступления связаны с убийствами?
— Именно так. Они с равной жестокостью устраивают кровавый переворот внутри королевской семьи и уничтожают какого-нибудь простого мусульманина или того, кто покажется им вероотступником. Мерзкий клан этот имеет структуру, непроницаемую для лазутчиков, мастеров самых необычных методов конспирации, изготовления сильных ядов, точного владения кинжалом.
— Уму непостижимо существование подобного скопища убийц.
Субаида смиренно склонила голову:
— Так вот, они существуют, и они беспощадны. Мой двоюродный брат Мухаммад боялся их пуще смерти. Их не знают в лицо. Они прячутся в пещерах Орлиного гнезда в восьми милях от Эльвиры, или на горе Сабике, или в обители Наид в Гранаде, там они предаются мистическим обрядам и размышлениям, а пестуют их толкователи Корана, пришедшие из азиатских рибатов Табриза и Хурасана.
— Если известны их убежища, почему этих гиен до сих пор не уничтожили?
— Потому что боятся. Их лазутчики повсюду.
— Теперь я понимаю твою тревогу и сочувствую твоей семье.
— В своих притонах криком «ибада!» эти дикие посланцы смерти клянутся исполнять приговоры, прикидываясь слугами, погонщиками вьючных животных, торговцами или нищими. Для общения между собой они используют символы Корана, почтовых голубей и криптограммы, взятые из еврейской каббалы. Тщетно уличать их или заставать врасплох, они могут возникнуть в своих балахонах в самый неожиданный момент.
— Но что им твоя гибель?
— Может быть, они хотят испортить отношения между Кастилией и Гранадой в самый ответственный период приготовлений дона Альфонса ко взятию Гибралтара. Тем не менее я продолжаю думать, что стала пешкой в более важной игре. Никто меня не убедит в обратном.
— Маловероятно, наверное, но ты совсем исключаешь религиозные мотивы?
— К несчастью, нет. Закрыть глаза на то, что было в прошлом, — значит не признавать очевидного. Моя бабушка Фатима, некоторые мои двоюродные братья и я проповедовали в гранадских медресе путь гармонии братьев чистого учения. Это самое разумное и совершенное толкование Корана, но оно же, по-видимому, считается еретическим для этой секты, которая тыкала в нас своими перстами с амвонов мечетей и кричала, что мы поборники сатаны.
— А я-то думал, что подобная тупость может произрастать лишь на родных мне христианских грядках.
Изумрудные глаза девушки сверкнули гневом, она с уверенностью произнесла:
— Поверь мне, в кузнице моей веры есть и молоты разума. Я буду вдвойне, втройне осторожна, однако меры должны быть применены отчаянные. Адмирал уже сделал соответствующие распоряжения. Но повторяю, вознамерься они исполнить приговор, это было бы уже сделано. Нечто непонятное таится в сути этого дела, словно игла, воткнутая в мой мозг, и нет мне покоя.
— Готов разделить с тобой твою судьбу. Знай: я с тобой.
Субаида признательно посмотрела на него, потом произнесла серьезно:
— Не будем тратить наше время на дурные предчувствия. Судьба предписана, и если мне выпало уже столько терзаний, то вряд ли меня ждет жестокая смерть. Звезды не лгут, Яго. Дай твою руку.
Обхватив его руку своими изящными ладонями, она страстно поцеловала ее.
Яго видел лицо заложницы прямо перед собой, его охватила ответная нежность, в отблесках светильников была видна ореховая кожа ее лика. То ли на них обоих подействовал аромат благовоний, то ли мускусное вино, то ли тепло помещения, но влечение, поселившееся в их сердцах, стало вырываться, подобно лаве вулкана. Девушка, будто сбросив оковы своей нерешительности, привстала, задула светильники и кинула несколько зерен сандала в курильницы. Потом замерла посреди комнаты, освещенная лунным светом.
Одним движением проснувшейся чувственности сбросила она браслеты и другие украшения, которые зазвенели по полу. Ее голубая туника плавно опустилась на пол. Все сомнения рассеялись. Тени еще более истончили ее фигуру, серебряная нагота ее тела заставила медика побледнеть. На ней оставался лишь тюрбан, ленты которого спадали на алебастровые плечи и сапфировое колье. Яго не ожидал ничего подобного и почувствовал себя выпавшим из потока времени. Охваченный вожделением, он только и смог произнести:
— Ради Христа милосердного, я никогда не видел ничего прекраснее.
— Разве тебе нужно зелье той сводни, чтобы обнять меня?
— Нужно не зелье, а микстура, чтобы вернуться в мир, ведь это сон!
Желание, терзавшее Яго, стало неудержимым. Девушка опустилась на ложе и с приоткрытыми губами стала обрушивать одну за другой башни своей неприступности, перекинув этому христианину с горящим взором мост ко всем своим прелестям. Жаркий мрак царил в алькове, раскаляя угли взаимного притяжения. Субаида робко придвинулась и скинула головной убор; локоны шелковистым потоком хлынули на лицо юноши, затрепетавшего от охватившей его звериной чувственности.
— Да обними же меня, — попросила девушка, тихо целуя уголки его глаз и губ.
Субаида безоглядно отдалась ласкам своего друга, который кинулся в пропасть ее нежности и собственной страсти. Он пылко гладил ее сжатые бедра, нежно целовал спину и сладкие груди. Их тела сплетались воедино в невообразимой неге. В исступлении мусульманка схватила с полки маленький флакон и опрокинула пьянящий мускус на торс своего любовника, чтобы затем губами расписывать его пульсирующее тело вожделенными арабесками.
С губ юноши сорвался слабый стон, он с силой притянул ее к себе, мусульманка в полную силу почувствовала в себе его тугую горящую плоть, и они перешли пределы экстаза, охваченные сладкими чарами.
Лишь торжественные ноты монастырской звонницы Милости вывели их из сладкого забытья. Глаза Субаиды привыкли к темноте, она протянула руку и стыдливо прикрыла себя вуалью. Потом благодарно и меланхолично сказала:
— Это сладкое потрясение я никогда не забуду. Я будто нашла в тебе оазис посреди пустыни моего изгнания.
— Если оазис — мое сердце, то отныне ты царствуешь в нем навсегда, Субаида.
Неожиданно одинокая слеза скатилась по ее лицу, и Яго растерянно понял почему: это чувство вины. Он поспешил утешить ее:
— Любовь моя, пусть твоя вера не заглушает голоса твоей души.
— Я жалею не о потере добродетели, просто поняла, что уже никогда не смогу полюбить другого. — Ее голос дрожал. — Но Аллах акбар, велик Аллах, да поможет он мне найти лучшее решение.
— Неземная эта любовь, но будем ее достойны, — с нежностью предложил он.
Наступившая тишина снова погрузила их в негу. Яго весь предался любованию ее красотой, а она вскоре глубоко заснула в его объятиях. Кожа ее, впадины и выпуклости тела были чарующим зрелищем. Он осторожно соскользнул с дивана, ориентируясь в золотом отблеске зеркала, оделся, затушил уголья в камине и прикрыл любимую дамасским тюлем. Поцеловав ее в лоб, он тихо вышел в коридор. Там он вздрогнул от неожиданности, натолкнувшись на Хакима, чьи черные глаза сверкали, как искры, в темноте. Невозмутимый, с рукой на рукоятке своей верной сабли, он открыл свой огромный рот и произнес голосом, от которого у молодого любовника пошел мороз по коже:
— Салам алейкум. — В этих словах чувствовалась лицемерная доброжелательность. — Аллах тебя храни, мой сеньор.
— Оставайся с ним, друг, — ответил врач и, завернувшись в плащ, исчез в ночи.
На улице гулял ветер, пахнувший морской солью, легкий дождь снова застучал по плоским крышам. Потом он перешел в настоящий ливень, а медик шел в свете единственного уличного фонаря, и мысли его летели туда, в усадьбу адмирала, где безмятежно спала Субаида, заложница короля. Он счастливо улыбнулся, вспомнив ее движения в усладе. Разве то, что он пережил, не было по-настоящему удивительно, чтобы отныне считать это необыкновенным и счастливым приключением?
Однако в его душе начало расти беспокойство, с которым не могли смириться ни сердце, ни разум. Их, любовников, безнадежно разделял жестокий и непреодолимый барьер непримиримых религий. Два противоречивых культа будут теснить их, пока не задушат, и если до настоящего момента его вера служила бальзамом в жизни, то теперь она стала источником несчастья. Отдавшись такому безнадежному ощущению, он спрашивал себя, как они смогут примирить свои верования с тем, что поселилось в их сердцах.
Каждый миг, пережитый ими, означал сладкий груз, бесповоротно затягивающий в пучину отчаяния, в новые приступы тоски и новые пропасти непонимания. Он с усилием изгнал из головы эту бурю и проговорил сквозь зубы:
— Испытать счастье означает узреть мир через призму желаний, а этой ночью я по меньшей мере держал вселенную в своей руке. Надо просто хранить этот незаменимый опыт в тайниках моей души, потому что счастье — это мимолетная вспышка, которая исчезает в забвении и никогда не возвращается.
Дождь прекратился, и тут же случайная звезда проглянула с небесного свода, освобождая его от сумбурной тьмы.
Письмо султанши Фатимы
Порывисто забили бронзовые колокола, и их гул наполнил больницу и молельню Пилар. Преображенный свет лился сквозь обрамленные свинцом витражи, достигая глухих углов, касался голов паломников и монахинь, что ожидали начала мессы, бормоча тягучие молитвы.
Во дворе свистящий ветер заставлял всех кутаться в плащи и накидки.
Хирурги из лазарета, одетые в свое лучшее платье, занимали привилегированные места. Среди них был и Яго, беспокойно мявший свою шляпу с пером. Весь персонал без исключения ожидал прибытия короля, главного покровителя Братства Пилар, который находился в городе, готовя кампанию против мавров.
Наконец послышался стук посеребренного шеста церковного жезлоносца, и высшие чины ордена вошли в церковь, где горели свечи и источали благовония курильницы, и преклонили колени на скамеечки для молитвы, обшитые бархатом. Яго не мог удержаться, чтобы не поднять взгляд на внушительную фигуру короля, одетого в дамасский камзол, обшитый изображениями львов и крепостей, и в шапку из собольего меха. Его волосы и борода отсвечивали золотом, а хорошо знакомый профиль напоминал ястребиный.
Рядом с ним горделиво стоял на коленях принц Педро. Он поводил бровями, морща свой выпуклый надменный лоб и опираясь на шпагу с выгравированным грозным девизом. Кругом толпились должностные лица и дворяне; все молящиеся просили помощи у Богоматери в деле резания глоток и отрубания голов иноверцам. Церковь заполняли песнопения, воздух был душным. Под конец священник произнес De Profundis [73] за упокой душ братьев, которые погибли в боях. Присутствовавшие воины отдали честь, оружие грохнуло о плиты, как сто молотов по наковальням.
Неожиданно служитель культа прервал молитву, а с ней и музыку органа, и все взгляды обратились на изображение девы Пилар, рядом с которой, по обыкновению, стояла сестра Гиомар, охваченная экстазом, вместе с матронами женской обители и неразлучным карликом Бракамонте. Лик женщины стал белее мрамора, и она, будто пораженная стрелой, пала на пол в безобразных конвульсиях. Распростершись на холодных плитах, в складках одежды, она походила на смертельно раненного червяка. Началось всеобщее смятение, однако никто не двинулся с места. Яго в тревоге дернулся было помочь ей, но Исаак остановил его.
— Не трогай, она в трансе. Мы ничего не можем сделать, — предупредил он.
Все уже достаточно знали о припадках богомолки, которые предполагали общение с блаженными и ангелами. После приступов на нее накатывали видения, она источала целый шквал предсказаний и сумбурных посланий, потом при всеобщем возбуждении и воодушевлении происходило какое-нибудь чудо. Карлик поправил ей язык, вставив в рот платок и почтительно вытер пену, вытекавшую изо рта. Она мычала; глаза закатились, лицо ее исказилось в дикой гримасе, а тело корчилось, словно она была одержима сотней дьяволов. Священник, обильно потея под облачением, подошел к ней с вытаращенными глазами и, подняв распятие, попытался заговорить падучую.
— Exsurge, Domine! [74] — изрек он на бесполезной латыни, надеясь на чудо.
Наконец конвульсии прекратились, и перламутровая бледность монахини сменилась живым цветом кожи, взгляд ее из мутного стал прямо-таки сверкающим. По храму витал сверхъестественный ужас, но тут она благостно улыбнулась, будто спускаясь из потустороннего мира, где общалась с целой когортой архангелов, и принялась бормотать бессвязные слова; присутствующие стояли тихо, но король тем не менее поглядывал на нее со скептическим видом и что-то едко шептал магистру Калатрава [75]. Ни для кого из жителей Севильи не было секретом, что популярная в народе воинствующая монахиня водила дружбу с королевой Марией, которую дон Альфонс XI презирал всем сердцем.
Тем не менее все жаждали выслушать внеземное послание и навострили уши. Донья Гиомар театрально приподнялась, поддерживаемая бесформенным карликом Бракамонте, и, опершись об амвон, набрала в грудь воздуха. Тут же, будто только что из рая, громким голосом она рассказала о своем видении, завораживая присутствующих поднятыми над головой перстами.
— Exuadi verbum meum, et intende mihi [76]. Овладел мною дух Господень и просветил меня. — Она глубоко вздохнула и, глядя в пространство, исступленно заговорила: — Пятый ангел вострубил. Отворился кладязь бездны. И вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, чтобы делала вред только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему Аваддон. Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя [77]. Господь мой, ты один это знаешь!
Здесь она удалилась, в церкви витал ропот скептиков и шепот пораженных этой речью.
— Что она этим хотела сказать? — спрашивали люди друг у друга.
Яго трагический тон провидицы показался фальшивым и экзальтированным. Тем не менее напрашивалась мысль, что «послание» как-то странно соотносится с последними событиями. Присутствующие в недоумении перешептывались, король с плохо скрываемым раздражением перекрестился и с достоинством встал.
— В канун кампании против мавров эти прорицатели уже надоели, — с пренебрежением поделился он с магистром де Алькантара, который сердито ответил:
— Эта женщина — притворщица! Бог видит, они играют с огнем!
«Болезнь этой монашки является следствием патологии, — размышлял Яго, — однако то, что она провозгласила, свидетельствует об обратном. Кто говорит ее устами? Ангел или сам дьявол? Или ее замутненный мозг? Но слушать ее страшновато».
Весть о случившемся событии распространилась с быстротой молнии и, питаемая суевериями, обсуждалась слонявшимися по обители больными и посетителями. Вскоре группы богомолок, продавцов религиозной атрибутики и собирателей реликвий стали набиваться в помещение храма, они брали святой воды из чаши и заполняли клирос. Капеллан попытался их утихомирить, но в испуге укрылся в ризнице со своими служками. Между делом карлик Бракамонте раздавал ладанки, благословленные доньей Гиомар, и якобы клочки ее монашеского чепца, получив за это целую кучу мараведи, которые уродец ловко засовывал в свою суму.
— Мать Гиомар, мать Гиомар! — только и слышалось повсюду.
С боязливым благоговением целая свита убогих людей, испуганных жителей и истовых богомольцев сопроводила отмеченную Богом сестру в ее монастырскую келью, к ним присоединился целый выводок детей, пришедших по песчаным тропам Сан-Висенте, заляпанным коровьим пометом. Теснясь и толкаясь, они тянулись потрогать складки ее одеяния и просили заступничества за своих больных близких. Монахиня — воплощение девственности и небесной святости для всего этого люда — шествовала с высоко поднятой головой, как будто пережитый приступ эпилепсии только придал ей жизненных сил и еще выше приподнял над убогостью этого света. Тем временем желчный карлик, плюясь и толкаясь, суетливо ограждал ее от поклонников.
— Исцели нас, матушка, освободи нас от злых козней! — голосили страждущие.
— Дайте, дайте мне дотронуться до ее одежды! — взывал какой-то паралитик.
Взбудораженная паства столпилась у входа в обитель состоятельных монахинь в ожидании чудотворных деяний виновницы ажиотажа, которая, отведав полуденных монастырских кушаний, вышла из здания, чопорная и торжественная, словно из другого мира, и протянула руки к полупарализованным больным, коих было здесь немалое количество, раздавая им пластыри от крупа, травяные настойки от запоров и отхаркивающие микстуры, за которыми люд протягивал руки в отчаянной толчее.
— Матушка, мой сынок страдает от порчи, полечите его! — умоляла косоглазая женщина.
— Молитесь святой Агеде и заверните этот можжевеловый крест в свою косынку. Закажите матери-привратнице три мессы — и все пройдет, — ответила ей Гиомар и обратилась затем к старику с непомерно вздувшимся животом. Вытащив упругий прут из своей сумки, ему она, возвысив голос, назначила следующее: — Брат, засуньте этот зонд в задний проход. Козий жир, капуста и навоз освободят вас от нечистот, гниющих в вашем животе. Вверьте свою судьбу святому Клименту, пожертвуйте лепту в молельне.
— Спасибо, сестра, Бог вам воздаст, — поблагодарил страдалец.
После она остановила взгляд на рахитичном подростке с глазами в разные стороны, который дергался как одержимый. Его придерживали на ремнях братья. Гиомар откупорила флакон с каплями воловика, корицы и опия, приблизилась к мальчику и дала ему отпить снадобье. Оно заструилось по подбородку, и он выцедил все, потому что оно было сладкое. Народ наблюдал за тем, как дурачок успокоился и даже тупо заулыбался.
— Бесноватого! Она излечила бесноватого — и не била, не обливала ледяной водой! — закричали вокруг.
— Это поистине чудо! Он похож на ангела, а прежде богохульничал! — воскликнул молодой парень, а молва об удивительном излечении катилась дальше.
До самого заката опалового солнца за горизонт Трианы, когда силуэты крепости Сан-Хорхе слились с ночными тенями, истовые верующие, дрожа и стуча зубами, терпели холод и сырую вечернюю росу. Они славили ясновидицу, запрудив аллеи и дворы Баркеты.
Наконец, когда в монастырях стали звонить к вечерней мессе, приходской управляющий заставил всех покинуть обитель, при этом несколько послушниц с кротким видом собирали в сумы множество подношений.
Когда территория опустела и возбужденную толпу поглотила туманная темень, более сотни светильников и лампадок, зажженных богомольцами, дрожащими язычками прямо с земли осветили решетчатые ворота монастыря, как будто целое скопление светлячков намеревалось охранять сон провидицы. Скоро, будто серебряная речная пена, молчаливые стены обители заполнились молитвами, что отнюдь не прервало звона монет, которые карлик Бракамонте сладострастно выстраивал своими беличьими пальцами в ряды столбиков.
Покончив с этим скупердяйским занятием, он гадко испустил ветры, и из аптеки, пахнущей сыростью и затхлой кожей, послышался короткий и самодовольный смешок, который потерялся в отзвуках песнопений хора монашеского ордена.
* * *
Яго спускался вниз по улице Фериа, посетив здесь одного из больных в сопровождении своего ассистента Ахмеда, мориска из Адарвехо, назначенного ему деканом, — парня достаточно ловкого и способного для того, чтобы выжить в этих христианских кварталах. Еще издали он заметил Ортегилью, одетого в двуцветные штаны с выступающим гульфиком и четырехугольную шляпу с плюмажем, в сопровождении нескольких размалеванных девушек, закутанных в шали, которые подчеркивали их полные груди и крутые бедра. Лица их закрывали желтые вуали, характерные для севильских проституток. Они направлялись на рынок, где в тот день было полно генуэзских и каталонских купцов, крестьян с округи, арагонских торговцев, горлопанов — продавцов альпаргат [78] — и скотоводов, которые не прочь были потратить свои денежки на плотские удовольствия. Судья игриво простился с ними и горячо приобнял лекаря.
— Друг мой, мастер Яго! Куда направляешься? — поинтересовался он.
— Слушай, что-то мы с тобой давно не пропускали по стаканчику. Пошли, я угощаю.
Таверна «Журавль» была набита торгашами и погонщиками, которые решали свои дела по купле-продаже между кружками и дымящимися кастрюлями с кастильскими блюдами. Ортегилья Переметный договорился на местном жаргоне с трактирщиком, поросшим недельной щетиной и обтиравшим руки о засаленный фартук. Они уселись в углу, подальше от запахов жарений и масляного дыма лампад и принялись разбираться с кувшинчиком посредственного вина. Судья блудниц снял свой головной убор, расстегнул камзол, залатанный, но элегантный, украшенный серебряными нашивками и с позолоченными пуговицами. Он пригладил лоснящиеся волосы и громко рыгнул.
— Прости меня, Господи, — бегло перекрестился он и с любопытством уставился на медика. — Я только вернулся с границы и очень хотел переговорить с тобой наедине.
Яго знал от Андреи, супруги судьи, только то, что тот ездил на границу с отрядом адмирала для улаживания каких-то споров и неувязок по правам собственности между христианами Тебы и морисками Антекеры.
— Почему так? Нет чтобы просто пообщаться!
Судья понизил голос и, потянув за ус, бросил вокруг осторожный взгляд:
— Клянусь петухом святого Петра, некоторых вещей я не понимаю. С тех пор как казнили того убийцу и ты мне рассказал о том, что водишь дружбу с заложницей из Гранады, я не переставал спрашивать повсюду у всяких лазутчиков и солдат, патрулирующих и прослушивающих границу с маврами. Было бы сказано хоть что-то хорошее, Яго.
— Что ты имеешь в виду? Это дело меня беспокоит как слепень — где-то отложит свои личинки.
— Слушай внимательно, только держи язык за зубами. Один из чинов, капитан пограничной кавалерии, который был мне обязан за некоторые услуги, рассказал, что по обе стороны границы ходит один и тот же слушок. Группа фанатиков одной из гранадских сект воспользовалась отправкой войск в район Пролива и незаметно проникла на нашу сторону через какие-то укрепления или сторожевые башни. Но их преследует по пятам патруль пограничного района, альгвасилов предупредили, чтобы повысили бдительность на входах в города.
После такого сообщения судьи врач встревожился дальше некуда, потому что тут же подумал о Субаиде.
— Следовало ожидать чего-то подобного. Но то, что ты сказал, ужасно, — сделал он вывод. — Надо предупредить Субаиду, а если нужно, то и адмирала. Вот канальи!
Судья поспешил успокоить молодого человека, видя его нешуточное волнение:
— Твоя пассия имеет достаточно хорошую охрану. Кроме прочего, с этим надо быть особенно осторожным, я приволок для нее письма от бабки, султанши Фатимы, а с ними, чувствую, и хорошие новости. Понимаешь, приятель?
— Послушай, а откуда тебе про нас известно? Ты меня просто убил, Ортега, — ответил Яго, теряясь в тревожных догадках.
— Там, на границе, я встречаюсь с мавром, который передает мне пакеты для сеньоры Субаиды. Думаю, адмирал знает об этом и смотрит сквозь пальцы, потому что лично ему я передаю сведения чисто военного характера, которыми он пользуется. Однако меня в любой день могут повесить за такое «нашим и вашим».
— Ты уж поосторожнее, Ортега. Мне не хотелось бы терять настоящего друга.
— Это моя работа, Яго. Мне это поручили когда-то мои закадычные друзья, хотя между собой они смертельные враги. Кожей я теперь хамелеон, слух получше, чем у лисицы, а нюх не хуже, чем у хорька. Могу извлекать выгоду из, казалось бы, бесполезных вещей, могу, как кабан, нарыть кое-что там, где вроде бы ничего и нет. В моих жилах текут две крови — иудейская и мавров, так что мне приходится крутиться, если я хочу выжить во всей этой заварухе. А как иначе? — Он поперхнулся, смачно отхлебывая из кружки.
— Прими мою признательность, Ортега, не забудь, я плачу в этот раз.
Он с чувством похлопал судью по спине, и они за оживленной беседой закусили вино маринованной форелью, а потом неверными шагами покинули забегаловку. Изрядно набравшийся Ортега остановился помочиться на углу грязной улицы, изрыгая проклятия по поводу паршивого борзого пса, который его обнюхивал. Яго, закутываясь в плащ, зашелся от хохота, наблюдая, как пес прыгал, уворачиваясь от струи. Он ценил этого жизнелюбивого и стойкого человека, который умел встречать суровую реальность с достойной наглостью.
По дороге домой он спрашивал себя еще и еще раз, стоит ли говорить о слухах Субаиде и нужно ли предупредить ее о новой угрозе. Ему казалось, что дело закручивается слишком туго, и его душу снова стало точить темное и невыносимое беспокойство, предсказывая грядущие беды.
* * *
Роскошная тюрьма Субаиды, дворец адмирала Тенорио, была почти необитаема. Яго прошел ворота ограды, его встретил приветливый, предупредительный Хаким и проводил в пристройку с побеленными стенами и светлыми окнами, где Субаида подбирала на скрипке аккомпанемент для стихов. Схватив друг друга за руки, они жарко поцеловались, медик вручил ей флакон с микстурой из лаванды и ириса для укрепления ее капризного желудка и мешочек снадобья для печени, настоянного Фарфаном на тычинках туберозы. На столе в беспорядке лежали астрономические таблицы, астролябия, гусиные перья и свитки папируса, помеченные непонятными знаками. Девушка стыдливо опустила шелковую вуаль на лицо, закрепив ее в волосах, тщательно заплетенных в косы. На пальцах ее сверкали драгоценные кольца, всем своим видом она выражала бесконечное почтение к своему врачу. Тронув струны смычком, она пропела высоким голосом:
Цветы апельсинов — они как слезы, Их красят любовные бурные грозы, Шафранные луны уложатся в масть, А пурпур добавит безмерная страсть.Их тут же потянуло друг к другу.
— Поешь о невозможной любви, Субаида?
— Пробую положить на музыку стих аль-Мутамида, чтобы ты не забывал о нашем деле. Мы должны поспешить. Не время отступать.
— А я не забываю, жду подходящего момента. Я завел знакомство с матерью-аббатисой — добрая женщина, — я лечил ее от стоматита. Она уже молилась за меня, думаю, скоро буду пользоваться ее доверием, не сомневайся. Дай время, у нас с тобой общие цели.
— Ты нашел могильные плиты, о которых я тебе рассказывала?
— Мое передвижение по монастырю ограничено, но за садом действительно находятся развалины, — доложил Яго. — Я искал спорынью, чтобы подлечить настоятельницу, и видел, как у одного из входов, которые монахини называют «шелковой лавкой», несколько послушниц, сидевших вокруг колодца, чистили, скребли и выглаживали стилетами, известковыми камнями и кварцевыми кругляками палимпсесты и древние пергаменты. На большинстве были видны остатки греческих, латинских, куфических и арабских письмен, это я понял с одного взгляда, потому что привык к ним еще в Салерно. Очевидно, что они располагают каким-то обширным источником, из которого делают свои scriptoria [79], после того как вычистят и отбелят.
— Ну вот, я же говорила, так оно и есть. Какое варварство! И только одному Богу известно, какие тексты они уничтожили из-за своего невежества!
— Судя по тому, с каким безразличным видом они предаются своему занятию, они действительно не ведают о ценности рукописей, которые так решительно уничтожают. Этим простодушным женщинам, если они на самом деле уничтожают библиотеку владыки твоих снов, работа представляется обыденной и занудной. Поди упрекни их в чем-нибудь.
— И все-таки надо бы прояснить, какую роль здесь играет эта коварная мать Гиомар. Наверняка это все исходит от нее, — убежденно сказала она.
Яго уловил в ее взгляде знакомый блеск несокрушимого упрямства. Он приподнял вуаль, провел пальцами по щекам девушки. Оба восторженно глядели друг на друга несколько мгновений, вместивших вечность, оба погружались в томную негу. Недолгий зимний вечер успел прикоснуться к их головам неясным отсветом. Медик, объятый сомнениями, не смел начать разговор на тему, с которой явился в усадьбу адмирала, но заложница, почуяв что-то, заволновалась. Ее любопытство было вскоре удовлетворено, он решился открыть то, что его беспокоило.
— Ну, говори, — подтолкнула его она. — Ты же явно не в себе.
— Тревожит меня одна вещь, Субаида, — ответил Яго. — Твои предположения подтверждаются, дело серьезное. Ортегилья утверждает, что через границу перешли сразу несколько человек из тех фанатиков. Я не хотел говорить тебе об этом, но такова правда.
Девушка не ответила. Она лишь наградила его понимающим взглядом и извлекла из складок одежды письмо, с которого свисал красный шнурок с печатью темной охры — отличительными знаками, указывавшими на гранадское происхождение послания.
— Здесь новости от моей бабушки Фатимы, их привез Ортега, — сказала она. — Никто еще не знает об этом. Послушай, и тебе станет многое ясно. Время моего заключения кончается, но возникают вопросы совсем другого рода.
Яго заволновался, а заложница, ласково глянув на него, развернула пергамент. От бумаги исходил запах индийского смолистого дерева. Чтение сопровождалось воркованием голубей за окном. Слушать ее голос и понимать содержание таинственного послания было сущим наслаждением.
Именем Бога милосердного и всемилостивого. Пусть он всегда пребудет с тобой, девочка моя. Пишу тебе, моя ненаглядная газель, с террасы Бид-Абуксара, что над воротами Новых Радостей гранадской аль-Хамры [80], предместье аль-Байязина передо мной, и слышу я журчание ручьев. Зима эта выдалась суровой и дождливой, кости мои старые чувствуют непогоду и болят. Вот уже несколько недель беспрерывно идут фахс ас-Сурадик, военные парады, которые проводит твой двоюродный брат Юсуф в канун обороны крепости Гибралтар. После кампании будут заключены новые договоры и контрибуции, посему уже принято решение о благословенном возвращении твоем и твоих двоюродных братьев. Благодарение воле Аллаха.
Я разделяю твою тревогу по поводу казни в Севилье лазутчика. Тебе не надо бояться гнева убийц, потому что душа твоя чиста, моя сладкая крошка. Я навела кое-какие справки, и мне открылись подробности необычного политического заговора. Убийцы эти вступили в сговор с неким жирным и толстобрюхим христианским монахом, который занимается выкупом пленных. Имя его брат Ламберто, по моим сведениям, он поддерживает тайные связи с фанатиками из пещер Сабики, которых уже неоднократно посещал. Случайность? Простые переговоры? От этих грязных людей, жадных и корыстных клерикалов-христиан, можно ожидать любой подлости.
Убийцы — не федаины [81], а простые наемники, они не связаны фатвой, неукоснительным религиозным долгом, налагаемым на них каким-нибудь алимом с целью устранения отлученного или богохульника. Для них ты не представляешь цели.
Ничего мне не пишешь, как идут поиски Священной книги султана аль-Мутамида, поэта Исбилии. Уж не забыла ли ты о священной обязанности? На страницах тех спрятана тайна тайн, на зависть всем нашим братьям по суфизму. Твой покровитель адмирал и сам король могли бы тебе помочь, однако, что бы ты ни предпринимала, никогда не забывай о своем добром имени и безопасности. Я надеюсь скоро прочесть Алькоран вместе с тобой в мечети Гранады и поговорить с улемами на богоугодные темы.
Пусть Аллах прояснит твои глаза и скрасит твое суровое заточение.
Целую в щечки, моя сладкая маленькая газель. Твоя бабушка Фатима.
Яго охватила безудержная радость от сознания того, что убийственные стрелы гранадских фанатиков поменяли свою траекторию, однако во взгляде его тут же появилось недоумение. Ведь речь шла о монахе-махинаторе и о его каких-то идиотских кознях.
— Я чувствовал это, — сознался он, помотав головой. — С момента, когда увидел шутовскую рожу этого монаха в аптеке Арагонцев, когда он шептался с сестрой Гиомар, я так и знал, что речь шла о каких-то темных делах.
— Ты сам убедишься, что сеть плетется ловкими ручками доньи Гиомар, этой лицедейки, а нити прядет неизменная ее госпожа, королева португальская, — подхватила назарийка.
— В голове не укладывается, как эта богомолка осмеливается участвовать в заговоре против безопасности королевства, включая саму корону. А народ-простак обожает ее, ходит к месту ее обитания в монастыре богатых послушниц, ее репутация безупречна.
— Тем не менее там, в этой благородной обители, есть послушницы, которые превратили это богоугодное заведение в бедлам.
Врач нежно приподнял ее подбородок и проникновенно сказал:
— Субаида, дай мне это письмо. Я вижу настоятельную необходимость ознакомить с ним определенный круг влиятельных персон, противостоящих королеве Марии, потому что твоя бабушка затронула проблему серьезной опасности для нашего государства. В такой ключевой момент перед твоим возвращением опора и совет — необходимая вещь.
Девушка, видимо, ждала подобной просьбы, она вложила письмо в его руки и сказала:
— Доверяю твоей осторожности, будь аккуратным, иноверец мой любимый.
Яго, восхищенный ее пониманием, погрузился в ее бездонный взгляд, и пылкое желание забыться в ее объятиях овладело им. В нем безнадежно боролись страсть и почтение к гранадке. Но возможно ли было когда-нибудь разделить с нею жизнь? Впереди их ждало неясное будущее, горькие слезы разлуки — все это он уже предвидел в глубине души. От его уверенности не осталось и следа, он терял над собой контроль перед обольстительными глазами заложницы, которая сильно прижимала его руку к груди.
— Мы едва-едва обрели друг друга, а скоро придется расставаться.
— Мы обманули судьбу. Пусть нас ведет провидение, Яго.
Терраса дышала теплотой и располагала их к одному и тому же чувству. Вскоре ими владела только неудержимая страсть.
* * *
Белокаменные постройки Севильи, этого оазиса свежести, купались в утренней голубизне. Когда окончательно прояснилось, народ, обходя лужи, собрался на площади перед церковью Сан-Эстебана, окруженной знаменами и вымпелами. Жители приграничной столицы вышли в самый рассветный холод, оставив теплые тюфяки и постели. Военная кампания между Гранадой и Кастилией началась, и величественное войско выступало в поход. После стояния на коленях перед изображением Христа — покровителя походов — и усердного моления об успехе взятия скалы Гибралтар король дон Альфонс в шлеме с перьями спустился по ступеням храма — рука на рукоятке роскошного эфеса. Снаружи его ждали два его незаконнорожденных сына — близнецы дон Энрике и дон Фадрике.
В свите были примас Толедо, приоры орденов Сантьяго, Калатравы и Алькантары, а также знаменосец с королевским штандартом, военачальники, внушавшие невольный страх своими нагрудными щитами и кольчугами, а также грубыми шрамами, обретенными в прошлых войнах, отметинами мужества и бесстрашия в былых кампаниях Саладо, Альгесираса и Тебы. В народе раздавались крики — пожелания расправиться с маврами:
— Разбейте им головы! Дерите с них шкуры заживо, с этих мерзких иноверцев!
Голоса собравшихся громко славили короля, который отвечал им, поднимая руку в рыцарской перчатке. В латах из Падуи, верхом на болонском скакуне, он был охвачен искренней яростью против неверных. Всем был виден его благородный и пламенный взгляд, с которым он мог равно петь сладкие и прочувственные песни своей безоглядно любимой донье Элеоноре. Как же истово обожала Севилья своего повелителя с орлиным, страстным и умным взглядом!
— За Кастилию, дона Альфонса и крест! — воскликнул дон Васко, магистр обители Святого Иакова.
Матери и невесты со слезами на глазах прощались со своими мужьями и женихами, крестьяне, пришедшие из окрестных селений, встав на колени, молили о небесной милости к своим военачальникам. В двух лигах [82] отсюда на поле Таблады их ждал основной костяк войска: рекруты с севера, опытные отряды арбалетчиков, прожженные наемники «Банды морисков», военная техника, механики и двухколесные повозки с мародерами и маркитантками — непременными бедовыми спутниками армии.
Прозвучали военные рожки, войско двинулось в путь.
Сопровождаемая криками толпы, цокотом копыт, бряцанием оружия, дрожащими звуками туб и тамбуринов, кастильская рать прошла через ворога Минхоара и стала пропадать в облаке пыли, в котором скрылся и городской штандарт с лозунгом «Правь, Севилья!», который нес бравый Алонсо Коронель, старший алькайд. А в толпе оставшихся поползли толки
О том, как сложится битва с мусульманским войском Гранады.
— Святая Мария, помоги им! — взывали монахи.
— А что, если их разобьют? — говорили между собой обыватели, боявшиеся голода, который непременно сопровождает проваленные кампании и разбитое войско. Однако общий настрой был таков, что еще до праздника святого Иоанна ратники вернутся с победой, отвоевав скалу у гранадских иноверцев.
Между тем заморосил легкий дождь, усиливая резкий запах конницы, мокрой кожи и гнилой соломы, и толпа поспешила рассеяться.
В это время в усадьбе адмирала слышалось лишь томное перешептывание, царила тягучая расслабленность, а за запотевшими стеклами слышался монотонный и настойчивый шум дождя, словно перезвон персидских цимбал.
Обед с архиепископом
Алтарь и изображения святых в церквях были украшены лиловыми тканями.
В проповедях священники призывали отмечать последние дни Великого поста крестными ходами, строгим воздержанием и особенным прилежанием, поскольку при осаде крепости Гибралтар, по сообщениям гонцов, уже взято в клещи назарийское войско и совсем недолго оставалось до момента, когда христианское знамя станет развеваться над башнями Пролива.
Небесный свод неторопливо и тихо развернул ясный голубой веер, сдвинув в сторону скучные зимние тона, и сады, пропитанные влагой, накинули свежее зеленое покрывало. Ласковое солнце растопило изморозь, наполнив площади теплом, что тут же надоумило хозяек вытащить во дворы ткацкие станки, прялки и пяльцы, чтобы отдохнуть наконец от жаровен и печей. Чарующий свет окрашивал пальмы, гранатовые деревья и мирты в необыкновенные краски, предрекая мягкую, теплую весну.
В воскресенье 1 марта Яго проснулся в приподнятом настроении. Фарфан приготовил ему камзол из тафты, побрил, подправил усы и бородку, помог надеть туфли с серебряными пряжками; сам он набросил плащ карминного цвета и надел берет с пером. Наслаждаясь теплынью, они пошли вверх по улице в сторону собора на воскресную мессу, чтобы потом до полудня прогуляться по окрестностям.
Целый поток монахинь и потомственных дворян влился в толпу прихожан, заполнивших молельню церкви Святого Распятия, с нетерпением ожидая конца мессы. Празднично наряженные дамы, вдовы в черном, девушки на выданье и просто незамужние прогуливались после мессы вокруг кафедрального собора, останавливаясь и соревнуясь в остроумии возле продавцов орехового печенья и фисташек и всячески стараясь продемонстрировать свои прелести мужчинам и юношам, в надежде подыскать себе пару.
На выходе из храма их поджидал Исаак в блестящей тунике из шелкового «сети», чтобы в компании с Яго пофлиртовать с девушками. На этой прогулке молодых хирургов и Фар-фана разыскал слуга врача Церцера и передал Яго записку с предложением отобедать с ним в его роскошной усадьбе. Молодой человек извинился перед Исааком и углубился в узкие улочки квартала.
Яго был доволен приглашением, потому что усадьбу, находившуюся в монастыре, посещать было приятно. Когда-то она принадлежала высокому сановнику, кади мусульманской Исбилии, и пользовалась привилегией иметь проточную воду, подведенную от акведука Кармоны. Тенистые сады, мраморные фонтаны, каналы, розовые плантации и арки, отделанные под мрамор, услаждали душу и давали ей отдохновение. Там были беседки летние и зимние — свидетельство былого величия, банный зал в римском стиле, с мраморными статуями Аполлона, Венеры, Дианы-охотницы и прочих божеств, покорявших посетителей неувядаемой красотой.
Его встретил добродушный Бер Церцер, дружески пожал руку.
— Сегодня ты познакомишься с новыми людьми, которые должны тебе понравиться, Яго, — тут же заявил он.
— Им можно доверять, мастер?
— Да, пользуйся их обществом и дружеским расположением, — загадочно улыбнулся хозяин.
Яго уже бывал в библиотеке обращенного иудея, где разговаривал с талмудистами необыкновенной учености, встречался с великим раввином, или гаоном, Якобом бен Асером, со стариками, казалось, сошедшими со страниц Книги Бытия — патриархальные бороды, длинные одежды. Здесь были алхимик академии Ханока, ученик астронома Хуана де Севильи и наставник школы при соборе Сан-Мигель.
Эти севильские иудеи гордились своим прямым происхождением от Гамалиэля, учителя святого Павла, и тем, что они являются толкователями таинств каббалы. Их речи были учеными настолько, что это удручало молодого врача. Они с гордостью рассуждали о «Сефер Хамада» — «Книге наук» Маймонида [83], являвшейся «gloria orientis et lux occidentis» [84]. Это про нее говорил великий Фома Аквинский: «Что была бы наука Римской церкви без Маймонида?»
Яго задал себе вопрос: кто разделит с ним обед, но усиливавшийся говор и беспорядочная беготня слуг покончили с его сомнениями на этот счет. По лестнице, окруженный толпой лакеев, тяжело поднимался архиепископ Санчес собственной персоной, воинствующий прелат с желчным лицом, которое в тот день было мраморной бледности. Его поддерживал под руку кафедральный каноник, проповедник Нуньо Фуэнтес [85], один из пациентов Яго. Помимо старых недугов — подагры и астмы — архиепископа убивала вынужденная малоподвижность и невыносимая мысль о том, что он не может находиться рядом с королем, осаждавшим Гибралтар. Годами он привык менять на время кардинальскую шапочку и пурпурную мантию на кольчугу и меч; его преследования иноверцев с булавой в руке стали притчей во языцех. Дышал он с трудом, будто мехи в кузнице, Яго показалось, что лицо его словно отмечено печатью скорой, неизбежной смерти.
— Шалом, сеньор архиепископ, — поприветствовал его советник с необычной теплотой в голосе.
— Бог тебя храни. Что, уже расставил кружки по кормушке, Церцер?
— Все, больше лестниц не будет, светлейший, дальше гладкий пол, — ободрил его Церцер, и все присутствовавшие в зале поспешили приложиться к перстню сановника.
Яго отвлекся, забыв следить за своей осанкой, которую надобно было блюсти перед высоким церковным чином, и еще более оторопел, когда появился не менее влиятельный приглашенный, к которому простой кастилец не посмел бы приблизиться даже на пол-лиги из-за вооруженной охраны в полсотни солдат. А он явился сюда собственной персоной, Самуэль бен Уэр, всемогущий хранитель королевской казны, — крупный нос, борода и волосы на голове подернуты проседью, щеки красные от множества прожилок.
Семь приглашенных — ни больше, ни меньше быть не могло, потому что семь — счастливое число для любого иудея, — расположились в просторной зале, заполненной столами, банкетками, канделябрами и кадильницами, от которых исходил благовонный дымок индийского смолистого дерева. Слуги подносили блюда, но ввиду Великого поста мясных блюд не было, а появлялись разные супы, копченые сельди под винным соусом, миноги из Бермео, тушенные в гранатах, и — прямо с огня — миски с лангустами из Альберче. Напитки текли рекой: ароматные, как акведульсис, который развязал язык архиепископа, до сего момента пребывавшего в невеселом расположении духа, имбирная камальда дусе, а также инжир из Смирны, коринфский изюм, сладкие вина из Сильвеса, Кипра и Райи [86], вызвавшие одобрительные отзывы. Особенно чествовали ученого раввина, который нередко обращался к Яго с подчеркнутой симпатией.
Сырные пироги и пахлава довершили роскошное пиршество, после которого слуги принесли сосуды для омовения рук и бород, а также льняные полотенца. Архиепископ, который вяло пробовал кушанья, не притронулся к вилкам и ножам, считая их неподходящими в таком деле, и ел на старый манер, кладя еду на большие куски пшеничного хлеба.
— Эти вилки суть instrumenta diaboli [87], — улыбаясь, уверял он Церцера.
Амфитрион пригласил всех перейти в смежную комнату с наборным паркетом и высокими окнами, через которые шафрановое солнце освещало богатую библиотеку. Здесь гости отдыхали после обеда, пробуя пирожки с необычным сиропом и любуясь видом на сад с густыми жасминными кустами, орошаемыми фонтанами, тут и там виднелись изразцовые скамеечки.
— Должен заметить, что рецептом этого сиропа, привезенным из Салерно, мы обязаны сеньору Яго.
— Так из чего он делается, сын мой? — обратился прелат к молодому врачу. — Необыкновенно вкусно.
— Он делается на настойке мирта, ириса и цикория, светлейший. Несколько веков назад его открыл Галено, его пробовали римские и византийские цезари, а также калифы Багдада, Дамаска и Кордовы. Я рад, что вам понравилось.
— В таком случае, может быть, я слишком суеверен, но как бы ересь от этих иноверцев не проникла с данным напитком в наши внутренности, — съязвил, улыбаясь, сановник, буравя Яго своими маленькими глазками, почти невидными из-за многочисленных морщин.
Между тем Церцер, по желанию архиепископа, поставил на стол несколько резных ларцов с инкрустацией, в которых хранил свою нумизматическую коллекцию. Монеты римские, греческие, финикийские и мусульманские изысканно поблескивали на бархате, хронологически расположенные рядами, в соответствии с каноном, установленным святым Исидором, увлекавшимся коллекционированием. Оба церковных иерарха, Санчес и Фуэнтес, обладали схожей страстью, они сразу же погрузились в созерцание монет, поминая картины, аллегории, императорские девизы, легионы, суры из Корана, посвящения языческих богов, что быстро довело врача до смертельной скуки.
Время тянулось лениво и нескончаемо, Яго не мог сдержать зевоту.
После наводившего сон десерта гаон Бен Асер и латинист ребе Соломон Ганча откланялись, сославшись на свои обязанности в синагоге. Обильная пища и возлияния располагали к беседам, чем и воспользовался Яго, чтобы внимательно рассмотреть архиепископа, в задумчивости облокотившегося на подоконник и глядевшего в сад, держа в руках, пораженных артритом, этрусскую монету. Священнослужитель был сухопар, с реденькой, будто прореженной, бородой, с ввалившимися щеками, в нем чувствовалась былая живость и ум, пытливый и ненасытный. Церцер деловито подошел к Яго:
— Яго, по твоей просьбе светлейший готов взглянуть на письмо заложницы короля, принцессы Субаиды бинт Умар.
Четыре пары глаз пристально смотрели на него. Закутанный в свою пурпурную мантию, архиепископ походил на мумию, готовую к погребению. Его голос, однако, был внушителен и звучал как бы свысока, хотя тон был дружеским:
— Сын мой, мне представляется, что твой вклад в спокойствие этого королевства так же необходим, как и предопределен свыше, и что дела твои по праву достойны нашего участия. Должен сказать тебе, что после веков опустошительных распрей Кастилия пребывает в евангельском мире и гармонии, а мы, советники дона Альфонса, стараемся лишь защитить и поддержать его. Ты находишься в обществе трех самых верных поверенных в этом деле: здесь хранитель королевской казны Самуэль де Уэр, сеньор Нуньо, секретарь Совета Кастилии, и я, исполнительный советник. Так что то, о чем здесь говорится, представляет государственную тайну. Нами руководит только стремление к благу нашего королевства. Покажи нам это письмо, прошу тебя.
Яго, тронутый обращением архиепископа, вытащил из кармана пергамент, обвязанный бечевкой, и вручил его канонику Фуэнтесу. Последний вытащил из рукава увеличительные стекла, а архиепископ велел:
— Преподобный Нуньо, прошу, переведите это на язык христиан.
Каноник Фуэнтес укрепил на носу очки и приблизился к канделябрам. Монотонным голосом он перевел арабские выражения из послания Фатимы с таким тактом, что опустил подробности о погоде в Гранаде, о султане Юсуфе, а также о неизвестном Коране аль-Мутамида — возможно, потому, что не понял, о чем идет речь, — остановившись особо на отрывке о ненавистных лазутчиках, а также о неслыханных кознях брата Ламберто, что вызвало у присутствовавших настоящую оторопь. Изумленный архиепископ со скрипом поежился в своем кресле.
— Вот, сукин сын, лицемер в подряснике, — процедил он сквозь зубы, и в этой реплике выразилась скрытая неприязнь к королеве и всем ее приспешникам.
Однако он тут же дал прозорливую оценку, ободрившую врача, который лишний раз удостоверился, что эта старая церковная развалина в курсе всех запутанных политических интриг в Кастильском королевстве.
— Письмо, похоже, написано искренне, и предмет не представляется таким уж пустяковым. Как все вы заметили, он вполне вписывается в противостояние между королевой Марией и ее сыном принцем Педро и доньи Элеоноры де Гусман с ее незаконнорожденными детьми.
— Примем это к сведению, здесь совершенно ясно показаны их намерения и неблаговидные цели, — возмутился дон Нуньо. — А если так, то их надо пресечь. Эта хитрая женщина намерена показать нам всем, что следы ведут в Гранаду. Что за безумие овладело королевой, светлейший? Трудно найти кого-нибудь более изощренного в кознях и ехидстве.
Епископ деловито оценил его замечания и печально заявил:
— Она не устает попирать авторитет короля, своего супруга. Но в Кастилии не бывать еще одной гражданской войне. Никогда! Ни беспорядков, ни опустошенных полей, ни гибели невинных, ни ужасного вида сожженных деревень и городов! — Тон прелата был страдальческим, он даже возвел глаза к небу.
— Как бы то ни было, мой сеньор, нам стало известно о тайном продвижении нескольких фанатиков, что это письмо и подтверждает.
— А знаете ли, сеньор Самуэль, сколько их в гранадском султанате? — спросил епископ и сам же ответил: — Несколько тысяч, и по этой причине невозможно уследить за каждым в отдельности. Несомненно, все указывает на то, что они могут попытаться вывести из равновесия ситуацию в королевстве каким-либо громким и впечатляющим убийством. Или сомневаетесь?
— Похоже и очевидно, королева стоит у истоков заговора, монсеньор, — изрек Церцер. — А след от нее ведет к матери Гиомар и в итоге к этому монаху, послушной кукле в руках обеих. А что они замыслили, мы не знаем.
— Не будем себя обманывать. Эти люди готовы услужить тому, кого ведет лишь ненависть, — определил каноник. — Эта развратная португалка превратила свою келью в Сан-Клементе в пристанище блудниц, а принц — безответственный и больной парень, которому далеко до благородства своего отца. И от этой провидицы, доньи Гиомар, я также жду любой подлости. Одержимая дева морочит голову простонародью и многим влиятельным людям, как ей заблагорассудится.
Возмущенный прелат прервал их, заговорив о возможных осложнениях:
— Всего более мне отвратительно, друзья мои, что нечестивая королева и ее гнусные пособники готовы без всяких сомнений послужить врагам нашей веры, чтобы нанести вред королю, их господину. Мало того, что она покинула его супружеское ложе, так еще выставляет напоказ, будто ядовитые шипы, штандарты Португалии, которые адмирал вывалял в тине Гвадалквивира после победы над ее отцом в самом Лиссабоне. Она уже пыталась испортить отношения между Гранадой и Кастилией отравлением заложницы, но сейчас, судя по этим новым данным, готовится нечто воистину вероломное. Видит Бог, нет возможности терпеть своеволие этих злокозненных женщин.
— Вы могли бы предупредить ход заговора своей властью, светлейший, арестовав монаха. А на основании этого документа предпринять церковное расследование его передвижений в Гранаде. Потом устроить суд, который выведет многих на чистую воду, — предложил королевский казначей.
— Как раз суд отвергнет свидетельство, подписанное иноверкой. Для разоблачения надо искать другую форму, законную и неопровержимую.
— Может, подвергнуть этого лживого монаха пытке? — спросил каноник. — Колесо и щипцы развяжут ему язык. Сговор с врагом, иноверцем — достаточная вина.
— В этих королевствах Испании еще нет инквизиции, не забывайте. Однако у нас достаточно других возможностей.
— Тогда что вы предлагаете, сеньор? Время не ждет, — сказал дон Нуньо.
В комнате повисла напряженная пауза. Архиепископ Санчес, приложив указательный палец к бороде, задумался, словно погрузившись в плутания по иным мирам. Потом произнес загадочным тоном:
— Мне пришел в голову способ не менее коварный, чем их, хитрость, против которой нет средства, однако христианская по сути и перебарывающая измену. — На его лице играла лукавая улыбка.
— Какой же, светлейший? — В Яго, до сих пор хранившем молчание, проснулось любопытство.
С задумчивостью и с гримасой сомнения архиепископ побарабанил своими узловатыми пальцами по креслу, потом усмехнулся и решительно произнес:
— Исповедь! Святое Таинство покаяния, дети мои.
Все присутствующие онемели от удивления. Заявление церковного иерарха вызвало естественное замешательство и недоуменные переглядывания. Участники совещания не понимали смысла сказанного и были смущены его необычностью. Что он имел в виду? Тем более что глаза архиепископа ехидно заблестели. После паузы он продолжил, выразительно жестикулируя тощими руками:
— Все просто, практично и остается в тайне. Лишние уши только парализовали бы язык этого монаха, грязного и жирного бурдюка, мешка с нечистотами, — спокойно пояснил он. — Я вызову монаха в капитул под предлогом того, что меня интересуют его дела по вызволению пленных. А между делом вверну ему про слухи, обвиняющие его в контактах с заговорщиками из Сабики. Он почувствует, что пахнет жареным — его собственным телом изменника, разорванного лошадьми и брошенного в огонь. Однако я проявлю отеческое участие и предложу ему в качестве выхода рассказать всю подноготную этих контактов, подробности предполагаемой махинации, о лицах, вовлеченных в дело, об их преступных целях, — и все это под предлогом тайны исповеди. Ему это поможет спастись от неприятностей публичного дознания и позора, а также от верной смерти на костре. Он заговорит как миленький. Вы не можете себе представить, как простое причастие способствует конфиденциальности, дети мои.
Яго растерянно посмотрел на Церцера, они оба были заворожены подобной немыслимой хитростью.
— С очевидностью получается, светлейший, что подобное признание останется абсолютно анонимным, поскольку является тайной причастия.
— Почему же, ни в коем случае. Как служитель Христа я обязан молчать вечно о его грехах. Но одновременно я служу советником Кастилии, и поэтому за портьерой моего кабинета будет сидеть один из моих секретарей, который слово в слово запишет всю исповедь с указанием подробностей заговора, что я потом собственноручно скреплю соответствующими печатями и пометками.
— Но, нарушив таким образом обет о неразглашении, не впадет ли ваша светлость в клятвопреступление? — серьезно спросил каноник Нуньо, опасаясь гнева вышестоящих.
Прелат нетерпеливым жестом сурово отверг такое толкование.
— Священник Хуан Санчес никогда не переступит через нерушимость клятвы. От более чем вероятной беды короля и его народ избавит некий придворный… а Бог всепрощающий будет на моей стороне, — добавил он язвительно.
— У меня нет в этом ни малейших сомнений, мой сеньор, — позволил себя убедить каноник и замолчал.
— И потом, как наказание, я назначу ему ссылку в какой-нибудь дальний монастырь, а письменное свидетельство, ввиду его важности, немедленно будет представлено королю как еще одно доказательство тех мерзостей, которые творит его мстительная и вероломная супруга. Убедившись в опасности заговора для страны, дон Альфонс покончит с ним со свойственными ему тактом и твердостью.
— Я понимаю, что благополучие королевства оправдывает подобные неприятные действия, — сказал дон Самуэль. — Я бы на это не решился, дон Хуан, но восхищаюсь вами.
— Паства Божья должна быть защищена от волков, в этом и состоит трудная задача, возложенная на церковного пастыря, который обязан давать разумные советы монархам, — пояснил архиепископ, закрывая глаза, будто погружаясь в небесную летаргию. — А заодно мы таким образом сорвем маски с изменников, дай-то Бог.
— Значит, решено, светлейший, — провозгласил дон Нуньо.
Поток последовательных доводов и суровое выражение лица иерарха убедили всех.
— Излишне говорить о том, что мы должны держать язык за зубами и быть предельно осмотрительными, ведь наши враги не дремлют и приложат все силы, чтобы спутать нам карты, — скорее потребовал, чем попросил прелат, пряча письмо Субаиды.
Со звонниц Сальвадора и Святого Николая известили вечерню, вдалеке послышались молитвенные напевы. Яго поглядывал на иерарха, который вместе с доном Нуньо шепотом возносил хвалу святой Марии, сам похожий на каноническое изображение святого. Потом врач невольно вздохнул, его душа разрывалась в противоречиях, заново взвешивая доводы и предполагаемые действия архиепископа в разоблачении заговора королевы. Все это не переставало попахивать коварной низостью, непозволительной дерзостью, но в качестве министра короны архиепископ поступал безупречно. «И на таких мерзостях держится корона и христианская власть?» — думал Яго.
— Мы благодарны вам, мастер Яго, за ваш вклад в умиротворение королевства, — заверил его дон Нуньо с открытой улыбкой.
Прелат протянул руку с перстнем всем участникам беседы и, не говоря ни слова, покинул библиотеку, запахнув пурпурную мантию. На выходе его ждал закрытый экипаж с серебряным пиком, увенчанным крестом. Ни для кого не возникло бы никаких вопросов в связи с его визитом в дом обращенного врача, потому что посещал он его часто из-за приступов подагры. Шедший следом дон Нуньо бросил несколько мара-веди нищему на оловянную тарелочку, и вскоре послышались сухие удары кнута, лошади тронулись в путь.
— В голове не укладывается, — поделился с хозяином Яго, — что королева Мария могла бы учинить подобный заговор из мести. Она же играет с огнем.
— Королевство раскалывается на два лагеря, что может привести ко многим бедам, — уверил его Церцер. — С одной стороны — те, кто поддерживает бастардов-близнецов дона Фадрике и дона Энрике, то есть братьев Трастамара, а с другой — те, кто за принца, их в народе по секрету прозвали «ряженые».
— Почему ряженые? Непонятно, — удивился Яго.
— Ну, вы же в городе недавно. Среди простого люда уже несколько лет ходит байка, весьма похожая на правду, о том, что принц дон Педро также не является законным сыном короля, нашего господина, его отец — состоятельный еврей по имени Педро Хиль, отсюда и «ряженые», потому что было время, когда этот Хиль ходил в признанных фаворитах королевы и часто бывал в ее спальне в Сан-Клементе.
— Тогда получается, что спор ведут между собой одни бастарды, — сострил Яго, и оба рассмеялись.
— Со временем, попомните мои слова, эти две непримиримые банды доведут наши земли до разрухи. Поэтому мы и молим всевышнего, чтобы он хранил жизнь дона Альфонса, иначе Кастилия превратится в поле трагического противостояния драчливых петухов.
Яго решил, что пора идти, он попрощался с Церцером, тепло его обняв, а также с Самуэлем де Уэром, который протянул ему обе руки.
— Заходите ко мне в гости, — тепло сказал он. — Мы с вами о многом можем поговорить.
* * *
Фарфан, слушая скрип гусиного пера Яго, не забывал следить за светильником. Яго едва попробовал суп, для него приготовленный, а еще слуга отметил, что временами хозяин глубоко задумывается. Наконец мерный скрип прялки Андреи прекратился, и можно было без помех заснуть, отдавшись домашнему уюту и душевному покою.
Confiteor Deo omnipotenti [88]
Темная тень башни кафедрального собора падала на окно комнаты архиепископа Санчеса, который постарался придать своему лицу не гневное, а доброжелательное выражение.
Послышался робкий стук в дверь, вошел этот презренный брат Ламберто, раздувшийся от водянки, поднаторевший в лукавстве и всяких кознях, но сейчас, на середине комнаты, имевший смиренный вид. Он заметно потел, нервно сплетая руки над красно-синим крестом, знаком принадлежности к братству. Глаза его под пухлыми веками выражали беспокойство.
Шаркая сандалиями по полу, отделанному под мрамор, он подошел к прелату, который предупредительно протянул ему перстень, свободно развалившись под строгим балдахином лицом к окну, одетый в тунику из фиолетовой ткани. Нагрудный крест с сапфирами и топазами посверкивал на его впалой груди, оттеняя проницательный взгляд.
— Pax tecum, fater [89], — приветствовал сухо архиепископ.
— Et cum spiritu tuo, episcope reverendisime [90], — пробормотал клирик.
В комнате стоял душный и недвижный воздух, слабый вечерний свет желтил переносной камин с красными углями, шкаф, заполненный кипами бумаг, старые военные доспехи из Падуи и темный алтарь, где трепетала пара свечей под черным распятием, выступавшим из дерева, будто аспид. Бархатные ткани покрывали стены, лишенные украшений.
— Adsumus [91], — нарушил тишину монах, перекрестился и провел тыльной стороной ладони по поджатым губам.
Архиепископ со своим обычным печальным выражением лица указал на табурет перед собой.
Чтобы успокоить монаха и развязать ему язык, он отечески попросил рассказать о том, как идут дела с вызволением пленных из страны иноверцев, о чем тот стал подробно отчитываться с некоторым бахвальством, дойдя до перипетий, которые ему приходится претерпевать на границе с Гранадой. Тут архиепископ прервал свои вопросы и вытащил из-за пояса письмо султанши, с которого свисали красные шнуры и пурпурная печать. Он согнул пергамент, чтобы оставить нужную часть текста, и со строгим выражением лица поднес его под непомерно расширившиеся глаза монаха, поднаторевшего в чтении арабских документов. Быстро и судорожно пробежав текст, тот понял со всей очевидностью, что за обвинения ему грозят. Это повергло его в настоящий ужас. В замешательстве он проглотил слюну, холодный пот ручьями потек под сутаной. Он пытался с ходу найти хоть какое-нибудь оправдание, но это ему не удавалось. Мысли метались между страхом и тяжким сомнением. Покраснев от внезапного позора, обрушившегося на него, он едва издал какой-то слабый звук, осознавая позор и крайнюю серьезность положения. Монах начисто растерялся, его душа была буквально растерзана этим невесть откуда свалившимся пергаментом, он понимал, что превращается в скандальное средоточие гнева церковной и монаршей власти, и суровое наказание, возможно самое страшное, неминуемо.
— Похоже, вы поддались искушению дьявола, брат мой, — архиепископ перешел на гневный тон, — и вам остается только предстать перед королевским судом, который отправит вас на костер за государственную измену. Положение отчаянное, падре.
Монах, понимая, что за предъявленным документом наверняка стоят конкретные люди и свидетели, отпираться не стал. Самоубийственное молчание, равно как и отрицание ни к чему бы не привели. Он был разоблачен, его жизнь зависела теперь от вспыльчивого нрава архиепископа Хуана Санчеса. Убедительность доводов потрясла его, все его устои обрушились, он полностью был в руках иерарха.
— Сдается мне, брат Ламберто, что вас ловко использовали люди, склонные к мести и предательству.
— Я, светлейший, не могу собраться с мыслями и…
Произнося свои аргументы, архиепископ следил за жестами монаха, за выражением ужаса на его лице, чтобы со все большей въедливостью вести дальнейший допрос.
— Вне всякого сомнения, вы недостойны носить сутану ордена Милосердия, и я не вижу никакого способа спасти вас от позорного суда, от обязательного пристрастного дознания и непременной постыдной казни. Вы понимаете всю серьезность положения?
Монах был совершенно парализован, его охватило безысходное чувство одиночества. При мысли о неминуемом бесчестии, о разрушительных последствиях всего им сотворенного он закрыл лицо руками, глаза его покраснели. Да станут ли мать Гиомар или королева защищать его, думал он в тоске. Они же начнут все отрицать. Доказательств их причастности нет. Только его слова и это странное обвинительное письмо. Он, блюститель закона Божьего, проводник добродетели и нравственности, неустанный миссионер Господень в землях страдальцев, духовник королевы Марии, вмиг превратился в позор своего ордена и вот-вот предстанет перед судом за измену и отступничество.
— А в чем меня будут обвинять, светлейший? — попробовал перейти он на наивный тон.
С бесстрастным и не сулящим ничего хорошего выражением иерарх отрезал:
— В крайне тяжкой измене святой матери Церкви и оскорблении его величества. Вы поступили как безрассудный невежда и покрыли себя бесчестием. Вас ждет костер.
Эти тяжелые, похожие на эпитафию слова падали, руша последние бастионы в сознании монаха.
— Ваше преосвященство, Господом Богом молю, спасите меня от этой напасти. Я чувствую, что попал в какую-то ловушку, уверяю вас, — жалобно проговорил он.
Лицо прелата тронула лукавая улыбка. Жертва оказалась разоруженной без особого сопротивления. И, словно речь шла о литургии, заранее расписанной, строгим голосом, но с долей отеческого сочувствия он сказал:
— У вас остается единственный выход, падре. Иначе перед вами черная пропасть.
— Целиком полагаюсь на ваше великодушие.
Тяжелая пауза повисла после этой реплики. Архиепископ с тем же непроницаемым выражением лица нанес последний бесстрастный удар:
— Я вас исповедую.
— Вы лично исповедуете меня, светлейший? — растерялся монах.
Иерарх усмехнулся и подтвердил:
— Исповедь — лучшее лекарство для тех, кто согрешил. Вы ступили на рискованный путь и проиграли. Однако милосердие Божье не имеет границ. Поведайте мне о ваших грехах.
— Я признаю свой низкий грех и готов открыть вам душу, — сказал монах.
— Вы находитесь в подобающем месте, где можете поделиться со мной всем, что знаете, — спокойно произнес епископ. — Вам все равно придется это сделать — либо на исповеди, либо на суде. Советую вам прислушаться к голосу своей души и освободить ее от тяжкого греха через святое причастие. Только таким образом вы сохраните свою пошатнувшуюся репутацию. Тайна исповеди должна ободрить вас, я жду разъяснения всего того, что связано с данным письмом, говорите подробно, чтобы не осталось никаких сомнений.
Сомнение все же возникло на дряблой физиономии монаха. В какой-то момент он решил было не открывать всей правды, но перспектива жестокого дознания подрывала его волю и погружала в отчаяние. Необычное предложение исповеди ему, священнику, показалось спасением, милосердным и обнадеживающим выходом.
— Так если я расскажу, что мне известно, меня не станут пытать, дело не предадут огласке, процесса, пристрастного и открытого, не будет? — с перехваченным горлом произнес он так искренне, что одно это говорило о его виновности.
— По воле Создателя и по сути святого причастия вас минет все это, и если вы решитесь дать показания, то их сохранит тайна исповеди. Быть посему, вас не тронут a divinis [92] и отправят в какой-нибудь монастырь по согласованию с вашими высшими чинами. Не в интересах королевства предавать огласке дела, касающиеся королевского алькова.
Монах, у которого в душе рухнула стена недоверия, был бледен, он больше не колебался. Конечно, он предпочел бы умереть где-нибудь забытым в дальней обители, чем в результате принародного провозглашения его изменником и злоумышленником против короны. Он решился, и эта определенность, результат примененного способа убеждения, уже была необратима.
— Если так, слушайте мои признания. — Монах встал на колени перед прелатом, как положено во время причастия. — Confiteor Deo omnipotenti… Падре, я каюсь в том…
Всего в нескольких шагах от исповедника и кающегося тихо сидели два секретаря архиепископа, скрытые за толстыми занавесями, с хорошо очинёнными гусиными перьями и мраморными чернильницами, наполненными атраментум, готовые записывать, не пропуская ни словечка, признания брата Ламберто.
—.. что был слаб духом и имел тайные переговоры с врагами Кастилии и истинной веры. Я признаю, что мои обязанности состояли в том, чтобы служить гонцом, — заявил он, проглотив слюну и облизав пересохшие губы. — Мне пришлось играть роль самую неприятную и опасную, светлейший отец.
— Что же это за обременительная роль, сын мой?
— Известна всем неприязнь королевы-матери к принцам-близнецам дону Фадрике и дону Энрике, сыновьям доньи Элеоноры де Гусман. Так вот, благородные советники, которые бывают у нее в келье в Сан-Клементе, видя заметное возвышение обоих бастардов, ту любовь, которой они пользуются в королевстве, их способности, а также предпочтение, оказываемое им королем, настаивают на их устранении, чтобы обеспечить трон принцу дону Педро.
— В Кастилии никто не посмеет пролить кровь детей короля Альфонса! — гневно вставил Санчес.
— Вы правы, светлейший, именно потому мне было поручено установить связи с наемниками Узмина под прикрытием моих постоянных поездок по поводу пленных в Гранаду. Его ненависть к нашей вере и открывшаяся возможность причинить вред нашему королевству стали хорошей почвой для переговоров. Они решили отправить инкогнито одного из своих фанатиков и исполнить приговор, когда дон Альфонс с сыновьями вернется после Гибралтарской кампании, за что потребовали предварительную плату в сто солидов золотом. Плата была внесена, а приговор был засвидетельствован их имамами на сатанинских книгах. И ничего нельзя уже поделать, потому что убийца поклялся исполнить свое дело и уже находится в пути.
— Святой Господи! Так речь идет об убийстве магистра ордена Сантьяго дона Фадрике и его брата дона Энрике. Как же я раньше не догадался! — воскликнул архиепископ, который подразумевал более высокую цель, и облегченно уточнил: — Так кто же все это подстроил?
— Насколько я знаю, королева Мария, донья Гиомар, некий доминиканец и еще одна-две незначительные личности, о которых я не могу вам ничего сообщить, потому что мне не дозволялось посещать встречи с ними. По полученным указаниям, моя миссия состояла в том, чтобы договориться с иноверцами, пользуясь личной защитой телохранителей султана. Мне было обещано, если Бог сохранит мне жизнь, место епископа в Сории, на моей родине, или место настоятеля какого-либо богатого монастыря в наших королевствах.
Епископ помолчал, потом, сменив хмурое выражение лица на милостивое, спросил:
— А какую роль играет в заговоре законный наследник дон Педро?
— Никакой. Поверьте мне, монсеньор. Он ни во что не посвящен. Он обожает короля и даже, кажется, чувствует привязанность к своим старшим незаконным братьям и завидует, что они могут скакать на лошадях рядом с королем.
Выдержав паузу для размышлений, иерарх продолжил допрос:
— Выходит, только королева, ясновидица и несколько неверных совершают все эти хитроумные ходы. А бывало, что вы оказывали им другие злокозненные услуги?
— Никогда, светлейший. Это случилось один-единственный раз. Дьявол помутил мой рассудок, честное слово. Не понимаю, как я мог поддаться на обман этих женщин, на их неопределенные обещания. Это мое тщеславие, соблазн дружбы с доньей Гиомар и ненависть к донье Элеоноре подвели меня, — простодушно осудил себя за прегрешения монах.
— Итак, не было иной цели, как только то, что вы мне рассказали: уничтожить сыновей-бастардов дона Альфонса, нашего господина и короля? — настойчиво повторил он.
Монах дрогнувшим голосом произнес:
— Я духовник королевы и могу поклясться на святом Евангелии. — Он взял себя в руки и продолжал: — Мое признание и раскаяние совершенно искренни, ваше преосвященство. Чтобы доказать вам это, если вы определите мне такое наказание, я готов добраться до королевского лагеря и предупредить короля и его сыновей, готов переодеться в рубище, покрыть голову пеплом и просить у них прощения. Бог видит: когда меня втянули в эту историю, я чувствовал, что она может стать причиной больших бед.
Архиепископ сурово поднял руку и возложил ее на голову съежившегося монаха, который с дрожью поглядывал на него краешком глаза.
— Достаточно моего отпущения грехов и подписи под документом. Дело закончим тем, что завтра вы тайно уедете из города. Вы сядете на судно, которое отчаливает с дневным приливом и направляется в Урдьялес [93]. Склонитесь, падре. Отпускаю ваши грехи во имя Господа, — торжественно заключил он.
Будто погружаясь в блаженную грезу, монах закрыл глаза.
— Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti [94].
Костистая рука архиепископа Санчеса прочертила в воздухе крестное знамение. Монах растроганно всхлипывал и целовал руки прелата, который уже глядел на двурушного клирика с презрительным безразличием. Он думал о том, что если все сделать половчее, то не пройдет и часа, как гонец от него отправится с подписанным документом в королевский лагерь, король будет в курсе дела и примет меры по охране дона Фадрике и дона Энрике, этого грешного, но любимого плода своих отношений с доброй доньей Элеонорой. Иерарх устал, но удовлетворенная гримаса тронула морщины на его лице.
Церковник поспешными шагами вышел из комнаты, и дворец заполнила надменная тишина.
* * *
В ту ночь удрученный брат Ламберто вернулся в свою келью только по окончании последней службы, но не стал ложиться на жесткое ложе. За весь день он не выпил ни глотка воды и не был в трапезной на общем ужине. Мучимый воспоминаниями о беседе с архиепископом, он понимал, что его прегрешение не может быть искуплено иначе, как его осуждением и казнью. Ведь он оскорбил свой орден и тем самым загубил свою карьеру в лоне святой матери Церкви. Случившаяся с ним беда состояла в том, что его использовали как разменную монету в соперничестве между бастардами и наследником трона. Стоя в одиночестве на коленях, он мысленно предавался бесстыдному разврату, представляя себя с доньей Гиомар.
Потом он открыл створку окна и долго смотрел на луну в состоянии тупого безразличия, пока взгляд его не остановился на темном силуэте, мелькнувшем на крыше. Тень тут же исчезла за ветвями, заслоняющими край здания. Это заставило монаха нахмуриться, приглядываясь. Следовало бы известить брата келаря о происходящем, потому что вряд ли можно было считать нормальными ночные хождения по крышам монастырских владений.
Но он тут же забыл о видении, приготовил кожаную походную сумку с немногочисленными личными вещами и письмо приору монастыря, в котором сообщал, что ему предстоит закончить жизнь затворником, имея тяжкий грех на своей совести. Снаружи доносился шорох кипарисов. Он стал ждать звона колоколов, погруженный в тягостную тоску. Он ни с кем не перекинулся ни словом, потому что делиться произошедшим ему было не с кем.
Наконец монастырская звонница прорезала затянувшуюся тишину, замелькали тусклые светильники, и тени монахов, выходящих из своих келий для совместной молитвы, заплясали на стенах. Отзвуки рассветного благостного пения разносились между арками, в нефах, в полукружье проходов, однако брат Ламберто оказался настолько выбит из обыденности, что не был способен воспроизвести ни одного псалма. Упадок сил, ощущение катастрофы и уныние поселились в его душе, столь же холодной, сколь и камни монастырских стен. Он решил не подниматься вместе с другими обратно в свою келью и мрачно оповестил ризничего:
— Брат, я совершу богослужение сейчас же. На день у меня много дел.
— Ваши риза и алтарь готовы с вечера, падре. Я вам помогу.
Монах переоделся в лиловое одеяние, предписывавшееся литургией Великого поста, и они с послушником в бледных утренних сумерках направились к алтарю в один из боковых приделов, где возвышалось изваяние скорбного Христа. Послушник открыл молитвенник и зажег лучинкой свечи, расставив их вокруг аналоя. В помещение едва проникал свет, и брат Ламберто, подслеповато щурясь, начал службу.
— Introito ad altare dei [95], — раздался его голос, резкий в пустой церкви.
— Ad Deum qui laetificat juventutem meam [96], — откликнулся сонный прислужник.
Монах плохо видел, поэтому приподнял требник и приставил свечи ближе, чтобы яснее разбирать черные буквы «Introito». С трудом и паузами они продвигались через строки, однако послушник скоро заметил, что паузы становились все более странными. «Что это происходит с братом Ламберто?» — подумал он с беспокойством.
— Ut sanctum… Evangelium tuum… digne… valeam nuntiare [97], — запинаясь, читал брат Ламберто.
От свечей исходили белые тонкие лучики света, теряясь во мраке сводов. Неожиданно клирик начал дышать с трудом, отчаянно зевая, как будто ему не хватало воздуха. Он схватился за аналой и замолк, голова его упала на молитвенник. Потом он обернулся с совершенно искаженным от удушья лицом. Царапая руками горло, издал судорожный хриплый звук, словно ему жгло легкие, и с вытаращенными глазами рухнул на каменные плиты, голова его при этом стукнулась о пол со звуком пустой тыквы — сухо и страшно.
Послушник в смятении попытался помочь ему.
— Господи милосердный! — бормотал он. Перевернув недвижное тело монаха, послушав дыхание и пульс, он понял, что жизнь в него больше не вернется. Осматривая его язык, сухой, как пакля, он заметил на крыльях носа следы белого порошка, который, когда он приподнял тело, просыпался на сухие губы. Медленно выпрямившись, он осмотрел алтарь, пытаясь найти на ткани и ритуальных сосудах причину гибели. Внезапно наряду с масляным чадом свечей он почувствовал не только запах воска, но еще и горький пронзительный аромат, к которому он осторожно принюхался. Запах поверг его буквально в ужас.
Задыхаясь, он поспешил на поиски братьев обители; вскоре переполошившаяся толпа сновала по коридорам, ведущим к молельне. Беспорядочные огни, беготня и шиканье. Монахи обступили безжизненное тело брата Ламберто, всех сбивала с толку его пепельная бледность, будто маска комедианта. Высказывались предположения по поводу жуткой смерти, передавались из уст в уста, нешуточное беспокойство овладевало всеми.
— Это козни дьявола! — страшным бормотанием заверял настоятель своих послушников.
Приор по подсказке прислужника приблизился к почти потухшим свечам и осмотрел их. Свечи пахли только воском. Если они и содержали какой-то яд, то он уже улетучился. Было похоже, что это лишь воспаленное воображение престарелого послушника, привыкшего к частым пробам церковного вина.
— Все это никчемные сомнения, братья. Все симптомы апоплексического удара или это заворот кишок, — вынес заключение приор, и с ним согласились. — Помолимся о вечном упокоении его души.
— Misereatur tui omnipotens Deus [98], — воззвал он. — Пусть примет Господь его в царствие небесное.
В ту ночь никто из монахов не смог заснуть; все думали о том, что Создатель не устает проявлять свое могущество, карая грешников. Брата Ламберто настигло возмездие не за скрытое попрание закона, а за позор, грозивший всему ордену.
Часть вторая Время смерти
И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
Откровение, 6: 7-8Бич Божий
Внимание Яго привлекла толпа, собравшаяся на ступенях кафедрального собора.
Женщины жестикулировали, слышались тревожные возгласы, стояла целая вереница жалобно взывающих о чем-то слепых, кто-то ругался, многие с перекошенными лицами воздевали руки к небу.
— Что тут происходит, Исаак? — оглянулся он на своего коллегу.
— Подойдем поближе, кажется, там королевские гонцы, — заволновался Исаак.
Волнение и голоса исходили от стен собора, где собравшиеся столпились возле посланцев, прибывших от осажденного Гибралтара. Их пыльные и усталые лица выражали уныние и страх. Конь под одним из них встал на дыбы и всхрапнул, когда всадник что-то сказал, и до обоих хирургов лечебницы Арагонцев дошел страшный, будто звук трубы Апокалипсиса, смысл сообщения. Сознание его не принимало, но неумолимая весть, будто разорвав душу, проникла в нее.
— В королевском лагере началась чума, сам король заболел! — такова была новость.
Трагическое известие заставило одних рвать на себе бороды, другие жалобно причитали, вскоре стенания стали слышны по всему городу, который только-только собрался широко отметить Страстную неделю. Городские общины уже воздвигли свои алтари и поставили статуи под балдахинами, чтобы славить страсти Христовы прямо на улицах, но теперь архиепископ приказал разом прекратить всякие приготовления. Апокалиптический бич настиг королевство, предчувствие неминуемой беды овладевало душами приунывших жителей.
Новость грозно катилась по Кастилии, опасавшейся за жизнь короля.
Король Альфонс, любимец народа, восстановивший мир в стране, укротивший мятежных феодалов и успешно сражавшийся с маврами, находился при смерти в своей походной палатке, став жертвой страшной болезни, от которой его армия, осаждавшая Скалу, редела на глазах. Создатель отвернулся от них из-за многих грехов, оставив беззащитными перед дьяволом, и не было другого средства, как только молиться, терпеть и покоряться горькой участи.
Через гонцов, наведывавшихся в Севилью, стало известно, что главный штаб, военачальники и их сыновья находились при короле в полном отчаянии, а врачи и хирурги безуспешно пытались противостоять чумной напасти кровопусканиями, надрезами и бальзамами. Монарх Кастилии слабел с каждым днем. Разве войско не находилось под Господней защитой, а также под покровительством таких святых, как святой Иаков, воочию узревший преображение Христа, или святой Михаил, покровитель крестоносцев? Как Господь сподобился наслать на него подобное наказание перед самым носом у осажденных иноверцев? Удрученные кастильцы не могли найти ответа на эти вопросы.
Возносили мольбы, непрерывно служили мессы, церковные и монастырские колокола непрестанно жалобно и глухо звонили, однако каждый день приносил все более мрачные вести. Яго не мог не вспомнить ужасные картины, виденные им в Провансе и Каталонии, жалея и себя, и жителей этой земли, потому что никто лучше него с Фарфаном не представлял размеров встававшей во весь рост опасности.
Так прошло несколько дней, в течение которых город погружался в пучину тревожного ожидания и страха, и вот со стороны моря вверх по течению Гвадалквивира на гребных лодках приплыла первая партия арбалетчиков, больных «генуэзской болезнью» — так моряки называли бубонную чуму; они встали у грязных причалов Оркадас, в шести лигах от города, и попросили помощи альгвасилов и лекарей из больницы Арагонцев.
Их мольбы о спасении подтвердили самые худшие прогнозы.
Около трех десятков носилок с больными, под повязками у которых скрывались гноящиеся язвы, были живым доказательством того, что эпидемия расползалась подобно дьявольской гидре. Они не были похожи на раненых или побежденных врагом воинов, раны и воспаления указывали не на их отвагу в бою в битве против кривых сабель поклонников лжепророка, а на слепое орудие самого страшного недуга, пожирателя людей, «черной смерти», бича Божьего.
— Воды! — хрипели безнадежно больные, чуя смерть. — Ради Бога, причастие!
Когда врачи из больницы Арагонцев преодолели расстояние до причалов Оркадас, им стала понятна серьезная опасность, которую представляло для городских жителей присутствие этих солдат с отчаянными воспаленными глазами, больше походивших на побитых налетчиков, чем на войско могущественного монарха. Эпидемия самая страшная, какую знал христианский мир, явилась со всей своей лютой мощью в богатый торговый центр Юга, который ждали теперь нескончаемые беды, разящий голод, горе и смерть.
Яго поднялся на одну из гребных лодок, от которой густо воняло мочой, гноящейся плотью, потом, серой и селитрой. Крысы копошились в связках канатов и прямо среди умирающих, которые в блевотине и нечистотах со стонами ожидали смерти.
— Ох, время страха и ужаса пришло на наши головы, — произнес Исаак.
— Всевышний отвернулся от нас. Болезнь эта не разбирает сословий, — вступил Церцер. — Что вам говорили салернские профессора об этой напасти?
— Ничего определенного, маэстро, — ответил Яго. — Эта pestis [99], как мы ее называем, пришла из Китая по Шелковому пути. Распространение ее приписывают действию какой-то газообразной массы, а еще заразным грызунам азиатских степей, сильным дождям, которые сменяют жаркое время года, и даже правлению Кубилай-хана, который с установлением pax mongolica [100] и идолопоклонства наладил торговлю между Востоком и Западом, а заодно и расползание эпидемий. Остальным мы обязаны, как известно, генуэзским мореплавателям, уж они наловчились распространять эпидемии. Так, им потребовалось несколько месяцев осады крепости Кафа в Готии [101], чтобы впервые подхватить эту ужасную чуму, которая тогда поразила и осажденных, и самих осаждавших.
— Все это слова, друг мой, — заявил Церцер. — А я специально занимался этим типом болезней и просматривал тексты Ибн Хатиба [102] и конечно же «Канон» Авиценны, а еще новые исследования. Все без исключения сходятся на том, что чумная болезнь происходит от разложения воздуха, которое поражает четыре сущности в теле человека. Понимаете?
— Воздуха? — удивился Яго. — И как же, по-вашему, эфирный элемент может стать причиной инфекционного процесса в теле? Это смелое утверждение, слишком смелое, мастер.
— В каком-то смысле да, уважаемый коллега. Когда гнилой воздух соприкасается с жидкостями, текущими в наших телах, поражается крайняя сущность человека, то есть его кровь, желчь превращается в черную желчь — в свою противоположность. Наступает болезнь. Очень просто.
— А почему вы думаете, что воздух может гнить? В окружающей атмосфере не заметна какая-нибудь порча. Как раз очевидна ее чистота, достаточно подышать ею.
— Да вы слушайте, что я говорю. Вы же знаете о моих наблюдениях за звездами, не так ли? — Он сделал загадочный жест рукой. — Так вот. Ровно пять лет назад, двадцать четвертого марта тысяча триста сорок пятого года при помощи моих линз и астролябий я мог наблюдать в созвездии Водолея соединение Юпитера, Сатурна и Марса, что с начала времен всегда совпадало с несчастьями и эпидемиями, опустошавшими мир. Это сочетание планет и повредило чистоту эфира, оно и вызвало пришествие чумы. Только это и ничто другое является причиной данного несчастья. Не сомневайтесь!
— Магистр, я не сомневаюсь в отношении эфира, сейчас не время предаваться спорам, но считаю, что механизм этой патологии надо искать в живых существах, которые по неизвестным нам причинам передают друг другу эту болезнь, — настаивал на своем Яго.
— Почитайте Авиценну, и вы убедитесь, сколь вы не правы, — бросил советник.
— Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что эта напасть находится прямо перед нами. — Яго указал на больных. — Да хранит нас Бог.
Ректор Сандоваль, неспособный продемонстрировать хоть какие-либо медицинские познания, убеждал капитанов галер и альгвасилов держать больных в строгом карантине, не пускать к ним родных, которые уже просили перевезти заболевших в город, чтобы лечить их язвы или же похоронить.
— Настоящее проклятие Бога сказалось на этих несчастных, — тихо говорил дон Николас в кругу медиков. — Медицина мало может противопоставить каре за людские грехи. Тем не менее мы будем делать кровопускания и смачивать язвы шалфеем, однако никто с этих лодок не должен сойти на землю, вы отвечаете за это перед законом — под страхом виселицы.
— Вот видите, — сказал Церцер, снова обращаясь к Яго. — Вы считаете, что зараза передается с помощью живых существ, я вижу причину в небесных сферах, а наш декан, напротив, утверждает, что болезнь является следствием гнева Создателя. И мы еще будем кичиться нашей наукой?
Чумных арбалетчиков в камзолах, пропитанных потом, била дрожь и мучила жажда, они лежали между снастей, над ними роились мухи. Яго убедился, что у всех жар и воспалены железы под мышками и в паху, многих тошнило, отчего на палубе стояла дикая вонь, большинство молило о смерти, задыхаясь и харкая кровью прямо на месте — у них недоставало сил вставать к умывальным тазам. У многих кожа прорывалась кратерами потрескавшихся темных прыщей — признак близкой мучительной и неминуемой смерти. Сандоваль приказал зажечь сандаловые благовония и начать отпевание умерших.
Яго прикрыл нос и рот платком, на руки надел фетровые перчатки, методично обошел самых тяжелых больных, вскрывая им гнойники, всем давая снадобье, составленное им здесь же из армянского шалфея, лекарственной кашки и некоторых других компонентов, которое больные пили с жадностью в надежде на чудесное спасение. На берегу появились костры, в которых сжигали одежду, тюфяки и перевязочные материалы, а также была вырыта яма, в которой похоронили первых умерших. Яго хотел как можно раньше вернуться в город, чтобы предупредить друзей, в первую очередь Субаиду, Фарфана и Ортегилью, и даже посоветовать им покинуть город, поскольку понимал, что медицина здесь бессильна, а перспективы начинающегося бедствия непредсказуемы.
— Всего за неделю их тела превратились в гниющее месиво. Настолько ужасны проявления этой дьявольской болезни? — спросил Исаак.
— Друг мой, через несколько дней мы увидим здесь настоящий ад, — ответил Яго. — Чума пройдет по всей стране как Господь посреди Египта, поражая всякого первенца в земле Египетской. Чумное дыхание проникнет под двери, перекинется через стены, отравит самые укромные источники, им будет насыщен воздух и сущности людей по капризу провидения. Ты, кто-то другой, я — все мы можем попасть под эту косу.
Густые клубы дыма поднимались в ясное небо, грозная новость о приходе эпидемии распространилась мгновенно, паника овладела городом, его ворота закрылись для всех, кто мог явиться сюда извне. За неделю до Пасхи, в праздник Входа Господа в Иерусалим, все замерло в ожидании, отовсюду слышались лишь жалобные стенания:
— Чума отравляет воздух Севильи! Костлявая завладеет нашими телами на потребу червям! Смилуйся над нами, Господи!
* * *
Охваченные горьким предчувствием, словно яд тысяч змей уже растекся по колодцам и ручьям, горожане все-таки надеялись, что несчастье пройдет мимо, однако неделю спустя, заскрипев, открылась калитка в воротах Ареналя, привлекая внимание испуганных жителей по соседству, которые жгли шалфей и розмарин перед своими дверьми. Из калитки возник гонец, раздались сигналы трубы и барабана. Его сопровождал копьеносец. Они преодолели расстояние от Гибралтарского лагеря до Севильи, чтобы донести краткую и катастрофическую новость. Народ высыпал на улицу и, онемев, слушал известие о несчастье, болью отозвавшемся в сердцах: «Король Альфонс Одиннадцатый умер. В Святую пятницу он предстал перед Божьим судом. Его не сломили ни назарийцы, ни враги Христовы, сломила „черная смерть“. Молитесь за упокой его души».
— Если Бог вырвал у нас нашего короля, что же тогда ожидает нас самих? Скольких из нас погубит эта страшная напасть? — И из уст ужаснувшегося люда послышалось «Отче наш». Славословия и «аллилуйя» сменились молитвами об усопших, а радости — горестями.
Малые дети, не понимающие трагедии, смотрели кругом наивными глазами и с удовольствием маршировали под бой военного барабана по дороге в Сан-Клементе, где новость была передана королеве Марии. Вскоре город покрылся траурными флагами, с башен свешивались фиолетовые штандарты.
Яго в ту ночь потел, со лба даже капало прямо на письменные принадлежности. Заточенное гусиное перо чуть не прорывало пергамент, на котором он описывал чувства, продиктованные его озабоченной и изболевшейся душой:
Мы все ближе к ужасному библейскому наказанию, ужаса которого эти люди еще не знают. В жаркие дни лета количество заболевших увеличится во много раз, и ничто не остановит эпидемию; как и следовало ожидать, клерикалы подняли на щит фанатизм и указывают на Бога как на высшего судию, а на евреев — как на причину людских несчастий. Смешивают добро со злом, чтобы извлечь пользу из того и из другого. Организуют моления и покаяния в честь святого Роке, покровителя чумных, уже начались изгнания бесов, клянут евреев из Альхамы как врагов религии.
Народ искренне, без всякого лицемерия, скорбит по своему королю, боясь его наследника. За войной последует чума, за ними по пятам идет голод, беспокойство людей растет. В этих королевствах давно привыкли к несчастьям и болезням, постепенно суеверный страх овладевает умами. До мастера Сандоваля дошло наконец, что надо изолировать больных с признаками чумы. Субаида мечется в тревоге, двоюродный брат, султан, требует ее возвращения. Пойдет ли на это новый король с его известными притязаниями на заложницу или применит к ней насилие? Вернется к своим домогательствам, которые присущи скорее подростку, невежественному молокососу, чем монарху кастильскому? Восшествие дона Педро на престол происходит под знаком вражды, и над этими королевствами встает страшный призрак лет конца света. Боже, спаси нас от грозящего будущего разрухи и ужаса, не отказывай мне в своем свете в момент, когда мне более всего нужны мои ближние!
Scripsi [103]. Пасхальное воскресенье, год 1350.
Пламя догорающей свечи затрещало. Закрыв тисненый переплет дневника, Яго с беспокойством отбросил перо.
«Кто из моих друзей станет первой жертвой?» — с тоской подумалось ему.
* * *
В реке отражались стоявшие в траурном молчании постройки и белые звонницы, освещенные лучами солнца. Стенания, печаль и страх витали над похоронным шествием и целой вереницей экипажей, которые двигались по направлению к Королевским воротам, чтобы принять набальзамированное тело дона Альфонса. Вереницы клириков читали молитвы, монотонные напевы которых слились с тоскливым набатом колоколов, звонивших по усопшему.
Севилья стала городом, покорившимся несчастью и нуждавшимся в утешении.
Большой катафалк, влекомый шестеркой вороных жеребцов, возник из пальмовой рощи, будто мрачное видение. На парче были вышиты красными нитями замки и львы, гроб сопровождали одетые в кольчуги губернатор провинции, адмирал и незаконнорожденные сыновья в кольчугах, верхом, на лошадях с посеребренной сбруей. При виде них народ опустился на колени, отовсюду слышались безутешные стоны и всхлипы.
— Слава королю Альфонсу! — кричали люди сквозь плач. — Да здравствует король!
Печаль сдавила грудь Яго. Он вспомнил, как дон Альфонс переживал состояние Субаиды в ту ночь, когда она находилась между жизнью и смертью, и выражение боли на лице иноверки при вести о его ужасной гибели. Он стал молиться о его душе, глядя в небо, в то время как магистры орденов Алькантары, Сантьяго и Калатравы вместе с коннетаблем Кастилии несли гроб, окруженные курящимися благовониями. Погруженные в печаль дон Фадрике и дон Энрике, волосы которых развевал ветер, подозвали к себе главного алькайда [104] дона Алонсо Коронеля, который всхлипывал, не пытаясь скрыть своего горя. Вся процессия притихла, тысячи глаз остановились на принцах-бастардах. О чем таком они хотели поговорить с алькайдом? Близнецы, молчаливые и усталые, передали ему тело отца, отказавшись вместе с гробом войти в город, и все вспомнили об их распрях с королевой и с братом доном Педро. Может, они боялись ареста?
Под испытующими взглядами растерянной толпы они печально поцеловали гроб, надели шлемы и повернулись спинами к стене. Будто целый легион ариманов [105], они вместе с воинами-ветеранами и военачальниками сели на боевых коней и пустились в обратный путь. В туче пыли и топоте копыт отряд исчез за туманными холмами на горизонте, будто души, унесенные дьяволом.
Война между бастардами и новым королем началась — в довершение к тем бедам, которые уже обрушились на королевство.
В тот момент никто, кроме нескольких посвященных, не понял причины столь необъяснимого отъезда. Разве единокровный брат, король дон Педро, не просил их прибыть вместе с ним в Алькасар? Разве их не ждала мать, донья Элеонора, такая одинокая и столь нуждавшаяся в их поддержке? Чем было вызвано это поспешное бегство?
— Пока не стихнут страсти, не разъяснится это темное дело с убийцами и пока король дон Педро не объявит о своей позиции, в Севилью они не вернутся, — тихо сказал советник на ухо Яго.
— В общем-то да: на любом углу города их может ждать удар кинжалом в спину или метко пущенная стрела, — так же тихо ответил Яго.
— Именно сейчас на самом деле решается судьба короны, братья Трастамара нуждаются в крепких сторонниках среди самых влиятельных дворян. Понимаете, Яго?
— Все-таки меня удручает сознание того, что виновные останутся безнаказанными. Со смертью дона Альфонса одновременно исчезли и доказательства, и главный обвинитель. Кто теперь осмелится предъявить обвинение королеве-матери и донье Гиомар? Какой поворот судьбы! Ведь за их жизнь уже нельзя было дать ломаного гроша.
— Действительно, поворот неутешителен, — сказал Церцер. — Некоторым из нас следует соблюдать максимальную осторожность. Заняв трон, дон Педро проявит свойственную ему склонность к мщению, а нам не остается ничего другого, как жить в этих условиях, ощущая свою беззащитность.
— Да смилостивится над нами Господь! Остается уповать на него, потому что счастье отвернулось от нас, друг мой, — вздохнул кастилец.
Плач толпы сливался с молитвами. Нескончаемый кортеж дворян, члены городского совета, рыцари в черных камзолах, клирики в капюшонах, аббаты в фиолетовых мантиях и надменные судьи — все шли опустив головы за королевским гробом. Под звуки молитв и сухой барабанный бой шествие миновало улочки Магдалены и направилось к кафедральному собору, откуда слышалась элегическая мелодия свирелей и перезвон колоколов.
— Ora pro nobis! — раздавалось отовсюду. — Ora pro nobis! [106]
Двор древней мечети, где установили монарший катафалк, был заполнен городской знатью. Апельсиновые деревья по сторонам сияли, как светильники, а десятки больших свечей, подобно фантасмагорической световой роще, придавали катафалку схожесть с дарохранительницей Великого четверга. Туманная дымка еле позволяла различить бледное лицо и жалкий взгляд королевы Марии, одетой в траур и окруженной скорбными дамами, меж которых вызывающе выделялась фигура доньи Гиомар.
Рядом стоял дон Педро — подбородок почти прижат к груди, на лице всегдашняя вызывающая усмешка. Мать и сын поджидали тело, неподвижные и бесстрастные. Казалось, что королевской вдове, взиравшей на окружающих с мстительным высокомерием, было обременительно присутствовать на этой траурной церемонии. Разве не являлся виновником ее несчастий этот человек, умерший у стен Гибралтарской крепости? Или, напротив, всю вину следовало взвалить на развратную донью Элеонору? Королева в равной степени ненавидела обоих, и это было единственное чувство, зревшее теперь в ее душе и искавшее надежного способа поквитаться за все.
При приближении гроба королева-мать подняла голову, и на лице ее возникла победная гримаса. И хотя месть есть занятие для мелкой души, которого хватает не более чем на день, нет женщины более опасной, чем та, которой пренебрегли. «Демоны мести вершат свои дела в тишине, а к этим бастардам, рожденным шлюхой Элеонорой, у меня жалости не будет», — проносилось у нее в голове.
Увидев, что их нет рядом с телом отца, как ожидалось, она пробормотала сквозь зубы: «Чтоб они провалились, выродки стервы сатанинской!»
Шестеро знатных дворян в доспехах, будто отлитые из бронзы с позолотой, подойдя медленным шагом, опустили гроб у могилы. Заупокойную службу провели епископы, прибывшие из Толедо, Бургоса, Сантьяго, Севильи и Леона, которые восхваляли великодушие и твердость духа умершего, беспощадного к врагам и доброго к вассалам.
— Rex Adefonsus requescat in pace! [107] — провозгласил толедский примас дон Хиль де Альборнус.
— Аминь! — хором отозвалась площадь перед кафедральным собором.
Окончание ритуала похорон совпало с исчезновением на горизонте вечерней зари, что еще более усилило скорбное настроение толпы, которой овладел священный ужас. Висящая над городом угроза «черной смерти», смерть короля, а также репутация его наследника не предвещали ничего хорошего.
Прощаться с королем пришли все городские сословия. Проститутки, сутенеры, консулы, монахини, моряки, грузчики, менестрели и церковники — все порывались поцеловать его кожаные башмаки. Народ — христиане, евреи и мавры — до самого утра в молитвах простояли на коленях у тела преставившегося Альфонса XI, короля Кастилии и Леона; Яго, Фарфан, Ортега и Исаак бок о бок стояли на коленях под апельсиновым деревом и молились в тишине.
Костлявая забрала самого дорогого и уважаемого человека осиротевшего отныне королевства.
* * *
Недалеко от этого места, во дворце Тенорио, Субаида бинт Умар, ас-Сайида, не могла сдержать слез. Она стояла у большого окна, ее глаза блестели во мраке. Покровитель, основная защита в ее ссылке, переступил порог смерти. Они встретятся теперь только в явм ад-дин, в день неминуемого Судного дня, и она хотела навсегда сохранить в душе его открытую улыбку, запомнить золотистую гриву волос и настоящее мужество во всех поступках. Все в ней протестовало против такой нелепой смерти, но приходилось принять ее как суровое решение Аллаха — того, кто ведет людей по жизненной пустыне. Ей вспомнился афоризм одного из ее любимых поэтов Абд аль-Кадера: «Смерть — сон без сновидений, она подобна черному верблюду, который становится на колени перед каждым домом, даже перед тем, где никто не собирался умирать».
С грустью думая, что те, кого особенно любит Всемилостивый, обычно и умирают молодыми; в слезах, дрожащими руками она держала письмо от гранадских правителей, подписанное великим визиром Абд аль-Барром и ее двоюродным братом султаном Юсуфом, копию того, что было адресовано новому королю дону Педро. В нем предлагалось соблюдать соглашения, подписанные его отцом, в частности, до лета вернуть трех гранадских заложников. Ее то и дело охватывало отчаяние, потому что было известно, насколько непрочны всякие договоры между враждующими государствами.
Вдохнув настойку амбры, она уняла свои рыдания и утерла слезы. Затем, склонив голову, подняла руки в мольбе, адресованной золотым куполам храма альмоадов, ныне христианского кафедрального собора. Они поблескивали, словно ртуть, в вечерних сумерках и тянулись золочеными шпилями к облакам. По ее вере, Аллах находился где-то там, в высших сферах, а созданные им человеческие существа — в низших; закрыв глаза цвета морской волны, она стала с чувством читать строки из суры Каф: «И придет опьянение смерти по истине: вот от чего ты уклонялся! И возгласили в трубу: это — день обещанный!», «Входите туда с миром, это — день вечности», «Поистине, Мы живим и умерщвляем, и к Нам — возвращение!» [108].
Несмотря на серьезность положения, она вздохнула и перенеслась мыслями к Яго. Если ей наконец удастся покинуть Севилью, ноющее сердце так и останется здесь в сетях тоски по лекарю с доверчивыми глазами, навсегда завладевшему ее чувствами. Как ей тогда вынести свое одиночество и отчаяние?
— Король умер, да здравствует король! — слышалось вдалеке как стон.
На небесном своде замерцали звезды одной из самых драматических ночей, проведенных ею на земле почитателей крестного мученика. Она знала и злокозненную натуру доньи Марии, и стойкость доньи Элеоноры, возлюбленной покойного государя, оказавшейся теперь в положении «отчаявшейся волчицы перед гиеной в короне». Совсем скоро, она это чувствовала, мир на здешних землях не будет стоить ни дирхама, потому что семя раздора уже взошло. А ей самой придется доиграть эту партию и незамедлительно возвратиться в прекрасную любимую Гранаду, хотя бы это и стоило жизни. И потом, она все-таки не хотела делать это в одиночку, в ее планах на будущее Яго Фортун занимал особое место.
Она отвернулась от окна и зажгла светильник. Потом села писать письмо своей бабушке Фатиме. Настал момент сообщить ей о враче-христианине, его дружбе и участии.
Время гнева
Светало, весенняя свежесть прогоняла прочь рассветную прохладу.
Не прошло и двух недель со дня погребения короля Альфонса, как черная напасть, разнесенная теплом, ворвалась в кварталы города с гибельным размахом, дьявольски кося людей направо и налево.
Благополучная жизнь с развлечениями разом кончилась, страх и ужас вселились в обыкновенно беззаботных и добронравных жителей Севильи. С первых же потерь проникшись опасностью, народ стал прибегать к ворожбе и страдать от всяких страхов. Одни из предосторожности ходили, закрыв лицо плащом, чтобы не дышать открытым воздухом, другие постоянно и без устали двигались, чтобы гонять свою кровь по жилам, — и так до упаду, третьи, самые набожные, зачастили в церкви, проводили там дни и ночи, полагая, что молитвы избавят их от болезни.
Однажды утром Яго, направляясь в больницу с коллегой Исааком, возмутился, наткнувшись на крикливую толпу у лавок близ кафедрального собора. Несколько венецианских торговцев, прибывших из Алькудии, где вовсю свирепствовала чума, предлагали универсальное средство от нее по сумасбродной цене в сто мараведи, и самые зажиточные рвали его у них из рук, несмотря на безбожную дороговизну.
— Порошки из праха египетских мумий, смешанные с мускусом! — кричали торговцы. — Сгущают кровь, предотвращают нарушения во внутренних сущностях человека! Единственное средство против чумы!
— Уму непостижимо, как можно наживаться на этих несчастных! — гневно поделился Яго с Исааком.
— Суеверие и обман будут процветать во все времена, друг мой.
Всего за одну неделю не осталось семьи, которая бы не продала свои самые нужные пожитки только для того, чтобы приобрести по цене золота арабские талисманы, какие-то рецепты чернокнижников, свитки чудодейственных молитв и драгоценную древесину для окуривания домов. Объявилась масса продавцов реликвий, утверждавших, что они имеют самое непосредственное отношение к святому Роху, заступнику чумных: бинты с его язв, вода из источника, в котором он омывал больных в Риме, сено из Аквапенте и Монпелье, где он жил, части посоха, с которым он странствовал, пряжки от его сандалий — их бы хватило на обувь для всей Севильи! — кусочки крестообразной ангиомы, которая якобы наросла когда-то на груди святого, а также несчетное число других лжесвятынь, шедших, однако, нарасхват по бешеным ценам на улице Франкос.
— Братья, покупайте реликвии святого Роха, чья подлинность подтверждена Римом и Авиньоном!
Сводящая с ума тревога охватила горожан, увидевших в этом бедствии библейского масштаба разящую десницу Бога, наказывавшего их за бесчисленные прегрешения. Часовня Святой Девы Заступницы страждущих в доминиканском монастыре превратилась в наиболее часто посещаемое культовое место, куда к ее образу несли и несли подношения и ставили толстые свечи. Уже случились церемонии изгнания дьявола, пошли процессии самобичевания с фимиамом, взываниями и молитвами. На одном из таких шествий к часовне Троицы некий слепой, который сидел на привычном месте у Сан-Иль-дефонсо, выставив шею, покрытую черными гнойниками, был обвинен в одержимости дьяволом и в том, что умышленно заражал воду в источниках. Взбесившаяся толпа во главе с проповедниками потащила его на плаху, где посадила на раскаленный прут, добытый в кузнице Руя, что на улице Охоты, уверяя, что сделано это ради изгнания сатаны, поселившегося у него внутри.
Когда несчастный после нечеловеческих криков испустил дух, было заявлено, что от него пахло дьяволом и что было видно, как чума выходила из внутренностей этого одержимого, пока он умирал. Этот случай поверг в ужас и без того уже запуганных жителей, и они с еще большим рвением стали молиться, покорившись увещеваниям священников и заклинаниям чернокнижников — властителей душ, скорбей и кошельков.
— Святой Рох! Святой Себастьян! — слышалось отовсюду. — Оградите нас от напасти!
Яго с болью в сердце наблюдал за целыми стайками одичавших детей в разодранных рубашках и штанишках, грязных, вшивых, ободранных и голодных; они отбивали у крыс отбросы на мусорных свалках, воровали фрукты в садах, ползали в колючих кустарниках и по огородам в поисках пропитания — все это после гибели их родителей и родных. Нищета переворачивала ему душу. Он сочувствовал этим детям с покрытыми грязью лицами, с голодными и тоскливыми глазами и каждый раз отдавал им по нескольку мараведи, чтобы хватило на плошку каши в таверне, потому что не менее ужасным бедствием, чем чума, стал голод.
Почти не было слышно уже ни трелей щеглов, ни плеска волн на берегу реки, ни голубиного воркования, лишь погребальный звон колоколов и скрип повозок, подбиравших тела умерших. Только это и занимало воспаленные умы жителей.
— Соседи, выносите своих мертвых! — кричал угрюмый возница «повозки смерти», как ее прозвали в народе.
По поручению городских властей на эти одиноко передвигавшиеся зловещие повозки собирали трупы, которые засыпали негашеной известью, вывозили из города и хоронили на пустынном лугу Санта-Хусты, который превратился для жителей в проклятое место. Вид похоронной повозки, хриплый голос погонщика, мавра из Адарвехо, стал ужасным призраком для всех — богатых и бедных, ученых и простых людей, — сея страх на каждом шагу.
— Сегодня «повозка смерти» увезла два десятка тел, — передавали из уст в уста. — Кто туда попадет следующим?
Лихорадка настигала самых слабых, синюшные гнойники множились, не было человека, который бы поминутно не проверял свою кожу, не щупал бы себя беззастенчиво под мышками и в паху, где болезнь размещала смертоносные бубоны [109]. Многие умирали в своих постелях от удушья с почерневшей кожей, другие прямо на улице, задохнувшись собственной мокротой, третьи во время молитвы. Были случаи, когда люди в отчаянии вешались в своих домах или в оливковых рощах Альхарафе. Только самые богатые могли приобрести пропитанные благовониями камзолы, шалфей и противоядие, приготовленное из болюса [110], все это, по утверждениям хирургов больницы Арагонцев, могло противостоять эпидемии.
Однако острая коса смерти так и летала над обезумевшими людьми, и заговор против чумы «cito, longe, tarde» [111] привел к панике среди наиболее могущественных семей города, так что очень скоро трудно было найти здесь хоть какой-нибудь экипаж, а родственники, обитавшие в горах, не справлялись с потоком беженцев.
Фарфан и Яго в своей аптекарской кладовке после ночных бдений над страницами «Flos Medicinae Salernae» [112] — видавшей виды фармакопеи, личного сокровища Эрнандо, готовили эликсир из сандала и сока незрелого винограда, который уже применяли в Каталонии. Это средство необыкновенно укрепляло организм. Они раздавали его больным, знакомым, друзьям и всем, кто в нем нуждался, не забывая инструктировать своих пациентов, что помимо упования на Бога необходимо соблюдать строжайшие правила гигиены, отказаться от соломы на полу, подкармливать кошек и ласок, уничтожающих крыс, есть только хорошо проваренную пищу, а воду из источников кипятить. Тереса Тенорио и Субаида по настоянию Яго переехали в просторное имение адмирала в садах Альхарафе. Приглашали и Фарфана войти в их свиту, но помощник сердито отказался, заявив:
— Я с малых лет попал в монастырь, затем поучился в Studium Generale [113] с детьми знати из Тарасоны, с тех пор не провел ни часа в праздности, а сейчас тем более не буду, мои уважаемые дамы. Яго нуждается во мне, как никогда. Кто, как не я, будет готовить лекарства, пиявок, клистиры для больных? Пусть Бог поможет вам в ваших милостях. А я остаюсь в Севилье.
* * *
Самые жаркие дни лета грянули во всем солнечном неистовстве и духоте.
Условия для развития загадочной инфекции стали практически идеальными, и ситуация еще более осложнилась. Кончались хлеб, мясо, овощи, есть становилось нечего, и люди умирали теперь и от голода, и от бубонной чумы. И регулярно, будто монотонный стук молотка, каждый вечер разносился зловещий клич:
— Жители Севильи, выносите своих мертвых!
Городские власти объявили о введении карантина, перед лицом смертельной опасности альгвасилы должны были на месте подавлять всякие попытки нарушить его. Как и предвидел мастер Церцер, на волне ужесточения режима из-за эпидемии, каиновы распри между «ряжеными» и сторонниками бастардов день ото дня усиливались. Отряды наемников с той и с другой стороны сновали повсюду, опустошая имения и деревни; с городских башен и крепостных стен то и дело можно было видеть дым пожаров — признак грабежей.
Неужто Создатель и в самом деле отвернулся во гневе от христиан? Севилья, которая всего несколько недель назад была сияющей и цветущей, превратилась в город, охваченный страданиями и горем.
Яго по-прежнему каждое утро занимался своими больными в зале паломников, используя тонкие кожаные перчатки, которые ежедневно дезинфицировались в перегонном кубе, и широкие черные халаты и кожаные маски, сделанные по схемам ловкого на выдумку Исаака, в которые помещались ароматические травы и ртутные шарики, — все это делало врачей похожими на чудных фантастических птиц. Предложенные Яго санитарные предосторожности: проветривание залов, где находились больные чумой, применение укрепляющих снадобий и немедленное удаление появляющихся нарывов — были не без сопротивления приняты ректором Сандовалем, который высокопарно вещал во время утренних обходов:
— Христианский мир весьма и весьма прогневил Бога, наша хирургия и рецепты здесь бессильны. Того, на кого теперь укажет перст Господень, уже не спасти.
В больницу попадали торговцы из Фландрии, которые донесли, что чума свирепствует в Англии и Уэльсе, а в Стэнфорде умерли все священники. Париж превратился в кладбище; в Брухасе [114] чума унесла более двадцати тысяч душ, богатые города Италии опустели, потому что население их бежало в горы, поближе к ледникам.
— Нужны ли еще нам, христианам, другие доказательства гнева Божьего? — вопрошал Сандоваль.
Были врачи, которые ограничивались тем, что изолировали чумных больных, прописывая им, как водится, кровопускания и банки, а также настойки из плесени, собранной на кладбищах. Кроме того, они обрабатывали бубоны ртутью и раскаленными скребками. Умирающих они вообще не трогали, что вызывало возмущение молодого врача, который вступал со своими коллегами в жаркие, хотя и бесполезные споры.
Яго тяготила такая атмосфера, и он все чаще старался молчать.
— Зависть сильнее лести. В глубине души дон Николас тебе завидует, — подбадривал его Исаак.
— Видимо, его собственные знания неудовлетворительны. Этот человек приводит меня в отчаяние своей чудовищной диагностикой.
Собаки прямо на улицах раздирали трупы, которые десятками — черные, разлагающиеся — лежали на пустырях, кладбищах, у печей для кремации. Повсюду поджоги, грабежи, стоны — будто город оказался захвачен чудовищами и всадниками Апокалипсиса. За городскими стенами слышались крики толп самобичевателей, которые под водительством безумных монахов как саранча опустошали усадьбы и хутора, оставляя после себя пепел, пыль и кровь.
Яго, оставшись без покровительства дона Альфонса, чувствовал, что в лечебнице его присутствие терпят все меньше и меньше. Это не относилось, конечно, к Исааку и ученому советнику Церцеру, однако он стал задумываться над тем, чтобы отказаться от места лекаря и тем самым покончить с изнурительным противостоянием декану-ретрограду, прочно обосновавшемуся в братстве Сан-Клементе. По вечерам с помощью Исаака и Фарфана он занимался больными в кварталах Ареналь и Омниум-Санкторум, в большинстве своем населенном матросами и грузчиками, у которых не было даже медной монеты, чтобы купить хоть какое-нибудь снадобье у знахарей.
В доме у Ортегильи он терпеливо лечил известного генуэзского судовладельца Альдо Минутоло, у которого была сомнительная слава содомита и растлителя малолетних. Ему пришлось удалить свежий бубон под мышкой, и после прижигания и смазываний торговец выздоровел. Он был так пылок в выражении благодарности, что на глазах тех, кто был в таверне «Дель Соль», бросился к ногам врача, восхваляя его искусство, назвал братом и передал ему пятьсот динаров в качестве вознаграждения, которые Яго разделил с Исааком.
— Сеньор Минутоло, — ответил Яго генуэзцу, — если бы вы обратились ко мне уже с удушьем, кровотечением, кровохарканьем и почерневшими деснами, то вас ожидала бы скорая и болезненная смерть. Но вы пришли ко мне вовремя, да и, честно говоря, болезнь ваша могла быть совсем иной.
— Нет, вы ниспосланы самим Богом, и я вечно буду вам обязан! — бил себя в грудь генуэзец.
* * *
После изнурительной работы в больнице Яго, помывшись в чане с горячей водой, высунулся в окно, чтобы подышать воздухом с реки. Было видно, как редкие прохожие боязливо пробираются закоулками, дабы не напороться ненароком на нож или на заразу, поскорее оказаться в безопасности и перевести дух. После почти трех бессонных ночей принятая ванна и эти приглушенные городские шорохи бальзамом пролились на усталую душу лекаря. Вскоре в комнату вошел Фарфан, как-то странно волоча ноги, будто ходьба давалась ему с трудом. В руках — поднос с яичницей, шкварками и чашкой бульона, все это он разместил на столе.
— Благодарю, Эрнандо, надо будет не забыть заплатить за еду Андрее.
— Ты ужинай один. Я что-то устал, пойду на свой тюфяк, хозяин.
— Что с тобой? — Яго искоса глянул на него и вдруг похолодел.
— Просто душно. Уже два месяца слышу одни жалобы, и мне надоело бегать от ангелов смерти, я устал, Яго, — сказал Эрнандо, почесывая свою большую голову.
Яго выронил кусок черствого хлеба и насторожился, почувствовав терпкий запах. Он помнил, что Фарфан не любил мыться и менять белье и, хотя знал сотню фармакологических рецептов для лечения ближних, редко сам употреблял лекарства. Сколько раз он садился на козлы их повозки, испытывая жар, но никогда не жаловался, не пил приготовленные им самим снадобья и не обращался за помощью к своему хозяину. Вот и на этот раз слуга повернулся спиной и пробурчал: «Спокойной ночи».
— Погоди, Эрнандо. Ты очень много времени проводишь с больными и почти не соблюдаешь мер предосторожности. Я же знаю, что ты не выпил ни капли моих снадобий.
— А меня ничто не берет, поверь мне, сынок. Просто я сегодня устал.
Обращение «сынок» Фарфан употреблял крайне редко, и оно свидетельствовало о том, что ему не по себе, и это очень обеспокоило Яго.
— Ну-ка пошли в ту комнату. Я должен осмотреть тебя, хочешь ты этого или нет, — решительно потребовал он, зажигая канделябр на шесть свечей, которые тревожно замерцали в темноте.
Чистая приемная выходила во двор, она была полна справочников, керамических чаш и ступок, сумок с зубоврачебными инструментами, каутеров и скальпелей, здесь был старый перегонный куб для кипячения инструментов и пара топчанов, покрытых льняными простынями. Фарфан улегся, и Яго склонился над ним, ощупывая грудь, подмышки и шею.
Он облегченно улыбнулся, что приободрило слугу, который смотрел вокруг отсутствующим взглядом. Не было никаких признаков опухоли на лимфатических железах, ни смертоносного сепсиса в легких. Тем не менее какой-то запах продолжал ощущаться, и врач велел слуге приспустить штаны. Поднеся канделябр к его промежности, он внезапно почувствовал тошноту, увидев пораженную кожу, на которой явственно проступали знакомые синеватые гнойники, которые нельзя было спутать ни с чем. Эрнандо Фарфан, верный и незаменимый, был заражен смертельной болезнью.
«Святой Боже! — подумал Яго. — Этот человек не заслуживает такой смерти».
В его душе поднялась волна чувства, никогда доселе не испытанного, но он взял себя в руки. Он должен был сохранять спокойствие, хотя отчаяние овладевало им. В комнате повисла пауза. Оба не могли проронить ни слова, глаза их одновременно наполнились слезами. В горле у Яго встал ком, он притворился, что ищет какую-то мазь на полке, и повернулся Фарфану спиной, проводя пальцами по банкам. Мир вокруг замер в безмолвии.
Что могла его наука поделать с болезнью этого человека, искреннего и невзыскательного? Он чувствовал себя никчемным врачом. Сколько лиг они проехали вместе? Сарагоса, Саламанка, Салерно, Монпелье, Барселона, Толедо и Кордова. Они вместе лечили больных, умирающих, сколько раз смотрели смерти в лицо… И теперь они обменялись понимающими взглядами, не в состоянии обманывать друг друга.
— Я, значит, умру, так ведь, Яго? Не обманывай, мы же работаем вместе.
Яго никак не удавалось проглотить комок в горле, и он едва мог говорить.
— Ты что, не помнишь Минутоло? Разве я не вылечил его? — сдерживая слезы, вымолвил он.
— Но эти гноящиеся струпья — совсем другие, — серьезно проговорил Фарфан.
— Мы с тобой никогда не теряли надежды. Не будем и теперь отчаиваться. Сыграем на удачу, Эрнандо, — сказал он, гладя его по седеющим волосам.
— Конец мне пришел, разве не так? И потом, у меня жар, я уже второй день еле дышу, — признался слуга, вытащил старенькое распятие и поцеловал. — Еще когда мы с тобой сюда приехали, судьба нам не благоволила. Я тебя предупреждал.
В полном смятении чувств Яго попытался ободрить его:
— Ты — самое ценное, что у меня есть в жизни. Ты выживешь, старый разбойник. Я позову Церцера и Исаака. Они больше знают, чем мы с тобой, плут ты эдакий.
Он вышел из комнаты и ударил кулаками в стену, дав волю невыносимому отчаянию. Никто лучше него не знал, что теперь все попытки лечения бесполезны. Он рыдал, как малое дитя, кривя от горечи рот. Ему казалось, что ухода Фарфана в мир иной ему не перенести. Невозможно было ничего сделать, чтобы отвратить беду, и эта безысходность угнетала так, что останавливалось дыхание.
В небе среди мерцающих звезд стояла ущербная луна, немая и холодная, по двору неслышно бегали крысы. Смерть, которая, по заверениям философов, венчает жизнь, полную страданий, казалась ему той ночью неким грабителем, промышляющим душами, которому вздумалось забрать Фарфана в немые волны тьмы и забвения.
В ярости он постучал в комнату Ортегильи так, что на улице жалобно залаяли собаки.
Часы агонии
Будто привязанный, шесть суток безотлучно провел Яго в полумраке комнаты рядом с больным. Дневной свет был для него лишь мерцающим напоминанием о неимоверно долгих часах. Он думал о Субаиде и ее неминуемом возвращении из Альхарафе, о своем обещании помогать ей в ставших такими нелепыми изысканиях, в которых он не продвинулся из-за начавшейся эпидемии, и о тяжелой агонии своего доброго слуги. Ночи напролет у зажженного светильника он ждал наступления зари, как будто ее всполохи могли прогнать весь этот кошмар. Он постоянно писал что-нибудь в своем дневнике, готовил травяные отвары, вытирал пот со лба самоотверженного Фарфана, который отказывался есть и даже пить воду. Лица его уже коснулась печать смерти.
При каждом приступе кашля казалось, что это душа таким способом покидает его. Отважный Фарфан умирал, но Яго все еще надеялся на чудо. Внезапно скрип досок кровати, шорох простынь и голос, похожий на стон, вывели его из задумчивости. Фарфан проснулся как от толчка, выпростал свою омертвелую руку и вцепился в ладонь Яго — так лапа хищника хватает добычу.
— Ты мне был как сын, о котором я всегда мечтал, — проговорил он. — Я был тебе добрым другом, ведь так?
— Я не знал своего отца, а ты был для меня самым лучшим отцом, о каком только можно мечтать.
Яго не мог забыть, сколько жизненных секретов познал рядом с ним, ему не в чем было упрекнуть и преподобных монахов, которые все детство держали его в ежовых рукавицах и заставляли учиться — с той самой поры, когда мать, набожная наваррка, заболев после гибели мужа в приграничной стычке, отдала его на воспитание в монастырь, а сама ушла в обитель Веруэла. В монастырской школе он прикоснулся к текстам «Speculum naturale» [115] Винсента из Вове и познакомился с «Естественной историей» Плиния [116], что оказало огромное влияние на его будущее. Пока он учился, Фарфан, бывший его попечителем, дал ему прочесть отрывок из ставшей потом самой главной для него книги «Opus Tertium» [117] Роджера Бэкона, которая заставила его посвятить жизнь медицине.
«Единственно через опыт достигается знание о явлениях природы, медицины, химии, а также всех явлений на небесах и на земле», — прочитал он однажды, и именно это откровение ере-тика-францисканца из Британии помогло ему в тот момент отринуть сомнения в выборе профессии.
Яго с болью посмотрел на Эрнандо Фарфана, глаза которого тонули в лиловых глазницах, испытывая глубокое чувство к человеку, посвятившему ему свою жизнь. Вспомнил, как тот таскал его, маленького, за руку по лесистым скалам Сомонтано и у самой границы с Кастилией, когда они взбирались на крутые холмы в поисках трав, необходимых для лечения страждущих монахов. Он до сих пор помнил вкус холодных источников гряды Монкайо, куда Фарфан водил его летом, чтобы показать работу мельниц и сукновален, а заодно продемонстрировать ему целебные свойства варенья из ежевики, которое стимулирует работу кишечника, и дикого артишока, применяемого монахами как вяжущее, а также как средство от пота, когда они приводили себя в порядок к религиозным праздникам.
Экскурсии к стремительным водам Аньона Фарфан устраивал на Троицын день, но они не становились от этого менее познавательными или желанными. Оказавшись вдали от посоха брата Одона, они валялись на бережке, поросшем желтыми цветами, гонялись за лисицей или лазили по ветвям шелковиц. Там, среди шуток и шалостей, он узнавал о ценных свойствах настоек на мяте, растущей на лугах, — отличного ветрогонного средства, а также горечавки, которая годится как глистогонное средство для детей и хорошо помогает от закупорки сосудов, которой страдают в старости многие монахи.
Яго готовил настои из горной мяты, которыми лечили астму у паломников, приходивших в монастырь, учился делать эликсиры из пластинчатых грибов, которые монахи принимали на Великий пост, чтобы прочистить свой организм, а из тростника — слабительное, которое продавали близ монастыря по два мараведи за флакон. Для него не составляло секрета, как приготовить микстуру из полыни для прочистки артерий или настой из усиков дикого винограда, чтобы унять тошноту у беременных. В прогулках по саду обители Фарфан рассказывал ему о множестве трав и плодов, росших на здешних грядках, оставалось только запоминать их научные названия и свойства.
Сейчас, глядя на старика, задыхавшегося на узком ложе, Яго вспомнил с теплотой, как за неделю до поступления в Studium Generale в Саламанке, собрав viaticum [118] и пожитки, Эрнандо привел его, оробевшего, в аптеку, воспользовавшись тем, что брат Матиас ушел в трапезную. Заговорщицки подмигнув ему, он открыл один шкаф, из которого извлек огромный манускрипт с пожелтевшими страницами, в сафьяновом переплете, который заскрипел при открывании, будто петли старенькой двери. От страниц открытой книги повеяло неповторимым очарованием, ученик с изумлением увидел великолепные, тщательно выписанные цветные изображения самых редких растений, многие из которых были совершенно незнакомы ему. Благодарным взглядом он просмотрел всю эту сокровищницу восточной медицины. Там были приведены десятки рецептов эликсиров, порошков и снадобий, даже описание арабских варений, что совершенно поразило его.
— К сожалению, я не очень разбираюсь в латыни и совсем не понимаю язык иноверцев, — сказал тогда Фарфан. — Единственное, в чем я могу тебя уверить: это экземпляр труда «Китаб аль-Висад» Ибн Вафида, знаменитого врача из Кордовы. Рукопись эту использовали более пяти поколений монахов с большой пользой для своего здоровья. Она была подарена святому аббату Раймундо одним из визирей халифата, и это главная драгоценность аптеки. В христианском мире другой такой нет, — доверительно добавил Эрнандо. — Здесь записаны сотни врачебных формул, но одна из них особенная, так что монахи, хотя сами соблюдают обет безбрачия, благодаря ей основательно пополнили казну монастыря.
— И что же это за средство, Эрнандо?
— Его называют «веселящая настойка» и используют как для увеличения мужской силы, так и чтобы укрепить дух и разогнать тоску. Оно придает сил в бою и на брачном ложе, устраняет сердечные хвори и меланхолию. Уверяю тебя, сюда даже приходили посыльные из французского Парижа, из Магунсии [119], Бургундии, Валенсии, Сарагосы, франкского Артуа, даже эти пурпурные из Авиньона — все желали получить свою выгоду.
— Так рецепт ее под запретом?
— Нет, но ты никому не должен его сообщать, — встревоженно предупредил Эрнандо. — Это большой секрет монастыря. Если нас в этом уличат, то сурово накажут. Так вот слушай, сынок: шелковую нить кипятят в новой металлической кастрюле на сильном огне; затем добавляют половину унции гвоздики, затем корицу, камедь, стручковый перец и имбирь из расчета пять адарме [120] на порцию. Когда воды останется половина, туда доливают десять аррельде [121] меда и половинку тапсии [122]. Потом все это варится до исчезновения пены. Эликсир готов и может поправить настроение самому унылому человеку или поможет испытать горячие ласки самой бесчувственной женщины. Ручаюсь за то, что он обладает по-настоящему чудесным действием. Запомни рецепт, потому что может настать день, когда тебе понадобятся деньги, а на этом можно хорошо заработать.
Яго грустно улыбнулся, в голове молнией промелькнули проведенные вместе лучшие годы: пять в Саламанке, где он получил степень лиценциата, два — между Монпелье и Салерно, где было много всего: приключения, успехи и неудачи. Ремесло соединило их навсегда, они стали свидетелями и участниками возрождения медицины, когда новый человек вырвался из монастырских стен, разрушив монополию клерикалов на духовную жизнь. Прежний универсальный уклад жизни, навязываемый церковью, vita antiqua [123], кончался, оба они пережили это и в Италии, и во Франции, где мастера врачевания стали почитаться как знатные люди, nobiles viri et primarii cives [124], стали уважаемыми лицами в обществе. Именно тогда он многое почерпнул, познакомившись с идеями Дунса Скота и Оккама [125], которые студенты воспринимали как глоток чистой свежей воды.
Захлебнувшись в воспоминаниях о лучших временах, Яго тряхнул головой и заботливо вытер Фарфану лоб; час за часом тому становилось все хуже. Нос истончился, будто лезвие серпа, ложе стало мокрым от пота, сухой кашель, казалось, раздирал внутренности, мешая говорить.
— Моей бродяжьей жизни пришел конец, сын мой. Жаль расставаться с повозкой и моими снадобьями. Я тебя любил, как отец, а ты мне отвечал тем же, как лучший из возможных сыновей; ужасно бросать тебя на произвол судьбы, но такова воля Божья. Бок о бок с тобой я увидел половину христианского мира и служил честно, как мог. Не забывай меня и прости, если в чем виноват. Это поможет мне спокойно перейти в мир иной.
— Если я тебя забуду, значит, обреку тебя еще на одну агонию, моя душа этого не вынесет. Может, ты знаешь такой эликсир, который бы стирал в памяти то, что любишь более всего на свете, старый чудак?
Исаак и Церцер приходили каждый вечер, применяли свои методы лечения, но и они не помогали. На этот раз после чистки гнойников больного стошнило черной жидкостью — это был тот грозный смертельный спазм, который предвещал неминуемый скорый конец. Андреа и Ортега в соседнем помещении молились и просили Христа ниспослать бедняге легкую смерть; они тоже не спали все эти ночи в приближении развязки. В полночь Фарфан обвел комнату тусклым и потерянным взглядом, его била дрожь, он подозвал Яго.
— У меня горит в груди, будто сто демонов колотят горящими прутами, — простонал он. — Позови капеллана, проклятая сделала свое дело, я кончаюсь. Хочу причаститься и умереть в мире с Богом. Обещай мне, Яго, что ты не бросишь мое тело на эту телегу с трупами. Я хочу дождаться Судного дня на христианском кладбище.
— Как я могу допустить такое? Ты обретешь вечный покой на кладбище Марии Магдалины, отец мой, имя твое будет высечено на плите, — утешил его Яго, зная, что Ортега уже приготовил гроб с негашеной известью и договорился с викарием о похоронах на кладбище ближайшей церкви за внушительную мзду.
Фарфан, собрав остаток сил, проговорил:
— Эта напасть — она от дьявола. Тот мавр, что умер подвешенным, ее напророчил, а в день, когда мы прибыли в этот город, случились плохие предзнаменования, Яго. Беги отсюда. Все бегите… ангела истребляющего не остановит ни одна дверь. Боже, укрепи меня!
Потом у него начался бред, он бормотал о своих грехах священнику, напуганному зрелищем гнойной сыпи. Исход болезни оказался столь же тихим, как и ее начало. На рассвете жаркого июньского Дня святого Бонифация Эрнандо начал тяжело агонизировать и испустил дух в момент, когда колокола церкви Марии Магдалины возвестили о молитве в честь Пресвятой Богородицы.
— Эрнандо Фарфан, добрый человек, умер. Помолимся о его душе, — произнес Исаак.
Закрыв глаза покойнику, тело которого уже походило на останки, сожженные в каком-то чертовом костре, Яго ощутил зияющую пустоту в душе. Сдерживая рыдания, в полузабытьи, он натянул на мертвого белый саван.
— Меня убивает наша беспомощность, Исаак, — сказал он. — Ничего из моих знаний не пригодилось для того, чтобы спасти его или умерить его страдания.
— На том свете его ждет встреча с Богом и сияющей вечностью, — ответил тот утешительно.
— А я чувствую горечь, думая о Создателе, друг мой. Ты так же, как и я, каждый день встречаешься с адовыми проделками чумы; это наводит меня на мысль, что до него не доходят мольбы людей. Он создал законы мироздания, а нас бросил на произвол судьбы. С каждым прошедшим днем моя вера в него уступает безразличию. Я чувствую себя сиротой в этом мире, где до дна приходится испить чашу разочарования.
— Не богохульствуй. Тебя оглушило отчаяние. Иегова как раз дает надежду.
— Ты в самом деле так думаешь, Исаак? А я, ложась спать, не хочу рассвета, потому что ужас овладевает моей душой, как только я встаю с кровати. Мы живем в трагическое время леденящих кровь зрелищ и бед. Матери теряют своих детей, еще вчера бывших здоровыми, подонки грабят тех, кто послабее, церковники лживы, повсюду черная магия и ворожба, — говорил он, глядя на тело, остывавшее между двух пар свечей.
— А ты полагай все это делом князя тьмы, а не Бога.
Яго замолк. Отчаяние, боль и безнадежность отражались на его лице, и его друзьям показалось, что он потерял свойственную ему стойкость духа. Сломался, поддался тоске, крючьями вцепившейся в его горло. Смерть друга выбила его из колеи; в своей комнате, едва освещенной молочным светом неполной луны, он упал на койку и безутешно зарыдал.
Эпидемия продолжала свое невидимое, как дыхание, шествие, кромсая и пожирая тела, оставляя от них страшные останки, лохмотья и гниль. Он не просил, а негодовал:
— Фарфан, пусть твоя кровь оросит Божий сад, чтобы Он сжалился наконец над теми, кто остался на этой скорбной земле!
Голос его сорвался.
Секрет Дар ас-Сура
Все последующие дни Яго провел, лежа на постели с закрытой наглухо дверью; он ничего не ел, не откликался на приглашения Ортеги и Андреи и не ходил в лечебницу Арагонцев. Но вот однажды жарким удушливым утром кто-то из его коллег прокричал через калитку, что его хочет видеть ректор Сандоваль.
— Дон Николас срочно требует вас к себе, сеньор Яго!
Он привстал, будто от толчка, в памяти пронеслись печальные события предыдущих горестных дней, подорвавших его дух. Первой мыслью было отговориться, послав к черту занудного декана, однако вспомнилось, как покойный Фарфан говорил об ответственности и сострадании, когда они передвигались от деревни к деревне без гроша в кармане и лечили фурункулы за скудную плату или краюху хлеба с куском свинины. В комнате было невыносимо душно, он открыл ставню, и внутрь ворвался яркий свет.
С террасы его весело окликнула Андреа, месившая тесто. Он нехотя умылся, причесался, подровнял бородку и усы. Затем переоделся, хотя стоило большого труда найти сколько-нибудь чистые штаны, шляпу и камзол. В таверне «Дель Соль» он побрился и в разгар утра с пересохшим ртом и кругами под слезившимися от солнца глазами направился в богоугодное медицинское учреждение, завязав рот и нос платком. На улицах все так же слышались стоны плакальщиц, царили всеобщий страх и тревожное, агрессивное настроение. Бродяги обворовывали мертвецов, на мусорных кучах хозяйски копались крысы, стервятники летали над лугом Санта-Хуста, своры собак пожирали тощие чумные трупы.
Севилья, когда-то город-сад с бьющей через край жизнью, имела теперь отвратительный облик, здесь царили гибель и грязь, бедствие и хаос, вши и крысы, ее окутывал зловещий дым пожаров и ладана.
— Будьте добры, сеньор! Я был ранен в битве с маврами под Саладо, воевал за веру!
Яго дал милостыню этому слепому, потрясавшему своей тарелочкой.
— Жители, выносите своих мертвых! — слышался вдалеке печальный клич с «повозки смерти» — страшной хозяйки улиц, их скрипучей и ненасытной экономки.
Он захотел повернутся и бежать в Альхарафе, куда его приглашала Субаида, посылая весточку за весточкой, но взял себя в руки и продолжил путь в больницу, где его ждал заносчивый мастер Сандоваль, который прогуливался с Церцером, завернутым в черную сутану непомерных размеров. Ректор передвинул свои линзы на кончик носа и уставился поверх них на Яго, приветствуя его с необычной теплотой.
— Мастер Яго, сочувствую кончине вашего слуги. Мне известно, что вы любили его, как родного отца. Утешьтесь тем, что теперь он в обители Божьей.
Его соболезнования очень удивили молодого человека, ожидавшего нагоняя.
— Я признателен вам, дон Николас. Его достойная душа отныне обрела покой.
— Я прервал ваше печальное одиночество, потому что мы нуждаемся в ваших знаниях, — начал разговор Сандоваль.
— Я полагал, что обществу хватает ваших знаний, уважаемый дон Николас, — не без вызова заметил Яго.
— Оставьте эту мысль, — запротестовал ректор. — Я всегда внимательно следил за вашей практикой, хотя, конечно, с благоразумием старого пса, поднаторевшего в традиционной медицине. Чтобы не вступать в полемику, просто сознаюсь, что считаю себя убежденным аверроистом [126]. Поэтому верю в провидение, когда занимаюсь лечением.
Возникшую паузу Яго использовал немедленно, чтобы собраться с мыслями и возразить:
— Значит, дон Николас, вы поддерживаете теорию двойной истины в лице единого знания и божественного откровения? Когда-то и я, покидая Веруэлу, считал себя, подобно вам, беззаветным схоластом, но Саламанка и Салерно сделали из меня убежденного гуманиста. Пришло время разделить теологию и медицинскую практику, от этого и люди будут меньше страдать, и наука продвинется вперед, это уж точно, великий магистр.
— Вы говорите со старым, усталым лекарем. В мои молодые годы и я рвался вперед закусив удила, а одергивать вас в моем возрасте не доставляет удовольствия. — Он саркастически улыбнулся.
— Высокочтимый мастер, в Европе дуют новые ветры, с вашей глубокой эрудицией вы не можете не знать об этом.
Научные взгляды Оккама, которые оценили теологи Сорбонны, Саламанки и Оксфорда, не должны оставить вас равнодушным, — вежливо заметил Яго. — Однако что же вам угодно от меня, мастер?
На лицо ректора, до того живое, легла тень, и он ответил вежливо:
— Мы просим вашего совета для защиты королевской семьи от чумы. Излечение Минутоло произвело впечатление на врачебное сообщество, и ваши методы предохранения от заразы признаны всеми.
Яго поджал губы, подумав тут же, что, в конце концов, в этом нуждается любой больной, идет ли речь о поденщиках из Алькореса или об аристократах королевского двора. Он промолчал, потому что ничего хорошего от такого предложения ждать не приходилось.
— Видите ли, — пояснил Сандоваль, — размах эпидемии захлестнул все города и поселки, и уже никто не чувствует себя в безопасности ни в Астурии, ни в Авиле, ни в Арагоне. Поэтому королева-мать и дон Педро решили переждать в Севилье, пока не угомонится бич Божий. Король перевел свой двор в Алькасар, во дворец Караколь, а донья Мария настаивает на своем пребывании в Сан-Клементе, которого чума уже коснулась. На мне как на придворном враче лежит обязанность либо оградить ее, либо, если обитель не окажется надежным убежищем, уговорить немедленно уехать.
Яго почувствовал трудно сдерживаемое волнение, ведь он уже подумывал над тем, что пора сдаваться, что он не сможет выполнить данное Субаиде обещание, и тут неожиданный поворот судьбы дал ему новую надежду. Он тут же ухватился за эту идею, почувствовав азарт охотника.
— И чем же именно я, по-вашему, должен заняться? — равнодушным тоном спросил он.
— Вы вели в больнице работы по обеззараживанию, проверяли водоемы и водоводы. Попрошу вас, не выставляя это напоказ, проделать то же в Сан-Клементе и сообщить мне, насколько обитель уязвима для заразы. Мать аббатиса будет ждать вас после полуденной мессы.
Яго тут же дал волю своему бурному воображению.
Ему предоставлялась чрезвычайно редкая возможность, может быть уникальная, чтобы осуществить желанное дело и убедиться либо в безудержной фантазии, либо в недюжинной интуиции назарийки. Исследовать самые скрытые уголки монастыря цистерцианцев, покопаться в развалинах пропавшей библиотеки султана аль-Мутамида — это прекрасно. Осуществить обещанное, предоставить Субаиде доказательства существования библиотеки — отличный стимул, чтобы довести дело до конца, поэтому он немедленно согласился. Неожиданно советник вызвался сопровождать его, что было одобрено ректором. Яго удивился, потому что знал: Церцер никогда не был охотником до подобных инспекций. Тем не менее такая компания придавала экскурсии больший вес, и Яго, снова почувствовав себя неутомимым борцом с бедами, повеселел.
Оба врача, подкрепившись напитком из земляного миндаля, в сопровождении Ахмеда, слуги-мориска из лечебницы, пересекли жилой квартал монахов ордена Калатрава, лишний раз увидев, какую нищету принесло с собой чумное бедствие. Истощенные дети, голодный простой люд, полуживые нищие, ряды попрошаек, пустые конюшни, дома, заброшенные и разграбленные — все это являло собой роковую трагедию, породившую вдобавок смуту и недовольство.
На улице Каза мяса не было, продавали лишь потроха, а дикие кошки и собаки ценились на вес золота. У позорного столба на площади Сан-Франсиско уже побывали несколько обнаглевших торговцев, а столяры давно не делали ничего, кроме нетесаных гробов, за которые обезумевшие матери и вдовы чуть ли не дрались. Кварталы предместья превратились в территорию, где болезнь царствовала безраздельно — повсюду мусорные кучи, мертвые крысы и запах гнили. Здесь не было сладу с гибельной чумой.
— Жители, выносите своих мертвецов! — послышался наводящий тоску возглас.
Врачи молча обошли, закрыв лица, бойни Ла-Баркеты, после чего пробрались по изрядной грязи на аллее Репозо и оказались у подножия массивного центрального основания арки монастыря Сан-Клементе, основанного Фернандо III лет за сто до описываемых событий. Со своими усадьбами, лавками, мельницами, виноградниками и собственными работниками он стал самой богатой обителью города. Из-за сложности хозяйства он имел даже собственного управляющего. Ни от кого не было секретом, что с момента отвоевания Севильи у аббадиев в его стенах вершились запутанные дела кастильской политики, а также злокозненные предательства. Вот почему для Яго это место представляло собой вражеский бастион, противостоявший покойному Альфонсу XI и Элеоноре де Гусман, а теперь там плелись интриги против их детей.
Через узкие окна, отделанные белым и розовым камнем, свет проникал внутрь храма, где стояла мрачная статуя святого Климента с его неизменными атрибутами — тройным крестом, морским якорем и тиарой. Холодок пробежал по спине молодого человека, когда они объявляли о своем прибытии служке в грубом балахоне, который нервно отмахивался от мух.
Тяжело растворилась дубовая дверь, обитая гвоздями, скрип ее вспорол полуденный покой. Аббатиса со своим посеребренным посохом, комендант, монахиня, надзирающая за послушницами, и привратница ожидали их в портике церкви, отделявшем эту часть монастыря от дворов и садов исчезнувшего дворца Биб Рагель. Яго отметил отсутствие возмутительницы спокойствия доньи Гиомар, что его вполне устраивало.
— Pax vobiscum, fratres [127], — поприветствовала аббатиса, решительная женщина, похожая на кормилицу-горянку, чьи здоровые розовые щеки располагали к общению. Она учтиво протянула гостям свое распятие, которое оба набожно поцеловали.
— Et cum spiritibus vestris [128], — первым ответил Яго.
Не откладывая дело, аббатиса, знакомая с медиками по их предыдущим визитам, повела их — складки одеяния монахини тянулись за ней как сложенные крылья — к лечебнице, где они осмотрели больных сестер, которые удрученно ожидали своей участи, естественно предполагая худшее. При виде врачей на их восковых лицах отразились стыд и смущение, раздались жалобы. У одной из них оказалось серьезно воспалено горло, у остальных дизентерия или просто экзема и кожная сыпь. Еще у одной недавно принявшей обет и беспрестанно молившейся девушки обнаружилось кровотечение, которое только от большой наивности могло быть истолковано как симптом чумной болезни. Всех их ободрили, прописали обычные снадобья, после чего Церцер задал настоятельнице беспокоивший их вопрос:
— Мастер Сандоваль говорил нам о недавно умершем человеке, будто бы от чумы.
— Так и есть, но он жил не в монастыре и даже не в домах бегинок [129], которых пестует донья Гиомар; это произошло за стенами, куда одна из наших сестер ходила к родным из Осуны. Господь пока ограждает нас своей благословенной дланью.
— А что, бегинки эти вам не подчиняются, матушка? — спросил Яго.
— Только в какой-то мере. Речь идет о мирянках из дворянских и простых семей, которые не давали обет, но ищут святости, изолируя себя от мира. За их добродетельной жизнью присматривает мать Гиомар, весьма опытная в лекарствах как для тела, так и для души. Она из тех, о ком порой возвещают ангелы.
Они решили, что провидица и наперсница королевы-матери могла сейчас находиться в аптеке Арагонцев или же пыталась помочь своими чудодейственными средствами какому-нибудь умирающему благочестивому пациенту, поэтому не стали заходить в помещения для дам, посвятивших себя добродетели. В течение следующих двух часов они заглянули во множество монастырских помещений, задержавшись в пустом скрипториуме [130], где Яго снова увидел выскобленные арабские кодексы, превращенные в белые листы, готовые к повторному использованию. Затем они проследовали в королевские покои, где когда-то проживали знатные инфанты Кастилии. Там аббатиса, ловко повернув ключ в двери одного из помещений, пояснила:
— Здесь в одной из комнат находится источник, который иногда использовался как купель для святой воды. Хотите взглянуть, мастер Яго?
Раздвинутые занавески, фламандские ковры, обитые сафьяном из Триполи стены, позолоченная скамейка для молитв, большие окна, через которые была видна река, — все это придавало помещению экзотический, почти магический вид. Эта недвижная и нереальная картина, казалось, была предназначена для нимф или других столь же сказочных созданий. Перед просторным ложем под высоких балдахином стоял инкрустированный шкаф, в котором находилась дюжина чудесных книг на латыни, испанском и еврейском языках с цветными иллюстрациями. Особенно привлекал взгляд лежавший на пюпитре прекрасно изданный требник из Фульды [131].
Пока Церцер был занят разговором с аббатисой, Яго занялся маленьким источником у стены, который лился едва заметной струей, и стал искать, откуда она попадает в помещение. Для этого ему пришлось нагнуться и отодвинуть пыльную бархатную занавеску, загораживавшую желоб, по которому стекала вода; каково же было его удивление, когда здесь он увидел другие фолианты — с тронутыми тлением страницами, поврежденными сыростью и подгнившими переплетами. Они были написаны на латыни и содержали труд испанца [132] Сенеки, а также тексты арабских и индийских авторов.
Его тут же привлекли прекрасные гравюры. Он с благоговением переворачивал ломкие, словно корица, рассыпающиеся листы. Вынужденный торопиться, он полюбовался лишь первыми страницами этих книг, украшенных изысканными фронтисписами, темно-красными узорами буквиц и невообразимого изящества миниатюрами с изображением маленьких слоников, муравьев, морских звезд, пауков, духов и микроскопических армий воинов. Потом он открыл потрясающее руководство, изданное, видимо, в Индии, с откровенными эротическими рисунками, изображавшими благородных людей в самых чувственных позах; это вызвало у него ироническую улыбку, подумалось: «Да, инфанта умела со вкусом подбирать свою библиотеку».
Он уже привстал было, желая показать, что закончил проверять подводку воды, как вдруг заметил: то, что он сперва принял за полку, на которой лежали другие книги, на самом деле оказалось книгой большого формата. Яго осторожно смахнул с ее переплета под металлическим наугольником грязный налет пыли и копоти, скопившийся за столько лет запустения, и перед его глазами возникло непонятное арабское название, о котором он никогда не слыхивал, даже не знал, что такое существует: «Аль-Васитах, 13». Существовал ли вообще такой труд в восточных кладезях мудрости? — задался он вопросом, в задумчивости заканчивая просмотр. Что означает этот номер? Он много лет, везде, куда забрасывала его судьба, копался в разных библиотеках, аудиториях и на рынках, но никто — ни продавцы книг, ни преподаватели — не упоминал этого странного названия. О чем эта книга? Возможно, это трактат по географии, алгебре, о строении земли. Может быть, его тема — поэтика или медицина?
— Эти редкие экземпляры принадлежали донье Беренгеле [133], правительнице Гвадалахары. Она похоронена здесь, в монастыре, — пояснила подошедшая аббатиса. — Она была набожной и грамотной женщиной, владела тремя языками. Из-за ее красоты и эрудиции к ней сватался султан-фатими [134] из Каира и даже сам император Византии. Она обладала широкими знаниями, которые почерпнула у мавров-аббадиев, хотя эти книги, думаю, были отторгнуты ее строгим духовником. Никто не знает, мастер Фортун, где может затаиться демон, чтобы обольстить и погубить нас.
— Необыкновенная женщина и удивительные трактаты, — не показывая особой заинтересованности, сказал медик.
Яго вышел оттуда под впечатлением красоты и исключительной ценности фолиантов, которые успел пролистать. В голове его начали складываться всякие иллюзорные варианты, перед глазами снова и снова вставало: «Аль-Васитах, 13». Удивительный и завораживающий том.
Они пересекли церковь, где горела большая пасхальная свеча, слабо освещавшая великолепный лепной потолок. Яго заглянул за решетку хоров и различил в полутьме инкрустированные надгробия и золоченые орнаменты, под которыми покоились бренные останки уже покорившей его доньи Бе-ренгуэлы, а также доньи Беатрис — кастильских инфант. До него донесся густой запах благовоний, который он вдохнул с благоговением и признательностью.
— Мать аббатиса, ваша обитель возвышается подобно нерушимому острову посреди этой кипящей адовой сковородки с миазмами, в какую превратилась Севилья, — вынес он бодрое заключение. — В это место дьявольская чума не осмеливается войти.
— Вы всегда так любезны. Бог вознаградит вас за ваши знания.
— Тем не менее, почтенная матушка, мы бы вам посоветовали слить застоявшуюся воду из прудов, убрать солому из спален и других помещений. И пусть ваши каменщики заделают все отверстия, где могут гнездиться крысы. Все без исключения продукты проваривайте, сестры должны следить за чистотой тела. И только после этого полагайтесь на провидение.
— Мастер Яго, все ваши рекомендации будут выполнены в обязательном порядке.
Вышли из монастыря на солнечный двор. Церцер напился из обильного источника в живительной тени кипариса, похвалив свежесть воды. Яго воспользовался моментом, чтобы заняться другими делами, которые привели его в монастырь. Он не считал визит законченным. Необходимо было найти те надгробия, которые, по идее Субаиды, могли скрывать следы пропавшей библиотеки. Чтобы не затруднять дело, он решительно потребовал:
— Нам необходимо, матушка, обследовать заброшенные строения в саду, а также водоем, откуда вы берете воду. Не исключено, что туда может попасть зараза.
На лице аббатисы появилось тревожное и недовольное выражение.
— Не думаю, что это так уж необходимо. Это достаточно далеко от обители, и потом…
Яго не собирался отступать. Прервав ее, он пустил в ход всю свою хитрость и умение убеждать. Ведь от этой попытки зависела судьба данного им обещания, и он не мог уйти, не побывав, по крайней мере, в интересующем его месте.
— Высокочтимая аббатиса, дон Николас никогда нас не простит, если в обители кто-нибудь вдруг заболеет. К тому же причиной дьявольского недуга часто являются именно питьевые колодцы. Так что, если в монастыре произойдет что-то непоправимое или если ваша высокая гостья, королева-мать, окажется смертельно больной, ответственность за это падет именно на вашу милость.
Яго с видом сожаления тронул за локоть Церцера, якобы собираясь уходить, внимательно следя краем глаза за аббатисой, которая в сомнении нервно потирала руки.
— Подождите! — резко остановила их она. — Не будем подвергать риску донью Марию. Делайте, как вам будет угодно. Вас проводит Альвар, управляющий. Я только прошу закончить осмотр до вечерни, часа, когда ворота святой обители закрываются.
По какой-то причине приветливое обращение аббатисы сменилось на раздражение по поводу намерения лекарей исследовать заброшенные развалины на монастырской территории. Яго перехватил быстрый и выразительный взгляд настоятельницы в сторону коменданта, на что тот сделал понимающий знак.
Получалось, что живущие в обители женщины, посвятившие себя служению Богу, имели какой-то мирской секрет, раскрывать который не желали, и касался он сооружений в западной части монастыря. Но каких именно? Могло быть такое, что неким неизвестным образом, случайно, они прознали о существовании тайника с библиотекой султана и поэта аль-Мутамида, такой желанной как для интеллектуалов Востока, так и для христиан? Тогда на что может рассчитывать отважная Субаида? Душа Яго была полна тревоги.
Они деловито двинулись за управляющим, который тащил с собой невообразимой величины связку ключей. В этот момент из окон верхнего этажа в них вперились две пары глаз, следя за ними с мрачным беспокойством. Безотчетно Яго ощутил спиной таинственную и тягостную угрозу.
Запущенные дворы, разрушенные галереи еще хранили былые следы архитектурной роскоши. Но теперь это было безраздельное царство ящериц, ласточек и голубей, устроивших гнезда под сводами арок, которые от этого разрушались еще больше. Потом их взглядам открылся заброшенный двор, заросший травой и загаженный птицами, на котором находился необычного вида колодец. К нему вела утоптанная тропинка — свидетельство того, что он продолжает использоваться. Яго поднял голову и увидел за покрытой трещинами глинобитной стеной беспорядочное угрюмое скопище почерневших надгробий, заросших колючим кустарником. Это, видимо, и было то самое зловещее кладбище султана аль-Мутадида Кровавого. «Там находятся черепа изменников, возле которых и был Дар ас-Сура, диван поэтов», — вспомнились ему завораживающие слова Субаиды.
Управляющий коротко указал на древнюю постройку, уже изрядно разрушенную, однако в ее дряхлом совершенстве еще можно было различить мраморные медальоны с изречениями из Корана, стройные яшмовые колонны, потрескавшиеся и побитые.
— Вот под этими развалинами находится водоем. Сейчас зажжем факелы. Следуйте за мной, сеньоры, но держитесь подле меня, — мрачно предупредил управляющий, открывая замки и засовы.
В призрачном сооружении, бывшем когда-то поэтическим клубом андалусских певцов, двери ныне были заложены кирпичом, а окна забиты деревянным щитами. Внутри догнивали табуреты, обитые бархатом, разбитая посуда, лохмотья сафьяновой обивки, обезглавленные изваяния святых, разваливающиеся сундуки, остатки свеч, изгрызенных крысами, и кучи всякого хлама — в пыли и плесени. Ничто не напоминало, что эта жалкая зала была когда-то хранилищем библиотеки аль-Мутамида Славного, хотя на полу остались следы недавно зажигавшихся светильников, а на одной из полок стояли два канделябра с паклей и кремнями для разжигания.
К удивлению медиков, Альвар снял со стены потертый ковер, за которым обнаружилась железная решетка. Открылась она легко, за ней зиял чернотой ход, вниз вели сырые ступени узкой лестницы. В факельном свете казалось, что это пасть огромного чудища, готового проглотить непрошеных гостей. Однако, против ожидаемого, лестница была чистой, хотя кое-где с подтеками. Вдали тишину нарушал ясный шум воды.
Комендант вручил слуге-мориску фонарь и, не говоря ни слова, угрюмо двинулся вниз. Яго ненавидел закрытые пространства, поэтому вдохнул полную грудь воздуха, перед тем как начать осторожный спуск на полдюжины ступенек. Факелы осветили своды подземного зала из красного кирпича, который и был водохранилищем, наполненным кристально чистой водой, поступавшей сюда по шести бронзовым трубам.
Через отверстие вверху падал дневной свет, отражавшийся в поверхности водоема, будто в зеркале. Медики застыли в изумлении перед обилием и чистотой воды. Не менее удивительным было и то, что в зале зияли черными дырами ответвления целой сети подземных галерей, с древних времен пробитых к дворцам аббадиев. Однако ничто здесь не указывало на наличие какого-либо архива или специального помещения для него. Не было и намека на запах папируса или пергамента.
— Вода поступает из реки, Альвар? — поинтересовался Яго.
— Она из источника, который находится в садах. Прежде чем попасть сюда, вода проходит через сложную систему трубопроводов и запруд. Сейчас я принесу вам кувшин для пробы.
Комендант прошел, балансируя, по бортику и склонился над одной из труб, чтобы наполнить кувшин. В этот самый момент Яго, Церцер и Ахмед одновременно повернули головы и прислушались, потому что справа от них послышался треск и показалось дрожащее пламя светильника, отбросившего огромную бесформенную тень, которая немедленно исчезла. Снова воцарилась тишина. Всех троих, ошарашенных мелькнувшим видением, охватило инстинктивное ощущение опасности. Что это было — капризный световой эффект, обман зрения? Или за ними кто-то шпионит? Яго, воспользовавшись тем, что Альвар стоял к ним спиной, легонько взял мориска за руку с факелом и направил свет в сторону того хода, что был шагах в двадцати от них. Оказалось, там находилась ржавая калитка-решетка, а над проемом виднелась надпись арабской вязью, но что именно? Ему немедленно захотелось узнать это. Молодой человек, видя, что Альвар уже возвращается к ним, успел быстро проговорить на ухо мориску:
— Когда будем уходить, я оставлю здесь сумку. Ради твоего спасения в раю, постарайся прочесть, что написано над той решеткой. Понял, Ахмед?
Мусульманин от неожиданности согласно кивнул, глядя на него и не понимая причины такой дерзкой проделки, лукаво улыбнулся:
— Попробуйте, сеньоры. Вода чиста, будто из ключей Педросо [135]. Пейте!
Вынеся вслух заключение, что это место не может быть зараженным, Яго заторопился, словно ему не хотелось более дышать влагой водоема и масляным чадом фонарей. Извинившись, он поспешно поднялся по сырым ступеням наверх. Когда они уже оказались под навесом, он внезапно издал возглас недовольства и напустился на слугу на глазах напрягшегося Альвара.
— Ахмед, ну ты в своем уме? Ты когда-нибудь и голову забудешь. Моя сумка-то там осталась! — ругался он достаточно правдоподобно.
— Ох, извините, сеньор, — огорченно откликнулся тот. — Я сейчас, туда и обратно.
Схватив факел, Ахмед, не давая управляющему опомниться и присоединиться к нему, мигом провалился сквозь еще открытую калитку в зияющую дыру. Яго выдержал на лице гримасу гнева, на которую хранитель ответил дружеским понимающим вздохом, не поняв, слава Богу, в чем дело. Церцер отвернулся, скрывая улыбку, вызванную этой комедией.
Как ни в чем не бывало, словно не было ничего более естественного, чем такая нахальная задержка на глазах бдительного коменданта, Ахмед стряхнул пыль и произнес со смиренным видом:
— Я не нашел ее, сеньор. Извините мою неловкость, — и покорно склонил голову.
Аббатиса, прощаясь с ними, робко поинтересовалась, как прошел осмотр западной части территории. Потом, видимо не зная, как быстрее избавиться от присутствия молодого лекаря, состроила извиняющуюся улыбку: мол, ждут дела. Невидимые глаза с высоты так и продолжали наблюдать за ними вплоть до самого выхода.
Торопливым шагом, обойдя вереницу орущих погонщиков, они спустились по Сан-Висенте и, по предложению советника, которому, похоже, самому не терпелось узнать тайну дверцы и причину странных предосторожностей, зашли в таверну. Заказали вино из Сильвеса, и Яго в нетерпении стал допытываться:
— Ну что, Ахмед, тебе удалось посмотреть, что там находится и что это за надпись? Только не говори, что нет.
— Я запомнил все в точности, но прямо на ходу, и если сразу вам не передам, то могу забыть.
— Ну, давай выкладывай, а потом забудь, получишь в награду несколько мараведи.
— Сеньор Яго, поистине, вы мастер в искусстве лицедейства. Мне это доставило такое удовольствие! Хотя комендант мог что-то и заподозрить, — заметил он. — Что у вас было в руках-то?
Затем Ахмед посерьезнел лицом, черным как смола, громко отхлебнул вина, почесал бороду и рассказал:
— В тоннеле были свежие следы, а в помещении смолистый запах, какой бывает в хранилище манускриптов, у меня даже засвербело в носу. А на перекладине была изображена рука или, может быть, распустившийся ирис. Странно, не правда ли, хозяин?
— Удивительные и добрые приметы, — обрадовался Яго. — А что дальше, Ахмед?
— Это все, сеньор медик. Можете представить, какого страху я там натерпелся, в этой холодной пещере. — Он изобразил гримасу ужаса.
— Рука? Этого я не понимаю, но то, что ты сказал, очень важно. Можешь идти. — Яго протянул ему несколько мараведи, которые мавр принял с благодарной улыбкой.
— Иногда случай лучше двигает наши дела, чем мы сами, — заметил Церцер. — Мудрый Цицерон, руми [136] как его звали по-арабски, утверждал, что случай и судьба направляют жизнь благоразумного человека, но тот, кто терпеливо и целенаправленно ищет, всегда находит, сеньор Фортун.
Скрытничать после разыгранной на глазах у Церцера сцены значило оказать ему недоверие и вызвать недовольство; Яго понимал, что после смерти Фарфана его собеседник с недюжинными знаниями и положением в обществе, который уже не раз выказывал свою безоговорочную к нему симпатию, теперь стал, наравне с Исааком, Ортегой и Субаидой, одним из немногих его друзей в этом погибающем городе. Поэтому молодой человек со свойственной ему сдержанностью поведал ему о своих намерениях, не вдаваясь в детали и умолчав о мечтах Субаиды и о том, что, еще сидя в аудиториях Салерно, загорелся желанием набраться знаний ученого мусульманского двора Исбилии. Церцер выслушал все, не перебивая, словно слух ему услаждала прекрасная мелодия. На его морщинистом лице возникло лукавое и язвительное выражение.
— Что вы знаете об этом, мастер? — удивившись его реакции, спросил Яго.
— Яго, друг мой, вы же присутствовали на нескольких собраниях талмудистов, ученых мужей «Студиума» из Сан-Мигеля, которые пытаются по звездам раскрывать секреты мироздания. Разве не заметили вы, как они вздыхали о секретах, потерянных вместе с библиотекой султана Славного, поэта с благородным сердцем? Неужели вы ничего не поняли? Вынужден сказать вам, что вы меня удивляете.
— По правде говоря, мне нечего ответить. Я хотел лишь продвинуться в общем-то безнадежных поисках.
Обращенный иудей покачал головой и глянул на него из-под густых бровей:
— Поиски Дар ас-Суры ведутся в этом городе со стародавних времен. Знаете ли вы, что во времена правления аль-Му-тамида иудейская община Исбилии, которую он называл Аль-хабедия, переживала свой максимальный подъем, процветая с его благословления и под его защитой? Аль-Мутамид ибн Аббад не был религиозным человеком sensu strictu [137], он был отступником от исламской веры [138], что подвигало самые богатые дворы Востока окружать себя учеными людьми без различия их веры, а это, в свою очередь, навлекло на него ненависть мавританских имамов. Но самым благородным делом в отношении израильского народа было то, что он приютил у себя евреев, бежавших из Гранады после резни, устроенной султаном Вадисом. Вот почему на этих берегах осели такие выдающиеся ученые, как великий раввин Альбалия, каббалист Мошия и астроном Бен Лузаф, — они восстановили в Севилье древнюю иудейскую академию Ханока и Хасдая. Так что, как видите, для нашего брата не внове эти поиски, в которые ваша милость была тайным образом вовлечена.
— Я просто поражен, хотя и польщен одновременно, — вставил Яго.
— Я вам даже больше скажу об этом затерявшемся кладезе, — сказал Церцер, понизив голос. — Альморавиды и их фанатичные имамы не простили султану его либерального отношения к евреям и варварски уничтожили созданный им неповторимый оазис терпимости и учености. Однако перед отправкой в изгнание ему удалось скрыть часть своей огромной библиотеки, а на палубе галеры, увозившей его в жаркие пустыни Атласа, в цепях, опозоренный, он произнес суровое проклятие в адрес фанатичных богословов. Многие ученые считали, что не все его книги были сожжены перед мечетью Эль-Сальвадор. А после завоевания города королем Фернандо, когда были вскрыты некоторые помещения в Сан-Клементе, воображение каббалистов разыгралось. И я могу вас уверить, мой друг и коллега, что в Севилье не было такого ученого, который бы не пытался истово пройтись по этому следу. Именно по указанной причине я и увязался за вами. Обитель — она вроде медовых сот для медведя.
— То есть вам это все не внове и я вовсе не нашел какие-то конкретные следы?
С сомнением в голосе и не без скептицизма советник ответил:
— А вы в это серьезно верите, сеньор Фортун? Давайте будем осторожны, потому что вытащить даже один том из этого места отнюдь не представляется легкой задачей. Однако у меня все-таки есть сомнения на этот счет, что меня и беспокоит. Вы не могли броситься в одиночку на эти поиски. Кто-то ведь дал вам эти сведения, кто-то воодушевил на это дело? Извините за нескромный вопрос.
Яго отрицательно покачал головой, помня обещание молчать:
— Мой язык связан клятвенным словом, магистр. Могу вам сказать лишь, что решение о поисках было принято лицами учеными и богобоязненными, их имена я не могу назвать, они хотят найти известную священную книгу, Коран, исключительный и сокровенный экземпляр которого был схоронен где-то поблизости и, вполне вероятно, навсегда утерян.
— Значит, вы ищете Коран аль-Мутамида? Рассказывают, что это уникальный памятник каллиграфического искусства и что его иллюстрации не имеют аналогов в исламской культуре. Но тогда нам следует действовать спокойно и осмотрительно, — произнес его собеседник. — Потому что тут легко превратиться в проводников тайных учений Платона или Диос-корида, а также в пособников арабов и иудеев, а то и в посмешище для тех, кто не прочь поддержать наши искания для того, чтобы нас же стереть в порошок, хотя бы мы и не пошли дальше предположений. Так что давайте объединим наши усилия, друг мой Яго.
Дружеское предложение поколебало уверенность молодого человека, но он решился спросить:
— Как вы думаете, что означает эта странная рука, которую видел слуга, это разве не неопровержимое свидетельство?
Тут Церцер неожиданно отстранил бокал с вином. Его живые глазки зажглись и заискрились, он не смог сдержаться и разразился словами:
— Это, конечно, рука, или исламская Хамса, и это меня не удивляет. Речь идет о символе защиты, принятом преимущественно арабскими учеными и алхимиками. — Тон его стал загадочным. — Его называют «рука Фатимы» и применяют в качестве амулета в священных местах, чтобы оградить таким образом имущество или духовные сокровища. В этом у меня нет ни малейшего сомнения, Яго. Но ведь столько лет светлейшие умы искали и не могли найти клад Дар ас-Суры, и вот теперь какая-то детская уловка или простая удача — и мы, возможно, на верном пути.
Яго с нескрываемым удивлением наблюдал за оживившимся советником. Он заставил себя улыбнуться и вперил взгляд в лучезарные голубые глаза Церцера, который улыбался уже дружески и успокоительно.
— Видимо, Всевышнему было угодно, советник, и так было записано в книге наших судеб, что мы станем неким орудием в Его руках в поисках таинственной книги, — согласился молодой человек. — Что ж, рискнем, бросим вызов темноте.
— Завидую вашей решительности, сеньор Яго, но все это только догадки, предположения.
— Но они станут нашей тайной задачей, и я рад вашему участию.
— Итак, вы понимаете, что дело рискованное, — сказал Церцер. — Донья Мария теперь самая могущественная персона в королевстве, более, чем дон Педро, и она не позволит нам так просто проявлять излишнее любопытство перед ее монаршим носом. Кроме того, эта ясновидица Гиомар занимается своими делишками за спиной королевской особы, так что она знает больше, чем это выказывает.
Яго, подумав об их дружбе и взаимной тяге к знаниям, сказал:
— То, что случай свел нас на этой дороге, будет нашим общим секретом и самым увлекательным предприятием, которое мы только могли представить. Вперед, к неизвестности!
Советник с несказанным интересом и безмерной радостью признался:
— Разумеется, Яго, меня это увлекает. Чувствую, что это приключение увенчает пустоту моего неприкаянного существования и стряхнет с меня летаргию и апатию.
Это искреннее признание советника положило конец колебаниям Яго. Его доверие к этому иудею, вообще, судя по всему, мало во что верящему, со временем все больше росло.
Волна удушливого зноя ударила им в лица, когда они вышли на улицу, обсуждая планы и взвешивая риск. Мог он теперь сказать себе, что приступил к выполнению обещания, данного Субаиде? Перед глазами невольно всплыла картинка из индийского трактата о любви, а еще книга, найденная им в подвале, и странный номер на ней. «Тринадцать. Необычное название, необычный номер. Что за этим стоит?»
* * *
Он серьезно задумался, без особого энтузиазма, но с пылкой надеждой, что с помощью советника, известного знатока Востока, мог бы установить происхождение той или иной найденной книги; размечтался о том, как бы обрадовалась назарийка счастливой и случайной находке, и это привело его в состояние умиротворения. Однако когда он, расставшись с Церцером, уже подходил к усадьбе Ортегильи, то увидел, что его нетерпеливо поджидает хмурый слуга адмирала Тенорио в ливрее с гербом поверх камзола. Сердце дрогнуло, и он испуганно замер. Верховой передал ему короткое сообщение, отказавшись сказать что-либо еще:
— Мой сеньор Фортун, принцесса Субаида просит вас приехать в загородный дом, и как можно быстрее.
Тревожная мысль пронзила Яго, будто разящая вспышка, настоящая паника сбила с толку, он одеревенел. Не говоря ни слова, он прошел в спальню, обработал себя асептическим окуривателем, надел камзол, штаны и сапоги для верховой езды, взял сумку с инструментами и снадобьями. Взнуздал своего бургундского коня, и они, проскочив мост в Триане, углубились в фиговые сады и плантации Альхарафе, где высился загородный дом семьи Тенорио. В воздухе висел горький запах маслобоен, а в душе его зрели недобрые предчувствия. Почему такая срочность, отчего посыльный избегает его вопросов? Беспощадная чумная болезнь ворвалась в дом адмирала и слуга боится заранее его огорчить?
Тревога поднималась в его душе. Потерять самых дорогих существ в разгар этой страшной эпидемии было бы для него сокрушительным и непереносимым ударом. Он не оглядывался на город, который задыхался позади от собственного зловония; его взгляд привлек серый дым, выделявшийся на вечернем лиловом небосводе. Пришпорив коня, он перешел на быстрый галоп.
Коран Избранного
Когда Яго въехал во двор загородного дома, тревогу его как рукой сняло.
Субаиду он застал посвежевшей, сияющей, ее прелести подчеркивала зихара, расшитая жемчужными нитями, как будто ее бегство под кроны Альхарафе способствовало еще большему расцвету ее красоты. Не помня себя от счастья, они уединились в садах, чуждые всему миру, забыв о чуме. Так прошло неизвестно сколько времени. Кругом стояли серебряные оливы, и могущество ночи неумолимо отсчитывало последние часы их свидания.
— Яго, возлюбленный мой, я покидаю Севилью, — погрустнев, наконец призналась она. — Мои молитвы Мудрейшему и Всемогущественному были услышаны.
— Как, уже? — вскинулся он.
— Сюда прибыл влиятельный визирь Абу Шафар. У стен Севильи он разбил посольский лагерь, чтобы выразить соболезнование дону Педро и поздравить его с коронацией. Он привез дорогие подарки, а также письмо, подписанное султаном Гранады, с предложением нашего возвращения согласно договорам.
Месяцы их счастья враз превращались в грезы о прошлом.
— Значит, моя белокрылая голубка с нежными перышками и золотым клювом вскоре улетит к своему гнездышку. Рано или поздно это должно было случиться, и хотя сердце мое источает горечь, оно одновременно радуется твоему освобождению. Закончилась твоя трагическая история.
— Но как же ее сердце не хочет лететь в одиночестве в родную голубятню.
— Ну что ж, здесь мы вдали от посторонних ушей. У меня вообще-то есть хорошие новости.
Охраняемые верным Хакимом, они созерцали с холмов город, окутанный туманом и омываемый рекой, сады, покачивание рыбацких лодок, очертаниях косых парусов, коней, бродящих по предместью, флаги, трепещущие на крепостных стенах. Он рассказал ей о случайной находке Дар ас-Суры.
— Ты нашел «руку Фатимы»? Это она и есть! Ни малейшего сомнения. Этот знак отводит злые силы и порчу от вещей, имеющих особую ценность для мусульманина. Утверждают даже, что он имеет чудодейственную силу.
Яго в красках описал всю их с Церцером прогулку по помещениям обители ордена цистерцианцев, то, как они попали в залу инфанты, а также последовавший затем разговор с советником.
— Что ты можешь сказать о книге, отмеченной арабским числом тринадцать? Оно что-нибудь значит? Что-то из истории, религии или поэзии?
Субаида, озадаченная вопросом, ответила, взвешивая каждое слово:
— Скажу без ложной скромности, я прочла сотни книг, но никогда в мои руки не попадался исламский трактат под таким названием. Возможно, речь идет о тринадцатом экземпляре какого-то сборника поэм или исламских обрядов. Литература такого рода изобиловала в нашей культуре. Благодарение Аллаху, хоть какие-то книги уцелели!
После пережитых страхов Яго упивался общением со своей подругой, конечно рассказав ей о кончине Фарфана и о том, что ему много приходится заниматься больными чумой. Слезы показались в ее глазах, когда она обнимала Яго с нежностью, омраченной их неминуемым расставанием. Наконец-то уходили в прошлое годы ее тяжкой ссылки, горечи, почетного одиночества в роскоши и — под конец — любви этого лекаря с горящими глазами, который завладел ее сердцем.
Яго нежно взял ее руки и глядел ей в глаза с бесконечным доверием.
— Я хотел бы забыть, что пережил после смерти Фарфана, — сказал он. — Когда ты узнала о своем освобождении? Душа моя, и без того израненная, болит перед расставанием.
— На днях, и боль твоя мне близка. Хотя здесь я чужая, на чужой земле, пленница, ведь я молилась об освобождении по пять раз на день. Как страстно я ждала этого момента с тех пор, как оказалась в Севилье! А теперь из-за тебя мне хочется остаться навеки в своей темнице. Не странно ли это?
Их взгляды не избегали друг друга из-за испытываемой боли, но проникались взаимной нежностью.
— А что король Педро, он согласился, не требуя ничего взамен?
Мгновенная, но сильная вспышка негодования отразилась на лице Субаиды, но она сдержала себя:
— Его вынудили к тому компромиссные условия, предложенные моим двоюродным братом Юсуфом. Дело в том, что, помимо страсти к невинным девушкам, он жаждет извести своих братьев-бастардов дона Энрике и дона Фадрике, ему теперь не до Гранады, поэтому он и пошел на обновление договоров, отпуская нас на свободу. Мне кажется, что этому решению способствовала королева Мария, которая расчищает дорогу молодому королю к браку с французской принцессой Бланкой де Бурбон, ее прочат ему в супруги. Эта ведьма португальская теперь фактически правит Кастилией на пару со своим любовником, всесильным герцогом Альбукерке. Мысль об одиннадцати незаконнорожденных сыновьях почившего супруга день и ночь сводит ее с ума. Спрашивается, во что превратилась неукротимая спесь вашего принца? Ни во что — он теперь как молодой олень с золотыми рогами, избалованный и ветреный, не смеющий сделать лишнего движения.
— Меня до сих пор бесит его самонадеянность во время праздника маленького епископа, — вставил Яго.
— Яго, дону Педро давно не терпелось взять в руки бразды правления, но это невозможно, пока он не избавился от опеки сварливой матери. Ему даже можно посочувствовать, потому что его взрастили как плод семейных распрей. Он вырос жестоким и одержимым, с таким характером недолго удариться в кровавые и дикие конфликты. Логика его действий для меня непостижима, но, пока он пляшет под дудку своих покровителей, — матери Марии Португальской и герцога, Кастилии мира не видать.
— В такой неспокойной обстановке вряд ли ему удастся проводить толком внешнюю политику примирения, ему придется ждать лучших времен. Кастилия стала ненадежным местом для жизни. Тем не менее, Субаида, имей в виду, что в народе он популярен, его уважают мавры из Адарвехо, а также севиль-ский Совет двадцати четырех.
Принцесса иронически подхватила, напомнив:
— А еще шулеры с площади Альфальфа, блудницы Ареналя и служанки Дворика марионеток, который превратился в его личный дом терпимости. Яго, дорогой! Он спит и видит, как бы отомстить всем своим обидчикам за суровое сиротство при живом отце, за одиночество в монастыре; он с колыбели, с молоком кормилицы впитал интригу, ворожбу и ненависть. Чего еще можно ожидать от помраченного ума, хотя толпа видит в нем эдакого красавчика?
— Любовь моя, могу заверить, что отомстить за жестокость можно, лишь совершив еще большую. Королевство в смятении, чума еще свирепствует, а эта скрытая грызня между «ряжеными» и кланом Трастамары наполняет страну новыми жертвами.
Гранадка наградила его улыбкой и предложила:
— Самый подходящий момент, чтобы покинуть Севилью и перебраться в Гранаду. Едем со мной, Яго. Понимаю, ты не очень расположен к моему миру, но только там у нашей любви будет будущее. Исламский мир — это огромная территория для народов и мировоззрений, и там найдется уголок для нас обоих. В моем же городе политика является искусством невозможного, а уж Фатима нас не бросит на произвол судьбы.
Подобная перспектива наполнила Яго чувствами благодарности и счастья, но ответил он отказом:
— Не могу, это было бы бегством, у меня обязательства по отношению к моим больным, но, клянусь, когда чума так или иначе сойдет на нет, мы снова будем вместе. Покинуть город сейчас — значит струсить. Если чума меня пощадит, то после Рождества Ортегилья устроит нам встречу. Это недолго, храни пока в себе огонь нашего чувства, положимся на Бога. Ты будешь ждать?
Субаида подумала, что зашла слишком далеко со своим поспешным предложением, посмотрела на него невинными глазами и, покраснев, искренне призналась:
— Целую вечность, если потребуется. Я не поменяю нашу любовь на пустяки. Буду ждать тебя, и хотя из-за наших верований нас не одобрят те, кого мы любим, я приготовила пропуск на твой приезд, вера не будет препятствием. Тебе не понадобится участие Ортегильи, потому что моя бабушка Фатима достала для тебя особую охранную грамоту, аман, чтобы ты мог свободно передвигаться по султанату. Его признает каждый мусульманин, потому что он состоит из цитат священнейшего Корана. Это мой подарок тебе на прощание, Яго.
Яго вскрикнул от неожиданности и посмотрел на нее с нежностью.
— Ну, ты обо всем позаботилась, — смущенно заметил он.
Субаида выгнула тонкие брови, глаза цвета морской волны проникновенно лучились. Шутливым жестом она покопалась в складках зихары и извлекла свиток с красными печатями назарийского султаната, подтверждавшими его бесспорную значимость. Откинув вуаль с лица, она прочла нараспев четкие строки, которые срывались с ее губ будто лепестки роз:
— Слушай, Яго: «От имени Аллаха Всемогущего и Милосердного. Его властью объявляется Яго Фортун под покровительством ислама и моей собственной крови с титулом мус-тамин, хранимым святым аманом. Пусть Невидимый омоет его глаза. Аллах велик. Юсуф бен Исмаил, первый среди верных. Год 750. Мамласкат Гарната [139]».
Яго никак не ожидал подобного участия семьи назарийки. С таким документом можно было свободно, без всяких ухищрений, отправиться в путь вместе с Субаидой, но перспектива жить в совершенно, как ему представлялось, чужом окружении настораживала. В этом документе он увидел только лестное для него желание любимой быть вместе с ним, и сердцем он был признателен ей. После смерти Фарфана уже ничего не связывало его с прошлым. Он обнял девушку, но она нежно отстранилась, продолжая серьезно убеждать его:
— Тебя примет умма Гранады как друга, а не как изгнанника или иноверца, ты будешь под покровительством султана, моего двоюродного брата. Такой порядок позволит тебе жить, путешествовать, свободно читать твои Библию и Евангелие, молиться твоему пророку Исе Бен Мариаму, то есть Христу, которого ислам признает избранным, как и его мать — Марию. У тебя будет статус привилегированного гостя, ты сможешь посещать центры суфизма, академии, больницы, которыми заведуют мастера Кадирийи, этого достойного ордена ученых-мистиков, посвятивших себя медицине. Гранада удовлетворит все твои запросы. Она высится словно оазис, благословленный Всеведущим, где цветут самые прекрасные сады исламского мира и где мы станем безмерно счастливы.
— Хотя нас и разделяет вера? — горько усмехнулся Яго. — Не забывай: вековая враждебность между нашими мирами слишком сильна. Вся наша любовь — это сладкое безумие.
Она не хотела его задеть, но не могла не сказать ему того, к чему побуждала совесть:
— К несчастью, шариат, или законы Корана, запрещает нам выходить замуж и не дает права выбора сайиде султанской крови, вроде меня. Это вызовет множество нареканий, а моя семья никогда не допустит противоправного и святотатственного брака. Простого доноса нашему кади будет достаточно, чтобы сокрушить мою репутацию, обвинить в клятвопреступлении и тут же побить камнями. Здесь вся надежда будет на Фатиму, она поможет найти достойный выход, — добавила девушка в утешение.
Очарованный раскрывшейся перед ним идиллической картиной, он быстро спустился с облаков на землю:
— Бога буду молить, чтобы судьба просветила нас, как должно, Субаида.
Легкий бриз прошелся по деревьям; молодой человек обнял девушку за плечи и сказал утешительно:
— Субаида, зима — не век, я не задержусь с приездом.
— Моя душа пережила столько несчастий, что потерять тебя — все равно что умереть. Быть может, мои чувства повлияли на мой разум. Но мне все ясно. Однако забудем об этом, у нас совсем немного времени до отъезда.
— И все-таки я очень боюсь за твою безопасность. Чума, хоть и начинает спадать, остается невидимой и опасной, да еще эти убийцы гранадские где-то бродят. Я не успокоюсь, пока ты не окажешься под защитой людей твоей крови.
— Через три дня специальный эскорт довезет меня до Антекеры, где будет ждать мой брат Ибрахим с вооруженным отрядом. Тебе нечего беспокоиться. Потом с каждой новой луной я буду передавать тебе письма через Ортегу. А насчет тайных убийц, то так и знай: они выполнят свое задание, хоть один из близнецов-инфантов да погибнет — а скорее всего, оба. И мое предсказание сбудется.
Небо опустило подкрашенный снизу алым занавес из лоскутных лиловых облаков, апельсины на деревьях стали похожими на красные маленькие созвездия. Оба думали о том, что расставание будет для них непереносимым, их глаза смотрели в сторону востока, на тихую гладь Гвадалквивира, где змеилась лунная дорожка. Он обнимал Субаиду за плечи, она думала о своей запретной любви. Потом, вздохнув, с тоской призналась:
— Я вернусь в Гранаду, так и не исполнив своей священной фары — обета, который я дала, что вырву из рук неверных священную книгу аль-Мутамида; как же я боюсь, что эти богомолки в белых одеждах уничтожат ее без жалости.
— Нетерпимость и ограниченность — опасное сочетание, особенно когда это касается книг и науки, — сказал Яго.
— Но, ты знаешь, я почему-то была очень рада, когда ты мне сказал о знаках на найденных тобой книгах. Нет сомнения, это тома из Дар ас-Суры. А Бер Церцер считается знающим астрономом, он пользуется авторитетом не только в этих королевствах, но и у нас в Гранаде. Будь уверен, он найдет способ вытащить оттуда эти сокровища знаний, и мы наконец получим благословенный Коран.
— И все-таки зачем тебе непременно нужен именно этот? Разве все книги Корана не содержат одни и те же положения? В чем все-таки его особенность?
Она пристально посмотрела на него — иноверца, которого безоглядно любила.
— Как-то я говорила тебе, что часть моей семьи приняла божественное учение о гармоничной жизни. Мы считаем, что Всевышний в своей бесконечной доброте незадолго до конца света направит к людям аль-Мадхи, то есть Избранного, святого человека, сострадательного проповедника, который приведет всех людей к одной вере.
— Вроде мессии-спасителя? — заинтересовался Яго.
— Именно. Так вот, Коран, который принадлежал аль-Мутамиду, известному пифагорейцу, понаторевшему в алхимии, к тому же мученику ислама, заключает на своих страницах некую криптограмму из тайных символов, возможно, цифровых ключей, вписанных им самим в суру аль-Фуркан, то есть «Различение» [140], отчего эта сура, истолкованная в каббалистическом ключе, откроет время прихода Избранного, так же как и дня Последнего суда. Больше того я не могу сказать тебе, чтобы не впадать в грех против моей веры.
— А что заставляет тебя думать, что он находится в здешних подземельях, да и вообще в Севилье?
— Да мы в этом не сомневаемся, все указывает на это. Послушай. — Она вновь демонстрировала свою ученость, будто очаровательная «магистра». — Этот уникальный Коран исчез при таинственных обстоятельствах, бесследно, хотя его легко узнать по потрясающим иллюстрациям, вообще-то запрещаемым нашей верой. Как рассказывают, он был расписан женщинами-копировщицами Баб Макараны, самыми искусными каллиграфами династии Аббадов аль-Андалуса. Речь идет об уникальном рукописном памятнике мусульманской науки. Я не претендую ни на что из той библиотеки, однако этот китаб, или книга, представляет незаменимую сокровищницу знаний для тех из нас, кто призывает ко всеобщему братству. В наши смутные времена нам так пригодилась бы эта мудрейшая доктрина.
В ночной тишине они задержались у источника, попили холодной воды. Субаида, наслаждаясь покоем, растянулась на траве, чтобы усладить слух кастильца:
— Послушай элегию, которую сочинил Бен Лаббана в сокрушенном состоянии духа как раз на берегах этой реки, когда его друга султана аль-Мутамида отправили на гребной лодке в изгнание. Сегодня это мне особенно близко: «Все забудется, только не этот рассвет на Гвадалквивире. После разлуки и отплытия корабля сникли мои паруса, сердце надорвалось в суете прощаний, будто потерянный караван, которого ищет погонщик верблюдов»… Сколько разбитых сердец останется на бесчувственной галере нашей разлуки, Яго, возлюбленный мой!
Жар охватил все тело молодого человека, удары сердца становились все чаще и сильнее, отзываясь на чувственность назарийки, которая потянулась навстречу своему пылкому любовнику. Яго развязал и снял ее зихару из турецкого тюля, заодно сооружая из одежды ложе. Вокруг царила колдовская атмосфера, наполненная ароматом жасмина, слышались ленивые шумы ночного города. Казалось, они парили в каком-то нереальном зачарованном мире, созданном специально для них божествами любви.
Прекрасные и печальные глаза Субаиды глядели в его глаза, когда она подставляла его ласкам налившиеся благоухающие груди, ароматные бедра и нектар нежного, как бархат, низа живота. Яго целовал ее оливковую кожу, нежно ласкал пальцами ее темную ложбинку, они отдавались своим чувствам свободно, позабыв об опасностях и заботах — оба испытывали только страсть, только безграничное влечение.
Он покрывал жаркими поцелуями полностью отдавшееся ему жаркое тело девушки, невыразимо прекрасное, звавшее его к вершинам наслаждения. Перламутровый отблеск лег на ее алебастровые бедра, которые он сжимал не спеша, осторожно, пройдя порог самого острого чувства до мгновения, когда уже не мог различить, был сном или реальностью этот несказанный момент.
Он окунулся в ее лоно, облизывая ее соки, словно это были медовые соты, затем они пылко соединились, прижавшись друг к другу трепещущими телами, их руки сплелись в ненасытной ласке, их губы, искавшие наслаждения, слились в поцелуе, пока прерывистое дыхание назарийки и его судорожный взрыв не нарушили молчания этой ночи, теплой и исполненной счастья.
Потом они лежали без сил и говорили о нереальном будущем, оба полные решимости преодолеть все преграды. Они знали, что им придется пройти пустыню непонимания, что, возможно, судьба принудит их искать спасения в недоступных пещерах, но у обоих хватало на это решимости.
Даже если религия будет им препятствием, разве сила их любви не сможет его преодолеть? Вместе с тем мусульманка понимала, что ее грешная любовь может прогневить родственников. Кроме того, ее беспокоило, что ее двоюродный брат, султан, все еще испытывал какую-то неприязнь по отношению к ней и ее брату, что тоже нельзя было сбрасывать со счетов.
Она увлекла Яго купаться в пруд; вода, обласканная луной, источала прохладу. Тростник под ветром волновал воду, по ней пробегали искрящиеся серебряные барашки, вверху царил безмятежный ночной покой.
— Давай освежимся, пока злые джинны спят.
Они окунулись в аромат водяных лилий, затерянных в шелестящем тростнике, с упоением поплескались в зеленоватом зеркале водоема и снова легли, прижавшись плечами друг к другу. Яго, переполненный переживаниями, пробормотал:
— Субаида, давай стряхнем прошлое — и будь что будет, впереди новая жизнь. Я родился не помню где, часть моей жизни прошла в дороге, а теперь я хочу быть только с тобой, любовь моя.
— Я чувствую себя самой праведной женщиной мира, твоей рабыней. Но случается, в разлуке сердца любимых забывают о своих обещаниях.
— Яго Фортун не может оказаться бесчестным перед самим собой, — заверил он. — Ты и я неразделимы. Наша верность и любовь преодолеют все. У нас столько общего, что огонь нашей страсти никогда не погаснет.
Эта мысль о безусловном единении снова бросила их в сладкие любовные объятия. Речной бриз разносил вокруг восхитительный абрикосовый запах, подлунные трели сверчков пронизывали тишину. Яго слушал жаркое дыхание возлюбленной и покрывал поцелуями ее спутанные волосы. Его переполняла страсть к этой девушке, источавшей благородный аромат мускуса. Она погружала его в сладкие грезы. Она, выросшая на колдовских книгах, могла предсказать скрытую судьбу людей.
Она не была похожа ни на одну из христианских девушек, которых он знал. Ее гибкий стан, вызывавший любовный восторг, волшебная линия бедер, ускользающая улыбка, атласная шея — все это доводило его до неистового восторга. Окутанный благоуханием цветов, он почувствовал сонную тяжесть в веках, но не мог заснуть, думая о неминуемом и невыносимом расставании. Это была прощальная ночь, и он хотел наслаждаться каждым ее мигом.
Быстро пролетели часы, за криком петухов последовала прохлада рассвета, погасившего ночное светило. Пришел новый день и новое время. Они еще не знали, как долго оно будет длиться и что, кроме неизвестности, принесет оно им.
Foetor judaicus [141]
В конце лета, жарким воскресным вечером — подушка взмокла от пота — Яго вспомнил друзей, которых унесла «черная смерть», и пустота в его душе обернулась горчайшей пропастью. Отъезд Субаиды его угнетал.
— Боже мой, что я здесь делаю? — застонал он. Он изнывал от тоски, многие из тех, с кем он был дружен, в панике покинули город — кто из-за чумы, кто из-за политических преследований. В Кастилии было неспокойно. Прошлое не оставляло его, суровое настоящее душило, только Ортегилья Переметный или Исаак могли скрасить его одиночество, выбалтывая на скамьях таверны «Дель Соль» разные слухи и пустяки, о которых говорилось в городе.
Вечером Церцер пригласил его на ужин в «Ла Корону», чтобы поделиться новостями по их общему секретному делу. В тот день весь город только и говорил о поражении кастильского флота в битве с англичанами у берегов Уинчелси [142], а еще о необъяснимом убийстве главного альгвасила города «ряжеными», руководимыми герцогом Альбукерке, любовником-португальцем доньи Марии, этим ненавистным вершителем кастильских судеб. Повсюду расползался страх, умножая страдания народа, которые давно уже перешли все возможные пределы.
— Эти королевства не заслуживают правителей подобного рода, — в сердцах заметил Яго.
— Королева-мать и ее сын руководствуются не справедливостью закона, а местью. Каждый день они попирают законы, своей безудержной ненавистью омрачают и без того нелегкое существование людей. Каждую ночь находят не менее трех-четырех убитых сторонников бастардов, многие идальго не решаются покидать свои дома. Худые времена, друг мой, — жаловался Церцер.
Яго, имея в виду разговоры, ходившие в городе, поинтересовался:
— А откуда эти анекдоты, которые передаются из уст в уста о короле — кутиле, любовнике и задире, что ищет приключений и гоняется за каждой юбкой на улицах Севильи?
Обращенный иудей оглянулся по сторонам, потому что везде можно было ожидать шпионов королевы, и сказал, будто извиняясь за монарха:
— Все эти нелепости происходят из-за его молодости и горячности. Его видели в капюшоне с целой шайкой богатых сынков при свете луны. Они пьянствовали в тавернах «Ла Горгона» и «Семь поворотов», объединившись с отъявленными мошенниками и шлюхами.
Яго улыбнулся, но потом, вспомнив еще один ходивший по городу слух, добавил:
— Говорят, это его работа: смерть дона Тельмо де Гусмана в одной из стычек на улице Кандилехо, а еще нападение на монастырь, где обитает красавица Мария Коронель. Это все правда, сеньор советник? Сдается мне, что это недостойно королевского высочества.
Церцер, откровенно выказывая свое недовольство, ответил шепотом:
— Это так же верно, как то, что он находится под влиянием мавра Банахатима, чернокнижника из Адарвехо, и то, что они в его лачуге гадают на картах и вызывают демонов.
— А что известно о том монахе-францисканце, который победил его в ночной стычке, шпага едва не пронзила сердце? Этим утром больные только и говорили, что о нем и о том, какая суматоха поднялась среди альгвасилов, — спросил Яго.
— Говорят, что это наваррский дворянин, который ходит инкогнито в сутане ордена миноритов, он дал обет скрывать свое имя якобы из-за какого-то греха, который один только Бог может ему простить. Никогда еще Севилья так не развлекалась похождениями короля, эти анекдоты нравятся и простым людям, и всяким канальям. Но есть новости более важные, которые народу неизвестны, Яго, но скоро они заставят пылать Кастилию.
— И что это за новости, советник? — встревожился молодой человек.
— Ходят поразительные слухи о донье Элеоноре. Жизнь этой шлюхи висит на волоске. Эта любовница дона Альфонсо находится в застенке башни Кармона, она уже приговорена и ждет казни. Гнев Португалки не знает границ, несмотря на протесты ее сына дона Педро. Поэтому один из братьев, дон Энрике, тревожась за мать, побывал в Севилье, а потом в кожаной маске сумел скрыться из-под носа стражников в Астурию, в горы Норенья. С ним ушли многие недовольные дворяне, которые теперь готовы поднять мятеж против капризного суверена и его гневливой матери. Грядет междоусобная война, Яго, и это будет пострашнее чумы!
— Боже упаси! А что дон Фадрике, великий магистр ордена Сантьяго? Сдается мне, что смертный приговор, вынесенный ему гранадскими убийцами, никогда не будет исполнен.
— Поговаривают во дворце, что там задохнулись от злобы, когда в качестве великого магистра он принес поздравления королю, своему единокровному брату, зная, что в любой день может стать жертвой заговора. Два раза он уже чудом спасался от покушений при полном бездействии дона Педро: однажды вечером он играл в шахматы, и в спинку его кресла воткнулась стрела; другой раз он проходил по дворам Эль-Караколя в Алькасаре, и на него бросился какой-то мошенник, попытался ударить клинком и тут же исчез за деревьями в садах будто привидение. Благодаря своим командорам [143] он остается жив, но, боюсь, ненадолго.
Яго зябко поежился от стольких неприятных известий и высказал свое мнение:
— Уж не знаю, каким темным знаком — христианским или языческим, небесным или адским — отмечена судьба этих братьев. Боюсь, их неизбежный конец будет достоин греческой трагедии.
Внезапно, когда он произносил эту фразу и разламывал краюху хлеба, вечерний свет приобрл свинцовый оттенок, и со стороны реки пошли грозовые облака. Солнце спряталось за черным пологом, и чудовищный раскат грома сотряс небеса. Казалось, они разверзлись. Тут же стеной хлынула вода, шумный ливень понесся по улицам, по крышам и стенам домов, водный вал — сначала чистый, потом с грязью — подхватил все, что встречал на пути. Канавы переполнились, и все городские отходы потекли к реке, уровень которой стал выше на несколько ладоней. Тем не менее, на взгляд Яго и Церцера, молча взиравших на чудное явление природы, эта летняя гроза была очистительной.
Из города сразу улетучились дурные запахи, и воздух словно засиял чистотой. Запахло мокрой землей, а над рыбачьей Трианой в безоблачном небе стоял величественный красный шар. Это походило на действительно доброе предзнаменование: дома заливало сиянием, выветривая из них тени, запахи, чумное дыхание.
— Вот лучшее лекарство от заразы. Этот дождь послан самим провидением, Яго.
— Слава Богу, — подхватил тот. — Природа чуму принесла, она же ее и смыла.
Золотые лучи сияли, пронизывая атмосферу, оживляя ее и рассеивая застоявшиеся миазмы, которые содержали в себе чумную напасть. Ужасному бедствию приходил конец.
* * *
Неожиданно Андреа остановила колесо прялки и, забеспокоившись, подняла голову.
Колокола города били набат, и Яго, одеваясь и застегиваясь на ходу, поспешно покинул дом. Навстречу с улицы вошел разгоряченный Ортегилья и принес весть, что дон Педро в порядке благодарности небу за отступление чумы, за то, что наконец смерть прекратила выкашивать подданных королевства, решил принести в дар свою собственную статую из чистого серебра храму Чудотворной Девы Марии.
Благодарный народ последовал примеру своего суверена, щедро жертвуя храмам и монастырям, а по домам парами двинулись монахи — сборщики милостыни от нищенствующих орденов. Священники посещали своих прихожан прямо в домах и загородных фермах, настырно понуждая возблагодарить Господа за счастливое избавление от напасти обильными воздаяниями. И не было такого жителя, каким бы голодным он сам ни был, кто не опустил бы хоть что-то в кружку для пожертвований.
Тем не менее не преминули прорасти семена ненависти по отношению к евреям — кто-то явно сеял их, чтобы собрать свой гибельный урожай. По городу распространяли слух, от которого у многих, в том числе и у Яго, стыла кровь. То ли кто-то из должников пустил его, то ли кто-то из простаков, твердивших, что евреи распяли Христа, то ли какому-нибудь монастырскому оценщику не хватало подношений от иудеев-виноградарей Гуадайры, зеленщиков Вибраселы или Альхарафы. Но люди, обезумевшие от потери близких и очерствевшие во время чумного ужаса, приняли за чистую монету клевету, которая распространилась с невероятной скоростью.
Грозящий перст указывал на евреев, и без того находившихся под подозрением, как на виновников «черной смерти». Говорили, что своими псалмами и кознями в синагогах они отравили ключевые источники в Лос-Алькорес, что набросали яду в акведук Кармоны; что их раввины называются так потому, что у них есть rabillo [144], который они скрывают в штанах между колен, — и прочие нелепицы. Толпе наконец-то указали козла отпущения, в котором она нуждалась. Таким образом, зажженный кем-то костер клеветы быстро разнесся по всему городу, дотоле проявлявшему терпение. Все без исключения стали проверять свою генеалогию и чистоту крови. Был забыт запрет на избиение иудея.
Яго почувствовал, что новое бедствие надвигается на этот несчастный город, которому только и не хватало новых крушений и тягостей.
— Foetor judaicus — вот виновник «черной смерти»! — звучало повсюду.
— Вороны, хитрецы с горбатыми носами! — голосил вонючий попрошайка. — Они прячут в своих синагогах золотых идолов, которым молятся!
— Палачи Христовы! — орали кликуши. — Они отравили источники!
Яго очень боялся за своих коллег-иудеев, на которых больные старики-христиане уже смотрели косо, сомневаясь в действенности прописываемых ими снадобий. От Исаака он узнал, что в тот же день уважаемый Яков Бен Асер, гаон, или наси, — предводитель иудеев Севильи, с которым он неоднократно сидел за одним столом, срочно созвал совещание в синагоге на улице Левиес и там, во дворе подле столетнего колодца, они разработали план спасения. Была удвоена стража и количество ночных фонарей у трех входов в еврейский квартал и у задних ворот Атамбора, которые должны были теперь открываться в час терции [145] и закрываться с заходом солнца. Планировалось также осторожно следить за слухами, а детям рекомендовалось избегать споров с крещеными, потому что любая стычка могла оказаться на руку взбудораженным горлопанам и фанатично настроенным монахам-подстрекателям.
— Братья, мы переживаем худое время, — говорил Бен Асер. — Из Франции приходят такие вести: дети, старики и женщины горят заживо в гигантских кострах. В Арагоне вырезают целые еврейские кварталы. Многие враждебно настроенные христиане призывают разрушить Израиль, и мне очевидно, что наш государь дон Педро получил некое письмо, подписанное собранием прелатов и церковных чинов, «Fortalitium Fidei» [146], в котором они настаивают потребовать от Папы учреждения инквизиции в Кастилии. Эта очередная хула, которая нас сейчас так обеспокоила, покажется мелочью по сравнению с тем великим испытанием, которое может послать Бог своему народу в виде этого дьявольского трибунала, который обрушится на нас с бесчеловечной жестокостью, дотоле невиданной. Помолимся вместе Всевышнему и будем стойкими и смиренными.
Закат солнца выдался почти зимним, окрасив желтыми тонами небо, а реку красными сполохами, и Яго, проходя по Ареналю, чувствовал страх перед свирепой стихией нетерпимости.
Озабоченный, он шел по городу наугад, подумав, впрочем, что надо было бы навестить советника Церцера, который передал ему записку, из которой следовало, что есть какие-то хорошие новости насчет их секретных планов покопаться в Дар ас-Суре. Однако, оказавшись в лабиринте Эль-Сальвадора, он вдруг обнаружил, что здесь пусто, и вспомнил, что в это время все отправились на помпезную церемонию: король вручал свою посеребренную статую монастырю Санто-Доминго.
Любопытство возобладало, и он развернулся. Но путь ему преградило шествие верующих, одетых в рубища, головы их были посыпаны пеплом. Это была процессия страждущих, которые желали очиститься от грехов путем самоистязания. Яго пошел за ними и, когда они оказались на маленькой площади в Алатаресе, замедлил шаг, услышав заунывные жалобные крики. Сердце сжимало тревожное предчувствие. Вскоре его взору открылась картина, от которой он поневоле воскликнул:
— Боже, кого на этот раз ведут? — И глаза его расширились от ужаса.
Перед ним, будто фантастическое видение, медленно двигалась целая волна крестов, церковных знамен и кающихся грешников, окутанная кадильным дымом. На какое-то мгновение ему показалось, что земля поплыла под ногами и что адские персонажи во всей своей красе — демоны Люцифера, крылатые чудовища, волколюди и прочие химеры — вышли на улицы Севильи, сбежав из преисподней. Во главе этой поистине апокалиптической процессии флагеллантов шла сестра Гиомар и несколько взбудораженных монахов. Они продвигались неторопливо, несли золотые урны с мощами святых, статуи скорбящей Девы Марии и святого Себастьяна, защитника чумных, пронзенного окровавленными стрелами. До слуха Яго доносились нестройные песнопения, слышались удары хлыстов, что оставляло гнетущее впечатление, а кающиеся, уже все в крови от дикого самобичевания, все шли и шли. Ужас исказил лицо врача, наблюдавшего диковинное шествие.
Словно стая вагантов, они распевали кантики [147], осуждавшие сомнительные удовольствия жизни, таща тяжелые вериги, в то время как другие бичевали себя хлыстами из бычьих жил с шипами и рвали на себе волосы. Их босые ноги кровоточили, а сами они при этом истово требовали пришествия святой инквизиции и милости разгневанного из-за их грехов Создателя. Некоторые в исполнение своих обетов, данных во имя спасения от черного недуга, с трудом тащили на себе большие кресты. Все это фантасмагорическое уродство было непостижимо для молодого медика. Он созерцал людей потрясенный, невольно вспоминая виденные им ранее шествия полоумных флагеллантов в Провансе и Каталонии.
— Dies irae, dies irae! [148] — взывали они. — Грядет царствие зверя и умрут блаженные!
Шествие походило на пролог к Страшному суду, где все присутствующие были приговорены к вечным мукам. С леденящими душу стонами, словно их осудили за святотатство, они воздевали руки, устремив взоры в небо, как будто мистическое наказание позволяло им узреть ангельские видения. Какой-то францисканец, вышагивая с горящими глазами, стращал случайных зрителей бредовыми речами, навевая на них мистический ужас, — некоторые опускались на колени. Дети были напуганы, женщины плакали, удрученные идальго молили небеса о прощении.
— Чревоугодие, сластолюбие и лжеобращенные прогневили Бога! Кайтесь!
За сотней самобичующихся следовало скопище оборванных слепцов и калек. В ужасных окровавленных лохмотьях, со своими медными тарелочками, связанные толстой веревкой, они демонстрировали окружающим кровоточащие десны и коросту грязи как знаки своей библейской нищеты, помогая своим тошнотворным присутствием окончательно размягчить сердца даже самых равнодушных. Они голосили:
— Слава царству Агнца, славится Rex Mundi [149], поводырь обездоленных! Повинитесь, братья!
Какой-то проповедник-доминиканец, пылая лицом и взором, подбадривал кающихся грешников, покрытых свежими рубцами и ранами и падающих на землю рядом со зрителями, которые с готовностью бросались помогать.
— Отрекитесь от Люцифера, отрекитесь от мира и его соблазнов! Dies irae! — слышались голоса.
Посреди ларцов с мощами танцевал с какими-то жуткими ужимками уличный акробат, который походил на самого ангела-погубителя. Полуголый, с желтой маской смерти на лице, это был, видимо, комедиант из тех, что выступали у соборов, или его просто наняли, чтобы представлять эту жестокую пантомиму. Он кривлялся, потрясая огромным серпом, которым он тыкал направо и налево, распевая куплеты, от которых замирали сердца дам и кавалеров:
Ты не надейся, не будет покоя — сколько тебе ни гулять, — станешь как я, будешь вместе со мною тоже в кругу танцевать.— Судный день близок, «черная смерть» — это только прелюдия. Антихрист готовит вам еще более страшные испытания! — надрывно вещал какой-то священник. — Sic transit gloria mundi. Vanitas vanitatum! [150]
В такт молитвам и причитаниям звучали удары плеток и удары крестов о мостовую, усиливая сострадание толпы до такой степени, что многие присоединялись к процессии — помимо всего прочего еще и для того, чтобы поглазеть на глубокочтимую Гиомар, которая шла медленно, сложив на кресте руки с церковной чашей, словно фея Моргана похищенным у короля Артура Граалем [151]. Полы ее белого балахона с огненного цвета накидкой развевались, на голове был терновый венок. С величественным видом — рот приоткрыт и искажен гримасой скорби, которую она скорее изображала, чем переживала на самом деле, — она, казалось, парила над беспорядочной толпой, выкрикивая:
— «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на часть рек и источники вод. Имя сей звезде „полынь“; и третья часть вод сделалась полынью и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» [152]. Отвратил ты лик от своей блаженной паствы, Боже всемилостивый!
Яго подумал, что эта апокалиптическая ссылка на горечь источников неслучайна, она — часть какой-то хитроумной комбинации. И молящиеся словно ждали этих слов: тут же послышались гневные выпады против евреев, их обзывали отравителями, вероотступниками и нечестивыми убийцами.
— Придет день, откроются могилы наших святых, они вернутся из Божьего града и потребуют от нас крови этих алчных ростовщиков! — вопил доминиканец.
— Dies irae! — кричали обезумевшие участники процессии. — Пусть благословенная кровь Спасителя освободит нас от этих чудовищ Апокалипсиса!
— Это племя угнетателей, союзники сатаны, они повинны в наших несчастьях! — орали в толпе. — Наказать их, проливших кровь Христа и навлекших на нас чуму!
— Сеньор дон Педро, учреди в своих королевствах святую инквизицию! — взывал монах.
Яго, уже задумавшийся о потустороннем мире, машинально глядел на беснующихся грешников, с еще большей яростью хлеставших по своим окровавленным спинам. Разум отказывался воспринимать все коварство этих мракобесов, которые день за днем заражали богомольцев бессмысленной ненавистью к иудеям, с которыми те мирно уживались многие века. Тем не менее он подумал, что сами мараны, должно быть, уже предупреждены, потому что вокруг не было видно ни одной желтой шапочки, ни одного иудея. Это его несколько успокоило.
— Троны, владычества и силы ангельские, оградите нас от зла и проводите нас в царство славы, в Иерусалим небесный! — взывала толпа.
Солнце, похожее на кусок оплавленной серы, стояло над домами, освещая процессию призраков, ведомую, казалось, самим Люцифером. Обвинения, проклятия и их зловещие отзвуки растворились в пустынных переулках в безумном ропоте и растущей темени.
Они похожи на бесплотные создания, которых специально доводят до исступления, чтобы затем с их помощью исправить некую ошибку матери-природы. Уверен, прольется семитская кровь. Кто остановит этот марш сумасшедших? — говорил себе Яго, придя в тоскливое состояние от всего этого зрелища.
Небесный свод был свободен от звезд, которые как будто не желали становиться свидетелями этой роковой ночи, не будучи в состоянии остановить надвигавшиеся кровопролитие и ужас.
Четвертая печать
Надышавшись дыма и до тошноты наслушавшись призывов к пыткам и изгнанию дьявола, Яго спешным шагом направился в сторону еврейского квартала, чувствуя внутри неприятную дрожь.
— Пропади моя душа, если сегодня не прольется иудейская кровь, — с тревогой повторял он по дороге.
Его путь пересекся с клириками Санто-Доминго, которые размахивали буллами Авиньона и уговаривали прихожан у харчевен оставить карты и кости и присоединиться к кающейся процессии. Портовых грузчиков они подбивали надавать шлюхам по задницам и донести, кто из знакомых — маран, даже если у того хотя бы четверть еврейской крови. Потом он натолкнулся на лжемонаха, торговавшего кусками старого пергамента и свидетельствами о чистоте крови. Тот деловито преградил ему путь, предлагая свой товар, где были и ладанки с мощами, все за гроши. Яго, не глядя, оттолкнул его от себя.
— Глупец! — обозвал его коробейник. — Здесь бродит дьявол, а эти вещи, если повесить на себя, защищают от его дыхания! Козел!
Он ускорил шаг, как будто его уже преследовали агенты инквизиции, но тут же остановился, потому что сверху, из квартала Пласентинес, донесся топот и ужасные крики. Затем стали видны всполохи факелов и фонарей, что освещали побеленные известью стены, на которых плясали тени. Их мерцание приближалось, будто светящееся чудовище, и воздух наполнился горькой смолистой вонью. Он так и застыл на углу, за который уже хотел повернуть. Свирепая толпа, потрясая дубинками, крючьями и вилами, катилась с криками, озираясь по сторонам в поисках какого-нибудь марана, чтобы забить его или повесить. Ею верховодил кривоногий горбун со сросшимися бровями, его голову покрывал нелепый бугор бурого капюшона. Его гротескная и зловещая фигура внушала трепет.
— Режьте глотки маранам, виновникам чумы! — взывал он. — Ищите их!
Как ненасытная саранча, фанатики роились перед стенами домов, шарили в винных погребах, в пустых лавчонках, вынюхивая везде этот неуловимый и такой ненавистый смрад иудейский. В суете и криках жаждавшая расправы толпа растекалась по переулкам, чтобы потом снова слиться — вобрав в себя новых добровольцев, еще более крикливых, которые присоединялись к поискам и погоне за каким-нибудь заблудшим евреем, чтобы растерзать его. Яго пошел дальше, углубившись в темные переулки, однако тут же попал в какой-то длинный и узкий проход и снова оказался перед той же оравой, охваченной безмерной яростью. Он в панике уставился на них и на ломаную фигуру карлика Бракамонте с дубинкой из дрока, который призывал к штурму синагоги.
— Язычники, еретики! — кричал он. — Их Бог приговорил!
Разгоряченная ватага, теснясь, ринулась за своим лидером, и Яго недолго думая последовал за ними, загипнотизированный светом факелов. Они бежали, как голодные волки, так что лекарю пришлось остановиться у одного из фасадов, чтобы перевести дух, нагнал он их уже перед самой синагогой, которая высилась, белоснежная и тихая, подпирая зубчатыми башнями подернутое оранжевой дымкой небо, наглухо закрытая, что было неудивительно.
Он поднял голову и увидел, что в тот же самый момент процессия кающихся грешников заканчивала свои искупительные обряды на ступенях кафедрального собора, уже без сил поджидая благословений какого-нибудь чина и окружая величественную мать Гиомар со впалыми щеками, глядевшую на них голубыми глазами с поволокой. Яго стала бить дрожь, потому что трагедия могла разыграться в любую минуту. Его взгляд шарил по толпе, жаждущей крови и расправ, потом за ней — и остановился на больнице, где горело несколько светильников. Неожиданно двери ее раскрылись, и оттуда, привлеченные суматохой, показались служители и врачи. Некоторые из них, на свое несчастье, были в столь ненавистных толпе желтых шапочках.
В один миг Яго почуял беду, а затем сразу же ощутил ужас и беспомощность. Он приподнялся над теснившейся и размахивавшей палками ордой и, побледнев, углядел в толпе подручных своего лучшего друга Исаака де Тудела, врача, с которым разделил столько забот и бдений над больными. Тот стоял худой, с волосами, выбивавшимися из-под шафранового берета, — в неясном свете было заметно, что он смущен и растерян. Яго закричал, но голос затерялся среди воплей готового к нападению сброда. Ватага, жаждавшая крови, наконец-то узрела своих жертв.
— Месть! Смерть тем, кто отравил воду, кто распял Христа!
Яго пробивался через толпу, толкаясь локтями, но широкоплечие изверги не давали ему пройти. Большинство кровожадно рвалось туда же, чтобы не потерять ни единой подробности зрелища, потому что тут же, по указке горбуна-португальца, несколько молодцев с дубинами ринулись к вышедшим из лечебницы, которые не успели отреагировать на нападение. Двоим евреям удалось-таки ускользнуть, но Исаака, его помощника и одного старого хирурга сбили с ног, беспорядочно нанося удары, плюясь и пиная.
Тем временем другие погромщики роились у главного, парадного входа в синагогу, наваливая охапки соломы, паклю и всякий хлам с набережной. Все это уже горело, пурпурный огонь живо взметнулся кверху, повалил дым, что заставило свору испуганно попятиться. По всей площади потянулся удушливый дым, сопровождаемый гамом, вскриками, похабщиной.
Яго в оцепенении смотрел туда, где расправлялись над его коллегами, душа обливалась кровью от бессилия. Горбатый урод поднял дубинку, орда затихла. Действие трагедии разворачивалось, и его хриплый голос раздался между почтенных стен собора, Алькасара, епархии и капитула словно надтреснутый удар грома.
— Повесить их! — таков был страшный приказ, утонувший в восторженных выкриках.
Дикий призыв уродца парализовал Яго, разум его помутился, казалось забитый дубинами. Он озирался, тщетно пытаясь увидеть какого-нибудь альгвасила или просто знакомого, но кругом были лишь искаженные ненавистью лица. Он только и смог, что убито лепетать:
— Что вы за звери! Боже милостивый, что вам сделали эти люди, чтобы над ними так издеваться? Да вы чудовища!
Призыв убогого лидера немедленно бросились выполнять несколько добровольных палачей омерзительной внешности, которые забегали вокруг трех жертв, мотавших головами и моливших о пощаде, крича, что они имеют привилегии монастырской больницы, где работают.
— Мы под защитой братства! — взывали они. — Оставьте нас! Имейте милость!
Еще что-то смогли произнести их пересохшие от страха губы помимо слов о своей невинности и о том, что Всевышний накажет нападающих за их злодейское преступление. Но несчастных силой связали, не прекращая избивать палками. Помощника Исаака один из нападавших ударил с такой силой, что проломил ему череп, и тот умер на месте. Кровь лилась ручьем, а ноги его судорожно продолжали притоптывать, пока он не упал недвижно на землю под хохот толпы. Потом его насадили на крюк и подняли на копье, для всеобщего обозрения, что было воспринято толпой с восторженными криками.
Яго продолжал рваться туда, но это давалось ему с огромным трудом. Но он, к своему ужасу, видел, как какой-то торгаш ударил Исаака по лицу, тот закрылся руками, из-под них хлынула струя крови. Доктор заметался, пытаясь спастись от своих мучителей, которые теперь всю ярость обрушили на него. Его судьба была решена. Кто-то резанул его по сухожилиям под коленями, после чего его, уже лежащего, зверски били ногами, пока он не испустил дух, мучительно стеная в последних конвульсиях. Яго, обезумев, не мог поверить в реальность злодейства.
— Нет! — кричал он. — Исаак! Исаак!..
Третья жертва, старый хирург, в ужасе озиравшийся вокруг, теперь опустил голову, чтобы как-то защититься под градом ударов. Кто-то придумал охаживать его калеными железками, прижигая лицо и руки. Прижав старика к стене, его стали травить, будто жертву, попавшуюся на пути своры диких псов; в бешенстве ему пропороли живот, откуда вывалились кишки и потекла тягучая жидкость. Все это сопровождалось шуточками палачей и одобрительными возгласами толпы:
— Эй, зубодер-отравитель, давай зашей себе брюхо! Ты что, не лекарь?
Сотня глоток разразилась грязными выкриками, пока их глава не подал сигнал. Недвижные и растерзанные тела жертв подтащили и повязали им на шею веревки. Кто-то набросил крюки на одно из окон синагоги, и на них подвесили, под общий жуткий рев, безжизненные тела несчастных. Они остались висеть на крючьях, их тела качались, освещаемые пламенем пожара, будто зловещие привидения. Убийцы продолжали выкрикивать ругань и издеваться над тремя еще не остывшими трупами, в которых с трудом можно было узнать больничных лекарей.
«И все это только за то, что они другой веры», — подумал Яго, в оцепенении глядя на искромсанные качающиеся тела, выставленные на потеху варварского сброда, кидавшего в них камнями, конским навозом и всяким мусором.
— Сучьи выродки, — проговорил он сквозь зубы в бессильной ярости.
Весь шабаш смахивал на преддверие ада. Он спрашивал себя, происходит ли все это в действительности, и не находил ответа. Хотя одно несомненно: его друг Исаак и двое других несчастных покачивались на стене синагоги, и над ними продолжала издеваться толпа. Бог не мог оставаться глухим к такому злодейству.
— Справедливость свершилась! — воскликнул Бракамонте.
Самые бойкие злодеи, отпетые портовые подонки, от которых несло плохим вином, кольями оттащили горящий мусор от дверей синагоги, чтобы выбить двери. Однако железная решетка и толстые бронзовые скрепы не поддавались. Нападавшие рычали от ярости, потому что многие уже — кто больше, кто меньше — исходили слюной, предвкушая грабеж иудейского обиталища. Многие уже представляли себя обладателями золотых канделябров, драгоценных камней, кошельков, полных монет, ковров и алмазов.
Медленным шагом Яго, пылая от гнева, прошел к ступеням кафедрального собора, где величественно стояла мать Гиомар в окружении клириков и флагеллантов в изодранных плетками одеждах — все удовлетворенно и благостно наблюдали за расправой над маранами, виновниками злодейств, навлекших гнев Господень. Врач встал прямо перед ясновидицей, которая в отблесках факелов больше походила на великую блудницу Апокалипсиса, созерцавшую плод своих зловещих деяний. Лекарь не мог сдержать гневных слов:
— Вы запугиваете этих невежд ради ваших недостойных целей, лживая женщина, но рано или поздно вам за эту подлость придется заплатить! — отчеканил он ей в лицо.
Донья Гиомар тут же спустилась с небес на землю и ответила, как изрыгнула:
— Вы не ведаете, что говорите, приспешник чернокнижников. Они платят за ту ненависть, которую сами же и источают! Такова воля Божья! Прочь!
— Я обвиняю вас перед судом святого Михаила, что это вы вашими лживыми пророчествами науськали толпу пролить невинную кровь. Где ваше христианское милосердие? — бросил он ей, багровея от ярости и не обращая внимания на вставших по бокам доминиканца и минорита.
— Вы упорствуете в грехе и за это заплатите жизнью, господин зубодер! — Она смотрела на него с презрением. — Или вы полагаете, что о ваших делишках никто не знает? О том, как вы якшаетесь с предателями, обращенными и иноверцами? Гоните его пинками отсюда!
— Придет день, и я сорву с вас маску, — произнес лекарь в ярости. — Богом клянусь!
И тут случилось нечто, заставившее его окончательно потерять самообладание. Провидица, лицо которой, почти прозрачное, было покрыто жемчужинами пота, вперила в него испепеляющий взор. Она смотрела уже сквозь него, когда бросила странную фразу на латинском, которая, несмотря на шум толпы, будто стрела, пронзила его мозг:
— Ad necem ibis! [153]
Не веря ушам своим, онемев от возмущения, он не нашел что ответить и глядел на донью Гиомар с каменным выражением лица. Однако в мозгу крутилось это «ad necem ibis», которому он не мог поверить. Что скрывалось за этой непонятной угрозой? Ad necem ibis. Умереть — почему? Она выдает желаемое за непременное или угроза реальна? Может быть, эта женщина чувствует, что он замешан в дело о бастардах короля Альфонса? А может быть, она прознала о поисках библиотеки и жаждет убрать соперника?
Ошеломленный, он перебирал одну догадку за другой. Богомолка с угрожающей гримасой плюнула ему под ноги и повернулась спиной. Молодой человек не успел обдумать случившееся, как двери Алькасара раскрылись настежь и оттуда появилась грозная королевская гвардия, будто ждала именно этого момента для придания законной силы чудовищной расправе. Офицер в шлеме и кольчуге, верхом на лошади, вытащил шпагу и взмахнул ею, будто святой Георгий своим разящим мечом, что вызвало панику на кафедральной площади. Он пришпорил коня и без всякого разбирательства приказал разогнать толпу. Убийцы в страхе дернулись в сторону соборных стен, ища защиты у капелланов и обожаемой донны, но после нескольких маневров место было расчищено от трусливого отребья, при этом несколько человек были задавлены солдатскими лошадьми, храпевшими и пугавшимися искр, которые ветер разносил по мостовой.
Командир отряда скакал с поднятой шпагой в толпе буянов. Когда он оказался перед входом в собор, донья Гиомар властным и льстивым жестом привлекла его внимание и, указав на Яго, заявила:
— Капитан, этот — один из зачинщиков. Он должен быть наказан!
Яго в отчаянии не знал, как поступить. Конь офицера встал на дыбы, всхрапнул, и седок, вскинув шпагу, ударил врача плашмя в шею. Тот даже не успел отшатнуться, только услышал жуткий посвист, где-то вдалеке хохотнула богомолка, перед глазами мелькнули конские копыта. Тут он почувствовал острую боль в руке и рухнул на камни, уже чуждый всему окружающему. Погрузившись в какой-то темный и путаный колодец, он завис в пустоте. Боль заслонила все.
— Расходитесь! — крикнул офицер. — Идите по домам! Это приказ!
Площадь опустела. Зачинщики побоища бежали. Беспорядки на этом закончились. Над площадью повисло зловещее молчание, будто на поле боя. Фанатики, еще охваченные инстинктом разрушения, быстро растворились в боковых улочках, и открытое место превратилось в небесный Армагеддон, где воинство Агнца одержало верх над ордами Антихриста.
Кровавая охота за евреями закончилась вполне предсказуемо. Господь отвернул свое лицо, скрыв его в какой-то части небосвода, где царили только свет и разум.
Но, подобно разбитой стеклянной чаше, мир в когда-то приветливом ко всякому жителю и гостю городе рассыпался на тысячи осколков.
* * *
Когда колокол отзвонил вечерню, со двора капитула выехал возничий на колымаге с высокими бортами, несколько служащих альгвасила подобрали раненных в стычке, среди них был и Яго, и побросали на телегу. Телега повезла всех, жалобно стенающих, по дороге к лагуне Птичьих стай, где возница с той же степенью сострадания освободил телегу от содержимого, а затем исчез в ближайших кварталах. Те, у кого хватало сил передвигаться, с трудом выползали из вонючей мусорной ямы. Яго также стал собираться с силами, чтобы выбраться из нестерпимой вони и грязи нечистот.
Голова кружилась, ночь не предвещала ничего хорошего, его ждала лишь смерть, если он останется здесь. Холод и слепой подсознательный страх перед крысами заставили его как-то прийти в себя. Рывками, с дикой болью в плече, он отполз в сторону, чтобы крысы, гнездившиеся между камней, не приняли его раненое тело за аппетитного покойника. Испытывая тошноту, он пополз в сторону ручья с темной водой, полной мертвых грызунов, ища свет в ближайших домах, надеясь на помощь их обитателей.
Тут его отвлекла какая-то возня и писк; в слабом отсвете белых стен он стал свидетелем странной грызни в колонии хвостатых тварей. Часть из них, с серыми шкурами, по-видимому, прибывшая недавно на каком-нибудь датском корабле, атаковала многочисленную группу черных крыс; при этом голодные пришлые особи, разя острыми резцами, одерживали верх над местными, пополняя свалку бессчетными трупиками с длинными и облезлыми хвостами.
Яго окончательно пришел в себя. Он всегда был склонен поразмышлять над природными явлениями и редкими феноменами; и на этот раз он не мог не подумать о том, что прекращение чумной заразы совпало с бурей в конце августа, однако при этом имела место высокая смертность черных крыс, которые исчезали с мусорных свалок, изгоняемые из своих природных убежищ другим видом крыс с серыми шкурками.
Ночь раскинула свой черный плащ, скрывая в его смутных складках созвездия, которые отказались созерцать случившийся кошмар. Яго Фортун, уже на ногах, словно потерпевший крушение одинокий моряк, шатаясь, двинулся по длинному косогору в сторону ближайших домов. Тошнило, дышалось с трудом. Он падал, снова приподнимался над травой, его обуревал животный страх быть принятым за грабителя. Невозможно было сдержать судорожный кашель, он прижал голову к груди, при этом по лицу потекла кровь, а боль была непереносимой.
В этот момент к мусорной топи неторопливо приблизилась цепочка неизвестных. Он остановился и заполз в кусты ежевики, затаив дыхание и глядя на фонари, мерцавшие вдали. Они то сходились, то расходились, отступали и продвигались дальше, что было подозрительно. Тем не менее он сохранял хладнокровие.
Если его найдут здесь — кто бы то ни был: шайка воров или гвардейцы Совета, — он погиб. В отчаянной тиши послышался резкий лай одинокого пса, далекие шаги, какие-то непонятные голоса, и вдруг он вздрогнул от крика за его спиной. Глаза, к его ужасу, ослепил сноп света, человека за ним не было видно. Только чья-то длинная рука за нервно дергающимся светильником у его окровавленного лица и чей-то взволнованный голос.
«Это конец, Господи», — мелькнула мысль.
— Он здесь, нашел! — послышалось в ночной тишине.
Силы окончательно покинули Яго, мозг в этой исполненной беды ночи отказался принимать новую порцию отчаяния. Он страстно захотел одного: чтобы наступил новый день. Но пока оставалось только в ужасе смотреть на бьющий в лицо свет фонаря. Его танец в море тьмы не оставлял ему надежды на спасение.
Он молил небеса о каком-нибудь темном закоулке, где никто бы его не тронул и можно было бы спокойно умереть. Затем он соскользнул в пропасть беспамятства.
Повозка с мертвецами
Ясный и нежный свет коснулся его век, они медленно раскрылись.
Яго лежал голый; его левая рука была тщательно и умело перевязана. Он пощупал плечо и почувствовал тугую повязку, пахнущую лекарством; на столике стыла миска с бульоном. Голова не болела, но кружилась, да и лихорадки не было. Щетина была такая, будто он несколько дней не брился.
Он приподнялся и разглядел — взглядом неуверенным и мучительным, — что, слава Богу, находится в одном из отделений своей больницы.
— Как я сюда попал? — пробормотал он в полузабытьи. — Что со мной было?
— Ну, просто тебе еще рано умирать, — послышался голос Церцера, который и был его врачом.
Вид старого советника несказанно успокоил и обрадовал больного. Яго переспросил его о причинах своего плачевного положения, и, когда тот напомнил ему про расправу, которая произошла, как оказалось, четверо суток тому назад, память восстановила все кровавые события до малейшей детали. Обращенный иудей рассказал, что о его исчезновении сообщил Ортегилья, после чего они организовали поиски в топях Птичьих стай, откуда его перевезли в больницу, где он и провалялся все эти дни в бреду и жару. У него было повреждено плечо, сильно поврежден затылок, так что его пришлось усиленно лечить.
— Королевская гвардия действовала запоздало и несуразно; они сами были как свирепые демоны, — сказал Яго. — Какое несчастье!
Советник, сам удрученный убийствами и жестокостью, сказал:
— То, что произошло, имело серьезные последствия. Трибунал, который был учрежден благословенной памяти королем Альфонсом, по настоянию разгневанного руководства больницы, прежде всего дона Николаса, а также великого раввина синагоги, приказал провести расследование, так что некоторые из самых жестоких участников убийства все-таки дорого заплатили.
Церцер обстоятельно рассказал о том, как троих участников избиения — сутенера из Алькалы, гасконского торговца с темным прошлым и еще одного кузнеца, о котором поговаривали, что у него самого семитская кровь, — арестовали на следующий же день, выставили к позорному столбу у Сан-Франсиско для публичного осуждения, а на рассвете повесили на зубчатой стене ворот Голес под рокот толпы, недовольной решением короля.
— Это хотя бы на время приостановит нападения на несчастных евреев, — горестно рассудил Яго и спросил: — А тело Исаака, что с ним сталось?
Церцер, который тоже был другом погибшего врача, помрачнел и с трудом выговорил:
— Вскоре после того, как очистили площадь от разгоряченной толпы, раввины сняли тела со стены синагоги и со всеми церемониями похоронили на своем кладбище. После траура, молитвы «Шма Исраэль» [154], дни и ночи там слышен плач. Такая ужасная и нелепая смерть.
Губы больного задрожали от гнева, и он простонал:
— Пусть сатана выжжет им нутро, этим тварям бездушным и тем, кто их науськивал.
— Да, происшествие ужасающее, — сказал Церцер. — Это случается с христианами — в них просыпается языческий дух, какая-то потребность в ненависти, которую они вымещают на еретиках и евреях.
Раненый в волнении забормотал:
— Это было дикое и преднамеренное убийство! Эта лицемерная тварь и ее шут — вот кто должен ответить за злодейство! Но ясное дело, — он застонал и покачал головой, — никто не посмеет обвинить их, пока они под защитой королевы.
— Не обманывайте себя, Яго, друг мой. Конечно, их подлая роль велика, но они не единственные. На этот счет кое-кто имеет свои интересы. Вспомним, к примеру, о еврейской собственности, на которую давно зарится церковь, или непогашенные долги, взятые дворянами или короной. Понимаете?
— Обычная история. Золото будит страсти и хоронит разум.
— А еще горячит кровь у должников, — добавил советник. — В эти дни король поднял налог до сорока мараведи с каждого еврея, и великий раввин, чтобы утихомирить страсти, простил огромный заем, который дон Педро потребовал у Симона Леви на вооружение флота. А флот потерпел сокрушительное поражение близ Уинчелси. Это убийство кое-чему послужило.
Наш бедняга Исаак отдал свою кровь на утоление жажды ненасытного двора. Бог да примет его в лоно Авраама.
— Образцово организованная операция потребовала нескольких невинных жизней. — Гримаса горечи исказила лицо Яго. — Так и вижу его тело в крови, мороз по коже. Тогда, в жару, мне снилось, что я ищу его по всей Севилье, а за мной охотятся типы в капюшонах с заточенными косами.
Тяжкие всхлипы наполнили душный воздух помещения. Затем наступило молчание, к концу которого кастилец взял себя в руки и попросил коллегу закрыть двери и окна. После этого вздохнул и с мрачным видом сказал о своей озабоченности той фразой, которую услышал от сестры Гиомар при немалом скоплении свидетелей. Из памяти выплыла вся угроза целиком, она и сейчас била, будто кузнечным молотом, по голове. Лицо слушавшего его лекаря и астронома, обычно имевшее сдержанное выражение, тревожно изменилось.
— Что с вами, мастер? Может, я не то что-то сказал, что вас так обеспокоило?
— Нет, но… Так какую фразу произнесла монахиня? Повторите.
Он неуверенным голосом повторил ее пророчество:
— Ad necem ibis. Что, по-вашему, это означает?
Его собеседник содрогнулся, сильно помрачнев, и ответил:
— Вы не можете представить, насколько это опасно, мастер Яго. Точно такое же предупреждение, зловещее, как любая клевета, получали некоторые противники королевы Марии — и все следом за этим были умерщвлены при неясных обстоятельствах. Мне тяжело об этом говорить, но над вами нависла смертельная опасность.
Раненого охватило оцепенение. Помолчав, он вздохнул, как бы свыкаясь с этой мыслью. Слишком много бедствий омрачали его душу. Единственное, чего он желал, — заснуть и проснуться подальше отсюда, от стольких смертей, тайных убийств, злобной вражды.
— Мастер Сандоваль, который ценит вас более, чем вы полагаете, сообщил мне, что мать Гиомар плетет против вас заговор. В таких делах она крайне опасна, потому что способна манипулировать королевой, а это то же самое, что управлять самим королем доном Педро. Сожалею, но вам оставаться здесь, в Севилье, невозможно. Вы должны уехать!
У Яго не было настроения разбираться в корне вопроса, но он попробовал:
— Может быть, это связано с нашей проверкой водоема в Сан-Клементе? Помните, я говорил, что наши поиски чреваты проблемами.
— Я ничего не знаю, но послушайте совета. Исчезните на какое-то время, друг мой. Это мое мнение, не игнорируйте его. Забудьте о спасении книг, спасайте свою жизнь. А я предупрежу вас, когда можно будет вернуться. Только дайте мне знать, где вы будете находиться. Время — лучшее лекарство для душевных ран. И когда оно похоронит эти удручающие события, вы сможете вернуться.
Яго понимал, что не сможет долго выдерживать злобные происки монахини, ее змеиную готовность к смертельному удару, что его ждут одиночество и страх. И хотя его обуревали сомнения, он смирился с горькой реальностью.
— Что ж, видно, таков мой злой рок. Вы правы, у меня нет другого выхода.
— Сейчас не время для взаимных сочувствий, но такую судьбу не грех обмануть. Держитесь.
Думая над задачкой, которую задал ему советник, Яго не заметил, как в комнате возник сопящий и потный Ортегилья. Тот вышел в центр комнаты и бросил котомку на пол.
— Матерь скорбящая, как же я молился, чтобы увидеть тебя здоровым!
Яго отметил, что тот был возбужден и беспокойно ходил по комнате с мрачным выражением лица. Но затем Ортегилья запустил руки за лоснящийся пояс и с явной брезгливостью вытащил какую-то бумажку. Виновато взглянул на больного и неуверенно сказал:
— Честное слово, мне жаль огорчать тебя! Но эта записка была вчера повешена на двери твоей приемной, думаю, там может быть что-то важное и тебе надобно знать. Я не понимаю латыни, но нутром почуял, что там нет ничего хорошего. Спросил в таверне «Дель Соль» у писца Руя, он и перевел. Ты не заслуживаешь этого. — Тут глаза его покрылись пеленой слез.
Дрогнувшей рукой он положил перед оцепеневшим Яго листок, на котором было написано несколько слов готическим шрифтом разведенными красными чернилами, необычайно похожими на те, что Яго видел на этикетках, флаконах и банках, хранимых в аптеке. Совпадение? Помрачение? Содержание записки ему уже было известно, оно застряло в памяти. Сохраняя спокойствие и твердость, он прочел:
— Ad necem ibis. Вот упрямцы! — вздохнул он. — Да, дело серьезное.
— Беги отсюда, Яго. Создатель видит: это все, чего я хочу.
— Бросить все и бежать, будто ночной воришка? — посетовал раненый. — Ладно, друзья, действительно не остается ничего более умного, чем исчезнуть, но прежде надо зайти к тебе домой, Ортега, собрать вещи и кое-какие инструменты.
Судья блудниц и советник понимающе переглянулись, оба отрицательно дернули головой. Ортегилья взволнованно заговорил:
— Я тебе не советую. У дверей отирается один гасконец, которого я знаю по границе. Это законченный убийца. Мне пришлось на случай слежки проскользнуть через церковь, а еще порядком поплутать, прежде чем подняться сюда.
— Однако для новой жизни, которую мне придется вести в другом месте, требуется самое необходимое. — Яго пытался избежать неизбежного.
— Себастьян Ортега все предусмотрел. — Судья указал на котомку на полу.
Ортегилья вывалил из торбы содержимое, и на толстом больничном покрывале оказались: медный цилиндр с его титулами, потрепанные дневники, «Канон» Авиценны, сверток с красной печатью назарийского султаната, при виде которого советник не мог скрыть своего восхищения, кошелек, полный мараведи, грамота королевского лекаря, толедский кинжал с широким клинком и всякая медицинская утварь, а также травы, каутеры, вяленое мясо, сыр, сушеный инжир и изюм. Здесь было все для дальней дороги.
При виде этих богатств Яго пришел в веселое и мирное настроение.
— Ты настоящий друг, Себастьян, поэтому тебя так любят. Тебе нет цены. Слушай, а одежда? Я же не могу путешествовать вот так, в чем есть, — засмеялся он. — Кто мне поверит, что когда-то я водил дружбу с вами, с королем Альфонсом, с сеньором архиепископом и держателем королевской казны?
Ортега хохотнул и, к изумлению обоих врачей, начал расстегивать свой мешковатый кафтан. Под ним обнаружились несколько искусно сшитых камзолов, а еще кожаный плащ — в них Яго признал свои вещи. Он не верил своим глазам.
— То-то я гляжу, ты, когда вошел, Ортега, был похож на винный бурдюк, — сказал молодой человек, горячо пожимая ему руку. — Я тебе очень обязан.
Ортегилья Переметный загордился, польщенный такой признательностью, вынул из рукава золоченый шнурок и повесил Яго на шею со словами:
— Моя Андреа хоть и знает, что твоя вера то и дело дает сбои, но пожелала, чтобы ты носил под рубашкой этот еврейский амулет… Ну, ты помнишь, она на четвертиночку еврейка.
Растрогавшись, Яго с чувством сказал:
— Себастьян Ортега, Бер Церцер, Андреа! Я никогда не забуду вашей доброты, так и буду вспоминать вас как своих лучших друзей. Вы очень много для меня значите. А эта вещь с сегодняшнего дня станет моим талисманом.
— Заметь: у всех нас в жилах течет кровь Левия и Гамалиила [155], Яго, — расчувствовался Церцер, который уже разливал из кувшина настойку на травах по трем стаканам.
— Так куда же ты направишь свои стопы? — спросил Ортега. — Есть у тебя куда идти? Родственники, может быть, друзья?
— Пойду в Арагон, там другое королевство, другие законы. Нет места на земле, более подходящего для отдыха и умиротворения, чем монастырь Веруэлы, где я вырос и воспитывался, — ответил он, улыбаясь. — Его настоятель брат Аркадио будет рад меня видеть. Там, в добрых стенах, я и дождусь вестей от вас.
— Ну что ж, выпьем за скорое возвращение Яго Фортуна, за то, чтобы провидение снова привело его в наш город, — предложил Церцер. — Он был когда-то райским, но сегодня стал прямо-таки исчадием ада из-за ненависти и злословия. Время восстановит твое доброе имя, Яго, и мы исполним обещанное.
— Добрые воспоминания и пережитое вместе останутся навек, — сказал Ортега.
— У меня такое чувство, будто судьба дала мне отсрочку, — признался Яго. — Однако как бежать отсюда — ума не приложу. Не вижу, как можно выйти из Севильи.
Он вопросительно глядел на своих друзей и заметил веселый блеск в глазах Ортеги Переметного, который, к их удивлению, замахал руками.
— А судья Ортегилья видит, — хитро заверил он.
Врачи снова недоверчиво и растерянно переглянулись. Сегодня судья поистине был полон тайн. Оба, скептики по натуре, в нетерпении ждали, взглядами предлагая удовлетворить их любопытство.
— Слушайте! — И судья предложил им захватывающий дерзкий план, расписанный на три дня, смелый и удивительный.
Сквозь окна пробивалось солнце, размеренно вершившее свой путь по небосклону, а Яго слушал и хлопал глазами, затаив дыхание.
* * *
Ортега решил, что первый час прилива в устье реки — самый подходящий, потому что он к тому же совпадает с вечерними сумерками, которые весьма подходят для их цели. Розовый диск солнца катился над крышами города, который лениво предчувствовал вечернюю жару. Часовые на вышках перекликались, через час огромные городские ворота должны были закрыться до рассвета.
Медленно приоткрылось одно из окон комнаты, выходившей на угловую галерею больницы Арагонцев, где стояла кровать Яго Фортуна. Оттуда высунулась голова. Кто-то явно хотел убедиться, что в пустынном дворе, куда складывали трупы умерших от чумы, никого нет. Тут же послышалось тихое шушуканье, и из окна показалась тяжелая продолговатая корзина из дрока, к которой были привязаны две веревки — в таких в больницах перевозят шерсть и постельное белье. Четыре руки осторожно и с видимыми усилиями стали спускать ее по известковой стене высотой не менее четырех вар [156]. Слышалось учащенное дыхание и трение веревок по неровностям стены, пока объемистая корзина не опустилась аккуратно на каменные плиты. Человек с рукой на перевязи и сумкой, переброшенной через плечо, осторожно направился к старой повозке, стоявшей в одном из углов двора. Мулы, меланхолично жевавшие сено, равнодушным фырканьем встретили необычного пассажира, который, еле сдерживаясь, чтобы не застонать, залез под козлы между кожаными ремнями и деревянной стенкой, устроившись в неимоверной тесноте.
Ему пришлось ждать некоторое время, задумавшись о той неизвестности, что была впереди. Потом во двор вышли два широкоплечих мориска, одетые в засаленные плащи. Яго слышал их шаги, кряхтение, когда они грузили два чумных трупа, завернутые в саваны из грубого холста. Слышал, как затопали копыта мулов и начался дикий скрип осей телеги, скрежетание петель открываемых задних больничных ворот, удары кнута в недвижном воздухе. Мало-помалу без задержек они отъехали от больницы. Оба возницы, собутыльники Ортегильи, знали о необычном грузе, который везли, — они на этом хорошо заработали, так что повозка двигалась ходко.
Не было прохожего, который бы не посторонился, завидев зловещую и ненавистную телегу.
Два года спустя после прибытия Яго в Севилью ему приходилось бежать отсюда способом самым постыдным, который только можно было представить. И если памятный день, когда он оплакивал Фарфана, показал ему коварную изнанку этого чарующего города, то на этот раз ему открылись еще более отвратительные его черты.
Скрючившись в три погибели, он видел прямо перед лицом вонючие крупы животных, канавы с нечистотами, грязные сапоги кабальерос и солдат, драные полы одежды морисков, вездесущую пыль гончарных мастерских, фиолетовые штаны писцов, босые ноги монахов-кармелитов [157], кожаные лапти носильщиков, несших невидимую поклажу, вот дамская туфля с пряжкой, вот развеваются юбки служанок, слышен совсем рядом цокот лошадиных копыт.
Яго никогда не приходилось созерцать мир, находясь в таком унизительном положении. Когда миновали синагогу, он вспомнил дикую расправу над евреями: «Прощай навсегда, друг мой Исаак. Пребывай в вечном мире со своими предками. Здесь ты столкнулся с несовершенным обществом под властью непредсказуемого божественного провидения, чьи предначертания я не в состоянии постичь. Угораздило тебя родиться в этот скорбный век».
Люди оглядывались на повозку смерти и походя крестились — чума еще ухватывала свою последнюю добычу.
Мулы с усилием забрались на крутую улицу Сан-Бартоломе, двинулись по переулку Сан-Эстебан и наконец достигли ворот Кармоны, последнего и самого рискованного этапа, за которым можно было чувствовать себя в безопасности. Яго молил Бога, чтобы стража не остановила и не обыскала зловещую телегу, не заметила подозрительный груз, скрытый под козлами. Весь расчет как раз в том и состоял, что скорбный транспорт, само воплощение идеи перехода в мир иной, не вызовет ни у кого подобного желания.
В мельтешении множества ног видны были и ноги, покрытые железными щитками, и тупые концы пик стражников, а еще ножны их шпаг, которые грозно покачивались совсем рядом. Он затаил дыхание, и без того полузадохшийся от миазмов вьючных животных и тревожного напряжения. Какой-нибудь стон, сорвавшийся с губ, кашель, выбившийся край плаща — и вся тщательно спланированная Ортегильей операция пойдет насмарку. Его осудят хотя бы за то, что он тайно пытался бежать из города, да еще таким вычурным способом.
Внезапно сержант гвардии властным и грубым окриком приказал им остановиться.
Мориск натянул поводья, и повозка резко остановилась, так что Яго чуть не вывалился на землю. Ортегилья уверял, что никогда и ни под каким видом этот транспорт не останавливали у ворот, проезд для него всегда был открыт. Что же могло задержать их на самом важном посту города? Что-то ищут? Или их предали возницы? Сердце готово было выскочить из груди, дыхание сперло. Он смотрел на приближавшиеся ноги стражника. Они остановились прямо у его лица, ему даже были видны мухи, липнувшие к кожаным лоскутам. Яго плотнее прижал к себе торбу и ждал, что будет дальше. Один из морисков что-то нервно прохрипел, невинно глядя на офицера, который спросил:
— Слушай, ты, мавр чертов! Сколько жизней за сегодня унесла чума?
— Она идет на убыль, сеньор. Сегодня только двое, один христианин и один маран.
— Давай двигай, не задерживайтесь, а то останетесь ночевать по ту сторону.
Чумная телега, миновав наконец самый ответственный этап маршрута, удалилась к кладбищу монастыря Троицы, что находился вне стен города, и Яго вздохнул с облегчением. Шумная толпа и суета города остались позади. Он расслабил напряженные мускулы и обхватил руку, которая горела от боли, будто ее пропороли стилетом.
Вскоре они углубились в Санта-Хусту; согласно договоренности возничие должны были остановить повозку под крытыми галереями у монастырских стен, чтобы какой-нибудь ленивый монах от нечего делать не углядел, как со дна повозки встает оживший мертвец, и не принял его за недоумерше-го чумного больного. Яго выскользнул из своего убежища и, переминаясь, стал растерянно оглядываться. Чумное кладбище походило на уголок ада.
В нос ударил едкий запах негашеной извести и влажного воздуха, принесенного бризом с реки. Почерневшие конечности, отвалившиеся черепа, крысы и вороны копошились в закопченных остатках саванов, пожирая куски уцелевшего мяса.
Здесь не было видно ни души. Яго вздохнул свободно. Ортегилья выбрал идеальное место. Груда обуглившихся останков сама по себе гарантировала отсутствие людей на полмили вокруг. Не оглядываясь, Яго размял конечности и широким шагом пересек апельсиновую рощу, затем гончарную мастерскую, где рядами были выставлены глиняные сосуды, а дальше увидел фелюгу под белеющим парусом, с которой ему махал лодочник. Подойдя к стоянке, бросил свою поклажу моряку, который его поторопил на смеси испанского с итальянским, чтобы сей же момент отчалить:
— Presto ilustre signore [158], прибой через час, и мы должны дойти до Таблады, там вас ждет «Эол», un bastimento господина Минутоло, il mio patrone [159].
Молодой врач не мог не восхититься отличным маневром, организованным Ортегой, опытным арбитром сообщества севильских шлюх. Это Себастьян убедил Церцера использовать возможности больницы с угрозой для своей репутации, он заплатил морискам из собственного кармана, а еще сумел убедить генуэзского мореплавателя рискнуть королевской лицензией судовладельца, чтобы помочь некоему беглецу, — и кто знает, что ему пришлось сделать еще. Осталось только в благодарность за все это мысленно послать ему с этой фелюги привет и признательность за дружбу — туда, в квартал Ареналес, где тот, по-видимому, сейчас попивал вино и творил мудрые разбирательства дел своих подопечных или какого-нибудь униженного мавра с пограничья.
Плаванье по реке началось удачно. Яго дышал полной грудью и растирал шею, которая еще болела. Резвый бег фелюги доставлял удовольствие, он завороженно наблюдал, как воды Гвадалквивира охватило красное свечение от лучей заходящего солнца. В излучине Макарены им повстречались рыбачьи баркасы, оттуда были видны невысокие строения Сан-Клементе. Туда он должен однажды вернуться, чтобы исполнить обещание…
По мере того как они приближались к хаотичным причалам Инхенио, вода прибывала и владельцы многочисленных баркасов втыкали в дно свои шесты, к которым привязывали свои суда до рассвета. Яго с грустью смотрел на набиравшую могущество легендарную Севилью, на арки бойниц, про которые говорили, что они сделаны еще Герионом [160] и Геркулесом, на очертания куполов этого римского Испалиса [161], готские галереи с бойницами, которые Герменгильд возвел, чтобы защититься от гнева короля-объединителя Рекареда [162], сторожевые вышки арабов, возведенные алхимиком Абдурахманом II [163] после осады викингов. Все это великолепие посеребрила луна, воцарившаяся на ночь.
На верфях уже расположились на отдых торговые караваны, тысячи воробьев осадили склады зерна и лавки Ареналя. Воздух наполняли ароматы вин из Райи, Сильвеса и Хереса, солений, специй из Маската и Гвинеи, жареного из харчевен, слышалось пение моряков на незнакомых языках, которое доносилось с византийских, венецианских, генуэзских, английских, александрийских галер, теснившихся у причалов.
За силуэтом Алькасара смутно проступала стена лечебницы Арагонцев, единственного свидетеля его позорного бегства, и он представил себе лица мастера Сандоваля и всей его свиты, когда на следующее утро они обнаружат пустую кровать своего коллеги. Когда до его преследователей дойдет новость о его исчезновении, «Эол» будет уже далеко в море по пути в Бискайский залив. Он имел все основания полагать, что вдали от Севильи ему ничто не угрожает и имя Яго Фортуна через какое-то время исчезнет из памяти его смертельных врагов.
«Лучшее средство от несчастий — забвение», — подумал он. Наконец, ночь набросила на пограничный город свой темный плащ, по обе стороны реки зажглись неровные огни, мерцавшие вдали как светлячки. Память невольно обратилась к дорогим воспоминаниям, лицам тех, кого он, быть может, уже никогда не увидит. Как много чувств и жизненного опыта странствующего врача осталось позади. Вспомнился Фарфан, который упокоился навечно между кипарисов кладбища Магдалины, и доброе лицо Исаака.
Мысли перекинулись к Субаиде, его голубке, которая улетела вместе с легким западным ветром, держа в своем клювике его сердце. Он старался хранить прекрасный образ боготворимого им существа, чтобы потом вспоминать его в одиночестве, и другие лица, дорогие ему, оставшиеся в Севилье: его приятели по таверне «Дель Соль», с ними он встречал праздничные ночи; воинственный архиепископ Санчес; дон Самуэль; добрый Церцер, ученый наставник и прекрасный друг; Андреа и верный Ортегилья, который устроил его бегство, проявив сообразительность и выдумку, и которому он теперь обязан жизнью.
Несмотря на то что постепенно Севилья исчезала вдали словно золотистая дымка, ему не хотелось забывать и о главном, по его мнению, виновнике его поспешного отъезда, да и вообще несчастий, которые ему пришлось пережить в этом городе; из памяти услужливо выплыл бледный лик доньи Гиомар вкупе с гротескными чертами Бракамонте. Держа между ног свою торбу, он успокаивал свою мятущуюся душу уверенностью, что рано или поздно разоблачит преступления этой женщины, представив такие убедительные доказательства, что Трибунал примет единственно возможное справедливое решение.
Хотя душа его теперь пребывала в смятении, но будущее представлялось ему вполне сносным. К тому же разве существует какой-нибудь эликсир против ударов судьбы, помимо смирения?
«Я не имею права забыть и не забуду, — сказал он себе, вглядываясь в неясные очертания удалявшегося города. — Я принимаю ужасную реальность, однако ничто не отнимет у меня надежды когда-нибудь вернуться сюда, чтобы вывести кое-кого на чистую воду и залечить нанесенные раны».
Он почувствовал холодок в груди от сознания того, что слишком многие будут ему препятствовать. Он слишком хорошо понимал, что какая-то неведомая природная сила нещадно и без разбора играет судьбами людей и мало что можно с этим поделать. Его жег стыд за такое не делающее ему чести бегство, но время и расстояние должны залечить эту рану. Он сполна испил чашу сомнений; понимал, что закончен целый этап жизни, а другой неминуемо начинается в эти мгновения. Между тем именно теперь, в самый трудный момент его злоключений, внутренний голос шептал ему: «Яго, месть должна остыть, а ты пока наслаждайся другими яствами. Придет время, и нужное тебе блюдо будет готово, чтобы подать его к столу».
Часть третья Время веры
И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне… И один из старцев сказал мне: не плачь; вот лев от колена Иудина, Корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
Откровение, 5:1—5Ожидание
Яго сидел в одиночестве и думал о Субаиде, глядя на полную луну, светившую над грядой Монкайо. Настроение было хуже некуда. Где-то у скал под монастырской стеной выли волки, и, чтобы развеяться, он стал перебирать воспоминания о прошлом, о далеких годах детства.
Мерцающее пламя светильника способствовало его думам, а монотонные молитвы монахов навевали сон. В Веруэле ничего не изменилось. Все так же брат Нерео с методичной пунктуальностью бил в небольшой колокол, звук которого созывал всех на утреннюю молитву, хотя многие монахи еще не успевали даже заснуть после вечерней. Яго покинул монастырь в пятнадцать лет в сопровождении Фарфана, еще стойко соблюдая посты и строгую дисциплину, а теперь вернулся спустя много лет с пошатнувшейся верой и с греховной симпатией к учениям еретиков-гуманистов из Салерно. Интересно, что бы сказал брат Аркадио, послушав его на исповеди?
Яго читал молитвы, но все они, вместе взятые, не проясняли его мыслей так, как одна эта скудная лампадка, будто всю его прошлую жизнь загасил какой-то злой волшебник. И хотя за стенами арагонского монастыря не свирепствовала «черная смерть», Яго постоянно терзали неразрешимые вопросы о том, что произошло в Севилье. Где-то вдали маячила угрожающая тень доньи Гиомар, и он, удалившийся от мира, ждал и ждал вестей из южной столицы. А душу терзали три невосполнимые потери: разлука с Субаидой, гибель Фарфана и Исаака.
Три недели спустя после прибытия в Вируэлу Яго посетил долину Аньон, куда ездил на муле, которого ему дал брат келарь. Рука все еще была на перевязи, но уже почти не болела. Там, у источника, где располагались каменоломни, находилась деревушка Фарфана, в которой жила теперь семья его младшего брата, невероятно похожего на незабвенного Эрнандо. Брат был священником в местной часовне, они тепло пообщались, Яго рассказал ему о горькой участи своего слуги и учителя, заменившего ему отца. Передал кошель с частью награды от короля дона Альфонса и прожил пару дней с этими простыми людьми, которые так любили Фарфана.
Дни становились короче. Дул холодный ветер, а от небесного свода, подернутого лиловыми облаками, становилось еще холоднее и тревожнее. День ото дня северные ветры усиливались, по ночам слышалось их немилосердное завывание, природа засыпала под плотной снежной мантией.
Наступила зима, Яго слушал гул бурь в горах, изнемогая от ностальгических воспоминаний и понимая, что ожидание возвращения на юг продлится долго, потому и кажется бесконечностью. Однообразное существование скрашивалось только в моменты, когда он занимался лечением монахов от всяких болячек, или сидел в залах обширной монастырской библиотеки, или беседовал с восьмидесятилетним братом Аркадио, с которым играл в «выжималку» — мавританскую игру с тремя цветными фишками, которые гоняли друг за другом по доске, как собака за кошкой. Голые поля, болота и леса буквально убивали. Когда же, когда придет весть от магистра?
* * *
Несмотря на все усилия, Яго не мог преодолеть тоску, то и дело переполнявшую сердце, словно весеннее половодье. Его лицо осунулось и стало угрюмым по прошествии стольких долгих месяцев без новостей из Севильи. Вот уже год, как он заключил себя в стенах Веруэлы, разделив с монахами их заботы: жатву, молотьбу, сбор винограда на монастырских полях и в садах; он помогал им пополнять чаны и корыта травяными сборами, собирал и яблоки — но желанное письмо от Вер Церцера все не приходило. Получается, о нем забыли?
Севилья, Субаида, донья Гиомар и Ортега уже начали сглаживаться, уходить из памяти, когда наступившая Пасха с ее шествиями во славу Богоматери и гуляниями собрала девушек на выданье в ярких юбках, вуалях и чепцах. Голубое небо, юная красота и цветение лугов только усугубили мрак в душе опального лекаря. «Какая же подлая сила могла заставить их забыть обо мне?» — мучился он в своем уединении.
Прошло еще одно лето, утомительное и душное, и снова осень неумолимыми ветрами обрушилась на леса и рощи, которые разродились желтым и пурпурным листопадом. Постепенно этот ковер по утрам стал покрываться белесым инеем, а в душе у Яго расцвела меланхолия — такая, что даже отеческое отношение приора не могло ее хоть как-то унять.
У него было странное ощущение, что он попал внутрь ка-кого-то механизма, из которого уже никогда не вырвется, так и будет до конца в нем крутиться. Когда он думал об этом, его душу накрывала тревожная и смутная волна безысходности.
С вершины Монкайо налетали ледяные порывы ветра, заполняя холодом помещения и кельи. Закутавшись в шерстяную накидку, Яго бродил с братом аптекарем по скалам Аньона, собирая листья и корни, силясь представить при этом, как живется Субаиде. Будь что будет, но после Сретенья, в феврале, он вернется в Андалусию, это твердо решено.
Однако его планы неожиданно поменялись.
В морозный день празднества Святых мощей некий торговец, который возил от них в Тарасону на рынок травы и мази, дернул веревку колокольчика на входе, и резкий звон прорезал безмятежную тишину монастыря ордена цистерцианцев. Брат сторож уже собирался прогнать этого возмутителя спокойствия, пришедшего в неурочный час беспокоить добрых людей своими торговыми делами, но тот помахал письмом, которое должен был вручить мастеру Фортуну или, если его не будет, аббату. На шнурке, свисавшем со свитка, виднелась сургучная печать с королевским знаком лечебницы Арагонцев Севильи.
У Яго забилось сердце, он поспешил в келью, предчувствуя продолжение действия, прелюдию новой тревоги и новой надежды. Церцер сообщает о новых несчастьях или просто сухо рассказывает о ситуации? Быстро войдя к себе, Яго в нетерпении вскрыл печать, развернул свиток и впился глазами в готический шрифт, жадно скользя по строкам:
Дорогой Яго! Привет тебе. Это письмо я рискну переправить в твою обитель Веруэлы, что в Арагоне, воспользовавшись оказией — с одним из торговцев.
Понимаю, как ты обеспокоен, находясь в неведении, но зная о той непрестанной череде интриг и смут, что сотрясают Кастилию, унижая человеческое достоинство. Посему пишу тебе, что для внимательного наблюдателя не могли пройти незамеченными события, которые благоприятствуют твоему скорейшему возвращению в Севилью и нашему вожделенному намерению раскрыть тайну библиотеки аль-Мутамида. Дело в том, что, хотя нет никакой надежды вернуться к золотой поре правления короля Альфонса, произошли кое-какие изменения при дворе и в хитросплетениях государственной политики, которые благоприятствуют нам.
Объясняю. Тебе необходимо знать, что дон Педро продолжает отсутствовать в Севилье и пресловутая борьба между «ряжеными» и «трастамарами» перенесена на другие сцены в Леоне, Бургосе и Вальядолиде, где находится двор и его сторонники. Так что же это за новые обстоятельства вокруг короны, которые сложились в нашу пользу? Они существенны и многое меняют. В особенности одно, которое напрямую позволяет тебе вернуться и восстанавливает твое честное имя.
Из уст в уста передается слух, что король вступил в серьезный конфликт со своим фаворитом герцогом Альбукерке, любовником матери доньи Марии, с которой он порвал отношения и которую заключил в башню Монтальбана. Причина? Жестокая казнь в Талавере — по ее приказу и без его ведома — доньи Элеоноры де Гусман, сожительницы его отца короля Альфонса. Дон Педро, которым дотоле эта парочка вертела по-своему, отказался от женитьбы на Бланке де Бурбон, которую ждут изгнание и позор, потому что в самую ночь перед свадьбой он застал ее в постели с собственным единокровным братом доном Фадрике, который пока чудом спасся от расправы, однако таким неслыханным оскорблением его величества сам же и подписал себе смертный приговор. Так что его палачом станет теперь сам дон Педро [164].
В Севилье только и говорят, что об увлечении короля одной дамой необыкновенной красоты — Марией де Падилья, девушкой прелестной, добропорядочной, с немалыми духовными задатками, которая нашла общий язык с королем в увлечении магией и чернокнижием, ее имя уже мелькает в заклинаниях мавров и цыган. Некоторые даже утверждают, что она приворожила дона Педро, но народу нравится судачить о королевской экстравагантности и пылкой страсти.
Тем не менее продолжаются гонения против сторонников бастардов Трастамара, Кастилия превратилась в страну опустевших полей, сожженных городов, людского отчаяния. Призрак междоусобной войны постоянно висит над нашими головами в угоду неуемным амбициям тех и других. В конце концов кто-то из этих боевых петухов, либо дон Педро, либо дон Энрике [165], может быть, самый из них кровожадный и безжалостный, останется один на кастильском троне, но война между ними, смерть и горе оставят неизгладимый след в несчастном нашем королевстве, потому что дон Педро заявил, что никаким бастардам, будь их хоть сотня, хоть все зло объединится, не вырвать у него корону.
Таким образом, вышесказанное неумолимо повлекло за собой целую череду последствий для нашего города, и звезда доньи Гиомар, нашей провидицы и твоего личного врага, с каждым днем все более блекнет. Она лишилась покровителей, при ней остался лишь этот урод Бракамонте да еще безграмотный люд, который ее боится. Filia diaboli [166], или, как я ее зову, дьявольское отродье, уже не ходит по улицам с надменным и хозяйским видом, хотя все еще кидает направо и налево змеиные взоры. Но уже всем известно, что за ее лживой кротостью скрывается пропасть ненависти и безумия.
Сила этой пособницы дьявола отошла в прошлое, Яго. Дон Педро редко бывает в Севилье, у него по горло других дел, а донья Мария — уже история [167]. Поэтому наши поиски таинственного клада можно продолжить беспрепятственно.
Так что ветры перемен убеждают меня, что продажная тварь заплатит наконец за свою враждебность по отношению к тебе, а те злодейские махинации, которые, как мы догадываемся, она устраивала, исходили от королевы-матери и плелись за стенами Сан-Клементе. Я предпринимаю кое-какие шаги — не напрямую, осторожно, но собрал уже достаточно доказательств, чтобы ее разоблачили окончательно перед Богом и людьми. Здесь мы можем рассчитывать на изрядную поддержку нового архиепископа Севильи дона Нуньо Фуэнтеса, который дружески относится к тебе, а еще на членов неподкупного Трибунала, которые ее терпеть не могут.
Имеется донос одного старого прихожанина, в котором говорится о нечестивом притоне в доме, принадлежащем обители, о фактах, которые заставили бы покраснеть самую бесстыжую портовую шлюху, сохранился и протокол допроса архиепископом Санчесом брата Ламберто, того законченного плута, — а все это прямая дорожка для нее на эшафот или на костер. Сейчас я не могу слишком распространяться, потому что письмо может нас скомпрометировать и помешать нашим планам.
Хотя справедливость требует большего терпения, чем мстительность, однако мне она кажется лучшим утешением, Яго. Нельзя те страшные обиды оставлять безнаказанными. День этот близится, так же как и тот момент, когда мы приоткроем полог тайны Дар ас-Суры и нам откроется светоч нового знания, как цветок в утренней росе. Твои верные друзья с нетерпением ждут тебя, чтобы братски обнять по твоем прибытии из Арагона.
Пришел час твоего возвращения. Отправляйся в путь, никому не говори о содержании этого письма, добирайся в Севилью как можно быстрее и ничего не бойся, потому что на этот раз твоя безопасность достаточно гарантирована. Ортегилья, хирурги из больницы, семья Тенорио и даже твоя недосягаемая и прекрасная назарийка — все мы тебя с нетерпением ожидаем, чему и рады безмерно.
Написано в Севилье в день святого Михаила Архангела, год 1352.
Бер Церцер, советник лечебницы Арагонцев и королевский хирург dixit [168].
Лекарь погрузился в раздумья, в мозгу теснились мысли. Церцер писал все это еще два месяца тому назад, и тогда новизна ситуации вдохновляла его. Но Яго ни минуты не будет сомневаться. Надо немедленно отправляться в дорогу, чтобы восстановить потерянную репутацию. Уже с начала ноября невозможно будет найти ни галеры, ни вьючного каравана до Севильи. Оставалось совсем немного времени до того, как все пути перекроются, станут непроходимыми.
В висках стучало, радость переполняла сердце. Обостренными чувствами он уже осязал свежесть Гвадалквивира, слышал эхо церковных колоколов, бодрые крики на базарах, а еще звук ситара Субаиды.
Так и получилось, что за угрюмой ночью последовал великолепный рассвет.
Filia diaboli
Когда-то, впервые въезжая в Севилью, Яго испытывал чувство близкое к ликованию. Теперь же, через два года после отъезда, он возвращался сюда настороженный и с поникшей головой. Словно корабль, потерявший мачту во время бури. Мысли беспорядочно роились в голове, он был почти убежден, что здесь в каком-нибудь переулке таится угроза, что его ждет кара за возвращение. Город казался теперь чужим, но странным образом уже не в Гиомар Яго видел причину этого отчуждения, потому что в сердце погасли уголья гнева, утихла враждебность к ясновидице и королю дону Педро. Он возвращался просто для того, чтобы выполнить обещание, данное Субаиде, а пережитые им ужасные события готов был навеки забыть.
Повсюду еще ощущались последствия чумы. Люди были насторожены, повсюду царила нищета. Тем не менее в этот вечерний час куда-то спешили нередкие прохожие, молчаливые и не торопившиеся уступать дорогу конным повозкам.
Не было сомнений, что население города запугано и в его жизни большее значение возымели крестные ходы и заклинания церковников. На закутанного в плащ Яго Фортуна, бывшего лекаря лечебницы Арагонцев, никто не обратил внимания, и это его приободрило. В сумерках, вдыхая запахи вечернего морского ветерка, он пришел прямо к дому Ортегильи. Открыл ворота и вошел, не подавая голоса. Двор был тих, лимонные деревья пожухли на зимнем воздухе, со стороны сеновала слышался знакомый стук прялки. Андреа занималась привычным делом.
— Эй, кто живой на ковчеге? — подал он голос и замер.
Тут же послышались голоса, суета и торопливые шаги вниз по лестницам. И потом слова удивления и радости Ортеги, слезы Андреи. Искренние чувства этих двух дорогих ему существ пролили бальзам на его усталую душу. Все трое слились в объятиях, так и вошли в комнаты. Яго ощутил, что он снова дома.
— Ну, ты все такой же красавец, — говорила Андреа, — ничуть не изменился.
— Это потому, что два года одиночества и удаленности от дел были для меня сплошным отдыхом. И вы оба прекрасно выглядите!
После взаимных восторгов судья начал взахлеб рассказывать новости.
— Первое, что я должен тебе сказать, Яго: две недели назад альгвасилы Трибунала арестовали донью Гиомар и этого урода Бракамонте. Похоже по всему, что пришел их час и эту лицемерную шлюху в ее балахоне не спасет от костра даже сам сатана. Она созналась в страшных преступлениях, а народ на улицах болтает, будто на одной из ее грудей вытатуирован знак дьявола, — округлив глаза, заключил Ортега, а его жена добавила:
— Благочестивые люди говорят, что крестилась она левой рукой и обладала сатанинскими чарами.
— Ее белые руки и на самом деле сотворили немало черных дел, — сказал лекарь. — Надеюсь все-таки, что Трибунал пощадит ее, хотя и будет строг. Лично я не держу на нее зла.
— Дружище, глазам не верю: ты с нами! — снова заулыбался Себастьян. — Андреа, ну-ка тащи красное вино, которое мы припасли для такого случая. А ты рассказывай, дружище!
Вино развязало Яго язык, а судья блудниц в ответ поведал обнадеживающие новости о Субаиде, которая с нетерпением ждала его возвращения, проживая в доме своей бабушки Фатимы в Гранаде, во дворце Альгамбра. У Яго уже было готово письмо к Субаиде, которое Переметный через пару дней обещал передать пограничным патрулям.
Наговорившись, они только на рассвете легли спать, и Яго проснулся лишь в середине следующего дня.
* * *
Первым делом Яго побывал на могилах Эрнандо Фарфана и несчастного Исаака де Туделы. Слезы на его загорелом лице свидетельствовали о так и неутихшей в душе боли. Потом он, закрыв лицо плащом, миновал квартал рабочих-веревочников и постучал в дверь врача и астронома Вер Церцера. Тот оказался дома и встретил его дружеским, теплым взглядом. Он был единственным из близких друзей, кто не удивился, встретив молодого человека; очень довольный его приездом, мастер рассказал о жизни в городе, о больнице, по которой Яго соскучился, о ближайших планах и ответил на кучу вопросов.
— О том, что я тебе сообщу, вообще никто не должен знать. Поговорим на набережной, подальше от чужих ушей. Сегодня погожий день, Рождество, вот и прогуляемся.
Прохладный ветер овевал квартал Магдалины и набережную Ареналя, пошевеливая верхушки пальм. Кое-кто из встречных узнал молодого врача и благодарно поцеловал ему руку. Из таверны «Дель Соль» слышались рождественские песенки под звуки лютни и виуэлы, но они, чуждые праздному веселью, прошли через Масличные ворота. Здесь на них пахнуло африканскими продуктами, сгруженными на доски; рядом нес свои воды Гвадалквивир, на котором, рассекая зеркальную гладь, прокладывали свой путь галеры. Яго не утерпел с расспросами:
— Как получилось, что дело дошло до ареста доньи Гиомар?
— Несмотря на ее покровителей, которые теперь в явной опале, ее обвинили в ужаснейших вещах. Но об этом пока знает лишь круг посвященных.
— Все это поразительно, мастер, хотя и можно было предвидеть, — сказал Яго, тут же вспомнив фразу-приговор, брошенную ему ведьмой в лицо в день смерти Исаака: «Устремишься к гибели!»
Сколько времени прошло, а он все еще воспринимал фразу как анафему, хотя былая ярость по этому поводу уже улетучилась.
Обращенный иудей стрельнул глазами по сторонам и спросил загадочно:
— Яго, тебе в твоей практике когда-нибудь приходилось лечить самоубийцу, который пытался повеситься?
— Никогда, мастер, — ответил тот, не понимая, куда клонит его собеседник.
— Так вот, слушай и удивляйся. У меня так и стоит перед глазами одно обычное раннее утро, обернувшееся драмой. Это произошло на Успение в прошлом году. Я был занят утренним омовением, когда явился слуга известного аристократа Сельсо Гусмана и попросил срочно прийти к ним домой, это рядом с обителью Санта-Инес. Придя туда, я удивился траурной обстановке, царившей в доме. Меня тут же провели в спальню его младшего сына, совсем молодого человека, борода только пробивается. Жизнь его висела на волоске, причем мне было очевидно, что тут не обошлось без насильственного удушения. Веришь ли удручающее зрелище.
— Молодой человек пытался покончить с собой? — спросил Яго.
— Не совсем так, — сказал Церцер, понижая голос. — Дело в том, что удушение входило в ритуал недостойной похотливой игры. Ему чудом удалось вырваться. А происходило все это, представь себе, в тайном убежище бегинок доньи Гиомар, за глиняными стенами обители Сан-Клементе.
— Святое копье! Хотя какая же это новость: как и другие добропорядочные жители Севильи, я давно подозревал, что эта обитель является местом любовных свиданий состоятельных дворян.
— Да, но раньше это как-то замалчивалось, потому что сам король дон Педро заглядывал туда в своих беспутных похождениях, — продолжал советник. — Короче говоря, мне удалось, не без труда и волнений, отвратить молодого человека от смерти, и, хотя у него осталась проблема с голосом, он выздоровел. В те же дни пришло известие об убийстве доньи Элеоноры де Гусман, о резком ухудшении отношений дона Педро со своей матерью и последовавшей потере доньей Гиомар своей покровительницы. В общем, основа всех событий — взаимная ненависть двух высокопоставленных женщин. Так и пришел долгожданный момент, Яго. Дон Сельсо, удрученный и рассвирепевший из-за смерти своей родственницы, отправился прямиком в Трибунал, где и заявил о случае с неудавшимся удушением — достаточно конфиденциально, чтобы не повредить семейной репутации. Когда это все же всплыло на поверхность, весь город был возмущен. Ну а потом пошла целая череда обвинений против доньи Гиомар, столько лет замалчивавшихся из-за страха, и дело кончилось ее заключением в темницу Сан-Хорхе.
— Как раз Трибунал Севильи — идеальное место для суда над этой лицемеркой, — заметил Яго. — А как все это объяснил молодой Гусман?
— Ты и представить себе не можешь, — округлив глаза, ответил Церцер. — Мне как свидетелю пришлось присутствовать при докладе об этих фактах лично главному судье, дону Лопе де Фигероа. Гусман-сын, призвав Бога в свидетели и поклявшись на святом Евангелии, рассказал во всех подробностях о том, как беспутные дружки завлекали его в дом бегинок, как обычные церковные праздники превращались в оргии с обилием угощений, напитков, дурмана и дорогих вин. По показаниям юноши, молодые богомолки, которые не приняли постриг, меняли свои монашеские одежды на платья, красились, надевали драгоценности и превращались на несколько часов в искушенных жриц любви.
— То есть перед всем городом они изображали строгое целомудрие, а эти ужины у них становились оргиями. Каковы нравы, мастер!
— Так вот, судя по свидетельству молодого человека, эти горе-монахини, которых нередко заключают в монастырь без их согласия, в отместку пустились во все тяжкие. Разыгрывали с неслыханным бесстыдством сладострастные сцены из мифов Эллады, которые молодой Гусман описал с такими подробностями, что они смутили самого дона Лопе. По его словам, эти женщины вызывающе называли себя «орденом фаллоса» и без всякого стыда отдавались своим ухажерам прямо на глазах у всех. Однако прежде они совершали развратные действия с помощью мраморных пенисов, на которых висели кожаные сумочки с возбуждающими эмульсиями. Ими они поливали себе груди и половые органы. Все присутствующие, по словам юноши, были в масках, но ему удалось прочесть девизы на некоторых шпагах. Тот, кого называли «Великий бесстыдник» и кто, судя по всему, на свои средства содержал вертеп, имел надпись «Hoc opus est»; он пользовался большим успехом у дам, которые с восторгом предавались с ним разврату, словно его собственные наложницы.
— Излишне говорить, кому принадлежит девиз на той шпаге.
— Но слушай дальше. Главный судья побледнел и приказал не записывать далее показания, потому что та надпись выгравирована на эфесе шпаги дона Педро. Многие достойные кастильцы и немалое число дам в Севилье об этом осведомлены.
— А что еще рассказал Гусман, мастер?
— Он утверждал, что донья Гиомар заставляла некоторых девушек ложиться в постель к важным персонам, а еще ласкать свои груди и ляжки искусственными фаллосами, принесенными из обители Санта-Прасседе, которые они облизывали и бесстыдно засовывали себе внутрь. Еще он обвинил эту блажную, которая, по его словам, находилась под воздействием снадобий, вызывавших видения, в том, что она давала забеременевшим дамам специальные настои для удаления плода. И еще она хвасталась тем, что может вызывать преждевременные роды. Для этого использовалось специальное акушерское кресло, стоявшее за портьерой. Его, кстати, тоже использовали для развратных игр.
Яго тут же вспомнил свои первые часы в Севилье, когда Фарфан вытащил из речной заводи мертвого младенца, завернутого в монашескую накидку ордена цистерцианцев. Теперь уже не оставалось сомнений, как он туда попал и откуда был тот слуга, утопивший плод. Получается, что обманщица и отравительница была вдобавок сводней, да еще и делала тайные аборты. Такое ни Бог, ни людской мир не могли простить.
— Более того, они издевались над религиозными традициями. Во время Великого поста молодые люди раздевали богомолок, будто бы грозя бить их плеткой; именно во время этой забавы в начале оргии нашему юноше предложили совокупиться с одной из послушниц, в то время как этот шут — карлик Бракамонте, сластолюбивая обезьяна из Берберии, — держал его за шею веревкой, перекинутой через балку. По уверениям доньи Гиомар, если в момент извержения семени мужчину слегка подвесить, он может достичь по-настоящему райского наслаждения. Вот молодой человек чуть и не погиб от подобного рискованного опыта.
— Перестарался этот обезьяноподобный гомункул. До какой же степени разврата можно дойти!
— А он, судя по всему, не участвовал в оргиях, а стоя в сторонке, в углу зала, сам удовлетворял свою похоть.
Яго выслушал это с гримасой омерзения и заявил:
— Никогда не слышал о подобной практике и о настолько примитивных и развратных потребностях. Кто бы мог подумать?
— Юноша подтвердил, — продолжал Церцер, — что во время оргий девушки из благородных семейств даже как бы продавались с торгов, а разнузданные крики доносились до Альменильи. Монахинь из Сан-Клементе обвинять не стали, они не были замешаны в оргиях, это потом было доказано. Обвинение немедленно передали архиепископу Фуэнтесу, который тут же приказал заключить донью Гиомар и Бракамонте в камеры Сан-Хорхе в Триане, дом послушниц закрыть, а мать аббатису изгнать с позором. Все в смятении, Яго, только не распространяйся об этом, потому что процесс проводится втайне.
— Их не пытали, чтобы добиться других показаний?
— По всей видимости, карлик разговорился, как только ему показали раскаленное железо. Он признался в нарушениях закона и всяческих преступлениях, связанных с кознями ко-ролевы-матери. Помнишь покушение на Субаиду, когда она была заложницей короля? Попытку убийства близнецов-бас-тар дов? Ликвидацию брата Ламберто? Он сознался, что во всем этом участвовал, хотя не назвал мотивов, потому что просто их не знал.
Яго вмиг охватила ярость. Так, значит, отравление Субаиды — дело рук этой продажной монашки и ее приспешника?
— А донья Гиомар это подтвердила? Или молчала?
— Поначалу она отказывалась говорить, словно окаменела, и упорно не хотела признать ужасную правду. Но когда ей показали запись беседы с братом Ламберто, которая была проведена архиепископом Санчесом под видом исповеди и на которой стоит подпись самого Ламберто, помнишь? — она заметалась, потому что поняла: ее обвинят, помимо прочего, еще и в государственной измене. Сначала она заявила, что это фальшивка, но документ был заверен печатью архиепископа, пришлось смириться, как смирились и многие из ее защитников, ранее требовавшие ее освобождения. Даже король дон Педро захотел было, чтобы ему передали материалы обвинения, однако архиепископ категорически отказался под предлогом того, что речь идет об обвинении в оскорблении его величества, а также королевы-матери и других известных «ряженых», а он как глава кастильской церкви не желает более провоцировать вражду в Севилье.
— Рискованная хитрость его преосвященства Санчеса принесла свои плоды, — едко улыбнулся Яго.
— Так вот, далее наша «пифия» стала надменно отмалчиваться. Потребовала, чтобы ей принесли опиумной травы, индийской конопли и мандрагоры, заявив, что все это ей нужно как средство от падучей, но дон Лопе отказал. Рассказывают, что в камере она ведет себя как безумная, в нее вселился демон, ей перехватывает дыхание, так что ее пришлось заковать в кольца в murus strictus [169] — в каморке с крысами, где она постоянно кричит, требуя прихода королевы-матери и взывая к королю.
— Человек привыкает к страданию благодаря своей жестокой бесчувственности. Бедная женщина! Мы-то с вами знаем, что нет в ней никакого демона, есть лишь безумие, к которому добавились извращенность и безмерные амбиции. Она привыкла с годами умирять свои припадки опиумом, здесь налицо явные признаки наркотической абстиненции. Специалист по травам британец Освальд Кролл в своей работе «Basilica chemica» [170] описал непреодолимые припадки, проявления этого адского синдрома. Ее тело годами накапливало эти вещества, ей не хватает этого яда. Очень скоро она может совсем лишиться рассудка.
— Человеческое существо — кладезь многих удивительных и противоречивых вещей, — согласился Церцер.
Они перешли через мост у баркасов Трианы, где лучи солнца отражались от воды у причалов, где вереницы носильщиков, голых до пояса, перетаскивали грузы, прибывшие с Востока и из Африки. Они сновали с мешками и бочками на плечах под вавилонскую мешанину разноязыких криков. Яго перевел взгляд на ворота Голес, которые заполнили горшечники из Санта-Аны со своими осликами, нагруженными изделиями гончаров.
— А я все-таки думаю, что эта обманщица скрывает кучу ужасных секретов, — продолжил разговор Яго. — Так, значит, она признала свое участие в отравлении Субаиды?
Лицо советника стало непроницаемым.
— Я в курсе того, что ты неравнодушен к принцессе-назарийке и ты не из тех, кто руководствуется чувством мести, но это так: именно она приготовила яд по рецепту, взятому, между прочим, из библиотеки аль-Мутамида, а еще составила записку со строфой из Корана.
— Это правда, от мести я давно отказался. Достаточно, если ее просто осудят.
— Так вот, относительно заложницы Гиомар клялась, что сделала это по приказу королевы Марии, но с единственной целью проучить ее, потому что не могла простить королю Альфонсу, что гранадская принцесса входит в круг его приближенных. Карлик Бракамонте, работавший когда-то канатоходцем в компании комедиантов, большой ловкач в лазании по стенам, проник незамеченным в дом Тенорио и подложил яд с ведовским заклятием. Дьявольская проделка, скажи?
— Я всегда предполагал нечто подобное, Церцер. Эта преступная попытка слишком походила на сведение счетов со стороны супруги, которой пренебрегли, а не на антигосударственный заговор, как это представили, — рассудил Яго, чувствуя, что гора свалилась с его плеч. — А как она объяснила смерть брата Ламберто и заговор с целью убийства инфантов-бастардов?
— Да так, что ее роль ограничивалась общением с монахом ордена Милосердия, а сама интрига была задумана королевой-португалкой, которая мучилась, потеряв любовь своего венценосного супруга, а когда увидела, что трон ее сына Педро может ускользнуть, раскинула свои коварные тенета.
— Сложны дела брачного ложа. И таким образом вершится политика!
— Горе-монаху подсунули свечи с цианидом, которым он и надышался, а также подлили добрую дозу яда в графинчик с водой для освящения даров. Рано или поздно он коснулся бы пальцами рта и мгновенно бы погиб, что и произошло. Карлик пробрался по крышам обители Милосердия, чтобы доставить убийственное средство. Это настоящие убийцы, Яго, действующие наверняка, — горестно покрутил он головой.
— А с них не спросили за убийство троих иудеев и за другие не менее злодейские дела?
— На этот счет донья просто заявила, чтобы обращались к королю Педро, его матери и ее фавориту, которые имели виды на предоставленные еврейские кредиты, а также на виноградники и сады в Альхарафе, на которые, впрочем, хотели наложить лапу и некоторые городские богатеи. Здесь сплелись власть, деньги, амбиции и месть — смертоносный узел.
— Получается, что эта сумасшедшая действовала не ради собственного обогащения, а стала инструментом королевских амбиций. Какая глупость, помноженная на раболепство!
— Обычно бабочки, подлетая слишком близко к сильному огню, опаляют свои крылья, — рассудил советник, созерцая прибрежные пальмовые рощи.
Они дошли до зубчатых стен монастыря ордена святого Иоанна, и Церцер предложил Яго пообедать в одном приличном заведении в квартале Франкос, чтобы закончить день в его обширной библиотеке, где появилось кое-что новенькое наряду с приобретениями для нумизматической коллекции, которой он очень гордился. Там они по ходу дела обсудят, как лучше вплотную заняться Дар ас-Сурой, вожделенной тайной Субаиды, и таким образом он сможет выполнить данное ей обещание. К ней все неудержимее рвалось сердце.
У Яго ощутимо полегчало на душе, он с безмерным удовольствием последовал за Церцером, ему было интересно, кто из его друзей таковым и остался и кто уцелел из славного общества раввинов и эрудитов Севильи. Получается, никакое зло не выдерживает хода времени, и ведьма-монахиня в конце концов отведала собственного яду.
* * *
Опустился вечер. В доме у советника потрескивали свечи. Ближе к ночи звездный ковер покрыл небо. Яго уже собрался было идти, когда Церцер предложил подняться вместе с ним на крышу.
— Пока тебя не было в Севилье, ты кое-что подзабыл. Что, не помнишь? На Рождество капитул устраивает искусственные огни.
— А, китайские свечи! Это, конечно, занятно, пойдемте смотреть.
Ждать пришлось недолго, потому что с наступлением полной темноты одновременно со стен дворца Караколь, от ворот Биб-Рагель и из района монастыря Сан-Агустин вырвались и ушли вверх крутящиеся огни, словно души, влекомые дьяволом. Они затерялись в черноте ночи, рассыпавшись на мириады цветных искр, которые складывались в вычурные и впечатляющие узоры. Лекари даже не знали, в какую сторону смотреть и чем больше восхищаться, потому что, пока речная гладь и купола города наполнялись вспышками, взлетали новые снаряды и новые огни высвечивали паруса кораблей и пронизываемое лучами севильское небо, отчего маяк Сантипонсе приобрел на все время салюта опаловый оттенок.
— Очаровательно, магистр! — восхитился Яго. — Это похоже на природу, которую отразили наоборот, потому что теперь земные огни, соперники могущественных светил, освещают небо.
— Однако последние неизбежно побеждают в этой борьбе, друг мой, — ответил астроном.
С последним залпом, впечатавшимся в звездный полог, огни погасли и рукотворные вспышки иссякли. Из каких-то уголков взбудораженного города до них донеслись веселые звуки свирелей и бубнов, извещавшие о приближении празднества маленького епископа.
Рука, скрывающая мудрость
Женский монастырь Сан-Клементе напоминал растревоженный улей: не успевали оправиться от одной напасти, как наваливалась другая, — спокойствие обители осталось в прошлом.
По кварталу Сан-Лоренсо вслед за угрюмым гвардейцем, который нес пурпурный штандарт города Севильи, шла небольшая процессия во главе с судьей. Был первый день нового года, собирался дождь. Белесые дымы поднимались из-за стен города, будто где-то там дышал огромный великан. Ближе к полудню у ворот обители Сан-Клементе раздались три сухих удара молотком; на пороге молчаливо стояли пятеро мужчин: один был в сутане, остальные в широкополых шляпах и черных плащах, похожие на нахохлившихся воронов.
— Именем Трибунала, открывайте!
У новой настоятельницы, аббатисы Констансы Тенорио, дрожали колени, пока не менее испуганная привратница открывала засов. Завидев дона Лопе де Фигероа, она еще и побледнела. Севилья до сей поры не знала более сурового и придирчивого судьи. Рядом с ним стоял каноник кафедрального собора, державший в руке распоряжение архиепископа, а также ректор лечебницы Арагонцев дон Николас в сопровождении комиссии ученых — Бер Церцера и Яго Фортуна, друга Тересы, племянницы аббатисы, и ее брата адмирала дона Хофре.
— Мать аббатиса, обвиняемая донья Гиомар показала, что она готовила свои дьявольские снадобья в помещении у монастырского водоема, — заявил дон Лопе. — Вот эти врачи из больницы, специалисты по травам, должны осмотреть дарохранительницы, или ящики с колдовскими предметами и мазями сатанинской ворожеи.
— Но, сеньор альгвасил, не хотите ли вы найти в этих стенах еще и кипящий котел, помело или козла, гуляющего по трапезной? — едко и не особо церемонясь, спросила быстро пришедшая в себя настоятельница, пятидесятилетняя особа с живым взглядом, фарфоровыми щеками и чуть заметными усиками.
— «Decretum Gratiani» [171] предписывает: «Ни один крещеный христианин не должен использовать эликсиры, препятствующие зачатию, как и средства, способствующие аборту», — подал голос кафедральный клирик. — А эта filia diaboli в целях разврата применяла яды и фимиамы, колдовала с их помощью и торговала ими — прямо под крышей аббатства.
— Святая церковь разрешает использовать травы в терапевтических целях, аббатиса, в противном случае это называется чернокнижием и ведовством, — строго добавил дон Николас.
— На ваш монастырь легло подозрение в нравственном падении, позорных скандалах и разнузданных оргиях, — сурово изрек судья. — Воистину, сам дьявол проник в эти стены, расставив здесь свои силки и ловушки.
Настоятельница восприняла эту тираду как явную несправедливость и унижение, однако ей трудно было сохранить уважение церковного руководства к обители после всего случившегося.
— Дом бегинок был лишь под условной опекой аббатисы, но не более, сеньоры. Мы не чувствуем себя ответственными за их развратное поведение и не имеем к нему отношения, хотя все это весьма серьезно нарушает благочестивое затворничество моих монахинь. Конечно, вы можете осмотреть все, что вам нужно, Бог в помощь, — с досадой заявила аббатиса. — Альваро, принеси ключи от водоема. А вы, будьте добры, следуйте за мной.
Молчаливая процессия сначала посетила пустовавшее теперь помещение послушниц, место ночных оргий, которое внешне выглядело приютом крайнего смирения и молитв; здесь судья в первую очередь пожелал рассмотреть акушерское кресло — сооружение, снабженное ремнями и всякими жуткими шарнирами. На нем ворожея избавляла от бремени послушниц, оказавшихся в интересном положении. Здесь также, судя по показаниям молодого Гусмана, те беззастенчиво удовлетворяли свою разнузданную похоть. Яго, разглядывая это искусное приспособление, подумал, что оно чем-то напоминает пыточное колесо инквизитора из Авиньона.
— Только из-за одного этого предмета колдунья должна была бы взойти на очистительный костер, — вырвалось у главы церковной общины, и он перекрестился.
Потом, молчаливые и задумчивые, они пошли за комендантом по направлению к водоему, пересекли двор с могильными плитами, заросшими травой и сухим колючим кустарником, — здесь по-прежнему царили беспорядок и запустение.
У Яго забилось сердце, да и Церцер явно волновался. Неужели они дожили до дня, когда будет раскрыта тайна Дар ас-Суры? Тут Яго, привлеченный любопытным и непонятным зрелищем, тронул Церцера за руку.
— В чем дело, Яго? — спросил тот, и оба остановились в растерянности.
— Там, у колодца, мастер! Пойдемте посмотрим! — сказал молодой человек.
Прямо на бадьях ветхого водоподъемника висели обрывки обгоревшего пергамента, вокруг был пепел, фитили, черные обуглившиеся куски бумаги. Яго, не обращая внимания на остальных, подошел и оторопело стал копаться в сотнях листов, вырванных из манускриптов и антикварных книг, разбросанных по земле, разорванных в клочья и сожженных. Он с ужасом разглядел кое-где тексты на греческом, арабском, латыни и даже кастильском языках. Кто мог совершить подобное варварство? С какой целью? Как восполнить теперь потерянные знания, так безнадежно, непоправимо уничтоженные? Может быть, в Дар ас-Суре случился пожар, а они не знали об этом? Красный от гнева, он поднял глаза, требуя объяснений у матери аббатисы, но за нее с простодушной заносчивостью ответил Альвар, управляющий:
— Что вас так удивило, мастер Фортун? А-а, эти трубки для фейерверка? В другие годы мы использовали речной тростник, но на этот раз берег оказался заболочен и мы использовали эти свитки, которые пропадали здесь, в этом строении. Они отлично послужили для запуска «китайских огней», потому что другие были из овечьей шкуры и даже из шкуры молодых бычков. Этим мы нашли замечательное применение, не так ли, сеньор? — И он разинул свой страшный беззубый рот.
Яго посмотрел на него, не пытаясь скрыть гнева, и, нагнувшись, попробовал подобрать один к другому куски пергамента, покрытые мусульманской росписью. Но это было бесполезно. На обгорелых фрагментах проглядывали искромсанные и изувеченные огнем ученые фразы Авиценны, Макалы, Диоскорида, Евклида. Врач зарычал от ярости. Тут же валялись отрывки из Codex Argenteus [172], латинских палимпсестов, арабских миниатюр, византийских манускриптов и даже египетских папирусов — все это, с почерневшими от китайского пороха вычурными буквами и росписью, было раскидано в грязи в хаотическом беспорядке. Все из-за таких болванов, как этот управляющий и эти монашки, что в течение нескольких поколений либо жгли рукописи как бесполезные, либо соскребали с них текст, чтобы записывать на них свои песнопения. Яго был в отчаянии, но старался умерить свои эмоции, заподозрив, что уже, наверное, ничего стоящего не удастся найти из книжной сокровищницы султана и поэта аль-Мутамида.
«Какая глупейшая и бессмысленная катастрофа из-за обыкновенного тупого невежества».
— На любом этапе человеческой истории всегда находится какой-нибудь варвар, готовый вот так распорядиться результатами кропотливой ученой работы, — сказал Церцер.
— Невозможное и непростительное варварство, — вырвалось у Яго. — Господи, вразуми же свою паству!
— Нам нужно поторопиться, мастер Фортун, — напомнил дон Лопе, озабоченный своей целью, которая, собственно, и привела сюда комиссию.
В полном смятении чувств Яго потащился следом, спустился со всеми по мокрым ступеням, а перед глазами так и лежали грудой те обугленные остатки библиотеки. Эхо шагов под сводами подземного водоема и плеск воды тем не менее вывели его из задумчивости. Управляющий открыл засов решетки на входе в помещение, которое Яго и Церцер принимали за Дар ас-Суру, и они прошли под знак, который им был известен как «рука Фатимы». Церцер при этом тронул рукой пиктограмму, которая была похожа на раскрытый цветок, а у Яго, несмотря на холод, вспотели руки. Они с трепетом всматривались вглубь, словно находясь в священном аванзале Святая святых храма Соломона. Их глазам открылось то, что не погибло под грузом времени, от плесени или глупости смертных: хранилище тайн султана и поэта, многоголосое собрание древних манускриптов, былого форпоста мировых знаний.
Отнюдь не пышное помещение имело форму раковины, которая расширялась сразу за колонной из красного порфира с барельефом двух газелей, обращенных друг к другу; раковина — таинственный символ мусульманского знания, которое «имеет форму морской раковины». Эта загадочная фраза султана и поэта, сказанная перед смертью, сразу всплыла в памяти Яго.
Аль-Мутамид хранил в подземелье свои самые ценные книги, здесь мог находиться и его личный экземпляр Корана — почему бы и нет? Он должен был построить это хранилище для того, чтобы убрать свои мудрые книги подальше от глаз альморавидов, известных поборников чистоты ислама; простая архитектура нисколько не наводила на мысль, что помещение составляло часть великолепных залов Дар ас-Суры, в которых выступали лучшие поэты того времени и где составляли свои гороскопы астрологи. В конце концов он был вынужден закрыть его, чтобы спасти от разгрома, а потом, спустя два века, король Альфонс Мудрый позволил вынести отсюда несколько томов, хотя хранилище ревностно охранялось деспотичным своеволием монахинь, набожных и ограниченных. «Подумать только: все это время самые ценные научные тома хранились будто в глиняном чане посреди океана!»
Однако здесь их ожидало разочарование; то, что уцелело, находилось в полнейшем беспорядке. Здесь царил хаос. Полки зияли страшными пустотами, свидетельствовавшими о том разорении, которым подвергалось хранилище многие годы. Церцер расставил факелы и фонари так, чтобы можно было работать — при этом крысы спешно покинули помещение, — и начал просматривать оставшееся, откладывая, словно добросовестный учитель, то трактат Гиппократа, то труд по математике или то, что осталось от описания Страшного суда багдадским Самарканди.
После добросовестных, но не слишком результативных поисков он пожаловался, что из библиотеки, похоже, исчезли все книги по медицине, принадлежавшие эмиру, хотя был в наличии труд аль-Фараби «Идеальный город» и «Quatripartitum» Птолемея [173], которые избежали гибели. Это вызвало у него такую радость, будто ему удалось раскопать половину Александрийской библиотеки. Однако, как он ни надеялся, здесь не оказалось ни «Планетария», ни «Трактата о неизлечимых болезнях», ни «Медицинской материи». С помощью этой последней книги он хотел наладить преподавание в больнице Арагонцев.
Ректор Сандоваль помогал судье определить те трактаты по медицинской науке или по чародейству, использование которых можно было бы вменить в вину донье Гиомар, а Яго, в свою очередь, листал страницы в надежде найти Коран аль-Мутамида. Он жадно перебирал тома, счищал сор с фолиантов, чихал от пыли и простукивал стены, но в конце концов должен был констатировать, что знаменитая библиотека аль-Мутамида сократилась до размеров архива деревенского священника, потому что после нещадных выемок количество книг едва дотягивало до полусотни, да и те в большинстве своем были сильно повреждены. Получается, что в Гранаде он появится, не выполнив своего обещания, а Субаида так и не исполнит своей священной фары. Что тут поделаешь, когда тебе противостоят злой рок и невежество. На лице его сквозило глубокое разочарование. Церцер посмотрел на него красноречивым взглядом, он и сам являл собой живое воплощение отчаяния.
Неожиданно ректор воскликнул, привлекая всеобщее внимание:
— Вот оно, доказательство! Это «Трактат о наркотических веществах» Макалы.
И вправду, на нижней полке, заполненной стеклянными сосудами с какими-то непонятными мазями, под бархатным куском ткани нашлись две книги: одна оказалась давно утерянными «Афоризмами» Бен Исхака. Считалось, что в них заключены формулы ужаснейших ядов. Другая, в выцветшем, но аккуратном переплете, имела больший объем — ее частое использование выдавали поправки и замечания на испанском, а также свежие отчеркивания на полях.
Церцер и Яго снова понимающе переглянулись: замечания были написаны теми же красными чернилами мадад, которые донья Гиомар использовала в гербарии больницы Арагонцев, а также в записке, сопровождавшей отравление Субаиды. Не было никаких сомнений: вот где черпала свое умение шарлатанка, получившая доступ к уникальным медицинским знаниям, недоступным для христианского ученого мира!
Дон Николас потряс закопченным томом, словно военным трофеем, и стал листать его с лихорадочным любопытством.
Все остальные заглядывали в книгу через его плечи. Светильники сдвинулись над страницами, предваренными наставительным бисмиллах — восхвалением Аллаха. Том, иллюстрированный чудесными рисунками растений, цветов и семян, услаждал взор. Время пощадило краски. Яго и Церцер в восхищении моментально ухватывали названия некоторых животворных снадобий и наперебой выдавали свои познания: «Настойка из уксуса с медом», «Персидские снотворные и возбуждающие вещества», «Эликсиры из горечавки и сандала», «Мазь мархамма, излечивает рожистое воспаление», «Чудесная терминалия из Кабула».
Вот она, утерянная наука Востока, — перед их глазами. Советник не находил себе места от счастья — в их руки попал этот кладезь медицинских познаний, который отныне можно будет применять для лечения больных, а еще оповестить о найденных рецептах университеты.
— Что вы нашли на этих дьявольских страницах? — вернул их с небес на землю инквизитор, выражение лица которого не оставляло сомнений в его желании собрать все эти еретические книги и сжечь.
— Это всего лишь наука, — попытался успокоить его Яго. — Хотя в недобрых руках она может служить черному колдовству. Мне кажется, целый ряд отравлений еще во времена дона Альфонса объясняется тем, что мошенница брала рецепты из этих книг, а еще морочила головы неграмотным людям, заявляя, что Господь лечит ее руками, хотя в действительности это делалось с помощью знаний, взятых из этих мудрых мусульманских текстов. Человечество возблагодарит нас за то, что мы их спасли.
— В таком случае именем Трибунала я все это забираю для последующей передачи в ведение больницы Арагонцев, — отрезал дон Лопе. — С их помощью мы разоблачим ворожбу ведьмы, которая сама виновата в своих прегрешениях, совершив дикие и невообразимые поступки.
— И ей не поможет даже животворная кровь Иисуса Христа! — подал голос клирик, багровея от гнева.
Яго все еще не сдавался и продолжал поглядывать по сторонам в надежде найти какой-нибудь еще не проверенный уголок, полочку или замаскированную нишу. Но все было напрасно. Здесь не было святой книги ислама, которая, по словам Субаиды, предсказывала конец мира неким удивительным способом. Ее исчезновение наносило удар по его мечтам, в душе воцарилось ощущение безнадежности и провала.
— Мать аббатиса, а не остались ли книги из этой библиотеки в других местах? — спросил Яго скорее из упрямства, чем из дотошности.
— Сведений о том, что где-либо хранится какая-нибудь сатанинская книга из всего этого сборища ереси, нет, — ответила настоятельница. — Известно, что хранилище было размуровано во времена Альфонса Десятого чисто случайно, когда в водоеме проводились какие-то работы, так что оно оставалось закрытым более века. Страницы многих из этих манускриптов были использованы монахинями для освещения требников и прочих церковных текстов. Но надо сказать, что при уборке помещения нашли потайную нишу, а в ней двадцать пять томов, совершенно однотипных, написанных на богопротивном языке иноверцев; так вот, они привлекали внимание тем, что имели много искусных рисунков животных, воинов и диких лесов. Тома перенесли в библиотеку обители. Вот почему их-то злодейка не могла никак использовать: туда у нее не было доступа, хотя, если уж быть точной, среди них непостижимым образом всегда не хватало экземпляра под номером тринадцать.
Слова эти прозвучали как звон тугой струны, врачи молча и изумленно переживали варварскую и непоправимую нелепость, свершенную в этом сиротливом храме над классической и мусульманской наукой. Тем не менее Церцер сухо спросил:
— Скажите, уважаемая матушка, а не называется ли эта упомянутая вами коллекция «Ал-Икд ал-фарид», то есть «Уникальное ожерелье»?
— Вот уж действительно, — удивился Яго. — Вы и эти книги читали, магистр?
— Ну да, они составляют часть моей библиографической коллекции, причем я так же, как и вы, полагаю, что они не имеют ни медицинского, ни научного значения и не содержат магических формул, которые враждебны нашей вере. Речь идет о труде, имеющем в основном нравственный характер с известными общими местами восточной чувственности, свойственной религии магометан. Там нет для нас ничего интересного, дон Лопe, можете быть спокойны, — добавил советник, сворачивая на предмет их комиссии, чтобы судье, не дай Бог, не пришло в голову предать те книги огню.
— Хорошо, в таком случае мы можем идти, потому что нашли то, что хотели. В другой раз мы рассмотрим все это более подробно, уважаемая матушка. Извините нас за внезапное вторжение в вашу богоугодную обитель, однако дела веры не терпят промедления.
У Яго создалось безотчетное ощущение чего-то недопонятого и противоречивого. Однако странный диалог между аббатисой и магистром о таинственной коллекции, из которой пропал один том, оживил в его памяти день, когда он осматривал спальню инфанты доньи Беренгуэлы и под желобом для воды нашел нишу, где обнаружил странный том, на котором как раз и стоял номер «13». Почему же обладавшая немалым интеллектом кастильская принцесса спрятала у себя именно этот том? Выйдя из монастыря, они с Бер Церцером решили обменяться впечатлениями за парой стаканов райиского вина.
Уж очень не хотелось ему совсем терять надежду, и, будучи человеком, интересующимся наукой и проблемами познания в целом, он благодарил Бога за спасение хотя бы двух книг — золотого наследия медицины. Но настойчиво крутилась болезненная мысль, сквозь которую и пробилось подозрение: а не скрывается ли внутри тома под номером «13» ключ от пропавшего Корана аль-Мутамида?
Он еще и еще раз с волнением пытался воссоздать в памяти красноречивую и таинственную атмосферу залы инфанты. Сердце, всегда реагировавшее на повороты судьбы, подсказывало ему, что, возможно, именно там мог находиться ключ к загадке. Ведь неслучайно хитроумная аббатиса особенно настороженно отнеслась кое к кому из визитеров?
Пророчество
Иллюзии, овладевшие Яго, отнюдь не разделял Церцер. В своем кабинете, где советник колдовал над вавилонским роскошеством томов и пергаментных свитков, горели два канделябра и толстые свечи, распространявшие масляный запах, делая воздух густым и тяжелым.
Яго попросил советника показать ему экземпляр «Уникального ожерелья» — собрание восточных мудростей на арабском, куда входили части, названные по именам драгоценных камней: «Топаз», «Сапфир», «Изумруд», — и тут же стал ими восхищаться, настолько были совершенны каллиграфия и оформление. Когда Церцер вручил ему тринадцатый том, он почувствовал, что тайна Корана аббадийского халифа снова целиком захватила его, когда он уже потерял всякую надежду.
Он с наслаждением провел пальцами по выступающей вязи названия «Аль-Васитах» — «Жемчужина» и даже втянул носом воздух, будто почуяв женские духи, затем поднес книгу к лицу, словно хотел запечатлеть поцелуй на нежной руке девушки. Потом он прочитал одну из страниц и задумался над ее содержанием.
— Мастер, мне кажется, этот текст вполне подходит для того, чтобы скрыть в нем нечто такое, что не должны слышать ни чужие неверные, ни свои прожженные фанатики.
— Эта «Жемчужина» содержит поэтическое изложение проповедей Пророка с амвонов счастливой Аравии. Та, что ты просматривал в комнате инфанты, идентична этой. Ты гоняешься за химерой, да и кто поручится за то, что экземпляр еще там. Твое предположение кажется мне бессмысленным. Зашифровать Коран в поэтическом сборнике? Ну подумай сам, какой мусульманин не узнает свою священную книгу, даже если ее запрячут в какой-нибудь чащобе?
— А я не имею в виду аль-Мутамида, мастер, — признался Яго. — У меня есть основания подозревать, что спрятала ее таким образом донья Беренгуэла, которая была знатоком арабской культуры. Она сделала это с целью предохранить книгу от уничтожения, потому что помимо того, что это прекраснейшее, уникальное издание, оно содержит еще и какие-то важные секреты. Я почти уверен в этом. Инфанте было известно, кому принадлежала книга, и она хранила ее под сосудом для омовения в королевском алькове.
— Но тебе вряд ли удастся расшифровать эту загадку, она похоронена под прахом времен. Этот Коран, вдвойне еретический по своей природе, наверное, был бы первым, который швырнули бы в «очистительный огонь» сами альморавиды. К тому же как тебе снова проникнуть в обитель инфанты, если ты настаиваешь на своем безумном варианте?
Яго, совсем не склонный отступать, ответил:
— А мне поможете вы. И даже пойдете со мной.
У Церцера вытянулось лицо.
— Достанете разрешение у дона Лопe или у архиепископа Фуэнтеса, и мы заявимся с очередным визитом к матери аббатисе так же, как и в первый раз. А я, со своей стороны, уговорю Тересу Тенорио, чтобы она развеяла всякие подозрения своей тетушки.
— Ты похож на буйнопомешанного, ну да ладно, будь по-твоему, — сказал советник, фыркнул и, смеясь, покрутил головой.
Лицо Яго расцвело виноватой улыбкой, хотя у него осталось ощущение несказанного удовлетворения от разговора.
* * *
Трепетный огонек фонаря, который несла привратница, освещал путь до капитулярного зала, где их поджидала аббатиса Констанса Тенорио. К звуку шагов добавился бой колоколов, наполнивший помещения своей бестелесной гармонией. Настоятельница монастыря приняла их отчужденно, с необычной чопорной торжественностью. Черная вуаль скрывала ее лицо, она была не одна: ее сопровождала представительная свита, состоявшая из монахини, надзиравшей за послушницами, двух престарелых монахинь и матери ключницы, — компании, излучавшей холодность и недоверие.
Свет четырех больших восковых свечей отражался в витражах окон, усиливая яркость красок на многоцветном изображении Христа. Сладковатый запах ризницы наполнял недвижный воздух залы.
При виде такого приема врачи переглянулись — оба чувствовали разочарование, но надо было держаться с достоинством, хотя они никак не ожидали напускной торжественности.
Настоятельница, сохраняя неприступный вид, на этот раз полностью владела ситуацией.
— Laus Deo [174], — приветствовала она вошедших.
— Хвала Всевышнему, — ответили они порознь. — Аминь.
Церцер полез за пояс, чтобы вручить ей епископское дозволение, однако аббатиса властным жестом остановила его. От такого неожиданного приема впору было растеряться.
— Вам не нужно предъявлять здесь какие-то разрешения, достаточно нам с вами действовать по закону и в открытую. Слишком много кривотолков пережили мы из-за дурного примера этой недостойной женщины, о которой мы искренне полагали, что она обладает божественным даром излечения людей.
— Никогда у нее такого не было, мать аббатиса, — авторитетно заверил Яго. — На самом деле она страдает неизлечимой болезнью и подвергает себя извращенному воздействию галлюциногенных веществ.
— Но ведь она помогала больным? И эти ее предсказания…
— Боже, даже сам сатана занимается пророчествами и излечениями — только с целью обмана, — заметил Церцер.
— Вера способна сдвигать горы, но мы можем вас заверить, что она просто использовала некоторые мудрые мусульманские рецепты для одурачивания наивных людей, которые приходили к ней за помощью.
— Хотя милосердие Господа не знает границ, этой заблудшей овце уготовано вечное наказание, а она еще увлекла за собой целую группу глупых девушек, — заявила донья Констанса. — Даже святая Мария, которой она, бия себя в грудь, была преданна, не сможет уменьшить ее грехов. Этой компании она никогда не простит. Гиомар ввергла в разврат невинных молодых людей и не усомнилась заключить договор с дьяволом. Пусть огонь разбирается с такой душой.
После ее гневных слов повисло гробовое молчание, и эту часть напряженного разговора можно было завершать. Яго мобилизовал все свое обаяние и учтивость:
— Мать Констанса, мы не имели намерения прерывать ваши бдения. Единственное наше желание — найти причину исчезновения одной необычной книги — скажем так, последнего звена в цепи непрерывного познания.
Аббатиса злобно прервала его, откровенно сказав:
— Да, я знаю, зачем вы пришли, мастер Фортун, и не сержусь на вас. Вы хотите вернуть одной иноверке трактат, хранящийся в алькове инфанты. К книге этой приложились демоны, и я сама хотела вынести ее как можно скорее из святой обители. В целом я не одобряю ваших действий, но пусть они останутся на вашей совести.
Тирада прозвучала как гром среди ясного неба, настолько меняя декорации, что оба медика оторопело уставились на настоятельницу. Ошеломленные, они не знали, что сказать, поэтому Яго счел за лучшее перейти на смиренный тон:
— И в самом деле, надо отдать должное вашему уму, уважаемая матушка. Эта книга является предметом давних мечтаний принцессы Субаиды, племянницы султана Гранады Юсуфа, которой оказал гостеприимство ваш брат адмирал дон Хофре и к которой он относился как к своей собственной дочери. Обладание этой книгой могло бы залечить открытые раны в отношениях между Кастилией и Гранадой.
И тут же, как бы желая поскорее отделаться от какого-то неудобного, надоевшего и даже порочащего предмета, монахиня указала на аналой, который был скрыт в тени.
— Вот он, ваш загадочный том номер тринадцать, который вы называете пропавшим звеном, но о котором вы же, непонятно каким образом, знали, — язвительно сказала она. — Однако скажите мне, что же такого особенного в этом дьявольском манускрипте? Мне самой до смерти любопытно.
— Это просто мое предположение, а может быть, и самохвальство, мать аббатиса. Речь идет об одной идее, которая втемяшилась в мою голову как раз в тот момент, когда вы упомянули перед альгвасилом о потерянном тринадцатом томе «Уникального ожерелья». Помните?
Настоятельница монастыря снова изменилась в лице и заговорила дружелюбным тоном:
— Да, конечно… Моя племянница Тереса, которая вчера была у нас, любит эту назарийку, как родную сестру. Но продолжайте, она мне намекнула, что с книгой связана какая-то таинственная легенда.
Яго чувствовал, что разговор складывается, и надеялся на удачу.
— Так оно и есть, — стал объяснять он. — Многие годы иудеи-каббалисты и исламские улемы непрестанно искали ее. Дело в том, что последний монарх династии аббадиев из дворца Биб-Рагель, где ныне и расположен ваш монастырь, образованный и не слишком набожный аль-Мутамид молился на великолепном Коране, уникальном рукописном экземпляре, выполненном знаменитыми каллиграфами Баб-Макараны, славившимися во всем восточном мире своим виртуозным мастерством. И хотя, как известно, на его страницах имеются изображения животных и растений — а это запрещено догматами их неправедной религии, — в одной из сур было скрыто эсхатологическое послание, имеющее важнейшее значение для мусульманской веры. По преданию, одному поэту родом из Сицилии — он был писарем при султане и имел недюжинные таланты — вместе с астрономами и звездочетами удалось расшифровать тайный древний Хэрц — каббалистическое изображение, принадлежавшее халифу Али, зятю пророка Мухаммеда. Они включили написанное в текст этой книги, сохранив послание, чтобы о нем впоследствии узнало человечество.
— Все это мне кажется легендой, лишенной смысла, что вполне в духе еретиков-магометан, мастер Фортун. По правде говоря, я полагала вас более благоразумным человекам, — без обиняков рассудила аббатиса.
— Вы копаетесь там, где можно найти лишь еретические отбросы, — добавила монахиня, надзиравшая за послушницами.
— Может в конечном счете так и оказаться, матушка. Однако фантазии, которые создаются воображением, иногда проявляются в реальности. Подумайте вот над чем. Палачи эмира альморавиды искали эту книгу исключительно для сожжения и не нашли, причем сам он упорно отрицал ее существование. Однако, уже глядя в лицо смерти, он признался своему сицилийскому певцу, что в ночь накануне ареста успел спрятать книгу вместе с другими наиболее ценными томами в «большой каменной раковине» под Дар ас-Сурой. Прошло время, и вот в этот сад знаний вошла грамотная и владевшая несколькими языками донья Беренгуэла и взяла оттуда для себя самые прекрасные цветы. И я вас спрашиваю: какую архитектурную форму имеет это подземное хранилище? Сознайтесь, оно похоже на раковину, не так ли? И разве большинство найденных манускриптов не являются арабскими трактатами? Разве хроники не говорят о том, что на этом самом месте находился «олимп» поэтов, астрономов и других ученых, покровительствуемых аббадийским султаном? Слишком много свидетельств, подтверждающих эти самые предположения.
— Ваша способность к бреду превышает даже вашу дерзость. Эта книга не является Кораном, поэтому выводы, которые вы делаете, безосновательны.
— Несмотря на мой более чем возможный бред, я уверен, что мудрый аль-Мутамид скрыл под этой обложкой основное сокровище своей библиотеки, — не сдавался врач. — Так что, мать Констанса, если вы позволите нам исследовать этот манускрипт, то не останется сомнений: либо мои тезисы подтвердятся, либо нет. Мы изучим его, затем покинем вашу обитель и не станем больше вас беспокоить, обещаю.
Речь врача разожгла любопытство сестер, а сам Яго буквально рвался вникнуть в суть того, что он с таким пафосом защищал. Все присутствовавшие приблизились к аналою, пока аббатиса пухлыми пальцами раскрывала тисненую обложку, а одна из сестер делала то же со створками окон, чтобы было достаточно света. В волнении они столпились вокруг, похожие на колдунов у языческого идола.
Бер Церцер, который в студиуме Сан-Мигеля считался известным арабистом, предложил сначала удостовериться, действительно ли книга является той, о которой говорил Яго. Хрустнул первый лист пергамента, содержавший не более чем название, четкое и однозначное: «Главная жемчужина, молитвы и речи Пророка». Яго почувствовал легкое разочарование, которое не мог скрыть.
— Мне жаль огорчать тебя, мой уважаемый коллега, но ты заблуждаешься.
— Действительно жаль, сеньор Церцер, — откликнулся Яго с несколько потускневшим взором.
Он продолжал в сомнении разглядывать книгу и неуверенно предложил советнику листать дальше, хотя бы это и было бесполезно. Церцер перешел к другому листу, потом к следующему. Было видно, что это не суры Корана в их привычном виде.
— Ладно, пора, наверное, заканчивать с этой комедией, — подвела итог аббатиса.
Внезапно, когда Церцер уже почти согласился и собирался закрыть книгу, его рука замерла и дернулась. Скептический взгляд теперь излучал изумление. Сам он теперь чем-то напоминал жену Лота, сраженную небесной карой. Но вот «соляной столп» растерянно оглянулся и воскликнул:
— Клянусь бородой Моисея! Как же я не увидел!
Яго, ничего не понимая, придвинулся ближе и внимательно прочел пятую страницу с красиво выписанными золотыми буквами. От книги веяло застарелым запахом, а на странице находилась чарующая разгадка тайны, которую он так самоотверженно и долго искал. Церцер в упоении не меньшем, чем его младший коллега, громко прочел:
— «Коран, сура первая. Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала — Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда!»
Для Яго эти слова, которые в общем-то еще ни о чем не говорили, являлись подтверждением его догадок.
— Эта фраза достаточно красноречива, — ликовал он. — Перед нами первая страница Корана.
— Священная книга ислама, — с расширенными глазами подтвердил советник. — Откровение пророка Мухаммеда. Главная книга всех мусульман, о которой философ Раймунд Луллий говорил: «tan ben editat у demostrador de la unitat de Deu» [175]. Ты был прав, Яго, признаю. Ты настоящий искатель истины, самый упорный и грамотный из всех, кого я до сих пор знал. Теперь ясно, что султан спрятал текст в этом томе. «Жемчужина» конечно же. Он знал, что с годами она может попасть в руки христиан. Ну и хитрец!
Монахини, силясь понять, в чем состоит ценность находки, хранили молчание.
— В таком случае прошу у вас прощения за то, что вам говорила, сеньор Яго, — неловко пробормотала аббатиса, — вы и в самом деле обладаете этими качествами — самоотверженностью и упорством. Поздравляю вас.
— Тем не менее нам еще предстоит уточнить, что это и есть тот самый Коран аль-Мутамида, — сказал Яго. — На то, что это так, должен указать текст о Страшном суде. Толкователи и сведущие люди говорили мне, что это девяносто восьмая сура, которая называется «Ясное знамение». Заглянем туда.
Бер Церцер благоговейно листал покоробленные страницы, источавшие запах ветхости, и по мере просмотра становилось понятно, почему это издание Корана было запрещено ревнителями чистоты ислама как богохульное: на его полях красовались прекрасно выполненные цветными красками изображения растений и животных, чудесные в своем многообразии. Созерцать их было наслаждением. Все присутствовавшие убедились, что книга — настоящая сокровищница миниатюрной живописи. Яго и Церцер любовались многочисленными фрагментами золотой росписи, которые, хотя и потускнели от времени, сохранили свое великолепие. Так, сура «Корова» содержала изображения домашнего скота в синих тонах индиго, суры «Муравьи» и «Паук» сопровождались изображениями целых воинств муравьев и малюсеньких паучков, посланник Йунус на соответствующей странице был изображен в пасти кита. А в девятнадцатой суре появилась улыбающаяся Марйам, мать Исы — то есть Иисуса. Ее изображение, окруженное упитанными ифрис, то есть ангелами судьбы, предваряло суру.
Богомолки удивлялись несказанно, им стоило больших усилий примириться с тем, что в «сатанинской книге» фигурировали тщательно выписанные лики Девы Марии и Спасителя. Мало-помалу они меняли свое отношение к искусно выполненной рукописи. Аббатиса со сдержанным смущением сказала:
— Сердце мое отказывается верить в то, что столь прекрасная на вид книга может содержать столько яду.
Наконец появилась часть, к которой вели их самоотверженные поиски; в нетерпении все спрашивали себя, подтвердится ли дерзкая идея молодого врача, который сам изнемогал от желания найти ответ на свои предположения. Семь пар глаз заглядывали в девяносто восьмую суру — и точно: на ее месте, ко всеобщему удивлению, предстал длинный текст, написанный совсем другим почерком, а также странный квадрат, разделенный на девять ячеек, пронумерованных по индийской системе [176], которые явно нуждались в каком-то числовом ключе для понимания.
Виньетку послания о Страшном суде поддерживали на своих посеребренных крыльях четыре каббалистических архангела: Гавриил, Михаил, Азраил и Рафаил.
Мгновенный импульс сверкнул в глазах Яго.
— Вот оно, магистр! — воскликнул он. — Прочтите его сейчас, сможете?
— Невозможно, — сказал Церцер, не переставая думать над загадочной схемой. — Перед нами совершенный квадрат, криптограмма, которую пока нельзя прочесть, потому что номера здесь надо поменять на какие-то буквы, но нам не следует ломать над этим голову, потому что само пророчество о Конце времен уже расшифровано далее, — видите? Могу прочесть, если вы позволите, уважаемая матушка.
— Не задерживайтесь на этом, давайте, и мы закончим, — сказала та с нетерпеливым беспокойством.
Астроном погрузился в глубокое раздумье. Он поправил очки и шаг за шагом просмотрел, видимо, непростой текст. Хмурил брови, удивлялся, широко открывал глаза, неодобрительно качал головой, зябко поеживался, восхищался, искал какие-то признаки подделки и, наконец, озадаченно уставился на остальных присутствовавших. Никто из них не шевелился, казалось, что послание содержало какую-то ужасную тайну, от которой зависело их спасение.
Церцер кашлянул и проглотил слюну. Все робко и благоговейно слушали.
— Вот как звучит этот вставной текст:
Аллах велик. О благородный ал-Мутамид, каллиграф Аллаха, король Севильи, андалусийская жемчужина и непобедимый меч ислама! Не будет ничего подобного Дню Возрождения, когда Небеса сойдутся с землей и люди задрожат, подобно стеблям бамбука в руке Божьей. Взгляды их Его не коснутся, но Он будет видеть глаза своих детей. Бог послал в мир Моисея, Иисуса, Мухаммеда, а теперь пошлет Избранного, седьмого пророка.
О Адам, я собираю твое семя, и земля, что была создана, опустошена и воссоздана четыре раза, пришла к своему концу!
Вот пророчество Али, четвертого Калифа [177] рашидун, двоюродного брата и зятя Мухаммеда, Печати Пророчества, которому Иибриль (Габриель), Честный Правитель, поведал на горе Хира о времени и знаках, которые будут предшествовать Страшному Суду. Слушай и внемли.
Согласно этому свидетельству, когда небесная твердь станет не дальше, чем край туники от твоей сандалии, люди того неведомого времени завладеют небесами, землями и океанами, но отрекутся от сущих религий, а забвение Бога и Святых Книг ослепит их очи. Возникнет хаос на водах, страшные катастрофы последуют одна за другой, и будет неимоверное нарушение порядка и поведения людей, отрекшихся от самого святого.
Так придет День Страшного Суда, и на аркадах Вершины Скалы Иерусалима на марвазинах, или весах, будут взвешены все дела человеческие. Случится воскрешение мертвых в Долине Хосафата, где благоверные спят у подножия горы Мория, и души сострадающие перейдут мост Сират, ведущий к золотым вратам Рая. Однако раньше на землю Сейидна явится Аль-Махди, имена которого будут также Избранный, первый составитель законов, Сабих аз Зама — Господин Круга, Акран — Обладатель Книги, Аль Мунтазар — Ожидаемый, Аль Кутб — Духовник, или Миссионер.
Народится он в одном из городов, название которого на букву К (Куртуба, Кордова?), Кайруан, Карран, Кудс (Иерусалим?). И будет он происходить из потомков Пророка, лоб иметь широкий, нос орлиный, а одет будет в грубую одежду из верблюжьей шкуры, и с его приходом воцарится мир. Своими проповедями он восстановит гармонию в мире и поведет его в Золотую Эру, такую, какая была до грехопадения Адама. Однако правление его продлится десять лет, а потом разверзнутся могилы, солнце погаснет, огонь поглотит землю и живые позавидуют мертвым.
И верующие дети Агар соберутся на Камне Сиона Иерусалимского, где похоронен отец Адам и когда-то высился Рай. И там они удостоятся милости Всевышнего, и всякая душа соединится со Всемогущим после суда над ней.
И приход этого трагического дня всеобщего Уничтожения был сокрыт в Херц, каббалистическом изображении, называющем Первое Небо словом Сама, об этом дне до самой своей смерти молчал праведный сын Али, который вовлек Хусейна-мученика в свое ужасное пророчество. Растолкованное в свете Книги Милосердия, оно утверждает, к несчастию всех живущих, что человечество уже взошло почти до самой вершины Лестницы Искупления и грядет неминуемый конец света. Он произойдет в момент, когда созвездие, называемое астрономами Аваид Рас ат-Тиннин, то есть Голова Дракона, начнет свое восхождение на небосводе, а его звезды образуют форму, подобную ожерелью на груди девушки. Но случится это в тот роковой день, когда по причинам, одному Всевышнему известным, его звезды Насак сами и Насак самани столкнутся в Равде, то есть в Небесном саду, с другим звездным телом, до сих пор неизвестном астрономам, по имени Расы, то есть Пастор, — одинокой звездой перламутрового цвета, которая вершит свой путь вблизи группы светил, называемой Ганан, или Овечье стадо [178].
Согласно пророчеству в день погибельный падения на землю звезды, или инкады, огонь, отчаяние и смерть охватят страждущее человечество, тех, кто выживет, но потеряет все. И согласно точнейшим расчетам астрономов это несчастье случится через четырежды четыре эры человечества, в год 1700 хиджры [179]. И по воле Божьей жизненный цикл человечества будет завершен, и все увидят наконец Шехинах, лик Мудрейшего и Милосердного Бога.
Вот о чем говорит Херц Али, сын Абу Талиба, победителя в битве Камельо, как он поведал мне, Яафару ас-Садику, в моем рибате в Багдаде. И пусть тому верит тот, кто хочет.
Какое-то время слышалось лишь прерывистое дыхание присутствующих, будто они стали свидетелями того, как некое дерзкое, веками дремавшее колдовство вырвалось наружу, распространив вокруг дух сомнений, догадок и недоверия. На лицах монахинь был написан страх или неприятие. Обращенный иудей вновь окунулся в глубокое размышление, заходив по помещению взад и вперед, будто волк в клетке.
— Уважаемая матушка, нельзя ли принести принадлежности для письма, — обратился он к настоятельнице, вновь водрузил на нос очки и некоторое время проводил алгебраические вычисления. Наконец он поднял густые брови и уверенно объявил:
— Это таинственное лицо, Яафар ас-Садик, которому, как видно, мы обязаны данным откровением, довольно известен в среде звездочетов. Он понаторел во всяких науках — в алхимии, математике и в каббале, толкуя скрытые послания сведущих. Он был одним из самых просвещенных людей своего века и пользовался уважением многих ученых мужей. Однако считать его правым в данном эсхатологическом пророчестве — личное дело каждого.
— Это порча и ворожба дьявола, — произнесла настоятельница монастыря. — А какому году григорианского [180] календаря эта мусульманская дата соответствует?
— По приблизительным подсчетам, конец мира выпадает, согласно этому пророчеству, на 1700 год магометанской эры. Само это число является священным для каббалы, поскольку сумма его цифр равна восьми.
— А по нашему календарю это какой год будет, магистр?
— Можно сказать точно: через тысячу шестьдесят пять лет, год две тысячи триста шестнадцатый христианской эры. И это не менее любопытно, потому что, по утверждениям древних астрономов — халдейских, египетских и индийских, — эр человеческих на земле было четыре и последняя закончится шесть тысяч лет спустя после Потопа, то есть в две тысячи трехсотом году после рождения Христа. Совпадение впечатляет! — заметил советник. — От такой точности становится не по себе, потому что можно не сомневаться, что здесь указана дата, рассчитанная выдающимся ученым в Академии знаний и астрономии Багдада.
— Жизнь человечества презренна в глазах Господа, — возразила ему аббатиса. — И задолго до того, как исполнится это злокозненное предсказание, на земле установится христианский порядок, а всякие африканские варвары будут гореть в аду.
— Матушка, человек живет, переходя из мрака отчаяния к светлой надежде на новые времена, — сказал Яго, который весь светился от удовлетворения.
Церцер, заслышав это, подумал, что явление его лучшего коллеги имело какой-то судьбоносный смысл. Оба уставились на мать аббатису, которая решительным жестом закрыла книгу, словно боясь, как бы какое-нибудь злословие не вывалилось с красивых пергаментных страниц. Яго почувствовал на себе ее испытующий взгляд.
— Для этого еретического Корана, сеньор Яго, я сделаю исключение. Сдается мне, что на его страницах обитают злые духи, от присутствия которых следует оградить моих монахинь. Подопечные овцы Сан-Клементе и так подверглись осаде волков, которые покинули привычные логовища, а новых угроз в обители я более не потерплю. Возьмите и передайте том кому хотите, пока я не передумала и сама не передала его в Трибунал.
— Я вас не подведу, донья Констанса, пусть он будет в руках мусульман.
— Мой долг — с корнем вырывать эти языческие ростки, — пробормотала она гневно. — И можете сказать дону Лопе, что, сколько бы богохульных книг ни осталось в анафемской библиотеке, сегодня же они будут преданы огню. Демон ходит вокруг да около, но меня не проведешь, и наша покаянная обитель обретет наконец-то покой. Ступайте с Богом!
Зашелестели по полу одежды монахинь, что означало конец прошедшей столь продуктивно встречи. Яго прижал к груди Коран аль-Мутамида. С этим жестом заканчивался целый этап жизни, связанный с Севильей, впереди неясно замаячила совсем другая, далекая жизнь.
Снаружи небо затягивали фиолетовые грозовые тучи.
Miserere mei Deus [181]
Шли последние дни февраля, и Яго, уже полный решимости направить стопы в Гранаду, рассматривал в тишине голые стены лечебницы, был канун его отъезда. «Надеюсь, что небеса видят все мои добрые намерения, и пусть меня ведет безнадежная любовь — тот, кто судит жизнь и смерть, будет на моей стороне, потому что мечты мои не страдают ни святотатством, ни непомерностью, я просто хочу справедливости», — сказал он себе.
Яго распрощался со своими коллегами из больницы Арагонцев, которая руками дона Николаса вручила ему воистину трогательный подарок: вновь сделанную рукописную копию «Трактата о лекарственных средствах» Макалы, — кроме этой альгвасил дон Лопе позволил сделать еще две точно такие же перед тем, как предать огню оригинал во исполнение постановления Трибунала.
Церцер, Ортега и другие их приятели по таверне «Дель Соль» собрались на прощальный ужин; здесь Яго передал Ортегилье права ренты, которыми судовладелец Альдо Минутоло поделился с ним после излечения от болезни во время эпидемии. Теперь они могли получать часть прибыли от корабельных перевозок. Судья блудниц, уже порядком набравшись, принял это предложение с большой неохотой. Вино лилось рекой, ели мясо косули с изюмом, капиротаду [182], голубей со специями и маринованную треску.
— В Кастилии война и мятежи, а я попробую поискать лучших мест, воистину райских, где нет страха и тирании и где за веру или знания тебе не станут резать горло.
— Сегодня оповещали под рожок и барабан: донья Гиомар будет казнена, — доложил судья.
— В итоге из доньи Гиомар сделали козла отпущения, — заявил Церцер. — Король с самого начала следил за этим делом и не скрывает, что дозволяет казнь в отместку за смерть Элеоноры де Гусман, женщины, которую очень сильно любили в нашем городе. Свою подпись под смертным приговором он поставил уже давно.
В тот поздний вечер объятия и даже слезы, блестевшие в глазах присутствовавших, стали для Яго убедительным свидетельством того, что здесь он оставляет настоящих друзей.
* * *
Воскресное утро святого Матфея выдалось ветреным, и аромат цветущих лимонов наполнил город. День этот был особенным. Донью Гиомар, колдунью и клятвопреступницу, обманщицу, устраивавшую ложные чудеса и предсказания, должны были сжечь на костре на Альберкасе — песчаном откосе за Алькасаром, где пасли скот.
После заутрени под слезы Андреи и напутственные речи Ортегильи Яго запряг своего мула, взял торбу, в которую были уложены охранная грамота гранадского султана, нехитрые пожитки и Коран аль-Мутамида, и направился к воротам Хереса, где собирался присоединиться к торговому каравану морисков, направлявшемуся к границе. В тот самый момент, когда Яго взобрался на мула, скрипучая повозка, за которой следовал целый выводок детишек, кликуши и хмурые прихожане, медленно продвигалась по дороге к месту казни.
На повозке тряслась осужденная донья Гиомар — руки связаны, волосы обрезаны, на лице короста грязи и засохшей крови после жестоких пыток. Бракамонте, ее подручного убийцу, удавили еще в камере, тело разрубили на части и на рассвете бросили сворам диких собак, промышлявших в Альтосано. Барабан отбивал зловещее продвижение обреченной преступницы, которую сопровождали палачи и судьи Сан-Хорхе под королевским штандартом. Далее следовали несколько монахов в капюшонах и со свечами, они замыкали колонну под звуки мрачных молитв, от которых перехватывало дыхание.
— Тегга tremuit in judicio divino, — звучало окрест. — Miserere mei Deus [183].
В то воскресенье многие горожане отправились на мессу пораньше, чтобы не прозевать казнь, и валом валили со стороны Угольных ворот на заполненный выгон Альберкас. Мориски — разносчики воды — предлагали травяные настойки, прохладительные напитки, бульоны в плошках, бобы и ореховое печенье; тут же попрошайки и калеки приставали к богомолкам, франтоватым кабальерос и боязливым девушкам, чтобы выклянчить монетку.
Яго едва пробивался через эту толпу. Процессия приближалась, барабан бил в уши. Яго не мог уже двигаться дальше и остановился, глядя на дорогу. Неожиданно, точно так же, как это случилось в первый день его пребывания в Севилье, он почти рядом с собой увидел ясновидицу. Впился глазами в ее лицо, изуродованное синяками и кровоподтеками, но сохранявшее твердость выражения. Она старалась скрыть скупые безутешные слезы, которые делали ее похожей на невинную деву, сопровождаемую целой процессией жестоких палачей. Ее привлекательность никуда не делась, однако была какой-то призрачной. «Что за странной энергией обладает эта женщина?» — спросил он себя устало и смиренно.
Ее красота, немилосердная и странная, завораживающие и непроницаемые глаза продолжали смущать его душу. Сидя в седле и возвышаясь над всеми, он глядел прямо на ее полузакрытые веки. Гиомар вдруг заметила его из своей клетки и ответила на его взгляд; неожиданный импульс нежности вышел из ее глаз. Боже, как могла эта прекрасная женщина совершать такие неимоверные преступления?
Яго, который плохо переносил всякие казни и понимал мучительность смерти, которая ожидала эту женщину, смотрел на нее с сочувствием и прощением, хотя помнил перенесенный ужас той ночи, когда растерзали Исаака, сам он был вынужден покинуть Севилью под угрозой смерти, а после пережить долгую ссылку вдали от тех, кого любил. Тем не менее перед ним был человек, познавший не только удовольствия и власть, но также предательство и безжалостность себе подобных.
— Ну-ка зови сатану, чтобы он тебя вытащил! — крикнула какая-то старуха, бросая в нее камень. — Сотвори чудо и улети на помеле, ведьма!
Весь напрягшись, Яго провожал взглядом ее фигуру, покрытую окровавленной грубой накидкой, — она исчезла за толпой по дороге к эшафоту, вокруг стоял душный запах человеческого пота. Там ее встретили оскорблениями и приветствиями в адрес палачей, скрытых зелеными капюшонами. Вот так происходит в жизни: хвала и преклонение толпы сменились бранью, плевками и похабщиной.
— Колдунья, сатанинская сова! — хором кричали какие-то бабенки.
— Покажи нам свое дьявольское клеймо, обманщица! — орал нищий.
Суровый альгвасил потребовал тишины, и крики толпы постепенно затихли. Он красноречиво описал, в чем обвиняется преступница, — до Яго доходили лишь обрывки его фраз, потому что они тонули в общем гаме:
— …с преступным бесстыдством предавалась сатанинским опытам, имела сношения с демонами, впитывала ядовитое содержание книг, запрещенных матерью Церковью, делала аборты, изрекала ложные пророчества, предавалась распутству в святой обители. Готовила колдовские снадобья, обманывала Божью паству и предала своего подлинного государя, участвуя в кознях бастардов. Дело ее по преступлениям против заповедей Иисуса Христа рассмотрено, она допрошена и приговорена Трибуналом, и да будет ее грешная душа пребывать в очистительном адовом пламени, а тело ее вручается палачу. Правь, Севилья!
Поверх моря голов, волновавшихся вокруг помоста, будто засеянное поле летом, Яго видел далекий эшафот. Народ, жадно следивший за приготовлениями палачей, не успокаивался под ударами стражников и требовал скорейшей казни. Вот доминиканец подошел к осужденной и лицемерным жестом милосердия дал ей поцеловать распятие, и, пока он предлагал окружающим прочесть «Отче наш», палачи, грубо толкая, подвели ее к столбу и привязали веревками из дрока, как будто бы у этой женщины, истерзанной и покорной, еще оставались силы бежать или ее действительно мог похитить дьявол с гибельных ступеней эшафота.
Вокруг ее шеи укрепили два железных крюка, металлический звук которых разлетелся по сторонам. Толпа затихла в фанатичном исступлении, сдерживая крики ужаса, колокола прекратили свой надрывный звон. Бой барабанов усиливался и становился более резким, от него перехватывало дыхание.
— Да свершится правосудие! — прогремел голос главного судьи.
Палач стал ловко затягивать гарроту, с уст Гиомар сорвался стон, ее жестоко трясло; потом ее тело обвисло, будто это была марионетка, у которой разом отрезали ниточки, державшие ее. Страшный вид задушенной леденил кровь толпы, что в ужасе глазела на оскал казненной, на вывалившийся язык, на скособоченную и поникшую в невозможном положении голову. Яго вдруг ощутил запах смерти, его вырвало. С перекошенным лицом он натянул поводья мула и стал удаляться от этого поля, будто его застали в запретном, смертельном месте.
Как много времени ему понадобится, чтобы забыть эту дикую и бессмысленную казнь! Хотя его мул изнемогал от усталости, он продолжал его пришпоривать, не оглядываясь. Но и догнав караван, он не стал оборачиваться на город, который так полюбил. Он не замечал неброской красоты начинавшейся весны, оливковых рощ и виноградников, соперничавших в яркости с лилиями и миртами, садов в цвету и огородов, откуда доносилось негромкое пение огородников.
Удалявшуюся Севилью уже заливало слепящее солнце. Ее обнимала благословенная река, а непорочно чистое небо нимбом охватывало белые строения, утопавшие в апельсинных и лимонных деревьях. Болезненная тоска сжала Яго грудь, когда он представил за спиной зубчатые стены, таявшие в сиянии утра. И тут он стал вспоминать о Субаиде, и на него снизошла отрада. Дней через шесть они встретятся, если, конечно, его грамота в котомке все еще будет иметь силу и если чувства назарийки к нему не померкли от времени. Тем не менее его мучили мрачные предчувствия, он спрашивал себя еще и еще раз, сможет ли он уговорить ту, кто властвовала над его сердцем, вернуться во враждебный ей и ее племени город.
Ястреб и голубка не могут создать семью, даже если летали рядом.
* * *
Мул уже вконец выбился из сил и задыхался, когда Яго подъехал к Гранаде и у ворот Бибальмасда вытащил грамоту султана Юсуфа. Стражник смерил его взглядом с головы до ног, но ввиду убедительности предъявленного документа свободно пропустил в город, чье великолепие и богатство были известны в христианском мире. Яго углубился в лабиринт его улочек, очарованный их красотой и приторными запахами.
Он с огорчением отметил, что и здесь были видны следы «черной смерти»: жители имели усталый и боязливый вид, а по сторонам кое-где горели очистительные огни. Шел благословенный месяц Сафара, и назарийцы, привыкшие жить бок о бок с отрекшимися от своей веры и принявшими ислам христианами, едва обращали на него внимание. Атакованный роем мух и продавцами воды и парфюмерии, он двигался наугад близ Красной Крепости — Каалат аль-Хамбра, или Альгамбры, — но тут его смутил угрюмого вида мамалык, пленный христианин, обращенный в ислам, который уставился на него враждебным взглядом и угрожающе хватался за кривую саблю; пришлось повернуть и убраться по крутым переулкам Альбайсина. Хотелось пить, и он утолил жажду из фонтана с четырьмя щедрыми струями, у которого в тот час были одни женщины, с интересом посматривавшие на него и о чем-то лопотавшие друг с другом, укрывшись своими шелковыми микнаа.
Оттуда открывался восхитительный вид на залитый солнцем зеленый город, караван-сараи, богатые базары, на пригород Медина, бурливую Рамблу, спокойную Алькайсерию, пасторальный Найд. Внутри городской стены, где обитало не менее пятидесяти тысяч жителей, уже было трудно найти место для строительства, поэтому десятки домов с белыми террасами и двориками в цвету теснились и наползали друг на друга, деля пространство с улицами, маленькими площадями и мечетями.
С этого места цветущая Гранада раскинулась во всем своем великолепии. Отовсюду слышалось непрестанное журчание воды. Ее здесь было много — прекрасный, божественный дар, вода стекала со снежной горной цепи, наполняла ров под крепостными стенами, тихо стояла в водоемах или змеилась по каналам обширной поймы. Речки, колодцы, фонтаны, акведуки на тысячи ладов разыгрывали водную симфонию, которая зачаровала Яго, он прислушивался к звукам назарийской столицы, к шуму базаров и площадей, смеху девушек, крикам ослов, подстегиваемых погонщиками.
Потом его взгляд остановился на неприступном красном дворце, величественно высившемся над вершинами кипарисовой рощи. «Где может находиться Субаида? Когда я смогу посмотреть ей в глаза и насладиться общением с ней?» — вопросы роились в голове. Яго представил ее — гуляющую по этим сказочным садам, или в каком-нибудь медресе, в мечети альхама, беседующую с улемом, или жадно читающую манускрипты в беседках дворца Комарес, где султан, ее двоюродный брат, принимает иностранных послов в зале, отделанном золотом и драгоценными камнями, чтобы произвести на них надлежащее впечатление. В своих фантазиях Яго представил ее меж зубцов стены, закутанную в тюль и воздушный шелк.
Из мечтательной задумчивости его вывел зов муэдзинов, сочетавший зычные призывы с тихими молитвами. В момент, когда солнце оказалось в самом зените, он направил своего мула к фундаку Нового рынка — многолюдному торговому месту, где имелись склады и постоялый двор для купцов, популярный среди путешественников, попрошаек и мошенников. Здесь он наметил встретиться с братьями Никколо и Марино Спинола — судовладельцами из Лигурии, которых султан привечал, поскольку они занимались поставками для семьи назарийского правителя и представляли его интересы.
Пробившись на другую сторону реки через пешую и вьючную толпу, наводнившую мост аль-Ядида, он привязал мула и нырнул в крытые галереи двора, заполненного торговцами, которые вели переговоры, сопровождая речь бурной жестикуляцией. Чего тут только не было: пеньковые альпаргаты, пшеница, упряжь, изюм, сахар, мед, шерсть, подковы и кожа.
Воспользовавшись обеденным временем, Яго проскочил мост Черного тополя и оказался на Дровяной площади, где жила колония генуэзцев. Там он нашел дом братьев Спинола. Они оказались коренастыми близнецами, оба лысые, с простыми манерами, говорившие на альгарабии — колоритной смеси испанского, латинского и арабского языков. После того как он вручил им письмо от Альдо Минутоло, их поначалу холодное, хотя и вежливое, общение вылилось в горячий прием, они даже предложили ему перенести свои вещи в их роскошный дом в христианском квартале. Яго объяснил им причину своего приезда в Гранаду, и они обещали ему если не устроить личную встречу с Субаидой, то хотя бы узнать новости о жизни принцессы и ее бабки Фатимы.
Потом он посетил Медицинский центр суфистов, продолжателей традиций Авиценны и ас-Сакури. Последний придерживался идеи о космической природе чумы. Приняли его здесь тепло и по-дружески — после того как он предъявил свой аман и титул лекаря и хирурга лечебницы Арагонцев, а еще потому, что его коллегой был известный Бер Церцер; его расспросили о методах лечения, применявшихся в Салерно и Севилье во время эпидемии, которая здесь ударила по кварталу Зайдин и по многим береговым поселениям. Прошелся по аудиториям, по секрету дружески сообщил, что уважаемый ими Церцер скоро собирается к ним с визитом, потому что его пригласили лечить султана, и что магистр привезет им редкий экземпляр с описанием исламских лекарственных средств, найденных в одной из севильских церквей, хотя не стал подробно на этом останавливаться. Он подметил, что врачи местной лечебницы настроены безрадостно. Они с болью говорили о неминуемом конце гранадского халифата. О его приближении говорило то, что около года назад флюгер в виде петуха, стоявший на местной мечети и считавшийся гранадским талисманом, обрушился от сильного ветра.
— Разочарование овладевает верующими, сеньор Фортун, — говорил ему один из врачей. — Спокойствие, равновесие, которыми объяснялась удивительная живучесть Гранады, ныне исчезают, потому что нет ничего более обременительного и обидного для народа, чем жизнь, за которую приходится платить золотом. Мы уже по горло сыты унижениями со стороны кастильцев, междоусобицей в семье халифа, а также вероломством и лицемерием вашего короля дона Педро.
Известий из Альгамбры не пришлось ждать долго. На десятый день пребывания сеньор Спинола пригласил его в свой кабинет. Богатый коммерсант ходил взад и вперед, опустив голову и заложив руки за спину. Яго насторожился, предчувствуя осложнения.
— Нет ничего более достойного порицания, чем отказ в помощи другу и спасителю моего двоюродного брата Альдо. Но мне приходится сообщить вам плохие новости, сеньор Яго.
— Слушаю, монсеньор Никколо, — откликнулся врач. — Говорите как есть.
— Illustre signore [184], мне не удалось пообщаться лично ни с кем из королевской семьи, — сказал Спинола. — Говорить о том, что некий почитатель Троицы, или христианин, интересуется встречей с принцессой в серале, было бы дерзостью и вызвало бы недоверие. С подозрением отнеслись бы и к тому, что известный мустамин, неверный, имеющий верительные документы от султана, имеет какие-то интересы во дворце. Так что я переадресовал свои вопросы одному человеку, который обязан мне освобождением.
— И что же ему удалось выяснить?
Генуэзец ответил не сразу, последовала деликатная пауза.
— То, что принцессы Субаиды нет ни в Альгамбре, ни даже в Гранаде. — Слова прозвучали как стук могильной плиты.
Яго был жестоко разочарован, отказываясь верить услышанному. Какая неизвестная причина могла вызвать такое тревожное событие? Субаида стала жертвой политических интриг? В горле сразу пересохло, казалось, мир рушился на его глазах. Новым враждебным веянием накрыло его любимую, это грозило их будущему. Уязвленный в своих самых заветных чувствах, Яго опустил глаза, которые мало-помалу стали затягиваться соленой влагой разочарования. Капризная судьба похитила у него самое дорогое, что он имел в жизни.
Мечта об Александрии
Купец внимательно посмотрел на кастильца, поняв, что его слова были причиной такой реакции. В утешение он дружески похлопал его по плечу. — Видя ваше огорчение, я просто обязан дать вам совет. Не отчаивайтесь, выслушайте: я ведь знаю один секрет этого дворца, который известен немногим. В султанате имеют обыкновение ссылать неугодных в Салобренью — прибрежную крепость всего в двух днях пути отсюда. Так поступают с провинившимися или со строптивыми членами правящего клана. Возможно, там находится и особа, которую вы ищете.
— А на основании чего вы полагаете, что Субаида бинт Умар могла каким-то образом не угодить людям своего круга?
— Мне известно совсем немного от одного из людей, допущенных во дворец. Он, помимо прочего, вхож и в личный диван султана. К тому же у меня есть сведения от одного из визирей, имя которого Сайд Мирза. Могу заверить вас, что оба избегают разговоров о вашей принцессе.
— А какова причина ее ссылки? Она совершила какое-то богохульство?
Уже выбирая выражения, чтобы не узявлять душу доктора, генуэзец таинственно произнес:
— Мои доверенные лица отказались говорить о причине, сеньор Фортун. Они лишь сказали, что упоминание ее имени во дворце может навлечь неприятности. Вот еще один совет: не испытывайте на себе гнев султана и забудьте об этой опальной женщине. И даже не стоит о ней наводить справки. Тот, кто попадает в немилость к Юсуфу, например придерживается другого догмата, может закончить свои дни проданным в рабство или будет обтесывать камни в компании воров и вероотступников. Вам известно, что в одном из подземных застенков в Альгамбре заживо, в нечеловеческих условиях, гниют более двух тысяч христиан?
— У этой женщины непокорный характер, она перевернула мою жизнь, и я не отступлюсь от своих намерений. Этого требуют мои глубокие чувства к ней, сеньор Никколо, — твердо возразил Яго.
— Поистине, сердце способно разорвать путы рассудка, — ответил генуэзец с улыбкой.
Яго представлял себе тысячу запутанных и сложных обстоятельств, но менее всего это. Чтобы женщина султанской крови, испытавшая превратности изгнания, заслужила подобную неблагодарность? Нет, о том, что с ней случилось, он должен узнать во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, с помощью генуэзца или без таковой. Риск составлял часть его жизни с тех пор, как мать отдала его на руки брату Аркадио. Он никогда не сдавался без упорной борьбы.
— Завтра же отбываю на побережье, — решил врач. — И да поможет мне мой аман.
— Если так, я мало чем могу помочь вам, разве что дать надежного провожатого, который приведет вас на место и как-то облегчит поиски Субаиды бинт Умар, потому что здесь нужно уметь изъясняться на умала — эта такая галиматья, на которой между собой говорят здешние иноверцы. И не забывайте: здесь в ходу другие законы и правила, и то, что годится для христианина, в Гранаде может обернуться проступком с непредсказуемыми последствиями. Так что будьте осторожны, amico [185] Яго.
— Сеньор Спинола, я благодарен вам за бескорыстное участие, а с принцессой меня связывает слишком многое. И хотя она опять попала в изгнание, ее глаза притягивают меня, словно нектар заблудшую пчелу.
— Сдается мне, с такой решимостью и бескорыстием вы найдете ее. А для того, кто спас нашего добряка Альдо от «черной смерти», ничего не жалко. Да поможет вам Господь и даст вам силы и мужества, — заключил генуэзец и с чувством пожал ему руку.
* * *
Когда после четырех изнурительных переходов по ущельям и перевалам горных цепей Яго, изможденный и в пыли, прибыл в Салобренью, ему не верилось, что он здоров и целехонек. Отрадой ему стал прекрасный вид, открывшийся со скалы на цветущие и нетронутые луга, поросшие тростником и зелеными кустиками, за которыми раскинулось море цвета пламенеющего индиго. Он побродил в непосредственной близости от крепостной стены, расспрашивая крестьян и гончаров, не знают ли они что-либо о принцессе Субаиде, но те боязливо отмалчивались. Пришлось заняться поисками жилья, а потом снова пытаться что-либо узнать, и это оказалось нелегким делом.
На четвертый день бесплодных поисков, во время сиесты, когда слуга Спинолы уже собирался найти знакомых поденщиков с виноградников и огородов, чтобы вытрясти из них сведения, явился эфиоп, безупречно одетый, с глазами навыкате, черный, как смола, и прямой, как копье, нашел Яго и объявил ему на не очень хорошем арабском:
— Сайида Фатима просит вас следовать за мной. Вам нечего бояться, сеньор.
Яго внимательно оглядел гостя с головы до ног, отметил его богатую зихару из красного шелка, сафьяновые башмаки и красный берет, что выдавало в нем слугу из Альгамбры. Другого выхода, как рискнуть, у него не было, потому что он помнил: султанша Фатима — единственный человек, кому безгранично доверяла Субаида. Приходилось поверить в подлинность приглашения и в то, что за ним не таится смертельная ловушка. И потом: наконец-то после долгого и беспокойного ожидания, когда он уже подумывал уходить отсюда, возникла надежда.
Он распрощался со слугой Спинолы, щедро его отблагодарив, и сел на своего мула, не снимая руки с рукоятки кинжала. Настороженный и взволнованный, он отправился за эфиопом по крутым улочкам. Хотя он и был одет в андалусийские одежды, некоторые любопытные жители на него оглядывались, подолгу смотрели и даже шли следом, пока они, миновав крепость — обитель алькальда, — не добрались до богатой усадьбы, расположившейся несколько в стороне от цитадели на скале. Слуга толкнул дверь, и они оказались в небольшом саду, заросшем плющом и лианами, где цвели мирты, олеандры и смоковницы, — за ним открывались внутренние помещения — казалось, пустые.
Эфиоп предложил Яго посетить баню — хамман, и только тут врач расслабился и забыл тяготы недавнего путешествия. Слуга помог ему одеться и повесил на шею мешочек, пахнущий мускусом; потом, налив ему напиток из мякоти алоэ с корицей, поторопил:
— Следуйте за мной, сеньор. Госпожа Фатима ждет вас в шатре Базилик.
По дороге им встречались другие слуги. Неожиданно Яго почувствовал чье-то неуловимое присутствие, будто кто-то скрытно следил за ним. Он оглянулся, но по обе стороны были решетчатые ставни, а за ними никого. Вскоре они оказались в помещении, наполненном светом, украшенном зеданскими коврами. Рядом с диваном с подушками, обтянутыми шелком и парчой, стояла жаровня, от которой исходил аромат сандала и амбры. В голове Яго крутилась тысяча необъяснимых предположений, но долго ждать не пришлось.
— Пусть Всемилостивый проясняет твои глаза, доктор Яго, — раздался приближающийся голос.
— Салам алейкум, — откликнулся он с беспокойством и неуверенностью.
Увидев перед собой немолодую женщину с величавой осанкой, он сразу заметил, что та поразительно похожа на Субаиду, хотя значительно старше ее. На лице вошедшей, отливавшем медью, были заметны морщины, но красота ее поразительно сохранилась. Белозубая улыбка гармонировала с серебряными волосами, забранными назад дорогими заколками. Она рассматривала гостя чисто по-женски, внимательно оглядывая с ног до головы. Эту женщину, прекрасные глаза которой светились проницательностью и умом, сопровождал старик, который что-то торопливо шептал ей на ухо, ведь верующей женщине и вдове не положено было встречаться наедине с мужчиной, да к тому же христианином. Наконец она заговорила с ним на отличном испанском, открыто и доверительно:
— Полагаю, ты уже догадался, кто я. Я Фатима — дочь, супруга, мать султанов и бабушка Юсуфа, халифа Гранады, а также и Субаиды — самого прекрасного нашего цветка. Она подверглась гонениям со стороны семьи султана. Меня сопровождает опекун Субаиды, мудрый Шаль Малик.
— Храни вас Бог, и простите за то, что здесь мне многое незнакомо.
— Ты узнаешь все в свое время, нетерпеливый юноша, — свысока ответила она. — Сядем. Хазм! Принеси нам сладости и нектар из мяты и аниса.
Для Яго было очевидно, что эта женщина пользуется немалым влиянием, ее речь лилась уверенно и свободно, не похоже было, что она боится высказывать свое мнение о султане в таком месте, где у стен могут быть уши.
— С самого твоего прибытия в Антекеру, — продолжила она, — мои осведомители узнали о твоем присутствии в гранадском халифате, мне известно, сколько раз тебе приходилось предъявлять свой аман, о твоих передвижениях по Гранаде, о попытках Спинолы что-то узнать через этого вольноотпущенника Мукану и злого на язык визиря Мирзу, а также о твоем спешном прибытии в наше прибрежное селение, где живут попавшие в немилость члены назарийского клана, сосланные сюда только за то, что посмели перечить моему внуку, правителю Альгамбры, которому Аллах помутил и разум и очи.
Хотя подобная оценка положения показалась Яго преувеличенной, он помнил про свою цель найти Субаиду, поэтому забеспокоился и поспешил спросить:
— Неужели ваша внучка могла пойти на ссору с султаном? Что с ней? Ваши слова меня тревожат.
Его собеседница иронически улыбнулась:
— Моя внучка находится в добром здравии и в безопасности внутри этих стен, она неустанно занимается своими манускриптами, астролябиями и прочим.
— Хвала Создателю. Почти три года разлуки и неизвестности заставили меня бояться худшего. Однако ваши слова проливают бальзам на мою душу. Простите за мои сомнения.
— Вы оба безрассудны. Как вам только взбрело в голову вручить друг другу свои сердца? — Она сверлила его испытующим взглядом.
— Сеньора, а как могут капли дождя соединиться с потоком реки? — ответил он вопросом на вопрос.
— Вы оба словно обоюдоострый кинжал. Ваша любовь — две его кромки, они разделены холодной сталью и навлекают несчастье на ваши души, — сказала она серьезно.
Яго замер, пораженный разочарованием. Но в его душе теплилась надежда немедленно увидеть назарийку, поэтому он ответил:
— Любовь — это сладкий яд, который пьют, даже зная, что он убивает.
Фатима продолжила суровые попреки, хотя голос ее был не слишком суров:
— Знай же, что хотя Субаида и считается алимат, то есть ученой женщиной, а также уважаемой вайзой, толковательницей Корана, принадлежащей священной касте Назр, тем не менее она прежде всего мусульманка, а по нашим законам женщина всегда на ступень ниже любого мужчины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полагаю, мой дерзкий христианин, от тебя не ускользнуло это обстоятельство, а ведь именно потому ваш союз, невозможный перед очами Аллаха, вносит в нашу семью раздор.
— Наши отношения основывались на взаимных чувствах, на безграничной любви, а также на одинаковом преклонении перед книгами и наукой, хотя и было в наших чувствах что-то от сумасбродства, честно говоря. Тем не менее если она не желает более меня знать, то я просто поцелую при встрече ее сандалии и уйду. Но моей надежде я должен дать какой-то шанс.
На лице женщины отразились все ее противоречивые мысли, и она строго заявила:
— Не сомневаюсь, что ты даже не знаешь, сколько тут всего было из-за ваших отношений, хотя во дворце понимают: она потеряла свою невинность во враждебном и чужом окружении, когда ее не могли охранять братья по вере. Мне также известно, что ты заполнил болезненную пустоту в отчаявшейся душе этой девочки и вы обменялись обещаниями вечной любви. Поверь мне, вы оба вели себя глупо, потому что ваши религии категорически препятствуют таким отношениям. Это невозможно.
— Мы это понимаем и готовы к риску, — ответил Яго, уверенный прежде всего в себе.
Голос Фатимы, звучный и решительный по тону, заставил задрожать сердце молодого человека.
— Мастер Яго, законы шариата, по которым мы живем, категорически запрещают замужество с иноверцами, и мне кажется, что ты не отдаешь себе отчета в своих поступках. Мы относимся к тебе терпимо, потому что обязаны тебе ее драгоценной жизнью, а сам ты стал для нее бесценным бальзамом, пока она была в плену. Твои добрые намерения не подвергаются сомнению, за это мы тебе благодарны. Тем не менее ты должен понимать, что по нашим святым канонам она может стать твоей супругой только в качестве наложницы, — а это невозможно, потому что в ее венах течет монаршая кровь Назра, Исмаила и Юсуфа.
— Связать судьбы нас заставило не желание брачного союза, а взаимное притяжение душ. Такие отношения благословляются Господом, он и обручит наши сердца, — не постеснялся высокого стиля Яго.
Во взгляде женщины отразилось нескрываемое замешательство, однако она продолжала:
— Я наслышана о твоем добром характере, но ты слишком легко рассчитываешь на верность моей внучки по отношению к себе, а в любви нужно быть более осторожным в оценках. И потом, ты хотя бы отдаешь себе отчет в том, что именно этот бред с вашим желанием воссоединиться и стал причиной, из-за которой нас выслали из Гранады?
— Я не знал об этом и сожалею, — сказал Яго, нимало не удивившись. — Как же отвратительны бывают эти дворцовые нравы и всесильные верования, которые разделяют любящие сердца!
Фатима улыбнулась по-матерински и согласилась с этим, видимо испытывая схожие чувства:
— Ты действительно человек добрых намерений. Надо же: в точности то же самое происходит и с моей внучкой. Так вот, мы втроем — она, этот ученый муж Малик и я — нашли выход, пожалуй, единственный для ваших неприемлемых отношений.
У Яго перехватило дыхание, он не знал, придержать ли ему свою благодарность до того, как он узнает, в чем дело, или сразу упасть к ее ногам. Он пробормотал срывающимся от волнения голосом:
— Какой же, сеньора?
Со смесью торжества и ложной скромности Фатима объявила:
— Да, и выход нашел изощренный ум вот этого человека. Выслушай, сеньор Яго. Знаешь ли ты о городе Александрия в султанате мамелюков — потомков Фатимы в Египте?
— Конечно, сеньора. Несколько моих врачей-сокурсников в Салерно были посланы на учебу состоятельными родителями из Каира, и через них мне известно, что эта часть мира переживает расцвет культуры и искусства. Но что вы имеете в виду?
Ее громкий голос прозвучал словно ворвавшийся в залу ветер:
— Дело вот в чем. Чтобы утихомирить страсти и не связываться с противоречивыми законами, запрещающими ваше общение, мы решили, что вам следует отправиться в Александрию. Там вы найдете прибежище и сможете разрешить противоречия, связанные с различием вероисповеданий. Александрия утратила былое величие, но пользуется славой города открытого и гостеприимного. Она терпимо относится ко всем религиям; там мирно сосуществуют евреи, копты, христиане, мусульмане и язычники, там никто не осуждает людей и с неопределенными верованиями. В этом мирном городе Субаида окажется вдали от фанатичных священнослужителей и будет отвечать за свои поступки только перед своей совестью.
Яго застыл с расширенными глазами, в которых светилась благодарность.
— Мудрое, лучшее решение, — сказал он наконец, вне себя от счастья. — Вашим достоинствам нет предела, как и вашему уму, сеньора. Я бесконечно вам благодарен.
— Субаида — женщина благородного и высокого происхождения. Она свободна, ей чужда забитость мусульманок низших слоев, так мы и поставим вопрос перед моим внуком Юсуфом, а еще свяжем этот дело с последними переменами в назарийской политике. Кроме того, учитывая его неважные отношения с Субаидой, которую он боится больше, чем презирает, и с удовольствием услал бы ее за тысячи лиг от Гранады, — это смирит и умерит его гнев.
— Слава Богу, сеньора. А я уже думал, что вы попали в вечную опалу.
— Нет, Аллах милостив. Речь идет о тонкостях государственной политики. — Тут она понизила голос. — Гранада, последний оплот ислама на Западе, живет между страхом и отчаянием, в постоянном напряжении. С тех пор как султаны Феса бросили нас на произвол судьбы, давление Кастилии становится невыносимым. Вся приграничная полоса представляет собой выжженные земли, а мир достается нам ценой ежегодного взноса в сорок тысяч динаров, которые мы еле наскребаем. В такой ситуации назарийская дипломатия решила укрепить исламское братство и попробовать заключить договоры с Египтом, тем более что тунисские хавси и зияне Тремесена постоянно враждуют.
— Я представляю, с какой горячностью Субаида примет участие в этой политической игре.
— Придется. Видимо, ей предначертано судьбой вечно приносить себя в жертву, — констатировала Фатима. — Мне известно, что Юсуф уже направил письма нашему послу при каирском дворе Бен Цимбе с целью ускорить сближение с султаном мамелюков. Этому послужит визит членов семьи назарийских правителей, принца Абу Усмана и конечно же Субаиды.
— То есть если они хотят от нее избавиться, то представилась прекрасная возможность?
— Каким-то непостижимым образом Бог присутствует в жизни Субаиды. Она взялась помогать женщинам-назарийкам, которые совершают паломничество в Мекку, в изучении Алькорана, а еще моя внучка налаживает контакты с улемами престижной мечети аль-Асара, где учится исламская молодежь. На их занятиях свободно высказываются любые мысли. Там прекрасная библиотека, своим разнообразием она выгодно отличается от многих других в мусульманском мире. Но нам нужно найти какой-то отправной момент, бесспорный повод, который подтолкнул бы Юсуфа, а также ученых мужей Каира, чтобы те приняли ее в свой круг. Эту задачу еще предстоит решить, чтобы окончательно убедить султана.
Услышав это, Яго тут же заулыбался, расправил свою зихару и торжественно произнес:
— У меня есть приманка, на которую не может не поддаться суровый султан Юсуф.
Первой реакцией Фатимы было удивление, сменившееся ошеломлением.
— В моей котомке, сеньора, я привез подарок Субаиде, которому она будет несказанно рада, потому что благодаря ему она не только исполнит фару, обещанную вам и ее учителю Тасуфину, но и станет обладательницей рукописи, бесценной в глазах ваших теологов и толкователей Корана. Субаида, знаток Священной Книги, будет принята во всем исламском мире, потому что в руках ее будет нечто совершенно особенное. Многие толкователи вашей религии и ныне, и в дальнейшем будут завидовать ей и стремиться к общению с ней.
Фатима привстала с кресла и почти в упор уставилась на врача. Яго даже почувствовал запах сурьмы и румян.
— Неужели тебе удалось найти Коран аль-Мутамида, халифа Севильи и певца аббадиев? — возбужденно спросила она, сверля его глазами. — Его уже целый век безуспешно ищут каббалисты Дамаска, Кашана, Басры, Гранады, Феса и Самарканда! Скажи, что это правда, то, что я слышу, и ты превратишь меня, престарелую женщину, всю жизнь ищущую скрытые знания, в самого счастливого человека на свете! И ответь мне, во имя Аллаха, есть ли там, среди благословенных листов, предсказание о Страшном суде — за одно это сколько исламских алхимиков и астрономов не пожалели бы своих жизней!
Не скрывая тиумфа, Яго, скромно разведя руками, ответил:
— Есть — это яснее неба, которое над нами. Но Субаида должна быть первой, кто на это взглянет, поймите меня. — В его глазах светилось неудержимое желание встречи. — Вы мне позволите ее увидеть, сеньора? Не обрекайте меня на муки, это непереносимо.
Фатима не могла сдержать своих эмоций, она буквально дрожала.
— Учти, что ты гость в доме, где боятся Бога и куда направлены взгляды многих ревностных и строгих толкователей Корана, — со всей любезностью разъяснила она. — Через два дня мы, верующие, празднуем Малуд, или день рождения Пророка, и по обычаю накануне по улицам ходят процессии, девушек осыпают цветами. Вот в этот суматошный вечер, когда охраны останется немного, вы и сможете увидеться, а до того нам нужно будет прояснить многие вопросы, которые заботят меня. Ну а пока пользуйся моим гостеприимством.
И она, сопровождаемая своим пожилым спутником, исчезла в анфиладе комнат с той же быстротой, с какой и явилась, оставив после себя стойкий и почему-то горьковатый аромат. И снова внезапно ему почудилось, что он не один, хотя слышен был лишь шорох шелка и сдавленный возглас. Но в нем слышалась не горечь, а, скорее, облегчение. Яго поднял голову, но никого не увидел.
* * *
Стоя в ночной тишине на террасе под полным молчаливых созвездий небом, Яго рассеянно вглядывался в сторону крепости, по улочкам которой то и дело проходили какие-то тени с фонарями в руках. Это было похоже на целый сонм светлячков, покинувших свои укрытия.
Вдруг кто-то толкнул решетку павильона и бесшумно проскользнул внутрь. Яго повернул голову и вздрогнул всем телом. Весь мир на мгновение померк для него. Перед собой он увидел — глаза вмиг стали мокрыми от слез — ту, которая давно была властительницей его жизни, всю в браслетах и драгоценных камнях, в дамасской зихаре с двумя лентами из синего шелка, в башмачках из красной замши, губы ее были слегка прикрыты турецкой микнаа, которую она сбросила легким жестом. За время их разлуки красота ее расцвела, а гибкое тело стало еще более стройным и совершенным.
Не произнеся ни слова, они слились в долгом объятии, и счастье встречи мгновенно заставило их забыть беспощадный холод долгой и жестокой разлуки. Кастилец, будто в каком-то нереальном сне, ненасытно ласкал девушку, чувствуя бешеное биение ее сердца. Сколько раз он представлял себе, как вновь сможет ощутить теплоту ее медовой кожи, нежную податливость грудей, умопомрачительно пахнущих — словно спелые и сочные плоды. Назарийка, отстраняясь и разглядывая его, такого соблазнительного в этой зихаре, смущенно призналась с прежним легким акцентом, с которым она говорила на испанском:
— Когда я уже потеряла надежду вновь обрести тебя, ты явился сюда, будто птица — прямо в гнездо. Можно ли было желать большего счастья?
— Уже ничто и никто не помешает нашему счастью, любимая.
— Все это время для меня было непереносимо, была одна пустота, откуда выход только в безумие, — говорила она. — Никто мне не был нужен, только ты.
— А у меня только теперь появилась бесконечная вера в то, что мы всегда будем вместе.
— А я чувствовала себя такой обездоленной, что былая вера в мою семью и наши законы пошатнулись, я не желала их больше. С самого рождения меня притягивала истина, и здесь, в Гранаде, я не позволю больше обливать меня грязью. Наступил момент, когда надо убраться подальше из аль-Андалуса. С самого моего возвращения из Севильи жизнь превратилась в сплошную цепь споров и болезненных ссор.
Яго, сочувственно глядя на нее, вытер тыльной стороной ладони ее слезы. Эта девушка была воплощением нежности, ранимости и чистоты. И к тому же так беззащитна и одинока, что он не смог удержаться, чтобы жарко не расцеловать ее лицо. Затем, не в силах унять нетерпение, стал нежно утешать ее:
— А мы ни от чего не откажемся. В Александрии мы поднимем нашу любовь как знамя и найдем там мир, которого оба так желаем. Но скажи: ты действительно способна рискнуть и покинуть все то, что до сих пор любила более всего?
— Я решила твердо, Яго, и не чувствую за собой никакой вины. Брат, бабушка Фатима и мой опекун Малик поддерживают это решение, лишь бы я выбрала для жительства страну нашей веры, а Александрия как раз подходит. Однако нужно думать и о запасном варианте: так, если султан станет против моей воли удерживать меня в Гранаде, у нас останется надежда на побег. Я не желаю вечно для кого-то жертвовать жизнью.
— Сдается мне, что путь, который мы выбрали, — самый верный, — ободрил ее Яго. — Нашу общую веру продиктуют нам наши же сердца и сам Господь.
Девушка с подкупающим доверием и благодарностью призналась:
— Мое спасение кроется в Коране, который ты привез, ты уже второй раз в моей жизни возвращаешь мне силы, и с ними вновь возрождается моя душа. Я тебе обязана до конца моих дней.
— А ты для меня — чудесный луч света, который вел меня сюда сквозь все преграды.
— Яго, ты не только способен сделать невообразимое, на что способна только благородная кровь, ты открыл мне бесценную возможность быть принятой улемами Александрии и Каира, — счастливо улыбаясь, проговорила девушка. — Это исключительное обстоятельство откроет нам многие двери.
— Берем нашу судьбу в собственные руки, — согласно кивнул он. — Но веришь ли ты, что султан проявит к тебе великодушие?
— Попробуем нарушить эти условности, хотя подобных прецедентов при андалусском дворе еще не было; но у нас влиятельные союзники: моя бабушка Фатима, мой брат, но самое главное — катиб, или секретарь султана Юсуфа, ученый Ибн Хатиб, он был одним из моих учителей и стал моим покровителем. С такой поддержкой мое прошение рассмотрят быстро, и Альгамбра не замедлит с ответом.
Нежная, с горящими глазами Субаида повела его в глубь апартаментов.
— Я горю от нетерпения узнать о каждом из дней, когда ты был вдалеке от моих объятий. Ты мне расскажешь все, ведь твоя жизнь — это и моя тоже!
— Конечно, я тебе расскажу все: и о брате Аркадно, и об Ортегилье, и о Тересе Тенорио, и даже — почему бы нет — о трагическом конце доньи Гиомар.
— Небо в конце концов свершило свой суд над этой двуличной женщиной, — вырвалось у девушки. — Ее сгубили непомерное коварство и извращенный ум. Никогда мне не понять, почему она так слепо повиновалась королеве-матери, которая использовала ее для достижения своих самых низких целей.
— Такова бывает судьба тех, кто связывается с сильными мира сего, — сказал он.
— Будущее лучше всего предугадывать по прошлому, Яго, я так считаю.
— Ну, тогда пережитый нами опыт поможет нам в грядущие дни.
— А теперь молчи и следуй за мной, — ласково прошептала мусульманка.
От курильницы исходил аромат сандала, служивший для отпугивания комаров. Войдя, Субаида провела по его губам гроздью сладких черешен, и он успел ухватить самую сочную, шутливо подмигнув. На шестиугольном столике, отделанном драгоценными металлами, стояла серебряная клепсидра, показывавшая полночь, и лежал ослепительно красивый Коран аль-Мутамида, открытый на странице с пророчеством Али. Субаида вожделенно взглянула на книгу и произнесла голосом, полным благодарности:
— Спасибо за этот чудесный подарок. Что я могу тебе сказать? Моя признательность будет вечной. Этот необыкновенный экземпляр поможет прояснить нерешенные проблемы.
— Твоя бабушка Фатима утверждает, что это оригинал, что он станет текстом непреходящего значения для людей вашей веры и тебе удастся убедить многих скептиков.
— Пусть восточные улемы выскажутся по поводу его подлинности. Хорошо известно, что многие годы легенда о нем передавалась из уст в уста по всем исламским странам. Шли бесплодные поиски по мечетям, рибатам, но по неизвестному капризу судьбы он оказался в руках самого грамотного из халифов Запада, что мы и предполагали изначально, — заключила девушка, взяла его за руку и легонько подтолкнула к дивану.
Шел уже третий год после их не сравнимой ни с чем ночи любви в Севилье. Девушка, замерев, словно настороженная газель, протянула к нему руку. Разве она не имела права вновь обрести утерянное счастье? Она, его обворожительная богиня… Яго опустился на парчовые подушки и вдохнул пьянящий запах ее духов. Его горячие руки и губы, ведомые ее подсказкой по чувственному рельефу тела, стали ласкать нежную грудь, напрягшиеся соски, прекрасные изгибы бедер, округлые колени…
Вуаль, шелк и бархат вскоре были разбросаны по циновке, и два трепетных тела, нагие и жаждущие любви, сплелись в безрассудных объятиях. Волны безумной дрожи все более охватывали обоих, пока они не погрузились в блаженство, которое, казалось, заполнило собой весь мир. Освещенное одним лишь светом полной луны обнаженное тело назарий-ки приняло оттенок зрелой пшеницы, локоны цвета черного янтаря рассыпались по плечам, зеленые глаза светились и молили о том, чтобы этот момент длился вечно.
Их ласковый шепот, биение их сердец сливались воедино. Яго вновь притянул девушку к себе с несказанной нежностью, и они утонули в ненасытном упоении ласками. На вершине страсти, уже чувствуя его внутри себя, она тихо застонала от неземного наслаждения и раскрылась ему вся, воспарив до предела блаженства. Потом они сладко целовались, и Яго подожил голову на грудь назарийки. Счастливые, они заснули, обнявшись. Кругом благоухал жасмин, а издалека доносилось праздничное пение.
* * *
Настал цветущий месяц Раби аль-Аваль. Субаида и Яго, ведя неторопливую беседу в присутствии Хакима, созерцали с террасы лазурный купол мечети и мечтательно поглядывали на море. Уже прошло более двух десятков дней после его приезда, а из Гранады все не было вестей. Слегка вытянув шею, Яго взглянул на север. Ему показалось, что он видит всадника, приближающегося к поселению сквозь заросли тростника и пальмовые рощи. Потом силуэт исчез за домами в толкотне вьючных животных, а Яго продолжил свои воспоминания, которым Субаида внимала с восторгом и интересом.
На инкрустированном столике громоздились спелые фрукты, стояли нектары из нарциссов с камфарой и перламутровые раковины с амброзией.
Их разговор вскоре прервала Фатима, которая вышла на террасу и показала им документ, написанный красными чернилами. На нем стояла знакомая надпись, свидетельствующая о том, что он составлен в скрипториуме канцелярии султаната.
— Аллах милостив в своей воле, — сказала она. — Наконец-то Юсуф, пусть Бог просветлит его взор, согласился на твой отъезд, ответив на наши мольбы, моя нежная газель. На второй день месяца Раби аз-Зани, который астрологи сочли благоприятным, назначено отплытие назарийской миссии в Египет из порта Альмуньекар, которую возглавит твой двоюродный брат Абу. Он и вручит верительные грамоты султану мамелюков в Каире. Он благоразумно распорядился, что ты будешь жить в Александрии, в доме благочестивого Бен Зинбы, которого я уже предупредила насчет вас обоих, а также о твоих достоинствах и занятиях, Яго. Ты будешь там работать хирургом.
— Бабушка, я всегда слышу от тебя лишь приятные слова и хорошие новости.
— Бен Зинба примет вас как добрый отец и представит, кому необходимо. А затем судьба и воля Аллаха определят вашу стезю. С твоим отъездом, Субаида, уймется волнение твоей души, а также утихомирятся злые языки при дворе нашего султана.
— Для меня не будет более приятного поручения, сеньора, чем заботиться о вашей внучке, — светясь от радости, уверил Яго.
— Знаю, что мы передаем ее в добрые руки, сын мой, — сказала женщина. — Но прежде мы должны предстать перед очами Предводителя Всех Верующих в Альгамбре, чтобы выразить признательность его великодушию и показать ему Алькоран аль-Мутамида, потому что и он сгорает от желания взглянуть на него. Завтра мы отправляемся в Гранаду, так что готовьтесь к отъезду.
Наконец-то пришел долгожданный момент, когда они смогут принадлежать только друг другу.
* * *
Каталонско-венецианская флотилия, принадлежащая купцам, торговавшим шелком и сахаром с назарийским султанатом, имея на борту андалусийскую миссию, ожидала отлива, чтобы выйти из порта Мотриль и взять курс на Палермо, Родос и Александрию.
Было решено, что назарийская принцесса и ее свита разместятся на судне капитана — галере, построенной на верфях Барселоны и имевшей бомбарды и фальконеты [186], за которой на расстоянии полета стрелы, обозначенные орифламмой [187], проследуют три судна Светлейшей Республики Венеции, союзной Гранадскому султанату. Суда должны были пройти, не отдаляясь от берегов, по итальянским проливам и через архипелаг Киклады, избегая берберских корсаров и не менее грозных лигурийцев.
Гребцы, почерневшие от солнца, подняли весла, юнги убрали сходни, готовя корабль к отплытию. Яго всегда опасался морских путешествий, хотя в то утро море было совершенно спокойным. Ему казалось, что вокруг слишком уж назойливо пахнет солью, крысиным пометом и блевотиной. Но впереди их ждала александрийская мечта, и одна мысль об этом развеивала все страхи.
Раздался свисток боцмана, экипаж пропел «Salve Regina» [188], потом гребцы поспешно пробормотали confiteor [189]. Вслед за тем в палубной суете стали слышны обычные моряцкие куплеты, не отличавшиеся благопристойностью. Когда Субаида, Яго, Хаким и остальные пассажиры появились на палубе, все тут же стали пялиться на иноверку, лицо которой было закрыто шелковой макнаа, а стан облачали шелка из Дамаска; в восторге, она сразу ухватилась за борт: на флагштоке посреди палубы развевался четырехполосный штандарт [190].
— Плавание продлится два месяца, пойдем по лагу и компасу, — сообщил ей Яго. — На востоке ясно, и это время года самое лучшее для гребли.
Назарийка нежно провела рукой по его золотистым волосам, и оба они стали смотреть на рейд андалузского порта, где теснились корабли.
— Ты сейчас выглядишь прекрасно, Яго, ведь твоя душа успокоилась и пребывает в мире.
— Душа, которая примирилась с прошлым, Субаида, не боится будущего. Начиная с этого момента я буду просто жить, мечтать, любить и попробую примириться с жизнью в целом.
— Однако путешествие наше нельзя считать успешным, пока оно не закончится.
На палубе уже царила рабочая суета, а Яго положил голову на плечо Субаиды, не обращая внимания на косые взгляды экипажа. Неожиданно на причал влетел всадник на вспененном коне, руша клетки и мешки. Поравнявшись с мостками у каталонской галеры, он вручил кому-то из команды письмо с печатью назарийской канцелярии, предназначенное сайиде Субаиде бинт Умар, и у той сразу забилось сердце, готовое выскочить наружу. Не ожидая ничего хорошего, она задрожала.
— Уверена, это плохие вести от моего брата Юсуфа, — сказала она, предполагая самое худшее. — Никогда мне не вырваться из его лап. Наверное, он передумал.
Однако, взяв дрожащей рукой письмо, она с радостью увидела, что послание исходит от дивана ее любимой бабушки Фатимы, и с облегчением вздохнула.
Короткая записка, которую она вполголоса прочла, гласила:
Моя дорогая газель, твой двоюродный брат, султан всех назарийцев Юсуф, был убит в мавританской мечети Альгамбры каким-то неизвестным сумасшедшим. Собравшаяся тут же гранадская Хасса возвела на трон его сына и моего правнука — порядочного и добродетельного Мухаммеда [191], пятого в нашей династии. Такой роковой зигзаг судьбы есть не что иное, как счастливая возможность, посланная тебе небом по воле Всемилостивого. Да защитит он вас и в дальнейшем.
Трагическое известие не могло быть более благоприятным для Субаиды, потому что делало ее окончательно свободной от самодурства султана. В Гранаде скоро забудут ее, и она спокойно сможет распоряжаться собственной судьбой.
Из-под киля полетела трепетная пена, чайки кружили над морем, гордо ложась на крыло. Молодые люди смотрели на высокие купола и архитектуру городских зданий, на белую корону Алькасара, которая парила над парусниками — и все это постепенно уходило вдаль с каждым взмахом весел. И когда синие горные цепи аль-Андалуса растаяли за горизонтом, врач прошептал на ухо любимой:
— А теперь мы попробуем вкус жизни вдали от нетерпимого мира.
— Моя судьба — жить с тобой, хотя я чувствую: вон на той земле, которая сейчас растаяла на горизонте, мы оставили многое, что когда-то нам было очень и очень дорого.
— Ну что ж, вспоминая об этом, Субаида, мы будем крепче духом.
— Сейчас я не чувствую ничего, кроме невыразимой гармонии, нет ни тени беспокойства или сожаления. Моя вера не помешала свободному выбору моего пути, даже если он окажется тернистым и полным неожиданностей, но я благодарю Бога за это. — И улыбка расцвела на ее губах.
— Меня всегда умиляла твоя тяга к приключениям, Субаида.
Яго с восторгом посмотрел на ее прекрасное смуглое лицо, потом дальше — на один из венецианских кораблей эскорта с изображением льва на белом вымпеле. Отлив уносил их в открытое море; эскадра, освещаемая ласковыми лучами солнца, представляла собой многоцветную гамму, расцвеченную коринфскими парусами судов Светлейшей Республики и оранжево-белыми флагами Арагонской Короны.
На четвертый день плавания пенистый прибой известил их о том, что всего полмили отделяют их от обрывистых берегов Сардинии и высот мыса Карбонара, и моряки-христиане стали благодарить своего ангела, а назарийцы, обратив лики в сторону Мекки, пропели свою вечернюю молитву.
Они подошли к корсиканскому рейду, и Яго, пользуясь красным закатным заревом и светом судовых фонарей, вытащил из сумки потрепанную пачку листов, на которые обычно записывал свои размышления. Открыл рожок с чернилами, заточил перо и устроился на носу галеры между снастями. По папирусу легко и тонко понеслись строки:
Сейчас мне кажутся потерявшими цену те горькие испытания, которые бурей прошлись по последним годам моей жизни, — в конце концов их омыл освежающий дождь истины. Я пережил времена проклятья и ожесточения, но тоскливый осадок и абсурдные злые пророчества остались похороненными в прошлом и уже не мучают, как год назад. Теперь жизнь приносит мне лишь радость, и хотя я чувствую себя песчинкой между двумя враждебными мирами, но есть уверенность, что впереди меня ждет спокойная жизнь, в которой будет царствовать эта женщина с неукротимой волей, после стольких отчаянных перипетий решившаяся скрасить мое одиночество, пусть и наперекор своей вере.
Субаида покинула свою золотую клетку, а я прекращаю свои скитания; сомнения исчезли, будто плохой сон, развеявшийся с наступлением рассвета. Вместе мы противостояли превратностям судьбы, и моя любовь лишь окрепла, ободряемая страстностью, умом и находчивостью Субаиды. Она безмерно счастлива тем, что обладает тайной книгой и удивительным пророчеством Корана, и с невыразимой нежностью выказывает мне свою благодарность. В древней Александрии — средоточии всех культур, городе, где нет места нетерпимости, наши сердца воздадут должное девяти музам, мы станем частичкой бессмертной мечты этого города, основанного Александром Македонским, в котором обязательно найдем свое счастье.
И пусть вдохновят нас Христос и святая Мария.
Dixit Яго Фортун.
Примечания
1
Цистерцианцы — монашеский орден, основанный святым Робертом Молесмским в 1098 г. Назван так по местечку Цистерциум (совр. Сито) во Франции, где возникло это монашеское движение. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. пер.).
(обратно)2
Старинная монета, имевшая хождение на Пиренеях.
(обратно)3
Фернандо III Святой (1201–1252) — король, объединивший Кастилию и Леон.
(обратно)4
Альмоады — берберская (марокканская) династия XI–XIII ее, сменившая альморавидов, в состав халифата которых входила Испания в XI–XII ее.
(обратно)5
Всех святых (лат.).
(обратно)6
Знаменитая Севильская ярмарка изначально была скотной.
(обратно)7
Мария Португальская — в 1328–1351 гг. королева Кастилии и Леона.
(обратно)8
Святая Мария, матерь Божия, молись за нас! (лат.)
(обратно)9
Великое зло! (лат.)
(обратно)10
Молись за нас, Господи! (лат.)
(обратно)11
Район исторической области Галлия на юго-востоке Франции.
(обратно)12
Мараны — в средневековой Испании евреи «выкресты», якобы — а нередко и в действительности — продолжавшие втайне исповедовать иудейскую религию.
(обратно)13
Знаменитые в Средние века университеты.
(обратно)14
Николай Орезмский (1325–1382) — французский философ, астроном и математик. Роджер Бэкон (ок. 1214 — после 1294) — философ и естествоиспытатель, представитель оксфордской школы, отличавшийся энциклопедическими познаниями и широтой научных интересов.
(обратно)15
Старинное название Эстремадуры.
(обратно)16
Арнау де Виланова (1238–1311) — каталонский врач, политик, религиозный деятель.
(обратно)17
Чернила (лат.).
(обратно)18
То есть второе пришествие Христа, знаменующее конец света (прим. автора).
(обратно)19
Мориск — крещеный мавр.
(обратно)20
Агуардьенте — крепкий спиртной напиток.
(обратно)21
Сорт хереса.
(обратно)22
Красный краситель (киноварь).
(обратно)23
Альфонс XI Справедливый (1311–1350), король Кастилии и Леона.
(обратно)24
Закон суров, но это закон (лат.).
(обратно)25
Способ действия (лат.).
(обратно)26
Род гитары.
(обратно)27
Беарн, или Гасконь — историческая область во Франции в северных Пиренеях.
(обратно)28
Персонаж этот существовал в действительности в прибрежном районе Ареналь, на должность он назначался старшим альгвасилом (выборным судьей). — Прим. автора.
(обратно)29
Сегодня ее называют цейлонской.
(обратно)30
Мера емкости, равная 4,15 л.
(обратно)31
Мера сыпучих тел, равная 4,625 л.
(обратно)32
Туника до пят, классическое мусульманское одеяние (прим. автора).
(обратно)33
Вуаль, закрывающая только лицо (прим. автора).
(обратно)34
Назари — житель Гранады.
(обратно)35
Коран, 33: 30.
(обратно)36
Алькала-ла-Реаль (прим. автора).
(обратно)37
Имеется в виду трактат Фомы Аквинского De Regimine Principum — «О правлении государей» (лат.), в котором он соединяет восходящие к Аристотелю представления о человеке как общественном существе, об общем благе как цели государственной власти, о моральном добре как середине между порочными крайностями и т. д. с христианскими догматами и доктриной о верховном авторитете Римского Папы.
(обратно)38
Гибралтар (прим. автора).
(обратно)39
Школа по изучению Корана (прим. автора).
(обратно)40
Бер Церцер— севильский астроном, врач и ученый, признанный авторитет в Испании того времени (прим. автора).
(обратно)41
Аль-Мутамид (Мухаммед бен Абад; 1040–1095) — последний из династии аббадитов, правивший в Андалусии в XI в.
(обратно)42
Севилья (прим. автора).
(обратно)43
Палимпсест — рукопись, написанная поверх счищенной прежней рукописи на пергаменте.
(обратно)44
Альфонс X Мудрый (1221–1284) — король Кастилии и Леона.
(обратно)45
То есть Андалусии.
(обратно)46
Диоскорид, Педаний, римский целитель I в., которого считают основателем современной фармакологии, был автором труда «De Materia Medica», описывающего более 500 трав.
(обратно)47
Гален, Клавдий (ок. 130 — ок. 200) — римский врач, ученый.
(обратно)48
Святой яд (греч.).
(обратно)49
Молочайное дерево.
(обратно)50
Крайняя плоть (лат.).
(обратно)51
Университету (лат.).
(обратно)52
Раймунд Луллий (ок. 1235 — ок. 1315) — философ и теолог, основоположник и классик каталанской литературы. Аверроэс (Ибн Рушд; 1126–1198) — арабский мыслитель и врач, жил в Андалусии и Марокко.
(обратно)53
Аптека лечебных трав.
(обратно)54
Игра, похожая на современную игру в мяч, популярная среди кордовских и багдадских халифов (прим. автора).
(обратно)55
Авицеброн (Шоломон Бен Габриэль; 1021–1051) — испано-иудейский философ, толкователь Аристотеля и поэт.
(обратно)56
Иоанн XXII — авиньонский Папа в 1316–1334 гг., церковный реформатор, поддерживал испанскую Реконкисту.
(обратно)57
Вереск обыкновенный, арника горная, бадьян (лат.).
(обратно)58
Мавританская одежда, использовавшаяся также христианами.
(обратно)59
Нет Бога, кроме Аллаха! (арабск.)
(обратно)60
Католический праздник в честь невинно убиенных по приказу царя Ирода детей.
(обратно)61
Праздник, связанный с Днем невинных. Дети 9—14 лет во главе с избранным по жребию из их же круга «епископом» ходили в этот день по улицам в окружении свиты и толп сочувствующих, распевая куплеты у домов и выпрашивая за это подарки.
(обратно)62
церковной дисциплины (лат.).
(обратно)63
Головной убор высшего духовенства.
(обратно)64
Козел; рогоносец; скотина (исп. cabron).
(обратно)65
Род женской шляпы с вуалью.
(обратно)66
Старинный испанский танец.
(обратно)67
«Это необходимо» (лат.).
(обратно)68
Мусульманская одежда, накидка — вуаль или шаль, закрывающая голову и плечи (прим. автора).
(обратно)69
Индийское смолистое дерево.
(обратно)70
Мусульманский судья.
(обратно)71
Рибат (араб.) — первоначально укрепление, которые строили на границах исламских территорий, позднее скит или монастырь, куда удалялись главным образом последователи суфизма, мистического течения в исламе, появившегося в VIII–IX ее.
(обратно)72
Иблис — исламский аналог дьявола.
(обратно)73
Из глубины (лат.). Псалтирь, 129:1.
(обратно)74
Воскресни, Господи! (лат.)
(обратно)75
Рыцари испанского религиозного ордена, активные участники Реконкисты, которых короли стремились подчинить себе непосредственно.
(обратно)76
Слушай мое слово и внимай мне (лат.).
(обратно)77
См. Откровение, 9.
(обратно)78
Обувь из пеньки.
(обратно)79
Зд.: записи (лат.). Имеются в виду индульгенции.
(обратно)80
Альгамбра — дворец мавританских владык Гранады.
(обратно)81
Борцы за веру.
(обратно)82
Лига или лье — мера длины, равная 5572 м.
(обратно)83
Маймонид (Моше Бен Маймон, Рамбам; 1135–1204) — еврейский философ, врач, мыслитель, родился в Испании, жил в Египте. Синтезировал библейское откровение с учением Аристотеля.
(обратно)84
«славой Востока и светом Запада» (лат.).
(обратно)85
Позднее он сменил архиепископа Санчеса на его посту (прим. автора).
(обратно)86
Мусульманское название Малаги (прим. автора).
(обратно)87
Орудия дьявола (лат.).
(обратно)88
Исповедаюсь Богу всемогущему (лат.).
(обратно)89
Мир тебе, отец (лат.).
(обратно)90
И душе твоей, почтеннейший епископ (лат.).
(обратно)91
Вот, мы здесь (лат.).
(обратно)92
По воле Божьей (лат.).
(обратно)93
Кастро-Урдьялес — город в Кантабрии (ныне Страна Басков).
(обратно)94
Отпускаю грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.).
(обратно)95
Входя в алтарь Божий (лат.).
(обратно)96
Бога, что радует меня с юных лет (лат.).
(обратно)97
Да достойно… возвещу… святое… Евангелие твое (лат.).
(обратно)98
Да смилуется над тобой Бог всемогущий (лат.).
(обратно)99
Чума (лат.).
(обратно)100
Монгольского мира (лат.).
(обратно)101
Средневековое название Крыма. Кафа — совр. Феодосия.
(обратно)102
Ибн аль-Хатиб (1313–1374) — испано-арабский политик, историк и литератор. Автор трудов по медицине.
(обратно)103
Я написал (лат.).
(обратно)104
Начальник стражи (слово, пришедшее в испанский язык из арабского).
(обратно)105
Ариман — древнеперсидский гений (ангел) зла, противоположен Ормузду — богу света и добра.
(обратно)106
Молись за нас! (лат.).
(обратно)107
Король Альфонс да почиет в мире! (лат.)
(обратно)108
Коран, 50: 18–19, 33, 42.
(обратно)109
Воспаленные лимфатические узлы.
(обратно)110
Глина, состоящая из кремнекислого глинозема с примесью оксида железа. Считалась лекарством.
(обратно)111
«[Уйди] скорей, подальше, и не спеши обратно» (лат.).
(обратно)112
«Цвет салернской медицины» (лат.).
(обратно)113
Зд.: университет (лат.).
(обратно)114
Просторечное название Брюсселя.
(обратно)115
«Зерцало природное» (лат.). Винсент из Бове (1190–1264) — богослов, энциклопедист и философ.
(обратно)116
Плиний Старший (23 (?) — 79) — римский писатель и ученый.
(обратно)117
«Третий труд» (лат.).
(обратно)118
Хлеб на дорогу (лат.).
(обратно)119
Магунсия — центр исторической германской области Ренания.
(обратно)120
Адарме — мера веса, равная 1,79 г.
(обратно)121
Аррельде — мера веса, равная 4 фунтам. 1 аптекарский фунт — около 0,37 кг.
(обратно)122
Thapsia garganica (лат.) — куколь обыкновенный, ядовитое растение, широко применялось в медицине.
(обратно)123
Древняя жизнь (лат.).
(обратно)124
Благородные люди и первые граждане (лат.).
(обратно)125
Дуне Скот, Иоанн (ок. 1266–1308) — францисканский схоласт.
Оккам, Уильям (1285–1349) — английский схоласт и логик.
(обратно)126
То есть поклонником Аверроэса (1126–1198), арабского философа и врача.
(обратно)127
Мир с вами, братья (лат.).
(обратно)128
И с душами вашими (лат.).
(обратно)129
Бегинки — члены полумирских-полумонашеских общин, очень распространенных в позднем Средневековье. Для бегинок характерна экзальтация и крайние мистические воззрения.
(обратно)130
Зд.: рабочий кабинет (лат. scriptorium).
(обратно)131
Город с монастырем на одноименной реке в центральной Германии.
(обратно)132
Римский философ и писатель Сенека Младший (около 4 до н. э. — 65 н. э.) был родом из Испании.
(обратно)133
Беренгела (1171–1246) — королева Кастилии и Леона, дочь Альфонса VIII (1158–1214).
(обратно)134
Потомок Фатимы, единственной дочери Магомета.
(обратно)135
Горная цепь в Андалусии.
(обратно)136
Римлянин (прим. автора).
(обратно)137
В строгом смысле этого слова (лат.).
(обратно)138
То есть сторонником средневекового исламского экуменизма.
(обратно)139
Королевство Гранада (прим. автора).
(обратно)140
Сура 25 (прим. автора).
(обратно)141
Смрад иудейский (лат.).
(обратно)142
Торговый флот Испании, шедший из Фландрии, в наказание за сближение Испании с Францией был атакован англичанами 28 августа 1350 г. близ Ла-Манша и понес огромные потери.
(обратно)143
Член религиозного рыцарского ордена.
(обратно)144
Хвост (исп.).
(обратно)145
Терция — третий дневной час, т. е. девять утра.
(обратно)146
«Укрепление веры» (лат.).
(обратно)147
Средневековые песни, популярные в среде студентов и странствующих монахов (от латинского «canticum»). — Прим. автора.
(обратно)148
День гнева, день гнева! — начальные слова средневекового церковного гимна, в основе которого лежит библейское пророчество о Судном дне.
(обратно)149
Повелитель мира (лат.).
(обратно)150
Так проходит мирская слава. Суета сует! (лат.)
(обратно)151
Чудесный сосуд, фигурирующий во многих средневековых сказаниях.
(обратно)152
Откровение, 8:10–11.
(обратно)153
Устремишься к гибели (лат.).
(обратно)154
Слушай, Израиль (древнеевр.).
(обратно)155
Левий — имя нескольких библейских персонажей, в частности одного из сыновей Иакова, а также апостола Матфея; Гамалиил (I век) — иудейский законоучитель, наставник апостола Павла.
(обратно)156
Вара — мера длины, равная 83,5 см.
(обратно)157
Монашеский нищенствующий орден кармелитов был основан в 1180 г. у горы Кармель (Палестина).
(обратно)158
Быстро, высокочтимый сеньор (ит.).
(обратно)159
Корабль… моего хозяина (ит.).
(обратно)160
Герион — царь Тартесса, легендарного государства на востоке Андалусии, побежден Геркулесом.
(обратно)161
В древности на месте Севильи существовало поселение Испалис — колония финикийцев, а затем и римлян. Считается, что от этого древнего названия произошло название страны — Испания.
(обратно)162
Герменгильд и Рекаред— вестготские короли в Испании (VI в.).
(обратно)163
Абдурахман II (792–852) — эмир аль-Андалуса, покровитель искусств и наук, много воевал и строил.
(обратно)164
Через некоторое время дон Фадрике будет умерщвлен в севильском Алькасаре (прим. автора).
(обратно)165
Несколько лет спустя, в 1368 г., дону Энрике с помощью французского полководца Бертрана Дюгесклена удастся разбить дона Педро на полях Монтьеля, и династии Трастамара займет кастильский трон (прим. автора).
(обратно)166
Дщерь дьявола (лат.).
(обратно)167
Отстраненная от власти в 1351 г., она вернется в Португалию.
(обратно)168
Высказался (лат.).
(обратно)169
В карцере (лат.).
(обратно)170
«Химический базилик» (лат.).
(обратно)171
Франческо Грациано — монах-правовед XII в., автор трудов, положивших начало каноническому праву. Впоследствии его труды были дополнены другими богословами и получили название «Decretum Gratiani» — «Декрет Грациано».
(обратно)172
Серебряный кодекс (лат.) — перевод Библии на готский язык. Рукописный памятник V–VI ее.
(обратно)173
Фараб и, Абу Наср ибн Мухаммед (870–950) — арабский ученый-энциклопедист, последователь Аристотеля жил в Багдаде, Алеппо, Дамаске. Птолемей, Клавдий (ок. 87 — ок. 165) — древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира, здесь упомянуто его «Четверокнижие».
(обратно)174
Хвала Господу (лат.).
(обратно)175
Прекрасно сделана и показывает единство Бога (катал.).
(обратно)176
В Европу эта система записи чисел была принесена арабами, поэтому в большинстве стран называется арабской.
(обратно)177
Али, зять Мухаммеда, был калифом в 652–661 гг.
(обратно)178
Звезды Цефея, которые не описаны Птоломеем и открыты мусульманскими звездочетами (прим. автора).
(обратно)179
Мусульмане ведут свое летосчисление от 622 г. н. э. — года, когда Мухаммед бежал из Мекки в Медину.
(обратно)180
Неточность автора: григорианский календарь появился в XVI веке.
(обратно)181
Помилуй меня, Господи (лат.).
(обратно)182
Кастильское блюдо из мяса, сыра, жареного сорго, сливочного масла и пряностей.
(обратно)183
Земля содрогнулась от суда Божьего. Помилуй меня, Господи (лат.).
(обратно)184
Светлейший сударь (ит.).
(обратно)185
Друг (ит.).
(обратно)186
Бомбарда — метательная машина, фальконет — маленькая пушка.
(обратно)187
Штандарт.
(обратно)188
«Радуйся, Царица [небесная]» (лат.). Гимн Пресвятой Богородице.
(обратно)189
«Каюсь» (лат.).
(обратно)190
Флаг Арагонского королевства, в которое входила Каталония, четыре красные полосы.
(обратно)191
Он стал правителем в 35 лет, в эту пору Гранада достигла своего наибольшего расцвета (прим. автора).
(обратно)

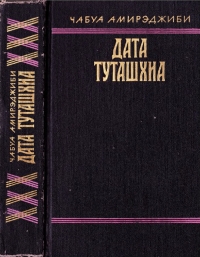
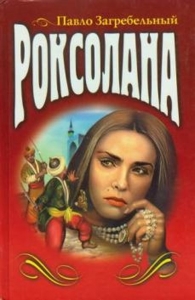



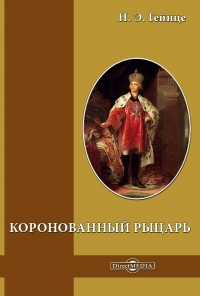
Комментарии к книге «Пророчество Корана», Хесус Маэсо Торре де ла
Всего 0 комментариев