Илья Исакович Каменкович Жить воспрещается
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Стоит в Юго-Восточной Литве, созданная нашим скульптором Гедиминасом Иокубонисом, незабываемая статуя — воплощение скорби и гнева. Так и зовут её все: «Мать Пирчюписа». Деревню Пирчюпис вместе со всеми жителями — со стариками, женщинами и детьми — сожгли гитлеровцы. Как в Чехословакии — Лидице. Как во Франции — Орадур. Об этом напоминает этот траурный монумент.
Когда я читал документальные рассказы И. Каменковича «Ночь плачущих детей», мне казалось, что над страницами рукописи вместе со мной склонилась Мать Пирчюписа и что каменные глаза её полны слез.
И долго еще будут жить в моих сновиденьях страшные картины, запечатленные в этих рассказах, — эсэсовец «Смеющаяся смерть», убивающий ударом молота узников-мальчуганов, дети, ослепленные фашистами, девочка, сама накидывающая себе на шею петлю, чтобы уйти от издевательства и пыток…
Нет, об этом нельзя забывать. Если, вопиют об отмщении миллионы взрослых, замученных, задушенных, затравленных в Освенциме и Бухенвальде, в Панеряй под Вильнюсом и на Каунасском IX форту, то в стократ сильнее и страшнее предсмертный крик советских детей, которых предали гибели изверги со свастикой. Всякий убийца — душегуб, но детоубийцам нет имени. Это — двуногие выродки, по сравнению с которыми гиены и шакалы — благородные существа.
Живуч фашизм. Он — плоть от плоти, кровь от крови империализма. И пусть бодрствуют люди во всем мире, пусть не забывают они, пусть слышат немолкнущие колокола Бухенвальда и призыв Матери Пирчюписа.
Сотни и тысячи книг на многих языках мира запечатлели в документах, в прозе, в стихах кошмарную летопись фашистских злодеяний. Но мне кажется, что среди них найдется место и для «Ночи плачущих детей — книги правды, книги правого гнева.
Эдуардас Межелайтис
Лауреат Ленинской Премии
Герой Социалистического Труда
I. Ночь плачущих детей…
О, ночь плачущих детей! Ночь клейменных смертью детей! Нет больше доступа сну. Жуткие няньки Матерей заменили. Смертью стращают их вытянутые руки, Сеют смерть в стенах и в балках. Всюду шевелятся выводки в гнездах ужаса, Страх сосут малыши вместо материнского молока. Вчера ещё мать навлекала Белым месяцем сон, Кукла с румянцем, потускневшим от поцелуев, В одной руке, Набивной зверёк, любимый И от этого живой, В другой руке. Сегодня только ветер смерти Надувает рубашки над волосами, Которых больше никто не причешет. Нелли ЗАК Лауреат Нобелевской премии Перевод с немецкого Владимира МикутевичаТОЛЬКО РЕПОРТАЖ…
Нет ничего непреложней фактов.
Э. ТельманИспробовал десяток вариантов начала. Но всякий раз внутренний голос восставал: «Нельзя так писать об этом! Говори языком репортажа!»
* * *
Солнце нехотя забрело в этот уголок Подмосковья. Сырой прохладой тянуло от земли, от деревьев. От тротуаров в лесном городке. Каменное здание, куда меня привел поиск, основательно промерзло за зиму и только начало отогреваться.
В окно комнаты, отведенной мне для работы в Архиве Министерства Обороны СССР, что в Подольске Московской области, заглядывают узловатые, еще без листвы, ветки высокого дерева…
Я шел по следам кровавых преступлений фашизма против советских детей. Новый цикл рассказов об этом хотелось написать на основе точных свидетельств. И легко понять, с каким нетерпением ожидал я прихода сотрудницы архива с очередной «порцией» документов из хранилища… Что еще я узнаю из этой объемистой папки бумаг, тронутых желтизной?
…Углубляюсь в чтение.
Письма. Письма. Дневники. Показания свидетелей. Вот письмо белорусской девочки, угнанной в фашистское рабство. Бесстрастное признание убийцы, а за ним слышится вопль матери, у которой забирают ребенка, зачатого от неарийца-отца. На глазах у женщины пытают дочь, чтобы выведать адрес подпольщика…
За каждой страницей чудятся стоны, предсмертный хрип. Пестрая мозаика документов превращается в чудовищную, дьявольскую картину Варфоломеевской ночи — без конца и края…
Тетрадь разбухла от записей. Мозг устает усваивать то, что скрывается за каждой строчкой, каждым словом документа. Кажется, ничто уже не может потрясти…
Но вот прочитана еще одна страничка, страничка с отпугивающим канцелярским заголовком «Акт» — и глаза не могут оторваться от неровных строчек.
Прочтите этот короткий акт, вдумайтесь в каждое его слово:
«АКТ
Наличие детей в детдоме райцентра Домачево Брестской области:
Всего было 100 человек.
Взято родственницами — 16
Сдано в гетто — 15
Роздано на руки — 11
Убито в первый день войны — 3
Расстреляно — 54
Судьба одного ребенка не установлена»…
ДЕТИ ИЗ «ТОГО БАРАКА»
Доброта — бесхитростна,
Но как изобретательна жестокость!
Мария осторожно пробиралась между рядами трехъярусных нар. Натыкаясь в темноте на деревянные башмаки, замирала. Шум мог провалить все. В бараке прислушивались к каждому ее шагу.
— В добрый час, Мария! Храни тебя матка бозка!
— Ариведерчи, Мария!
— Будь осторожна, Мария!
Возбужденным шепотом напутствовали подругу одни. Без слов пожимали руку другие…
Мария должна оставить теплый барак и уйти, может быть, под пули часовых. И кто знает, что принесет она оттуда! Хотелось верить, что Мария вернется, и окажется, что ничего страшного там нет. Приходил как-то в барак немецкий врач.
— Мы есть великий национ! Мы любим детки ви блюмен, как цветики!
Гитлеровец вынул из бумажника фотографию: «Битте, смотреть!» Карточка переходила из рук в руки. Узницы увидели трех гладко причесанных мальчиков. Чинно стояли они возле миловидной полной женщины.
— Это есть майн фрау и детки. Двайка и еще одна мальшик, — объяснил врач. За стеклами его очков спокойные голубые глаза.
Робко постучалась надежда. «Семейный. Любит детей. К тому же врач!»
Немец кладет бумажник в карман мундира. Над карманом полоска цветных орденских планок и железный крест. Тусклым серебром отсвечивает орел, распластавший крылья. В когтях зажата свастика.
Глаза узниц тускнеют. Снова их охватывает отчаяние
«Что мы видели здесь человеческого? Чем этот фашист лучше тех, которые сортировали эшелон, отправляя старого и малого на газ»…
Дрожало раскаленное небо над трубой крематория. Валил черный, жирный дым. Жизнь металась между отчаянием и надеждой…
* * *
То, что готовилось давно, произошло в эту холодную безжалостно дождливую, но поэтому спасительную ночь.
Мария ушла, чтобы пробраться к тому бараку. Он вроде не отличался от других. Но для узниц тот барак — дворец. Ведь в нем их дети. Самые прекрасные и умные. Те, которых они хотели видеть сильными, счастливыми. Опорой и защитой.
Это не обычные дети. Это — близнецы. Именно близнецов почему-то отбирали эсэсовцы и отводили в тот барак.
Стоит произнести леденящее «эс-эс» — и дворца нет. Там тюрьма. Оттуда нет вестей. Стены того барака в броне безмолвия. Рвутся к нему материнские сердца, но разбиваются, как волны о камни…
Женщины понимали: «Мы живы, пока там наши дети… Коса «селекции» только поэтому и обходит нас».
Живы… Жизнь… Искрой вспыхивали эти слова и тут же угасали. В концлагере бушевала Смерть…
…Марию предложила послать в тот барак Евгения Лазаревна, «мама». Евгения единственная в бараке не имела в лагере своих детей. И когда Юрек и Арон остались одни на этом поле смерти, Евгения сказала: «Это — мои». И пошла с ними. Бесстрашная — она больше всего боялась, чтобы страх не поселился в бараке, не одолел и ее.
Почему должна пойти Мария?
Маленькая, худенькая, Мария, казалось, была соткана из мужества. На том злосчастном аппеле,[1] когда все отказались забрать чужие посылки, она была первая, к кому подошла ауфзеерка.[2] Взглядом в упор встретила она эсэсовку, когда та подняла на нее руку. Не отвела глаз и после второй пощечины. Злосчастным был тот аппель.
В тот барак увели и ее двух сыновей. Старший (он родился на час раньше брата) в 14 лет уже выступал с концертами. Слушая его, люди забывали обо всем.
— И откуда у них такая звериная жестокость? — спросила как-то полька Ядвига.
— Только доброта — бесхитростна, — ни к кому не обращаясь сказала Мария. — А жестокость — изобретательна! С молоком матери сколько доброго получает человек! Но в какие руки он потом попадает — вот в чем дело…
* * *
«Рейхсфюреру СС Гиммлеру. Берлин. Отбор для работ по плану «Аненэрбе» закончен. Одиннадцать пар заключено в барак «патология». Приступаем к эксперименту. Хайль Гитлер!»
* * *
Под верхнюю лагерную одежду Мария надела свитер (сберегла его после смерти подруги), теплые носки, косынку и брюки, «организованные» кем-то в «Мексике».[3]
Наступила минута, когда Евгения Лазаревна выдохнула в темень барака короткое: «Ушла».
* * *
Дождь, казалось, только и ждал, чтобы обрушиться на эту одинокую фигурку, Мария решительно шагнула в дождь. Касаясь рукой стены барака, пошла к подстриженной изгороди кустарников. Так можно незаметно пробраться к центральной лагерной улице — Лагерштрассе, а это уже больше половины пути.
За последним бараком «зоны А» Марию подхватил такой порыв ветра, что она едва устояла на ногах. До смены постов оставались считанные минуты. Низко пригибаясь, Мария пересекла асфальтовую полосу Лагерштрассе и перевела дух. Напряженный слух уловил неясные голоса. Смена караула. С ними собака. Скоро прожектор…
Мария упала на мокрую землю, в лужи. Голова — на согнутой в локте левой руке. Пальцы правой зарылись в липкую грязь. Как близко пройдут часовые? Хоть бы не заметили! Боже, хоть бы не заметили!
А время, казалось, остановилось. Слышно было, как чавкает мокрая глина под ногами часовых. Мария замерла. Она не чувствовала ни холода, ни потоков дождя, ни грязи. Одного хотелось: только бы стать куском этой земли, слиться с нею, застыть.
Все ближе шаги. Зарычала собака, залаяла зло, тревожно…
— Что с ней, Вольфганг? Может, остановимся?
— К дьяволу! Рекс на всякую падаль лает…
…Эсэсовцев уже поглотила тьма, а Мария все еще не могла справиться с сердцем: сейчас, кажется, выпрыгнет из груди…
Наконец, поднялась, пошла дальше. Каждый шаг — с трудом. Пудовые комья глины на башмаках. В луче прожектора — тоненькая сетка стихающего дождя. Белый клинок разрубил ночь…
Мария снова бросилась наземь. Она знала: эсэсовцы пунктуальны, прожектор пересечет «зону А», потом полосу Лагерштрассе, упрется в строения «зоны Б», переломится у массивной стены крематория и, сделав круг, погаснет, чтобы вскоре начать все сначала.
Шорох кустарника над головой. Луч прожектора на миг выхватил из тьмы голые прутики ветки. Мария видела, как бегут по ветке прозрачные дождевые капли.
Не было сил подняться. Марию охватил страх: «Не выдержу… Но уже вырисовывался впереди силуэт того барака. Надо идти! Ведь ее ждут…
И вот она у заветной стены. Новая беда: окна слишком высоки. Ей не достать до них. Осмотревшись, Мария заметила штабель тесаных камней. Приподняла верхний. Он оказался не очень тяжелым. Мария перенесла его под самое широкое окно. Еще один. Еще. И вот уже можно заглянуть в окно. В окно, за которым ее мальчики. Дети ее подруг. Окно, за которым неизвестность… Руки не находили себе покоя.
Мария полезла на камни. Еще одно усилие — она заглянет в таинственный барак. Поднялась.
Ничего не видно. Хотя… Кажется, лежат на полу. Да, очертания тел… Мария всматривалась до боли в глазах, уперев лоб в холодное стекло.
И тут — сирена подъема. В комнате за окном вспыхивает свет. Отбрасывая серые одеяла, с матрасов поднимаются худые фигурки, одетые в полосатую рвань… Руки детей устремлены вперед и беспомощно ощупывают воздух…
— Боже мой! — вскрикнула Мария и упала без сознания.
* * *
«Рейхсфюреру СС Гиммлеру. Берлин. Эксперимент «Аненэрбе» завершен без видимых результатов. Опытный материал ликвидирован. Xайль Гитлер!»
* * *
Всю ночь напролет ждали подруги Марию. Никто не сомкнул глаз.
Потом, уже утром, ауфзеерка рассказала посмеиваясь:
— Ваша камарадин сошла с ума. Ее ведут к виселице, а она все кричит: «Они ослепили их!», «Они ослепили!»
* * *
Помните, как у Ахматовой?
Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньшей ли мнится она из утрат? Лишь сердце моё никогда не забудет Отдавшую жизнь за единственный взгляд.ТАК ИГРАЛИ ДЕТИ
Жизнь не утекает,
ибо смерть не трещина
Р. ТагорТы просишь написать, что сильнее всего запомнилось пережитого в аду, через который я прошел.
Прямо скажу: это трудно. Ведь написать надо так, чтобы мог понять человек, к счастью, ничего подобного не переживший.
И все же отвечаю.
Но прежде всего хочу рассказать, каким ты мне запомнился.
Виделись мы очень, очень давно. Помню, был жаркий летний день. Ты сидел посреди двора возле лужи, деловито лепил из грязи пирожки, аккуратно раскладывал их и сушил на солнце.
Кажется, на тебе не было лишней одежды. Трехлетний крепыш. Шалун и обжора. Коричневый и белозубый.
— Сашко! — сказал я. — Здравствуй, браток!
Ты не узнал меня и замахнулся одним из своих «пирожков».
— Сашко, разве ж можно — это ведь грязь!
— Хиба цэ грязь, — лукаво посмотрел ты на меня, — цэ ж глына!
Лицо твое расплылось в улыбке. Каким же я был в твоих глазах глупцом!
Меньше чем полгода спустя я снова увидел тебя, Сашко. На этот раз встреча была совсем иной. В то осеннее утро наши части выбили белых и снова заняли город. Но ни твоего отца, ни других большевиков-подпольщиков спасти не удалось, Их сняли с виселиц, и город отдал им последние почести.
О тебе в тот день забыли. Ты сидел возле конюшни и барабанил по днищу старого ведра.
…Ты, наверное, удивлен этими воспоминаниями. По правде, я и сам удивлен: вот ведь что иной раз врежется в память…
Ты ждешь описания пережитого в гитлеровском концлагере. Это трудно сделать еще и потому, что я учитель. Путь к сердцу я привык прокладывать, обходясь без помощи бумаги и пера…
Никто из нас организацию не выдал. Никто не нарушил присяги и не записался во власовскую «армию». Тогда и началась расправа. Гитлеровцы загоняли военнопленных в машины и увозили. Редко удавалось проститься, пожать руку друга.
С одной из партий привезли в лагерь и меня. На воротах, мы прочли: «Arbeit macht frei» — «Труд делает свободным». Издевательский смысл девиза стал понятен в первый же день. Мы хорошо поняли: здесь освобождают… от жизни.
Ты уже читал о том, что творили в лагерях люди с сердцами, поросшими шерстью. Не буду повторяться.
Просто напишу об одном эпизоде. Наверно, это и есть то самое, что потрясло меня сильнее всего…
Морозным зимним утром в лагерь прибыл очередной транспорт». Из вагонов полетели чемоданы, коляски, детские игрушки. Теперь все это было уже не нужно. Мужчин отделили от женщин и детей. Потом отобрали старых и больных и повели к газовой камере. Колонна обреченных растянулась и поползла темной лентой, пока не исчезла в тумане. Ей вслед неслись отчаянные крики, рыдания. Кто-то пел псалмы.
Днем и ночью пылал крематорий. Еще одну партию «загазовали». Вот такое родилось страшное слово — «загазовать».
Оставшихся разместили в бараках до очередного «отбора».
По соседству с нашим блоком был женский барак. Иногда из него выходили истощенные стриженые женщины, вывешивали для просушки кое-как выстиранное белье.
Кусок тряпки — пеленка. Рядом тряпка — рубашонка. Детские штанишки из какой-то рвани…
Но вот пригрело весеннее солнце, и из барака выползли дети. Молчаливые, испуганные. Ноги-спички. Шея-спичка. Круглый в струпьях шар-голова. И глаза — большие недоумевающие.
Мы спешно стали собирать для них — кто что может. Ломтики хлеба. Крошечные кубики маргарина. Шарфы, шерстяные носки. Кто-то пожертвовал совсем неплохие брюки. Кто-то смастерил из тряпья и куска брезента — потешную куклу.
Можно написать еще одну «Одиссею» про то, как удалось все это передать детям…
Ясным солнечным днем они появились возле барака.
С ними была наша кукла. Дети были разных национальностей и возрастов. Не все понимали друг друга. Но играли. Усевшись, передавали куклу по кругу и что-то лопотали. Сначала тихонько, а потом все громче. Словом — разыгрались. Вдруг кому-то из детей постарше надоела игра, и кукла полетела в сторону. Какой-то малыш, совсем как дома, заплакал и побежал за куклой.
Негромко щелкнул выстрел. Из барака вырвался страшный крик женщины. Стайка детей мигом исчезла в черной пасти барака. А малыш с тряпичной куклой в руке остался лежать на асфальте.
Мы все это видели. Понимаешь?
Короткое детское счастье… Утлой скорлупой качалось оно в этом море страданий. И утонуло…
Это не все.
Прошло несколько месяцев. Многие жильцы бараков исчезли. Дорога была одна — в газовую камеру. А мы еще жили.
В теплые дни дети стали опять появляться у барака. Но теперь они жались к его стене. Кажется, они научились понимать друг друга. И вообще они понимали слишком много для своего возраста.
Мы смотрели на них через окна. Мало помогали им наши скудные пожертвования. Ребра — хоть пересчитывай. Вздувшиеся животы…
Дети иногда играли. Странная это была игра. Слабые они неловко прыгали по очереди на одной ноге и, что-то выкрикивая, подбрасывали и ловили камешки.
Лучше бы я тогда не прислушивался. Девочка в черном подбрасывала желтый камешек, ловила его и напевала на мотив детской считалки: «За-га-зу-ют или нет За-га-зу-ют или нет…»
Вот так играли дети.
СОЛНЦЕ. МАТЬ. СМЕРТЬ
…И белые встают над горем облака… Такие белые, что даже голубые.
(У К. Паустовского)Это был обыкновенный весенний день. На деревьях лопались почки, и земля уже не казалась такой серой, и небо было синее-синее — потому, что светило солнце. Жаркое-жаркое желтое солнце. На него так хорошо было смотреть… Оно врывалось в глаза своими лучиками, и глаза начинали улыбаться. На него так хорошо было смотреть…
А на земле стояли люди. Они стояли длинной цепочкой, худые и грязные. Сотни людей стояли в очереди за своим черным куском смерти. Они ничего больше не могли получить на этой земле — они были в концлагере. Сотни людей умирали, каждый по-своему, а солнце каждую смерть освещало одинаково. Оно светило все жарче, небо от него делалось синее, и от этого было еще тяжелее умирать.
Люди молчали. Это молчание, стонущее, громкое, билось в сжатых кулаках людей, умирающих весной, когда небо бывает такое синее, и солнце, желтое и жаркое, скользит по лицу, по глазам, которым скоро ничего уже не доведется увидеть…
Люди молчали. Они уже не могли смеяться смерти в лицо, как им хотелось когда-то.
Их смех постарел в этом лагере, и они не хотели, чтобы, надтреснутый и несмелый, он радовал смерть.
А смех все же раздался.
У самого края ямы, в которую падали мертвые, женщина держала на руках малыша и тихонько, пряча слезы в уголках запавших глаз, щекотала его. Ребенок смеялся звонко, весело, его высоко-высоко подняли, чтобы перед смертью он увидел только это сияющее синевой, улыбающееся небо, и солнце, и верхушки деревьев. Он смеялся за всех, этот малыш. И весь лагерь сумел перед смертью увидеть и небо, и солнце, и деревья. И запомнить. На всю смерть. Навсегда.
Навсегда — смех ребенка.
Навсегда — руки женщины, высоко и нежно державшей его маленькое тельце, руки женщины, которая больше всех и лучше всех на свете любила жизнь, и потому простила ей старость и победила смерть.
СМЕЮЩАЯСЯ СМЕРТЬ
Нельзя, чтобы дитя мучилось.
Ф. ДостоевскийI
Одетые в полосатое маленькие узники облепили груду камней и молотками дробили их. Осеннее небо в этот день щадило «рабочую команду» подростков: было безветренно и сухо. Зато пыль набивалась в рот, оседала на ресницах и первом пушке над губой, серой тенью окутывала ноздри.
Тридцать мальчиков. Тридцать номеров. Тридцать молотков.
Работали молча. Лишь иногда в стук металла о камень вплетался надсадный кашель или глухой стон.
Мальчики особым чутьем угадывали приближение эсэсовца Штумпе. Рослый, с неторопливой походкой, Штумпе издали казался добродушным увальнем. Не то вблизи. Густые брови нависали над глубоко запавшими колючими глазами. На ничем не приметном лице часто играло подобие улыбки.
Штумпе появлялся неожиданно. Широко расставив ноги, он останавливался возле мальчиков, вслушивался в ритм работы (в эти минуты старались изо всех сил) и с удовлетворением повторял вслед за молотками: «Цак-цак! Цак-цак! Цак-цак!» Изрыгнув затем порцию отборной ругани, он уходил.
Не часто налеты «Цак-цак» кончались благополучно. Стоило обессиленной руке выпустить молоток, как Штумпе вытаскивал «виновника» и хлестал плеткой. Окровавленную жертву Штумпе швырял на камни и, постукивая плеткой по голенищу, ждал, пока избитый займет свое место и примется за работу. Тогда Штумпе начинал смеяться. Смеялся он с присвистом и при этом похлопывал себя по ляжкам.
Его смех взрывался и после выстрела, обрывавшего жизнь «саботажника»…
Однажды Фроимка из команды мальчиков-каменотесов сказал: «Смерть смеется!». Кличка «Смеющаяся смерть» прилипла к Штумпе.
* * *
…Два-три раза в день взрослые привозили в каменоломню тачку, нагружали ее щебенкой и увозили на дорогу. Там команда «лошадок» трамбовала ее тяжелым катком. Среди «лошадок» был Миша — друг Фроимки, вожак всей команды, насчитывающей шестьдесят подростков.
Когда после отбоя барак погружался в темноту, Миша вспоминал советские кинофильмы. Чаще всего просили его пересказать «Мы из Кронштадта». Миша рассказывал и каждый раз загорался, когда доходил до того места, где ведут на расстрел красных моряков и юнгу. Увлекаясь, он придавал белогвардейцам облик эсэсовцев, которых мальчики видели ежедневно, и многое у него выходило совсем не так как в картине.
— Будем, как те из Кронштадта! — закончил однажды свой рассказ Миша.
— Будем! Будем! — как клятву повторили за ним товарищи.
Появились обрывки бумаги. Откуда — никто точно сказать не мог. Может быть, их передали взрослые, когда приходили за щебнем? Не раз ведь находили ребята на дне тачки и кое-что съедобное…
А карандаш? Но Миша только улыбался и помалкивал о том, как удалось раздобыть карандаш. Пригодились способности Фроимки. Он рисовал на квадратиках бумаги щит с буквами «М и К» («Мы из Кронштадта») и звездочку. Рано утром Миша раздал товарищам эти квадратики. Делал он это так, как в киножурналах Михаил Иванович Калинин, когда вручал ордена. Решили квадратики с буквами «М и К» хранить под «винкелем».[4]
…Фроимка в лагере был недавно, но он быстро освоился с лагерными «порядками». Многое надо было здесь знать, чтобы лавировать между тысячью смертей. Надо всем висело категорическое «НЕТ» и еще угрозы: «расстрел», «веревка», «порка», «крематорий»…
Фроимка устроился на верхней наре. Отсюда можно было сквозь зарешеченное оконце видеть кусок неба и звезды. Случалось видеть и луну. Тогда Фроимка улыбался. (Дома когда-то они, малыши, гадали: что за силуэты там, на луне? Говорили, будто еврейский бог борется с чужим богом.)
«Как же необъятно это море неба и звезд, — думал Фроимка, — и неужели там никого нет, кто бы видел, что делается здесь, на земле?»
Вот и сейчас, ударяя молотком по камню, Фроимка мыслями был где-то далеко. Видения детских игр сменялись картиной уличного боя в тесных кварталах, обнесенных колючкой. Взрыв гранаты…
Фроимка очнулся. «Смеющаяся смерть»!
Да, на обычном месте стоял Штумпе. Лоб Фроимки покрылся холодным потом, руки задрожали, чуть было не выпустив молоток. И тут у него из-под «винкеля» выпал квадратик бумаги… Фроимка и поймал его свободной рукой…
— Хальт! — раздался голос «Смеющейся смерти», и работа мигом прекратилась.
— Ком, ком, — поманил Штрумпе Фроимку. — Что у тебя в руке, паршивец?
Вся команда уставилась на товарища. Фроимка быстро поднес ладонь ко рту и проглотил бумажный квадратик.
— Что ты сожрал, поганый ублюдок? Грязная еврейская свинья!
— Не дождешься! «Эс мих, эс!»[5] — с вызовом ответил Фроимка и, не выпуская молотка, пошел к «Смеющейся смерти»!
Лицо Штумпе перекосилось от злости. Ударом кулака он свалил мальчика. Молоток отлетел в сторону. Фроимка потянулся было за ним, но Штумпе опередил его. Он схватил молоток правой рукой, а левой притянул к себе за ворот мальчика.
Глухой треск… Стоп… Залитая кровью голова Фроимки уткнулась в кучу щебня…
Штумпе засмеялся. Сначала как-то неуверенно, а потом — заржал во всю глотку.
II
Миша лежал с открытыми глазами. Гибель Фроимки, даже здесь, в концлагере, такая неожиданная и бессмысленная, потом этот хохот Штумпе… Сон не шел к Мише. Он стал прикидывать, как лучше расставить свою команду. Он представил себе большущий металлический каток, в который впрягалось тридцать мальчиков — «лошадок».
«Впереди и по бокам нужно впрячь сильных, чтобы в середине самые слабые могли «покантовать» — набраться силы. Остальным — дробить камни. Сюда можно поставить тех, у кого побиты ноги. Работа сидячая».
Сам Миша работал в упряжке. К концу дня он еле передвигал ноги. Нельзя было расправить одеревеневшие плечи. Кололо в груди. Нелегко было и тем, кто дробил камни. В дождь и холод приходилось сидеть на корточках…
Миша свалился в глубокую яму сна. Снился ему родной поселок, картина ночного завода в часы выдачи плавки. Мише виделось: огромное зарево выхватило из мрака высокие трубы, здания цехов и клубы пара над ними. Тонко и задорно пересвистывались «кукушки». Деловито пыхтя, они тащили огромные ковши-шлаковозы. Далеко окрест светилась широкая кроваво-красная полоса — это медленно сползал по откосу поток шлака… И друг Миша увидел струйку крови. Она тянулась от глаза Фроимки к восковому уху…
Миша проснулся. Уже рассвело. Вот-вот раздастся сигнал на построение к аппелю. Вспомнился первый разговор с Фроимкой.
— Ты здесь один? — спросил тогда Миша.
— Один.
— А папа, мама?
— Папу убили в гетто. А маму? Я знаю? Может быть, тоже…
— Братья, сестры?
— Уже нет никого…
— Сам как попал?
— Воевал в гетто.
— Убил?
— Я знаю? Кажется, одного шкопа[6] убил. Потом у меня забрали винтовку, и я помогал выносить раненых.
— Что можешь делать?
— В школе любил рисовать.
— Сколько тебе?
— Уже давно пятнадцать. Только выгляжу маленьким…
Миша подружился с Фроимкой, и вскоре он научился понимать самые разнообразные оттенки этого «я знаю» нового друга. У них были свои планы. И вот — «Смеющаяся смерть», удар молотком — и Фроимку отнесли в штабель трупов у крематория…
(В очередном рапорте коменданту лагеря гауптштурмфюреру Зеппу Готлибу о гибели мальчика сообщалось коротко, в одной строчке.)
III
Зепп Готлиб вышел на крыльцо синего домика в самом хорошем настроении. В лагере царили чистота и порядок. На главной лагерной магистрали, через ровные промежутки были аккуратно сложены холмики из опавших желтых листьев.
Спокойное небо. Синь необъятная. Ни облачка. Солнечное, по-осеннему свежее утро. Правда, дымила труба крематория. Но для Готлиба здание с закопченным четырехгранником трубы уже давно стало привычной частью этого пейзажа, — ровных рядов деревьев на лагерных улицах, газонов на «эсэсовской стороне», городка бараков, колючей изгороди…
Жажда деятельности, снедавшая Готлиба всякий раз, когда он возвращался в свой лагерь, в этот день была особенно сильной.
Еще свежим было впечатление от секретного совещания у гаулейтера Форстера, и Готлиб хотел как можно лучше доложить о нем руководящему составу лагеря, Набрасывая конспект выступления, Готлиб, однако, не мог избавиться от навязчивой мысли о стремительной карьере Форстера.
«Здорово шагает Форстер», — вспоминался завистливый шепот знакомого виртшафтсфюрера.[7] И верно — здорово. Едва став гаулейтером, Форстер дал слово фюреру, что через десять лет в Данциге и на поморье не останется ни одного поляка…
Судя по всему, — услышал Готлиб собственный голос, — Форстер справится с этим намного раньше».
Готлибу тоже хотелось ускорить наведение «порядка» в своем «хозяйстве».
— Коллеги, — начал он свое выступление перед лагерными чинами. — На театре военных действий, не имеющем равных в истории, вермахт огнем и мечом победно завершает борьбу двух мировых концепции: пангерманизма и панславянизма. Конвульсивные усилия мирового еврейства, заставившего англосаксов выступить на стороне большевиков, несколько отодвинули час полного триумфа нашего оружия и наших идей.
Линии коммуникаций наших армий растянулись на тысячи километров от фатерланда, и охрана тыла отвлекает много сил. Поэтому — чем меньше немцев останется на покоренных территориях, тем скорее вермахт закончит кампанию, и солдаты вернутся к труду на широком жизненном пространстве, полном изобилия. Фюрер требует ускоренного решения этих задач. Мы должны перейти от расстрелов, изматывающих здоровье и нервы славных частей эс-эс, к использованию самых эффективных, а главное — быстродействующих средств массовой ликвидации врагов рейха. И мы получим эти средства!
Готлиб подробно изложил свои планы, подчеркнув, что на строительстве специальных камер нужно будет широко использовать труд узников и, разумеется, не оставлять свидетелей.
Готлиб обвел взглядом «коллег» и доверительно продолжал:
— Я знаю, предстоит грязная работа. Придется стоять по колено в крови. Но это вражеская кровь. Она сцементирует кирпичи новой цивилизации.
— Позволю себе напомнить, — все сильнее распалял себя Готлиб, — что дальновидные умы Германии уже давно предвидели эту нашу нелегкую миссию. Еще в 1893 году мой дед, генерал граф Готлиб писал. «Наша цивилизация должна воздвигнуть свои храмы на горах трупов, океанах слез, на телах бесчисленного множества умирающих. Иначе быть не может!»
В 1905 году соратник моего деда — Иозеф Людвиг Реймер пророчески возвестил: «Мы создаем и должны создать мировую империю тевтонского племени под гегемонией германского народа». Но вот что особенно интересно, господа: председатель «Пангерманского союза» великий патриот Генрих Класс провозгласил войну священным врачевателем наших душ. «Мы ожидаем фюрера, — писал он в 1913 году. — Терпение, терпение, он появится!»
Теперь, когда бог дал нам фюрера, мы должны всеми силами выполнить его предначертания! Хайль Гитлер! Зиг хайль!
Закончив, Готлиб уже спокойным тоном объявил: — Инструкции вы получите!
Готлиб мог быть спокоен: четко налаженная машина пришила в движение.
Он перешел к докладам руководителей лагерных служб. Рапортфюрер, как обычно, начал с численности узников. Готлиб неторопливо пробежал глазами колонки цифр. «Прибыло». «Умерло»… «Зондербехандлунг»[8]… Еще рапортфюрер доложил, что в рабочей команде подростков надзиратель Штумпе ударом молотка в переносицу убил мальчика с лагерным номером 44752. Из польских евреев.
— В переносицу, говорите? — повторил Готлиб и с деланной строгостью указал рапортфюреру: — За превышение власти мы примерно накажем Штумпе. А с этим коммунистическим выводком пора кончать. Они не оправдывают даже своего пайка! Уже отпуская рапортфюрера, Готлиб добавил:
— Наказанием Штумпе пусть будет… казнь дюжины этих сопляков… Пусть проверит свое «изобретение». Не забудьте место экзекуции посыпать опилками.
IV
…Рапортфюрер передал Штумпе то, чего ожидал от него комендант лагеря. «Смеющаяся смерть» получил «в наказание» стакан шнапса, полагавшегося только участникам массовых расстрелов. Выпив, он был готов к делу… (Какой только смысл не вкладывается иногда в такое доброе слово «дело»!)
Уже с утра Штумпе вертелся возле подростков. Подгоняя «лошадок», он изощрялся в ругани. А когда на площадку, возле которой дробили камни, высыпали тачку опилок, он остановил каток и стал отбирать самых слабых и измученных мальчиков.
Предчувствие большой беды охватило всех, кто был на плацу. Скрежет бетономешалки и цокот молотков сменились стеклянной тишиной, готовой вот-вот лопнуть. Подошло отделение эсэсовцев и всем велели сдать инструмент. Молотки полетели в кучу, то глухо ударяясь ручкой, то издавая металлический звук.
Что еще будет?
«Смеющаяся смерть» выхватил из кучи молотков один и, будто взвешивая его, подбросил в воздух. Оглянувшись, он увидел: на крыльцо комендатуры вышел гауптштурмфюрер Готлиб. Штумпе улыбнулся и подошел к шеренге мальчиков. Они едва стояли на ногах, шатались от усталости. Схватив за ворот одного из шеренги, «Смеющаяся смерть» усадил его на землю и сапогами зажал худенькое тело так, что запрокинутая голова мальчика оказалась между колен эсэсовца.
Прежде чем кто-либо успел опомниться, Штумпе с силой ударил мальчика молотком в переносицу. Высоко подняв молоток, захохотал, потом оборвав смех, выволок из шеренги еще одного мальчика…
На плацу уже лежало несколько трупов. Один из мальчиков еще был жив. Пальцы его судорожно сгребали побуревшие от крови опилки…
«Смеющаяся смерть» вытягивал новую жертву. С белым, будто залитым мелом, лицом делал последние шаги по земле маленький смертник и, только чувствуя приближение молотка, закрывал глаза…
Один из мальчиков попросил расстрелять его. Хохотом ответил «Смеющаяся смерть» и тут же обрушил на голову мальчика молоток.
Другой из обреченных пошел навстречу убийце. Горящий взгляд мальчика отрезвил эсэсовца. От неожиданности он сделал шаг назад. А мальчик вскинул голову и, чуть заикаясь, произнес: «Я не боюсь тебя, фашист! Мы и Кронштадта! Мы…»
Падал мальчик прямо на Штумпе, и тот снова подался назад.
Над плацем поднялся ропот. Эсэсовцы взяли автоматы наизготовку.
Последний из дюжины смертников негромко выкрикнул что-то по-польски. Внятно прозвучало слово «Кронштадт».
Покончив с ним, Штумпе вытер рукавом пот со лба, бросил молоток и дал волю своему сатанинскому смеху…
Вдруг он оборвал его, и тогда все услышали слабый голос мальчика, который стоял возле катка. Не отрывая глаз от мертвых товарищей он сказал:
— Им теперь хорошо! Ведь они больше не будут жить!
* * *
Этот рассказ впервые был опубликован в марте 1968 года. Год спустя, в № 2 (99) Информационного бюллетеня Международного Освенцимского комитета (февраль 1969 г., Варшава), появилось сообщение о том, что в результате кампании Союза лиц, преследовавшихся при нацизме (ФФН), в конце 1968 года арестован… «один из самых жестоких палачей Треблинки, известный тем, что ударами молотка убил 15 детей в возрасте от 8 до 13 лет, поскольку работа им была не но силам».
У этого изверга, сменившего фамилию и проживавшего в Верхней Саксонии (ФРГ), «двое маленьких детей и… в своем поселке он считался образцовым гражданином».
Наказан ли этот палач Боннской Фемидой, до сих пор — неизвестно.
РЕПОРТАЖ У КРАЯ МОГИЛЫ
Умирая — не лгут
Прошу записать то, что я расскажу. Не ищите для меня слов утешения. Арон Горовец хорошо знает приметы смерти. Не подумайте, что это просто. Своя смерть никогда не станет привычной, Я встречал ее со страхом — боялся, как все это перенесу… Ведь даже в последнюю минуту продолжаешь жить заботой о себе.
Я никак не могу начать то, ради чего попросил вас к своей койке. Не удивляйтесь. Я недаром Горовец-труженик. В нашем роду все делалось основательно.
Так слушайте же и, ради бога, записывайте… Из гетто нас привели к широкой свежевырытой канаве и сказали раздеваться. С какой-то яростью я срывал с себя одежду. Скажите, куда торопился? Трясло как в лихорадке. Еще тяготили руки — непомерно длинные, с черными дужками под ногтями, они стали ненужными, лишними… Сначала я прикрывал ими стыд. Но рядом были такие же нагие люди, и я опустил руки. Ни карманов, ни пуговиц, ничего нет, к чему в другое время так и тянутся пальцы. Глаза остановились на немытом теле в разводах грязи. Как будто это что-нибудь значило. Не хотелось видеть того, что творилось рядом. Теплилась надежда? Может быть…
Но когда я осторожно, будто в холодную реку, стал опускаться в канаву, и мои ступни ощутили вздрагивание теплых тел, распластанных на дне, я понял — это конец. Я представил себе, как это будет. У меня тоже, наверно вырвется глухой стон. Потянет куда-то в сторону. Обмякший, я свалюсь на другие трупы. Вдохну пропитанный застывшим ужасом и пороховой гарью воздух. Вытянусь и уже не почувствую, как нас будут зарывать и земля будет шептать мне что-то свое, земное…
Мы были в последней партии. Нас не уложили на трупы, а поставили к стенке канавы, и ее шероховатый срез притянул мои плечи, как магнит. Я уже слышал лязг заряжаемых винтовок. Спину царапало что-то острое. «Наверное, обрубленный корень», — подумал я. Странно, что я еще мог об этом думать.
Мысли стали наплывать одна на другую. Они возвращали меня в лагерь (он был совсем близко, за лесом), затем переносили в далекое детство. Как щепку в бушующем море, швыряли они меня к пронизанному туманной изморозью утру, когда транспорт уперся в ворота лагеря. И все это в страшной гонке то приближалось и вырастало как в сильном бинокле, то становилось едва различимым…
Ржавым облаком поплыла на меня всклокоченная огненно-рыжая борода отца и закрыла полнеба. Еще увидел заплывший кровью отцовский глаз такой напряженный что казался камнем в туго натянутой рогатке. Эсэсовец оторвал отца от рук матери и увел из колонны.
Почему — не могу объяснить, но я увидел затянутый зеленой ряской пруд и еще… миску с дымящимся борщом. Отсвечивая зелено-желтым лаком узоров, деревянные ложки облепили миску…
И все это — в последний миг перед расстрелом…
Впрочем, может быть, многое только сейчас пришло мне в голову, но ведь и сейчас я умираю… Я знаю это, товарищ военврач…
А тогда — я хорошо помню, как тогда вошла в меня пуля. Толчок, короткий ожог, острая боль — а потом стало легко. Упав, я раскинул руки, и еще почувствовал удар по пальцам.
Очнулся я под шмелиное жужжание польской речи. Из могилы вытянули меня полуживого…
* * *
Так началась моя Одиссея. Кончилась она тем, что с еще незалеченными ранами я был схвачен при облаве и попал в концлагерь. Но теперь на моих зубах навязла оскомина смерти, и жизнь приобрела другой вкус. Стал я присматриваться к людям. (Может быть, здесь стоит сказать, что в семье Горовцев только я стал интеллигентом и даже выписывал газету, а чтобы пользоваться библиотекой помещицы Валюнайтине, раз в неделю занимался с ее сыном). Но вернемся к людям.
Жизнь в этой бойне, постоянном голоде, грязи, соседстве со смертью наложила на многих свою мертвящую печать. Огрубели они. Кое-кто заморил в себе совесть и стал привыкать к подлости. Я потянулся к тем, кто еще сохранял какое-то мужество…
Я знал немецкий и совсем неплохо русский. Это помогло связаться с хорошими людьми, которых сами же фашисты выделили красными треугольниками — «винкелями». Главное — удавалось через них получать кое-какие продукты и новости. Каждый успех наших на фронте не только прибавлял сил, но и приближал к нам тех, кто уже уставал верить.
(Вот я сказал: успех наших. Вы только поймите, что значило для меня, для многих, многих других с полным правом причислять себя к советскому народу, к тем, кто громил фашистов… Это же лучшее лекарство…)
Несмотря на каторжный труд, люди, как только оставались без надзора эсэсовцев, менялись на глазах. Появился интерес к моим «лекциям». Вначале я читал на память Мицкевича, Гейне, Пушкина, Гёте. Потом перешел к истории. В бараке — густая темнота. Я рассказываю. Тишина. Товарищи будто спят… Конечно, «лекции» были короткие. Слишком дорог был для нас сон…
Но главное — дети… Никак не решусь о них…
Детей мы увидели, когда попали на строительство. Там работала большая группа ребятишек, подростков — они кололи щебень. Несколько раз в день я тащился к ним со своей тачкой, чтобы забрать щебенку. Страшно было смотреть на них, на их худенькие, как ивовые прутики, руки. Как только удерживали они тяжелые молотки…
И вот сейчас я, Арон Горовец, хочу засвидетельствовать вам, товарищ военврач, всем советским народам, всему миру, что расскажу то, что видели мои глаза, слышали мои уши и что должны знать все, у кого в груди бьется человеческое сердце.
Однажды, прошлой осенью мы, команда строителей, видели как унтершарфюрер Франц Прейфи, Гаген и изверг Штумпе — по кличке «Цак-цак» или «Смеющаяся смерть» — отбирали из рабочей команды подростков уже не способных работать и убивали их ударом молотка по черепу. Нас окружали эсэсовцы с собаками, Мы приросли к земле. Некоторые мальчики плакали. Двое или трое успели что-то выкрикнуть. Остальные стояли, оцепенев, и молча ждали смерти.
Товарищ военврач! Я сам это видел!..
Вы спросите, что было дальше? Если мы еще продолжали жить, то только для того, чтобы рассчитаться с палачами. Стали собирать все, чем можно было бить, порезать… Все это, конечно, тщательно прятали…, Договорились о дне и часе, когда нападем на охрану.
Уже слышна была артиллерийская канонада где-то в районе Косува. И вот однажды от своих людей в лагерной канцелярии мы узнали, что готовится расправа над остальными мальчиками из рабочей команды. В то время совместная наша работа на строительстве прекратилась, но все-таки нам удалось передать детям записку. Я написал ее на литовском, еврейском и русском языках: «Дети! Вам грозит большая беда! Сохраните в себе силы встретить ее как советские люди! Будьте стойкими!»
Вечером мальчиков повели в дальний угол лагеря. Один из узников повез вслед им тачку с лопатами. До поздней ночи они там копали, потом их погнали обратно.
Утром мальчиков не вывели на работу, Мы прислушались тому, что делалось в их бараке. И, знаете, там пели. Да, пели!
Мы не были еще готовы к выступлению. Но тут — решили выступить. Отчаянный и безнадежный шаг, это ясно… Однако мы не успели его сделать: эсэсовцы заперли бараки и поставили у дверей пулеметы.
Что-то происходило в лагере. Товарищи подняли меня к окну, и я увидел мальчиков. Они шли по пяти в шеренге. Шесть шеренг. В первой шел Миша, вожак команды. Когда мальчики подошли к зоне бараков, по сигналу Миши они запели песню о Москве, а потом песню о Родине из фильма, который мы увидели в первые же дни, как Вильнюс стал советским.
Песня удалялась, удалялась, стало тихо — и вдруг грянул «Интернационал». Ох, как они пели! И тут раздался залп. Еще и еще и снова — тишина…
Вскоре мимо нашего барака протопал взвод эсэсовцев. Потом провезли тачку с лопатами…
Клянусь, это было!..
Назавтра я не выдержал и спросил «капо»: «Ну, а детей, детей за что?» «Зеленый»[9] меня, конечно, выдал. И пошел я по новому кругу гестаповского ада.
Теперь запишите слова великого немца Гёте: «Судьба однажды накажет германский народ. Накажет его потому, что он предал самого себя и не хотел оставаться тем, что он есть. Грустно, что он не знает прелести истины; отвратительно, что ему так дороги туман, дым и отвратительная неумеренность; достойно сожаления, что он искренне подчиняется любому безумному негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм, как разобщение и жестокость».
Это я припомнил гестаповцу на допросе. За это я и был поставлен к стенке…
ЖИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
Детство — это царство, где никто не умирает.
Э. В. МиллэйВ. Г. Недосековой, познавшей ад Майданека
Вот-вот должно было показаться солнце и послать на землю свет и тепло. Этого тепла ждали дрожавшие от холода дети, выстроенные на асфальтовой площадке. С нетерпением ждали они мгновенья, когда солнце выглянет, все вокруг встрепенется, оживет, посветлеет. Поэтому невнимательно слушали они то, что говорила им пани Аделя.
С трудом построенная колонна сбилась. Дети прижимались друг к другу, одалживая и отдавая тепло…
Пани Аделя выглядела девочкой, немногим взрослее самой старшей в колонне. Одежда с вертикальными черно-серыми полосами делала ее высокой и тонкой, а коротко остриженная голова — похожей на мальчика. Под шестью черными цифрами на полосатой куртке — красный язычок треугольника с черной буквой «П» (Р).
Все лицо пани Адели занимали глаза. Широко открытые, они лучились лаской и любопытством. Розовели скулы, обтянутые тонкой, бледной кожей. На шее голубели жилы, вздрагивавшие от толчков крови. Как только небо, наконец очистилось и стало теплее, строй восстановился. В каждой шеренге — пятерка. Всего, значит 90. Девяносто детей, прибывших «транспортом» с Востока. Им Аделина должна раскрыть «букварь» порядка, к которому следует привыкать. И уже в который раз она ловила себя на том, что втолковывая лагерные правила, не могла произнести заготовленную для заключения фразу: «Вот так, дети, вы должны будете жить»… Все существо девушки, добровольной наставницы этих детей, восставало против кощунства назвать жизнью то, что ожидало маленьких, пронумерованных «гефтлингов»…
Русским Аделина владела. Но как овладеть вниманием детей, которым все здесь было непонятным, загадочным и уже только поэтому — страшным. Впрочем, многое им стало понятным сразу…
…Ряды длинных одноэтажных домов, каких дети еще не видели, носили странное название «бараки». На бетонных столбах, — напоминавших неуклюжих толстяков, вытянувших в любопытстве короткие шеи, — в несколько рядов натянута колючая проволока. Через ровные промежутки, вдоль «колючки», столбы с табличками: на черном квадрате белой краской намалеван череп со скрещенными костями и два обрубка молнии. От этой таблички трудно отвести глаза, и даже без немецкой надписи ясно: Смерть… Здесь проходит граница жизни…
Тем, кто стоит в первых шеренгах и повыше ростом, открывался угол за бараками с приземистой деревянной вышкой. К ней приставлена кажется совсем домашняя лесенка. Но прямо на колонну уставилось окно вышки, а в нем — пулемет. Ребята поняли без слов: и это — Смерть…,
Порывом ветра донесло сладковатый, тревожащий запах, и мальчик постарше коротко, по-взрослому, шепнул стоявшей рядом девочке: «Это — бойня»…
Еще вчера у девочки были две красивых косички, а у него — ярко рыжие волосы, спадавшие на плечи (Аделине он сразу запомнился, и она мысленно прозвала его «Спокойное пламя»).
С того дня, как «товарняк» привез их сюда, детей поминутно ошеломляли взрослые. Из вагонов их выгнали резкие, как свист бича, команды вооруженных немцев. На черного цвета петлицах мундира у каждого серебрилось по два обрубка молнии, совсем таких, как на табличке перед колючей изгородью. Очищая вагон, они с нелепым смехом топтали все, даже игрушки. И плач маленьких хозяев утонул в хохоте эсэсовцев, довольных проделкой «камарадов»…
Потом было расставание с родителями. Тех, кто цеплялся за матерей, били по рукам, со злобной бранью отрывали… Гнали прикладами. На перроне стоял крик и плач. Одни матери что-то тихо и успокаивающе шептали детям. Другие плакали, вздымая руки к небу. Плакали беззвучно или с рвавшимися из груди стонами и воплями. Перекрытый автоматной очередью, шум оборвался. Стало тихо. Из тишины этой стучало в сознание: здесь везде — Смерть…
… Детей пригнали в баню. Голых облили вонючей желто-зеленой жидкостью, а мыла не было. Не было и горячей воды. Одежды своей тоже не было.
Тупой машинкой их стригли. Мягко падали к ногам «парикмахера» черные, червонного золота, соломенно-желтые комки волос. Смешно обнажались бугристые головы с оттопыренными ушами. Посиневшим от холодного душа детям выдали полосатые куртки и брюки. На одних эти «костюмы» висели, как на жердочке, другим были коротки и тесны…
Одетый в такое же полосатое, с номером на робе, парикмахер не спеша двигал усталой рукой машинку и про себя бормотал что-то непонятное и все равно пугающее. В углах его глаз, лихорадочно блестевших, застыли сухие слезы… Давая рукам отдых, парикмахер печально оглядывал детей, шептавшихся друг с другом и с мольбой в глазах, прикрыв костлявой рукой беззубый рот, показывал: нужно молчать! «Спокойному пламени» парикмахер на ломанном русском языке сказал: «Твое счастье, что ты попал в эту баню. Из другой ты бы не вышел: там капут…»
После бани повели в бараки и показали нары. Усадили за длинный стол. На еду, что им дали, мог бы польститься только давно голодавший. Но в «транспорте» дети уже успели познакомиться с голодным урчанием в животе. Поэтому даже мерзкий запах того, что называлось «зуппе», не отбил охоты отведать это варево.
Пощечинами и пинками пожилая немка с черным треугольником под лагерным номером наводила порядок. Двух мальчиков она заставила вылизать со стола оставленные ими крошки…
Казавшийся нескончаемым день закончился поверкой и командой «спать».
— В бараке должна стоять тишина! — выкрикнула немка и выключила свет.
Тихо было только в те несколько часов, пока сон безраздельно владел обессиленными ребячьими телами. Затем видения пережитого и того, что представало в измученном кошмарной явью воображении, взорвало мерное посапывание. Кто-то плакал. Кто-то кричал во сне. Из разных углов барака доносилось разноголосое: «Мама мочка!..» Ворвалась разъяренная немка. Резкий крик и вспыхнувший свет мигом воцарили тишину. Мертвую тишину…
…То было вчера. Сейчас дети слушали пани Аделю, польку Аделину,
— Вы уже знаете, — негромко, внятно и неторопливо говорила пани Аделя, — как меня зовут. Я взялась быть вашей наставницей. Вы уже большие и знайте, что здесь будет очень трудно. Воспрещается плакать. Все надо делать быстро: умываться, одеваться, строиться. Каждый на свое место возле соседа. Хлеб не съедайте сразу. Половину оставляйте. Второй раз зуппе дадут только вечером.
— Можно я скажу, пани Аделя? — раздался голос «Спокойного пламени». — В гетто я так и делал. Как захочу сильно кушать, вынимаю спрятанный кусочек, подержу его во рту и кажется, что покушал. Потом снова спрячу. — В гетто никто хлеб не воровал…
— Здесь воспрещается петь и громко смеяться. Выходить из барака без строя — воспрещается. Писать, даже если карандаш попадется, — воспрещается.
— А в гетто я рисовал… (Это снова «Спокойное пламя).
— А здесь воспрещается. Ляжешь на нары, закрой глаза и рисуй себе, что хочешь.
— А маму и папу мы увидим? (Это совсем еще малыш. В глазенках искры тревоги и страха).
— Нет. Свидания воспрещаются. Еще вот что: старшие помогают маленьким. Каждое утро поищите один у другого в голове. У кого найдут вошь — того отправят в баню…
— В ту, где капут? (Это опять «Спокойное пламя»).
— Да, отправят туда… И еще запомните: можно забыть все на свете, только не свой номер. Вот ты, девочка, повтори свой номер: «Зибцен цвай унд фирциг». И как только назовут его — громко откликнись. Хорошо выучи и запомни. Их ведь всего четыре маленьких цифры — 1742. Такой коротенький номер!
— А мы будем жить? — (Это из дальней шеренги).
— Жить воспрещается! — с тихим, тут же замершим смехом ответил товарищу «Спокойное пламя» и снова серьезно повторил: жить воспрещается!
— Нет, дети! Я с вами! Будем жить!
г. Баку, декабрь, 1973 г.
СТИХИ ДЕТЕЙ ТЕРЕЗИНСКОГО ГЕТТО (1942–1944 гг.) (Подстрочный перевод с чешского)
Садик
Маленький садик наполнен запахом роз. Узенькой тропкой по садику мальчик идет. Мальчик маленький, беспечный, на один из бутонов похож. Но когда бутон расцветет, мальчика в живых не будет…Франта Басс
Хлеб
Как люблю я белый хлеб Большой вкусный белый хлеб. Не черствый, еще теплый с хрустящей коркой вкусный хлеб. Зубы мои сминают его, язык ощущает вкус его. Как успокаивает, вечно голодный, жадный мой желудок-хлеб.Геня и Ила Крамеровы
* * *
Все прийдет в конце недели, станет все тогда ненужным, только голодный голубь будет клевать зерна, а среди улицы будет стоять ненужный и пустой погребальный воз.Из стихотворения «Закрытый город» 16-летнего воспитанника детдома Л-417
ВЕЛЬВЕТОВАЯ КУРТКА
Надо прощать своим врагам,
но не раньше, чем они повешены
Г. ГейнеАЛЕКСАНДРУ ПЕЧЕРСКОМУ
герою восстания в концлагере Собибор
В столярной — острый запах лака и древесной стружки. За стенами мастерской настырный осенний дождь сечет землю, утоптанную тысячами ног. Утром прошла колонна еще одного транспорта. Из этого транспорта оставили в живых только ювелира, портного и с десяток молодых женщин и детей.
На складе сложили новую пирамиду чемоданов. Выросла еще одна груда одежды. Прибавилось несколько пар костылей и блестящий никелированными частями ножной протез…
Две недели назад, в начале октября 1943 года, таким же транспортом привезли сюда Александра. Пока гитлеровцы хлопотали у головного вагона, шеренги новоприбывших обходила команда людей в полосатой арестантской одежде. Под надзором солдат они отбирали чемоданы и укладывали их на телегу. У Александра ничего не было. Еще в Минске у него отобрали все, даже сапоги и шинель.
Один из команды, проходя мимо Александра, успел шепнуть:
«Запомни, ты столяр!»
Когда переводчик вызывал специалистов, Александр назвался столяром. Его отвели в барак. Потом определили в мастерскую к Науму Григорьевичу — настоящему краснодеревщику.
Уже на второй день стало ясно, что представляет собой лагерь.
— Настоящий караван-сарай. Только выход из него один — к аллаху! — сказал Александру кавказец Али, «старожил» лагеря.
— А может быть, нам еще рано к аллаху?
— Правда твоя. Спешить туда не надо. У нас говорят: «Кого отнесли на кладбище, того обратно не принесут».
— Долго будут нас держать в мастерских?
— Я здесь месяц. Еще на столько же работы хватит. — Али показал насечку по металлу, которую он выполнял для какого-то начальства. — Потом отправят туда… — Он кивнул в окно на приземистое здание, к которому вела мощенная битым кирпичом дорога. — Видишь? На газ дорога.
— Вижу, — тихо ответил Александр. — Да-а… Тут подумать надо…
— Думай скорей. Здесь час за день считать надо. И не забывай, чему тебя учили. — Али потрогал темневшие на гимнастерке Александра следы от погон.
— Плохо вот — людей не знаю… А без них…
— Правда твоя. Но люди здесь есть. Узнаешь. С одним поговоришь, с другим…
* * *
— В такой дождь возить лес для книжного шкафа нельзя — доски отсыреют. Так и передай господину коменданту — сказал Наум Григорьевич переводчику. А когда тот ушел, буркнул Александру: — Спешить некуда!
С Наумом Григорьевичем работалось легко, а понимания не было. Разошлись они, как только Александр заговорил о побеге.
— Выбрось эту дурь из головы, — разволновался столяр. — Нам, слава богу, кушать дают. Держат в тепле. Руки при деле. Живем… А ты — бежать. Да ты что — слепой? Кругом эсэсовцы да вахманы. По три смерти на каждого из нас. Допустим, что у нас выйдет удачно — так выберется десять, от силы двадцать человек. А остальных пятьсот перебьют тотчас же. Тянуть время — вот что нам остаемся. Дожидаться наших. Слава богу, они наступают…
— Нельзя ждать, — убежденно возразил Александр. — Если будем ждать, то все погибнем! Вот вчера женщин оставили. И им дадут еду. И в теплый барак отправили. А что ждет их?
— Мы тоже им нужны. Мы специалисты…
— Мы не только столяры. Мы — свидетели того, что здесь творится. Таких они не оставят в живых.
— Послушай, Александр… Может, ты и прав, но люди здесь до того запуганы, что не поднимутся. Надежда выжить — весом с опилок, тянет пудовой гирей… Мы в глубине Польши. Кругом — немцы…
— Наум Григерьевич, в двух шагах от лагеря — лес. А там ищи нас! Мы поднимемся и всех заберем с собой. Не захотят — силой заберем…
— Нет. Александр! Вас я не выдам, даже если мня живым резать будут. Но то, что вы задумали, — преступление. Спасти себя ценой гибели сотен своих братьев… Но боже мой, почему вы думаете, что спасетесь? Где он, ваш этот шанс на спасение? Я его не вижу.
Так они спорили не раз, и Наум Григорьевич все больше и больше ожесточался…
* * *
Стояло погожее утро. У двери мастерской Александр ожидал прибытия грузовика с досками. Перебирая в памяти разговоры с Али, портным Шлемой, сапожниками Ефимом и Лазарем, Александр весь ушел в раздумье…
Вдруг из барака, что был ближе всех к мастерской, стрелой вылетел мальчик лет шести-семи. Остановился, зажмурился от солнечного света, а потом подбежал к Александру, доверчиво прижался к руке, пахнувшей сосновой смолой.
— Дёре иде, Шани! Дёре иде![10] — раздался женский голос.
Александр засмотрелся на мальчика. На нем была серая, с серебристым отливом, вельветовая курточка, короткие штанишки, серые чулки-гольфы, ботиночки. Рыжеватый, с пушистыми ресницами и густыми веснушками на белом лице, малыш выглядел пришельцем из какого-то иного, далекого мира. На курточке — в два ряда золотые пуговицы. Они притягивали взгляд Александра, мешали сосредоточиться. Новенькая вельветовая куртка… Александр не слышал лепета мальчика. Мысли его унеслись далеко, в довоенное, полузабытое. Когда-то такая вот куртка была мечтой его детства. Однажды Александр набрался смелости и попросил отца купить ему вельветовую курточку. С золотыми пуговицами, с якорями. Ночью Саша невольно подслушал разговор отца с матерью. Они подсчитывали долги…
Ох, как же давно это было…
— Шани! Дёре иде, Шани! — кричала большеглазая женщина, стоявшая в дверях барака. Мальчик побежал к ней.
Видения детства исчезли. Кто-то тронул Александра за плечо. Он вздрогнул. Перед ним стоял человек, показавшийся знакомым.
— Это я вам тогда велел назваться столяром, — сказал он тихо.
Александр кивнул.
— Вы офицер, и я знаю о вашем плане, — продолжал тот. — У меня есть верные люди, они готовы на все. Но время — наш самый страшный враг. В любой момент нас могут пустить в расход… Зовут меня Аркадий, — добавил он, выжидательно глядя на Александра.
— Я тебе верю, Аркадий. — Ответил Александр. — Ты прав — время, время… Все должно решиться в считанные, минуты. Нужны люди, способные действовать не только храбро, но и с головой. План такой… — Он коротко изложил свой план.
— Ладно, передам хлопцам, — сказал Аркадий. — Завтра уточним окончательно. Буду ждать тебя за штабелем трупов у крематория. Неприятное место, но зато фрицы туда не заглядывают. Договорились, товарищ Александр?
Аркадий ушел.
Александр живо представил себе картину предстоящего боя. Коменданту лагеря шьется мундир. Рапортфюреру скоро будет готов стол. Заместитель коменданта придет примерять сапоги. К Али пожалует гестаповское начальство. Собрать их всех одновременно… Пойдут в ход сапожные ножи, топор… А потом будет и оружие.
* * *
В условленном месте Александр ожидал Аркадия. Итак, они уточнят последние детали восстания.
Восстание! Это слово Александр произнес шепотом, как будто мертвецы могли понять все, что оно означает…
Восстание… Мысль о нем отметала остатки сомнений, что точили Александра днем и ночью. Восстание надо было поднимать с людьми, которых он еще не успел хорошо узнать, а многих даже и в глаза не видел. Чудовищными были нарушения конспирации — это огромный риск… Опасность провала постоянно висела над ними, как столб черного дыма над крематорием…
Условный час истек, а Аркадий так и не появился. Сомнения с новой силой обрушились на Александра. За его спиной — кирпичная стена крематория. Впереди штабель обнаженных трупов — головы, желтые ступни ног… Стоит ли начинать?
Но вот послышались шаги. Идут двое. Александр осторожно выглянул и увидел: к крематорию направлялись рослый эсэсовец и тот самый мальчик в вельветовой курточке. Малыш что-то рассказывал немцу, жестикулировал, глядя на него снизу вверх. А эсэсовец механически поглаживал мальчика по голове, отрывисто и нервно повторяя: «Гут, гут»!
Оба уже совсем близко. Эсэсовец воровато огляделся. Они скрылись за углом. Короткий окрик: «Шнель! Шнель!» Глухой удар. Вскрикнул мальчик. Его плачущий голос: «Нем банч! О анюко!»[11]
Александр закрыл глаза и что есть силы сжал кулаки. Снова отчаянный крик мальчика и два выстрела. Тишина… потом снова шаги…
Александр выглянул. На ходу складывая вельветовую курточку и срывая с нее желтую матерчатую звезду, эсэсовец торопливо шагал к лагерным строениям.
— Звери… — простонал сквозь зубы Александр и тяжело оперся о стену. — Ну, погодите…
* * *
…— Мы потеряли Али и двух неизвестных бойцов. А как прошло восстание — вы уже знаете. Все это похоже на чудо. И его совершили вот они — наши товарищи. Мы рассчитались и с тем негодяем, что убивал и грабил детей. Примите нас в свой отряд. Это проверенные в огне бойцы. А это возьмите, пожалуйста, для польского ребенка!
Александр протянул командиру партизанского отряда детскую вельветовую курточку.
ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ЭСЭСОВЦА
Этих людей надо бить палками при жизни; ведь после смерти их нельзя наказать, нельзя опозорить их имена, заклеймить, обесчестить ибо от них не останется даже имен.
Г. Гейне20 апреля 1944…
Сегодня, в знаменательный для нашего фюрера день, я убрал человека, который оказался неспособным выполнять высокую миссию эс-эс, начертанную Адольфом Гитлером
Я выполнил приказ начальника.
Позавчера, когда мы остались вдвоем, шеф тихо и несколько торжественно обратился ко мне:
— Вам доверяется ответственное поручение в интересах чести эс-эс. Три дня назад во время известной вам акции у N сдали нервы. Он не только прекратил участие в экзекуции, но дошел до того, что скрылся в лесу, провел там остаток дня и только вечером явился в лагерь. Он обнаружил отсутствие германской твердости при выполнении приказа об уничтожении врагов рейха. Мне, конечно об этом донесли, и я принял решение. Падение N угрожает сохранению тайны акции и может оказать разлагающее влияние на других наших подчиненных. Вы, как мне известно, были в отличных служебных отношениях с N. Так вот. Пригласите его к себе в домик. Поговорите душам. Выпейте с этим слизняком и примените к нему то, что мы называем «зондербехандлунг»… Позвоните мне в любое время дня или ночи, когда все будет кончено. Остальное сделают люди из «похоронной команды», все равно уже выходит срок, и в барак они не вернутся. Тайна сохранится, будьте уверены! Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — ответил я.
Поручение шефа мне показалось не таким уж сложным.
… Посылка № 28. Сало. Мех на воротник. Килограмм шерстяных ниток. Безделушки.
… С наслаждением слушал Вагнера. Перебирал фотографии. Как вырос мой Мартин! Настоящий мужчина! Скоро можно будет взять его сюда на практику. Пусть для начала посмотрит как действует наша «баня». Пусть закаляется.
Долго обдумывал, как провести «операцию». Не просто все это, не просто… Зол на самого себя. Никогда раньше не страдал нерешительностью.
Не выполнить поручение шефа — равносильно измене. В лучшем случае он отправил бы меня на Восточный фронт. Но где гарантия, что он не поручил бы кому-нибудь «ликвидировать» и меня?
Письмо от Анны-Марии, Много нежностей. Обычная для Мартина приписка: пришли ему то, пришли другое…
27 апреля…
Ура! Шеф предоставил мне отпуск на 10 дней! Поеду домой. Жди, Анна-Мария.
Теперь, когда все позади и N. как мы говорим, «вылетел в трубу крематория», хочется записать некоторые подробности. Обычно до перерыва на обед я успевал обработать две партии по двадцать человек. Это в среднем 45–50 выстрелов. Потом шел обедать и уже оставался в канцелярии. Словом, обычное дело. Но в тот вечер мне предстояло совсем другое… У себя дома… Как бы там ни было, а N все-таки немец, коллега…
В ожидании N я убрал ковер из кабинета. Зажег настольную лампу. Поставил на столик бутылку коньяка, рюмку, коробку сигар. Тяжелую хрустальную пепельницу на всякий случай убрал со стола.
И вот N у меня. Вначале он молча расхаживал по кабинету и это меня нервировало. В кармане брюк я то и дело нащупывал рукоятку «Вальтера», чувствуя, что рука взмокла от пота. Приемник работал на средней громкости.
Мы выпили по рюмке. Потом я спросил, как бы между прочим:
— Что там у тебя стряслось?
— Да так… минутная слабость, — ответил он. — Какое-то наваждение…
N сорвался с кресла и снова пошел мерить комнату своими негнущимися ногами. Отвратительно скрипели его сапоги. Когда он оказывался спиной ко мне, трудно было сдержаться, чтобы не влепить пулю в его потную лысину. Потом он снова плюхнулся в кресло, вытер платком лоб и наполнил рюмки.
— Не могу простить себе той выходки…
— Постой, что же все-таки было? — спросил я.
— Что было? Посуди сам: акция уже подходила к концу. Я, конечно, порядком устал. Несколько недобитых шевелилось под грудой трупов. Пока приводили очередную партию, стало тихо. Слышно было только, как осыпается край рва. Черт знает, кому вздумалось оставить на последок женщин с детьми… Трудный был день…
N закрыл глаза и медленно произнес, как бы вслушиваясь в собственные слова:
— Ров почти доверху заполнен трупами! И как геройски умеет умирать большевистская молодежь! Что это такое — любовь к отечеству или коммунизм, проникший в плоть и кровь? Некоторые из них, в особенности девушки, не проронили ни слезинки…[12]
Помолчав, он продолжал:
— Нервы мои были взвинчены до предела. Наконец, осталось что-то с три десятка женщин и детей. Когда их подвели ко рву, начался плач, крики — ну, как обычно. Пришлось дать очередь поверх голов. И вот что удивительно: идут ведь на смерть, чего еще бояться? Но автоматная очередь заставила их умолкнуть. Несколько грудных как ни в чем не бывало, сосали материнскую грудь. Муторно стало мне от всего этого. От этой тишины. Чтобы подбодрить себя, я крикнул: «Шнель! Шнель» и стал подгонять женщин. С тобой этого не бывало?
Я молчал.
— Осторожно, будто боясь причинить боль мертвецам, — продолжал N, — укладывался последний ряд. Я подошел к краю рва и приготовился. И тут какая-то девчонка, евреечка, повернулась на бок и уставилась на меня своими черными глазищами. Рот приоткрыт, губы шевелятся. Я невольно наклонился к ней. «Дяденька, — спросила девочка, — дяденька, я правильно лежу?» Вот тогда все и случилось…
N закрыл лицо руками. Голова его упала на грудь.
Левой рукой я увеличил громкость радио, выхватил «Вальтер» и одну за другой всадил в голову N две пули…
МОЙ МАЛЬЧИК
Всякий родится, да не всяк в люди годится
Немецкая пословица— Вот они, эти проклятые сто марок!
Седая полька запихивала деньги в карман моей шинели и, перекрывая пыхтение паровоза, кричала: «Бери, шкоп проклятый! Не строй из себя святого! Бери, и пусть бог милостивый видит, чем вы торгуете! Бери, чтобы ты не знал покоя ни на этом, ни на том свете!»
Другие польки бросали деньги молча и одубелыми на жестоком морозе руками (часами они ожидали наш транспорт!) бережно принимали детей, которых солдаты вытаскивали из вагонов.
Поезд тронулся, а старуха, завернув «моего» мальчика в одеяло, все еще стояла на путях, и облачко пара у ее рта показывало, что она еще не выговорила всех проклятий
Да, было в моей жизни такое.
…А все началось с письма этого недоноска Альберта — племянника старого Неймгена. Пришел я как-то к старику. Неймген был явно навеселе. Попыхивая трубкой, он встретил меня своим излюбленным: «Ну, что я говорил!»
— Ну, что я говорил! Речь рейхсминистра Геббельса слышал?
— Нет, я работал в третью смену. Что-нибудь важное?
— Не слушаешь радио, так почитай хотя бы вон то, что висит на стене в рамке, под портретом фюрера.
Я подумал, что Неймген меня разыгрывает. От старика можно было всего ожидать. Но к стене подошел. Под стеклом было письмо Альберта с фронта. Я запомнил его до последнего слова:
«Дорогой дядюшка! Я не могу в эти минуты не вспомнить тебя и своего обещания тебе. Десять минут тому назад я вернулся из штаба нашей гренадерской дивизии, куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву. Через два часа это наступление начнется. Я видел тяжелые пушки, которые к вечеру будут обстреливать Кремль. Я видел полк наших гренадеров, которые должны первыми пройти по Красной площади у могилы их Ленина… Это конец, дядюшка! Ты знаешь, я не восторженный юноша… Это конец! Москва наша! Россия наша! Европа наша!
Тороплюсь. Зовет начальник штаба. Утром напишу из Москвы и опишу тебе, как выглядит эта прелестная азиатская столица».[13]
— Погоди, — сказал я. — Но письмо шло четыре дня, а сообщения о взятии Москвы еще нет…
— Мало ли что бывает. Может, ждут фюрера, чтобы он с первыми частями вошел в сталинскую столицу. Побывал же фюрер в Вене, Париже…
— Эх, старик! Побывал в Москве Наполеон. А чем все кончилось?
— Ну, знаешь… такие примеры… Наш фюрер…
— Наполеон, кстати, тоже начал войну 22 июня. Поживем-увидим. Какая будет сегодня погода, скажу завтра…
— Можно подумать, что ты, Франц, не радуешься победам нашего оружия…
Справедлива наша пословица. «У умной головы рот закрыт». Я забыл про это. Разговор не клеился. Неймген стал показывать подарки, которые прислал ему Альберт из Праги, Варшавы, Парижа, из Бельгии. Эго были сувениры — зажигалки, всякие там потешные вещички, и среди них даже настоящее чучело кобры, свернувшейся кольцами.
— А что Альберт прислал с Восточного фронта? — спросил я.
Старик Неймген замялся и ответил, что ожидает самовар из Москвы.
— Как бы не пришлось тебе долго ждать…
Потом включили приемник. Наш «радиогенерал» что-то заливал о союзнике русских-«генерале-морозе», о каком-то лейтенанте, который проявил чудеса «истинно германской доблести», о фанатическом упорстве обреченных защитников русской столицы…
Через неделю меня арестовали за «пораженческую пропаганду».
Всю жизнь я избегал политики. И вот попал на «исправление» в концлагерь Саксенхаузен с красным «винкелем» политического на полосатой робе.
Там-то я подружился с коммунистами — славные они, смелые. Дружил я и с ними и попался, когда передав одному из них лекарство, «организованное» в ревире.[14]
Добавили мне еще два года «исправления». А в 1944 году, в январе, попал я под «тотальную» мобилизацию. Было мне уже под пятьдесят. Зачислили солдатом в конвойную роту.
Командиром был старый наци Брейтхубер.
Какое-то время мы перевозили политических из разных концлагерей в Маутхаузен, что в Нижней Австрии. А в тот злосчастный месяц дали нам перевозить детей в Аушвиц.[15] Мой бог, что это было за грязное дело! Детей, кое-как одетых, набивали в товарный вагон так, что казалось, им и повернуться нельзя. На полу тонкий слой соломы. Ни тепла. Ни воды. Мороз сбивал детей в живой ком, который в пути обрастал мертвецами…
На остановках жуткий протяжный стон и плач несся из каждого вагона. К поезду сбегались женщины. Откуда только узнавали они о нашем транспорте? Женщины плакали, молили открыть двери, чтобы передать детям кто что мог. Ну, Брейтхубер живо наводил тут порядок.
Однажды поляки попросили Брейтхубера отдать им детей «Ведь больше половины из них все равно умирает в дороге…» Предложили деньги. Но Брейтхубер взятки испугался, показал свою «неподкупность». Однако через ефрейторов (в большинстве амнистированных уголовников) он дал понять, что закроет глаза, если из каждого вагона «уйдет» по десятку детей.
Солдаты бросали жребий, кому достанется малыш. На очередной станции каждый продавал «своего» ребенка за 50 марок. Из них 30 получал Брейтхубер. Скоро по всей линии поляки узнали о «коммерции» нашей роты и встречали транспорт на каждой остановке. Тогда Брейтхубер повысил цену — сто марок за ребенка.
Случилось так, что из десяти детей, которых выделил ротный нашему вагону, один по жребию достался мне. Я выбрал худенького остроносого мальчика с большими голубыми глазами. Я дал «своему» мальчику теплые носки, выслужившую срок рубаху и носовой платок. Возле Кракова наш вагон должен был продать свой десяток…
Когда все это произошло, я сперва отказался от денег.
Я же оставался человеком. Но яростная настойчивость старой польки оказалась сильнее моей решимости. Вы спросите — почему? Тогда я не сумел бы ответить. Теперь я знаю: я смутно почувствовал, что не вправе снимать с себя вину за то, что творилось… И эти сто марок должны были напоминать мне об этом. Я сохранил их, рассчитался с Брейтхубером другой купюрой…
Вот так-то, товарищ…
Я слыхал, вы собираете «сувениры» гитлеризма. Правильно это. Показывайте их людям. Чтоб не забывали. Может, вам пригодится и этот «сувенир»…
С этими словами Франц Фишер, семидесятилетний берлинец, протянул мне старенькую мятую бумажку в сто немецких оккупационных марок.
«ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС» И «НОВАЯ ЕВРОПА»
Страдание — позор мира и надо его ненавидеть, чтобы истребить.
М. ГорькийЗимней стуже и всем ветрам открыто это приземистое строение — не то сарай, не то конюшня.
Две жирные единицы, выведенные черной краской на стене у входа в здание, означают его номер в мрачном городке, населенном людьми, придавленными болезнями, непосильным трудом, голодом, ожиданием неминуемой гибели…
Одиннадцатый барак города смерти давно погружен в темноту и, по мысли лагерного начальства, в сон. Ветры не вымели из барака тяжелого смрада от немытых тел, пота, гноящихся ран… Ночь не принесла успокоения тем, кто свалился без сил на деревянные нары. Тишина в бараке то и дело нарушается безумным вскриком, зубовным скрежетом, стонами… Холод заставил узников прижаться друг к другу. Тесно. Повернуться на бок можно только одновременно всей пятеркой.
На третьем ярусе нар у самого угла барака — пятеро. Пятеро под рваным тонким одеялом. Это еще совсем дети.
Двое не спят. Жарко дыша в ухо товарищу, старожил барака расспрашивает новичка, наставляет…
— Сколько лет тебе?
— Тринадцать скоро исполнится.
— Пацан еще. Мне вот-не вот пятнадцать. Здесь я уже два месяца. Нас везли — еще тепло было. Почти все живыми доехали. Голодали только.
— А у нас в вагоне трое замерзли и чья-то бабушка, сошла с ума. Плохо было очень.
— Хватит кисель размазывать! Здесь еще насмотришься. Порядкам научись!
— Ты как сюда причалил?
— Мы из Ленинграда на Кубань эвакуировались, а немцы перехватили. Злые они на ленинградцев — ужас. Взрослых всех расстреляли. А нас сюда…
— Вот что, слушай, запоминай, присматривайся. Тут чудес много. Зазеваешься — плохо будет. Если только на козе прокатят — считай себя счастливым… А то и пулю заработать очень просто…
— На козе?
— Она вроде деревянной кровати, только без спинок и короткая. Уложат голым задом кверху, начнут лупить и заставят удары отсчитывать. По ягодицам ремнем еще терпимо. Вот если «бананом», да повыше поясницы — пропадает человек. Отбивают все внутри…
— Бананом?
— Это у эсманов палка такая. Верх резиновый, а начинка — железная. От тела куски отрывает… Главное — запомни свой номер. Станешь на аппель — все из головы выбрось — слушай. Не проморгай, когда твой номер вызовут, — отзовись. Подадут команду: «Мютцап!» — пулей руку к голове и снимай кепку. Останешься в мютце как белая ворона, влетит — до смерти запомнишь…
— А что мы здесь делать будем?
— Сюда убивать привозят. Одних быстро, а других прежде работать заставляют.
— На воротах лагеря я прочитал — «Арбайт махт фрай»
— Будет тебе «фрай» — порадуешься! Слушай сюда! На работу попадешь, следи, где капо, откуда эсман появится. При них работать надо быстро, держаться бодро. Не вздумай хныкать или «кантовать»! Соображай, когда фрицы отвернутся или покурить пойдут. Еще вот, до пятницы чтоб не оставалось у тебя ни одной «танкетки»…
— Как ты сказал?
— Вшей одним словом. Я дам тебе гребешок. Сначала голову прочеши как следует. А то на робе убьешь, а они с головы наползут…
— Здесь, что — по пятницам баня?
— Это только для вас — «цугангов»[16] баня. А мы знаем: газовня это. Там душат газом…
— Живых?
— Ну и чудак ты… Конечно, не мертвых. Отец мой в девятой штубе. А меня «лойфером» пристроили. Бегаю весь день из канцелярии в бараки, в ревир, на склады. Папку под руку и шурую по «гитлерштрассе», как по Дерибасовской у нас в Одессе… Бумажки разношу. Ну, еще кое-что делаю… Не теряюсь…
— А папа что?
— Он дорогу строит. Хорошо, что сам на себя посмотреть не может. Страшным стал. Скелет настоящий. А в порту бывало тюк табаку на спину и айда в трюм — на спор, конечно. Силен был!
— И его убьют?
— И его, браток, и его… Как всех. Как недавно дядю Сашу. Только бы не издевались! А то возьмут да пошлют еще на «последний вальс»…,
— Это еще что?
— Есть тут большой железный каток. Дорожный. Как только в рабочей команде кто-нибудь из сил выбьется, его посылают работать на тот каток. По-польски он «вальц» называется. Впрягают 15–20 доходяг…
— Дистрофиков?
— Пусть по-твоему. Впрягут и давай гонять — дорогу трамбовать… Каток тяжелый, а эсманы только и знаю «шнель!», да «шнель!» Палками и плетками гонят. Из упряжки мертвыми выносят. Никто в бараки с того «вальца» не возвращался. И прозвали тот каток «Остатний вальс»… «Последний вальс»…
— Последний вальс. Да… А как же мы?
— Тяжело будет. Мы только вечером в барак сходимся. А днем по разным командам. Если хочешь что-то по-нашему сказать, можно только когда свет выключают. Хлопцы засыпают быстро. Говорить можно вполголоса и киселя не размазывать. Я Чапаева три раза изображал. Сам не верил — здорово получалось. Ты был пионером?
— А я и сейчас пионер. Меня же не исключили! Галстук спрятал только.
— Смотри, береги его. Здесь хоть умри, куска красной материи не увидишь. Пригодится галстук твой! Толы смотри — могила! А то начнешь хвалиться! Нам еще флаг понадобится!
— Понадобится… Последний вальс…
— Ты об этом меньше думай! Лучше как встанешь, миску приготовь. Утром суп получим. Суп не простой! Называется «Новая Европа»… А сейчас спи, браток, спи!
СНОВА ТОЛЬКО РЕПОРТАЖ…
Что слезою сияло,
То солнцем взойдет!
И. ГалчинскийХолодным ноябрьским днем 1944 года к нам привели колонну до того истощенных людей, что все они казались скелетами. Отличались друг от друга эти скелеты только ростом, да еще тем, чем смогли они укрыть голову и ноги. Остальное было одинаковым: черно-серые полосатые робы с красным у сердца треугольником политического узника.
Стуча зубами и заикаясь, один из «цугангов» выговорил:
— М-мы из Штуттгофа…
Все стало ясным. Ведь Штуттгоф на человеческом языке означал: пытки… смерть… ад…
Над колонной повисло облако пара, а перед рядами вытянулись трупы тех, кто не вынес чудовищной голгофы этапа.
Несколько сот исстрадавшихся, голодных и больных людей, стоявших на аппельплаце, казались полосными столбами, вбитыми в асфальт. Но так только казалось. Чтобы не замерзнуть, люди топтались на месте и постукивали нога об ногу. Жуткий это был стук…
Люди в колонне стояли молча. Они знали, что их ожидало. Стон или жалобы могли только ускорить путь в крематорий.
Когда выглянуло солнце, колонна перестала быть безликой. В первой шеренге человек с окровавленной тряпкой на голове опирался на плечо товарища. Другой повис на молодом парне, стоявшем как изваяние.
Двое узников поддерживали человека средних. Грудь его была перевязана, глаза закрыты, голова бессильно повисла. Рядом, держась за его безжизненную руку, стоял мальчик лет десяти с большой головой на тоненьком стебельке — шее. Одет он был в тюремную робу не по росту. Ноги в солдатских ботинках. Из одного торчала солома. На груди мальчика алел матерчатый треугольник, под ним — полоска черных цифр.
Началась перекличка.
Эсэсовец, держа на куске картона списки, обходил шеренги, выкликал номера узников, сверял фамилии… Против многих номеров зачернели крестики: умер… умер… умер…
— 77606,- вызвал эсэсовец и упер острие карандаша в этот номер.
— Узник 77606 здесь! — отозвался мальчик в робе не по росту.
Эсэсовец подошел ближе.
— Год рождения?
— 1935, — ответил мальчик и, мешая польские и немецкие слова, обратился к эсэсовцу:
— Мой папа умирает. Его надо в ревир!
— Найдем место и для тебя, и для твоего папы, — деловито ответил эсэсовец и ткнул карандашом в красный треугольник на робе мальчика.
— Да, я — политический… Очень прошу — папу в ревир…
Но эсэсовец уже не слушал его. Он выкликнул номер следующего узника, а карандаш его, между тем, подчеркнул строчку, на которой стояло:
«№ 77606. Фелига Марцель. 1935 год рождения. Участник Варшавского восстания».
О ЧЕМ ШЕПТАЛ ВЕТЕРОК…
Умей слышать и громкое и молчаливое горе…
В. Сухомлинский.Холодный мрак медленно сползал с окрестных холмов, затянутых пеленой тумана. Небо, до тех пор напоминавшее казенное одеяло, прояснялось. Открывая голубые полыньи, неторопливо плыли облака, подгоняемые ветерком.
Гулял ветерок и над городком бараков. Тепло и мягко обволакивал он одетых в полосатое тряпье людей, прижимавшихся к дощатым строениям, навевал сладкую дрему, уводил от тяжелых дум.
Каким только ни бывает ветер! Как похожи его повадки на человечьи!.. Он может быть откровенным и злым как норд, тихим, но коварным как альпийский фен, вселяющий непонятную вялость и меланхолию. Коршуном налетает он на землю и мрачно завывает метелью. Немилосерден иссушающий «афганец». Будоражит и взвинчивает нервы — сирокко. Страшные бедствия несут тайфуны, почему-то называемые нежными женскими именами…
Согнанные сюда люди были далеки от размышлений о многоликой природе ветра… Пронумерованным клеймом татуировки хотелось одного: пусть ворвется сюда ураган и сметет эти вросшие в землю бараки, прорвет ржавую паутину проволоки в бородавках колючек, унесет прочь приторный дух тлена и крови…
Ветерок, робко пробившийся к людям, был добрым, ласковым и хотелось доверить ему пережитое, чтобы донес он горькую повесть до далеких родных мест…
Будто магнитом притягивал бескрайний океан неба. Люди подымали к нему глаза, но безразлично следили за игрой облаков. От этой неподвижности и упрямо устремленных в небо глаз люди походили на слепых.
Над людьми висело небо, страх и… тишина. Гнетущая тишина тревожного ожидания. Случайно вырвавшийся стон, даже негромко сказанное ребенком слово током пронизывало всех, заставляло вздрагивать, оглядываться.
Из кирпичного домика комендатуры вот-вот должны показаться те, кто одним движением, затянутой в серую перчатку руки, решат их судьбу… И когда из-за крайнего барака показались «они», тишина спрессовалась, готовая, взорваться диким криком отчаяния, мольбой, проклятием, гневом…
Дуновением ветерка занесло в эту тишину шепоток…
— А смерть, это надолго?
— Да, сынок, надолго. Очень.
— Мамочка, а разве…
— Надолго, сынок, но не навсегда. Ты проснешься большим и у тебя будет красный галстук. Твоя фотография будет в газете. И будут писать, что мой сын не испугался фашистов… А сейчас помолчи, родной!
Ветерок, прислушиваясь, застыл.
— А тебя не заберут?…
— Нет, не заберут… Стой тихонько и спокойно!
— Не могу, чешется все…
— А ты очень-очень захоти и все пройдет…
— А все, чего очень хочешь, бывает?
— Все, сынок!
— А если я очень жить хочу?
…И снова немая тишина. Может быть ветерок унес ответ матери, а может быть она не нашла нужных слов…
Шепот тихонько струился уже в другом месте…
Мальчик, заглядывая снизу вверх, с улыбкой что-то говорил матери, дополняя слова жестом тоненькой, как веревочка, руки…
— Правда, ведь маленькие они совсем еще дурачки, не знают, что такое смерть и боятся…
ЕГО ОРУЖИЕМ БЫЛА СКРИПКА
Усть-Лабинск, 21 февраля.[17] (По телеф. от обществ. корреспондента «Известий» А. Блеха).
В канун 50-летия Советской Армии на здании средней школы № 1 г. Усть-Лабинска была открыта мемориальная доска, на которой золотом написано: «В этой школе учился герой — пионер Муся Пинкензон. Расстрелян гитлеровскими фашистами в январе 1943 года».
Война застала Мусю в Кишиневе, оттуда он вместе с другими детьми был эвакуирован на Кубань. Единственное, что привез с собой мальчик — была любимая скрипка. В 1943 году, когда Муся учился в 5-м классе, Усть-Лабинск захватили фашисты. Оккупанты согнали на расстрел несколько сот мирных жителей — женщин, стариков, детей. Среди них был Муся. Фашисты изготовили автоматы. В этот момент вперед вышел худощавый черноволосый мальчуган. В руках у него была скрипка. Он взмахнул смычком и заиграл «Интернационал». Десятки пуль оборвали жизнь юного героя, но навеки оставили в памяти людей стойкость и героизм отважного пионера.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮНОГО ГЕРОЯ
Вот что узнал я о Мусе Пинкензоне от членов клуба «Глобус» Усть-Лабинской средней школы № 1.
В школьном музее Мусе отведен специальный стенд и ребята-экскурсоводы могут рассказать а своем хорошем товарище, мужественном советском патриоте. Имя Муси Пинкензона носит пионерская дружина школы.
О Мусе известно, что родился он 5 декабря 1930 года в городе Бельцы Молдавской ССР. Отец его — Владимир Борисович был отличным врачом и активным общественником.
Муся очень рано проявил музыкальные способности и, когда ему исполнилось 8 лет, родители порадовали сына подарком — скрипкой.
Нападение гитлеровской Германии заставило семью Муси летом 1941 года эвакуироваться в Усть-Лабинск. Муся приехал с отцом, матерью, дедушкой, бабушкой.
Несмотря на тяжелые условия эвакуации, Муся как самое дорогое взял с собой скрипку и все в Усть-Лабинске помнили его с постоянным спутником — любимым инструментом.
С началом учебного года Муся Пинкензон стал учеником 5-го класса. Учителям он запомнился темноволосым, с живыми карими глазами, подтянутым и опрятным, общительным и любознательным.
Учился Муся хорошо и был отзывчивым товарищем. Когда фронт приблизился, в школе разместили госпиталь, и отец Муси нашел в нем свое место врача. Нашлось много дел и школьникам. Ребята помогали раненым бойцам писать письма, а еще чаще выступали с самодеятельными концертами. Больше других приходилось выступать перед ранеными Мусе. Ведь кроме игры на скрипке, он еще хорошо пел.
Бойцы любили выступления Муси и просили доктора Владимира Борисовича чаще приводить к ним своего сына.
Приближался фронт. Готовилась к отъезду в тыл и семья Пинкензонов.
Но, случилась большая беда. Немецко-фашистский десант перекрыл пути эвакуации. Осталась в оккупированном гитлеровцами Усть-Лабинске и семья Пинкензонов.
Гитлеровцы предлагали отцу Муси работать у них в госпитале, но Владимир Борисович отказался, и тогда его подвергли всяческим унижениям: опытный врач, он пилил дрова в комендатуре, подметал мусор…
Когда Советская Армия, нанесла гитлеровцам сокрушительный удар под Сталинградом, а потом окружила вражескую группировку, немецко-фашистские вояки решили мстить за свое поражение расстрелами мирных жителей.
В конце декабря 1942 года начались массовые аресты, гестаповцы заключили в тюрьму все еврейское население Усть-Лабинска. Но даже в тюрьму Муся берет с собой скрипку. Звуки ее раздаются в мрачном гестаповском подземелье.
От первых казачьих поселений на Кубани осталась в Усть-Лабинске памятником седой старины руины крепостных стен. На южной стороне они подошли к крутому обрыву берега Кубани. Именно здесь и совершили гитлеровцы свое кровавое злодеяние. У стен крепости вырыли ров и привели сюда на расстрел всех арестованных. Был среди них и Муся Пинкензон, которому только-только исполнилось 13 лет. У края огромного рва среди ожидающих казни стоял и он со своей скрипкой.
Палачи приготовились к черному делу, и тогда Муся четко и громко попросил разрешения сыграть.
На краю могилы музыка. Это было так неожиданно, что гитлеровец, руководивший расправой, разрешил.
И вот между убийцами, вскинувшими автоматы, и их жертвами встал мальчик, прижал к щеке скрипку, взмахнул смычком и над людской очередью за смертью, затихшей в последнем дыхании, взвилась как знамя мелодия «Интернационала»…
Из толпы подхватили гимн. На некоторое время фашисты растерялись…
«…гром великий грянет над сворой псов и палачей», пела скрипка, когда команда «огонь» оборвала мелодию.
Автоматные очереди прошили юного музыканта, и вместе со своим единственным оружием — скрипкой он погребен в братской могиле…
К ней, как сказано поэтом, не зарастет народная тропа. Здесь всегда трогательные знаки внимания, уважения и любви: венки, простенькие букеты, полевой цветок.
Сюда приходят юные ленинцы, чтобы дать клятву на верность Родине и повязать символ революционной борьбы — красный галстук. Комсомольцы устраивают здесь факельные шествия. Только пламя факелов шевелится, когда необычно суровые лица молодых застывают в минуте скорбного молчания.
ПИСЬМО КАТИ СУСАНИНОЙ ОТЦУ-ФРОНТОВИКУ
Нельзя выбирать между рабством и смертью…
Ж. ЛаффитМарт 12, Лиозное. 1943 год
Дорогой добрый папенька!
Пишу тебе письмо из немецкой неволи.
Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет и моя священная просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.
Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы, когда допытывались о тебе. Офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вот ее последние слова: «Вы не запугаете меня битьем, господин офицер, уверена, он вернется и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон!» И офицер выстрелил маме в рот.
Папенька! Мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Но я тебя сразу узнала бы. Я стала очень худенькая, синие глаза ввалились, косички остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда кашляю идет изо рта кровь. У меня отбили легкие.
А помнишь, два года тому назад мне исполнилось 13 лет, какие торжественные были мои именины? Ты мне, папа, тогда налил рюмку портвейна со словами: расти, доченька, на радость большой! Играл патефон, подруги меня поздравили с днем ангела, и мы пели нашу любимую пионерскую песенку…
А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало, платье рваное в лоскутках. Номер на шее, как у преступника.
Я не узнаю себя. Похожа скорее на скелет, чем на человека, и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что исполнилось мне 15 лет! Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают как скот.
Да, папа, и я рабыня немецкого барона. Работаю у немца Шарлена в прачечной, стираю белье, мою полы, работаю очень много, а кушаю два раза в день, в корыте с Розой и Кларой. Так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон.
Я очень боюсь Клару. Это большая и жадная свинья. Она мне раз откусила пальчик, когда я из корыта доставала картошку. И я теперь стараюсь кушать последней, когда покушают Роза и Клара. Но они мне часто еды не оставляют, и я вылавливаю корки из вылитых в бочку помоев
Живу я в дровяном сарае, в комнату мне ходить нельзя. Один раз горничная полячка Юзефа (Язуфа) дала мне кусочек хлеба, а баронесса увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине.
Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний (доверенный) итальянец Альберт. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и сбрасывали в подвал.
Барон и баронесса очень боятся и ненавидят русских…
…Сегодня я узнала новость. Юзефа сказала, что господа довольные уезжают в Германию с большим товаре невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собой. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем (быть) втоптанной во враждебную землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья, а мое тельце все в синяках и ссадинах. От них мне больно.
Петлю для себя из веревки на чердаке делаю. Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев не давших мне жить.
Письмо уберу под выдвижной кирпич дымохода.
Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня! Прощай добрый папенька, ухожу умирать!
Твоя дочь Катя Сусанина.
В душе спокойна…
Мое маленькое сердце верит, письмо дойдет.[18]
* * *
Дописана последняя строчка…
Последняя?
Кровавый мартиролог фашизма можно продолжать до бесконечности. Ведь каждая из двадцати миллионов жертв гитлеровской программы человекоистребления имела свою судьбу, свои мечты, свое прошлое, и только топор палача или виселица, пуля в затылок или газовая камера, а может быть, рожденное мрачной фантазией нациста «уничтожение трудом» лишило этих людей 6удущего.
Радостным и светлым могло стать будущее Кати Сусаниной, доживи она до незабываемого дня Победы, до счастливой встречи с отцом-фронтовиком. Фашистской неволе юная патриотка предпочла смерть на родной стороне. И прежде чем «умереть стоя, чтобы не жить на коленях», Катя Сусанина оставила письмо, каждое слово которого ударом набата будит в людях тревогу за судьбу «детей человеческих», взывает к бдительности против возрождения фашизма.
И если тринадцать лет жизни Кати Сусаниной были годами счастливого детства, а «жизненный стаж» ее составил всего 15 лет, то жизнь Ивана Яковлева, родившегося в концлагере Равенсбрюк, оборвалась с первым криком, с первыми глотками земного воздуха.
Можно ли предсказать, кем был бы Иван Яковлев? Ткачом или поэтом? Учителем или агрономом? Трактористом или химиком? Может быть, он стал бы волшебником звука или красок?
Одно ясно — он должен был вырасти Человеком. Человеком — самым жизнедеятельным и жизнесозидающим существом на Земле, ее хозяином, ее властелином.
Но вот, что говорят об Иване Яковлеве бесстрастные строки документа из архива концлагеря Равенсбрюк:
Яковлев Иван, родился 4 апреля 1945 года в 18 часов, умер 4 апреля 1945 года в 18 часов 10 минут. Мать — Яковлева Нина, узница № 98473…»
* * *
Сегодня в разных углах нашей планеты снова поднимаются силы, наследовавшие идеи и дела гитлеровцев. И разве не к нам обращено мудрое предупреждение немецкого драматурга-борца Бертольта Брехта, сказавшего о фашизме:
«Чрево, породившее фашизм, еще способно рожать…»
II. ПЕСНЯ В НОЧИ
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Серый в бурых прожилках кусок спекшегося пепла. Я вынул его из застывшей печи крематория в гитлеровском концлагере Маутхаузен. Я взял его, как берут горсть земли с Мамаева кургана, Сапун-горы или Шипки…
Это человеческий пепел. По мысли гитлеровских палачей — конец и итог загубленных ими человеческих жизней.
Кусок пепла. Чей он?
Может быть, Героя Советского Союза Николая Ивановича Власова?
Но пепел — не конец и не итог его жизни. Подполковник Н.И. Власов навечно зачислен в списки гвардейского авиационного Краснознаменного полка.
Может быть, это останки славного летчика полковника Александра Исупова?
Но разве умер человек, чье перо перед смертным боем записало: «Я верю в нашу победу, знаю, что мы будем вместе жить счастливой и радостной жизнью. Пусть знает это и Толик. Пусть он растет героем и всегда помнит, что он — сын комиссара, командира, коммуниста. Скажи ему, что его отец не посрамит своей Родины и семьи. Я обещаю вам это…».
Николай Власов… Александр Исупов…
В Маутхаузене они возглавляли подпольную коммунистическую организацию. Их уничтожили и сожгли в крематории накануне намеченного ими дня восстания в блоке «XX» — блоке осужденных к смерти советских офицеров.
А может быть, это пепел легендарного генерала-патриота Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева?
— Родиной не торгую! — неизменно бросал в лицо фашистам пленный советский генерал, один из руководителей подполья во всех лагерях, куда его заключали. Морозной февральской ночью 1945 года гитлеровские изверги вывели его во двор лагеря Маутхаузен и, облив водой, превратили в ледяную статую.
Нет, не умер Карбышев. Он живет в названиях улиц, в бронзе и граните памятников, в страницах посвященных ему книг, в нашей победе.
Может быть, это пепел одного из тех неизвестных героев Сопротивления, память которых так страстно призывал беречь Юлиус Фучик?
Но, чей бы он ни был, этот пепел, он, подобно пеплу Клааса, стучит в наше сердце.
Он напоминает, взывает к совести народов, требует:
Люди! Выбейте оружие из рук, тех, кто уничтожил нас в Освенциме и Майданеке, Маутхаузене и Бухенвальде, Равенсбрюке и Дахау!
Люди, не забудьте: преступная рука, что зажгла факел войны, зажгла и огонь в печах, где сожгли нас!
Помните об опасности фашизма!
* * *
Я не был узником Маутхаузена. Судьба, к счастью отвела от меня это страшное испытание, И все же я был в Маутхаузене.
Солнечным июньским днем 1947 года мне довелось участвовать в передаче этого лагеря смерти австрийскому правительству. Теперь Маутхаузен — музей антифашизма.
То, что я видел в долгие и мучительные часы осмотра лагеря, встречи с бывшими узниками Маутхаузена и других лагерей, их воспоминания — все это побудило меня написать эти короткие рассказы.
В них все — правда.
ТРАНСПОРТ № 42
Презрение проникает и сквозь панцирь черепахи.
Л. ФейхтвангерИх собрали сюда из многих тюрем «третьего рейха».[19] Некоторым вынесли приговор «по всей форме». Другие попали по произволу какого-нибудь гестаповца. Но все они, многократно пересчитанные (порядок прежде всего!) и избитые, стали именоваться «транспортом № 4213» который направлялся по зашифрованному маршруту «Нахт унд Небель» — в «ночь и туман»…
Когда наглухо закрылись двери товарных вагонов, оказалось, что узникам придется ехать стоя, плотно прижатыми друг к другу.
Но так было только первые сутки. Утром следующего дня многие увидели, что стоят рядом с мертвецами. Трупы пришлось складывать в углу вагона. Стало просторнее. И холоднее.
Стенами вагона «транспорт» отгорожен от мира. А там свистит ветер по станционным путям. Там светит луна. Там есть дома. И тепло. И хлеб. И вода…
Транспорт № 4213 конвоируют эсэсовцы. Они уже знают, что будет на последней станции: откроются двери вагонов, из них выйдут немногие. Те, кто останутся в живых, вынесут мертвых. Выстроятся рядом со штабелем трупов и часами будут ждать переклички. Их приняли по счету и по счету сдадут. Порядок прежде всего!
…Лязгнули буфера. Все быстрее, быстрее застучали на стыках колеса. Сквозь щели в вагон проник горький запах паровозного дыма.
— Ляжем, как вчера, — сказал негромкий, но властный голос.
Укладываясь спать, узники накрываются шинелями, ватниками, одеялами. Своими и теми, что уже не нужны мертвым.
— Им же холодно… Холодно!.. Они замерзнут! — истерично кричит человек, завернутый в грязно-желтое одеяло он проталкивается в угол вагона. У кого-то срывается проклятие. Кто-то хочет удержать обезумевшего.
— Оставьте его! — снова раздается тот же властный голос.
Становится тихо. Человек срывает с себя одеяло, накрывает им труп, ложится рядом и что-то нашептывает мертвому. Потом шепот затихает. И остается только стук колес.
Стучат, стучат колеса на стыках рельс. Поют вечную свою песню дальней дороги…
Два узника. Один широкоплечий и сильный — тот, которого здесь называют полковником. Сон обходит его. Неподвижный взгляд устремлен в непроглядную темень, сгустившуюся под вагонной крышей.
Ему стучат колеса: «Кто предал… Кто предал… Да-хау… Да-хау… Да-хау…».
Беспокойно ворочается во сне другой. У него скошенный лысый череп. Ему мерещится нелепая пляска букв, которые вдруг выстраиваются в четкий ряд, образуя слова: «Герр гауптман[20] Краузе…». Затем буквы рассыпаются, подрагивая колючками готического шрифта, «Гауптман Краузе… Краузе…». Человек просыпается в липком поту.
«Вот и дожил: присвоили звание через одну ступеньку», — горько улыбнувшись, подумал Чувырин, когда его первые назвали полковником. Но эта мысль промелькнула и угасла. Ей на смену явилась другая: и здесь в нем увидели вожака. К его голосу прислушивались. От него ждали поддержки.
И еще — неотступная, тревожная мысль: «Сколько продлится эта адская пытка голодом и жаждой? Выдержим ли?…».
Вначале все в вагоне были вроде на одно лицо. Ехали молча. Каждый, казалось, ушел в себя и думал только о том, что оставил за воротами тюрьмы и что ждет его там, где разгрузят транспорт.
Постепенно начали проявляться отдельные лица.
Молодой танкист — сибиряк Виктор. Соломенные брови. Нос картошкой. Скуластое лицо.
Виктор первым нарушил тягостное молчание.
— Вы же полковник, — сказал он, придвинувшись Чувырину. — Плюнем и разотрем, товарищ полковник! Хватит прятаться. Здесь гадов нету. Все побывали в гестапо. Расскажите, как там у нас дома? Что на фронте? Два года правды не слышал…
Седой военврач. Он не отходит от безнадежно больного товарища — тоже врача.
Близорукий, с разбитым на допросах распухшим лицом нескладный человек. То молчит, то вдруг начинает говорить — не остановишь. Пересказывает кинокартины, виденные в далекие довоенные времена, читает на память Есенина и Щипачева. Почему-то его прозвали «У нас в газете»…
Грузин по имени Василий. Путая ударения и не выговаривая некоторых звуков русской речи, рассказывает о себе, о Тбилиси. К месту и не к месту приводит любимую поговорку: «С вином мы родились, с вином и умрем».
Он переносит обессиленных в середину вагона, а сам устраивается у дверей, где сильно дует из щелей. Закрыв глаза, затягивает негромкую протяжную песню, и стук колес будто отбивает такт. Песня утихала, когда поезд замедлял ход.
Другие целыми днями лежали молча. Но иногда вдруг прорывались раздражение и злоба. Это было хуже всего, потому что они грозили захлестнуть остатки человеческого…
Впервые Чувырин вмешался, когда начали снимать одежду с умерших. Он предложил дать ее самым слабым. Так получилось само собой, что его признали старшим — «полковником».
Он рассказывал о Сталинграде, о том, как из закопченного подвала вылез Паулюс в своей высокой фуражке и молодые колхозные парни в шинелях взяли под стражу гитлеровского фельдмаршала. Рассказывал о поселках и заводах, поднявшихся в тайге. Он видел их зарево с дальнего заснеженного аэродрома, с которого перегонял на фронт новые истребители.
… На вторые сутки пути Василий протянул Чувырину столовый нож, сломанный почти у самого черенка.
Чувырин попробовал пальцем острый обломок и вдруг, присев, с маху вонзил его в грязную доску пола. Решили сначала прорезать вдоль доски глубокие борозды, а потом крошить их поперек. Может быть, доска поддастся.
Работа шла медленно. Ведь был только один нож, да и тот поломанный. Чувырин спросил, нет ли у кого еще чего-нибудь такого. Но только у умирающего врача нашлась ложка. Она быстро сломалась.
Работали Чувырин, Василий, Виктор и «У нас в газете» только на перегонах. Торопились. Передавали черенок, когда руки сводило судорогой. Виктор предложил обмотать черенок тряпкой.
Мечта о побеге поселилась в вагоне. Измученным узникам казалось, что ее можно схватить рукой и опереться на нее. Она стала вытеснять даже голод и жажду.
Военврач почувствовал, что его товарищ уже остывает. Он накрыл тело обрывком плащ-палатки, а сам подвинулся к Чувырину.
— Теперь и я поработаю. За двоих.
У врача оказалась твердая рука хирурга.
В ночь на третьи сутки сквозь дыру в полу можно было уже просунуть кулак.
— Еще немного, и оторвем доску, — Чувырин сказал это про себя, а получилось вслух.
— Еще совсем чуть-чуть, и — с вином мы родились, с вином и умрем, — вставил Василий.
Напряжение нарастало.
— Пусть «сорвемся», а куда попадем? Крутом немцы. Ну пусть — австрийцы. Так они же не лучше. Переловят — и как щенят в бочку головой…
Все обернулись к человеку, который одним махом разбил надежду.
— На воле мы быстро соберемся, — сдержанно сказал Чувырин. — Пусть маленький, но отряд. А люди и в Австрии и даже в Германии найдутся. Вот ведь нож Василий не из Тбилиси привез…
— Пока солнце взойдет, роса очи выест. Ты еще доску оторви, потом планы строй, — продолжал бить по надежде тот же голос. Человек приподнялся, из груды тряпья показался скошенный череп с редкими пучками волос.
— А ты здесь оставайся, черт лысый, — сказал Виктор. — Плюнем и разотрем, товарищ полковник. Дайте-ка нож…
Работали в тягостном молчании.
Потом случилось непоправимое. Состав резко затормозил и… нож из рук Василия выскользнул в дыру…
Василий посмотрел на растерянные лица товарищей и прислонился к стенке вагона. Лоб у него стал мокрым.
Чувырин молча лег и закрыл глаза, снова вспомнилось ему то, о чем он не рассказал товарищам. Воздушный бой. Таран. Рухнувшие обломки «мессера». Парашют опустил его уже на чужую землю. Госпиталь и тюрьма. Допросы. Предложения служить в РОА[21] («Мы разрешим вам носить вашу «Золотую Звезду») и жестокие побои. Заискивающее «герр майор» и ненавидящее «ферфлюхте швайн».[22] Группа друзей в лагере и попытка побега. Снова гестапо. Суд. Приговор…
Красными огнями, как на ночном аэродроме, выстроились эти вехи. И кажется — за ними пропасть… тьма…
«Кто пре-дал… Кто пре-дал… Кто пре-дал…» — снова выстукивают колеса. Чувырин, напрягая память, продолжал разматывать клубок воспоминаний. Среди членов подпольной организации предателей не было. Это он сразу понял на допросах, а потом и в суде. Но, возвращаясь с допросов, Чувырин кое-что рассказывал. Значит, о его «подрывной работе против рейха» донес предатель, сидевший в общей камере.
Но не мог же «Чувырин молчать, не рассказывать этим измученным людям о том, чем он жил еще два месяца тому назад, — о боевых вылетах и о положении на фронте, о сообщениях «В последний час» и пламенных статьях Эренбурга в «Красной звезде»…
Всего три дня провел тогда Чувырин в общей камере. От побоев лицо его так заплыло, что он никого и ничего не видел. Потом одиночка, суд и этот вагон…
«Веревка на шее, а он, гляди-ка, поет», — зло подумал лысый, прислушиваясь.
«И как будто бы снова, возле дома ротного…» — громко пел Чувырин.
У лысого вдруг запершило в горле. Но взял себя в руки. В который раз вспоминал холодные глаза эсэсовца, скрещенные кости и череп на рукаве мундира.
«Только одно это. Последнее. Мы их «поженим на Берте»,[23] а тебе откроем ворота. Выбирай себе деревня, русский баба, делай детки и кушай шпек!» (Немец так аппетитно прищелкнул пальцами этот «шпек», как если бы подносил ко рту кусок розовато-белого сала).
Лысый провел языком по сухим губам «Вот так последнее… Сам подохнешь… Будь оно проклято. Последнее… «Последняя у попа жинка…».
Он скрючился, застонал…
Четвертые сутки для узников транспорта были особенно мучительными. Двоим померещилась вода, они поползли к лужице мочи…
— Самое большее сутки пути осталось, — сказал Чувырин. — А там выгрузят. Дадут поесть. Продержимся! Надо!
— Полковнику что, — заговорил лысый, — Он еще свежак. У него и жир на мясе сохранился. Неплохо их — соколов кормили. А мы — «пехота, не пыли», еще из под Севастополя…
— Что вы предлагаете? — нервно спросил военврач.
— Шум поднять надо. Пусть хоть раз пожрать дадут!
— Правильно, — поддержал кто-то лысого.
— Отставить! — резко сказал Чувырин. — Полоснут из автоматов — сразу накормят. Добавки не спросишь.
— Тебя кто выбирал командовав здесь? — не сдавался лысый. — Я голодный, понял? Я жрать хочу! Что я — подыхать должен, как те вон… Я имею право…
— Права, — перебил его военврач, — как раз у них, у мертвых товарищей. А у нас — только обязанности. Обязанность держаться друг за друга. И жизнь, понимаете жизнь, а не шкуру отдать подороже.
— Верно! — Чувырин подкрепил слова врача решительным взмахом руки, будто точку поставил.
— Ты что, и с мертвяками организоваться думаешь? Все равно подохнем… Шум подымать надо. Дитя не заплачет, мать сиську не даст!.. У полковника «вышак»[24] за спиной. Ему и терять нечего. Все равно пулю получит. А нам?
Лысый посмотрел вокруг. Лица узников приказали ему замолчать.
* * *
Транспорт № 4213 уже несколько часов стоял на какой-то станции. По высокой, вровень с полом вагона, платформе топали кованые сапога. Рычали овчарки, раздавались команды. Кто-то играл на губной гармошке. Прогремели колеса. Сквозь щели проник дурманящий запах солдатской кухни.
Чувырин спал, или делал вид, что спит. В вагоне зашевелились, от запаха пищи судорогой сводило челюсти.
Когда стук сапог приблизился к вагону, лысый вдруг забарабанил кулаком в дверь и заорал:
— Откройте! Откройте! Я должен видеть гауптмана Краузе…
Он кричал и стучал носками солдатских ботинок. Немец подошел совсем близко к двери. Зло зарычала собака.
— Краузе!.. — успел еще раз крикнуть лысый и захрипел. Сильные руки Чувырина сдавили ему горло. Василий набросил на голову лысого одеяло.
Из-за двери донесся молодой, веселый голос:
— Гауптман Краузе в борделе. Подождете…
… Лысого бросили в угол вагона. Никто не воспользовался его шинелью и ботинками, хотя они были еще вполне годными. Люди отодвинули свое тряпье подальше от него.
… На пятые сутки транспорт № 4213 прибыл к месту назначения. Заскрипели ржавые засовы, распахнулись двери вагонов. Шатаясь и поддерживая друг друга, выходили узники.
Солнце и сверкающий снег. Они слепили, вызывали слезы. Легкие не справлялись с океаном морозного чистого воздуха.
Чувырин и Василий вышли из вагона последними. Они вынесли вконец обессилевшего военврача.
Хотелось лечь на снег. Лечь и лежать. Но им не разрешили даже присесть. Их построили и велели ждать переклички. Порядок прежде всего!
Перекличка тянулась бесконечно долго. Тщательно пересчитали живых, а потом мертвых. К живым прибавили мертвых и счет сошелся.
Счет сошелся, но только не для гауптмна Краузе. Он не досчитался своего лучшего осведомителя.
СТРОЙ ОСТАЛСЯ НЕДВИЖИМ
Лучше потеря, которая объединяет,
чем добыча, которая сеет раздор.
Пословица.Связка писем. Одни старые, уже тронутые желтизной. Другие я получила недавно. Варшава. Краков. Гданьск…
Бывают минуты, вот такие, как сейчас. Руки невольно тянутся к этим письмам. И тогда я перебираю их, в который раз перечитываю. Вспоминаю…
Вот первые весточки подруг после возвращения в разрушенные города, на освобожденную родину. Размытые слезами чернила. Крик отчаяния. Перечень родных и близких, — погибших, искалеченных, занесенных бог знает куда смерчем войны. Горечь и слезы. Многоточия красноречивее слов.
А вот недавние письма: «Посылаю рецепт совершенно фантастического крема для лица»… «Диссертация подвигается медленно. Пришлось подзаняться еще и английским»… «У нас снова модны оранжевые тона»…
Такова жизнь.
Но и в спокойный тон последних писем врываются тревожные нотки: «Эта гадина Оберхойзер, подумай только, благоденствует, принимает больных. Сколько еще палачей на свободе! Газет хоть не читай!».
Это тоже письмо женщины. И это тоже жизнь.
Нашей переписке много лет. Правда, теперь письма приходят реже.
В комнате рядом спят мои малыши. У меня семья. Из окон нашего дома видно, как строится, вырастает театр. На моем лице все гуще сетка морщин — сигналы неумолимого времени.
Пишу об этом спокойно — рукой, а не сердцем. Но вот кончается листок, и сердце все больше завладевает пером. Снова вижу мысленным взглядом глаза далеких подруг. Колюче-голубые — Ванды. Карие с искринкой — Хелены. Серые, мягкие — Штефы. Оживают их лица. И уже другие ложатся на бумагу слова. В них много нежности. Да, нежности.
Разве не так бывает с нами на вокзале? Говорим о том — о сем, о разном, а единственно нужные слова приходят после «второго звонка», когда уже времени не остается…
Ванда, Штефа, Хелена. Дорогие вы мои! Было ли то, что мы пережили? Или это только кошмарный сон, кадры чудовищного фильма?
Вот так невольно и вспоминается Равенсбрюк.
Равенсбрюк — «Вороний мост». Равенсбрюк — действительно схоже с вороньим карканьем. Это и был мост. Мост… над рекой крови. Здесь мы и породнились.
Вспоминаю промозглое осеннее утро. Как обычно, нас выстроили на площади перекличек — трижды проклятом аппельплаце. Стриженные, измученные, в рваном полосатом тряпье, мы стояли дрожа от холода.
Неожиданно на плац привезли гору почтовых посылок и сложили штабелями перед строем польского блока. «Что-то затевается», — подумала я.
Стук упавшего тела, слабый крик… Кто-то позади упал. Помочь нельзя. Даже обернуться, взглянуть нельзя.
Появилось лагерное начальство. Над плацем разнеслась необычно спокойная немецкая речь, а потом в тон ей — голос переводчика:
— Вчера в польском блоке обнаружен беспорядок. Это недопустимо. Всякое нарушение порядка влечет за собой наказание виновных. Поэтому комендант лагеря распорядился конфисковать посылки, присланные полькам, и наказать весь их блок.
Долгая пауза.
«Раз в месяц маленькая посылка, — думаю я. — сколько у полек связано с нею надежд. Поддержать больных. Хоть немного утолить голод»…
Кто-то в строю падает. Еще кто-то слева. Их уже не касается перекличка. Они остаются лежать на седом от инея асфальте. Они нужны только для счета.
Снова разносится немецкая речь. Она еще мягче, еще вкрадчивее:
— Ротармистки! (Это уже к нам). От вас отказался даже Красный Крест! Но мы, немцы, руководствуясь принципами гуманности, передаем вам посылки, конфискованные у полек. Вам, ротармистки. Не бойтесь. Это — наш подарок.
«Надо же, — думаю я взволнованно:- здесь, на плацу, мы не сможем сговориться…»
А тем временем эсэсовки уже перетаскивают посылки к строю нашей колонны. Швыряют ящики. Один разбился — по асфальту покатилась консервная банка, вывалились кубики сахара, пакетик с галетами. Давно невиданная снедь. Не в силах отвести от нее взгляда, я глотаю годную слюну.
Упал еще кто-то.
Началась, наконец, перекличка. В нашей колонне счет живых оборвался на цифре 382. («Что же это, — проносится в голове. — Ведь совсем недавно нас было 704»).
К сердцу подступает холод. «Знай мы об этом раньше, организация решила бы, как быть…»
Снова из громкоговорителя:
— Русские! После пересчета вы забираете посылки и маршируете в бараки! Приятного аппетита!
— Мы не возьмем посылок! — раздается знакомый низкий голос нашей «мамы». Раздается, словно выстрел.
Эсэсовки забегали.
— Эту — в карцер! А мы сейчас посмотрим. Кто хочет получить посылку — шаг вперед! Тишина.
— Повторяю: кто хочет получить посылку, пусть сделает шаг вперед. Разрешается выбрать любую.
Какое тяжелое висит молчание… И вдруг… Неужели?
Нет, это не шаг вперед. Это еще кто-то сделал шаг в вечность…
Старшая надсмотрщица подходит к нашей правофланговой. Это Мария — военфельдшер из Севастополя. Она еще не член нашей организации. Ей голос «мамы» — не закон…
— Ты отказываешься от подарка? Отвечай!
Ответа не слышно. Зато слышен звук пощечины.
Эсэсовка подходит к самой старшей из нас — Ольге Васильевне. После воспаления легких она еле держится на ногах. Белая как мел. Черные провалы запавших глаз… Неужели и ее ударит эта зверюга с лицом звезды?
И снова. Вопрос. Молчание. Пощечина…
Моя щека горит. Я вздрагиваю от каждого удара, который обрушивается на подруг. Я вздрагиваю и съеживаюсь от каждого удара. Но по мере того, как эсэсовки удаляются к другим шеренгам, а строй наш остается недвижим, я незаметно для себя выпрямляюсь. Все во мне наполняется радостью. Хочется смеяться и петь. И еще: хоть краешком глаза увидеть, что делается в строю полек, француженок, чешек.
А за спиной продолжается: «Берешь посылку?» Секунда тишины. Удар. И так — до последнего человека в строю.
В тот день нас оставили без еды. Назавтра после пересчета до позднего вечера мы выстояли штраф.
Мы стояли как на параде.
* * *
Связка писем. Воспоминания — мрачные и светлые. Светлее всех — минута нашей встречи после штрафа Мы молча держались за руки и сквозь слезы смотрели друг на друга. Даже полузнакомые стали в эту минуту старыми друзьями. Без клятв. Навсегда.
ПЕТУШОК
В безлунную ночь звезды ярче сверкают.
ПословицаЖизнь в концлагере приводила людей — я имею в виду настоящих людей — к организации. Из колодца, сами понимаете, одни выход — наверх.
Слово «организация» не произносилось. Но час за часом, день за днем, будто к магниту, тянулось к ней все сильное духом, железное, что ли.
Кандидатский стаж? И мгновенье и вечность.
Членские взносы? Жизнь. И честь. Готовность вынести пытки.
Устав? Беречь товарища и, когда надо, молчать. Беречь товарища — а уже потом думать о себе.
Но прежде всего — вредить фашистам всюду, где и как только можно.
Передать чистую тряпку для перевязки. Уступить слабому лучшее место на нарах. Поделиться окурком, коркой хлеба. В нужную минуту подбодрить хотя бы простым пожатием руки.
Так выглядело в жизни, то, что газеты и ораторы выражают сухими, как осенние листья, словами «формы работы». Гудел, не умолкая, в этом мрачном застенке колокол совести.
— Листовку бы насчет «петушка», — не то советуясь, не то поручая, сказал мне «дядя Сергей». Прощаясь, он незаметно оставил в моей ладони две узенькие полоски чистой бумаги. Кто-то украдкой оторвал их от немецкой газеты и передал нам.
Фашисты боялись листовок. И попадись кто с этими полосками — ждали его допросы, пытки, расстрел…
Бумага жгла ладонь. А в голове звучала детская припевка: «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка»… Детство… Да было ли оно? Воспоминания оборвал выстрел. Кого-то убили, кого-то из нас.
Я написал на полосках: «Петушок» — наш враг. Дайте ему осесть на дно. Наша жизнь нужна Родине!»
Утром на дверях барака белела полоска бумаги. Но это была не моя листовка. И слова не те. И рука не та. Листовки видели на столбах, и в третьем и в шестом бараках там где-то висели и мои полоски, и люди читали их.
Через несколько дней я снова получил задание:
— Выступим еще раз против «петушка». Люди мрут, ухи.
— Сделаю, — ответил я, А сам не верил, что наши листовки помогут.
— Думаешь, дохлую лошадь подковываем? — угадав мои мысли, сказал «дядя Сергей», Капля камень долбит!
Когда листовки появились снова, немцы будто с цепи сорвались. Стали брать людей без разбора. Одних избивали других задабривали: старались нащупать организацию. А она получила сигналы: «Петушок» все прибывает! Действуйте!»
Передавал эти сообщения один наш товарищ — «Художник».
Да, я и забыл, что вы не знаете, о чем, собственно, идет речь. Сейчас объясню.
В концлагере фашисты положили «паек» такой, чтобы жилось недолго и умиралось не сразу. Двести граммов черствого черного хлеба с какими-то примесями. Два раза в день мутная похлебка-баланда. И больше ни крошки. Ни капли.
Мы страшно отощали. Стали шататься зубы, кровоточить десны. Мучили рези в желудке. Люди умирали десятками.
Вскоре мы разобрались, в чем дело. В баланду гитлеровцы засыпали какой-то порошок, по цвету и виду — ни дать ни взять цемент. А была это костная мука для подмешивания в корм курам-несушкам. Привозили ее в лагерь в больших бумажных мешках с яркой фабричной маркой — красным петухом.
С каждой неделей все круче и круче замешивалась баланда этим самым «петушком». Даже здоровый желудок не мог бы справиться с ним. Порошок камнем оседал в кишках. Спасения не было.
Мы старались разъяснить товарищам вред «петушка». Призывали съедать баланду не сразу, а давать «петушку» отстояться.
Наши призывы вроде бы действовали, пока люди ожидали раздачи баланды. А потом многими уже командовал голод…
Мешки с «петушком» выгружали узники. В этой команде и работал «Художник». По его совету разрывали мешки и рассыпали порошок. Нарочно затягивали разгрузку во время дождя.
Однажды после поверки нам сообщили, что «Художника» взяли. Пришлось переносить в другое место наш немудреный «арсенал» — чудом собранный пистолет, железный прут и штык. Жизнь пятерки, с которой был связан «Художннк», повисла на ниточке.
«Какой он человек? — с тревогой думал я. — Что если не выдержит пыток?»
И черт знает что лезло в голову. Сами понимаете…
Прошло несколько дней, неделя, и мы узнали, что «Художник» в «политабтайлунге».[25] Там шла «обработка». Однажды, когда «Художника» волокли с допроса он выкрикнул прозвище доносчика.
Эстафета с именем предателя передавалась тем, кто должен был свершить и свершил возмездие.
Но вот что произошло потом.
Был март. Стояла по-настоящему весенняя погода. Даже обычные мучения пересчета легче переносились в такой теплый солнечный день.
Аппель очень затянулся. Немцы явно нервничали.
Красавчик Руди, палач с лицом ангела, прохаживался перед строем и все посматривал в сторону лагерной комендатуры.
Неясная, глухая тревога охватила нас. Печатая шаг, к плацу направилось отделение эсэсовцев. Они выстроились возле Руди. И тут мы увидели: из комендатуры вывели зверски избитого человека в окровавленных лохмотьях. Над левым карманом его робы был приколот кусок бумаги с отпечатанным на ней красным петухом. Человека поставили у стены. Руди через переводчика объявил, что «русскому дается последний шанс признаться и искупить свою тяжелую вину перед рейхом. Иначе он будет расстрелян перед строем своих камрадов».
Переводчик дважды повторил это, а узник молчал. На его распухшем лице едва виднелись глаза. Они жили, эти глаза, и, может быть, видели наше огромное полосат каре, безмолвно стоящее с непокрытыми головами под синим мартовским небом.
Потом Руди что-то выкрикнул, Узника привязали к кольцу в стене, Мы поняли, что произойдет. Здесь уже не раз бывало такое…
Вскинулись автоматы. Залп. Человек грузно повис дернулся — и затих.
Уходя с переклички, мы, как по команде, подтянулись держа равнение на расстрелянного.
В бараке «дядя Сергей» сказал мне, что это был наш «Художник».
После отбоя, в темноте, мне передали кусок жестко картона. Ощупав его, я догадался, что это такое. Я выждал, пока из трубы крематория вырвалась очереди вспышка пламени, и в ее красном неровном свете увидел, что держу пробитую пулями мишень. На ней запеклась кровь.
Мишень снял с «Художника» каш человек из «похоронной команды».
«СЕЛЕКЦИЯ»
Правда выше жалости
М. ГорькийВ болотистой долине рядами стояли одноэтажные коробки бараков. Черные, холодные, пропитанные адской смесью запахов гибели…
На узких трехъярусных нарах лежали живые скелеты, одетые в полосатые робы. Их охраняли сытые звери — двуногие и овчарки. Бараки были обнесены колючей проволокой и бетонными стенами. Горе жило здесь в обнимку с отчаянием. Одним словом — концлагерь.
Все было прижато к земле — огромной раскрытой могиле!
В стороне от бараков высилось мрачное каменное здание. Тупо уставилась в небо квадратная труба.
Из трубы день и ночь валил густой дым и вырывались космы желто-красного пламени. Низкое небо, затянутое тучами, прижимало дым к земле. Он смешивался с плотным туманом болотистых испарений, и тогда все вокруг пропитывалось нестерпимым смрадом. От него сжималось сердце, подкашивались ноги. Говорить об этом здании избегали — за его дверью проходил последний рубеж жизни.
В стене здания, обращенной к баракам, чернели глазницы двух низеньких окон. И куда бы ни шел узник, они, казалось, неотступно следили за ним.
Над лагерем висело пепельно-серое небо. Этот кусок земли обходило даже солнце.
Ночью в неотапливаемых бараках люди тесно прижимались друг к другу, и часто скудное тепло живого отдавалось соседу, который в нем уже не нуждался.
Равные в своем ужасном бесправии, узники старались держаться. И держались. Окаменевшим молчанием звенел их гнев, намертво зажатый зубами.
Для этих людей, казалось, никогда не существовали такие простые слова, как «понедельник», «вторник», «февраль», «сентябрь»…
Время измерялось по-другому: от аппеля до раздачи «баланды», от выхода на работу в каменоломню до падения измученного тела на жесткие нары.
И еще — от «селекции» до «селекции».
* * *
Человека, которого в бараке прозвали «профессором» привезли ночью с очередным транспортом из Венгрии. Его втолкнули в барак. Указали на второй ярус. Два полосатых мешка оттолкнулись друг от друга, и новичок боком протиснулся в освободившуюся узкую щель…
Утром «профессор» замешкался с подъемом и умыванием. Пришлось объяснить ему нехитрые заповеди узника. «Профессор» молча выслушал, едва заметно кивнул.
Что Михаилу запомнилось в облике нового сосед? Может быть черные мохнатые брови и лысый, в крупных веснушках, череп? Печальные большие глаза и острый с горбинкой нос? Белые худые руки с тугими жгутами вен или, может, каким-то чудом сохранившаяся жилетка?
Возможно, он и в самом деле был профессором. Он стыдился своей ученой речи, своей привычки вставлять в речь афоризмы. Он еще сохранил отвращение к грязи и голоду. Трудно было сказать, сколько ему лет.
Когда по утрам к огромному плацу, на котором выстраивались узники, направлялся человек в белом халате, над полосато-серыми рядами нависала жуткая тревога. Все замирало. Предстояла «селекция»…
Изможденные, зачастую смертельно больные, пересиливая страх, узники старались выглядеть бодро, даже молодцевато.
От этого зависело все. Пол белым халатом немца — мундир. На петлицах короткие зигзаги молнии: СС. Похлопывая стеком по голенищам хорошо начищенных сапог, не спеша обходит он застывший в немом ожидании строй. Теперь главное — не показаться ему больным, слабым. Рявкающий выкрик: «гераус» — из строя! — и тот, кому подавалась эта команда, покидал живых и, еще сам живой, уже был только чем-то, предназначенным к отправке «туда» — в здание с квадратной трубой…
Стоя в одной пятерке с Михаилом, профессор ничем не выдавал своего волнения — даже когда «врач» приближался к нему. Но по мере того, как эсэсовец удалялся к строю других бараков, профессор проявлял все большее беспокойство. Он приподнимался на носках и вытягивал шею, стремясь увидеть ход «селекции». Неписаные законы лагерной конспирации запрещали лишние вопросы, и Михаил не задавал их.
* * *
Шла раздача «баланды», когда в блоке внезапно появился молодой эсэсовец. Он решил навести порядок и, раздавая направо и налево удары, замахнулся дубинкой на профессора. Возможно, юнцу просто захотелось «дать по мозгам» старому человеку. Но удар получил Михаил. Он успел оттолкнуть профессора.
Эсэсовец вызвал старшего. Тот назначил Михаилу трое суток сухого карцера. Только хлеб. Ничего жидкого.
— 3десь тюрьма, концлагерь, а не детский сад, — выкрикнул немец и улыбнулся собственному остроумию.
— Ты что шепчешь, ученая скотина? — набросился он вдруг на профессора.
— Люди строят стены тюрем из кирпичей стыда, — четко и в меру сил громко ответил старик.
— Что, что?
— Это сказал Оскар Уайльд, господин блокфюрер, а я только вспомнил…
— Этот Оскар, конечно, еврей, и ты повторяешь его бред, свинья! Пять суток карцера!
…В барак профессор вернулся надломленным.
Но первым его вопросом было: проходила ли за это время «селекция»?
— А что вам до этого? — спросил Михаил.
— Как что! — вскрикнул вдруг профессор, но тут же осекся. Снова ушел я себя.
* * *
Коротка ночь узника. Но не каждый дорожит минутой спасительного забытья…
Профессор, вплотную прижатый к Михаилу, лежит и глаза его открыты.
«Там» из трубы выплеснуло пламя, и зловещий его отсвет ворвался в окна барака. Ломаные тени запрыгали на стене. Профессор увидел, что и Михаил не спит.
— Знаете, Михай, — почти беззвучно сказал профессор — прав был Бальзак. Есть люди, похожие на нули: им всегда необходимо, чтобы впереди шли цифры… О иштэнем!..[26] Где это я говорю о Бальзаке…
— Ничего, профессор. Нули, идущие за единицей, удесятеряют ее силу.
Приступ удушья не дал профессору ответить.
Михаил старался поддержать его. По «кольцу» удалось передать ампулу глюкозы, потом еще одну…
Однажды, когда они остались вдвоем убирать в бараке, профессор снял с себя жилетку, протянул Михаилу и просил поскорее ее надеть, а сам стал на чеку, возле двери.
— На подкладке кое-что написано, — сказал он, — передайте тем, кто послал глюкозу, чтобы мою жилетку берегли. Ею должны будут заняться химики…
Печальные глаза профессора светлеют, становятся мягче.
— Михаил, я поверил вам. Помогите мне. У «зеленых» можно купить яд…
Он быстро поднес руку ко рту. На ладони оказалась вставная челюсть. Зубы были фарфоровые, но очень похоже на натуральные.
— Они на золоте, — сказал профессор, — Хорошая цена за ампулу цианистого калия… Не так ли?
— Профессор… — только и мог вымолвить Михаил.
— Мне передали, — продолжал профессор, — что шестому блоку назначена строгая селекция. Всех больных и слабых сожгут…
— Да, но…
— Всех больных и слабых, — повторил старик. — Там, в шестом — мой сын. Пусть у него будет яд. На всякий случай… Вы только попросите: пусть яд будет настоящим…
* * *
Бог и тот уже не сумел бы исправить случившегося. Труп профессора вместе с другими жертвами очередной «селекции» поглотил крематорий. Поэтому лагерфюреру пришлось ответить в Берлин: «Интересующий Вас ученый, по нашим документам — узник 369741, умер при невыясненных обстоятельствах. Никаких его личных вещей в бараке не обнаружено».
— И чем они только занимаются там, «наверху»? Какая-то жилетка, видите ли, им понадобилась, — ухмыляясь произнес лагерфюрер и, лизнув языком, заклеил конверт с надписью: «Срочное. Берлин. Лично рейхсфюреру СС Гиммлеру».
СКРИПКА В ЛЕСУ
Музыка не создана для исчадий ада.
Д. Кьюсак.Вам приходилось слышать скрипку в лесу? Мне довелось однажды, и воспоминание об этом еще живо, хотя с тех пор прошло два десятка лет…
…Дунай сердито спорил с берегом. Ветер трепал седые космы волн. Мотались, прыгали на волнах лодки, привязанные к причалу. Ветер уносился в степь и дальше — к черной громаде леса. Там, уже вполсилы, он раскачивал густые кроны деревьев, рождая тот глуховатый шум, который беспричинно волнует в лесу.
Мы направлялись в лес, где, по слухам, бродила группа гитлеровцев. Война только что закончилась. Хотелось верить, что слухи о банде преувеличены или просто выдуманы. Но, так или иначе, лес надо было прочесать. Вскоре мы втянулись в сумеречную неизвестность леса. В звене нас было трое. Пройдя сотни две шагов, мы неожиданно услышали мелодичные звуки.
Представьте себе чужой лес. Тревожная тишина. И вдруг — скрипка… Ее грустный голос то сливался с шорохом листвы, то вдруг нарастал, отчетливо выделяясь в лесных шумах.
В третий раз за день начинался дождь, Будто просеянные сквозь сито капли тихонько шелестели в листьях. Скрипка жаловалась и негодовала. Она тревожила, она бередила душу. Я вспомнил, не знаю почему, бои на холмах Буды, товарищей в братских могилах…
Да, смычком водила опытная рука.
Я вел звено по узкой лесной тропе. И вот мы увидели скрипача. Это был пожилой цыган невысокого роста, обросший и худой. В его буйных, тронутых сединой волосах блестели бисеринки дождя. На цыгане было что-то вроде серой арестантской робы. Черные полосы на ней выгорели. Он шел впереди нас. Шел неровно, припадая на одну ногу, босой и какой-то неприкаянный. Между плечом и подбородком была зажата скрипка. За ним тянулась мелодия, которую трудно забыть и еще труднее передать.
Тропинка вывела к поляне. Мы увидели группу людей возле лесной сторожки. Мои солдаты вскинули автоматы, но я остановил их, заметив переводчика Иштвана — коренастого парня в островерхой шапке. Возле него стояло еще несколько венгров. А на полозьях перевернутых саней сидело трое пленных немцев. Они жались друг к другу, одичавшие и опухшие — должно быть, с голоду. Увидев нас, они вскочили.
И вдруг голос скрипки взлетел и оборвался на высокой ноте. Цыган увидел немцев. Не то вопль, не то крик ярости вырвался у него. Скрипка полетела в сторону. Размахивая смычком, цыган бросился на одного из немцев и вцепился ему в горло. Они покатились по земле. Цыган что то хрипло кричал, немец, задыхаясь пытался оторвать его руки от горла…
Старшина Замчевский с трудом оттащил обезумевшего цыгана от пленного.
Я подошел к цыгану. Он дрожал… Я кивнул Замчевскому, и тот отпустил его. Предложил цыгану папиросу, но он не обратил на нее внимание. Он вытащил из кармана куртки матерчатый треугольник и ремешок с металлической биркой и протянул их мне. На кусочке алюминия были выбиты какие-то цифры. Цыган выкрикнул что-то бессвязное.
Я обернулся к Иштвану, ожидая перевода. Тот пожал плечами и сделал пальцем жест возле виска мол у него «не все дома».
Цыган подобрал скрипку и, не оглядываясь на нас, пошел в лес, припадая на ногу и бормоча что-то. Мы молча смотрели ему вслед.
Вот он подошел к каменному распятию, стоящему на краю поляны. Оно было облупленное и исхлестанное дождем. Нелепо торчала проржавленная жесть ореола вокруг головы Христа. Цыган остановился перед распятием — и вдруг что было силы ударил по нему скрипкой. Треск дерева, оборвавшийся звон струн… Будто простонала скрипка…
Цыган постоял еще немного, потом резким взмахом отбросил смычок и побрел дальше. Вскоре лес поглотил его…
Один из венгров быстро заговорил. Иштван перевел его слова:
— Вот какое дело, капитан. Этого цыгана зовут Чорба Янош. Его даже в Будапешт приглашали играть на скрипке. Немцы увезли его с семьей в концлагерь. Куда-то в Австрию. Вместе со всеми нашими цыганами. Их сжигали в печах, а Чорба… Его заставили каждую партию провожать со скрипкой к печам… Вот оно как…
Я закурил и покосился на немцев. Они все еще стояли по стойке «смирно». Тот, на которого набросился Чорба, равнодушно жевал сухарь.
Подавляя очень злое, что подымалось во мне, я подал команду строиться и приказал Замчевскому отвести пленных в лагерь.
«СОЛОВЕЙ» И РОЗЫ
Чрево, породившее фашизм, еще способно рожать.
Бертольт БрехтФриц Мюллер отвалился от обеденного стола, вытер подбородок и аккуратно сложил салфетку. В тот день «дежурной» была салфетка с вышитым на ней — «Боже! Покарай Англию!» Скользнув по готической вязи букв, Мюллер улыбнулся. Он уже давно заметил, что именно эта салфетка сопутствует вкусному обеду и хорошему настроению.
У фрау Амалии Мюллер было еще два гарнитура салфеток. Эти с «Боже! Покарай…» — самые старые. Им скоро полвека. Сделали их в 1915 году. На остальных вышиты любимые сентенции хозяина: «С нами Бог!» и «Через прошлое — к будущему!»
Мюллер перешел в кабинет, где его ждало удобнее кресло, стопка газет, письма и коробка сигар. Привычным движением, не глядя, нащупал на столе перочинный ножик, вынул сигару, обрезал копчик ее и закурил. Острие ножика нырнуло в угол конверта, несколькими рывками вскрыло его, затем второй, трети, четвертый. Попыхивая сигарой, Фриц Мюллер приступил к чтению. В письмах ничего особенного. Но вот Мюллер вынул сигару и положил ее на фирменную пепельницу «Страхование имущества. Фриц Мюллер и сын». Повернув последний конверт и прочтя адрес отправителя, Мюллер на какой-то миг задумался.
«Дружище Фриц! — писал человек, которого Мюллер так и не вспомнил. — Слава богу, я отыскал тебя, ты будешь сто седьмым «соловьем». Больше никого из нашего прославленного батальона «Нахтигаль»[27] я не нашел, хотя на одни только объявления в газетах истратил 47 марок 35 пфенингов.
Меня ты должен помнить. Я — «Длинный Хуби» — Хуберт Баумгартнер, ефрейтор первой роты. С тобой мы участвовали в операции «Возмездие» — выковыривали из теплых постелей интеллигентов во Львове.
В двух словах о себе. В плен я сдался «индюкам». Янки со мной не очень церемонились, но вышел я по чистой после того как помог одному офицеру выгодно продать крупную партию медикаментов. Теперь у меня своя аптека в Гамбурге. Верь, дорогой Фриц, — все уладилось. Пережитое даже во сне не приходит. Теперь, как никогда, я понимаю мудрость твоего девиза: «Через прошлое — к будущему!»
Мы сколачиваем союз ветеранов «Нахтигаля». Обратной почтой переведи 5 марок вступительных и следи за газетой бывших фронтовиков. Мы скоро соберемся за кружкой пива в Мюнхене. Итак, жду перевода и письма. С фронтовым приветом и «Через прошлое — к будущему!» — Твой Хуберт».
Фриц Мюллер перечитал письмо, стряхнул с сигареты валик пепла и жадно затянулся.
«Ловкач, этот Хуберт! Переведи ему 5 марок! И это только вступительные!»
«Длинный Хуби» и его письмо напомнили Фрицу победный марш по безлюдному, притаившемуся Львову. Батальон «Нахтигаль» — оправдал доверие руководства СС!
Фриц Мюллер встал, энергично потянулся и зашагал по кабинету. Можно ли забыть пьянящее чувство всесильной власти над этими недочеловеками — славянами? Эти «унтерменши» узнали, что такое «Нахтигаль!» Тщетно пытались они поколебать волю испытанных «соловьев» позерским хладнокровием перед казнью и гнусными большевистскими выкриками… «Нахтигаль» вел на страх врагам батальонный фюрер Теодор Оберлендер!
Мысли Мюллера переносятся к событиям, заставившим Оберлендера подать в отставку. Газеты пестрели тогда требованиями замаскированных коммунистов удалить Аденауэра из дворца Шаумбург… «Пусть старый Конрад займется лучше своими розами!»
— Розы.„Розы… повторял Фриц Мюллер. Это увлечение Конрада Аденауэра — общеизвестно. Но старик уже в могиле, а нам бы такие розы, какие выращивал Хоппе!
…Случилось это на совещании у гаулейтера Восточной Пруссии Альберта Форстера. Большие, яркие стояли розы в хрустальной вазе на сером ящике штабной рации, рядом с письменным столом, гаулейтера. Свет люстры играл на хитросплетениях граней и узоров вазы и в то же время подчеркивал густоту цвета роз.
В мрачной, по-военному строгой обстановке кабинета розы могли казаться причудой гаулейтера. Дважды в течение своего выступления Форстер вставал, не прекращая речи, подходил к вазе, осторожно касался бахромы лепестков. Героем дня у гаулейтера стал комендант концлагеря Штутгоф-штурмбанфюрер Хоппе. Фриц Мюллер стал свидетелем такого разговора:
— Как удается тебе выращивать такие розы? — спросил Форстер.
— Очень просто, — с улыбкой ответил Хоппе. — Нужно только знать, какое удобрение наиболее полезно розам и в каком поливе они нуждаются.
Заметив недоумение гаулейтера, Хоппе торжествующе оглянул собравшихся и с той же улыбкой пояснил, что удобрялись розы пеплом узников, сожженных в крематории, а поливались, — Хоппе выдержал эффектную паузу, — поливались человеческой кровью…
* * *
Фриц Мюллер оторвался от воспоминаний и пробурчал, в диктофон: «Перевести Хуберту Баумгартнеру 5 марок».
ПИСЬМО ДАЛЕКОГО ДРУГА
Одна из великих сил мира — дружба людей.
Старый год доживал последнюю неделю, когда я получил письмо, вызвавшее воспоминания о короткой, но многозначительной встрече.
«Мой далекий советский друг! Я долго молчал, но сейчас, в канун Нового года посылаю это письмо и, к сожалению, с печальной вестью…»
Письмо было из Италии. Писал Луиджи Фабиано- бывший боец антифашистского Сопротивления. Встретились мы с ним… Впрочем, об этом расскажу дальше.
«Две недели тому назад, — продолжал Луиджи, — у меня на руках умер Эмилио… За его простым гробом шел весь наш поселок, много рабочих автомобильного завода, бывшие партизаны.
Что же случилось с Эмилио? Тяжелая болезнь? Нечастный случай?
О, нет, мой друг! Дважды он был тяжело ранен и унес в могилу осколок фашистского снаряда. Изведал ад гитлеровских концлагерей и был спасен вашими танкистами, — но недолго наслаждался свободой. Подорванный пережитым организм сдал, Эмилио заболел и, ты уже знаешь это, — ослеп.
Можно было позавидовать силе воли нашего друга. Даже слепым он остался в строю, активным солдатом нашей партии, настоящим коммунистом.
Так мог ли Эмилио оставаться дома, когда узнал с бомбе, взорванной в помещении районной секции Компартии. Эю же — дело неонаци!
В первом ряду демонстрации протеста шел Эмилио Я был рядом. Потом произошло непоправимое… На нас напали фашистские молодчики. Велосипедными цепями, железными прутьями, дубинками обрушились они, а… полиция — она помогала им!
Мы прикрыли Эмилио, хотели вывести его, но не сумели… Так попал он в больницу.
Чудом выжив в схватке с фашистами немецкими Эмилио погиб от рук фашистов отечественных, тех кто называет себя наследниками Муссолини… Да, история повторяется, дорогой мой друг! Тяжела потеря, но и сегодня мы повторяем наш боевой девиз: «Фашизм не пройдет!»
* * *
Теперь о знакомстве с Луиджи Фабиано. Произошло оно в Австрии, 20 июня 1947 года. В тот погожий солнечный день мы приехали в деревню Маутхаузен, расположенную на холмах недалеко от города, где кончалась советская и начиналась американская зона оккупации. Здесь предстояла официальная передача австрийскому правительству бывшего гитлеровского концлагеря Маутхаузен.
…Перед массивной, из бутового камня, стеной у ворот лагеря началась официальная церемония. Отныне Маутхаузен превращался в музей антифашизма.
Тяжело воскрешать в памяти все, что мы видели здесь переходя от крематория к гильотине, из подвалов, где совершались массовые казни к газовой камере, куда обреченные доверчиво шли думая, что идут в душевую…
Мы ступали по земле, где светлая сила человеческого духа все же не была сломлена черными силами варварства. Многострадальная эта земля хранила следы героического антифашистского Сопротивления. Нам показали братскую могилу семнадцати участников коммунистического подполья. Еще такие же могилы. Барак смертников. Здесь, ожидая дня казни, томились военнопленные — советские офицеры. Отсюда пробилось пламя восстания против палачей.
Сейчас в лагере царила тишина. И только пепел в застывших печах крематория, да бесконечные ряды крестов на огромном кладбище, напоминали о том, что творилось в Маутхаузене…
«Оставь надежду, сюда входящий»… — Подобной надписи не было у входа в этот ад, созданный человекоподобными для людей. Но те, кто остался в живых никогда не забудут зловещего предупреждения, которым встречали их в Маутхаузене: «Отсюда выхода нет. Отсюда вы вылетите в виде дыма из трубы крематория»…
… Волнуется человеческое море у стен Маутхаузена. Бывшие узники этой «фабрики смерти» приехали из Польши, Италии, Франции, Греции, Чехословакии, крохотного Люксембурга, многих других стран. Одиночками и группами разбредаются они по лагерю, ищут и находят бараки в которых «жили» и где только во сне видели марево свободы…
Человеческие ручейки стекаются к нашей небольшой группе советских офицеров. Мы стоим у мемориальной доски, с которой только что упало покрывало, открывшее миру цифры жертв, поглощенных здесь фашистским Молохом: Советский Союз — 32180… Польша — 30203… Венгрия — 12923… Югославия — 12870… немецких антифашистов — 1500… американских граждан — 34… английских граждан — 17…
122.766 человек замучено в Маутхаузене! И это только по документам, оставшимся в лагерной комендатуре!
К нам подходят незнакомые люди, пожимают руки, показывают свои значки — треугольник в колючей проволоке… Нам еле успевают переводить слова теплой благодарности «Люсьенов», «Джованни», «Пьеров», — своим побратимам по Маутхаузену «Михаилу», «Петру», «Ване»…
Надо ли говорить, как хотелось запомнить каждое дружеское слово, каждое проявление любви к советским людям, чтобы рассказать об этом дома, на Родине.
Внезапно окружавшие нас умолкли и расступились. В образовавшемся коридоре шло двое мужчин. Один из них медленно и осторожно ступал, устремив невидящие глаза в пространство и как бы прислушивался к звуку собственных шагов. От правого глаза к щеке тянулся широкий след ранения. Протянутые руки искали нас, и его товарищ, — это был Луиджи Фабиано — направил их к ближайшему из нашей группы капитану Елисееву:
— Камарад, товарищ! С нами был русский офицер Петрович. Много допросов выдержал наш Петрович, но никого не выдал… Петрович умер, а мы не забыли его.
Слепой — это был Эмилио — поднял кулак правой руки и снял берет. Молча и мы обнажили головы. Неожиданно слепой стал ощупывать гимнастерку Елисеева, и в тревожной тишине мы услышали мелодичный перезвон медалей.
Вдруг тонкие пальцы Эмилио коснулись уголков ордена Красной Звезды. Вздрогнув, как от удара током, он припал к груди Елисеева и словно в забытьи повторял: «Камарад! Товарищ!»
Потом он лихорадочно быстро снял с себя куртку, поднял руки, державшие рубашку, и повернулся.
На смуглой коже спины мы увидели красно-розовые рубцы звезды, вырезанной палачами… Этот кровавый след оставили на теле бойца интернациональной бригады Эмилио Альдони молодчики генерала Франко…
Расставаясь мы обменялись с Луиджи адресами.
* * *
Как самую дорогую реликвию храню я письмо Луиджи Фабиано. В который раз перечитываю его и перед глазами отчетливо предстает день первой встречи с Эмилио Альдони и трудно представить себе, что нет его в жиых.
Письма из Милана приходят чаще. Недавно Луиджи прислал мне горсть земли с могилы Героя Советского Союза — Федора Полетаева, и я передал ее музею школьного клуба интернациональной дружбы.
Дети Луиджи Фабиано и внуки Эмилио Альдони постоянные корреспонденты и почетные члены этого клуба. Эстафета дружбы, скрепленной кровью борцов-антифашистов — в надежных руках!
ПЕСНЯ В НОЧИ Повесть
Неправда, камрад, прекрасна та смерть, в которой заключается смысл жизни.
М. ЗалкаI
За дверями мороз. Посвистывает ветер в переплетах многорядной колючей проволоки, хлопает дверцей сторожевой вышки, забирается в открытые настежь окна бараков.
В бараках пусто. Тысячи измученных и обессиленных людей колонна за колонной бредут к массивным воротам. Над ними стервятник, вонзивший крючковатые когти в рубленный крест свастики. На решетке ворот — чугунные буквы короткой и зловещей надписи: «Каждому — свое».
Ветер начисто вылизал бетонную площадь. И только там, где вчера лежал истерзанный овчарками труп беглеца, осталось бурое пятно. Кровь замерзла. Легким облачком повис над пятном иней. И казалось — кровь дышит…
Словно припав к земле, вытянулось невысокое мрачное здание. Закопченный обрубок квадратной трубы постоянно дымит и временами выбрасывает языки пламени.
За дверями мороз, а здесь тепло. Гудит пламя в печах. Они закрыты чугунными задвижками, в каждой из них — круглое окошко, сквозь которое видно, как пляшет, беснуется огонь.
Печи загружены, и «капутчики» отдыхают. В углу крематория свалены обнаженные трупы очередной партии. Удушенные газом. Умершие от голода. Запоротые на смерть. Расстрелянные. Не выдержавшие каторжного труда. Скошенные болезнями…
Четыре часа утра. Вот-вот раздастся сигнал к аппелю, взвоет сирена, и из бараков на аппельплац потянутся живые скелеты, одетые в полосатые робы. Привычным движением каждый снимет головной убор и с прихлопом опустпт руку на бедро. Часами заключенные будут стоять на морозе, не шелохнувшись. В деревянных колодках на босу ногу. Страшно медленно движется время, хотя сама смерть подгоняет его.
В морозные дни «капутчикам» достается. Из всех бараков в крематорий приносят трупы умерших за ночь. Приволокут сюда и тех, кто упадет замертво, не выдержав издевательского ритуала пересчета.
В команде «капутчиков» — новичек. Он выдает себя тем, как опасливо, осторожно берется за труп, укладывая его на носилки. Выделяется новичок и одеждой. На его куртке, на спине и груди намалеван белый круг с красным яблоком. Это «флюгпункт». Он означает, что узник совершал побег. Каждый эсэсовец, когда ему вздумается, может упражняться в стрельбе по той живой мишени.
«Капутчики» знают, что и их дни сочтены. Больше одного-двух месяцев редко держат команду крематория — «капут-команду». Ее «ликвидируют» в газовой камере, и другая команда затолкнет их трупы в эти вот печи.
И все-таки им жалко новичка. Они еще верят в чудо — надеются вернуться в бараки. А того смерть подстерегает на каждом шагу.
«Капутчики» отдыхают. Присев на низенькие козлы они слушают нового товарища. Под красным треугольником к его робе пришит грязный лоскут с черными цифрами 37771. Они заменяют здесь и фамилию и имя. Подводят черту под прошлым. Не оставляют права на будущее.
А еще совсем недавно «гефтлинг» № 37771 был командиром отделения связи Мамедом Велиевым.
II
— В семье я был девятым. После меня появились еще брат и сестра.
Кормил нас голос отца, сельского хананде — певца на свадьбах и праздничных обедах.
Сестры не в счет, а из братьев только у меня оказался сильный, звонкий голос. В пятнадцать лет я уже подпевал отцу, и он был доволен. Отец учил меня, как петь и как беречь голос. Неграмотный был старик, а знал секрет правильного дыхания. Без этого ведь певец — не певец.
Что мы пели? Мугамы, дастаны о герое Кероглу, песни на слова Низами, Физули, Вагифа, исполняли народные мелодии.
Жилось нам трудно. Часто не было в доме куска хлеба. Но уже тогда я заметил, что не всякий заработок интересовал отца. Бывало, отказывался он от приглашения. Наотрез. Не помогали тогда ни обещания хорошо заплатить, ни посулы богатых подарков. Не уступал он даже умоляющему взгляду матери.
Как-то я не выдержал:
— Почему ты отказываешь Аскеру-ами?[28] Разве он нехороший человек?
— Среди змей хороших и дурных не различают, — ответил отец пословицей.
В другой раз он не пошел на торжество обрезания у первенца Ага Бека, известного в округе кочи.[29]
— Отец… — начал было я.
— Надо быть слугой совести и хозяином воли, — отрубил он и прогнал меня с глаз долой.
Умер отец внезапно. Пел он где-то, как вдруг кровь, хлынула горлом. В дом принесли уже мертвым…
— «Вассер!» «Вассер!» — прерывает рассказ Мамеда Велиева условный сигнал.
Дверь распахнулась от резкого толчка снаружи. Дохнуло морозом. В крематорий вошли два эсэсовца в белых халатах поверх шинелей и двое «зеленых».
«Капут-команда» мигом вскочила. Застыла смирно.
Один из «зеленых» с деревянным лотком в руке пошел с эсэсовцами туда, где лежали трупы. В лоток с тупым стуком падали челюсти с золотыми зубами и коронками вырванные у мертвецов.
Между тем второй «зеленый» заинтересовался узником 37771.
— Русише швайн! — Он подошел к Мамеду Велиеву и ткнул кулаком в мишень на робе. — Зольдат пиф-паф унд рус ист капут. — Немец хрипло засмеялся.
Узники молчали.
Немигающим взглядом Мамед Велиев уставился на уголовника. И тот оборвал смех.
— Думмер керль[30] — сказал «зеленый», подступая еще ближе. — Золотой зубка маешь? — Он потянулся раскрыть рот узника.
Резким движением Мамед Велиев отбросил руку уголовника и плюнул ему и лицо.
«Зеленый» ошалело утерся. Потом кинулся на Мамеда и сбил с ног, принялся пинать башмаком. На шум прибежали эсэсовцы, в руках блеснули пистолеты.
— Вас ист лос?[31] — крикнул эсэсовец и, выслушав «зеленого», выстрелил, не целясь, в лежащего.
Эсэсовцы и «зеленые» ушли.
«Капутчики» наклонились над Мамедом, приподняли ему голову. Мамед открыл глаза, медленно, опираясь на руки, сел. Живой. К счастью, промахнулся эсэсовец.
— Надо же тебе было связываться с ним, — сказал один из «капутчиков».
Мамед Велиев вытер рукавом окровавленное лицо, разбитое башмаком «зеленого». Пробормотал:
— Промокшему — что бояться дождя…
Было время загружать печи. «Капутчики», подхватив носилки, поплелись забирать трупы.
III
Прошли сутки.
За ночь Мамед Велиев еще больше осунулся. Большие черные глаза, над которыми мохнатыми козырьками нависли брови, лихорадочно блестели. В рядах крепких зубов чернели провалы…
Вдруг по его лицу будто скользнул светлый луч. Появилось подобие улыбки, но тотчас она сменилась гримасой боли. Подсохшие было на губах и скуле раны потрескались. Проступила кровь.
А улыбался Мамед Велиев потому, что явственно увидел Приморский бульвар родного Баку. Дрожала зыбкая лунная дорожка на темной глади бухты. Темнели очертания городских купален. На еле различимом горизонте перемигивались огоньки, зеленые и красные. Мамед постоял у парашютной вышки, затем втянулся в неторопливое движение тысяч горожан, которых привел сюда душный бакинский вечер…
С трудом отогнав мираж, Мамед увидел печи. Он поежился, хотя в крематории было жарко. Осторожно провел языком по губам.
— Рассказывай дальше, — попросил один из «капутчиков»
Мамед припомнил, на чем он вчера остановился, и продолжил свой невеселый рассказ:
— После смерти отца я поехал к дяде в Баку. Закончил техникум и стал оператором на промысле. Потом поступил в Политехнический институт. Выступал в ансамбле Дворца культуры нефтяников…
Я все говорю: стал этим, стал тем, — прервал он самого себя. — А человеком?… Человеком я стал в Аджимушкайских каменоломнях под Керчью.
…Было это в Крыму, в мае 1942-го. Мы отступали. Творилось черт знает что. Через Керчинский пролив переправлялись кто как мог. В гуще самодельных плотов, лодок, перегруженных баркасов рвались немецкие снаряды и мины.
Наша группа подошла к Аджимушкайским каменоломням. Днем и ночью тянулись сюда беженцы — женщины, старики, дети. На что рассчитывали? Не знаю. Хоть от бомбежки укрыться…
Связь с командованием нарушилась. Мы двигались в общем потоке к переправе. Но я замени, что не только гражданские искали убежища в каменоломнях: туда уходили и некоторые воинские части, закатывалась боевая техника.
«Наверно, здесь будет линия обороны», — подумал я. По правде сказать, тянуло на тот берег. Там безопаснее… Вот и получилось, что один Велиев говорит во мне: «Йохаши, Мамед, чего ты хочешь? Люди отступают — отступай и ты». Другой Велиев укоряет: «Здесь твои товарищи будут биться с врагом. Задержат его. Помогут тем, кто переправится на другой берег, собраться с силами. А ты оставишь товарищей?… Тебе тяжело? Но говорят же в народе: «Если ты устал, знай, что друг твой устал вдвойне»
Не знаю, сколько бы еще спорили эти два Велиева, но все решил старший лейтенант Федор Казначеев — мой земляк, бакинец. Издали узнал он меня и крикнул: «Эй, Сураханы-Балаханы! Давай своих связистов сюда! Есть исправная рация!»
И, хотя кругом шла свадьба шайтана с ведьмой, поверьте, легче стало на душе. Что еще надо солдату? Есть команда. Есть боевое задание. Выполняй! Одним словом, стали Аджимушкайские каменоломни нашей крепостью…
Как и вчера, рассказ Мамеда прервал приход эсэсовцев. Они привели команду, которая просеивала пепел сожженных. Искали в пепле золото, драгоценные камни. Иногда находили. Ничего не пропадало на этой адской Фабрике смерти…
Проводив взглядом «золотоискателей», Мамед продолжал:
— …Так вот и попал я в каменоломни. Это был настоящий подземный город. Высоченные стены. Тянет от них холодом и сыростью. Тускло мерцают редкие электрические лампочки. Огромные залы, коридоры, закоулки забиты людьми. Вот тебе и Сураханы-Балаханы…
Через пару дней стало ясно: мы отрезаны. И тут началось…
К нам засылали провокаторов. Прямой наводкой стреляли по главному входу в каменоломни (тогда и ранило меня осколком в ногу), пытались прорваться в него танками.
Беда валила со всех сторон. Настал день, когда суточный паек дошел до 25 граммов сахара. И ничего больше… Мучила жажда. Мы приникали ртом к ноздреватым влажным стенам, пытались высасывать из них воду. В тоннеле была узкоколейка, и по утрам люди припадали к рельсам и вылизывали проступавшую на металле росу…
И все-таки жизнь продолжалась. Принимали мы передачи из Москвы. Вывешивали сводки Совинформбюро. Круглые сутки вели наблюдение за противником. У заваленных входов стояли часовые. Боевые группы занимали свои участки обороны.
Выдолбили мы что-то вроде колодца. По капле собирали воду и в первую очередь раздавали ее раненым и детям. А настоящий колодец был недалеко от каменоломни — у немца, под усиленной охраной. Казалось нельзя и подступиться к нему. А вот — подступались. По ночам смельчаки ползком подбирались к колодцу забрасывали немцев гранатами. Пока к гитлеровцам подходило подкрепление, наши успевали наполнить водой несколько ведер и котелков.
Такие вылазки (мы называли их «психическими атаками») дорого обходились. А фашисты дошли до того, что забросали колодец трупами наших солдат. Были колодцы и подальше. Но вылазки к ним требовали еще больших жертв.
Неважны были и мои дела. Случалось мне и прежде поранить руку или ногу. Несколько дней — и рана заживала. А тут — гноилась без конца.
Жил я в отсеке, где работала рация. Подымался через силу и час-другой дежурил. А то лежу, бывало прислушиваюсь, как стучит кровь под повязкой. Приходили мне на память дастаны про Кероглу и, сам не знаю, как получалось, — начинал петь.
Султан или хан — не боюсь никого. Пусть выйдет, кичлив, — испытаю его. Мужи да не прячут лица своего. Пусть скачут, копей торопя, пусть выходят. Главу Кероглу не склонит пред врагом. Кто смел — тот стоит как гранит пред врагом Победный мои клич раздается кругом: Останусь, врагов истребя, — пусть выходят…Пою, кажется, совсем тихо. А открою глаза — кругом люди. Подползли даже раненые. Песня из глаз высекала слезу. И просят: «Пой еще, пой…».
Понемногу рана заживала. Но в наряд меня не назначали. Опять стала мучить совесть. Рядом умирали от голода и жажды женщины, дети, раненые. Казалось они смотрели на меня с укором: «Ты же еще можешь ходить, держать гранату в руках. Почему не просишься в вылазку к колодцам?» И вот однажды, когда выкликали добровольцев для «психической атаки», моя рука раньше языка сказала: готов!
Вызвался в тот раз и старшина склада ОВС[32] Даниил Минков. Был он из попов, что ли. Несколько раз, когда я называл его Данилой, он поправлял: Даниил, Даниил Владимирович.
Задание нашей группе было дано не такое трудное, как штурм колодца. Недалеко от каменоломен утром убило лошадь. Мы должны были подобраться к ней и нарезать как можно больше мяса.
Оставили мы при себе только оружие да жестяные медальоны. Пришлось мне расстаться с фотографией Светланы. Если у бьют — чтоб карточка не досталась фашистам.
Поползли мы рядом с Минковым, голова к голове. Немцы нас, наверное, не заметили, но все равно стреляли наугад — темноты боялись. Где от меня отстал Даниил — я впопыхах не заметил. А когда вернулись с вылазки, хватились — нет Минкова…
Снова сигнал опасности.
«Капутчики» встали, задвигались только бы их не застали без дела. Но все обошлось: отделение эсэсовцев прошло мимо крематория.
IV
— Чего только не творили фашисты, продолжал Мамед Велиев. — Однажды забросили к нам дымовые шашки. Что было!.. Женщины задыхаются, мечутся, прикрывают детей своим телом. Противогазов-то на всех не хватало…
Дальше — хуже. Глухой ночью, бывало, стены задрожат от взрывов. Глыбы камня обрушивались на людей. Заваливало ходы сообщения. После одного из таких взрывов попали к нам фашистские листовки. Мы прямо глазам своим не поверили: на. листовках — фотография Минкова и его письмо к нам.
Писал Минков, что перебежал к немцам и они с ним хорошо обращаются, хорошо кормят. Еще писал он, что нашел спасение от «большевистских комиссаров». Немцы будто бы просили его передать нам искренний совет — «прекратить бесполезное сопротивление и тем самым избежать ненужных человеческих жертв».
Вот какая гюрза жила рядом с нами! А что из себя представлял этот самый Минков? Высокий, но какой-то дряблый. Нижние зубы выдавались у него вперед, а губа отвисала. И напоминал он лицом беззубую старуху. Глазки маленькие, все мимо людей смотрели — больше в ноги. Ходил он с наклоном вперед, как обезьяна.
«А может быть, Минкова ранили, взяли в плен и от его имени составили листовку?» Приходило в голову и такое. Гитлеровцы ведь на грязное дело мастера.
Как-то утром посты наблюдения сообщили, что немцы готовят новую пакость. Понатыкали новых пулеметных точек против выходов из каменоломен. Подвозят какие-то шланги…
В нашем отсеке умирал тяжелораненый лейтенант Чебаненко. Умирал в полном сознании. Когда заработал движок и стало немного светлее, лейтенант достал из планшета листок бумаги, карандаш и начал писать что-то. Видно, трудно ему это давалось: рука плохо слушалась.
— Что, товарищ лейтенант, письмо писать надумали? — попробовал я пошутить. — Почтальон наш что-то задерживается…
— Мое письмо дойдет, ответил он, а сам дышит тяжко, с хрипом. — Будет оно здесь, с партбилетом…
Что-то еще хотел он сказать, но тут силы покинули его. Застонал, вытянулся, затих… Сложил я ему руки на груди, как у русских положено. Взял письмо из похолодевших пальцев и, прежде чем вложить его в партийный билет, прочитал.
«Большевикам и всем народам СССР, — писал лейтенант Чебаненко. — Я небольшой человек. Я только коммунист — большевик и гражданин СССР. И если я умер, так пусть помнят и никогда не забывают наши дети, братья, сестры, что эта смерть была борьбой за коммунизм, за дело рабочих и крестьян. Война жестока и еще не кончилась. А все-таки мы победим…»[33]
Сто раз, наверное, перечитал я письмо. На всю жизнь запомнил. Я думаю, такое письмо надо — на полковое знамя. Под портретом Ленина…
24 мая 1942 года, как сейчас помню, пробили сигнал тревоги. Сначала не поверили — газы!
Что творилось на наших глазах — разве передать?
К нам на узел связи пришли начальник обороны полковник Ягунов и комиссар Парахин. Полковник не дал старшему лейтенанту Казначееву закончить рапорт, протянул листок с текстом. Казначеев пробежал его глазами и, вижу, лицо стало белее мела… Начал он выстукивать радиограмму своим особым, казначеевским почерком, а я на слух ловил точки и тире морзянки открытого текста:
«Всем! Всем! Всем! Народам Советского Союза! Мы, воины подземного гарнизона, защитники Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но врагу не сдаемся…»[34]
Сам не знаю, какая сила подняла меня на ноги. Старший лейтенант еще и еще раз послал в эфир смертную нашу клятву.
Последнее, что я помню, грохот взрыва…
Из-под обвала меня, тяжело раненного, вытащили немцы. Когда я пришел в себя, рядом стоял какой-то человек. Помню его слова: «Ну вот, очнулся. Значит будешь жить!»
Военфельдшер Петр Никонов — вот кто выходил меня. Ему я жизнью обязан…
Погнали нас в Симферополь. Кто от колонны отстанет — стреляют. Упал — стреляют. Отошел к канаве воды напиться — стреляют. Тащили меня под руки Никонов и еще один солдат.
В Симферопольском лагере я попал в барак для раненых. И здесь меня Никонов разыскал. Принесет, бывало, кусок хлеба или обрывок бинта, а случаюсь — вареную картофелину. Стал я выздоравливать. Вывел меня Никонов, я еле-еле приплелся к ним в барак, да и остался там. Хороший народ у них подобрался. «Организуют» чего-нибудь поесть — сначала выделяют слабым, а потом делят поровну.
Как-то раз — я уже порядком окреп к тому времени — дернул меня шайтан выйти погреться на солнышке. Хожу по лагерю. Картина известная, Сураханы-Балаханы. Один портянки стирает. Другой выставил худую, в коросте, спину и ищет в грязной рубахе. В одном месте — настоящая «Кубинка».[35] Меняют барахло. Возле сарая стояла группа людей, я решил подойти к ним — может быть, земляка найду. Подхожу — слышу знакомый голос с приквакиванием. А треплется он, будто аджимушкайцы раскопали у своих командиров припрятанный подпольный склад продуктов.
Протлкался я в середину — и обомлел. Кто бы, вы думали, провокацию разводит: Даниил Минков.
Подлец узнал меня.
Бросился я на него. «Сволочь! — кричу, — Падло! Предатель!..» Хотел за горло схватить, но он вывернулся, только по щеке я его смазал. Разняли нас. Отвели меня в барак.
Утром я уже сидел в «политабтайлунге».[36]
— Ты занимаешься тут большевистской агитацией, признавайся! — орал гестаповец.
Я ответил, как Никонов научил: мол, Минков оскорбил мою веру, и я не мог простить ему этого.
— Врешь! Ты есть комиссарский помощник! Мы все знаем. На, вот читай, да поживее, — протянул он мне бумагу. — И назови комиссаров, евреев и коммунистов, которые замаскировались в лагере.
Читаю. Узнаю аккуратный почерк Минкова:
«По вашему приказанию, господин комендант лагеря, представляю на ваше распоряжение свое объяснение в вязи с дракой, учиненной сегодня в лагере, и пострадавшим от коей являюсь я». Вот выкомаривался, собака!
Кончалось заявление тем, что Минков будто бы постоянно видел меня возле командования, и, значит, я пользовался особым доверием комиссаров.
Я стоял на своем. Меня били. Били свирепо, особенно один фашист, неплохо говоривший по-русски.
— Ты, коммунист, — кричал он, — признавайся!
А я ему в ответ: «Собачий ты сын! (эти слова я сказал по-азербайджански). Да, коммунист! И не солдат я. Я — лейтенант Чебаненко».
Бросили меня в карцер.
Снова вызывают.
Сидит у следователя Минков и говорит:
— Никакой он не Чебаненко. Врет. Он командир отделения. — И ко мне обращается: — Надо уважать в наших же интересах установленные порядки…
Я промолчал. Но когда уводили с допроса, сказал ему: «Придет и твой час, сын паршивой суки!»
Пробыл я в карцере еще два дня. Вывели меня перед строем привязали к «козе» и дали двадцать пять плетей. Окатили водой — и опять в барак, на охапку прелой соломы.
Потом меня перевели в другой лагерь. Там пробовали уломать. Не вышло. Из лагеря под Ровно я бежал. Поймали — живого места не оставили. Отлежался я в «ревире»[37] и привезли меня сюда. Одним словом, совсем как Кероглу:
Взгляни, мой кровный брат, Меня увозят тайно. Паду я жертвой за народ Меня увозят тайно. Я — Кероглу, враги кругом. Веревкой связан я, узлом У Болу-бека стал рабом — Меня у возят тайно…Вот так, Сураханы-Балаханы… Кто этого Минкова встретит — пусть убьют гада. Но знайте: змею бьют не по хвосту, а по голове…
V
Над притихшим лагерем беззвездное небо, неспокойная ночь. В неосвещенной умывальной собрались подпольщики. Напряженно всматривается в темень за окном узник с буквой «П» на красном треугольнике-«винкеле». Кашляни только Стефан — и мигом в «вашрауме»[38] никого не останется.
— Послушаем товарища Вилли, — вполголоса произносит спокойный басок.
— Прежде всего вот что, — говорит невидимый в темноте Вилли: — с последним «цугангом»[39] прибыл опасный провокатор. В Ровенском лагере русские товарищи приговорили его, но он ускользнул. Из карантинного блока провокатора не перевели к русским, а поместили в чешский барак. Русским и чехам надо быть осторожнее в разговорах с новичками, пока шпика не обезвредим. Теперь подробнее. В транспорте 643 человека. Живыми прибыло 562. При выгрузке застрелили 12 товарищей. В ревир попало 37. Кроме «красных», в транспорте 11 «зеленых». Два товарища — со смертными приговорами имперского суда в Берлине. Их дела в канцелярии еще не вскрывали. Я кончил.
— Что скажет «безопасность»? — спрашивает тот же басок.
— О провокаторе мы уже кое-что знаем. Нашим товарищам сообщили его приметы. Будем стараться пристроить его в одну из рабочих команд, если удастся — в «штайнбрух».[40] Там его удобнее всего «дезинфицировать». Через день-два будет видно — куда гестаповцы собираются направить свою ищейку. Об узнике номер 37771; это, безусловно, надежный и нужный товарищ. По документам Мамед Велиев — «опасный большевистский агитатор». Сорвал власовцам вербовку в «мусульманский легион». Пытался убить предателя. Бежал из лагеря. Выстоял пытки. Позавчера плюнул в лицо «зеленому» и едва не был убит эсманом. У парня хороший голос. Певец… Думаем мы: через Вальтера срочно определить его в ревир. Доктор Павел запишет его, как тяжело раненного выстрелом эсэсовца, и подготовит на всякий случай липовый акт вскрытия.
— Вас ист дас — липофый? — раздается другой голос.
Приглушенный смех, короткий ответ.
— Давай дальше.
— Мы встретимся с трудностями. Ганс в «шрайбштубе»[41] должен переложить карточку номера 37771 из картотеки живых в картотеку мертвых. А картотека в комнате эсэсовца… Велиеву надо дать другой номер. Гансу придется запомнить все данные по новому номеру, их надо будет вдолбить бывшему 37771 — пусть знает, кто он, когда и где родился. Еще одна беда: номер 37771 ярко выраженный южанин-азербайджанец. Не знаю, удастся ли подобрать труп хоть немного похожий на него…
Минутная тишина. Затем — глуховатый голос. Узник говорит по-русски с сильным акцентом:
— Товарищ Николай не все учел. Номер 37771 имеет «флюгпункт». Забрать его из «капут-команды» под видом раненого при стычке с эсэсовцем опасно. Немцы, и прежде всего «зеленый», у которого была стычка с номером 37771, хватятся его. Спросят у «капутчиков». И если среди них найдется слабый, тогда все потянется по цепочке… Пропадут люди, которым мы так обязаны. Я верю, что 37771 — хороший и надежный товарищ. Но можем ли мы ради его спасения подвергать опасности наши связи и всю организацию?
— Ах, Иво! Разве можно в нашем деле взвесить все, как у тебя дома в аптеке: один грамм риска, два грамма риска…
— А что, если эсэсовцы захотят осмотреть труп, которым мы заменим товарища… М-мамеда? — продолжал Иво. — Тут уж «Осторожно — тиф» не сработает. И тогда пойдет…
— Так ничего не пойдет, — решительно возражает басок, — Все мы под топором ходим. Товарища надо спасти и включить в работу. Вынести его из крематория под видом раненого, в самом деле, нелегко. Да и поздно. Надо ему сделать ожог руки. Лицо трупа Павел подчернит уколом. Труп переодеть в робу номера 37771 с «флюгпунктом». Сразу же после обхода отнести его в крематорий и сжечь, а одежду оставить в ревире.
— Решено, товарищи! Молчим — значит согласны, верно? Тогда разойдемся.
Растворяются в темноте несколько фигур. Стефан протирает утомленные глаза и последним покидает «вашраум».
VI
Утро выдалось промозглое, туманное. Копоть из трубы крематория ложилась на снег. Трупный смрад стлался по лагерю.
В это утро Мамед Велиев чувствовал себя особенно усталым, разбитым. Ныла старая рана, тупой болью отдавался в ней каждый шаг. Кружилась голова.
При выходе из барака Мамед замешкался, и эсэсовец ударил его прикладом. Падая, Мамед ударился об угол доски, на которой вывешивались распоряжения лагерного начальства. Эсэсовец захохотал. Но тут чья-то рука подхватила Мамеда, и вскоре он стоял в строю «капут-команды», готовый принять очередную вахту.
В теплом помещении крематория силы оставили Мамеда. Товарищи решили дать ему хоть немного отлежаться. Он накрыли его кучей тряпья.
Разбудили его уже в полдень. Туман заметно рассеялся. Сон немного подкрепил Мамеда. Благодарно взглянув а товарищей, молча встал он к носилкам.
Когда они с напарником сложили у печей свой страшный груз, Мамед приметил среди «капутчиков» нового человека. Это был средних лет худощавый узник из «красных», судя по тому что на красном треугольнике нет инициала нации — немец. Тихонько, насвистывая, он что-то неспеша подвинчивал, опускался на колени, заглядывал под колосники. Раз или два он, щуря светлые глаза, испытующе взглянул на Мамеда.
Невольно Мамед засмотрелся на руки слесаря, покрытые желтым пушком. Это были умелые руки, привычные к инструменту. Мамед не видел ни черных полос на одежде слесаря, ни чугунных задвижек, за которыми ярилось пламя, а видел только работящие руки и слышал только звяканье инструмента о металл. Эго напоминало о настоящем, нужном труде, там, дома, на промысле…
Не сразу Мамед заметил, что слесарь знаками подзывает его к себе, давая понять: мол, засучи рукава и помоги.
— Ком, ком,[42] товарищ, — сказал он, видя, что Мамед не двигается.
Они вдвоем принялись подтягивать крепление газовых труб. Потом перешли к одной из печей. Слесарь, видно считал, что толстый болт, на котором висела задвижка перекосился, и решил его выпрямить. Он что-то сказал Мамеду по-немецки и протянул небольшой ломик. Мамед догадался, что нужно придерживать задвижку снизу, чтобы немец смог выпрямить болт.
Слесарь ударил молотом по болту, а потом видно, промахнулся: удар пришелся по задвижке, которую Мамед придерживал ломиком. Мамед, потеряв равновесие, пошатнулся, слесарь хотел, видно, поддержать его, и тут рука Мамеда прикоснулась к раскаленной задвижке, Полоснула острая боль. Мамед вскрикнул и упал.
… В ревире было светлее, чем в других бараках. И даже тепло. Пахло гноем, карболкой, потом…
Мамеда разбудил врач. В настоящем халате, который казался здесь белым. Взгляд у врача приветливый, дружелюбный.
— Итак, молодой человек, у вас ожог левой руки. Требуется немного: терпение и молчание. Молчания даже больше, терпения… — Врач нагнулся к Мамеду и закончил шепотом: — Никаких жалоб немецкому врачу. Для него у вас все хорошо. А русский язык здесь знает еще один больной. Но ему, кажется, не до нас…
Врач незаметно сунул Мамеду в руку ломтик хлеба с кубиком маргарина и ушел.
* * *
А третьим, понимавшим по-русски, был не кто иной, как Даниил Минков. Приподнявшись на локте, Мамед Велиев увидел его забинтованную голову, его словно бы помятое лицо. Даже разглядел номер на его робе — 62102…
В рапорте оберштурмфюрера СС Вернера несчастный случай, который привел Минкова в ревир, выглядел обыденно.
Работая в первый день в каменоломне, заключенный № 62102 (он же агент «Цоппи») зазевался, глядя на гору Эттерсберг. В этот момент стоявший немного выше заключенный потерял равновесие, сорвался и не удержал руках тяжелый камень. Тот сбил с ног № 62102. При падении упомянутый номер получил тяжелые ушибы головы и грудной клетки и перелом правой руки. У виновника происшествия содрана кожа на локтях.
Гауптштурмфюрер СС Крамке, прочитав рапорт, вспомнил бабью физиономию «Цоппи». Агент, наверное, предчувствовал недоброе, когда униженно упрашивал не посылать его в каменоломни и заверял, что окажет немалые услуги, оставаясь в чешском блоке, где уже успел завоевать доверие. «Что, вы своих боитесь?» — спросил тогда Крамке. «Цоппи» не задумываясь ответил: «Как они мне здесь свои…».
На рапорте появилась резолюция, скрепленная росчерком Крамке. Узник, нарушивший безопасность работ, подлежал наказанию. Трое суток «сухого» карцера: паек хлеба в день и ни капли жидкости.
… Сознание вернулось к Минкову вместе с тревожной мыслью: его хотели убить, его чуть было не убили… Снова как тогда, в Ровенском лагере, ОНИ подбираются… И так муторно становилось ему, так страшно, что хотелось кричать, звать на помощь. Минков старался отогнать эту мысль. Успокаивал себя: «Никто в этом лагере меня не знает». Он с облегчением вздыхал, вытирал о грязное одеяло потную руку. Но снова наползали мрачные мысли…
Гауптштурмфюрер Крамке при последней их встрече был явно недоволен им, Минковым. Слушал рассеянно, так и не уважил его просьбу. В комнате эсэсовца тихо работал приемник. Вдруг немец весь обратился в слух. Жестом велел Минкову молчать. И хотя Минков почти не знал немецкого, он скорее почувствовал, чем понял: сводка с фронта плохая. «Ферфлюхте макарони!»[43] — выругался гауптштурмфюрер, вызвал часового и велел увести узника…
Плохая для немцев сводка… Но он, Минков, не может порадоваться этому. Не может, как другие, сказать: «Дают наши фрицу прикурить»… Что же ожидает его, Даниила Владимировича Минкова?…
«Именем Союза Советских Социалистических Республик…» — слышатся ему слова приговора, и он впадает в тяжелое забытье.
… Открыв глаза, Минков тупо уставился на человека, лежавшего на соседней койке. Не он ли произнес эти слова — «Именем Союза Советских… — !? Или просто это померещилось ему, Минкову? Но где-то он видел, определенно видел этот острый с горбинкой нос, жесткие скулы, черные глаза и белки в красных прожилках…
— Что, Минков, не узнаешь коммуниста Чебаненко?
— Мамед Велиев, — вспомнил Минков.
— Да, тут и Мамед Велиев, и Степан Чебаненко. Тут и другие, которых ты продал фашистам.
— Я знаю, вы преследуете меня, — задыхаясь, заговорил Минков. — Слушай, я бы мог рассказать немцам, как вы подстроили, чтобы я стал калекой. Но я тебя не выдам… Слышишь? — захныкал он. — Я, может, дурно поступил, но пойми, я жить хотел… Ну, хочешь, я признаюсь немцам, что оговорил тебя. Скажи, кто здесь твой враг и я дам показания, что это он меня…
— Собака! — Мамед сел на койке, в упор глядя на Минкова яростными глазами.
— Ты ненавидишь меня, Велиев
— Ненавижу! И ненависть моя не только не спала, но за все это время даже не вздремнула.
— Герр доктор! — закричал Минков, увидев вошедшего в лазарет человека в халате. — Доктор, меня хотят убить… Здесь коммунисты! Помогите!..
К койке Минкова подошел человек в халате, и Мамед Велиев с изумлением узнал в нем военфельдшера Петра Никонова.
— У вас и нервы не в порядке, — сказал фельдшер Минкову — Я доложу доктору.
Делая вид, что не узнает Мамеда, Никонов сердито бросил ему:
— Ложитесь и молчите. Больному нужен покой.
Он вошел в соседнее помещение и вскоре вернулся. В руке был шприц. Лицо Никонова было непроницаемым и очень бледным…
Труп Минкова вынесли перед рассветом. Мамед Велиев еще спал.
VII
Одно обстоятельство в биографии Мамеда Велиева привлекало особое внимание руководителей подпольной организации лагеря: Мамед был радистом.
С невероятным трудом, рискуя жизнью, подпольщики из «внешней команды» работавшей на «А-верке», проносили в лагерь радиодетали. Но превратить ворох разноцветных проволочек, ламп и конденсаторов в радиоприемник никто не умел. А знать, что происходит за колючей проволокой, нужно было позарез.
— Наш товарищ 37771 горяч, — говорили в подпольном центре, — но его стойкость проверена. Будем оберегать его от встреч с эсэсовцами и «зелеными». Главная его задача — собрать приемник и принимать последние известия.
Рана Мамеда Велиева затянулась. Чтобы не подвергать его опасности осмотра немецкими врачами, Мамеда выписали из ревира.
— Будем считать, что вы практически здоровы, — объявил ему доктор Павел.
Петр Никонов принес Мамеду комплект лагерного обмундирования. Тот же красный винкель но под ним другой номер: 65463. И нет зловещих кругов на робе. Так Мамед Велиев стал македонцем с нехитрой крестьянской биографией и поступил в распоряжение капо[44] вещевого склада.
Вскоре его навестил Никонов. Фельдшеру и раньше доводилось бывать в вещевом складе. Здесь можно было подобрать для ревира обрывки бумажных одеял, лоскуты, пригодные для бинтов, клочки ваты.
Встреча друзей произошла в укромном уголке склада. Можно было, наконец, поговорить не таясь.
— Сколько можно спасать меня, брат? — спросил Мамед, растроганно обнимая Петра.
— Ровно столько, сколько в наших силах. Ты разве не делал бы для меня того же? — Времени у Никонова было мало, и он перешел к делу: — Вот что, Мамед, ты уже понимаешь, конечно, что тебе доверяют. Товарищи, которые «сосватали» тебя в ревир, поручают очень важное задание: надо собрать радиоприемник…
— Радиоприемник? Но для этого нужно…
— Детали мы подобрали. Я буду приносить их сюда. Только я, понятно? И запомни: требуется большая, очень большая осторожность…
И потекли дни, полные напряжения и опасностей, но желанные и даже по-своему светлые в этой темной темени. Хотелось подхлестывать время. Слишком уж томительно оно тянулось в ожидании Петра с новой партией деталей. Как только ни ухитрялся он приносить их! Однажды Петр пришел с распухшей щекой, перевязанной каким-то немыслимым шарфом. Мамед встревожено посмотрел на друга и увидел в его глазах озорные огоньки. Было чему радоваться: в повязке удалось пронести несколько деталей, а «опухоль» исчезла, как только Петр вынул из-за щеки небольшую радиолампу.
И вот настал счастливый день…
Лампы и конденсаторы, смонтированные на обрезке доски ожили. Шорохи эфира, тоненькое попискивание и вдруг — далекий и негромкий, но отчетливый голос диктора: «…а также железнодорожным узлом Купянск. Южнее Ростова-на-Дону наши войска, в результате стремительного наступления, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Кунцевская…».
Голос Родины! Наши наступают!
Петр порывисто обнял Мамеда, глаза его сияли.
— Это же наш Прометеев огонь, — взволнованно сказал он. — Отсюда его искры полетят в бараки, согреют сердца товарищей великой Надеждой!..
Он смущенно улыбнулся Мамеду:
— Прости, друг, за высокопарные слова. Это у меня бывает…
Мамед стиснул его руку:
— Ты хорошо сказал, Петр. Правильно сказал: огонь надежды…
Он огляделся. Штабеля полосатой одежды, одеял, рваного обмундирования… И, словно чудо, посреди всего этого — слабое свечение ламп радиоприемника.
Где-то рядом за стенкой склада кто-то возился с ведром и надоедливо, монотонно стучал.
— Мне пора уходить, — сказал Никонов. — Выключай наше чудо и спрячь как следует. Товарищ сигналит.
С тех пор так и пошло. Фельдшер почти каждый день, под разными предлогами, заходил на вещевой склад. Уходил он от Мамеда со свежей сводкой Совинформбюро.
Глухими ночами принимал их Мамед, а с утра снова брался за опостылевшую работу — перебирал, сортировал вонючее тряпье…
Записи, сделанные Мамедом, вместе с тряпичной рванью, попадали к Петру в ревир. Сюда для поддержания сил организация переправляла подпольщиков. Выписываясь из лазарета, они уносили в памяти «последние известия». Это было лучшее из лекарств, и фельдшер Никонов щедро наделял им своих боевых друзей.
— Эх, у тещи погостить бы сейчас. Она уже вроде как бы тыловичка скажет мимоходом такой «выздоровевший», подойдя в бараке к надежному товарищу.
— А где твоя теща дислоцируется?
— От Краснодара, браток, еще с полсуток ехать скорым… Вот так…
VIII
Мамеда Велиева в числе других подпольщиков отобрали для участия в митинге памяти Тельмана. Людей из разных бараков приводили по одному в дезинфекционную за час до начала.
Когда Мамед и Петр подошли к подвалу, из темноты вынырнул человек в полосатой робе, молча стал у них на пути. Петр что-то шепнул ему на ухо, и тот указал на выход.
В подвале дезинфекционного барака уже собрались сорок-пятьдесят человек. Молча садились на длинные скамейки. Присматривались.
Подвал скупо освещали две жестяные банки, в которых горел сухой спирт. Между этими светильниками, на стене, завешанной красной и черной материей, висел большой портрет Эрнста Тельмана в рамке, обвитой траурными лентами, Тельман смотрел с портрета твердо, непреклонно и казалось, испытующе.
«Даже цветы… даже цветы», взволнованно думал Мамед, глядя на скромный букетик возле портрета, и к горлу невольно подкатился комок…
Началось собрание. Негромко говорил седой немец, подчеркивая слова, энергичными жестами крепких рук. Потом к портрету Тельмана подошел узник со скрипкой. Полились звуки тихой печальной мелодии. Все встали по примеру седого немца с минуту молчали, подняв кулаки в рот-фронтовском приветствии. Еще говорил русский, читал стихи серб, выступал чех и еще один немец. Мамед, знал, что и ему поручено выступить. И когда Никонов толкнул его локтем, Мамед поднялся, слегка откашлялся и запел:
«Замучен тяжелой неволей»…
Он пел любимую песню Ильича, и здесь, в мрачном фашистском лагере, она особенно бередила душу. Узники слушали стоя. Кое-кто тихонько подпевал.
Когда Мамед кончил, он почувствовал крепкое пожатие руки Петра. Еще кто-то пожимал ему руки. Затем свет погас. Соблюдаля все предосторожности, разошлись. Участники необычного этого собрания уходили радостно взволнованные. Как будто и не было дня тяжелого каторжного труда и смертельной опасности…
А через две недели начались аресты.
Когда Мамеда Велиева привели в гестапо, следствие уже шло полным ходом.
Допросы. Пытки. Такое, что лучше не вспоминать. Пропал счет времени. Кошмары отравляли короткие минуты забытья, так же не похожего на сон, как эта проклятая яма — на человеческое жилье.
Единственное спасение здесь — стоять. Легко сказать стоять, если смертельно устал, если тело налито чугунной тяжестью и ноги отказываются держать… И все-таки надо стоять… Стоять, иначе упадешь на трубу, через которую проходит горячий пар. Вон уже сколько вздулось волдырей от ожогов. Жгучая боль сверлит мозг. Тело, давно не знающее мыла и воды, разъедает липкий пот, оно невыносимо зудит. Трудно дышать в горячем и влажном воздухе, пропитанном испарениями аммиака.
Сколько уже стоит он голым в «горячей» — Мамед не помнит. Далеким-далеким кажется ему октябрьский день, когда во время аппеля узнику 65463 приказали выйти из строя, потащили в «политабтайлунг».
Каким счастьем было бы сейчас очутиться на пронизывающем осеннем ветру…
Он упирается руками в скользкую шершавую стену. Только бы не свалиться. В этом проклятом каменном мешке нельзя лечь, не прикоснувшись к горячей трубе. Несколько раз в день в массивной двери открывается «глазок», и тогда Мамед видит серую льдинку зрачка и синеватую переносицу эсэсовца. И снова мрак. Еда — в консервной банке тепловатая бурда, ломтик эрзацхлеба. Пить не дают. Раз в сутки Мамеда голым ведут в уборную. Там он подставляет лодочкой ладони к вонючей, в ржавых подтеках раковине писсуара и, набрав немного воды, жадно пьет ее, проливает на себя, чтобы хоть на мгновенье ощутить прохладу…
И снова в пекло. Снова бесконечные сутки жажды, забытья, кошмаров…
IX
Гауптштурмфюрер СС Крамке читал протоколы допросов и убеждался, что следствие зашло в тупик. «Дело может обернуться отправкой на фронт»… При этой мысли Крамке покрывался испариной. За ровными строчками протоколов ему чудилась лисья физиономия Гиммлера. Леденящий взгляд «верного Генриха» из-под стекол пенсне пронизывал его — Отто Крамке. В Берлине уже знают о неслыханном происшествии — подпольном собрании заключенных, посвященном памяти Тельмана. Берлин ждет раскрытия коммунистических групп, примеры наказания виновных. А следствие не продвигается. Кроме этих бумаг и трупов трех арестованных, не выдержавших пыток, — ничего… Ничего, кроме донесения шпика.
Крамке вытянул из папки это донесение и в который раз прочитал его.
Ясно, что собрание готовилось в вещевом складе, туда вытащили цветную материю и полотно для портрета. Не обошлось без этих негодяев из огородной команды и, конечно же, из дезинфекционного барака. Сухой спирт! Его могли принести только из ревира. А вот портрет Тельмана… Как он мог попасть в лагерь?
Крамке вынул из бокала остроотточенный синий карандаш, чтобы записать кое-какие мысли, пришедшие в голову. Но написал Крамке только несколько слов: «сухой спирт», «ревир». Остальное показалось ему бесполезным, и он стал механически набрасывать на бумаге короткие рубленые молнии — эмблему СС.
«Легко им в Берлине требовать, а мне каково? Собираются. Под самым носом… Слушают доклады. Поют, красные свиньи… Поют, черт их возьми!»
Последние слова Крамке произнес вслух и, забывшись ударил кулаком по столу. Как из-под земли появился дежурный гестаповец. Он слышал выкрик начальника.
— Разрешите доложить, гауптштурмфюрер! Нам удалось уточнить. На тельмановском вечере русский похоронный марш запевал узник помер 65463. Он упорно выдает — себя за македонца.
— 65463?
Крамке несколько раз записал этот номер на листочке и стал складывать цифры, составляющие номер. Сначала у Крамке получилось число 25 — и это было плохим предзнаменованием. Когда же новый подсчет дал четную цифру 24 и проверка это подтвердила, Крамке повеселел. «Значит, на фронт не угонят. Все обойдется!».
— Надо выколотить из этого 65463 все, что он знает — сказал Крамке. — И даже то, чего он не знает. Что вы ему прописали?
— 47 минут он висел на столбе и уже шестой день в «горячей».
— Еще жив, надеюсь?
— Да. Только весь в волдырях. Не поет больше.
— А надо, чтобы он запел… запел для нас.
— Понятно. Прикажете перевести из «горячей»? Создать условия?
— Делайте, что угодно, только не ломайте дров, как с теми тремя, которых пришлось пустить в трубу… Да, вот еще что. Напишите в Берлин. Преподнесите им, как находку, сведения об этом запевале. Все-таки новое звено. И сообщите план обработки этого 65463.
— Яволь,[45] гауптштурмфюрер! Хайль Гитлер! Крамке велел утром доставить к нему заключенного 65463.
— Посмотрим, что за «птица» подумал он и потянулся к дверце шкафчика, к дежурной бутылке коньяка.
X
В необычное время эсэсовец вывел Мамеда в коридор и велел одеваться. Одежда и деревянные колодки — «крейсера», заменявшие обувь, лежали на скамейке. «Значит, еще не расстрел, — мелькнуло в голове у Мамеда. — Расстреливают ведь голыми…»
Прикосновение одежды к волдырям было настоящей пыткой. Все тело горело. Одевшись, Мамед, подталкиваемый конвоиром, еле-еле доплелся до камеры в конце коридора. Снова за ним закрылась дверь.
Новая камера была просторной. Через густую решетку окна пробивался розовый свет занимавшейся зари. Мамед увидел откидную койку, столик и табуретку. Не было ни матраца, ни подушки, ни одеяла. Под потолком тускло горела лампочка в металлической сетке. Мамед долго ворочался на койке, пока, наконец, не нашел положения при котором тело болело меньше. Он провалился в тяжелый сон.
Разбудил его стук в дверь. Рука в полосатой роб просунула через окошко в двери миску с баландой, кусок хлеба и кружку бурды, которую называли «кавой». Баланда была лучше обычной, кусок хлеба почти вдвое больше а «кава» даже показалась сладковатой.
Возвратив миску и кружку и оставив половину хлеба про запас, Мамед снова лег. Спать, спать… Дать отдых голове, налитой свинцом, глазам, измученному телу…
Резкий металлический скрип двери. Мамед раскрыл воспаленные глаза. Эсэсовец жестом показал: выходи!
Вскоре Мамед стоял в приемной начальника «политабтайлунга» гауптштурмфюрера Крамке.
А Крамке всю ночь пьянствовал. Перед ним, прислоненные к бутылке и стакану, стояли фотокарточки молодой белокурой женщины.
Вчера вечером он едва успел сунуть карточки в ящик стола, когда в кабинет вошел инспектор из Берлина. Этот инспектор вполне мог знать Лину в лицо…
Слава богу, обошлось. А теперь Крамке, поставив перед собой карточки, разглядывал их. В одурманенном алкоголем мозгу клубились обрывки воспоминаний.
Как же это получилось, что Лина стала его любовницей? Лина цу Кенигсбрюк, потомственная аристократка, к которой он, сын и внук простого чиновника, лет десять назад не посмел бы и подойти.
Он вспоминал их нечастые встречи, вспоминал свою страсть.
Проклятые аристократы! Теперь-то ясно: просто им хотелось иметь «породистого» зятя…
Сжечь, сжечь эти фотографии… Узнай о них кто-нибудь даже из самых близких его друзей — и Крамке пришлось бы иметь дело с гестапо…
Проклятые аристократы… Именно они среди тех, кто изменил фюреру. Фельдмаршалы Витцлебен и Клюге… Генерал-полковник Бек, Хаммерштейн, Фалькенгаузен. Адмирал Канарис… Клаус Шенк фон Штауффенберг… Дворяне, потомственные военные — и продались англичанам… Неслыханно! «Лиса пустыни» — Роммель тоже, говорят, участвовал в заговоре, но выбрал себе почетную смерть…
«Да, сочетайся я с Линой цу Кенигсбрюк, мог бы здорово влипнуть! Шутка ли: гауптштурмфюрер Крамке женат на родственнице графа Маронья-Редвитц, замешанного в июльском заговоре и заслужившего «пеньковый галстук»…
Ну, что ж, он Крамке, выполнил свой долг. Да, ему пришлось доложить самому Гиммлеру свои подозрения о политических настроениях семьи цу Кенигсбрюк… Но кто бы мог подумать, что арестуют и Лину… Теперь она с матерью (старик предпочел застрелиться) уже в каком-то концлагере…
Крамке встал из-за стола, рывком расстегнул ворот. Так ей и надо. Лина слишком много знала. Она был начинена слухами, которые могли исходить только от английского радио…
Взять хотя бы, с каким злорадством рассказала она, выступлении Иодля на секретном совещании, где старый генерал, якобы, бросил зловещую фразу: «Из конца в конец по стране шествует призрак разложения».
Так ей и надо!
Он заставил себя думать о предстоящей поездке домой, к своей законной Лизелотте. Лизелотта… Она ничем не уступит этой аристократке — ни красотой, ни богатством… Так почему же, черт побери, ноет и ноет сердце?…
Крамке возвратился к столу. Взял фотокарточки, аккуратно положил одну на другую, резким движением разорвал их пополам. Бросил в печку. Залпом опрокинул стакан коньяка.
Расхаживая по кабинету, Крамке продолжал свои невеселые размышления.
Все меньше остается идейных соратников фюрера. Но он, Крамке, верен ему до гроба. Он обязан фюреру своим званием, высоким положением, властью. Верность фюреру — вот что сделало Отто Крамке хозяином судьбы десятков тысяч врагов рейха. Он без сожаления отиравит их в «Ночь и туман».
И все же беспокойство не покидало его. Вспоминая события последних месяцев, Крамке понимал; что-то ускользнуло из его рук… Красные и здесь продолжали делать свое дело…
Вот и сейчас ему предстоит заняться одним из этих фанатиков, к тому же еще русским.
Русские… Как Геббельс и Дитмар ни стараются, сводки с русского фронта выглядят, как припудренный мертвец. Русские подходят к Будапешту…
«Да, от них нам не ждать пощады, если случится несчастье, — подумал Крамке. — Пусть же каждый уничтоженный здесь русский будет моим вкладом в победу Германии! Бог не оставит Германию! Он вручит фюреру меч возмездия! Будет новое оружие! Будет победа!»
XI
Попав в приемную начальника «политабтайлунга», Мамед Велиев понял, что ему предстоит, быть может, последнее испытание. Остервенение, с каким его допрашивали, и вопросы следователей показали, что гестаповцы еще ничего не добились. Одно было ясно: о траурном вечере 18 сентября 1944 года они располагали достаточными сведениями, и, судя по всему, сообщил их человек, побывавший на собрании.
Пожилой гестаповец пошел доложить о прибытии заключенного. Вернувшись из кабинета, хмуро бросил: — Гауптштурмфюрер Крамке велел ждать. В приемной было натоплено. Лицо Мамеда покрылось капельками пота. Он хотел вытереть лицо рукавом, но не было сил даже поднять руку.
Крамке… Да, эту фамилию он знал. Он ее хорошо запомнил…
На первом же допросе его стали пытать. Руки скрутили за спиной. Два дюжих эсэсовца подтянули его за связанные руки, подвесили к столбу. Мамед пытался дотянуться носками до пола, но не смог. Эсэсовцы хорошо рассчитали: подвесили над самым полом, но так, что нельзя было дотянуться. Мамед повис на вывернутых руках. Почувствовав, что у него что-то разрывается в плечах, он не выдержал, застонал.
— Это тебе подарок от гаупштурмфюрера Крамке, — прокричал ему в лицо эсэсовец и приказал: — Смотри на часы и громко отсчитывай минуты!
Минутная стрелка еле тянулась по циферблату.
— Громче считай! — требовал эсэсовец. Время не хотело двигаться. У Мамеда поплыло перед глазами.
— Сорок семь, — прохрипел он, теряя сознание.
После этой пытки Мамед много дней не мог держать в руках даже пустую миску. Не утихала боль в плечах… Перевод в новую камеру и улучшение питания настораживали. «Это, конечно, неспроста. Что-то они затевают», — думал Мамед. Больше всего он опасался провокации. Эсэсовцы ведь могли дать знать остальным арестованным товарищам о том, что номеру 65463 улучшили режим, и тем самым навлечь на него подозрение в предательстве.
Размышления Мамеда были прерваны вызовом Крамке.
В кабинете гауптштурмфюрера пахло устоявшимися запахами коньяка и сигар. Настольная лампа под зеленым абажуром мягко освещала комнату, отбрасывая круглое светлое пятно на широкий письменный стол, где лежали стопка бумаги, толстая папка и несколько карандашей. На стене за столом висел портрет Гитлера во весь рост, в кожаном пальто. Световой круг захватывал сапоги фюрера, и они ярко блестели.
Крамке показал Мамеду на стул, включил верхний свет и сел за небольшой столик, на котором стояла замысловатая пепельница. Позади него встал переводчик.
— Ты знаешь, где находишься?
— Да. Из гестапо меня уже уносили без сознания.
— Знаешь, с кем разговариваешь?
— Да. Наверное, с тем, кто приказал избивать меня.
— Я хочу поговорить с тобой, прежде чем решить твою судьбу. Советую быть откровенным!
— Меня уже допрашивали. Не знаю, чего еще вы хотите…
— Назови свою настоящую фамилию!
— Я — номер 65463. Фамилию мне приказали забыть.
— Нам известно, что ты не тот, за которого себя выдаешь.
— Раз это известно, зачем нам время терять?
— Кому это нам? Ферфлюхте швайн! У тебя нет фамилии, для тебя нет и времени. Оно тебе ни к чему. Отвечай и не выводи меня из терпения!
— Я — 65463.
— Ты русский!
— Я советский, хотя и не русский.
— Мы это знаем. Эго ты пел на сборище в подвале дезинфекционного барака. Какие слова в этой песне?
— Скажу. «Замучен тяжелой неволей, ты славною смертью почил. В борьбе за рабочее дело ты голову честно сложил». Это любимая песня Ленина.
— Молчать! Не смей называть здесь это имя, или я тебя снова брошу в «горячую»! Ты должен подчиняться мне! Я с тобой сделаю все, что захочу. За одну эту песню тебя можно вздернуть!
— Я здесь уже видел такое…
— Давай поговорим по-деловому. Ты должен рассказать мне, кто тебя превратил в македонца, кто привел на собрание, кто еще состоит в организации, кто из русских гефтлингов выступал? Как попал в подвал портрет Тельмана?
— Никакой организации не знаю. Возле подвала в тот вечер я оказался случайно. Кто-то толкнул меня вниз, наверное, приняв за своего. Пел я потому, что собрание было в память хорошего человека. У нас даже колхоз есть его имени. Ни одного знакомого человека я на собраний не видел. Македонцем я назвал себя после побега из лагеря. Все.
— Послушай, — сдержанно сказал Крамке. — Только честное признание спасет тебя от виселицы. Скажи мне правду, и тогда я поверну дело — из политического в уголовное: ты работал на вещевом складе, а из склада украли материю. Я понимаю, ты не хочешь, чтобы товарищи сочли тебя предателем. Так вот, в присутствии других арестованных мы объявим, что наказываем тебя карцером на месяц за то, что из вещевого склада украли материю. И не думай, что это будет инсценировка! Нет, ты отсидишь в карцере все 30 дней до последней минуты, но зато не будешь трое суток болтаться на виселице. Спасешь себе жизнь и перед товарищами чистым останешься. Подумай как следует. Можешь не отвечать сию минуту. Покури, подумай.
Крамке протянул Мамеду сигарету.
— Почему не куришь?
— Какое там курение? Я и сидеть не могу — голова кружится… — Мамед еле ворочал языком. — Одежду от ран не оторвать…
— Я об этом подумаю. Надеюсь, кое-какие перемены ты успел заметить? Это сделал гауптштурмфюрер Крамке, запомни!
— Когда меня на столб подвешивали, мне тоже говорили: подарок от Крамке. Я не забыл…
Мамед пошатнулся. Словно сквозь сон услышал:
— Уведите его в ревир.
На воздухе ему стало немного легче. День был холодный, хмурый, безветренный. Плетясь через припорошенную снегом площадь в ревир, Мамед думал, застанет ли там Петра Никонова и доктора Павла? Чем кончится игра, которую затеяли с ним гитлеровцы? Свои карты Крамке открыл. Как бы предупредить товарищей об этой провокации?…
И еще пришло ему в голову; добыть бы в ревире скальпель, чтобы подороже продать жизнь… Конвоир подтолкнул его прикладом…
XII
В ревире как будто ничего не изменилось. Большой барак по-прежнему напоминал мертвецкую. Как и прежде, здесь стояла тишина — тягостная, изредка прерываемая стонами. Она не давала покоя. Заставляла прислушиваться, присматриваться. На второй день Мамед понял, что октябрьские аресты не миновали ревира. Не появлялся Петр Никонов. Не было и доктора Павла. Кругом все новые люди, и кто знает, что у них за душой…
К койке Мамеда подошел врач и на немецком языке спросил, на что он жалуется. Мамед, не отвечая, расстегнул куртку. Врач начал перевязку и вдруг негромко спросил по-русски:
— Где это нас так угораздило обжечься?
— В «горячем» карцере.
— Ну, не мое это дело.
— Само собой… — Мамед пристально смотрел на усталое лицо врача. — Конечно, не ваше это дело.
— Я просто врач. И буду вас лечить, как обязывает меня долг.
— Долг значит… Перед тем, кто вас поставил сюда?
Врач не ответил. Молча закончил перевязку, молча пошел прочь. Но потом снова вернулся к койке Мамеда, сказал, понизив голос:
— Слушайте… Прежде чем получить назначение в ревир, я много месяцев отбывал в ассенизационной команде. Понимаете? Я голодал, отморозил руки. Надо мной издевались: вот мол, врач, удостоенный чести быть «золоторотцем»… Да, я поставлен сюда лагерным начальством должен быть благодарен судьбе и лечить всех, кто сюда попадает. Как положено врачу… Вот и все.
— Понятно, — сказал Мамед. — Почему люди сюда попадают — это вас не интересует… Я, между прочим, не по своей воле вертелся в «горячей», как шашлык на мангале.
— Это не мое дело, — упрямо повторил врач. — Я врач для всех и никому не сообщник. С меня хватит того, что пережил и что произошло на моих глазах с предшественником…
— Что с доктором Павлом?
— При аресте он оказал сопротивление и был расстрелян. Он уже никого лечить не сумеет. А занимайся он только лечением — жил бы до сих пор…
— Значит, убили… — с горечью сказал Мамед. — Какого доктора убили… он ведь сердцем лечил… Вам этого не понять…
— Прошу считать, что мы с вами не разговаривали.
Разговор этот заставил Мамеда задуматься. Может быть, врач хотел сбить с толку гестаповских агентов?
Может, просто притворился равнодушным и безучастным? Но нет, похоже, что так оно и пыло. Напуганный, усталый человек, больше ничего…
Вечером Мамеду стало худо. Его то знобило, то бросало в жар, он впал в забытье. Очнулся он, ощутив под мышкой холодок термометра.
— Здравствайт, — услышал он мягкий голос.
У койки стоял низенького роста человек в широком халате. Нос его, казалось, был расплющен сильным ударом. Из-под арестантской шапочки торчали крупные желтые уши. Толстенные стекла очков превращали его глаза в маленькие бусинки.
— Вот вам этвас покушайт, — сказал человек и положил под одеяло две картофелины, несколько галет и тоненький квадратик шоколада.
Мамед огляделся. Видно, его перенесли в другую комнату лазаретного барака. Здесь было всего пять коек. На соседней лежал без движения страшно исхудавший узник живая мумия. На другой койке метался в горячем бреду молодой человек. Две койки пустовали.
Человек в халате вытащил из-под мышки Мамеда термометр, посмотрел и сказал:
— Теперь хорошо. — И, широко улыбаясь, добавил: — В ревир бил гестаповский шпицлик, и ми решиль разлучить вас, сюда в изолятор.
— Кто это мы?
— Ми… медицина. Ви есть не за это?
Перевязывая особенно болезненную рану на плече Мамеда, он спросил:
— В и бил на столп? Как долго?
— Сорок семь минул.
— Ну, это еще нет много… След на плеч нам понятный примета,… Есть поэзия про тот ужасный столп.
Мамед кивнул. Он знал, что в лагере сложены стихи о столбе пыток:
«Он здесь маячит, страшный, длинный, И жертву ждет. И вот приказ: «За нарушение дисциплины подвесить их к столбу на час» Нас здесь травили, как зверей, осатанелые собаки. Ведь там, где сердце у людей. У этих извергов клоаки»…— Мы вам делали карантин. Тиф нет. Завтра немецкий арцт[46] проверяйт и вас марш в ревир. Потом гестапо. Держился, геноссе!
Он быстро пожал Мамеду руку и, сильно припадая на левую ногу, ушел.
Утром следующего дня он снова очутился у койки Мамеда, и смущенно улыбаясь, сказал:
— Здравствайт, товарищ, а кушать никс… Скоро придет русский доктор. Геноссен просили передать: держался добре. Вам тебе верят — это есть бальзам!
Осмотревшись, он быстро поднял сжатый кулак к плечу, потом снял очки, протер стекла, еще что-то хотел сказать, но только указал пальцем на свой красный «винкель» и заковылял к выходу.
Спокойно и легко стало Мамеду от встречи с незнакомым другом… «Товарищи просят держаться… В меня верят… Живет организация!»
В изолятор вошел уже знакомый русский врач. С ним был немец, остановившийся в дверях, под его халатом виднелся эсэсовский мундир.
— Объективные данные за время пребывания в карантине не показали у узника никаких признаков инфекционных заболеваний, — доложил русский врач немцу. — Температура держалась два дня. Ожоги заживают в пределах обычно наблюдаемых аналогий…
— Убрать! — прервал его немец. — Выдадите его конвоирам «политабтайлунга». У них там раны быстро рубцуются!
С тяжелым сердцем ждал теперь Мамед новых допросов. Но, совершенно неожиданно для него, Мамеда посадили в полицейскую машину. Из отрывочных разговоров конвоиров он понял, что его везут в Берлинскую тюрьму гестапо.
В Берлин вызвали также гауптштурмфюрера Крамке,
XIII
Кабинет, в который привели Мамеда Велиева, был основательно обжит толстым немцем. Под расстегнутым мундиром — ослепительно белая сорочка. На бледном лице — холодные проницательные глаза, черная щеточка усов, как у Гитлера.
За широкой спиной нового следователя — очевидно крупной гестаповской шишки — стояли, вытянувшись, гауптштурмфюрер Крамке и еще два эсэсовца.
Яркий свет слепил глаза. Вдруг Мамед услышал глухой стон. Ковер посреди комнаты был подвернут, на светлом пятне паркета лежал одетый в полосатое человек.
Рявкнула команда. Человек с трудом поднялся. Лицо его было разбито в кровь.
— Ты знаком с этим интеллигентом? — спросил следователь у Мамеда.
— Первый раз вижу.
— А ты этого «мейстерзингера» знаешь?
— Нет, — ответил избитый.
— И вас не услаждал пением русский соловей?
— Я никогда не слышал его.
— Тогда продолжим наш «коллоквиум», — заявил следователь. — Займемся историей. Пусть и новый присутствует. Ему это будет на пользу… Так вот, когда произошла битва в Тевгобургском лесу? Отвечай, сопливый интеллигент!
Молчание.
— Не знаешь? Тогда расскажи, что тебе известно о нашем реванше в Компьенском лесу?
Молчание.
— Этого ты, конечно, и знать не хочешь? Больше ничего спрашивать не буду. Но стоять тебе, пока не ответишь. А не ответишь — подохнешь. Верно я говорю, Крамке?
— Яволь!
Спустя несколько минут узник разжал разбитые губы и невнятно заговорил.
— Дайте ему воды, — сказал следователь. — Он, кажется, хочет отвечать.
— А вы о «башне черепов» слыхали? спросил допрашиваемый.
— Ну, расскажи, послушаем.
— Эта башня у нас, в Югославии. В стены башни, по приказу султана замуровали черепа сербских повстанцев, павших в бою на Чегре, что возле города Ниш. Башня должна была устрашать непокорных сербов.
— Ну и что же?
— «Башня черепов» стала музеем. Внуки знают, какой ценой их деды купили свободу. Так и написали у входа в башню.
С необычной для толстого человека живостью следователь бросился к узнику. Через мгновение тот уже лежал на полу и разъяренный гестаповец с проклятиями пинал его ногами. Прогремел выстрел, затем еще один. Судорожно дернулись ноги в деревянных колодках — и стало тихо.
«Это, кажется, Иво, серб-аптекарь, подумал Мамед, с ужасом глядя на убитого товарища.
— Унесите, и на сегодня хватит, прорычал следователь. — Вот что такое чти сербы Прав был великий Бисмарк: «Сербия — это серная спичка в возу сена».
Так Мамеду Велиеву пришлось увидеть, в «работе» гестаповского чиновника «Вилли-экзаменатора», любившего на допросах «заниматься историей».
* * *
Сигнал воздушной тревоги и глухие взрывы разбудили Мамеда.
Распахнулась дверь камеры, и охранник, подталкивая узника и покрикивая «шнеллер», погнал его в подвальный этаж тюрьмы. Заскрипела железная дверь, и Мамед очутился в набитом до отказа бункере.
В сплошной темноте раздался молодой звонкий русский голос:
— Кого принесло в наш терем-теремок?
— Руссиш? Франсе? Чех? Поляк? — со всех сторон послышались вопросы.
— Кавказец, — сказал Мамед.
— Эй, кацо! — обрадовано прозвучал тот же голос. — Держись! «Сеанс» может скоро кончится. Часто теперь такие представления стали давать. Бомбят правильно! — И помолчав, добавил: — Анекдот немецкий слыхал? Спрашивает Ганс у Фрица: «Когда наш блицзиг[47] состоится? А Фриц отвечает: «Знаю: когда задница Геринга влезет в штаны Геббельса…»
Раздался дружный смех.
— Я летчик. Недавно сбили над Берлином, — продолжал русский. — Допрашивают зверски. Добиваются секретов. Кто выйдет отсюда, запомните адрес моих стариков, расскажите, что я честно погиб здесь. А если сам жив останусь, лично «опровержение ТАСС» сделаю…
XIV
Мамеду повезло: «Вилли-экзаменатора» на допросе не было. Крамке вяло задавал вопросы. Все те же вопросы… Обещания хорошей жизни сменялись жестокими побоями. Иногда после пытки день-другой на допрос не вызывали.
Мамед упорно придерживался своих показаний, а чаще всего молчал. Уставившись на ковер или глядя в окно на башенные часы, он мысленно уносился в родной Баку. Иногда он не слышал вопросов, которые ему задавали. Это молчание особенно изводило гестаповцев, и они остервенело накидывались на узника с «бананами».[48]
Избитого до полусмерти Мамеда бросили в камеру, где уже лежали два искалеченных узника. Бывшего моряка-севастопольца привезли из какого-то лагеря во Франции. Кто был второй, узнать не удалось. Только хриплое дыхание показывало, что он еще жив.
Моряк назвал себя Федором. Часами он молча лежал и только с помощью Мамеда поворачивался на бок.
— Нет, братишка, так дело не пойдет, — сказал однажды Федор, заметив, как Мамед подливает в его миску свою похлебку. — У меня нутряного жира побольше, чем у тебя, да кость широкая. А кожа заживет, если до того не повесят…
— За что тебя так… разукрасили? — спросил Мамед. — Листовку нашли у меня при обыске, — не сразу ответил Федор. — У нас там, во Франции, продолжал он, помолчав, — крепкая братва подобралась. И голова была правильная — люди главного калибра! А в листовке, из-за которой я здесь лежу, а скоро, может, землей накроюсь, был напечатан призыв нашей организации. Ты запомни… Может, своими словами передашь другим. Там было написано так:
«В настоящее время вы (советские военнопленные, значит, и гражданские, которых в неволе угнали) находитесь в капиталистической стране, и это обязывает вас высоко держать честь советского гражданина… То что мы получили от нашей Родины, Советского Союза, является превыше всего для нас всех…»
А дальше так:
«Фашисты и их верные псы ведут злобную пропаганду среди вас. Они хотят убить вашу душу и сделать из вас покорных рабов. Не верьте тому, что они говорят. Они гнусно лгут…»[49]
Федор устало закрыл глаза.
— Расскажи о себе, — попросил он в другой раз. Почему так получилось, Мамед и сам не смог бы объяснить, но больше всего рассказывал он Федору о Генерале. Рассказывал подробно, как будто давно его знал…
— Так вот, — еще только рассортировали цуганг, а мы уже знали, что привезли Генерала. Каждому хотелось с ним поговорить, у слышать, что скажет, посоветоваться. Но, сам знаешь, в лагере это не просто. Да и не каждого к нему пускали. Оберегали его наши. Но разок и мне довелось с ним поговорить…
Вот представь, Федор, сидит на каком-то ящике невысокий человек. Лицо сухое, вытянутое, кожа чистая. А глаза — будто магнитом притягивают. Сидит он, веточкой по песку чертит. Рядом стоит свой человек, охраняет… Знал он много, Генерал. Рассказывали, будто в Берлине в гестапо удивил он немцев: на семи языках свободно разговаривал. Вот, брат, Сураханы-Балаханы. Семь языков, а ни на одном военной тайны не выдал. Говорят, будто сам Гитлер приезжал к Генералу и даже в спор а ним вступил. Доказывал Гитлер, что разобьет наших, и только хотел узнать, сколько еще, по мнению Генерала, Советский Союз сможет продержаться. А Генерал ему какую-то формулу написал. Вот, говорит, мой ответ. Гитлер глаза пялит, ничего не понимает. Тогда Генерал и сказал самому Гитлеру: «Никогда вам русских, советских не одолеть. Ни стали такой, ни пороха, ни сил таких нет у вас, и быть не будет. А война кончится скорее, чем вам хочется. Хорошо, если вы живы останетесь, хоть судить будет кого»…
А Геринг? Чего только не обещал нашему Генералу Пробовали пряником взять — не вышло. Решили доканать голодом и каторгой.
Злились эсэсовцы. Раньше, чем Генерал на новое место прибудет, — весь лагерь уже ждет его, и по баракам продукты собирают, чтобы он меньше нужды терпел…
Так вот, я поздоровался с Генералом. Он посмотрел на меня, спокойно ответил, подвинулся. «Садись!» — говорит. Угощает сигаретой. Я отказываюсь. «Бери, — говорит, — иначе обижусь». Разговорились. Спросил меня Генерал» сколько мне лет, кто по званию, где воевал, как себя чувствую, нашел ли себе товарищей, не упал ли духом.
«Погибнуть здесь можно в два счета, — говорит он. — А только надо над собой строгий контроль сохранять, а еще — не только за себя бороться, но и за каждого нашего человека»… Эти слова — «за каждого человека» — Генерал два раза повторил. Я рассказал Генералу все про себя, не скрыл, что трудно мне…
«А ты, дружок, — отвечает Генерал и берет меня за руку, — открой глаза и смотри шире. Как можно шире. Не допускай, чтобы мир в твоем представлении сузился до твоих сегодняшних мук. Тяжелых мук, знаю. Как только широкий мир, где мы с тобой — солдаты большой битвы, сузится до размеров твоего пупка, жизнь твоя не будет стоить и понюшки табаку…»
Трудно, Федор, передать все, что Генерал говорил нам. Мы от его слов, клянусь, крепче становились…
Даже гестаповцы боялись Генерала. А он не боялся их. Такое говорил, он им, что другому бы за это в момент пулю влепили. Жалко, недолго пробыл с нами Генерал. Увезли его с транспортом куда-то далеко. Нас из бараков не выпустили. Мы из окон смотрели, как уходит колонна. Знал это Генерал. Шел в строю, как на параде, а у самой брамы рукой взмахнул на прощанье. Светлую память оставил! А ведь о себе Генерал так и не сказал ни слова…
…Спустя несколько дней Мамеда Велиева снова привели на допрос. Здесь ему через переводчика объявили, что приговором суда «за опасную подрывною деятельность против рейха», оп присужден к смертной казни через повешение.
Затем его привезли в концлагерь, заперли в камеру смертников. Здесь он увидел Петра Никонова. Не сразу узнал его — поседевшего, измученного, страшно исхудавшего.
XV
Они никак не могли наговориться. Никонов расспрашивал, кто заменил его в ревире, работает ли там свой человек. Когда Мамед Велиев рассказал о своем разговоре с новым доктором, Никонов горько усмехнулся.
— Ты что это, Петр?
— Да вот, вспомнил одно место из какой-то книги. Так сказано: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».
— Да, брат… А ведь сколько их, равнодушных. И ходили они рядом с нами… — Мамед с любовью посмотрел на друга. Последнюю, печальную радость подарила ему судьба… — Что ж, Петр, — сказал он тихо, — на этот раз тебе уж меня не спасти…
— Да, — откликнулся Никонов. — На этот раз-все…
— Тебе когда объявили?
— Я здесь уже третий день, Мамед. Хорошо, что кончилось одиночество. Черт знает, что в голову лезло…
— Не о такой встрече думал я, Петро…
— Недаром у немцев есть поговорка… «Кому быть повешенным — тот не утонет»…
До сих пор они избегали говорить об этом. Но теперь было произнесено слово, которое означало конец их борьбе, конец надеждам.
Друзья молчали. Каждый предался своим нелегким думам. Пришло какое-то ледяное спокойствие. Ни страха, ни боли…
— Теперь уже не в наших силах что-либо изменить, а на чудо нечего рассчитывать. Но до чего же обидно, Мамед… Мы уже и оружия немало собрали… Дали бы эсманам прикурить…
— Я вот думаю, Петро, еще бы немного продержаться. Ведь где были немцы, когда мы попали в плен, и где они сейчас? Говорят, у них порядок такой — после приговора еще сто дней можно протянуть…
— А сами они протянут сто дней? Нет, дружок, вряд ли нас коснется это правило… Вот что: надо написать на стене наши фамилии.
— К чему?
— Придут же сюда наши. Увидят наши имена, на Родине расскажут…
— Расскажут… Хорошо, если мать еще жива. Но она не поверит даже очевидцу. Мало ли что на стене написано… «Аллах керимдир»,[50] — скажет она и будет ждать. Пообещает щедрый подарок святому, чтоб я вернулся… И будет ждать…
— А все-таки давай напишем. Вот я оторвал пуговицу. Это немецкая, штампованная. Чуть-чуть отогну, и будет стило.
Никонов опрокинул пустую парашу, встал на нее и процарапал на шершавой стене черточку.
— Пойдет, — сказал он. — Напишем так: приговорены фашистами к смерти, умираем сынами Родины…
— Это будет нашей могильной надписью?
— Да… Надо короче Отбросим мой глупый пафос и напишем просто: «Погибли честно. Петр Никонов из Клина, Мамед Велиев — Баку».
— Это подходит. Пиши.
* * *
Мамед лежит, закинув руки за голову. Глухо доносится в мрачное подземелье шаги охранника — четыре в одну сторону, четыре в другую. А в интервалах — мерные звуки падающих с потолка капель.
«Может быть, рассказать Петру о Светлане? — думает Мамед. — Рассказать о глупых былых сомнениях — примут ли в семье эту светловолосую девушку… И об июньской ночи в Нагорном парке, когда мы решили открыться родителям и скрепили свое слово первым поцелуем…».
Лезут в голову нелепые, несбыточные мысли: «Может, еще удастся вырваться из этих стен, и тогда Петр приедет в Баку… Познакомлю с ним Светлану: вот, Света, мой спаситель, мой самый близкий друг…».
Он лежит без сна.
Приближающийся топот, лязг отодвигаемых засовов… Это пришли за смертниками из соседней камеры. Гул голосов, прощальные выкрики…
Тишина.
И вдруг — далекая-далекая автоматная очередь…
Обостренная сознанием неизбежного конца, четко работает память. Перед мысленным взглядом Мамеда встают родной дом, ветка абрикосового дерева в цвету… золотистый пушок над верхней губой Светланы…
— Ты читал Тагора? — спрашивает вдруг Петр и, не дожидаясь ответа, продолжает: — «Мне стыдно за мою пустоту», сказало Слово Труду. «Я сознаю свою бедность, когда смотрю на тебя», сказал Труд Слову»…
Вот, брат, какой мудрый старик был!
И снова тянутся томительные часы. Обреченные лежат, прислушиваясь к шагам, которые могут оказаться шагами палачей, и к голосу своих воспоминаний.
— Одно остается нам, — снова нарушает Петр молчание: — умереть с достоинством. Скажу откровенно — страшно мне…
— Знаешь, Петро, когда мы еще только на формировании были, меня и всех нас, молодых, необстрелянных, волновало это: ведь, скоро под огонь идти… На счастье командиром взвода назначили к нам парня с орденом Красной Звезды за финскую. Мы к нему, так, мол, и так, скажите нам, как оно воюется, почем фунт лиха… Да, отвечает он, страшновато было. Отрываться от земли и идти в атаку, под пули — это только дурак скажет, что дело простое. Но, когда поднимали в атаку, для страха времени не оставалось. Хлопцы рядом, а я что, хуже их? Совесть и долг подымали!
— Да… Уж лучше бы — на глазах у товарищей. Знаешь, как у нас говорят: — на миру и смерть красна…
XVI
Хоть и ожидали, ожидали, этого часа, а пришел он неожиданно. Все было по заведенному ритуалу. Вывели, связали руки. Повели.
Неяркое солнце стояло уже довольно высоко. Мамеда и Петра бил озноб…
Каменная площадь аппельплаца была заполнена ровными, молчаливыми прямоугольниками узников. Пестрели полосатые робы. Аппель уже закончился. У бетонной лагерной стены стояли две переносные виселицы. Петра Никонова и Мамеда Велиева поставили под петлями, и переводчик неровной скороговоркой стал читать приговор. Мамед его не слышал. Он всматривался в людей, стоящих на плацу, пытался найти хоть одно знакомое лицо. Переводил взгляд с одной шеренги на другую…
Вдруг переводчик что-то с надрывом выкрикнул и умолк.
Верзила с зеленым винкелем накинул Никонову на шею петлю. С криком «хох» он столкнул Петра с помоста и повис на нем. Петр успел только крикнуть: «Братья, то…».
Теперь Мамед ждал приближения палача. Он его чувствовал спиной. Он сжимал кулаки, глядя прямо перед собой на застывший строй.
Вдруг по рядам узников прошло движение. Комендант лагеря остановил палача и подозвал к себе переводчика. Оба подошли к микрофону.
— Вы видели, как был казнен один из врагов рейха, — стал выкрикивать переводчик вслед за комендантом. — Такой конец ждет всех явных и тайных подстрекателей, коммунистических агитаторов, смутьянов. Сейчас должна состояться казнь другого опасного преступника, который, кроме всего прочего, распевал еврейско-большевистские песни. Я распорядился приостановить казнь. Пусть этот певец порадует нас своим искусством. Он будет прикован к лагерным воротам и будет жить, пока будеть петь — хоть до ста лет! Но как только он закроет рот, часовой расстреляет его!
Молчание, висевшее над плацем, стало острым, как нож…
— Этот певец побывал в Бухенвальде, — продолжал комендант. — Там у них даже свою песню сочинили. Вот с нее пусть и начинает «концерт».
Все было как во сне… Комендант, лагеря подошел к Мамеду, толкнул его в бок рукояткой плетки и что-то скомандовал. Подошли кузнецы. Более двух часов тянули они, пока, наконец, заковали Мамеда и подвесили к створке лагерных ворот. Рядом зашагал эсэсовец с автоматом.
Мамед молчал. Ему казалось, что он слышит учащенное дыхание колонны. Тишина накалялась…
— Пой, товарищ! — раздалось вдруг из глубины рядов на русском языке.
Опасаясь, что сейчас начнут искать того, кто осмелился выкрикнуть. Мамед глухим голосом затянул «Песню узников Бухенвальда»:
День едва занялся, Мрачный, серый и сонный, По дороге, чуть свет, Потянулись колонны. Мы уныло бредем на работу. Лес чернеет кругом, розовеет восток, Я в котомке несу хлеба жалкий кусок, А в сердце, а в сердце — заботу.Мамед чуть передохнул, посмотрел на застывшие ряды узников и продолжал слова припева:
О, Бухенвальд, тебя я не забуду, Ты стал моей судьбой. Свободу я ценить сильнее буду, Когда прощусь с тобой. О, Бухенвальд, мы выдержим ненастье, И нам не страшен рок Мы любим жизнь и верим в счастье, И день свободы нешей недалек!Он повторил припев дважды. Голос его окреп, налился силой. Немым строем стояли перед ним не полосатые скелеты, а — бойцы, которым близко и понятно было каждое слово…
А в жаркую ночь я тоскую по ней, По славной подружке далекой моей. О, только бы не изменила! По острым камням твердым шагом идем, Лопату и лом на плечах мы несем. А в сердце — любовь к нашим милым…Кто-то упал в строю. Упал с глухим, коротким стоном. Еще кто-то. Эсэсовцы кинулись наводить порядок в колонне.
И короток день, и ночь так длинна. Вот песня… На Родине пелась она В счастливые давние годы. Товарищ, держись! Пусть кипит наша кровь! В сердцах сохранили мы к жизни любовь, И твердую веру в Свободу! О, Бухенвальд, тебя я не забуду, Ты стал моей судьбой. Свободу я ценить сильнее буду…Тут раздалась команда — «Разойдись!»
Одними глазами держа равнение на поющего, прошли мимо Мамеда бесконечные колонны узников. Топот деревянных колодок прозвучал чудовищным аккомпанементом песне о Бухенвальде…
* * *
Наступила ночь. Измученные бессмысленным и тяжелым рабским трудом, втягивались узники в сырые, вонючие бараки. Истомленные тела валились на жесткие нары. Но было необычно тихо. Никто не вздыхал, не делился, как обычно, пережитым на работе. Молчали даже те, у кого всегда находилось веселое слово, вызывавшее смех. Молчали. Вслушивались.
Он еще пел. Негромко, но пел. Кому-то показалось, что это «Интернационал», а кому-то чудилось «По долинам и по взгорьям»…
И все же постепенно сон одолевал даже самых стойких, даже тех, кому голос в этой темной ночи был голосом близкого друга, товарища по борьбе.
Тяжелым был их сон. Часто он прерывался, и тогда узники напряженно вслушивались: поет ли еще?
— Николай, слышишь, — проговорил с немецким акцентом басовитый голос, — как там наш товарищ?
Николай поднялся на локте, долго прислушивался, и сам не заметил, как начал подтягивать невидимому певцу:
Не страшен нам белый фашистский террор, Все страны охватит восстанья костер, Все страны охватит восстанья костер!Николай пел, и ему подтягивали Стефан и другие соратники, когда-то в темном «вашрауме» принимавшие участие в судьбе товарища, которого они знали тогда только как номер 37771…
Товарищи, братья, в застенках холодных, Мы с вами, мы с нами, хоть нет нас в колоннах…Вдруг Николай умолк. Над лагерем висела тишина. Страшная, бездонная, зловещая… Еще секунда такой тишины… Еще… Потом ее распорола короткая автоматная очередь.
ПРИМЕЧАНИЯ
В основу рассказов из книги «Ночь плачущих детей» положены документы Архива Министерства Обороны СССР:
«Только репортаж» — опись 11302, Дело 244, л. 329.
«Дети из «того барака» — оп. 2675, Д. 340. лл. 68–69.
«Смеющаяся смерть» — оп. 11302, Д. 197, лл. 52–53.
«Репортаж у края могилы» — оп. 11302, Д. 197, л. 185.
«Листки из дневника эсэсовца» — оп. 11302, Д. 197, лл. 185–186.
«Мой «мальчик» — оп. 11302, Д 197, л. 94.
«Последний вальс» и «Новая Европа» — оп. 11302, Д. 197, л. 53.
«Снова только репортаж» — оп. 2734, Д. 83, л. 128.
Примечания
1
Аппель (нем.) — перекличка, пересчет.
(обратно)2
Ауфзеерка (нем.) — надсмотрщица-эсэсовка.
(обратно)3
«Мексика» — (на лагерном жаргоне) склад одежды отобранной у узников.
(обратно)4
Винкель — матерчатый треугольник на робе узника. Красный винкель нашивали политическим преступникам.
(обратно)5
«Эс мих, эс» (евр.) — Ешь меня, ешь! Одновременно «Эс-эс».
(обратно)6
Шкоп (польск.) — презрительная кличка гитлеровских оккупантов.
(обратно)7
Виртшафтсфюрер (нем.) — «экономический фюрер», хозяйственный руководитель.
(обратно)8
Зондербехандлунг (нем.) — «особое обращение» — расстрел.
(обратно)9
«Зелёный» — узник из уголовников. Им нашивали на робу зелёный «винкель».
(обратно)10
Иди скорее, Шани (венг.).
(обратно)11
Не бей! О мамочка! (венг.).
(обратно)12
Из дневника Фридриха Шмидта, командира 626 отряда полевой жандармерии.
(обратно)13
См. сб: «От Москвы до Берлина». М., 1968, стр. 402.
(обратно)14
Ревир — госпиталь в лагере.
(обратно)15
Немецкое название Освенцима.
(обратно)16
Новоприбывших, новичков (нем.).
(обратно)17
1968 г.
(обратно)18
Оригинал письма хранится в Центральном музее Вооружённых Сил СССР.
(обратно)19
Рейх — гитлеровская «империя».
(обратно)20
Гауптман — капитан (нем.).
(обратно)21
«РОА» — т. н. «Русская освободительная армия». Формирование изменников родины, созданное гитлеровским командованием.
(обратно)22
«Проклятая свинья» — немецкое ругательство.
(обратно)23
«Бертой» гитлеровцы иногда называли виселицу.
(обратно)24
Высшая мера, смертный приговор (жаргон).
(обратно)25
Лагерное гестапо (нем.).
(обратно)26
О боже (венг.).
(обратно)27
«Нахтигаль» — соловей (нем.).
(обратно)28
Ами — дядя (азерб.).
(обратно)29
Кочи — наемный убийца (азерб.).
(обратно)30
Глупый парень (нем.).
(обратно)31
В чем дело? (нем.).
(обратно)32
ОВС — обозно-вещевая служба.
(обратно)33
Подлинный документ (прим. авт.).
(обратно)34
Подлинный документ (прим. авт.).
(обратно)35
«Кубинка» — район, где когда-то в Баку, находился «толкучий» рынок.
(обратно)36
Политабтайлунг — лагерное гестапо (нем.).
(обратно)37
Ревир — лагерный лазарет (нем.).
(обратно)38
Вашраум — умывальная (нем.).
(обратно)39
Цуганг — транспорт с узниками (нем.).
(обратно)40
Штайнбрух — каменоломня, каменный карьер (нем.).
(обратно)41
Шрайбштубе — лагерная канцелярия (нем.).
(обратно)42
Подойди (нем.).
(обратно)43
Проклятые макаронники! (нем.).
(обратно)44
Капо — вспомогательный полицейский, надсмотрщик из узников (нем.).
(обратно)45
Так точно (нем.).
(обратно)46
Арцт — врач (нем.).
(обратно)47
Блицзиг — молниеносная победа (нем.).
(обратно)48
Резиновая плетка с металлическим стержнем внутри.
(обратно)49
Подлинный документ (прим. автора).
(обратно)50
Бог милостив (азерб.)
(обратно)



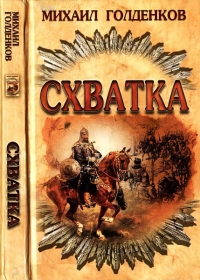
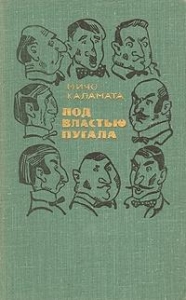



Комментарии к книге «Жить воспрещается», Илья Исакович Каменкович
Всего 0 комментариев