Александр Чаковский. Лида (Это было в Ленинграде-2)
Ну вот, я уезжаю с Ладоги навсегда. Мои вещи собраны. Всё готово. Сейчас должна пойти машина, на которой я поеду в Ленинград. Если мне и придётся когда-нибудь вновь побывать тут — нашей Ладоги уже не будет. Я уже никогда не смогу найти здесь следов своей жизни. Вот ведь какое место! В городе можно найти свои следы, и в деревне, даже в разрушенной, сожжённой, всегда можно отыскать землю, на которой жила, по которой ходила. А здесь нельзя. Весной всё исчезнет, всё растопит солнце и размоет вода…
Заскрипел снег за палаткой, и вошли Сеня Кириллов, шофёр нашей санитарной машины, и Андрей Фёдорович, врач, мой начальник.
— Ну, такси подано, — сказал Сеня, — можно ехать.
Андрей Фёдорович взял мои вещи — мешок и чемоданчик, но в эту минуту мы ясно услышали завывание самолётных моторов и треск пулемётных очередей. Гул моторов нарастал, как бывает, когда самолёты пикируют.
Мы выскочили из палатки. Прямо над нашими головами высоко в небе шёл воздушный бой. Приглядевшись, я увидела, что три самолёта атакуют один.
Андрей Фёдорович опустил мои вещи на снег и стоял, широко расставив ноги и закинув голову.
— Это «мессеры» напали на «ястребка», — сказал он.
В эту минуту я увидела страшное: мотор атакуемого самолёта заглох, и он стал медленно планировать, всё приближаясь ко льду, а немецкие самолёты один за другим пронеслись над ним и стреляли из пулемётов.
— Они подбили его! — крикнула я.
Самолёт не дымил, не горел, как обычно бывает с подбитым самолётом. Он только медленно и неслышно планировал надо льдом, опускаясь всё ниже. Наконец самолёт коснулся льда далеко от нас, превратившись в едва различимую точку.
— Быстро на машину! — крикнул мне Андрей Фёдорович. — Если пилот ранен, окажите первую помощь и на этой же машине везите его в Ленинград, в госпиталь.
Он схватил мои вещи и бросил их в кузов стоящей около палатки полуторки. Сеня вскочил в кабину и нажал стартер. Я уселась рядом. Андрей Фёдорович резко захлопнул дверцу.
Мы поехали медленно, чтобы не сбиться с трассы. Быстро темнело. Поднялся страшный ветер. Начинался буран. Снег залепил переднее стекло. Сеня пробовал включать «дворник», но он не работал. Несколько раз мы останавливались. Семён вылезал на подножку кабины и протирал рукавицей стекло. Потом он включил фары, и падающий снег стал казаться розоватым. Мы уже давно перестали видеть самолёт и ехали «по памяти». Вдруг я испугалась: а что, если мы не найдём самолёт? Я сказала об этом Семёну. Он сначала ничего не ответил, а потом сказал.
— Будем искать, так найдём.
Внезапно заглох мотор. Семён несколько раз остервенело нажимал стартер, потом крутил ручку, но мотор не заводился. Семён снова выскочил из кабины и с грохотом откинул переднюю крышку. Он возился недолго, и, когда опять влез в кабину и нажал стартер, мотор заработал.
— Закрой-ка крышку, — сказал мне Семён, — а то отпустишь газ, и опять заглохнет.
Я вылезла из кабины и опустила крышку. Буран всё усиливался.
Мы выехали наконец на основную трассу, и Семён включил следующую скорость. Я опустила фанеру, заменяющую боковое стекло кабины, чтобы не пропустить самолёта. Мы поравнялись с каким-то военным. Он поднял руку и крикнул:
— Там лётчик раненый!
— Знаем! — ответила я.
Наконец Семён затормозил и сказал:
— Ну, где-то здесь. Давай искать.
Вылезли из кабины.
— Вот что, — заявил Семён, — давай ищи одна, а как найдёшь, зови меня, я помогу. А машину нельзя так оставить.
Я взяла санитарную сумку и пошла по трассе.
— В сторону давай, в сторону! — крикнул мне Семён. — Он справа от трассы сел, я точно заметил.
Свернула вправо. Здесь был глубокий снег. Я провалилась по колено. Потом залезла в глубокий сугроб и никак не могла выбраться. Мне пришлось поочерёдно вытаскивать ноги из валенок, а потом тащить валенки руками. Наконец вылезла на ровное место и пошла вдоль трассы. Гула моторов и пулемётной стрельбы уже давно не было слышно. Я шла, стараясь увидеть что-нибудь за пеленой снега, и думала только об одном: жив ли лётчик? Но самолёта не было. Я отошла ещё дальше в сторону от трассы и всё старалась что-нибудь разглядеть сквозь летящий снег. Потом закричала:
— Эй! На самолёте! Лётчик! Това-арищ лё-ётчик!
Получилось очень негромко. Наверно, за сотню метров уже ничего не было слышно. И снова мною овладела растерянность. Я никак не могла привыкнуть к этому пространству, где нет ни улиц, ни огней, где неизвестно, как ориентироваться, и кажется, что ты затерялась в чём-то бесконечном, как море. И мне вдруг очень захотелось пойти обратно в тёплую палатку, свернуться и лечь на нары и смотреть, как наш фельдшер Смирнов растапливает печку.
Я снова стала кричать:
— На самолёте! Лё-ёт-чик! Где вы там? Товарищ лётчик!
Охрипнув от крика и уже потеряв надежду, что кто-нибудь отзовётся, я вдруг ясно услышала чей-то голос:
— Сюда давайте! Сю-да!
Как я обрадовалась! И всё кругом мне стало казаться уже не таким страшным, точно, плутая по дремучему лесу, я случайно вышла на хорошо знакомую дорогу. А человек кричал:
— Да где вы там? Сюда давайте! — У него был глухой, басистый голос.
Теперь мне стало совершенно ясно, откуда доносился голос. Кричали где-то за моей спиной. Я повернулась, крикнула:
— Иду-у! — И пошла на голос.
Снег в валенках растаял, чулки и портянки были мокрые. Ногам было жарко. Я шла всё быстрее, не выбирая дороги.
Потом увидела очертания самолёта, и мне навстречу из-за пелены снега вышел высокий человек в полушубке.
— Вы лётчик? — крикнула я, бросаясь к нему навстречу.
— И не мечтал, — басом ответил мне человек. — Лётчик здесь. Он ранен в ногу. Ранение лёгкое.
Меня почему-то зло взяло на этого человека.
— Разберёмся, какое ранение, — сказала я. — Где он?
Высокий ничего не ответил, повернулся и пошёл к самолёту.
Я пошла за ним. У машины стояли двое бойцов, очевидно, с зенитной батареи. Лётчик лежал на снегу под мотором. Он был в меховом комбинезоне. Одна нога его была в валенке, а другая замотана каким-то шарфом.
Я подошла к лётчику и спросила:
— Как вы себя чувствуете?
Лётчик взглянул на меня. Он был белес, молод и смотрел как-то сердито.
— Медицина появилась? — сказал он. — Помощник смерти!
«Сердится от боли», — подумала я.
— Давайте сюда ногу… — И я опустилась на снег.
— Насовсем? — насмешливо спросил лётчик.
— Послушайте, — прогудел за моей спиной бас, — ему ногу недавно перевязали. Его надо в госпиталь везти, а не перебинтовывать на морозе.
— Для этого я и приехала, чтобы в госпиталь везти, — сказала я. — Кто ему ногу перевязывал?
— Тот самый, который вас сюда прислал, — ответил бас.
— Меня? — Я даже удивилась. — Меня никто не присылал. То есть прислал, конечно, но… мы сами видели, как самолёт сел, и я поехала.
— А-а! — протянул бас. — Ну всё равно, надо его везти в госпиталь.
— Ну ладно, — сказал внезапно лётчик. — Ехать так ехать. Куда шагать-то?
Он сделал резкое движение, пробуя подняться, и попытался встать на ноги, держась за крыло самолёта, но тут же упал.
— Лежите, — крикнула я, — мы вас понесём!
— Это вы-то? — сквозь зубы выдавил лётчик. — Во мне восемьдесят кило. Это вам не сумка-авоська.
— У машины шофёр, — сказала я. — Сейчас я его приведу.
— Не надо, — буркнул лётчик и, повернувшись к бойцам, сказал: — А ну, ребята, подмогните.
Бойцы разом взяли лётчика под руки, и он встал.
— Куда идти? — спросил лётчик, опираясь на бойцов.
Я пошла вперёд, указывая путь к машине. Мы прошли несколько метров молча, потом лётчик вдруг остановился и сказал:
— Нет, так не годится. Кто же у самолёта останется?
— Да они же вернутся через десять минут, — ответила я, кивая на бойцов. — Машина рядом на трассе.
— Нет, — упрямо замотал головой лётчик. — Их прислали с батареи охранять самолёт. Никуда они не пойдут.
— Ну хорошо. Вот вы, — кивнула я длинному человеку в полушубке, — берите его под руку.
Тот подошёл и взял лётчика под руку, отстранив бойца. Я подошла к лётчику с другой стороны.
— Идите к самолёту, — приказала я.
Бойцы растерянно переминались с ноги на ногу. Лётчик пристально посмотрел мне в лицо. Я крепко держала его под руку обеими руками.
Он медленно повернул голову к бойцам и сказал:
— Идите к самолёту.
И те ушли.
Мы пошли к трассе. Буран утих, и я ясно видела нашу машину. Мы были от неё метрах в трёхстах. Идти было очень трудно. Лётчик был действительно ужасно тяжёлым, и мне казалось, что он всей тяжестью опирался именно на мои руки.
— Вам очень больно? — спросила я.
— Ничего мне не больно, — с прежним раздражением ответил он.
Я в душе уже давно злилась на него. Не я же в самом деле была виновата в том, что его ранили. И рана-то, очевидно, у него не такая опасная. Мне пришлось видеть однажды, как у человека ногу отнимали без наркоза, и он молчал. А этот, видно, неженка. А ещё лётчик!
— Вам тяжело? — вдруг спросил лётчик.
— Нет, не очень, — ответила я.
— Всё-таки восемьдесят кило, — пробормотал он и усмехнулся.
Я ничего не ответила, но после слов лётчика мне стало легче его вести.
— Скоро дойдём, — вслух подумала я. — Вот и машина.
Семён увидал нас. Он уже бежал навстречу, увязая в сугробах.
— Ну как, всё в порядке? — крикнул он, подбегая.
— Тебе бы такой порядок, — буркнул лётчик.
Семён хотел сменить меня, но я решила, что дойду. Он пожал плечами и пошёл вперёд. Так подошли мы к машине.
— Вы сядете в кабину, — сказала я лётчику, открывая дверцу. — Сидеть можете?
Лётчик ничего не ответил. Мы усадили его в кабину.
— Ну, а вы куда? — обратилась я к человеку в полушубке.
— Вы ведь в Ленинград? — в свою очередь спросил он. Я кивнула. — Ну, пожалуй, поеду и я с вами, раз так получилось. Бой над Ладогой, пожалуй, годится, а?
— Что такое? — не поняла я.
— Ничего, — пробасил человек в полушубке. — Это я про себя. Как говорится, в сторону.
Встаю на колесо и перешагиваю в кузов машины через борт. Следом за мной — он. Стучу по верху кабины и кричу:
— Всё в порядке!
…Мы двигаемся…
Сидим на куче брезента, прижавшись спинами к стенке кабины. Дует резкий, холодный ветер, и, если повернуться к нему лицом, можно сейчас же обморозить щёки.
Но в эти минуты я не думала о холоде. Не думала и о раненом лётчике, сидящем в кабине. Я смотрела на постепенно удаляющиеся от нас, едва заметные, пробивающиеся сквозь щели в палатках огоньки Ладожского лагеря. И мне думалось, что с этими огоньками какая-то часть жизни уходит от меня. Вот мы проедем ещё несколько километров, и я долго не буду видеть ничего, кроме бесконечного снега.
…Два месяца назад я пришла сюда. Здесь ещё не было палаточного посёлка. Я шла по льду, а лёд «дышал». Если когда-нибудь потом меня спросят, как «дышал» лёд, я не смогу рассказать. Это можно только почувствовать. Лёд не прогибался, для этого он был уже достаточно крепок. Но он был «неверен», он чуть вздрагивал, точно раздумывая, не слишком ли я тяжела для него. А подо льдом чёрная ледяная пучина: десять метров, двадцать метров, тридцать метров…
Мы шли трое — Андрей Фёдорович, Смирнов и я. Они шли по бокам, я посредине. Был такой же ветер, как сейчас. У нас тогда ещё не было полушубков. Я шла в стёганке, которую получила ещё на заводе. Мне было очень страшно идти. Я, кажется, всё время жалась то к Андрею Фёдоровичу, то к Васе Смирнову. А они меня отгоняли, заставляя идти посредине. Я шла и ничего не видела. Страшный ветер поднимал снег, и он больно колол лицо. Глаза у меня слипались. Трассы ещё не было. Машины не ходили. Мы шли по вешкам, установленным вдоль заметённой метелью тропинки. Мне казалось, что в мире нет ничего — ни огромного Ленинграда, ни немцев, а есть только мы трое, зажатые сплошными стенами снега… Наконец мы пришли на место. Там лежало несколько брошенных в кучу палаток. Мы выбрали одну. Палатка была промёрзшая, жёсткая и тяжёлая. Мы никак не могли её растянуть. Я помню, Андрей Фёдорович страшно ругал Смирнова, когда ветер вырывал у него из рук палатку. А меня он не ругал, хотя я работала куда хуже Смирнова. И мне было очень неловко перед ним.
Уже стемнело. Где-то трещал лёд. Мы мучительно долго возились с куском одеревеневшего брезента.
Тогда просто не верилось, что мы поставим эту проклятую палатку. Только когда стали вбивать в лёд колышки, я поняла, что палатка всё же существует. Помню, тогда мне стало стыдно. Я была уверена: мои спутники жалеют, что связались с женщиной. Вся тяжесть первой работы на льду легла на них. Я взяла топор из рук Смирнова и стала забивать колышки.
Была уже ночь, когда мы покончили с палаткой. Ветер утих. Снег улёгся, и стали видны звёзды. Они казались очень близкими и яркими, и тогда я увидела, что мы не одни в этой ледяной пустыне. Повсюду темнели на снегу палатки, и около них копошились люди. Мне показалось, что стало теплее. Я заметила, что у Андрея Фёдоровича борода совсем белая, а там, на берегу, когда мы получали назначение, она была чёрная. Я сказала ему:
— Вы как дед-мороз!
Потом мы вошли в палатку. Я очень устала, и они, конечно, устали. Мы все трое сели прямо на снег и прислонились к натянутому брезенту. Так мы сидели молча очень долго. Верхний квадрат палатки был откинут, и виднелись звёзды. И квадратик снега в нашей палатке искрился и казался не таким холодным.
Я сказала:
— Как снег красиво искрится.
Андрей Фёдорович поднял голову.
— Смирнов, пойдите закройте квадрат, — приказал он. — И так вентиляция достаточная.
Смирнов встал и вышел. Мне показалось, что он зло посмотрел на меня. Потом я услышала, как зашуршал брезент, и окошко в потолке исчезло.
В палатке стало темно. Во время работы мы сильно разогрелись, а теперь остыли, и у меня начали коченеть ноги; надо было снять валенки и растереть ступни. Но мне было трудно повернуться. Мне казалось, что для этого надо было бы затратить огромные усилия. Я могла бы просидеть так много часов. Мне очень хотелось есть. Кусочек хлеба согрел бы меня. Я закрыла глаза и стала воображать, что жую хлеб. Ощутила его мякоть на пальцах. Прикоснулась хлебом к губам…
И вдруг подумала: надо было остаться в Ленинграде. Там, в городе, хоть были люди, правда страшные, внешне непохожие на людей, но ведь и я сама, наверно, непохожа. Там была Ирина, был Иванов… И каждодневное ожидание письма оттуда, с Большой земли. А здесь — ничего. Лёд, а под ним вода. И до Ленинграда далеко, и до Большой земли далеко…
И мне представилось, что всё прошло, что это был сон, что сижу я в маленькой тёплой комнате, где можно снять с себя и этот ватник, и стёганые штаны, и валенки, и тряпки, намотанные на шею, — всё, всё, — и остаться в одной блузке. Топится печь, большая-большая, и около неё куча дров, и дрова можно кидать, не считая, а куча не уменьшается. И стол накрыт, а на нём много всего, а главное — чайной колбасы и булок; окно не замаскировано, и за ним освещённая улица. А я сижу у печки и знаю, что скоро придёт он, и мне очень хочется, чтобы он скорее пришёл, и вместе с тем хочется, чтобы он ещё подольше не приходил, до того приятно это ожидание…
Андрей Фёдорович потормошил меня за плечо и сказал, что сейчас спать нельзя, а то замёрзнешь… Странно, как запоминается всё это. Мне кажется, я помню каждый свой шаг, каждое услышанное слово с того часа, как я пришла на Ладогу…
Потом Андрей Фёдорович сказал:
— Давайте поедим чего-нибудь.
Наши продукты были в мешке, который нёс Смирнов. Я знала, что там было: два пшённых концентрата и штук восемь сухарей. Мы получали продукты все вместе. Это нам дали на сутки. Я слышала, как Смирнов возится с мешком, и мне хотелось крикнуть ему: «Скорее! Что вы там возитесь». Потом в мою ладонь ткнулось что-то жёсткое и шершавое.
— На сегодня — сухарь, — сказал Андрей Фёдорович. — Кашу не в чём варить.
Но я не слушала, что он говорит. Я с трудом отгрызла кусочек сухаря и стала его жевать.
Я жевала сухарь медленно-медленно и хотела только одного: чтобы меня никто не трогал и чтобы я всё время могла вот так сидеть и жевать.
Но этого не случилось. Кто-то закричал снаружи:
— Эй, медики! Медики! Куда вас занесло? — и выругался.
Секунду все мы молчали, хотя слышали крик. Потом Андрей Фёдорович встал, откинул полог палатки и закричал:
— Здесь медики!
И в ответ снова:
— Сюда давайте! Сюда! Чего копаетесь! Человек под лёд провалился.
Меня пронизало нестерпимым холодом. Показалось, что это я окунулась в чёрную, жуткую воду.
— Пошли! — сказал Андрей Фёдорович.
Я поднялась и упала. Смирнов помог мне встать.
— Надо идти! Ну, надо идти, — приговаривал он. — Вы держитесь, держитесь! Надо идти!
Мы вышли из палатки. Звёзды светили по-прежнему ярко, и я увидела невдалеке кучку людей.
Андрей Фёдорович шёл впереди, мы со Смирновым за ним. Когда мы подошли, люди расступились. Я увидела, что посредине лежал кто-то на брошенном в снег полушубке и от него шёл лёгкий пар. Рядом на снегу стоял фонарь «летучая мышь».
Андрей Фёдорович подошёл к лежащему человеку, опустился на колени и сказал:
— Давайте сюда, Лида. — Это он в первый раз назвал меня по имени, раньше он даже по фамилии меня не называл.
Я подошла. Человек на полушубке лежал неподвижно. Одежда его — гимнастёрка и брюки — была твёрдая и вся в морщинах и складках. Шапки на нём не было, и волосы стали белыми. Брови и ресницы тоже побелели. Шагах в пятидесяти я увидела на льду тёмное отверстие. Там бурлила вода.
— Смирнов, ножницы! — приказал Андрей Фёдорович.
Смирнов вытащил из санитарной сумки ножницы и сунул их мне.
— Режьте гимнастёрку! — скомандовал Андрей Фёдорович.
Я сбросила рукавицы. Металл больно обжёг мне руку. Я схватила полу гимнастёрки и попыталась разрезать её, но в окоченевших пальцах не было силы.
— Дайте сюда, — сказал Андрей Фёдорович и вырвал ножницы, содрав у меня с пальцев прилипшую к металлу кожу.
Мне хотелось плакать от боли и бессилия.
Андрей Фёдорович разрезал гимнастёрку тоже с трудом. Потом он разорвал фуфайку вместе с нижней рубашкой и, схватив пригоршню снега, стал растирать кожу.
— Наденьте рукавицы и растирайте грудь, — приказал мне Андрей Фёдорович.
Я схватила рукавицы и стала поспешно растирать грудь обмороженного.
— Не так, — тихо сказал Андрей Фёдорович. — Вас же учили, как надо растирать! Трите спокойно, снизу вверх, постепенно усиливая нажим. И не суетитесь, а то устанете. Водка есть у кого-нибудь? — спросил Андрей Фёдорович.
Но водки ни у кого не оказалось. Люди, окружающие нас, стояли молча и внимательно следили за моими движениями. Смирнов и Андрей Фёдорович растирали руки обмороженного, стараясь восстановить кровообращение. Но его кожа была по-прежнему белой.
Я не знала, что мне делать. Я растирала грудь обмороженного из последних сил. Мне казалось, что вот из-за того, что я плохо это делаю, из-за того, что у меня не хватает сил, этот человек сейчас умрёт. Потом я подумала, что, может быть, он уже умер и мы растираем труп. Время от времени я поглядывала в сторону, на полынью, в которой бурлила и дымилась чёрная вода. И на секунду мне становилось страшно от сознания, что всюду, куда бы я ни пошла, на многие километры подо мной будет такая же чёрная, бурлящая вода.
— В тепло его надо, — заметил кто-то из окружавших нас людей.
— Много ты понимаешь, — проворчал Смирнов, растиравший руки обмороженного.
— А куда в тепло? — отозвался кто-то. — К тебе за пазуху, что ли?
И снова все замолчали. Я чувствовала, что теряю последние силы. Я всматривалась в кожу человека, стараясь рассмотреть хоть лёгкие признаки покраснения, но кожа была по-прежнему белой. Тогда я шёпотом спросила Андрея Фёдоровича:
— А может быть, он уже… экзецировал?
Я сказала не «умер», а «экзецировал», потому что в госпитале, где я стажировалась, так всегда говорили при посторонних.
— Трите! — крикнул мне в ответ Андрей Фёдорович.
И я продолжала растирать. Я не помню, сколько времени это продолжалось: час, два или три. Только вдруг я заметила, как кожа под моими рукавицами краснеет. Я даже пригнулась вся к груди обмороженного, чтобы рассмотреть, так ли это. Кожа краснела.
— Андрей Фёдорович! — воскликнула я и подняла руки. — Смотрите, краснеет!
— Да трите же, чёрт побери! — ещё громче закричал Андрей Фёдорович.
Я почувствовала, что у меня прибавилось силы. Теперь я могла растирать ещё час, а может быть, и два. Сейчас, уже и не пригибаясь, можно было видеть, что кожа принимает розовую окраску. Постепенно стало розоветь и лицо обмороженного. Покрытые инеем ресницы, брови и волосы от этого стали казаться ещё белее.
И сразу люди, угрюмо молчавшие, оживились.
— Да он и в воде-то минуты две пробыл! — заметил кто-то. — Я как услышал — лёд-то «хрясь» и крик: «Ребята, тону!» — и сразу сюда…
— Когда ты сюда-то прибежал, — возразили ему, — он уж на льду лежал. Его уж вытащили давно.
И ещё кто-то добавил:
— Минуты две! Мало ему две минуты! Давай я тебя на полминуты в прорубь спущу. С часами буду стоять… как в аптеке…
— Два полушубка сюда! — крикнул Андрей Фёдорович.
На снег полетело несколько полушубков. Мы содрали с обмороженного остатки оледеневшей одежды и закутали его в полушубки.
— Теперь, — сказал Андрей Фёдорович, — в палатку его и как-нибудь согрейте воды. Его надо горячим поить.
Потом он обратился ко мне:
— Вы со Смирновым идите домой. Устраивайтесь там. Я побуду с больным.
— Я тоже, — вырвалось у меня.
— Ну, пожалуйста, без героизма, — возразил Андрей Фёдорович. — На ногах не стоите.
Я поднялась со снега и пошла вслед за Смирновым мимо расступившихся людей.
Так всё это было.
…Потом я мысленно перенеслась в свою палатку. И мне почему-то представилось, что стало там холодно и сиротливо. Андрей Фёдорович и Смирнов сидят у потухшей печки, в щели палатки дует холодный ветер со снежной пылью. И вдруг мне захотелось сделать то, что всегда страшно хотелось, когда приходилось ехать в поезде по бесконечной снежной равнине: выпрыгнуть из вагона и бежать в сторону от него, туда, где ничего не видно на горизонте, куда жутко идти, бросив тёплый, освещённый поезд, и всё же очень манит идти. Так и сейчас мне захотелось выпрыгнуть из машины и идти туда, в сторону наших палаток.
Вот бы удивились наши! «Здравствуйте, это я! Давайте затопим печку!» Что сказал бы Андрей Фёдорович! А всё же как жалко, что поспешный отъезд помешал мне сказать ему что-нибудь на прощание… А может быть, так лучше.
…Наша машина неслась вперёд, цепи позвякивали на колёсах. И вдруг меня охватило острое чувство радости от сознания, что я возвращаюсь в Ленинград. Я обрадовалась, что из этой снежной пустыни возвращаюсь в город, в родной город. Мне даже представилось, что вот сейчас я приеду домой, в тёплую комнату, сниму с себя все эти тряпки, штаны, валенки и буду долго-долго умываться тёплой водой, а на стуле уже лежит выглаженное платье, бельё, всё чистое… Но нет, не представилось мне это. Я только подумала об этом, а представилось другое: холодная тёмная комната и крохотное замёрзшее тельце девочки моей…
— Вот что, синьора, — прозвучал вдруг над моим ухом бас. — Так закоченеть можно. Встаньте-ка.
Я встала. А мой сосед вытащил из кучи брезента полог, закинул его на верх кабины и сказал:
— Ну, теперь садитесь.
Я села, и он накрыл нас обоих брезентом. Мы оказались в темноте, но зато были защищены от ветра.
— Мы с вами, собственно, не знакомы, — пробасил мой сосед. — Моя фамилия Ольшанский, корреспондент центральных газет, Совинформбюро и радио. Рукавицу не сниму, холодно. Вы, насколько я помню, медсестра? Или, может быть, врач?
— Медсестра, — ответила я.
— Очень хорошо! — сказал Ольшанский. — Ленинградка?
— Да.
— А скажите, у вас есть семья в городе?
— Послушайте, зачем вам это? — спросила я.
Мне стало не по себе: он заговорил о семье именно в тот момент, когда я подумала о дочке.
— Не обижайтесь, — сказал Ольшанский, и мне показалось, что голос его стал мягче. — Видите ли, все мы работаем. Я должен написать очерк о Ладоге. Бой над трассой у меня есть. Это раз. Но мне ещё надо людей Ладоги. Понимаете: типичных людей. А иначе никто не напечатает. Так что вы не обижайтесь. Вот мы доедем до госпиталя, и я запишу что-нибудь о вас. А то сейчас карандаш держать нельзя… А коллега мой, наверно, мировой материал соберёт! Он к вам в санчасть пошёл. Значит, вы не встретились?
— Нет, — сказала я. Потом у меня вырвалось помимо воли: — Я тоже знала одного журналиста.
— Из Москвы? — деловито осведомился Ольшанский.
— Да. Савин.
— Серь-ё-зно? — невозмутимо протянул Ольшанский. — Так ведь если бы вы подождали в вашей санчасти ещё с полчаса, то встретили бы его собственной персоной!
Первое мгновение я молчала точно пришибленная. Он произнёс эти слова таким безразличным, таким обыденным тоном, что всё их огромное значение не сразу дошло до меня. Потом я откинула брезент и бросилась к борту машины.
— Да постойте! — крикнул Ольшанский и ухватил меня за полу ватника. — Куда вы? Что случилось?
Тут только я сообразила, что ничего не могу сделать. Из-за раненого лётчика я не могла ни оставить машину, ни повернуть её обратно. Острый ветер хлестал меня по лицу. Ольшанский всё ещё держал полу моего ватника.
— Что случилось? — повторил он.
— Ничего, — сказала я и снова села на брезент.
Мне не хотелось ничего рассказывать этому человеку. А то он ещё и это использует как «материал». Но, помолчав несколько минут, я поняла, что всё равно должна буду заговорить. У меня на языке были десятки вопросов, и только он, этот сидящий рядом со мной человек, мог на них ответить.
Я спросила:
— И давно он здесь?
— Коллега? — повернулся ко мне Ольшанский. — Да, по-моему, с месяц. Или даже больше. Я сам приехал недавно.
Месяц! Месяц или даже больше… Я старалась не смотреть на Ольшанского, мне казалось, будто всё, что я думаю сейчас, отражается на моём лице. Месяц! Месяц! И до сих пор не отыскал меня! Но тут же подумала, что не так-то легко меня отыскать. Нарвская, завод, Ладога… Потом подумала: не ко мне ли он пошёл туда, в палатку? Я не знала, как спросить об этом Ольшанского. Сказала:
— А зачем он пошёл туда, к нам?
Мне хотелось, чтобы ответ прозвучал не сразу. Но Ольшанский спокойно ответил:
— Ну, ясно зачем! За материалом. И чтобы насчеёт лётчика сказать.
У меня кружилась голова. Человек, мыслями о котором я жила всё это время, которого я считала то погибшим, то воскресшим, — здесь, в нескольких десятках километров от меня, и с каждой минутой я удаляюсь от него!
Мне хотелось расспросить Ольшанского: не слышал ли он от Саши чего-нибудь обо мне, искал ли он меня, долго ли здесь пробудет? Но вместо этого я спросила:
— Ну, как он выглядит?
Я произнесла эти слова деланно равнодушным тоном. И Ольшанский отвечал на вопросы как-то нехотя, точно не желая отвечать или не чувствуя, как я ловлю каждое его слово.
Он ответил:
— Как выглядит? Да обычно, по-моему. Я, правда, давно не видел его до этой встречи и не могу сравнивать… А скажите, есть у вас среди медиков настоящие герои? Вы понимаете, что мне нужно? Чтобы можно было сделать корреспонденцию «Люди ледовой трассы». Может быть, кто-нибудь из ленинградских врачей или студентов?
Я ничего не ответила. Думала: «Что мне делать?» Сначала я решила, что, как только сдам лётчика в госпиталь, вернусь обратно. Возвращаться придётся на попутной машине, — эта должна задержаться в Ленинграде на сутки. Но потом я сообразила, что если даже и попаду на попутную машину, то доберусь до санчасти только к утру. Я могу не застать его, даже наверное не застану, и мы опять потеряем друг друга.
— А вот скажите, — не унимался Ольшанский, — не знаете ли вы случая, когда кто-нибудь, ну из шофёров, скажем, вёз груз в Ленинград и с ним что-нибудь случилось? Не с грузом, а с шофёром. Ну, обморозился или осколком ранило. Его, допустим, привезли к вам в санчасть, а он хочет ехать дальше, потому что везёт продовольствие для Ленинграда. Или что-нибудь похожее. Не вспомните?
Я решилась.
— Товарищ Ольшанский, — сказала я. — Я вспомню десятки таких случаев. Их очень много было на Ладоге. Но сейчас у меня к вам просьба, большая просьба: помогите мне отыскать вашего товарища. Нам очень нужно встретиться. Ведь вы знаете, где он остановился, куда он вернётся с Ладоги.
Ольшанский повернул ко мне лицо. Бросился в глаза с горбинкой нос и длинный подбородок. Он сказал:
— Романтическая история? А?
Я ответила как можно спокойнее:
— Мы очень давно знакомы. Уже много лет. А во время блокады потеряли друг друга. Скажите, где он сейчас живёт?
— Где он живёт? — переспросил Ольшанский.
Его голос прозвучал неуверенно. И вдруг я подумала, что это он не случайно мучает меня. Не случайно делает вид, что пропускает мимо ушей все мои вопросы. Наверно, к этому есть причины… Мне захотелось заплакать.
А Ольшанский вдруг сказал:
— Конечно, я знаю, где он живёт. В «Астории». Знаете такой отель?
Я почувствовала, что моё сердце забилось спокойнее.
— В «Астории»? — переспросила я. — Конечно, знаю. Но разве там живут сейчас?
— Только избранные, — иронически ответил Ольшанский.
— И он вернётся с Ладоги туда?
— Куда же ему ещё возвращаться? — сказал Ольшанский.
У меня уже созрел план: сейчас я сдам своего лётчика в госпиталь и поеду прямо в «Асторию». Его, конечно, ещё там нет, но я подожду. Всякая мысль о том, что мы снова можем разминуться, пугала меня.
Стало совсем темно. Мы ехали, наверно, часа два. Вдали уже виднелись огоньки. Они всегда были видны, несмотря на маскировку. Это был берег, начало трассы, там днём и ночью царило оживление.
Подъезжая к контрольно-пропускному пункту, Семён затормозил, но регулировщик, подняв фонарь и увидев красный крест на переднем стекле нашей машины, махнул жёлтым флажком. Шлагбаум медленно поднялся, и мы двинулись дальше.
Мы приближались к городу. Два месяца тому назад я уехала из Ленинграда, когда он стал неузнаваемым, тёмным и страшным. По рассказам шофёров я знала, что там и сейчас по-прежнему страшно и голодно. Но мне почему-то казалось, что я возвращаюсь в другой Ленинград, в такой, каким знала его всю жизнь.
«Я увижу Сашу! Я увижу Сашу!» — пело всё во мне…
Госпиталь помещался в большом сером здании на окраине города. Мы проехали по захламлённому двору и остановились у подъезда.
Я выпрыгнула из машины. Вдвоём с Ольшанским мы помогли лётчику вылезть из кабины. Сейчас он мне показался ещё грузнее, чем тогда, на льду. Он тяжело дышал.
— Как нога? — спросила я. — Болит?
— Нет, — ответил он.
Мы вошли в сортировочную. В большой холодной комнате горела коптилка. За столом сидела женщина в белом халате. При нашем появлении она встала, усадила лётчика на скамью у стены и вместе со мной снова подошла к столу.
Пока я заполняла карточку на раненого, пришли санитары с носилками и унесли его. Я списала с удостоверения лётчика его имя, отчество и фамилию. Звали его Пётр Григорьевич Антонов. Ему было двадцать три года. Я попросила Ольшанского рассказать об обстоятельствах ранения и кто сделал перевязку. Когда Ольшанский назвал фамилию Саши и я записала её на карточку, мне стало вдруг так хорошо, как давно уже не было.
— Вы, видимо, прямо с Ладоги? Ну, как там? — спросила регистраторша в белом халате. — Идёт хлеб?
Я заметила, что она с трудом выговаривает слова и что на лице её проступило много кровяных жилок.
— Идёт, — ответила я, — много хлеба идёт.
— Мы сейчас двести граммов получаем, — как-то задумчиво произнесла женщина.
— Хлеб будет, — повторила я. — Машины прямо одна за другой идут. Днём и ночью.
— Это хорошо, — так же задумчиво произнесла женщина.
Наконец я заполнила все графы карточки.
— Ну вот, — сказала я, — всё в порядке. До свидания! — Я положила на стол удостоверение лётчика. — Всего вам хорошего!
— Значит, хлеб идёт? — спросила женщина, будто она не слышала всего того, что я ей сказала.
— Да, — повторила я, — днём и ночью.
Я уже пошла к двери, но в эту минуту в комнату вошёл санитар.
— Какая тут барышня лётчика привезла? — спросил он. — Раненый её к себе требует. Говорит, чтобы обязательно к нему зашла.
Задержка! А я так мечтала поскорее добраться до «Астории». Но отказаться было нельзя.
Санитар помог мне надеть халат. Мы прошли по длинному тёмному коридору. Я заметила, что санитар шёл медленно и нетвёрдо.
Мне странно было находиться в здании, в каменных стенах. За два месяца я привыкла к палатке и бескрайним снегам. Я вспомнила, что ушла, не попрощавшись с моим спутником — корреспондентом. Всё-таки я должна ему быть благодарна. Сам того не сознавая, он принёс мне огромную радость.
В большой, едва освещённой комнате стояло много кроватей. Здесь было чуть теплее, чем в коридоре. Мой лётчик лежал у стены, недалеко от входа. Я сразу заметила его, как вошла. Он лежал под двумя байковыми одеялами, большой и грузный. Казалось, что кровать ему мала. За время блокады я отвыкла от таких больших и грузных людей.
Я постаралась подавить в себе досаду, не показать, что спешу, и спросила раненого как можно приветливее:
— Ну, как дела, Антонов?
Он повернул ко мне голову. У него было бледное лицо и крупинки пота выступали на лбу. Должно быть, ему было очень больно при зондировании и перевязке.
Лётчик попросил:
— Вы сядьте.
Он сказал только два слова, но меня поразил его тон. В нём не было ничего от того раздражения и грубости, которые меня так обозлили на льду. Лётчик произнёс эти слова тихо и мягко, почти умоляюще. Я уже привыкла к тому, что человек, попадая в обстановку госпиталя, часто меняется до неузнаваемости, и всё же меня поразил его тон.
Я села на кровать. Лётчик вытащил из-под одеяла руку. Рукав больничной пижамы едва доходил ему до локтя.
— Ну вот, лежу, — усмехнулся он. — В инвалиды записался.
Я ответила:
— Ну вот ещё, в инвалиды! Вы, Антонов, счастливо отделались. С ногой всё будет в порядке, я спрашивала. А что больно — так вы потерпите. Это только сначала больно.
Лётчик поморщился:
— Да нет, я не про то…
Мы оба замолчали. Я не знала, что говорить, но чувствовала, что нельзя просто подняться, попрощаться и уйти.
— Я вот вас зачем позвал, — сказал он, не глядя на меня. — Вы не обижайтесь, если я там, на Ладоге, что не так сказал. Ну, словом, не обижайтесь.
— Что вы, Антонов, какие там обиды! Да и не на что обижаться… Все больные одинаковы, — вырвалось у меня помимо воли. — Я же понимаю: и больно, и всё прочее. Но всё это пройдёт, и вы скоро забудете, как это было.
— Забуду? — крикнул вдруг лётчик. Я даже вздрогнула. — Вот вы послушайте. — Он взял меня за руку. — Я ведь только полгода назад лётную школу окончил. Дождаться не мог, когда окончу. На выпуске выпили, друг мой один тост предложил: «За будущего Героя Советского Союза Петьку Антонова». Я тоже здорово тогда выпил и сказал: «Буду». И не в водке тут дело было. Я давно ещё твёрдо решил: буду. Вы понимаете, — он стал говорить тише, — гордый я, понимаете? Всё смогу, думаю. В часть пришёл и прежде всего смотрю: кто здесь самый лучший? Увидел — думаю: «Ладно, переплюну тебя». Летать стал над Ладогой, «дугласов» сопровождать. Трёх «мессеров» шибанул. Почёт! А тут подбили. Понимаете, подбили! И ранение-то пустяковое, ведь живу, говорю! Если бы сгорел или в лёд резанулся — стыда бы хоть не чувствовал. Не в ногу, в сердце моё попал немец проклятый!
Он сжал мою руку в своей так, что мне стало больно. Я сказала:
— Но ведь вы честно дрались, Антонов, к тому ж их трое было.
— К чёрту! — вдруг крикнул он. — Знаю, что трое. И «дуглас» до места довёл — тоже знаю. И удрать от них мог — тоже знаю! Но… не могу я удирать. Гордость не позволяет. Ничто меня не брало: ни немцы, ни блокада. Восемьдесят кило вешу! — Он отвернулся и сказал, не глядя на меня: — От этого я и на вас окрысился. От обиды. Вы меня тащите, а во мне всё кипит. Злость на вас сорвал. А теперь стыдно. Вы простите.
Нет, я не могла его так оставить. Я видела, как он волнуется. И тогда я сказала… Почему, как сорвались у меня с языка эти слова — не знаю. Но я сказала:
— У меня сегодня большая радость, Антонов.
Эти слова вырвались у меня помимо моей воли, но, сказав их, я сообразила, что бестактно говорить о радости после того, что сказал лётчик. Да и какое ему дело до моей радости?
Но в ответ на мои слова лётчик повернул ко мне лицо и снова положил свою руку на мою.
— Радость? — как-то удивлённо и недоверчиво переспросил он. — Какая же радость?
И вдруг я начала ему рассказывать обо всём том, что произошло за последние часы. Слова, которые я никак не могла произнести перед тем корреспондентом, хотя это было необходимо, я произнесла теперь без всякого усилия. Я говорила, говорила и даже ни разу не задумалась о том, какое впечатление это производит на раненого и слушает ли он меня. Только окончив свой рассказ, я заглянула лётчику в глаза и увидела, что он смотрит на меня пристально, не мигая. Мне показалось, что лицо его прояснилось.
— Здорово! — сказал лётчик и улыбнулся. В первый раз увидела его улыбающимся. — Здорово! Значит, сегодня и встретитесь?
Я ответила, что сейчас пойду в «Асторию» и буду его ждать.
— Зря вы там, у самолёта, мне не сказали, — произнёс он. — Мы бы на машине в вашу санчасть газанули — и всё в порядке.
— Ну вот ещё, — возразила я, — первое дело — доставить раненого.
— Раненый, раненый… — проворчал он, поморщась. — Знаете что: вы заходите меня навестить. С этим самым Сашей. Ладно? Только точно! Вы меня не обманывайте, а то я парень злой! — Он смешно, по-детски нахмурил лоб, у переносицы появились две едва заметные складочки. Потом он закрыл глаза и сказал тихо: — А то меня и навещать-то некому.
Я сказала, что обязательно зайдём, и тихонько высвободила свою руку из его большой руки.
— Ну, поправляйтесь, Антонов. Скоро опять полетите.
Он кивнул головой и не сказал больше ни слова. Я уже подходила к двери, когда он окликнул меня.
— А знаете что? — сказал он, широко улыбаясь. — А ведь это я вам счастье принёс! Честное слово! Если бы не я, не встретить бы вам этого корреспондента, и всё бы разладилось. Это из-за меня! Во здорово! — И он громко рассмеялся.
К нам подошла сестра.
— Тише, тише, — проговорила она, — вы всех больных перебудите.
Я вышла из палаты. У меня было очень легко и хорошо на душе. Мне даже хотелось петь. Мне казалось, что теперь всё будет так хорошо, как давно уже не было. Улыбка Антонова стояла перед моими глазами. Я шла по коридору и напевала песенку: «Всё будет хорошо, всё будет хорошо, всё, всё будет в жизни хорошо!» Я пела, не слыша собственного голоса, а когда услышала, то замолчала. Потом я вспомнила об Ольшанском. Он, должно быть, заждался меня. И Сеня мой, наверно, уже заледенел.
Я вошла в сортировочную. Женщина в белом халате дремала, положив руки на стол и опустив на них голову. Я заметила, что на руках её не было перчаток; руки были замотаны в какие-то тряпки. Ольшанского в комнате не было.
Когда я прикрыла за собой дверь, женщина вздрогнула и подняла голову.
— А где товарищ, который меня тут ждал? — спросила я.
Женщина посмотрела на меня, точно не узнавая и не понимая моего вопроса.
— Вот тут сидел военный в полушубке. Где он?
— А-а, военный, — догадалась женщина. — Не знаю. Ушёл, наверно. Я задремала, а он и ушёл. — Потом она пристально посмотрела на меня и тихо спросила: — Значит, хлеб везут?
— Везут, везут. Днём и ночью везут.
На лице женщины появилось какое-то подобие улыбки. Я подошла к ней и похлопала её по замотанной в тряпки руке.
— Держитесь, — сказала я ей на прощание. — Скоро будет много хлеба…
Стояла морозная, светлая ночь. Звёзды казались очень низкими. У машины никого не было. Я подошла и открыла дверцу кабины. Семён спал, согнувшись на сиденье в три погибели. Я разбудила его.
— Поехали, Сеня! А где же наш попутчик? — спросила я.
— А он тут всё танцевал у машины, замёрз, — ответил Семён. — А потом вскочил на попутную и уехал.
Он повернул ключик.
— Куда вас теперь?
— Подбрось меня к Исаакию.
— Молиться, что ли? — улыбнулся Семён, нажимая стартер.
Машина тронулась.
Мы ехали по заваленной снегом улице. Сугробы доходили почти до первых этажей. Было совершенно тихо; только цепи на колёсах нашей машины позвякивали: звяк, звяк, звяк… И казалось, что только одна машина едет сейчас по тихому Ленинграду и на всех его улицах и во всех домах слышен этот звук: звяк, звяк, звяк.
Я жадно смотрела в оконце кабины, стараясь заметить перемены, происшедшие за два месяца моего отсутствия. Но всё казалось таким же, только снегу было гораздо больше, чем тогда, в конце декабря.
Я стала мысленно считать и пересчитывать улицы, оставшиеся до Исаакиевской площади, где помещалась «Астория». Наверно, Саша уже вернулся: ведь я пробыла в госпитале не меньше часа. Неужели он будет задерживаться на Ладоге, зная, что я в городе?
Вдруг я почувствовала боль в пальце. Я сняла варежку и увидала кровь. Должно быть, содрала где-нибудь. Я слизнула кровь и посмотрела на свои руки: они стали красными и шершавыми. Как-то до сих пор я не замечала этого. Потом я посмотрела на свою стёганку, на толстые, заправленные в валенки штаны, и мне стало неприятно, что он увидит меня такой. Мне пришло в голову, что надо поехать сейчас на завод к Ирине: там остались кое-какие из моих платьев. Надо вымыться и переодеться. Я посмотрела в зеркальце, прикреплённое над верхним стеклом кабины. В полумраке я увидела обветренное, осунувшееся лицо, потрескавшиеся губы. Я провела по губам языком. Как страшно я выгляжу! А ведь он был человеком с Большой земли!..
Я уже хотела сказать Семёну, чтобы он повернул, но тут же сообразила, что придётся ехать на другой конец города, а Семёну надо быстрее взять медикаменты и возвращаться. Мы израсходовали там, на Ладоге, все медикаменты. Случись что-нибудь — трудно будет оказать даже первую помощь.
Внезапно Семён спросил:
— Значит, уезжаете от нас?
Я сначала даже не поняла, о чём он спрашивает, — так далеко были мои мысли. Потом ответила:
— Да, совсем.
— Не понравилось, значит, на Ладоге? — продолжал Семён, и мне послышалась в его голосе ирония, которой я никогда у него не замечала. — Конечно, не курорт.
— Я тоже не на курорт еду, — ответила я.
— Ну, а если не на курорт, так и на Ладоге жить можно, — сказал Семён, резко дёргая рычаг передач.
Я посмотрела на Семёна. Его молодое обветренное лицо выглядело сосредоточенным. Губы были сжаты. Мне показалось, что он говорит со мной, не разжимая губ.
В эту минуту откуда-то донёсся глухой удар, потом свист, и я услышала разрыв снаряда где-то неподалёку. Семён нахмурился.
— И тут палят, — сказал он. — Везде фронт. Едем, едем — и всё фронт.
Некоторое время мы ехали молча.
— Куда же вы теперь-то? — спросил Семён; он вдруг стал говорить со мной на «вы».
— Куда пошлют, — ответила я. — Я послала рапорт в санупр. Просила перевести в действующую часть. Теперь вот вызвали.
— Так, значит, в действующую, — сказал Семён. — А мы на Ладоге, выходит, бездействующие.
Его слова вызвали во мне раздражение. Я вскипела. Ненавижу, когда со мной говорят таким тоном, с «подковыркой»!
— Ты, Семён, не дури. Я не меньше твоего работала на Ладоге. А если ухожу сейчас, — значит, считаю нужным. Отчитываться перед тобой не буду.
Семён повернул голову и как-то испуганно взглянул на меня. Он ничего не ответил и только посигналил зачем-то, хотя на дороге никого не было. Мне стало не по себе. Зачем я так сказала ему! Он был хороший, весёлый парень. Ему приходилось иногда по суткам не выходить из кабины. Он был у нас за шофёра, за санитара, за посыльного. Я никогда не слышала от него ни одной жалобы. Ко мне он всегда хорошо относился.
И я сказала:
— Не будем, Сеня, ссориться напоследок. Может быть, ещё встретимся в жизни. Ну, не будем?
— Что нам ссориться-то… — тихо ответил Семён. Он помолчал и добавил: — Жалко, что уходите. Улыбнётесь, бывало, иногда, и то приятно. Когда женщина рядом, душа оттаивает. Подтягиваешься… Светлее кругом… чище… А то снег да холод… Думаете, легко?
И тогда я почувствовала себя виноватой перед Семёном и перед теми, кого я оставила там, в палатке.
Только сейчас я отчётливо представила себе, что заменяла им родных и близких, оставшихся далеко, и что в моём уходе была какая-то доля эгоизма.
Я сказала:
— Ну, ничего, Сеня, ничего. Мне тоже не легко. Ведь всё равно — не век же нам было жить на Ладоге? Скоро настанет весна и лёд растает.
Семён покачал головой и произнёс как бы про себя:
— Да… лёд растает…
До «Астории» оставалось не больше пятнадцати минут езды.
— А знаете, как я думаю? — сказал Семён, и в голосе его не было уже прежней иронии. — Вот пройдёт время, и люди, которые Ленинград вместе обороняли, разойдутся в разные стороны. А всё-таки, как друг друга встретят да узнают, что оба ленинградские, — лучше братьев друг другу будут. Вот я читал, общества такие были. Встретятся двое — чужие друг другу люди. А как один знак условный даст, а другой ему ответит — и поймут они, что одного духа, так один за другого всё отдаст. Вот я и думаю, что с нами должно так быть. А? Вы как об этом скажете?
В его словах была проникновенность, и говорил он несвойственным ему мягким, взволнованным голосом. И потому ли, что он высказал заветное, неосознанно жившее в моей душе, или потому, что сказано это было в минуты расставания, я всем существом своим почувствовала правоту его слов и с гордостью подумала: «Я тоже член ленинградской семьи».
— Я думаю, что так и будет, Сеня, — подтвердила я.
— И замуж наши девушки должны выходить только за ленинградцев, — убеждённо продолжал Сеня, — иначе как же жить-то они будут? Сплошное недопонимание!
Я рассмеялась и сказала, что это уже он переборщил, везде есть хорошие люди.
— Нет, — упрямо вскинул голову Семён, — то просто хорошие, а не ленинградские. Разница!
Мы выехали на Исаакиевскую площадь. У меня сердце замерло, когда я увидела Исаакий. На белом снегу он казался резким и отчётливым, и от света звёзд колонны его сверкали тысячами искорок.
— Ну, теперь куда? — спросил Семён.
Я показала на серое здание «Астории». Мы объехали площадь и остановились у забитого досками подъезда гостиницы. Я вылезла из кабины, за мной вышел и Семён.
— Значит, слезай — приехали? — спросил он.
— Да, Сеня, — ответила я, — будем прощаться.
— Ну что ж…
Семён полез в кузов. Он вытащил оттуда мой мешок и чемоданчик, спрыгнул и снял рукавицы.
— Бывай здорова. — Он протянул мне руку.
Я крепко пожала её.
— Может, ещё встретимся! — крикнул на прощание Семён.
Затарахтел мотор, и машина, проехав по площади, свернула на улицу Гоголя. Я осталась одна.
И вдруг мне стало очень страшно. В первый раз за последние месяцы я оказалась одна. Около меня не было ни Ирины, ни девушек, ни Смирнова, ни Андрея Фёдоровича, ни Сени. Я привыкла к ним, мы всегда были вместе, на всё смотрели одними глазами и понимали друг друга с полуслова. А сейчас я должна была встретиться с человеком, который так много значил для меня и которого не видела так долго. Я не понимала, что делается со мной, но у меня не хватало сил толкнуть дверь в забитом досками подъезде, мне надо было собраться с силами, прийти в себя. Ведь мы так давно не виделись. Семь месяцев… не так уж много. Мне почему-то казалось, что мы не виделись годы. Я сказала себе: «Надо идти», взяла чемодан, мешок и толкнула дверь. В вестибюле было темно и сыро, будто в подземелье. Как тепло и светло было здесь когда-то! И неужели вот здесь, по этому полу, в эту дверь столько раз входили мы с ним?
Я осмотрелась. Нигде не было ни капельки света, ни фонаря, ни коптилки. И тихо, как в склепе. Неужели здесь ещё бывают люди? Я кашлянула. Мой кашель гулко отозвался где-то наверху. Потом опять стало тихо. Я шла вперёд почти ощупью, волоча за собой чемодан и мешок. У меня не было ни фонарика, ни спичек. Куда же мне идти?
Я крикнула:
— Есть тут кто-нибудь?
«Нибудь…» — отозвалось эхо.
Я шла вперёд, пока не увидела вдали узкую, едва заметную полоску света. На душе сразу стало спокойней. Подумала: «Ну вот, теперь всё будет хорошо», — и пошла на свет.
Передо мной была дверь. Я толкнула её. В маленькой каморке под лестницей стояли табуретки и кровать. На табуретке горела коптилка. На кровати спала женщина. Она лежала на спине, и рот её был открыт. Она дышала так неслышно, что казалось, совсем не дышала.
Я постучала в открытую уже дверь. Женщина приподняла веки, но не двигалась.
— Простите, мне надо увидеть здесь одного человека. Он военный. Корреспондент. Живёт у вас.
Женщина медленно поднялась с постели.
— На втором этаже живут у нас военные, — не скоро произнесла она. — Какой он из себя-то?
Я не сразу ответила. Мне было бы трудно описать его сейчас. Назвала фамилию.
— Не знаю я их по фамилиям-то, — ответила женщина. — А из администрации нет сейчас никого. Может, утром придёте?
— Нет, утром прийти не могу.
— Что же делать-то?
Я чувствовала, что эта женщина права. Если никого из администрации нет, то не обходить же ей все номера, да ещё в темноте… Мне не приходило в голову, что на моём пути могут встретиться подобные препятствия.
— Когда приходит администратор? — спросила я.
— Не раньше десяти.
— Буду ждать, — решила я. — Вы спите. Ложитесь и спите, а я буду ждать.
Подвинула чемодан в угол каморки и села на него.
— Так всю ночь и просидите? — удивилась женщина.
— Просижу. Теперь уж до утра недолго.
Женщина ничего не ответила, снова легла на спину и закрыла глаза. Меня охватила вдруг нестерпимая грусть. Я почувствовала, как болят у меня руки и начинают мёрзнуть ноги, показалась сама себе больной, старой… Мне захотелось сделаться очень маленькой, ребёнком, и ни за что не отвечать. Хорошо бы пришёл кто-нибудь сильный и снял все заботы с моих плеч. Потом захотелось иметь заботы, но не такие, как сейчас, а простые, разрешимые и приятные — заботы о любимом человеке, о доме. В первый раз за эти месяцы мне захотелось снова чертить, корпеть над калькой и ощущать в руках тонко очинённый карандаш. Сколько мне лет? Двадцать шесть или двадцать семь? Нет, мне двадцать шесть. Я родилась 20 мая 1916 года, мне двадцать шесть… А девочке моей было бы сейчас четыре года. Она лопотала бы теперь без умолку. Пожалуй, никогда уж я не найду её могилку. Её засыпало снегом, а весной могила сровняется с землёй. Как страшно жить!
Мне показалось, что я плачу. Я провела рукой по глазам. Они были совершенно сухие. «И плакать-то разучилась», — подумала я…
Ноги мои озябли; в комнате, казалось, было холоднее, чем на улице. Потом мне захотелось есть. Я долго развязывала мешок закоченевшими пальцами и вытащила сухарь. Сухарь был большой, замёрзший. Я с трудом отломила кусочек. Жевать было трудно, болели дёсны. «Ещё цинга начнётся», — подумалось. Я потрогала зубы, и мне показалось, что они слегка шатаются. Но это только казалось, зубы были пока крепкими, — я с радостью почувствовала это. Потом я посмотрела на женщину и увидела, что она не спит, а глядит на меня, повернув голову. Я спросила:
— Хотите сухарь?
Женщина вздрогнула и поднялась.
— Спасибо вам… — Она протянула руку.
Я отломила кусочек сухаря и дала ей. Женщина стала жевать сухарь, держа руку у рта, чтобы не ронять крошек.
«Почему мне так грустно? — подумала я. — Ведь всё хорошо, и скоро я увижу Сашу. Ещё вчера я и мечтать об этом не могла. А теперь пройдёт час-два, и я буду с ним. Чувствует ли он там, наверху, что я здесь, жду его? Боже мой, сколько мне ещё ждать?»
Я встала и вышла из каморки.
— Куда вы? — спросила женщина.
— Сейчас приду, — ответила я и стала ощупью пробираться по вестибюлю к выходу.
Я хотела посмотреть, скоро ли рассвет. С трудом нашла дверь. Вышла на улицу. Ещё не светало, но по тому, каким серым стал снег, и по тому, что погасли искорки на колоннах Исаакия, я поняла, что до утра недолго.
— Скоро утро? — спросила женщина, когда я вернулась.
— Да, скоро, — ответила я, снова садясь на чемодан.
Женщина доела сухарь, но не ложилась, а сидела на постели и смотрела на меня.
— Может, ляжете, отдохнёте? — предложила она.
— Нет, спасибо, — отказалась я. Мне в самом деле совершенно не хотелось спать.
— Кто ж он вам будет? — спросила вдруг женщина. — Муж или так, по военному делу?
Мне почему-то не хотелось отвечать до того, пока я не увижу Сашу. Я не знала почему. Я сказала:
— Надо его видеть.
Женщина кивнула головой:
— Так, так…
Мы долго сидели молча. Потом я снова вышла на улицу. Уже светало. Площадь была по-прежнему пустынна. По небу медленно ползли, постепенно снижаясь, аэростаты воздушного заграждения. Я вернулась в «Асторию». Посидела и решила, что пойду в санупр, узнаю, куда меня назначают.
Размеренно стучал метроном. У ворот огромного здания штаба стоял часовой в тулупе. Я прошла в бюро пропусков и позвонила дежурному насчёт пропуска.
На моё приветствие дежурный кивнул головой, покопался в бумагах и протянул мне листок. Оказывается, назначение для меня уже готово. Я направлялась в Н-скую армию для использования в одном из санбатов. Только начальник ещё не подписал необходимых бумаг.
— Зайдите завтра, — сказал дежурный.
Я снова козырнула и пошла к выходу.
В вестибюле «Астории» стало светлее. Когда я проходила мимо лестницы, ведущей наверх, мне показалось, что сверху кто-то спускается. Я остановилась. Это был корреспондент Ольшанский, мой спутник. Я обрадовалась.
— Это вы? — крикнула я ему навстречу.
— А это вы? — прогудел он в ответ. — Приехали всё-таки? Вот настойчивая женщина!
— Я здесь уже часа три, — сказала я.
— Да ну? — удивился корреспондент. — А мой коллега ещё не вернулся?
— Нет… не знаю, — ответила я, — ведь я же не знаю, где он живёт, а ночью никого не было.
— И вы всю ночь просидели? Ну, знаете ли…
Трудно было понять, осуждает он меня или просто удивляется.
— Пойдёмте, — предложил Ольшанский, — я вам покажу, где он живёт.
Я сбегала в каморку и взяла вещи. Потом мы поднялись на третий этаж, прошли по тёмному длинному коридору и остановились в нише, в глубине которой была дверь. Корреспондент постучал.
Я стояла, прислонившись к стене. Моё сердце так билось, что казалось, было слышно даже рядом. В ушах звенело. Я не знала ещё, что скажу, когда увижу его.
Но за дверью было тихо. Корреспондент постучал сильнее. Дверь не открывалась.
— Может быть, он спит или ещё не вернулся, — предположил Ольшанский. — Сейчас мы проверим, в чём дело. Тут все ключи подходят. — С этими словами он вытащил из кармана огромный ключ и стал отпирать дверь.
Глухо щёлкнул замок, и дверь открылась. Мы вошли в комнату. Я увидела пустую кровать, письменный стол и диван. В комнате никого не было.
— Ну, значит, не вернулся. — И Ольшанский выжидающе посмотрел на меня.
— Вот что, — решительно заявила я, — мне придётся его подождать здесь. — Я поставила чемодан у стола. — Посижу здесь. Должен же он прийти в конце концов!
Корреспондент переминался с ноги на ногу, держа в руке свой огромный ключ.
— Видите ли… — начал он.
— Я вас понимаю, — прервала его я, — но… мне всё же придётся его подождать. Вы не беспокойтесь, он не будет к вам в претензии.
— Ну… хорошо, — нерешительно согласился корреспондент. — Тогда я пойду. — Он пошёл к выходу. — В крайнем случае, — сказал он с порога, — вы ведь можете сказать, что вам открыл дверь кто-нибудь другой.
Мне стало смешно.
— Конечно, могу. Скажу, что сама открыла. Шпилькой. Или ногтем.
Он посмотрел на меня, покачал головой и вышел, притворив за собой дверь.
Я подошла к окну. Оно выходило прямо на Исаакий.
Я подумала о том, как часто мы сидели с Сашей вот на таком же подоконнике и смотрели на Исаакий. Когда это было в последний раз? Я не сразу вспомнила. Мысли мои путались, и одно событие набегало на другое. Это было летом тридцать девятого года. В следующий раз он приезжал прошлой зимой, и мы жили за Нарвской… Летом мы уже не виделись.
Серый туман окутывал Ленинград. Через площадь шёл человек. Он передвигался медленно и тащил за собой санки.
Я подумала об Ирине. Как-то она там? Надо завтра же поехать к ней. Потом я вспомнила, что завтра вечером должна уже быть в армии. Предписание будет оформлено утром. Как это ужасно, что осталось так мало времени, чтобы побыть вдвоём…
На столе стояла чернильница, чернила в ней замёрзли.
«Как он живёт в таком холоде? — подумала я. — Надо будет оставить ему стёганку. Ведь в армии я, наверно, получу полушубок. А стёганка хорошо греет, я её получила ещё на заводе».
Который теперь час? У меня не было часов. Они давно испортились. Сейчас в Ленинграде нельзя починить часы. А без них плохо… Я стала ходить по комнате. Потом села на диван и только тогда почувствовала, что очень хочу спать.
«Нельзя спать», — говорила я себе, хотя голова моя всё время клонилась книзу.
Мне казалось: вот я сижу в палатке одна. Все ушли. Куда можно уйти в такой буран? Опять ветер вырвал колышки в палатке с моей стороны. «Моя сторона» — это там, где я сплю. На таком ветру их трудно снова вбить в лёд. Куда же все ушли? А впрочем, мне уже не надо вбивать колышки. Через час я уезжаю отсюда и больше никогда не вернусь. Какое страшное слово «никогда»! Оно не из жизни. Из жизни слова: «скоро», «долго», «когда-нибудь», «может быть». «Никогда» — не из жизни. Оно возникает, когда что-то перестаёт жить.
…И вот я в Ленинграде. В Сашиной комнате… Я жду… За окном темнеет. Сколько же сейчас времени? Восемь часов? Десять?
Я встала, дрожа от холода, открыла дверь и вышла в коридор. Было тихо.
«Неужели с ним что-то случилось?» — подумала я, возвращаясь в комнату.
Ведь если он не знает, что я его жду, то может пробыть на Ладоге и день и два, может наконец прямо оттуда поехать куда-нибудь, не заезжая в «Асторию». Я стала ходить по комнате, чтобы согреться.
Совсем стемнело. Увидела на столе коптилку, но у меня не было спичек. Очень хотелось есть. Я вспомнила, что в течение суток съела один только сухарь. У меня кружилась голова от голода, но я больше уже не могла грызть промёрзшие сухари: болели десны. У меня был пшённый концентрат. Хорошо бы съесть сейчас пшённой каши — горячей-горячей, чтобы рот обжигала! Но кашу не на чём было сварить. Я раскрошила концентрат и стала жевать. Хорошо бы умыться. Но об этом нечего было и думать…
Я села в кресло у письменного стола. На дворе, очевидно, морозило, потому что на оконном стекле стали вырисовываться ёлочки. Раздалось несколько глухих выстрелов где-то вдалеке… По небу полз одинокий луч прожектора. Я подумала, что если так и не дождусь Саши, то надо написать письмо и оставить на столе.
Я откинулась на мягкую спинку кресла и закрыла глаза. Голова закружилась. Теперь всякий раз, когда я закрываю глаза, у меня начинает кружиться голова.
«А его всё нет», — подумала я. И тут же спросила себя: «Ну хорошо, а почему именно мне должно быть такое счастье? Почему Андрей Фёдорович один, и Сеня один, и Ирина одна, а мне почему же такое счастье? Хватит и того, что я знаю, что он жив и здоров, — это уже очень много… Я, кажется, стала немножко суеверна».
И вдруг мне почудилось, что он идёт. Нет, я не слышала ни шагов, ни единого звука, всё было по-прежнему тихо, но что-то сказало мне: «Он идёт! Он идёт!» Сердце моё заколотилось. Я почувствовала, что он подходит к забитому досками подъезду «Астории», вот он открывает дверь, вот он идёт по лестнице… Я вскочила и подбежала к окну. Мне вдруг сделалось так страшно, — нет, не то слово, — так тревожно, что я захотела увеличить расстояние между нами. «Он идёт! Он идёт!» — стучало моё сердце, и теперь я уже слышала шаги по коридору, ближе, ближе, у двери, и, кажется, ещё до того, как открылась дверь, я сказала:
— Ты?! Наконец-то!..
Он стоял у двери в полушубке с поднятым воротником, а я — у окна и не в силах была двинуться к нему. Сначала я увидела его как-то всего «целиком». Я ещё не заметила, изменился он или нет. Я не могла двинуться вперёд. Точно я прошла много-много километров, прежде чем дойти сюда, и последние километры уже еле шла, а сейчас не смогла бы сделать и двух шагов. У меня захватило дыхание, я хотела что-то сказать, крикнуть, но вместо этого заплакала. Кажется, первый раз за всё это время… И я не помню сейчас, как миновали первые минуты, как очутились мы наконец рядом… прижавшись друг к другу…
И первые его слова о том, как он разыскивал меня, ещё не доходили до моего сознания, мне было неважно, что именно он говорит, для меня было слишком много и того, что мы вместе, рядом, что я слышу его голос. Потом я поняла, что он очень долго разыскивал меня по всему городу и на Ладогу поехал тоже из-за меня. Внезапно, точно глаза мои раскрылись, я увидела его рядом с собой, не так, как в первые минуты встречи, а уже сознательно, отчётливо. Он сидел на диване без полушубка (он был наброшен на мои плечи, — зачем он снял полушубок, ведь здесь очень холодно?), и мне бросилось в глаза: военная форма не идёт ему, да и гимнастёрка не по нём сшита. Не знаю почему, но мне стало очень хорошо. Сейчас я думаю — это оттого, что я почувствовала: возле него нет никого, кто бы заботился о нём, — или что-то в этом роде, чего я не могу выразить.
Потом мы стояли друг против друга у окна, и в комнате было светло, потому что светила луна, и лунный свет, такой холодный там, на Ладоге, показался мне сейчас очень тёплым, точно светила не луна, а солнце. За окном был виден Исаакий и угол Мариинского дворца. Над крышей дворца виднелся огромный стеклянный фонарь, и казалось, что в нём все стекла целы, хотя этого, конечно, не могло быть.
Он спросил меня, помню ли я, как мы любили в лунные ночи смотреть из окна на Исаакий.
— Конечно, помню, — сказала я.
И мы долго-долго всё вспоминали. «Ты помнишь?» — говорил он. «А ты помнишь?» — спрашивала я. Мы вспоминали даже то, что казалось навсегда позабытым, и так хорошо было оттого, что, оказывается, мы оба помним это.
И всё теплее и светлее становилось в комнате. Я сбросила с плеч полушубок и даже стёганку свою расстегнула и тут же подумала: какая я была глупая, когда боялась, что он увидит меня такой, какою я стала, в этой неуклюжей одежде, с красными, обмороженными руками и обветренным лицом! Между нами шёл тот разговор, который бывает между двумя людьми, когда понимаешь с полуслова, с полунамёка, когда всё, что говорит другой, кажется значительным, когда любишь!..
Я стала рассказывать ему, что произошло за последние часы, как добралась сюда и ждала. Мне было очень приятно теперь говорить об этом, как бывает приятно вспоминать и говорить о трудном и опасном деле, когда оно уже позади, а ты сидишь в тёплой палатке у огня, с хорошими людьми. И я подумала, что хорошо бы теперь, когда мы наконец нашли друг друга, никогда не расставаться и уехать куда-нибудь, где тепло и вместо гула самолётов поют птицы, земля покрыта травой и нет воронок от снарядов…
Но, подумав об этом, я вздрогнула. Мне показалось, что я произнесла свою мысль вслух, и я посмотрела на Сашу: не слышал ли он, как я это сказала? Мне стало не по себе, точно я сделала что-то очень плохое.
— Что с тобой? — спросил Саша.
— Ничего, — сказала я, — просто будто холоднее стало в комнате.
Он укрыл меня своим полушубком. Я посмотрела в окно, и мне почудилось, что весь озарённый лунным светом Ленинград смотрит сейчас в наше окно и я с глазу на глаз с ним.
Я опустила голову Саше на колени. Он поцеловал мои волосы, и от прикосновения его губ мне стало теплее.
Теперь я ничего не видела, лежала, уткнувшись в его колени, крепко закрыв глаза, и мне казалось, что в красноватом тумане медленно, как снижающийся аэростат воздушного заграждения, плывёт одинокая чёрная точка. Когда точка уплыла куда-то вниз, я подняла голову и открыла глаза.
Я сидела, прижавшись лицом к плечу Саши. Он гладил мои волосы, целовал окоченевшие пальцы.
Мы вспомнили об Ирине.
— Я был у неё, — рассказывал Саша. — Она стала очень странной, исступлённой. Какое-то спокойное исступление.
Я подумала, что «исступление» — не то слово, но что именно оно приходит первым на язык.
— Она очень много пережила, — тихо сказала я.
— Да, да, — поспешно согласился Саша, — я всё знаю. — И он задержал свою руку на моих волосах.
— Отчего, когда ты дотрагиваешься до головы пальцами, мне становится теплее! А ведь они у тебя холодные, Саша, прямо ледышки.
— Это тебе просто кажется, — ответил он.
— Кажется, кажется! — вдруг громко вырвалось у меня. — Отчего именно теперь так много кажется? Вот луна светит, а кажется, что это солнце, и стёкла в фонаре на Мариинском дворце кажутся целыми.
— Это мосты в прошлое, — сказал он. — Я думал об этом. Поэтому все в армии земляков ищут. Это тоже мосты в прошлое. Без этого трудно жить.
— Как ты думаешь, — спросила я, — что сделают с Гитлером?
— Не знаю.
Я снова опустила голову к нему на колени и закрыла глаза. Как хорошо мне было сейчас! Не поднимая головы и не открывая глаз, я сказала:
— Знаешь, что, милый, давай совсем-совсем не будем говорить о войне. Ну, будто ничего нет, никакой войны. Я буду вот так сидеть с закрытыми глазами, и ты глаза закрой…
Где-то раздался выстрел, свист и далёкий разрыв, но я сделала вид, будто ничего не слышала, и он тоже ничего не сказал.
— Ты бы хотела уехать из Ленинграда? — вдруг спросил он.
Я поднялась и ответила сразу:
— Нет.
— А мне показалось, будто ты хотела бы уехать отсюда.
— Это только кажется, — тихо ответила я.
Вдруг он схватил меня за плечи и стал целовать, целовать…
— Ты знаешь, — сказал он потом, — мне почему-то представилось, что сейчас кто-то постучит в дверь или войдёт без стука и скажет, что тебе надо уходить. И я представил себе, как сижу один в комнате, где только что была ты.
Я прижалась щекой к его щеке. Мы молчали.
— Сколько новых морщинок у тебя, — сказала я.
— Ну, не смотри, а то я тоже начну считать.
— Ты всё время на Волховском фронте?
— Да.
— Где вы там живёте?
— В поезде.
— В поезде?
— Да. Поезд-редакция.
— Тепло?
— Да. И электричество есть — своя станция.
— А где сейчас федюнинцы? — спросила я.
— Под Любанью.
— И здесь говорят, что под Любанью. Здесь со дня на день ждут, что блокада будет прорвана.
— Наверное. Войск наших полно. И ещё подходят. Ты подумай только: снова пойдёт «Стрела» Ленинград — Москва. Так хочется хоть немножко забыть о войне.
— Я так стосковалась по тебе. У меня ведь теперь никого, кроме тебя, не осталось.
— Лидуша, родная моя… Я боялся коснуться этого… Боялся спрашивать… Я всё знаю из того единственного письма, которое получил… И от Ирины…
Я прервала его:
— Нет, нет, нет, я не хочу вспоминать. Мне иногда хочется совсем потерять память. Ведь бывает же такая болезнь, что человек совсем теряет память.
Он посмотрел на меня и спросил:
— Тебе холодно? Ты вся дрожишь.
Он снял с меня валенки и закутал ноги одеялом. У меня почему-то стала кружиться голова, но мне это было приятно. Он сел рядом со мной на диван и стал рассказывать о моём доме за Нарвской. Оказывается, там теперь расположились огневые точки, а в моей комнате сидит артиллерийский наблюдатель.
Я почувствовала внутреннее удовлетворение оттого, что мой дом стал дотом. И подумала: «Это хорошо, так и должно быть».
И вдруг вспомнила Ладогу. Я почувствовала какой-то страх, растущую тревогу.
Мне захотелось убежать от этого чувства, заглушить его. Идти куда угодно по снегу, через сугробы, только бы остаться одной и разговаривать со своей совестью. Но тут я посмотрела на Сашу и поняла, что ни одного мгновения не смогла бы быть одна, зная, что он тут, неподалёку. Я сказала себе: надо быть до конца честной. И спросила его:
— Ты ведь был на Ладоге?
…Теперь мне было так хорошо! Я боялась спать, боялась закрыть глаза, чтобы не перестать чувствовать своё счастье. Я стала жадной до счастья. Боялась потерять хотя бы крошку его.
Мы лежали в постели, и в комнате было совершенно светло, потому что луна стояла против нашего окошка.
— Хорошо, что мы встретились здесь, — проговорила я. — Ведь всё могло случиться иначе.
— Конечно, — согласился Саша, — нам просто повезло.
— Нет, я не о том. Скажем, я эвакуировалась бы, и ты тоже, и мы встретились бы где-нибудь на Волге или на Урале…
— Ну и что же?
— Ну, мне трудно это объяснить, — продолжала я. — Но есть какое-то особое счастье, когда люди, чтобы встретиться, переплывают бурный океан и в дороге ведут себя смело… Мне сейчас кажется, что наша встреча — награда за то, что мы пережили.
Он улыбнулся.
— Кто же нас наградил?
— Никто. Ты не смейся. Справедливость. Мне кажется, если человек ведёт себя честно и не хитрит в жизни, он должен быть награждён.
— Справедливость всегда торжествует, — сказал Саша. Он по-прежнему улыбался.
— Да, это ещё в детских хрестоматиях было написано. А теперь, мне кажется, это — наша правда. Ну, что ты всё улыбаешься?
Он обнял меня и поцеловал мои глаза.
Потом я услышала музыку, кто-то играл на рояле, и Саша сказал мне, что это старый музыкант приходит играть на сохранившемся в гостинице инструменте.
Мне было странно слышать музыку, настолько я отвыкла от неё.
Я не помню, как заснула…
…Только что мы расстались. Ночь и день провели мы вместе. Мы не могли не расстаться: война. Смешно же было думать, что она не коснётся нас.
Мне кажется, что и сейчас ощущаю на губах этот прощальный поцелуй на морозе… Мы расстались у Пороховых заводов — обычное место, где «ловят» машины, идущие через Ладогу на Большую землю. Я и сейчас ещё вижу эту машину, трёхтонку, гружённую пустыми, громыхающими бочками. Неудобная машина попалась ему… Оказывается, надо стоять не около дороги, робко подняв руку, — так шофёр ни за что не остановит машину, — а стать посредине дороги, поднять руку ладонью к машине и стоять, пока шофёр не затормозит. Только так и можно уехать…
Шофёр затормозил, и он вскочил в кузов, едва успев поцеловать меня. И я уже не видела машины, она провалилась в темноту, но ещё долго слышала, как громыхают пустые бочки.
И вот я иду обратно в город. Со мной нет вещей, они остались в «Астории». Хотя мы долго бродили по городу, перед тем как расстаться, но я не устала. Мне было легко и хорошо. Пустые, заваленные снегом улицы сейчас не пугают меня. Я думаю о том, что мы о многом не успели поговорить с Сашей. Сейчас у меня появилось много вопросов, которые хотелось бы задать ему, и о многом хотелось рассказать. А когда мы были вместе, эти вопросы не появлялись, а если и появлялись, то казались неважными и не хотелось тратить на них время. Когда я ехала с Ладоги, я знала, что увижу эти улицы и дома. Я не думала о том, сколько новых ран я замечу на них, но знала твёрдо: дома будут и улицы будут. Вот так же я знала и то, что с Сашей мы всё-таки встретимся. Я чувствовала, что есть что-то такое, чего не может разрушить даже эта страшная война. И в первый раз за эти месяцы я подумала: «Как хорошо жить на свете!» И ещё я подумала, какая великая вещь в жизни определённость. Нет, я думала не о мещанской определённости, не о привязанности к месту и вещам. Я думала о вере в человека, об уверенности, что при любых обстоятельствах он поступит так, а не иначе…
Я вытаскиваю из кармана кусочек бумаги, на котором Саша написал номер своей полевой почты. В темноте я не могу разобрать его. Он записал номер в самый последний момент, когда машина уже появилась на дороге. Мы тогда рассмеялись: сутки были вместе, а самого главного — обменяться адресами — чуть не забыли.
Я снимаю варежку и разглаживаю смятый в кармане листок бумаги. Но как я ни стараюсь, номера разобрать не могу. Я сжимаю бумажку в руке. Мне приятно держать её. И рука моя почему-то не мёрзнет.
Я иду и думаю о нашей встрече. Повторяю про себя все его слова и вдруг ясно представляю себе, что была с ним совсем другой, не той, какой стала за эти месяцы на Ладоге. У меня появились прежние слова, слова далёкой мирной жизни; мне казалось, что я медленно просыпаюсь от тяжёлого и страшного сна и снова становлюсь прежней. Почему это? Не потому ли, что наша встреча была для меня мостом в прошлое? Не потому ли, что, когда я оказалась рядом с человеком, в которого я верила, во мне родились забытые чувства и слова? А теперь я снова одна, и никто не остановит для меня машину, мне снова надо драться с врагом, как простому бойцу…
«Мост в прошлое», — повторяю я про себя. И тут же говорю вслух:
— Нет, мост в будущее.
И мне приходит в голову мысль: а что, если сейчас вдруг смолкнет метроном в репродукторах, на секунду станет совсем тихо, а потом раздастся голос диктора… И он объявит не «район подвергается артиллерийскому обстрелу», а «товарищи, мы победили, враг разбит, война окончена». И Саша услышит этот голос там, на Ладоге, соскочит с машины, пересядет на встречную, догонит меня, и мы пойдём по улицам, на которых вдруг станет светло…
Так будет! Я верю в это. Но пока враг здесь, в самом Ленинграде, на улице Стачек. Я посмотрела на репродуктор, установленный на углу.
«Тук, тук, тук», — стучит метроном. А всё-таки мы услышим из этого репродуктора слова победы! И тогда мы встретимся. Чтобы встретиться и уже никогда не расставаться, надо победить.
Моя рука стала мёрзнуть. Я кладу бумажку в карман стёганки и надеваю варежку. Навстречу мне движется морской патруль. Моряков двое. Оба в бушлатах, несмотря на мороз. Поравнявшись со мной, один говорит:
— Как жизнь, дорогуша? Прыгаем?
Я не люблю фамильярных обращений, но сейчас мне почему-то приятно, что моряк так обратился ко мне.
— Прыгаем! — говорю я в ответ.
— Ну и всё в порядке! — раздаётся уже за моей спиной голос.
Я оборачиваюсь и смотрю вслед уходящим морякам. У них широкие спины. У каждого на правом плече висит автомат стволом вниз.
Потом меня обгоняют, громыхая цепями, три тяжело нагруженные полуторки. «С Ладоги, — сразу определяю я. — Вот эти машины совсем недавно встретились с той, на которой ехал он». Полуторки исчезли в темноте.
«Как странно складывается жизнь, — подумала я. — Все как-то связаны между собой. Он, я, лётчик, Андрей Фёдорович, этот Ольшанский — все мы как-то невольно связаны друг с другом. Лётчик был прав, когда сказал, что, если бы не он, мы с Сашей так бы и не узнали друг о друге… То же самое мог сказать и Ольшанский…»
Я иду по тёмным ленинградским улицам.
Потом я вдруг спросила себя: «А куда я, собственно, иду? — И тут же ответила: — Конечно, к Ирине. Куда же мне ещё идти сейчас, на ночь глядя?»
Но до завода было, по крайней мере, три часа ходьбы. А ноги уже начали ныть. «Вещи мои в «Астории», — вспомнила я. — В вещевом мешке есть концентраты и сухарь, они пригодились бы у Ирины. Но тогда мне надо идти совсем в другую сторону». Я решила «проголосовать» и ехать в зависимости от того, в какую сторону пойдёт машина.
Я сошла на мостовую. Вскоре показалась машина. Когда между мной и машиной осталось метров пятнадцать, я резко подняла руку.
Шофёр затормозил совсем рядом со мной. Я вскочила на подножку и открыла дверцу кабины. С радостью увидела, что в кабине сидит только шофёр и второе место свободно.
— Вы куда? — спросила я.
Оказалось, он едет по направлению к заводу Ирины.
«Значит, еду к ней», — подумала я, влезая в кабину.
Шофёр всё время молчал, — видно, был человеком угрюмым. В кабине было тепло, сохранившиеся боковые стёкла предохраняли от ветра.
Мы мчались по тёмным ленинградским улицам. Только наша фара выхватывала из темноты узкую полоску света, и казалось, что мы всё время догоняем эту полоску, а когда догоним и проедем, то будет уже совсем темно.
Вдруг шофёр сказал:
— Вот так каждую ночь по Ленинграду проезжаю. Особый груз перевожу. И всё думаю. Посмотришь — будто пустой Ленинград. И людей с вечера уже совсем не видать, и войск никаких не видно. А взять этот город нельзя. Точно невидимые защитники у него. Дотронешься — убьёт. А так вот едешь — темно и тихо. Точно заколдованный город этот…
Шофёр был прав. Это и впрямь походило на колдовство. Шапка-невидимка. Сотни тысяч вооружённых врагов сидят под его стенами, а войти не могут.
— Говорят, немцы на штурм собираются, — продолжал шофёр. — Посмотрят днём в трубы на город — тихо, и народу будто маловато. Очень соблазнительно на штурм пойти. И холод подгоняет. Ну, тут их согреют, конечно.
Его большие чёрные усы дрогнули, когда он произносил последние слова.
Мы мчались вперёд. Иногда свет нашей фары выхватывал из темноты окна домов, заложенные кирпичом, и тёмные точки пулемётных амбразур. Я помню, когда стали строить эти доты в домах. Это было ещё летом прошлого года. На заводе мы сами выстроили несколько таких дотов… Иногда мы проскакивали через тёмные проходы в баррикадах, выстроенных на перекрёстках улиц. Передо мной мелькали то выгнутый рельс, то куча какой-то домашней утвари, то стена из мешков с песком. Шофёр вёл машину уверенно, точно наизусть помня все проходы и переулки в этом забаррикадированном городе.
Наконец мы подъехали к заводу. Я поблагодарила шофёра и почти побежала к проходной будке. Я очень волновалась. Меня охватило радостное, но тревожное ощущение возвращения. Будто остановилась моя поспешная, уходящая вперёд жизнь и мне предстояло вновь пережить то, о чём я вспоминала как о навсегда ушедшем. Я вошла в проходную. На стуле, под висевшим на гвозде фонарём «летучая мышь», сидела девушка в ватнике. Она опиралась на винтовку, зажатую между ног, и дремала. Девушка подняла голову, когда я стукнула дверью. Я сразу узнала её. Это была Лена, вахтёрка. Однажды ей осколком поранило руку выше локтя, и я перевязывала её.
— Пропуск! — сказала она.
— Лена! — вскрикнула я.
Она встала, не выпуская из рук винтовки; её большие глаза на худом, точно высохшем лице расширились; она улыбнулась.
— Лидка! — крикнула Лена. — Ты? Вот здорово!
Лена обнимала меня, не выпуская винтовки.
— Да поставь винтовку-то, — сказала я, — ишь солдат.
Лена рассмеялась.
— Вот чёрт… — смутилась она, смотря, куда бы поставить винтовку. — Тяжёлая…
Она положила винтовку на стул.
— К нам? Вернулась? — спросила Лена.
— Нет, еду дальше, — объяснила я. — Зашла проведать. Ирина на заводе?
— Здесь, здесь, — поспешно ответила Лена. И когда я шагнула к дверям, Лена вдруг окликнула меня: — Лидка, говорят, что с завтрашнего дня в Ленинграде норму увеличивают. Честное слово! На пятьдесят граммов. Вот здорово! А? Ты узнай там у Ирины. Она точно знает.
Мы обе страшно обрадовались. Даже расцеловались. Я пошла по тёмному заводскому двору. Где-то в темноте, в стенных трещинах и в неплотно прикрытых дверях, мелькали красные полоски. Слышалось шипение прокатываемого металла.
Я иду по занесённому снегом заводскому двору и вспоминаю.
…Вот так было три месяца назад. Мы шли тут втроём: Ирина, Иванов и я. До этого мы просидели ночь в Ирининой комнате на Троицкой. А несколькими часами раньше я сидела в этой комнате одна и ждала Ирину.
И я осталась тут, потому что мне некуда было больше идти: Иринина комната была моя пристань. Потом пришла Ирина со своим ребёнком на руках и Иванов. И я узнала, что они только что похоронили Иринину мать, а сейчас, по дороге обратно, дочка Ирины, Ирочка, замёрзла, и теперь она мёртвая. Ирина положила девочку на стол и даже не поздоровалась со мной, и я не поздоровалась с ней, даже не встала. Мы все сидели и молчали, а потом я сказала:
— Что ж нам теперь делать?..
…Потом мы пошли на завод все трое — Ирина, Иванов и я. Ирина и Иванов работали на этом же заводе, он был для них домом. Но для меня он не был домом. И всё-таки я пошла с ними, потому что боялась остаться одна и вообще мне некуда было идти. Мы шли медленно. Ирина несла на руках свою мёртвую девочку, чтобы сколотить ей на заводе гробик и похоронить. Она похоронена здесь, на этом дворе, вон за тем корпусом. Я подумала тогда: страшно будет Ирине жить и работать здесь. Но потом я поняла: смерть может вызвать страх, ярость, но иногда от смерти рвутся к жизни. Я испытала всё это сама.
Мы шли тогда на завод вот этой же тропинкой, по которой я иду сейчас. Хорошо иной раз возвращаться и проходить по жизни уже раз пройденной дорогой. Многое тогда видишь иначе. И многое видишь из того, что раньше не замечала.
…Я вхожу в железные ворота цеха… В глубине огромного сводчатого помещения пылает нагревательная печь. С самого детства меня привлекал огонь. Мне казалось тогда, что там, в пышущих угольях и догорающих поленьях, заключён какой-то особый, волшебный мир. Вот хорошо бы стать совсем маленькой и отправиться путешествовать в этот красный, красивый и жаркий мир!
В цехе было холодно, несмотря на нагревательные печи и полосы раскалённого металла. Я увидела то же, что и три месяца назад. На прокатном стане извивалась красная лента металла, несколько человек, казалось, растаскивали её щипцами в разные стороны.
Но я сразу увидела и новое: в стенах цеха зияли пробоины, и в них был виден снег, ставший розовым от огня печей и металла. Ветер гулял по цеху, и огонь совершенно не горел. Сейчас здесь снова кипела работа и извивалась над паровым молотом красная лента металла.
Я стояла несколько минут, наблюдая за работой, захваченная её стремительным темпом. На меня никто не обращал внимания: все взгляды приковал к себе раскалённый металл.
Я пошла к конторке — некогда застеклённой маленькой комнатке в глубине цеха, где обычно сидела Ирина. Теперь стёкол не было, и я уже издали увидела голову Ирины.
Мне захотелось сделать Ирине сюрприз своим неожиданным появлением. Я тихо подошла к конторке и остановилась у перегородки. Ирина сидела за столом, а напротив неё сидел юноша лет шестнадцати. Ирина не изменилась с тех пор, как мы расстались, только глаза её будто покраснели, или, может быть, отблеск огня окрашивал белки в розоватый цвет. Юноша, сидевший напротив неё, был одет в ватную куртку, на нём была шапка-будёновка, из-под которой выглядывали спутанные волосы. Он сидел, положив ногу на ногу, и слушал Ирину.
— Ну вот, такие дела, Никанор Семёнович, — говорила Ирина своим хриплым, вечно простуженным, низким голосом. — Я думаю, ты вытянешь, а Гольцев и Ганушкин — это уж на твоей совести. Ты уж сам смотри, что с ними делать…
Я приподнялась на цыпочки, чтобы посмотреть, кого это Ирина называет Никанором Семёновичем. Но, кроме юноши и Ирины, в комнате никого не было.
— Гольцева подкормить надо, — сказал юноша, — а то помрёт. Он сегодня упал и встать не мог, ребята подняли. Я уж директору утром сказал. Подкормить надо.
Он говорил медленно, срывающимся баском, хмуря свои белёсые брови.
— Всех надо подкормить, Никанор Семёнович, — устало согласилась Ирина и постучала пальцем по столу. — Вот, говорят, с завтрашнего дня будет объявлена прибавка — пятьдесят граммов.
— Это точные сведения? — деловито осведомился юноша.
— Завтра узнаем, — ответила Ирина.
— Ира! — тихо позвала я.
Ирина вздрогнула, повернула голову, но, видно, не узнала меня: я стояла в тени, а в конторке горел свет.
— Кто это? — спросила она.
Тогда я вошла в конторку. Ирина вскочила и бросилась мне навстречу. Мы крепко обнялись и поцеловались. Я почувствовала, что у неё горячие, потрескавшиеся губы…
— Ну, вот видишь, вот видишь, — повторяла Ирина в какой-то растерянности, — ты и пришла. А мы всё по-прежнему живём. — Она замолчала, точно вспомнив о чём-то. — Ты знаешь, что тебя Саша разыскивает?
— Знаю, — ответила я. — Мы расстались с ним два часа назад.
— Ну, я пойду, Ирина Григорьевна, — сказал юноша, вставая и сдвигая будёновку на затылок.
— Лидуша, ты познакомься, — обратилась ко мне Ирина, — это наш новый мастер, Никанор Семёнович. А это — Лида, наша бывшая фельдшерица.
Юноша протянул мне руку:
— Никанор Семёнович Варягин.
Он произнёс своё имя, отчество и фамилию медленно и с достоинством. Затем он кивнул мне головой и вышел из конторки.
— Лучший рабочий цеха, — сказала Ирина, смотря ему вслед.
И тут только, присмотревшись к рабочим, сновавшим по цеху, я заметила, что среди них много подростков. Я видела, как Никанор Семёнович неторопливо шёл по цеху, время от времени останавливался и что-то кричал рабочим, стоявшим у прокатного стана.
Я присела к столу, за которым сидела Ирина, откинувшись на спинку стула. Глаза её были полузакрыты.
— Устала я, — тихо проговорила она. Потом резко потёрла глаза и встала. — Ну, пойдём вниз.
Мы прошли по цеху и спустились по знакомой лестнице в подвал. В комнате, где я прожила два месяца, топилась печурка и всё казалось таким же, как и тогда, когда я ушла отсюда. По-прежнему висел на стене противоипритный костюм, и моя кровать стояла там же.
— Ну, садись, Лидушка, рассказывай, — тихо произнесла Ирина, опускаясь на свою постель.
— У вас тут всё по-старому? — спросила я.
— Не совсем, — ответила Ирина.
— Девочки все на месте? Где Зоя?
— Зоя? — переспросила Ирина. — Она умерла. Давно уже. Месяца полтора назад.
Мне показалось, что кто-то холодной рукой дотронулся до моего сердца. Зоя умерла. Её кровать стояла рядом с моей. Вот она и сейчас стоит, аккуратно застланная.
— Та-ак. Ну, а Лёля?
— И Лёля… умерла, — тихо ответила Ирина.
— Надежда?
— Умерла.
— Рая?
— Рая здесь. Дежурит по двору. Она скоро придёт.
— Нина?
Ирина не сразу ответила.
— Умерла? — спросила я.
Ирина покачала головой.
— Нет, Нина ушла с завода. Ну… словом, не выдержала. Как-то живёт.
Ирина скривила свои тонкие, потрескавшиеся губы.
— Так ты прямо с Ладоги?
— Почти, — ответила я и рассказала ей всё, что произошло за последние сутки.
Во время моего рассказа Ирина не проронила ни слова. Она сидела на постели, прислонясь к стене и заложив руки за голову. Когда, рассказывая, я останавливалась, вспоминая что-либо, она по-прежнему молчала и сидела не шевелясь. Я рассказала ей об истории с лётчиком, и о встрече с Ольшанским, и о своих переживаниях во время ожидания в «Астории», и о самой встрече. И только дойдя до того, как мы расстались и как хорошо было у меня на душе, когда я шла по Ленинграду, держа в руках бумажку с номером Сашиной почты, я вдруг остановилась.
Я подумала: как нехорошо с моей стороны рассказывать всё это Ирине! Вот она сидит передо мной, моя любимая подруга, мой верный товарищ. Ей некого ждать: всех, кто был дорог ей, уже нет в живых. Зачем же растравлять её раны рассказом о своих радостях? Я замолчала и стала смотреть в сторону, подыскивая слова, чтобы постепенно перевести разговор на другую тему.
А Ирина вдруг говорит:
— Ну, теперь ты выдержишь, Лидушка.
Она вскочила, притянула меня к себе, крепко обняла.
— Знаешь, Лидушка, — сказала она, — я за своими девушками наблюдаю и за собой тоже: нам нужны какие-то радости, понимаешь, радости! Они нам больше, чем витамины, нужны. Вчера Галя — помнишь, беленькая такая — получила от мужа письмо с фронта. Теперь я за неё спокойна на некоторое время: ничто не возьмёт её, она будет жить своей радостью. У Людмилы отец вышел из госпиталя. Совсем умирал, — подняли. И эта будет держаться. Если у кого и нет радостей, я стараюсь их выдумать. Это совсем невинный обман. Рассказываю сон какой-нибудь или просто о предчувствии, что сбудется какая-нибудь мечта. Вот ты сейчас выдержишь, я знаю. — Ирина посмотрела в мои глаза, разжала свои руки и снова заложила их за голову.
И тогда я спросила:
— Ну, а как же ты, Ирина? Кто выдумает для тебя эти радости? Как тебе-то жить?
— Мне-то? Тяжело. Тебе я могу об этом сказать. Очень тяжело! — добавила она внезапно громко. — Иногда мне кажется, что все сейчас живут будущим, а я одна должна жить настоящим… Ведь будущее не сулит мне ни радостной встречи с любимым, ни даже надежды на встречи, а вот сегодня и завтра — я чувствую — я много значу для моих девушек и для рабочих моего цеха, в этом смысл моей жизни.
Она замолчала.
Мне казалось, что она не права, утверждая, что ей нечего ждать от будущего. Мне думалось, что вообще нет человека, который не ждал бы чего-либо в будущем. Но я не разубеждала Ирину. Мы вообще никогда не уговаривали друг друга.
— Ну, хватит рассуждать, — сказала Ирина, подходя к печке. — Сейчас я тебе устрою праздник: будешь мыться.
Она вышла из комнаты и через минуту вернулась с ведром воды. Она еле несла ведро, и вода расплёскивалась через край. Я подскочила к ней.
— Тяжёлое какое, — сказала Ирина.
Мы поставили ведро на раскалённую печь.
— Теперь вода для нас уже не такая роскошь. Мы, можно сказать, наладили производство воды, — она чуть усмехнулась, — все носят: и стар и млад.
Я заметила в Ирине одну новую чёрточку. Я не знаю, как её назвать покороче, но дело заключается в следующем: я встречала за свою жизнь немало людей, которые, казалось, говорили разными словами и разными голосами дома и на людях, так сказать, при исполнении своего долга. Они были честными и хорошими людьми и, очевидно, были искренне убеждены, что на трибуне или за председательским столом надо говорить как-то иначе, менее естественно. А вот в Ирине это объединялось — домашнее и служебное. Может быть, потому, что в жизни её это переплелось. Она одинаково говорила и там, в цехе, с рабочими, и здесь, со мной, и, когда она с едва заметной усмешкой сказала, что «мы наладили производство воды», мне это особенно бросилось в глаза. Пока грелась вода, мы сидели на Ирининой постели.
— Вот ведь какая штука жизнь! — говорила я. — Иной раз кажется, что для неё не существует расстояний. Я хочу сказать, что не обязательно нужно мотаться из конца в конец земли и что на маленьком клочке её можно испытать всё многообразие жизненных ощущений: радость, близость смерти, отчаяние, любовь, дружбу…
У меня не было времени «раздумывать» над жизнью, и почему-то — особенно по утрам, если не коченела от холода и не очень хотела есть, — мне лезли в голову такие мысли, и я пыталась дать себе отчёт в происходящем.
— Мне кажется, — продолжала я, — что во время войны чувства приходят в наши сердца в чистом виде. Раньше я брала их «из третьих рук». Они приходили также со страниц прочитанных книг, и казалось, что прошли уже через многие сердца, прежде чем прийти в твоё. А сейчас всё представляется иным, родившимся только для твоего сердца и живущим или умирающим в нём…
А иной раз мне кажется, что с каждым днём я становлюсь всё проще. Я меньше раздумываю, и то, что проходит перед моими глазами, не вызывает во мне воспоминаний. Снег есть просто снег. Палатка — палатка. Обмороженный есть обмороженный, надо делать то-то. При артобстреле надо ложиться. И то, что говорят окружающие, является как бы освобождённым от всяких «подводных течений». В словах видишь «дно». Всё стало кристально ясным, как ладожский лёд. Легче ли так жить? Во всяком случае, это какая-то новая жизнь. И люди в ней какие-то новые, ярче очерченные, точно на белом снегу яснее видны их сердца и души…
Я говорила и говорила, а Ирина молчала. Но её молчание не останавливало меня. За время нашей разлуки у меня появились такие мысли, которые я как бы «складывала» в тайники, чтобы выложить их при встрече с Ириной.
Часто я думала: «Вот об этом хорошо бы поговорить с Ириной», или: «Интересно, что бы сказала на это Ирина». Теперь мы были вдвоём.
Наконец тихо, точно беседуя сама с собой, заговорила Ирина:
— Вот идёт человек в бой, его ранят, бывает — он попадает в плен… И вот он стоит перед врагом на допросе, и уже совсем далеко от него и близкие и друзья… Вот тут-то жизнь достигает величайшего напряжения. В ней целый мир борьбы…
Сейчас решится всё… Спадёт всё наносное. Испытывается главное, что есть в настоящем человеке: верность.
Вот сейчас мы все проходим эту проверку… И ты знаешь… — Ирина придвинулась ко мне ближе и сказала совсем тихо, точно поверяя мне какую-то тайну: — Знаешь, мне кажется, что всё, что мы делаем сейчас, всё, что испытываем, это для мира, не для войны, а для той жизни, которая будет после. Я думаю, что если есть какой-нибудь высший смысл подвига, так он в том, что совершившим его людям будет под силу строить жизнь после войны…
Вода на печке нагрелась. У меня просто слов нет, чтобы описать то наслаждение, которое я почувствовала. Горячая вода! Это было, пожалуй, самое приятное, что я могла бы вообразить. Я вымылась. Ирина дала мне всё чистое, и спать я легла на свою бывшую постель.
Я решила, что эту ночь переночую здесь, завтра с утра пойду в санупр за документами, а днём уеду в армию.
Ирина сказала, что на полчаса зайдёт в цех, но, как только я осталась одна, мне захотелось спать. Я отчаянно боролась со сном — мне хотелось ещё поговорить с Ириной, — но глаза сами закрывались. Я заснула.
В санупре, когда я попросила своё предписание, мне велели зайти к начальнику. Он сказал, что моё назначение в армию временно отменяется, а даётся другое: я остаюсь в Ленинграде, чтобы организовать стационар для детей фронтовиков и вообще для детей, лишившихся родителей и крова.
Я начала было возражать, доказывать, что совсем не обладаю организаторским талантом, но начальник сказал, что вопрос уже решён, что эти дома создаются по указанию Военного совета, дело это особой важности и мне надлежит отправиться в райздравотдел для получения инструкций.
В райздравотделе мне дали адрес дома, который отводится под стационар, вручили бумажку, по которой я могу именем Ленсовета мобилизовать людей для работы в детдоме, предупредили, что пока никого из работников дать мне не могут, что кровати в дом уже завезены и что через пять дней я должна быть готова к приёму детей…
Наконец я добралась до дома, предназначенного для детского стационара. Здесь раньше находилась школа. На полуразбитой стеклянной вывеске было написано: «Неполная средняя…» Парадная дверь была раскрыта настежь — вернее, от двери сохранилась только одна половинка, да и та еле держалась. Я поднялась по занесённым снегом ступенькам. Внутри подъезд напоминал сталактитовую пещеру: с потолка и с перил свешивались огромные сосульки. Каждая из ведущих наверх ступенек походила на маленький оледенелый сугроб. Очевидно, сюда давно никто не заходил, не было видно никаких следов. Я попыталась взобраться по лестнице, держась за перила, схватилась за огромную сосульку и шагнула наверх, но сосулька обломилась, и я съехала обратно. Потом я всё же вскарабкалась.
Мне сказали, что под детдом отводится второй этаж. Первая комната, в которую я вошла, была огромная. На паркетном полу лежал иней. Казалось, пол покрыт необыкновенной паутиной. Под инеем просвечивался тонкий рисунок паркета. Все окна в комнате были выбиты, и ветер время от времени швырял с улицы снежную пыль.
Я перехожу в следующую комнату. Она поменьше, — очевидно, тут размещался класс. Но я не вижу ни одной парты, — должно быть, их сожгли. Окна в этой комнате тоже выбиты, и только по странной случайности уцелел маленький кусочек стекла на узкой бумажной полоске. Сразу вспомнились первые дни войны, когда окна домов покрылись сеткой из узких бумажных полосок. Тогда мы наивно думали, что это убережёт стекла от взрывной волны. Помню, как мы с мамой старательно оклеивали наши окна…
Я стою и смотрю на маленький кусочек стекла, повисший на бумажной полоске. Мне почему-то подумалось, что это стёклышко должно быть тёплым. Я беру его и зачем-то кладу в карман вместе с ленточкой… В следующей комнате ещё непригляднее. В углу громоздится огромная оледеневшая куча мусора. С карнизов свешиваются сосульки. Посреди комнаты пол обуглен — возможно, здесь стояла печка-времянка, возможно, разводили костёр. Когда я вошла в комнату, ветер швырнул в разбитое окно снежную пыль с крыши. Снег попал прямо мне в лицо и забился под воротник стёганки. Мне стало ещё холоднее.
Совершенно растерянная, стояла я посредине комнаты. Через пять дней сюда привезут первую партию детей. Что же я буду делать с ними в этих страшных комнатах? Где я буду отогревать их? Где и на чём они будут спать? И жить? Я почувствовала себя такой же затерянной и беспомощной, как тогда, на Ладоге, когда искала подбитый самолёт. Если бы Саша был здесь! Он, наверно, придумал бы что-нибудь, помог бы мне. Что же я могу сделать одна в этом промёрзшем огромном доме без окон и дверей, в доме, где в комнатах воет ледяной ветер?.. Надо пойти в санупр и рассказать, как обстоит дело. Сюда надо много людей, специалистов, здесь всё надо оборудовать заново. Размышляя, я незаметно перешла в следующую комнату. Там в углу лежало несколько железных кроватей, наваленных одна на другую. Это были те самые кровати, о которых мне говорили в санупре. Я подошла к кроватям и потрогала железные перекладинки. Меня обожгло нестерпимым холодом. Я оторвала руку от железа. Мне захотелось плакать от боли и беспомощности.
— Что же мне делать? — сказала я вслух. — Может быть, прежде чем ехать в санупр отказываться, повидаться с Ириной и спросить у неё совета.
Но что я скажу ей? «Мне поручили организовать детский дом, но в помещении холодно и нет оборудования, и я приехала к тебе»?.. Нет, это прозвучало бы просто глупо и слишком уж беспомощно. Я надела рукавицу и потрясла кровать за перильца. И зачем их только свалили в кучу! Мне одной их просто не разобрать. Но эти кровати в углу напоминали мне, что дело уже начато и отступать нельзя.
«Ну, хорошо, — подумала я, — предположим, что здесь будет спальня».
Мне стало ещё холоднее при мысли о том, что здесь будут спать дети. На секунду в моём воображении проплыла идеальная детская комната: светлая, выкрашенная в весёлые тона, ряды кроваток с белоснежными занавесочками, яркий свет, столики с игрушками… И снова в окна влетел ветер, и снег закружился по комнате, оседая на пол. Мне показалось, что я вижу мою девочку, мою бедную Любу… Вот её уже никто не поведёт в детский дом. Слишком поздно. Как страшно всё это! Сначала мама, потом Люба…
Ну вот, а теперь я должна спасать других детей… «Окна можно забить чем-нибудь, — вдруг подумала я. — Поставить железные печки, кровати есть… Но я не выдержу. Ведь я еле на ногах стою. Свалюсь на этот холодный, точно белым саваном покрытый, заиндевевший пол, свалюсь, и некому будет поднять меня…»
А как же дети? Им погибать, оттого, что я или кто-нибудь другой на моём месте не сможет побороть слабость, не сможет по-настоящему взять себя в руки?!
«Нет, останусь здесь», — сказала я себе.
Пока надо будет привести в порядок хотя бы одну комнату, пусть эту. Нужна фанера для окон и две железные печки. Будь в моём распоряжении санитарная палатка и несколько пар носилок и находись я не в городе — всё было бы куда проще. Палатки я уже умела ставить. Но что мне делать с этим ледяным домом?
Мне нужны люди. Одной тут нечего делать. Я вспомнила о бумажке, лежащей у меня в кармане. «Мобилизовать…» Легко сказать: «мобилизовать»! Кого? Откуда? Все сколько-нибудь работоспособные люди давно уже в армии или на производстве.
На улице начинало темнеть.
«Вот и первый день кончается, — с тревогой подумала я. — Осталось только четыре дня до приезда детей…»
Сейчас комнаты, ставшие полутёмными, показались мне огромными колодцами, сырыми, холодными…
Цепляясь за оледеневшие перила, я кое-как съехала вниз по лестнице. «Весь этот лёд надо сколоть», — пронеслось у меня в голове, и я тут же представила себе, как трудно будет очистить лестницу от этих ледяных наростов.
На улице, несколько в стороне от здания школы, стоял прижатый к домам, занесённый снегом троллейбус. Сейчас он казался очень маленьким и странно ненужным в снежных сугробах, покрывавших его почти до самой крыши.
Слева от школьной двери чернели ворота.
«Нет, — сказала я себе, — одной мне с этим делом не справиться». Но к кому же обратиться за помощью? Снова вернуться в райздравотдел? Эх, если бы Саша был сейчас здесь! Он наверняка бы нашёл выход. Пошёл в райком партии…
«А почему, собственно, я не могу пойти в райком? — Эта мысль мгновенно промелькнула в моём сознании. — Нет, — возразила я самой себе, — у райкома, наверно, и без того хватает дел. А детскими стационарами занимается райздрав. Но ведь сказали же в санупре, что это дело особой важности, что им занимается даже Военный совет… Пойду в райком!»
Приняв это решение, я сделала несколько быстрых шагов по улице и остановилась. А где же помещается райком этого района? В былое время я через три минуты знала бы, где райком, спросила бы первого же милиционера или прохожих, — если не один, так другой наверняка знал бы, где райком. А теперь… Искать милиционера? Ждать прохожего? Не возвращаться же в райздрав, чтобы узнать адрес райкома!
Несколько минут я стояла, не зная, что предпринять. А потом сообразила: надо же спросить любого дежурного в подъезде! Как это я сразу не догадалась!..
В приёмной райкома было довольно светло — горело три карбидных фонаря. Несколько девушек в валенках и ватниках вышли из кабинета секретаря в тот самый момент, когда я входила в приёмную. Секретарши в комнате не было, и я несмело открыла только что закрывшуюся дверь.
Секретарь райкома сидел в своём кабинете, большой, длинной комнате. На письменном столе стоял карбидный фонарь, затенённый с одной стороны. Он освещал лицо секретаря, маленький столик, на котором стояли телефоны — два городских и один полевой, — и большой портрет Сталина на стенке и неподалёку от него уже меньший по размерам портрет Жданова. Остальная часть комнаты тонула в полумраке.
Секретарь райкома, молодой, чисто выбритый человек с красными, точно набухшими глазами, сидел в шинели внакидку.
Я стала рассказывать ему о своём деле, а он всё молчал, и я поймала себя на мысли, что говорю очень долго и, пожалуй, даже преувеличиваю трудности, которые передо мной стоят.
Тогда я оборвала себя на полуслове, сказала: «И я просто не знаю…» — и замолчала.
— Вы давно в партии? — тихо спросил наконец секретарь.
— Я беспартийная, — ответила я, и мне почему-то стало стыдно.
— Очень хорошо, что пришли в райком, — сказал секретарь, видимо не замечая моего смущения.
Я воспрянула духом. Значит, подскажет, научит, поможет, даст людей, транспорт…
— Эти детские стационары — большое дело, — продолжал секретарь. — В ближайшее время мы откроем много таких стационаров… Бытовые мастерские вновь откроем, парикмахерские…
Он умолк. Нет, видимо, он не понял меня. Я сказала:
— Но у меня нет никаких возможностей. И опыта нет. Я никогда не работала в детдомах.
— Как вас зовут?
— Лида, — ответила я. Это получилось совсем глупо и по-детски.
— Я понимаю вас, Лида, — без тени улыбки проговорил секретарь. — Вам трудно. Трудно ленинградским женщинам, Лида… Вот только что были дружинницы, — не встретились? Одна из них, Наталья Шабурова, вчера под обстрелом двадцать человек раненых эвакуировала. Милиционеры — девушки. Домохозяйки на заводах мужчин заменяют. Легко ли?
Он встал.
— Послушайте, Лида. Летом тысяча девятьсот сорок первого, как раз перед войной, мы тут, в нашем районе, детский сад организовали. Показательный. Пришла заведующая. Игрушек, говорит, мало. Собственно, не мало, а быстро привыкают дети к игрушкам, новых хочется. Позвонили на фабрики. Были у нас две в районе. «Детишки, говорим, скучают. Изобретите что-нибудь такое… выдающееся!»
Секретарь движением плеча скинул шинель и прищёлкнул пальцами.
— Изобрели! Железную дорогу — вот на весь этот кабинет! Сигнализация, паровозы гудят!.. Снова приходит. Свет бы особый установить, чтобы больше ультрафиолетовых лучей для ребят… Установили. «Всё, что нужно, говорю, сделаем, позвоним, предложим, съездим, достанем…» Чего же вы хотите, Лида? Игрушек? Ультрафиолетовых лучей? Света?
Он горько усмехнулся.
— Я понимаю, — тихо сказала я.
— И всё же мы будем создавать эти дома. Мы должны спасти детей, укрыть их от ужасов блокады. Мы должны сделать это, Лида, должны довести детей до тех дней, когда снова будет и свет, и фабрики игрушек — словом, всё, всё.
Он был прав. Я обязана была понимать все это сама. Я встала.
— Подождите. Кое в чём мы вам поможем. Вам привезут дрова. — Секретарь черкнул что-то на перелистном календаре. — Остальное, Лида, — сами. Трудно, но вы должны найти выход. Подберите людей. Главное — людей.
Он вышел из-за стола и подошёл ко мне.
— Больше, Лида, помочь нечем. Шесть тысяч коммунистов нашего района ушли на фронт.
Он протянул мне руку, и я пожала её. Потом вернулась к тому дому.
«Надо посмотреть, кто живёт в доме, — может быть, здесь я найду людей, которые помогут», — решила я и вошла под арку.
Двор был страшен. Снег доходил до окон первых этажей, только узкие проходы между сугробами вели к дверям. К некоторым дверям вообще не было подходов, и я поняла, что уже никто не входит и не выходит оттуда. Было тихо, ни единой живой души. Я направилась к ближайшей двери. В подъезде было уже темно. Наконец нащупала дверь и постучала. Мне никто не ответил. Я постучала громче и стала терпеливо ждать, потому что знала, насколько трудно людям подняться…
Но сколько я ни прислушивалась, за дверью по-прежнему было тихо.
Тогда я потянула за дверную ручку. Дверь открылась, она и не была заперта. Я вошла, наткнулась на вторую дверь, толкнула её, и она также свободно открылась. Теперь я находилась в длинном коридоре. Тут было не совсем темно, свет падал из разбитых окон. По обе стороны коридора шли двери.
«Ну, начнём по порядку!» — мысленно сказала я и постучала в в первую же дверь, одновременно потянув за ручку. Дверь открылась. Передо мной была большая комната, заставленная тяжёлой мебелью. На столе горела коптилка, пламя её отражалось в зеркале. Казалось, будто из глубины ямы ночью смотришь на небо и видишь единственную далёкую звезду.
— Есть здесь кто-нибудь? — громко спрашиваю я.
Молчание.
В полумраке трудно разглядеть, есть ли кто-нибудь в комнате. Но горит коптилка, — значит, здесь есть жизнь. Я ещё раз повторяю:
— Есть здесь кто-нибудь?
Снова тишина. Я иду в глубь комнаты. Глаза мои постепенно привыкают к полумраку, и предметы начинают выступать из темноты. Я вижу кровать. Она стоит в противоположном углу комнаты, справа от зеркала, большая, деревянная. Я не увидела, а скорее догадалась, что на ней кто-то лежит.
— Вы спите? — громко спрашиваю я, чтобы нарушить наконец молчание.
И тогда едва слышный голос отвечает:
— Я не сплю. Я умираю.
Эти слова были сказаны настолько тихо, что я подумала: не почудились ли они мне? Подошла к кровати и увидела, что на ней лежит человек, прикрытый какими-то одеждами. Да, я вижу его лицо. Оно маленькое, со щетиной волос. Невозможно определить, молод этот человек или стар.
— Что с вами? — спрашиваю, хотя прекрасно понимаю, что с ним.
Человек отвечает:
— Ничего. Это конец.
Я сразу намечаю себе линию поведения. Говорю:
— Ну, это мне лучше знать, конец или не конец. Я врач.
Человек слегка поворачивает ко мне голову и переспрашивает:
— Врач? — В его голосе звучит удивление и недоверие.
— Врач, — повторяю я. — Делаю обход квартир. Как вы себя чувствуете?
Человек с трудом ложится на другой бок, спиной ко мне, ничего не ответив. Я потормошила его за плечи и сказала настойчиво:
— Вы всё-таки отвечайте, когда с вами говорит врач.
Молчание.
— Совсем вы не так больны, — говорю я громко.
Молчание.
— Хотите хлеба?
Моя рука лежит на его плече, и я чувствую, как он вздрагивает. Затем медленно шёпотом произносит:
— Вы что, смеётесь надо мной?
Нащупываю сухарь в кармане стёганки, отламываю крохотный кусочек.
— Ешьте, — говорю я, держа сухарь на ладони.
Человек опять поворачивает ко мне голову. С минуту смотрит на мою ладонь пустым, бессмысленным взглядом, с трудом выпрастывает руку из-под одеяла, схватывает сухарь и мгновенно проглатывает. Потом растерянно смотрит на меня.
— Ну вот, — говорю я, — теперь давайте разговаривать. Кто вы? Как ваша фамилия?
— Зачем вы дали мне хлеба? — спрашивает вдруг человек. — Всё равно я должен умереть.
— Перестаньте болтать глупости, — сказала я резко.
Разговариваю с ним умышленно сухо, даже грубо, как говорят не с больным, а со здоровым, но капризным человеком. Было очень трудно говорить с ним таким тоном, но я знала, что это единственный способ вывести его из состояния полной депрессии, в которой он находился. За последнее время я видела много дистрофиков, и что-то в движениях и во взгляде этого человека говорило мне, что он не достиг ещё той крайней степени истощения, за которой следует смерть.
— Ну? — повторила я.
— Почему вы не даёте мне спокойно умереть? — плаксиво протянул человек. — Ну, пишите, господи! Сиверский Антон Иванович, химик… Был химиком…
Я отломила в кармане ещё кусочек сухаря, но, ощутив его в руках, сразу почувствовала сильный голод. У меня даже голова закружилась: так мне захотелось есть. Но я сдержалась.
— Вот вам ещё кусочек. Только жуйте, а не глотайте целиком.
Потом я всё же отломила маленький кусочек и положила себе в рот. Мне показалось при этом, что в глазах Сиверского, устремлённых на меня, появился испуг. Но я тут же протянула ему остальное.
Сиверский положил сухарь в рот и стал медленно жевать.
— Очень дёсны болят, — произнёс он жалобно, точно ребёнок.
— Ну, они сейчас у всех болят, — ответила я.
Сиверский дожевал сухарь и теперь неотрывно смотрел на карман моего ватника.
— Больше ничего нет, — сказала я, — но потом мы, может быть, достанем ещё.
Вдруг громко зашипела коптилка. Я видела в зеркале, как судорожно вздрагивает язычок пламени.
Сиверский весь сжался, точно испугавшись чего-то.
— Подлейте, — попросил он, — там ещё есть в бутылочке.
Я встала и подлила в коптилку маслянистой жидкости.
— Ну вот, — протянул разочарованно Сиверский. — А я ещё жив.
— А зачем вам, собственно, умирать? — слегка раздражённо спросила я. — Почему я, например, живу и ещё тысячи людей живут, а вы должны умереть?
Сиверский посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом и сказал:
— Вы не сердитесь. Я просто устал от всего, не могу больше… Всё время держался, а теперь больше не могу. Всё исчерпано. Сегодня вечером я лёг и решил, что больше не встану. Умирать легче, чем жить. Я заправил коптилку в последний раз. Страшно умирать в темноте. Мне почему-то казалось, что вот догорит коптилка — и наступит конец. Потом лёг…
Я слушала его, и мне не было страшно. Наоборот, я чувствовала себя всё увереннее, я знала, что спасу этого человека. Лёг, решив больше не вставать… Значит, мог ещё и не ложиться, мог жить, я не сомневаюсь в этом. Он просто опустил руки, перестал бороться. Замерзают вот так же: перестают двигаться, потому что лечь кажется приятнее и как будто совсем ничего не болит. Тогда и умирают.
Я сказала спокойно и официально, насколько могла:
— Это всё ваши фантазии. Просто у вас нервы не в порядке. Вы работаете где-нибудь?
Лицо Сиверского исказила гримаса.
— Работаю? — переспросил он. — Мой институт эвакуирован. А я вот остался, себе на погибель.
— Та-ак, — отозвалась я. — Ну так вот, вы будете работать.
Глаза Сиверского широко раскрылись.
— Вы смеётесь, что ли? — тихо проговорил он.
— Я не смеюсь, — ответила я. — Поймите, в работе для вас единственное спасение. Поверьте мне. И потом — работать нужно. Если хотите, я вам расскажу…
— Я ничего не хочу слушать, — прервал меня Сиверский. — Я умирающий человек. Оставьте меня в покое.
Он повернулся ко мне спиной.
— Товарищ Сиверский, — громко сказала я, — по постановлению Ленсовета вы мобилизованы для работы в детском доме.
Сиверский повернул ко мне голову.
— А вы не сумасшедшая?
— Нет, — ответила я. — Теперь слушайте. Детдом будет здесь же, в этом доме. Через пять дней сюда привезут детей… Нет, через четыре дня.
Сиверский упорно смотрел на меня. Я продолжала:
— Вот мы и будем с вами работать в этом доме.
— Всё-таки один из нас ненормален, — медленно проговорил Сиверский. — Какой детдом? Я же не кормилица и не нянька. Я сам умираю от голода. Я встать с постели не могу…
— Можете, — жёстко сказала я. — Вы и сами ещё не знаете, что вы можете. Значит, с детдомом дело решённое. Теперь давайте что-нибудь поедим.
Глаза Сиверского снова оживились, но он ничего не сказал.
Я поднялась, взяла в руки коптилку и стала осматривать комнату. На подоконнике я заметила банку и в ней застывший суп. Я сразу поняла, что это за суп: он был приготовлен из белковых дрожжей. Мы с Ириной часто готовили такой суп.
— Послушайте, Антон Иванович, — крикнула я, — да у вас тут целый «гастроном»!
Сиверский по-прежнему молчал. Я подняла коптилку и хотела подойти ко второму подоконнику, но в это время голова моя сильно закружилась. Я очень испугалась, что сейчас потеряю сознание, обернулась, чтобы поискать стул. В этот момент всё поплыло перед моими глазами, язычок коптилки вытянулся и отдалился…
Потом я провалилась в темноту.
…Очнулась на кровати в той же комнате. Топилась печка. Сиверский сидел у печки на корточках, а я лежала на его постели. Помимо того, что я себя отвратительно чувствовала — ощущала горечь во рту, и немного кружилась голова, — мне было нестерпимо стыдно за свой обморок.
Сиверский неподвижно сидел у печки на корточках, спиной ко мне.
Позвала:
— Антон Иванович?
Он повернул голову, медленно поднялся и пошёл ко мне нетвёрдыми шагами.
— Ну как? — спросил Сиверский, подойдя к кровати.
Я молчала. Чего бы я сейчас не дала за то, чтобы не быть здесь!
«Вот, — думала я, — пришла, накричала на больного человека, грохнулась в обморок и его же заставила ухаживать за собой…»
Я быстро поднялась, чтобы уступить место Сиверскому. Но голова моя стала кружиться ещё больше, я повалилась на подушки.
— Лежите уж! — проворчал Сиверский, и мне показалось, что голос его окреп. — Тоже мне… детский сад…
Он осторожно присел на кровать рядом со мной.
— Это не от голода, — сказала я, — это просто от усталости.
— Усталость! — так же скрипуче отозвался Сиверский. — А вы держитесь.
Я лежала и думала, что провалила всё дело с детдомом. Теперь Сиверского не заставишь работать. Я чувствовала, что потеряла всё своё влияние. Мы будто ролями поменялись.
Спросила:
— Как это я грохнулась?
Он ответил:
— Так, очень просто. Обычное дело.
— И вы сами перетащили меня на кровать?
— Нет. На это меня бы не хватило. Пришлось пойти за соседкой. Вдвоём и то едва справились.
Я собралась с силами и встала.
— Ложитесь, — сказала я.
Сиверский ничего не ответил, но не лёг, а продолжал сидеть на кровати. Я подошла к печке. Было так приятно ощущать тепло, и клонило ко сну. Почему-то в этот момент мне захотелось взглянуть на Сашин адрес. Я полезла в карман стёганки. Кусок сухаря по-прежнему лежал там. Я нащупала бумажку и вытащила её.
При свете печки прочла номер полевой почты: пять цифр. Я попробовала заучить номер наизусть, но у меня ничего не вышло, я и трёх цифр подряд не могла запомнить. Что-то случилось с моей памятью.
— У вас ведь остался сухарь, — проговорил вдруг Сиверский, — его бы покрошить в суп и подогреть.
И почему-то только сейчас, после его слов, мне вдруг пришло в голову, что ведь я не дома и что вообще у меня нет никакого дома и я даже не знаю, где мне ночевать.
«Который может быть час?» — подумала я.
Я потеряла всякую ориентировку во времени. Вечер сейчас или ночь? Окна в комнате были плотно завешены. Я взглянула на Сиверского и увидела, что он вопросительно смотрит на меня, вспомнила вопрос насчёт супа и ответила:
— Конечно, накрошим. И разогреем.
Я прошла к подоконнику, взяла банку с супом, поставила её на печку и стала крошить в суп сухарь.
Раскрошила сухарь, подошла к Сиверскому и села рядом с ним на постель. Внезапно почувствовала бодрость, даже голова перестала кружиться.
— Ну вот, и вам лучше стало. Правда? — обратилась я к Сиверскому.
— Ничуть мне не лучше, — ворчливо ответил Сиверский. — Почему мне должно стать лучше?
Я хотела ему что-то ещё сказать, но в эту минуту дверь тихо открылась и в комнату вошла женщина. Она остановилась недалеко от порога и шёпотом спросила:
— Ну, отошли?
Она обращалась ко мне.
— Да, спасибо. Это вы меня перетаскивали?
— Такую перетащить нетрудно, — сказала женщина. — Вдвоём мы с Антоном Ивановичем.
Она подошла ближе.
…Я лежу на диване в комнате Анны Васильевны — так зовут эту женщину. Она увела меня ночевать к себе. Я ей ничего не говорила о работе в детдоме, но думаю, что она согласится. Насчёт Сиверского я считаю вопрос решённым, хотя не знаю ещё, что он, собственно, может делать в детдоме. Но лишний человек не помешает, хоть кровати поможет расставить. Но всё-таки три человека — это очень мало для такого дела. Где же я возьму печки, чтобы отопить хотя бы одну комнату? Вот скоро пройдёт ночь, и останется только четыре дня… Как бы мне хотелось сейчас, чтобы время остановилось! Два раза за эти последние дни мне хотелось остановить время: первый раз тогда, в «Астории»…
Но время бежит, тикают на стенке ходики. Хорошо, что они тикают. Анна Васильевна спит так неслышно, и вообще так тихо кругом, что кажется, я одна в доме, и мне делается страшно.
Мне не хочется спать. Это странно. В последние месяцы я всегда засыпала как мёртвая…
Где он сейчас? Думает ли обо мне, именно сейчас, в эту минуту? Нет, сейчас он, наверно, спит. Может быть, видит меня во сне? Я лежу, закрыв глаза, и мне кажется, что я на Ладоге. Я вспоминаю каждый день, прожитый там, каждый час, до мельчайших подробностей.
…Седьмого января я провалилась под лёд… Сейчас, в тёплой комнате, мне даже как-то приятно вспоминать об этом. Андрей Фёдорович послал меня на зенитную батарею, там что-то случилось с командиром. Это примерно в километре от нас. Больше полдороги прошла и вдруг чувствую: лёд подо мной дышит. Это жуткое чувство. Наверно, при землетрясении люди испытывают подобное. Я сделала шаг в сторону, но и здесь лёд дышал и слышалось лёгкое похрустывание. Говорят, что в таких случаях надо лечь на лёд, чтобы занять большую площадь. Но на это нельзя решиться, когда под тобой дышит лёд. Я побежала, лёд под ногами захрустел громче, затрещал, и в трещины стала просачиваться серая вода. Потом раздался очень громкий треск. Я закричала.
Меня точно обожгло всю, дыхание захватило, и будто сердце кто-то сжал изо всех сил в кулак, — и больше я ничего уже не помню…
Очнулась в своей палатке, на нарах. Первое, что я почувствовала, была сильная боль. Я лежала совершенно голая на полушубке. Потом я поняла, что боль в теле оттого, что Андрей Фёдорович и Смирнов растирают меня шерстяными рукавицами. Я смотрела в глаза Андрея Фёдоровича, ещё не отдавая себе отчёта в том, что происходит. Меня испугало их выражение. В его обычно спокойных и немного насмешливых глазах было что-то растерянное н жалкое.
Потом я схватила полу полушубка и завернулась в неё. И тотчас же растерянность в глазах Андрея Фёдоровича исчезла, и они снова стали спокойными и знакомыми.
— Не вертитесь, — сказал Андрей Фёдорович, отворачиваясь, но продолжая растирать мне грудь. — Никто на вас не смотрит, Венера Милосская.
Потом он спросил, всё так же не глядя на меня:
— Как вы себя чувствуете?
Я ответила, что хорошо, хотя это была неправда. Всё тело моё горело, и голова кружилась.
Андрей Фёдорович встал и подошёл к полочке. Там у нас стоял неприкосновенный запас спирта. Я видела, как он налил спирт в эмалированную трофейную кружку.
— Выпейте. — Он поднёс кружку к моему рту.
Я оттолкнула кружку и попросила:
— Уйдите, пожалуйста!
Андрей Фёдорович повернул ко мне лицо, и снова в его глазах я увидела то растерянное выражение, которое заметила, очнувшись.
— Куда уйти? — спросил он.
— Ну, вообще… отойдите куда-нибудь. — Я понимала, что говорю глупости. И, чтобы как-нибудь оправдать свои слова, добавила: — Мне надо одеться.
Андрей Фёдорович пожал плечами.
— Смирнов, дай ей сухие штаны и ватник.
Потом он встал, подошёл к полке, вылил спирт обратно в бутылку и, не глядя на меня, вышел из палатки. Смирнов отошёл в угол и стал копаться в вещевом мешке. И тогда мне стало очень жалко себя. До боли захотелось, чтобы вот сейчас откинулся полог палатки и вошёл Саша…
Я подумала: хочу ли я, чтобы он увидел меня именно сейчас, жалкую, с горящей покрасневшей кожей? Поцелует ли он моё осунувшееся лицо, мои грязные, спутанные волосы? И всё же мне так хотелось его увидать, как никогда ещё в эти дни.
— Одевайтесь. — Смирнов бросил мне из угла стёганые брюки и ватник…
…Это было только полтора месяца назад. И каждый день из этих полутора месяцев отдельно сохранился в моей памяти. А ведь это были похожие друг на друга дни! Вьюги и артобстрелы, громыхание цепей на трассе, обмороженные, обмороженные без конца, — кажется, всю жизнь перед моими глазами будет стоять этот буро-лиловый цвет. И на моей правой ноге выше колена такое же буро-лиловое пятно. Это след моего «крещения» в проруби.
Да, я запомню каждый из этих дней.
Я лежу и думаю, что хорошо бы сейчас написать ему письмо. Но об этом нечего и думать: нет ни бумаги, ни карандаша, ни света… Начать бы так:
«Родной, я пишу тебе это письмо ночью, в тёмной чужой комнате, я не вижу того, что пишу.
Как легко привыкаешь, и как трудно отвыкать. Вот я увидела тебя и сразу забыла о долгих месяцах разлуки, и, если бы мы были с тобой вместе чуть-чуть подольше, я и совсем забыла бы о них. Но вот мы снова расстались, и теперь мне опять будет трудно отвыкнуть от тебя — нет, не то слово, — освоиться с мыслью, что ты не рядом.
Я просто не представляю себе, что было время, когда мы ничего не знали друг о друге. Я верю… я знаю, Саша, что бережно пронесу моё чувство к тебе через всё, и через это тяжкое время. Мы встретимся наконец, чтобы уже никогда больше не расставаться.
Всё-таки странной была наша встреча! Проходили целые минуты, когда мы просто молчали. А ведь мы были вместе всего лишь сутки…
Какая странная штука жизнь. Как много делаем мы неверного, но слишком поздно узнаем, что это неверно, и как много изменила в нас война. Мы научились по-настоящему ценить жизнь…
Сейчас опять начался где-то обстрел, только это далеко от того места, где я нахожусь, и мне вдруг стало очень странно от сознания, что враг очень близко. И всегда, когда мне приходит это в голову, мне кажется, что не одни лишь орудия преграждают немцам путь в Ленинград, не только траншеи и баррикады, но что-то такое, чего немцы никогда не смогут преступить…
Как тихо кругом, только ходики тикают. А мне чудится, что это метроном. Только вряд ли метроном стучит сейчас так спокойно, ведь обстрел…»
Мы никогда не говорили друг другу, что любим… И ведь мы никогда не были особенно ласковы друг с другом… Это всё у нас как бы само собой подразумевалось. А сейчас я так злюсь на себя: я должна была бы быть в тысячу раз ласковее, нежней с ним, ведь он тоже так одинок и так нуждается в ласке… Но не умею я, наверно…
Как хочется мне быть как можно ближе к нему… Мне хочется быть сейчас около него, посмотреть, как он спит.
«Милый, я скажу тебе сейчас правду, только ты не бойся за меня. Мне очень тяжело и очень страшно, и я не уверена уже, что смогу дальше переносить все это…
Я верю, что наши теперешние страдания не могут, не должны остаться без вознаграждения… Разве это не справедливо, чтобы те, кто был честным, оказавшись наедине со своей совестью, обрели бы наконец счастье? А как хочется жить!
Вот пробило три. Я и представить себе не могла, что эти часы бьют. Они бьют хрипло и торопливо, как метроном. Ну, надо спать. Как много дел завтра. Даже не знаю, с чего начать. Посоветуй мне что-нибудь!
Но ведь ты далеко от меня и, наверно, уже спишь».
Было пасмурно за окном, когда я проснулась. Невозможно определить, утро сейчас или день. Ходики стояли. Но всё же я интуитивно почувствовала, что уже поздно. Моя хозяйка сидела у окна и смотрела на улицу.
— Анна Васильевна, — сказала я, поднимаясь с постели, — что же вы меня не разбудили? Ведь так всё на свете проспать можно!
Анна Васильевна медленно повернула ко мне голову.
— А ты спи, спи!
Но я уже встала. Мне очень хотелось умыться — на Ладоге мы каждое утро умывались снегом, — но я вспомнила, какой проблемой является здесь вода, и отбросила мысль об умывании. Есть мне совершенно не хотелось, как обычно с утра.
Я ничего не ответила Анне Васильевне. Подошла к висевшему над столом зеркалу и стала причёсываться. Увидела, что под глазами у меня появились небольшие мешки, наверно, после вчерашнего обморока. Я стала причёсываться, стараясь не обращать внимания на лицо.
— Вот зеркало-то и пригодилось, — заявила Анна Васильевна, — а то я его всё завесить хотела.
— Анна Васильевна, — начала я, — в вашем доме организуется стационар для детей. Мы все там будем работать. И вы тоже.
Я ожидала повторения разговора с Сиверским. Я знала: эти люди больны, живут в постоянной расслабляющей дремоте, постепенно переходящей в смерть. И каждый, кто хочет вывести их из этого состояния, кажется им жестоким мучителем. Но, вопреки моим ожиданиям, никаких возражений не последовало. Анна Васильевна сказала:
— Ну, я ещё, допустим, туда-сюда. Но с тем дистрофиком ничего вы не поделаете. — Она имела в виду Сиверского.
— Посмотрю. Давайте сейчас зайдём к нему…
Мы остановились перед дверью Сиверского.
— Тише, — проговорила я. — Если он ещё спит, мы не будем его будить.
Приоткрыв дверь, я чуть не вскрикнула от удивления: Антон Иванович брился. Он сидел у стола перед окном и медленно водил бритвой по намыленному лицу.
Я прикрыла дверь.
— Ну что? — спросила Анна Васильевна. — Лежит?
— Нет, — поспешно ответила я, увлекая Анну Васильевну подальше от двери. — Нет, но мы сейчас не будем его трогать.
Мы снова вошли в комнату Анны Васильевны, и я сказала, что пойду за пайком и похлопотать насчёт печей. Я говорила совершенно спокойно, но готова была кричать от радости: Антон Иванович брился! Это значит — он встал с постели, раздобыл где-то воду, отыскал бритву и вообще сделал массу дел, которые, как ему самому казалось, он никогда уже не сможет больше делать.
Но я ничего не сказала Анне Васильевне. Я только попросила её раздобыть ещё кого-нибудь на помощь — двоих-троих — и ждать меня.
Затем показала Анне Васильевне, где будет находиться стационар.
Она внимательно оглядела комнаты, покачала головой, но ничего не сказала.
Я ушла.
На улице остановилась в раздумье: с чего начать? Прежде всего надо было пойти за пайком, это бесспорно. Ну, а затем?
— Затем пойду к Ирине, — сказала я вслух.
Получила свой паёк на три дня. К сожалению, не удалось получить продовольствия для Сиверского и Анны Васильевны, так как трудно было сразу их оформить. Там же, на продпункте, я узнала, который час. Было уже половина первого. Я увязала продукты в свой вещевой мешок, хотя они с успехом уместились бы в карманах, и вышла на Невский.
Прежде всего я отломила кусочек сухаря и засунула его в рот. Затем направилась к Ирине.
Теперь я знала, зачем иду к ней. Не советоваться, не размышлять, приниматься мне за детский дом или нет. Я шла с просьбой изготовить мне на заводе несколько железных печек и раздобыть пять-шесть листов фанеры. Я попробовала идти быстрее, чтобы засветло вернуться обратно, но, пройдя с полквартала, должна была замедлить шаг: у меня начала кружиться голова. Я испугалась — не грохнуться бы, чего доброго, здесь, посредине улицы. Тогда конец.
И тут же подумала: отчего это я стала так бояться смерти? Ведь ещё так недавно я совсем её не страшилась. Это потому, наверно, что нашёлся Саша, и ещё потому, что мне поручено неотложное дело.
Стала дышать глубже и пошла медленнее.
Подул ветер, и верхушки сугробов задымились. Я шла всё дальше по Невскому. Стучал метроном. Трудно было определить, где установлен репродуктор. Я шла всё вперёд и вперёд, а метроном стучал по-прежнему громко. Мне стало казаться, что он стучит в стене каждого дома, будто притаившийся сверчок.
А вот покоробившийся и оледенелый, такой знакомый плакат со словами Джамбула:
Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя! Мне в струе степного ручья Виден отблеск невской струи…Этот плакат остро напомнил мне первые месяцы наступления немцев на Ленинград. Первые тревоги, первые телефонные звонки знакомых: «Вы выезжаете? Нет? А мы решили…» Тревога, тревога и неизвестность — вот что связывалось в моём сознании с этим плакатом.
«Как всё ясно стало теперь, — подумала я. — И положение понятно, и что делать — ясно, и люди стали понятными и ясными».
Мне надо три печки… Впрочем, обойдусь даже двумя. Поставить следует их в спальне. Первое время придётся всё делать в одной комнате. Вот только с кухней не знаю как быть. Оборудовать кухню сейчас просто невозможно, придётся готовить в одной из соседних квартир.
Для работы мне нужно ещё человека четыре. Всемером мы справимся. Что поручить Сиверскому? Как администратор или, скажем, завхоз он явно не годится. Нянька из него тоже плохая, в этом он прав.
Мне было радостно вспоминать о Сиверском. Радостно видеть, как человек ушёл от смерти. Никогда раньше смерть не казалась мне такой ощутимой. За эти месяцы она потеряла для меня всю свою таинственность. Я знала уже все её приёмы.
Сиверский брился! Вот так и уходят от смерти.
За время блокады мне стало казаться, что у каждого человека есть какой-то неприкосновенный, «аварийный» запас мужества. Но использовать этот запас для себя человек не может, он жертвует его только ради спасения другого человека. Вот Сиверский и использовал это мужество…
Я свернула на Литейный и пошла по направлению к Неве. По пути мне попался удивительно красивый дом; я и в мирное время всегда любовалась им. Мне тогда казалось, что вот каким-то счастливым людям повезло: они живут в необычных, непохожих на другие домах. Особенно меня пленяла мозаика из разноцветных стёкол над большой парадной дверью.
Сейчас дверь была заколочена и почти все стёкла над ней выбиты. На снегу, у подъезда, валялись разноцветные осколки.
Я подняла маленький жёлтый кусочек и посмотрела в него. И всё передо мной сразу стало светло-жёлтым, очень радостным и спокойным, будто в ясный летний день, когда всё залито солнцем и на небе нет ни облачка. Очень я любила именно такие, редкие в Ленинграде, дни.
Мне не хотелось отрываться от стекла и снова возвращаться в реальный мир. Я вспомнила, что это ведь было моей любимой детской забавой — смотреть в разноцветные стёкла, изменять мир по своему желанию, — и подумала: оставлю стекло и подарю его кому-нибудь из моих детдомовских питомцев. Подняла ещё несколько разноцветных стёклышек и опустила их в карман, — и в этот момент особо остро ощутила, что соскучилась по светлым краскам, по весёлым, радостным тонам. Всё вокруг было серым, суровым, тревожным.
Я подходила к Неве. Вдоль набережной стояли вмёрзшие в лёд большие военные корабли. Было странно и как-то обидно видеть их здесь, в узкой реке, зажатыми в прибрежном граните.
— Всё изменится, — сказала я вслух, чтобы просто утешить себя.
В последнее время я часто стала говорить сама с собой вслух, — раньше этого за мной не водилось. «Всё изменится», — повторила я, на этот раз уже про себя. Задымят корабли и уйдут из Невы в море, и снег растает, и дома засияют огнями. Если бы хоть на минуту кто-нибудь отнял у меня эту веру, мне кажется, я в ту же минуту умерла бы…
Мне опять захотелось есть. Отломила ещё кусочек сухаря и стала жевать. Как нарочно, в этот момент я проходила мимо магазина, на случайно сохранившейся витрине которого ещё с мирных времён сохранилась бутафория: бело-розовый поросёнок, кольца колбасы и банки с маринованными огурцами. Конечно, было очень жестоко оставлять всю эту бутафорию. Я долго стояла у окна и не могла оторваться. Но надо было торопиться. Я пошла, стараясь установить ту грань быстроты, за которой начинается головокружение.
Мне повстречались девочка лет пятнадцати и мальчик лет семи; они везли на санках тело, завёрнутое в белое. Я не боюсь сказать, что привыкла к встрече с мертвецами. Я просто не обращала на них внимания. Может быть, когда-нибудь мне будет страшно даже вспомнить об этом.
— Постой! — обратилась я к девочке. — Дней через пять ты можешь привести брата в детский стационар. Запиши адрес.
— Да мы уж помрём тогда! — прохрипел мальчик. Он слегка подтолкнул сестру: — Ну, двигай, что ли.
— Нет, ты возьми всё же адрес, — остановила я девочку. — Постой, я тебе сейчас напишу.
Я полезла в карман за карандашом и наткнулась на сухари.
Несколько секунд раздумывала… Да, я не сразу решилась… Потом отщипнула кусочек сухаря, не вынимая его из кармана.
— Ешьте, — сказала я, протягивая кусочек на ладони.
В ту же секунду мальчик схватил его и проглотил. Девочка не сделала при этом ни одного движения. Я отщипнула ещё маленький кусочек и дала девочке. Она посмотрела на брата и положила кусочек в рот.
— Через пять дней можешь приводить, — повторила я девочке, передавая адрес детдома. — Даже через четыре.
Она взяла бумажку, положила в карман и растерянно посмотрела на брата.
Отойдя несколько шагов, я обернулась. Девочка медленно, рывками тащила за собой сани, а мальчик шёл сзади, пошатываясь…
Ирину я на заводе не застала. Мне сказали, что она ушла в райком партии.
Я не знала, что мне делать: ждать ли Ирину и рисковать потерять ещё день или идти обратно. Но мне нужны были печки.
Я решила ждать. Спустилась вниз, в общежитие, и уселась на Ирининой кровати, под противоипритным костюмом. В комнате было холодно, печь давно не топили. Я смотрела на печку, маленькую железную печку, стоящую посредине комнаты. Вот такая-то мне и была нужна!
У меня начали мёрзнуть ноги. Я принялась ходить по комнате. «Очевидно, все девушки на дежурстве», — подумала я. И мне вдруг очень захотелось совсем не уходить отсюда: в этой комнате и с этими людьми я прожила полтора месяца, и каких! Вечерами мы были все вместе, и если кто-нибудь доходил «до точки», остальные приходили ему на помощь. «Трудно быть одной, когда тяжело, — подумала я. — Вот когда всё хорошо, можно и одной прожить, а когда тяжело — трудно».
Потом я подумала, что надо скорее написать Саше. Вдруг изменится адрес его полевой почты, а он и написать-то мне не сможет, потому что не будет знать моего адреса. Ведь он уверен, что я в армии! А я опять в Ленинграде. Не судьба мне, видно, расставаться с Ленинградом. А всё-таки я уеду, как только организую детдом. Добьюсь перевода в армию.
Я решила сейчас же написать ему письмо. Вытащила из кармана карандаш и бумагу. Пальцы мои настолько закоченели, что мне трудно было держать в руках карандаш.
«Саша, родной…» — начала я и вспомнила, что прошлой ночью мысленно написала ему хорошее письмо. Но сейчас не помнила из него ни одного слова.
«…Ну вот, всего два дня прошло с тех пор, как ты уехал, и, наверно, сейчас ещё добираешься до места на «перекладных». А я сижу у Ирины в комнате одна, только ты, Сашенька, всегда со мной. Ты, конечно, думаешь, что я уже в армии, но ситуация изменилась: меня пока оставили в Ленинграде и поручили организовать стационар для детей, оставшихся без родителей и без дома. Так что ты пиши мне пока в Ленинград, на адрес Ирины, я думаю, это будет вернее. Сейчас у меня масса хлопот…»
Карандаш вываливался из руки, до того закоченели пальцы. Я несколько раз быстро прошлась по комнате. Около Ирининой кровати стояла тумбочка, и я зачем-то открыла ящик. Там лежали какие-то бумаги, а поверх — портрет Григория, мужа Ирины, и сбоку — маленькое зеркало, коробочка пудры. Я открыла коробочку. Там была хорошая, довоенная пудра. Я опустила палец в пудру, провела по лицу и взглянула в зеркало. Розоватая полоска на моём обветренном и нечистом лице выглядела смешно и нелепо… Вспомнила: а ведь я и не умывалась сегодня! Потом рассматривала портрет Григория. Мы так часто проводили вечера втроём: Ирина, Григорий и я. Неужели этот человек больше не существует? А вдруг в том сообщении была какая-нибудь ошибка?
«Всё-таки я счастливее Ирины, — решила я. — Вот на столе лежит моё письмо Саше. Пройдут дни — и он получит его и прочтёт, а потом и я буду читать письмо, написанное его рукой».
Ирина должна была вернуться с минуты на минуту. Мне показалось жестоким писать при ней; я положила начатое письмо в карман.
Потом перед моими глазами снова проплыло лицо того мальчика. Я подумала: «А как же будет жить дальше такой мальчик? Как будет он смотреть на мир своими рано состарившимися злыми глазами? Да ведь у него уже морщинки на лице! Сколько радостей, сколько счастья должен испытать он в будущем, чтобы загладились эти морщинки и исчез волчий блеск в глазах».
Интересно, придёт он ко мне или нет? Через четыре дня. Но ведь у меня ничего не будет готово через четыре дня!
А Ирины всё не было. Я подошла к двери, открыла её, прислушалась. Было тихо, только из цеха доносились приглушённые вздохи парового молота. С каждой минутой я всё больше приходила в отчаяние. За это время я смогла бы сделать массу дел, по крайней мере комнату привести в порядок. А теперь будет уже темно, когда я вернусь. «А куда я, собственно, вернусь? — спросила я себя. — Разве у меня есть дом? Придётся ещё раз переночевать у Анны Васильевны», — решила я. У меня было такое ощущение, что я могу зайти в любой ленинградский дом, в любое место, где были люди, и заявить: «Я пришла к вам ночевать».
И я подумала: почему каждый раз, когда я остаюсь одна и у меня нет какого-то дела, от которого зависят судьбы других людей, меня начинает мучить ощущение бездомности и я с тревогой начинаю думать о том, что мне делать вечером и где я буду спать? Но как только у меня появляется такое дело, я уже не боюсь ночи и проблема ночёвки становится для меня какой-то отвлечённой.
Я случайно взглянула на противоипритный костюм, висевший на стенке, к которому я уже привыкла и как-то не замечала, и почему-то почувствовала раздражение. Чего он висит тут, зелёный и скользкий! Тоже украшение! Надо посоветовать Ирине снять его. Только я успела подумать об этом, как в комнату вошла Ирина.
— Ты не уехала? — удивлённо и радостно воскликнула она, увидев меня. — А я думала, что ты уже в армии.
— Не доехала!
И я рассказала ей всю историю с детдомом.
Ирина сидела на кровати, так и не сняв своей сдвинутой на затылок кубанки. Когда я начала говорить о печках, Ирина задумчиво покачала головой.
Я прервала рассказ, с тревогой ожидая, что же она ответит. При малейшем намёке на отказ с её стороны я бы не повторила своей просьбы; мы никогда не считались с ней куском хлеба, какой-либо вещью, но здесь речь шла о добавочном труде, а я знала, что сейчас каждый работал на пределе.
— Насчёт печек надо поговорить с Никанором Семёновичем, — проговорила наконец Ирина.
Я не сразу сообразила, что речь идёт о том самом парнишке, которого я встретила у неё.
Никанора Семёновича мы застали в конторке. Он не сидел на стуле, а стоял на нём на коленях и рассматривал какой-то чертёж.
Когда мы вошли, Никанор Семёнович медленно слез со стула, подвинул на затылок прожжённую во многих местах будёновку и сказал, кивая на чертёж:
— Чего-то я не разберусь тут, Ирина Григорьевна, больно долго ты ходишь.
— Сейчас разберёмся, Никанор Семёнович, — сказала Ирина, и мне опять стало непонятно, как это она может разговаривать с этим мальчиком всерьёз, даже без тени улыбки. — Вот Лиде нашей печки нужны, — продолжала Ирина, — ей детдом поручили организовать. Как бы ей помочь?
— Какие печки-то? — спросил Никанор Семёнович, но в эту минуту кто-то позвал Ирину из цеха, и она вышла, сказав:
— Ну, вы тут договоритесь.
— Что за печки такие? — повторил Никанор Семёнович, обращаясь уже ко мне.
— Да самые обыкновенные, ну, «буржуйки», — поспешно ответила я. — Хоть три или даже две на первое время. Через три дня начнут приводить детей, а в комнате иней на полу.
Никанор Семёнович глубокомысленно сдвинул свою шапку ещё дальше на затылок.
— Придумайте что-нибудь, Никанор Семёнович, — попросила я, хоть за минуту до этого не знала, как мне звать этого мальчика, на «ты» или на «вы».
— Железо-то найдётся… Сейчас обсудим, — деловито сказал Никанор Семёнович и вышел из конторки.
Он вернулся в сопровождении трёх подростков, сел на стул и проговорил:
— Ну вот, ей печки нужны. Сколотите, что ли, комсомолия! А то там у неё ребята замёрзнут.
Несмотря на то что решался очень важный для меня вопрос, я не могла удержаться от улыбки. Мальчик говорил с ребятами тоном старшего, опытного мастера.
Они сосредоточенно молчали.
— Вы помогите мне, ребята, — попросила я. — Через три дня привезут детей, а холод у нас лютый.
Нет, я была никудышным агитатором. Но мне как-то странно было уговаривать детей сочувственно отнестись к детям. Со взрослыми мне было бы легче говорить об этом.
— Там железо-то есть, — продолжал Никанор Семёнович после длительной паузы и ни к кому специально не обращаясь. — После смены постучали бы часок, а то и впрямь ребята замёрзнут.
Тогда один из ребят, в высоких, явно с отцовской ноги, валенках, сказал:
— Ладно, собьём!
Потом все, кроме Никанора Семёновича, гурьбой вышли.
— Сделают, — подмигнул мне Никанор Семёнович. — Я им, понимаешь, приказать не мог, тут на сознательность надо действовать.
Вошла Ирина. Но я уже собиралась уходить. После того как дело было сделано, мне не хотелось терять ни минуты. Мы договорились, что завтра я приду с санками и увезу печки.
Когда я вышла на улицу, уже смеркалось.
Я долго шла, прежде чем услышала за спиной знакомый звук: звяк, звяк…
Это быстро приближались машины. Когда расстояние между нами стало совсем небольшим, я резко подняла руку. Машина остановилась, почти коснувшись меня радиатором, и шофёр, высунувшись в разбитое окно кабины, стал отчаянно ругаться.
— Спокойно, спокойно, земляк, — говорила я, подходя к кабине.
Но на шофёра это не произвело ни малейшего впечатления.
— Машина гружёная! — орал он. — Куда я тебя, чёртову куклу, посажу, на колесо, что ли? Регулировщик выискался! Стукнуло бы радиатором, знала бы, как машины останавливать!
Я нисколько не обиделась на эту ругань, потому что все шофёры одинаковы и все они вначале ругаются, когда останавливаешь машину. Я спокойно выслушала его, а потом так же спокойно спросила:
— Ну, теперь можно залезать?
Шофёр внимательно посмотрел на меня и неожиданно сказал:
— Ну, шут с тобой, лезь, раз такая отчаянная.
Быстро взобралась наверх и крикнула оттуда:
— Поехали!
Машина тронулась, я ухватилась за верёвки, которыми был перевязан груз, потому что каждую минуту рисковала скатиться вниз. Главное, скорее добраться! Тут я вспомнила, что даже не спросила шофёра, куда он едет. Может быть, машина идёт совсем не туда, куда мне нужно. Но теперь спрашивать было уже поздно. Я стала внимательно следить за улицами, по которым мы ехала. Мне явно везло, пока что мы приближались к моему дому, проехали через мост. Когда-то мы с Сашей ночью пошли гулять, перешли через этот мост, а когда вернулись обратно, оказалось, что мост разведён до утра. Так мы тогда и прогуляли всю ночь… Как раз в этот момент, когда я подумала: «Как хорошо получилось всё, как мне повезло», — машина вдруг свернула и поехала в совершенно другом направлении. Я закричала:
— Стой, стой! — Но шофёр делал вид, что не слышит. Наконец он затормозил. Я с трудом разжала закоченевшие пальцы и кое-как спустилась вниз.
— Ну как, регулировщик? Нос не отмёрз? — крикнул шофёр, высовываясь из кабины.
— Смотри, чтобы у самого не отмёрз! — прокричала я в ответ и зашагала в свою сторону.
Как я замёрзла! У меня даже не было сил, чтобы снять рукавицы и посмотреть, не отморозила ли я пальцы. И ступни мои совершенно не сгибались, я шла, волоча ноги, будто на лыжах.
Наконец я увидела свой дом. Кое-как добралась до ворот, но, перед тем как войти под арку, не удержалась и заглянула в подъезд школы.
Очевидно, я ошиблась подъездом: посредине заваленной снегом лестницы наверх вела узкая расчищенная дорожка. Я ещё раз оглядела дом с улицы и даже заглянула на номер. Нет, всё было правильно, тот самый дом. Откуда же взялась эта дорожка? На минуту я даже перестала чувствовать холод. Неужели райздрав прислал людей и они расчистили лестницу? Я решительно шагнула в подъезд и стала подниматься наверх.
Когда я добралась до второго этажа, мне показалось, что я слышу голоса. Они раздавались оттуда, из комнат. Я быстро вошла в дверь и увидела… Я готова была заплакать от радости, когда увидела то, что происходило в последней комнате. Анна Васильевна мыла пол, Сиверский, стоя на подоконнике, завешивал окно одеялом, остальные окна были уже прикрыты подушками и каким-то тряпьём. Две незнакомые мне девушки стелили бельё на расставленные вдоль стен кровати.
Я чувствовала, что если раскрою рот, если скажу хоть одно слово, то обязательно разревусь. Я стояла за порогом, смотрела на всё происходящее и старалась успокоиться. Я не могла понять, что произошло, какая сила заставила этих людей делать то, что они сейчас делали. И я не знала, как сейчас себя вести: начать ли обнимать их и целовать или, наоборот, сделать вид, что всё идёт так, как я и ожидала.
Анна Васильевна мыла пол, подолгу задерживаясь на одном месте. Слышно было её тяжёлое дыхание. Я поняла, что она боролась с оцепенением, которое охватывало её каждый раз, когда ей приходилось нагибаться. Но больше всего меня удивило то, что от воды, которой Анна Васильевна мыла пол, шёл пар: вода, очевидно, была горячей, а это казалось уже совсем невероятным.
Я видела, как неуверенно Сиверский, стоя на подоконнике, вбивает гвоздь. Это были робкие, слабые удары.
В комнате из-за завешенных окон стоял полумрак, и поэтому меня не было видно. Моё волнение не проходило. Я всё ещё не решалась войти. Я думала: «Как бы мне отблагодарить этих людей?»
— Ну какие же вы молодцы, товарищи! — воскликнула я, входя наконец в комнату. — С печками у меня тоже всё в порядке! Завтра привезём.
Я сказала это так, точно никогда не сомневалась, что застану всех именно здесь, и за работой. Анна Васильевна выпрямилась.
— А мы тут кое-что сообразили. Грязи-то было, мать моя! Спасибо, девушки подсобили.
Я посмотрела на девушек, которые стелили постели. Они обе были молодые, хотя я не взялась бы определить, сколько им лет.
Одну из девушек звали Катя, другую — Валя. Обе жили в этом же доме.
На двух табуретках лежали кучки неизвестно откуда появившегося белья. Девушки раскладывали его по постелям. Одна из них сказала:
— Придётся ребятам по двое в постелях спать, а то белья не хватит.
Я ответила, что на первое время можно и по двое, и у нас завязался деловой разговор о том, как мы будем принимать ребят. А Сиверский всё стоял на подоконнике с молотком в руке, хотя окно уже было забито. Чисто выбритый, он совсем не походил на тот полутруп, который я застала вчера в постели.
Я посмотрела на него так, как будто не было ничего более естественного, чем видеть его на подоконнике, и спросила:
— А продувать не будет?
— Конечно, будет, — ответил он, — не фанера!
В комнате стало совсем темно, и работы пришлось прекратить.
— Ночевать у меня будешь, начальница? — спросила Анна Васильевна.
Я ответила утвердительно. Затем мы все вышли из комнаты, и я, проходя через правую, захламлённую анфиладу комнат, поняла, как много удалось сегодня сделать.
Мы гуськом спустились по расчищенной снеговой дорожке. Перед тем как разойтись по квартирам, я сказала, что завтра мы соберёмся часов в восемь утра, пойдём за печками, а потом я зайду в райздрав, оформлю всех новых работников детдома и получу на них карточки. Мы простились, и я пошла за Анной Васильевной.
В своей комнате Анна Васильевна зажгла коптилку — кусочек марли, плавающий в маслянистой жидкости. Эти коптилки придавали всем комнатам одинаковый вид.
Мы сели на кровать, и я только сейчас почувствовала, что смертельно устала.
Анна Васильевна сидела выпрямившись, положив руки на колени, и пристально наблюдала за огоньком коптилки.
Вот так мы и сидели некоторое время молча, потом я подумала, что ведь, в сущности, ничего не знаю об этой женщине, которая сидит вот тут на постели, рядом со мной. Но я чувствовала к ней удивительную симпатию. Я посмотрела на неё украдкой: лицо её казалось продолговатым, — может быть, от света коптилки, и не слишком худым. Отпечаток спокойствия и просветлённости лежал на нём.
Но не только спокойствие видела я на лице Анны Васильевны. На нём отражалась постоянная готовность ответить на все твои невысказанные мысли. Со мной часто бывает так: вот хочешь что-то сказать, но в последнюю секунду удерживаешь уже готовые сорваться с языка слова. А потом с испугом смотришь на лицо собеседника: не услышал ли он? И вдруг читаешь на лице: да, услышал и хочет ответить. А ведь ты ничего не сказала… Вот то же самое видела я на лице Анны Васильевны.
Сколько ей было лет? Не знаю… Лет под сорок, пожалуй.
— Холодно, — вдруг сказала я неожиданно для самой себя.
Анна Васильевна вздрогнула, едва заметным усилием оторвала взгляд от пламени, повернулась ко мне.
— А вот я заметила, — проговорила она, — если на огонь долго смотреть, то как-то теплее становится. Но это так, себя уговариваешь.
Потом она встала, подняла стул, внимательно осмотрела со всех сторон и вдруг с размаху с силой ударила об пол. Две ножки отлетели в сторону.
— На растопку есть.
— Зачем вы! — вырвалось у меня.
Через несколько минут в печке жарко пылал огонь. И опять, глядя на красные угли, я вспомнила, как Саша любил смотреть в пылающую печь. Я вспомнила это и схватилась за карман: ведь там у меня лежало неоконченное письмо к нему. Нащупала бумагу. Письмо было на месте.
«Сегодня обязательно допишу», — подумала я.
— Ну вот, гори-гори ясно, — сказала Анна Васильевна, отходя от печки. — Теперь поедим, пожалуй?
— Конечно, конечно, — заторопилась я, развязывая свой вещевой мешок, — вот сухари, концентрат…
— А у меня есть суп, — объявила Анна Васильевна. Она взяла с окна кастрюлю и поставила её на печь.
Мы поужинали, потом проболтали до полуночи. Мы не говорили ни о детдоме, ни об обстрелах, ни о еде. Мы мечтали. Это получилось как-то невольно; кажется, я заметила по какому-то поводу: «Вот когда кончится война…» С этого и началось.
— Эх, и ремонт тут придётся делать после войны! — как-то очень просто, по-будничному проговорила Анна Васильевна.
Потом она стала рассказывать, как хорошо они жили до войны с мужем. Её муж был партийным работником.
Мне стало завидно, и я сочинила целый рассказ о Саше и о том, как мы жили вместе…
Анна Васильевна показала мне свой альбом. Я и Саша вообще не любили фотографий и почти никогда не снимались, а теперь я так жалела, что у меня нет Сашиной карточки. В этом альбоме были ленинградские виды, фотографии самой Анны Васильевны и её мужа, их друзей, коллективное фото заводской парторганизации. Анна Васильевна перевёртывала страницы альбома медленно и торжественно, точно перелистывала страницы своей жизни… Отложив альбом в сторону, она мечтательно сказала:
— Вот кончится война, вернётся муж, и поедем мы вместе с ним на какую-нибудь новостройку… — Она посмотрела в окно на занесённую снегом улицу.
…Ночью, лёжа в постели, я вспомнила, что есть сказка о каком-то кристалле. Если в него посмотреть, станут видны все скрытые качества и свойства человека… Вот, мне кажется, я иногда смотрю в такой кристалл… И не удержалась и рассказала об этом Анне Васильевне, которая всё ещё не спала. Она ответила, что кристалл — это, пожалуй, выдумка, а вот, внимательно глядя на человека, действительно видишь не только его, но и себя. Я сразу не поняла, что она этим хотела сказать, а вот теперь мне кажется, что понимаю и что она, пожалуй, права…
Сейчас Анна Васильевна спит, и так тихо, будто совершенно не дышит. Я так и не могла уговорить её лечь на кровать, она постелила себе на кушетке. Дрова в печке прогорели, и в сером пепле едва светятся красные угольки… А мне не спится, я встаю, зажигаю коптилку и сажусь писать Саше письмо. Только отправлю его уже завтра, когда пойду на завод за печками…
Проснулась ночью. Сижу за столом. Очевидно, так за столом и заснула… Сейчас обстрел, только где-то далеко от дома, где я нахожусь. Бум… пауза… бум… Вот сейчас где-то рушится дом… Бум… Как трудно привыкнуть к этому!..
Ну, всё-таки надо лечь: завтра много работы.
…Утром меня разбудила Анна Васильевна. Мы съели по сухарю и по маленькому кусочку сала, которое было у меня в пайке, и пошли собирать людей. Сиверский ещё спал. Когда мы его разбудили, он начал было говорить, что навряд ли поднимется сегодня с постели, так плохо себя чувствует. Но мы даже договорить ему не дали, а сказали, что через двадцать минут ждём его в школе. Затем мы пошли за Катей и Валей, которых вчера завербовала Анна Васильевна. Обе девушки были уже на ногах, и мы все вместе направились в школу. Там по-прежнему стоял собачий холод, несмотря на завешенные окна. Бельё на кроватях заледенело, и его пришлось снять: постелем, когда будут установлены печки. Пол снова покрылся инеем.
Но всё это не приводило меня сегодня в отчаяние. Теперь я твёрдо была уверена, что всё будет в порядке. Жаль только, что в комнате стоит полумрак, хотя день такой солнечный, яркий. Но ничего не поделаешь, приходится мириться с этим.
Потом решили: я и Анна Васильевна пойдём за печками, а Сиверский и девушки займутся расчисткой входной лестницы.
Санки мы раздобыли у дворника, тут же договорились с ним об установке печек и пошли на завод.
Добрались без особых происшествий, если не считать, что на Литейном нас захватил обстрел и пришлось с полчаса ждать, потому что снаряды падали где-то совсем рядом…
На заводе Ирину мы не застали, но она оставила мне в конторке записку, что печки готовы и стоят внизу, в нашей комнате. Я спустилась вниз и действительно нашла две печки с трубами. Никанор Семёнович сдержал своё слово.
Когда мы через весь город везли их в детдом, я чувствовала себя прямо-таки на седьмом небе от счастья. «Когда чего-нибудь сильно захочешь, — думала я, — всегда добьёшься!»
Мне показалось, что мы дошли до дому гораздо скорее, чем шли от дома до завода. Я ещё издали заметила, что наши девушки работают в подъезде. Мы торжественно подвезли печки к школе.
Сиверский стоял на верху лестницы и небольшим ломиком сбивал лёд. Вид у него был хмурый.
Мы с Анной Васильевной оставили пока печки у подъезда и сменили девушек.
Кстати, о девушках, — я ведь ещё ничего о них толком не рассказала. Так вот, одна из них, Катя, была высокой и очень молоденькой, ей вряд ли было больше семнадцати лет. Очевидно, она была близорукой, потому что всё время щурила свои и без того маленькие глазки. Лицо у неё было очень исхудалым. Другая, Валя, была, по-моему, ещё моложе и казалась полной, но это, верно, от бесчисленного количества одёжек, которые она надевала на себя.
Анна Васильевна рассказала мне, что обе девушки до войны учились в последнем классе десятилетки, а теперь школа не работает. Катя жила с матерью, но мать недавно умерла, а у Вали умерла тётка, у которой она воспитывалась, и сейчас девушки живут вдвоём. Анна Васильевна сказала, что они охотно согласились работать в детдоме.
Очищали лестницу, выбрасывали снег на улицу, и перед нашим подъездом уже выросла порядочная горка. Какая-то женщина, проходившая по другой стороне улицы, остановилась напротив нашего дома и с удивлением смотрела, как мы работаем. На её лице промелькнуло подобие улыбки, или оно просто стало как-то светлее.
Я работала и чувствовала радость от сознания, что я опять не одна, что я обрела новых друзей. Как много друзей приобрела я за время войны и как странно подчас переплетались наши пути!
Я очень быстро устала, но понимала, что и всем остальным так же трудно, и не выпускала из рук лопату.
Мы проложили уже широкую дорожку по лестнице, но самой лестницы, камня, ещё не было видно. А нам хотелось очистить лестницу до камня, чтобы людям не было скользко, когда они будут вносить носилки наверх.
Мне казалось, что я откапываю какой-то клад, — наверно, археологи на раскопках чувствуют себя так же. Наконец моя лопата со звоном ударилась о камень. И Анна Васильевна докопалась до ступенек, и скоро все наши лопаты стучали о камень, сбрасывая со ступенек последний лёд.
…Увлёкшись работой, я и не заметила, что женщина напротив всё стоит и смотрит. Она стояла, прислонясь к стене, и я сначала подумала, что ей нехорошо, но потом увидела, что она внимательно наблюдает за нашей работой.
Какие чувства испытывает сейчас эта женщина? Вот она шла по пустынному, занесённому снегом городу и вдруг увидела людей за столь необычным сейчас в Ленинграде занятием. Она, наверно, думает: «Что-то случилось, что-то произошло. Почему люди стали вдруг заниматься этим?.. Может быть, сегодня объявили прибавку хлеба? Или победа какая-нибудь под Ленинградом?..» Но что бы она ни думала, я знала: ей приятно смотреть на нашу работу, это пробуждает в ней какую-то надежду.
Скоро мы покончили с лестницей, и весь остаток дня у меня ушёл на оформление в райздравотделе моих новых работников. Сколько я ни спорила, ни ругалась, ни настаивала, чтобы мне дали ещё по крайней мере двух-трёх человек, — всё было бесполезно. Мне только напомнили, что послезавтра я должна быть готова к приёму первой партии детей.
Хотя я и раньше знала, что через два дня приедут дети, однако это напоминание сильно взволновало меня.
— Ну хоть врача вы можете мне дать? — спросила я.
— Вы же сами почти врач, — ответил мне со слабой улыбкой товарищ из райздравотдела. Он выглядел очень пожилым и усталым.
Я ушла.
…На следующий день мы вместе с дворником установили печки и вывели трубы в окна. Мне не терпелось затопить печки. Но топить было пока нечем, и я приходила в отчаяние при мысли, что дрова не доставят вовремя.
Я места себе не находила из-за этих дров. Подумывала уже о том, чтобы обратиться к моему «штату» с призывом нести уцелевшую мебель, чтобы хоть на первое время было чем истопить.
Когда у меня исчезли все надежды, вечером к нашей школе внезапно подъехала полуторка, гружённая дровами.
Какая вьюга сегодня!.. Всё метёт, метёт, ничего не видно. И снег острый, идёшь — будто тебя кто-то шершавой перчаткой по лицу гладит…
Как будто всё в один ком смешалось: сугробы, дома, люди. Неба не видно, и земли не видно.
Недалеко от нашей школы, на крыше одного дома стоит флюгер. И чёрт его знает, сломалось в нём что-нибудь, что ли, но только при малейшем порыве ветра флюгер начинает жалобно ныть. И ноет, и ноет…
От Невского до нас минут пятнадцать ходу, а я прошла минут сорок. Падала три раза. Всё гудит вокруг. Я не помню до войны такой метели. Мне кажется, даже на Ладоге не было так страшно. А тут ещё обстрел начался… Не помню, как добежала до дому. Я всё беспокоилась, не привезли ли в моё отсутствие детей. Вообще-то у нас было всё готово к приёму — кровати постелены, воду мы натаскали с Фонтанки и топили печки целые сутки, не жалея дров. И всё же я боялась, что детей привезут без меня или начнутся какие-нибудь недоразумения.
Свои обязанности мы распределили так: Анна Васильевна — повар, Валя и Катя — воспитательницы, Сиверский — завхоз, я — заведующая.
Быстро поднялась по лестнице (опять её начало заметать) и вошла в комнату. Все, кроме Анны Васильевны, были в сборе. Детей могли привезти каждую минуту. Мы сидели молча. Все мы — Катя, Валя, Сиверский и я — были взволнованы ожиданием. Нам почему-то казалось, что ребят привезут на машине, и я всё время прислушивалась, не зашумит ли мотор. Но на улице было тихо. Обстрел прекратился, только завывала метель.
В комнате было всё же прохладно, хотя печки топились вовсю. Одеяла на окнах надулись, как паруса; казалось, ветер вот-вот сорвёт их и метель ринется в комнату.
Стало темнеть, мы приготовили коптилки, но не зажигали их, потому что горючего было очень мало. Я сказала Сиверскому, который сидел у печки на корточках, что ему, как химику, надо бы придумать какой-нибудь заменитель горючего. Антон Иванович повернул ко мне голову, чтобы посмотреть, шучу я или нет, и снова стал смотреть в печку.
— Ну, наверно, сегодня никого не будет, — сказала Катя.
Я тоже думала, что с наступлением темноты вряд ли привезут детей, но промолчала.
— Хорошо у печки, — произнёс вдруг Антон Иванович.
И все мы, не сговариваясь, разом придвинулись к огню. Я тоже чувствовала, что нам хорошо, и подумала: «Это оттого, что мы все вместе и делаем всё дружно».
— А у нас была совсем такая же школа, как эта, — мечтательно проговорила Валя.
— Ещё побольше, — добавила Катя, и я вспомнила, что они учились вместе.
— А вот интересно посмотреть: что там, у нас в школе, сейчас делается, — сказала Валя и прикрыла лицо рукой от жара, идущего от печки.
— Ничего не делается, — ответила Катя, — то же самое, наверно, что и здесь, пока нас не было… Жутко.
— В своей школе не жутко, — убеждённо возразила Валя, — я там каждый уголок знаю.
Девушки замолчали, погрузившись в воспоминания.
— А ты последний литературный вечер помнишь? — спросила Валя.
— Про героя? — в свою очередь спросила Катя.
— Ага. Жорку Голубцова помнишь?
— А ты помнишь, кто про Павла Корчагина говорил? — спросила Катя.
— Помню, — ответила Валя, — из девятого «Б», маленький такой. Как его фамилия?
— Линьков. А я вот и сейчас все помню, будто вчера всё было… Варвара Петровна его спрашивает: «Ну, а кто твой любимый герой, Линьков?» А он встаёт и говорит таким басом: «Павел Корчагин». — «Почему?» — «Потому, что не трус», — отвечает. А Варвара Петровна говорит: «Ты всё-таки, Линьков, объясни поподробней, ведь у нас литературный вечер и товарищам интересно послушать». А он стоит, нахмурился, сопит и ничего не отвечает. «Ну, потом надумаешь, — говорит Варвара Петровна. — А пока, может быть, кто-нибудь другой выступить хочет?»
— Да-а-а… Потом, кажется, Кукарача — Верка Славина — выступила и сказала, что её любимый герой Чацкий… Тут все начали хохотать, потому что у нас в десятом «А» был парень по фамилии Чацкий… Ну, тут все пошли один за другим выступать и кого только не называли! И Рудина, и Левинсона, и толстовскую Наташу, а кто-то крикнул на смех: «Пиковая дама!»
А когда дошла очередь до Севки Макарова, — помнишь, мы его все профессором звали, — он встал, нагнул голову, как бык, и говорит: «Нет у меня любимого литературного героя. Старые, говорит, дореволюционные, меня не устраивают, а новых, говорит, наши писатели ещё не создали…» Тут вдруг Линьков вскакивает и кричит: «Надумал, теперь могу сказать!» — «Подожди, теперь другие выступают», — говорит Варвара Петровна, а Линьков вдруг отвечает: «Прошу сейчас, потому что потом всё забыть могу». Все засмеялись и решили ему дать слово.
Я сидела и внимательно слушала всё, что говорили эти девочки, и все их слова казались мне очень детскими. Подумала: «А ведь не так уж много лет прошло с тех пор, как и я училась в школе. Почему же сейчас всё это кажется мне таким далёким, будто я не пережила всё это сама, а только читала об этом когда-то в красивой книге, переплетённой в сафьян, с золотыми буквами на корешке?»
А Катя всё говорила, и видно было, что она не остановится до тех пор, пока не расскажет всего того, что стоит сейчас у неё перед глазами.
— Дали Линькову слово. Он встаёт и говорит: «Вот тут называли разных героев, а я назвал Павла Корчагина. Я знаю, многие подумали, что это больше подходит для периода гражданской войны. А теперь, дескать, время другое и герой наш должен быть другой — учёный, скажем, или строитель, или, скажем, артист. Я против этого не спорю, и, если мне такого героя опишут в книге, я его, наверно, полюблю». Я помню, когда Линьков говорить начал, в зале был шум и многие даже смеялись, а потом вдруг стало тихо, и все начали слушать… «Если бы такой человек, как Корчагин, до нашего времени дожил, он бы таким строителем или учёным стал. Но в нём главное было: верность идее… И если будет война, такие, как он, себя покажут…»
Катя помолчала немного, точно что-то вспоминая, а потом продолжала:
— Да, это я хорошо запомнила, он так и сказал: «верность идее».
Катя снова замолчала, взяла полено и стала помешивать в печке. Я заметила, что у неё очень длинная и худая кисть.
— А где он теперь, Линьков? — спросила Валя.
Катя медленно покачала головой.
— Не знаю.
Все молчали.
— А у нас тоже литературные диспуты были в школе, — неожиданно проговорил всё время молчавший Антон Иванович и почему-то улыбнулся.
Я удивлённо посмотрела на него. Школа и Сиверский совершенно не вязались в моём представлении. Антон Иванович казался почти стариком.
— Да, — продолжал Сиверский, — были. Помню, жестокий был диспут… о «Дневнике Кости Рябцева».
— Антон Иванович, — вырвалось вдруг у меня, — да сколько же вам лет?
— Мне?
Я почувствовала его смущение.
— Мне тридцать четыре года.
Я взглянула на него и невольно опустила голову. Блокада!.. Это её морщины, мешки под глазами, её волосы покрыты белой пылью…
Ветер рванул прикрывающее окно одеяло, и край его с треском отскочил. Снег ворвался в комнату, закружился и зашипел, оседая на раскалённой печке. Мы все бросились к окну и закрепили одеяло. Я заметила, что на улице почти стемнело.
Мы снова вернулись на свои места.
— Ну, — заметила я, — стемнело, сегодня уже никого не будет.
И как бы в ответ на мои слова, позади, в пустых комнатах, послышались чьи-то шаркающие шаги. Мы насторожились.
— Детдом тут будет? — раздался слабый женский голос.
— Здесь, здесь! — крикнули мы все разом.
Я встала. Сердце моё билось очень сильно. «Началось», — подумала я.
Когда я открыла дверь в соседнюю комнату и полоса света от наших печек упала на пол, я увидела женщину. Я ещё не могла рассмотреть её лицо. Она медленно обходила комнату, шаря руками по стене.
— Сюда! — позвала я.
Женщина с трудом оторвала руки от стены и направилась ко мне медленными, неверными шагами. И только когда она подошла ко мне почти вплотную, я узнала ту самую девочку, которую встретила вместе с братом четыре дня тому назад.
— Это вы? — спросила девочка. — А я Кольку привезла. Он там, в санках.
Она стояла передо мной и слегка покачивалась.
— Иди к печке и сядь, — сказала я. — Валя! Антон Иванович! Пойдёмте вниз.
Мы быстро спустились по лестнице. У подъезда стояли санки, на них лежал какой-то свёрток.
Мы подняли этот свёрток. Лица Кольки не было видно, он был с головой закутан в одеяло. Мы внесли его в комнату.
Пока Валя и Сиверский занимались приготовлением «ванны», Катя и я раздевали Кольку.
Мне показалось, что за эти четыре дня он похудел ещё больше. Перед нами лежало крохотное, ссохшееся тельце.
Его сестра сидела у печки, безучастная ко всему, что происходило. Я смотрела на мальчика, и мне просто не верилось, что это он четыре дня тому назад шёл за телом своей матери.
Теперь в комнате горели три коптилки. Валя наливала горячую воду в большое цинковое корыто, заменяющее ванну. Со стороны наша комната выглядела, наверно, необычно: раскалённые печки, одеяла, похожие на паруса, готовые вот-вот сорваться, клубы пара и в них три мерцающие точки… Мы сидели и ждали, пока вода немного остынет, а Колька согреется с дороги.
Девочка всё сидела у печки, низко опустив голову, и молчала. Я окликнула её. Девочка не отвечала. Я испугалась, подумала, что она умерла. Но она просто спала. Мы решили пока её не трогать и заняться Колькой. Я спросила его:
— Ну, как дела, Коля?
Молчание. Он с полным безразличием смотрел в одну точку. Я сказала:
— Сейчас будем купаться, Колька, а потом поедим.
Но и напоминание о еде не вывело его из состояния полной апатии. Он даже не повернул головы на мой голос. Какие мысли были сейчас в его маленькой голове? Он по-прежнему казался мне затравленным волчонком. Страшно сознаться, но я не могла относиться к нему просто как к ребёнку. В нём ничего не было детского.
Вдвоём мы подняли Кольку и опустили его в корыто. Он слегка поморщился, но не сделал ни одного движения.
Колька был очень грязен, и Валя рьяно принялась тереть его мочалкой. И всё время я наблюдала за выражением его глаз, ожидая, что под влиянием тепла, новой обстановки, новых людей его глаза утратят пустое, апатичное выражение. Но ожидания мои были напрасны.
Мы вынули Кольку из ванны, растёрли полотенцем, уложили в постель, закутали в одеяло.
— Ну, где наш первенец? — спросила, входя, Анна Васильевна. Она подала мальчику кусочек хлеба и стакан сладкого чая. — Ну как, мышонок? — потрепала она Кольку по мокрым ещё волосам.
Молчание. Глаза по-прежнему пусто и апатично смотрят в никуда.
Анна Васильевна взяла чай и хлеб и села на Колькину постель. Когда она поднесла к его рту ложечку с чаем, я увидела, что на секунду его губы плотно сжались, точно он чего-то испугался, а потом раскрылись и по ним пробежала дрожь.
Анна Васильевна влила чай ему в рот. Все мы с напряжением всматривались: проглотит или нет?
Проглотил. Все почувствовали облегчение. Нам казалось, что состояние Кольки таково, что он уже не сможет принимать пищу. Я подсела на кровать, взяла у Анны Васильевны из рук хлеб, стала мочить его в чае и класть Кольке в рот. Он ел.
Соня, Колина сестра, проснулась. Щёки девочки раскраснелись. Было странно видеть яркий румянец на исхудалом лице.
Она пристально смотрела, как кормили Кольку, но, едва заметив, что я наблюдаю за нею, отвернулась.
Анна Васильевна дала ей стакан чаю и крошечный кусочек хлеба.
— Что он у тебя, совсем говорить перестал? — спросила я Соню.
— Молчит, — тихо ответила Соня. — Как мать отвезли, домой пришли, так он сказал слов пять… А потом замолчал, на сундук лёг и не встаёт… А кормить-то его нечем. Вот я и привезла его… на санках. Чем вдвоём помирать, пусть лучше он жить будет.
В её словах была полная безропотность и покорность судьбе. Она говорила очень просто, без всякого желания возбудить жалость. Я заметила это в ней ещё тогда, при нашей первой встрече.
— Ну, я пойду, — сказала Соня таким голосом, будто забегала на минутку к нам в гости.
— Куда ты пойдёшь? — спросила я.
Соня ничего не ответила и медленно пошла к двери. Она шла, чуть пошатываясь.
«Не дойдёт», — подумала я.
И вдруг меня осенило. «Какая же я дура! Как это мне сразу не пришло в голову! Ведь её можно устроить на завод к Ирине. Она будет жива».
Я задержала девочку:
— Оставайся, Соня! Будешь работать на заводе. И жить там. А сегодня ночуй здесь. Ну куда ты пойдёшь в такую метель?
Мои слова застали её уже у порога. Она взялась за косяк двери, точно боясь упасть, и обернулась к нам. Но тут все закричали:
— Оставайся! Оставайся!
Видимо, все мы думали об одном и том же.
— Мне надо идти, — тихо сказала Соня, — а то темно будет.
— Никуда ты не пойдёшь, — заявила Валя. — У нас останешься.
Теперь Соня, видимо, поняла. Она посмотрела на меня, потом на Анну Васильевну и спросила:
— Это… можно?
— Ну конечно, можно, — ответила я, стараясь говорить самым обычным тоном. Почему-то на людях я стала бояться всего сентиментального…
Я посмотрела на Кольку. Он спал.
Я подошла к печке и села на чурбачок. Мне очень захотелось спать. Раньше мы договорились, что по ночам будем дежурить. Сегодня была моя очередь.
Голова моя отяжелела и клонилась книзу. У меня было такое же состояние, как бывало на Ладоге, когда возвращаешься в палатку после долгой работы на льду.
Моей последней мыслью было: «А почему бы мне не вздремнуть немного?» Потом я услышала чей-то шёпот:
— А ты в какой школе училась?..
И я заснула…
Ночь прошла без хлопот. Я проснулась на рассвете от нестерпимого холода. Коля и Соня спали. Мне очень хотелось самой спать, и я не могла заставить себя встать и растопить печку. Однако, как я ни старалась заснуть, как ни ворочалась с боку на бок, холод выгнал меня из постели. Я растопила печку, легла снова, не помню, как заснула. Проснулась уже утром. В оконную щель прорывалась белая полоска света.
Коля и Соня всё ещё спали. В комнате было опять нестерпимо холодно: на дне ведра вода замёрзла. Девушки пошли с вёдрами на Фонтанку.
В это время я услышала шум автомашины около нашего дома. Я бросилась по лестнице вниз и увидела, что около нашего подъезда остановилась полуторка и шофёр вылез из кабины.
— Где тут ребят принимают? — спросил он.
— Здесь! — крикнула я и вскочила на колесо машины, чтобы заглянуть в кузов.
Там на подстеленном брезенте лежало четверо детей. Они лежали, плотно прижавшись друг к другу, прикрыв лица руками. Их сопровождала бледная, худая женщина.
— Открывай борт, — сказала я шофёру.
Посмотрела вдоль улицы — не возвращаются ли Катя и Валя, но улица была пустынной.
— Тебе придётся помочь нам перенести детей, — попросила я шофёра.
— Ладно, помогу, — ответил он.
Мы втроём перенесли детей в комнату и уложили на постели, которые считались у нас «изолятором», — туда мы решили класть детей, пока они ещё не приняли ванну.
В этой партии было трое мальчиков и одна девочка.
— Прибавилось у тебя семейство-то! — заметил шофёр.
— У хороших людей всегда так, — попробовала я отшутиться.
Шофёр ещё что-то сказал, но я уже ничего не слышала и даже не смотрела на него: у меня голова шла кругом. Ведь это было первое поступление детей, а я растерялась. Их надо было осмотреть, вымыть, накормить… А тут, как назло, мои девушки куда-то пропали! Будить Сиверского бессмысленно: он вряд ли будет полезен.
Меня вывел из оцепенения шум отъезжающей машины. Наверно, шофёру надоело ждать, пока я кончу размышлять, и он поторопил женщину. На кровати я увидела смятый листок бумаги и прочла:
«Направляются в стационар:
Голышев Ваня 5 лет
Антонова Маруся 6 лет
Карнаухов Миша 5 лет
Кожухов Толя 7 лет
За зав. райздрав (подпись).Очевидно, этот листок оставила сопровождавшая детей женщина. Все дети лежали на постелях молча, кроме одного маленького мальчика в непомерно большой красноармейской ушанке. Он всё повторял слабеньким, тонким голоском:
— Поесть дайте… Поесть дайте…
Позже, когда я уже привыкла к своей новой работе, такие просьбы радовали меня больше всего, потому что они означали, что ребёнок ещё не достиг той крайней степени истощения, за которой наступает только безразличие ко всему, даже к еде. Но сейчас тоненький, жалобный голос ребёнка приводил меня в отчаяние. Я готова была бросить всё и бежать на кухню за едой для него.
Но сначала надо было осмотреть всех ребят. Соню будить я не хотела.
Я предупредила Анну Васильевну, что прибыли дети и надо готовить завтрак и греть воду для ванны.
Потом мы с Валей растерянно посмотрели на список, и я недоумённо спросила, как же мы узнаем, кто из ребят Ваня Голышев, а кто Толя Кожухов. Я так растерялась, что мне в голову не пришла простая мысль, что детям, как и раненым бойцам, вкладывают записки в карманы одежды.
Я обнаружила это, когда приступила к осмотру.
Первым я осмотрела мальчика, который всё просил есть, а теперь начал плакать. Записку о том, что он и есть Толя Кожухов, я нашла за козырьком его огромной ушанки.
Когда я подошла к нему и, расстегнув курточку и рубашонку, начала осматривать, Толя вдруг перестал плакать и смотрел на меня не то с испугом, не то с любопытством.
Я сказала ему:
— Сейчас, Толя, в ванну, тёплую-тёплую, а потом будем кушать.
Он слабо улыбнулся.
Эта улыбка привела меня в бодрое настроение.
«Ну, с этим всё в порядке», — подумала я, хотя, как только я отошла от Толи, он снова принялся плакать.
Тем временем Валя подготавливала для осмотра второго ребёнка. Записка о том, что его зовут Ваня Голышев и что ему пять лет, была вложена в карман ватника, в который мальчик был завёрнут.
С ним дело обстояло хуже. Внешне, по степени истощения, он походил на всё ещё спящего Кольку. И взгляд у него был такой же пустой и безразличный ко всему.
— Кушать хочешь, Ваня? — спросила я.
Он ничего не ответил.
Следующей была девочка, Маруся Антонова. Ей было шесть лет, но она казалась четырёхлетней. Она была настолько грязна, что я не могла разобрать, как она выглядит.
У девочки были большие чёрные глаза. Когда я подошла к ней, Маруся как-то пристально и грустно посмотрела на меня и вдруг проговорила как бы про себя:
— Мама!
Меня будто ударил кто… Впервые после смерти моей дочки я услышала это слово. Оно было обращено не ко мне — я знаю, просто эта похожая на негритёнка, измученная девочка, увидев над собой склонённое женское лицо, вспомнила о самом дорогом…
Прошёл месяц. За это время я получила только одно письмо от Саши. Я знаю, уверена: он писал больше, но письма в Ленинград идут так долго.
Он писал мне:
«Лидуша моя! Наконец-то дошло до меня твоё письмо! Как и то, давнишнее, первое после того долгого перерыва письмо, где ты писала о том, что — страшно и что — не очень, это также пришло в моё отсутствие, и я нашёл его, вернувшись из командировки. И знаешь, что первое пришло мне в голову, когда я прочёл его? Что всё идёт к лучшему. Я хотел бы, чтобы ты правильно поняла меня. Дело в том, что на войне все привыкли делать выводы не только по официальным сообщениям, но и по сотням едва заметных, но всегда многозначительных признаков. Их, повторяю, сотни: разговоры бойцов на перекуре, письма из дому, которые боец даёт тебе прочесть в «лирическую» минуту, надпись на танке, характер солдатских шуток… Всё это «барометр» войны.
Так вот, я вспоминаю то твоё письмо, Лидуша, горькое и безысходное, как будто ты чёрным писала по чёрному… и сравниваю его с этим, сегодняшним. То было о смерти, а это о жизни. Как я рад, девочка моя, что ты нашла в себе силу вынести всё это! Как я рад, что у нас у обоих нашлось достаточно силы, чтобы выстоять, а ведь твоё испытание куда тяжелее, чем моё…
Да, ты права, родная, мы мало говорили об этом при встрече, и, может быть, доведись нам встретиться завтра, мы опять говорили бы не о том, что сегодня кажется нам самым важным… Но смогли бы мы так просто говорить о неважном, если б не знали, что думаем одинаково? Ты пишешь, что была бы счастлива, если бы нам удалось пройти через всё это страшное время с мыслями друг о друге. Но я верю — я боюсь сказать «знаю», — мы пройдём! Мы оба с тобой не дети и знаем: любовь неделима. Ведь нельзя быть преданным чему-то большому только наполовину.
Мне кажется, попробуй кто-нибудь из нас разменять своё чувство — сразу потеряет веру в себя…
Мы живём по-прежнему, ещё не чувствуя весны, но ждём её с каждым днём всё больше. Хотя тяжёлая штука весна на нашем фронте! Оттают бездонные болота, грязь затопит блиндажи, забуксуют машины… Сегодня ночью мы смотрели на северное сияние. Говорят, что мы видим его в последний раз в этом году. Оно было бледным, будто за далёким туманом…»
Письмо было длинное, и в нём было много ласковых слов, которые мне так хотелось услышать от него. Я перечитывала это письмо столько раз, что выучила его наизусть…
В моём детдоме было уже двенадцать человек. Я достала ещё несколько кроватей, а на законсервированной текстильной фабрике — отходы, из которых мы сделали матрацы.
Дети, находящиеся у нас, как правило, проходили несколько стадий. Сначала ребята молчали, и ничто, даже еда, не могло вывести их из состояния полного безразличия. Затем, побыв у нас некоторое время, ребёнок веселел, становился похожим на ребёнка. Все мои воспитанники прошли эти стадии. Исключение составляли только Коля и Маруся Антонова.
Коля по-прежнему был апатичен и хмур. Я ни разу не видела его улыбающимся. На его крошечной переносице застыла резкая складочка. Со своей сестрой Соней он тоже почти не разговаривал. Обычно он лежал в постели на спине и смотрел в потолок.
Маруся же была просто очень слаба. Казалось, что еда не идёт ей впрок. Почти всё время она спала, просыпаясь лишь на два-три часа в сутки. В эти часы с девочкой можно было разговаривать, она охотно отвечала на вопросы, но никогда не начинала разговора сама. Я узнала от Маруси, что её отец военный, что мама её умерла, а где папа, она не знает…
Мы, работники детдома, уже давно превратились в дружную семью. Сиверский, которому я раньше не могла найти применения, оказался очень полезным человеком. Он изобрёл вещество с мудрёным названием «нефтепарадихлорбензол», с помощью которого мы уничтожили вшивость ребят; он же умудрился и приготовить какой-то особо питательный витамин из хвойных игл.
По вечерам мы собирались все вместе и разговаривали шёпотом, чтобы не разбудить детей. Мы все были совершенно разными людьми — Анна Васильевна, Сиверский и две девушки-школьницы, — но, когда мы собирались вместе, мне казалось, что исчезают все различия.
Как-то я узнала в райздраве о прибавке к пайку. Я почти бежала домой, до того мне не терпелось сообщить ребятам радостную новость. Прибегаю в детдом. Дети только что поели, и те, кто может ходить, сидят около печки.
Спрашиваю:
— Поели, ребята?
— Поели, тётя Лида.
— А чего же вы такие скучные?
— А чего ж нам веселиться?
Эти слова были произнесены за моей спиной. Я вздрогнула: их произнёс Колька. Кажется, это была первая фраза, которую он произнёс за целый месяц. Я обернулась и посмотрела на него в упор. Колька изменил свою обычную позу. Он лежал не на спине, устремив в потолок свой пустой взгляд, а на боку, слегка приподнявшись, подперев подбородок руками.
Я, разумеется, и виду не подала, что удивилась, услышав его голос, и сказала спокойно:
— Радоваться надо потому, что с завтрашнего дня нам прибавят хлеба и манной крупы.
Тут поднялся страшный шум, дети закричали, захлопали в ладоши, и ещё громче детей кричали, по-моему, Валя и Катя. Я незаметно взглянула на Кольку. Но Колька молчал. Он по-прежнему лежал на боку, подперев голову руками, его губы не разжимались и на лице не было улыбки.
Когда ребята успокоились и, по нашему распорядку, наступил мёртвый час, я подсела на кровать к Марусе Антоновой.
За последнее время я сильно привязалась к этой девочке. Меня трогала её беспомощность и вместе с тем какая-то задушевность. Я наклонялась к ней, и Маруся обхватывала мою шею своими тоненькими руками и долго смотрела в мои глаза, не произнося ни слова. С каждым днём я привязывалась к ней всё больше и сначала даже боялась этой привязанности. Но я не могла справиться с собой. Я ловила себя на том, что, войдя в комнату, первый взгляд бросаю на постель Маруси, что мне трудно уйти, не поцеловав её, и что, когда бываю вне дома, всегда думаю о ней… Сейчас я спросила её тихо:
— Ты рада, что будет прибавка?
Маруся чуть заметно кивнула головой и улыбнулась. И вдруг я вспомнила, что где-то на дне моего кармана лежит маленькое жёлтое стёклышко. Если бы только оно было на месте! Я торопливо обшарила карман и нашла стекло.
— Посмотри в него. — Я протянула Марусе стекло.
Маруся долго смотрела в стёклышко и даже приподнялась на постели. Потом она опустила руку и сказала:
— Всё жёлтое!.. Можно взять это стёклышко?
— Конечно, — поспешно ответила я.
Катя и Валя принесли обед и начали кормить детей. Ребята ели. И опять я с тревогой присматривалась, кто как ест. Я радовалась, когда видела чей-нибудь быстро жующий, чавкающий рот. Те, кто ел апатично, медленно, точно нехотя пережёвывая пищу, вызывали у меня тревогу. Но с каждым днём таких детей становилось всё меньше.
«Завтра сможем увеличить порцию», — подумала я, и мне стало очень радостно.
Но посмотрела на Кольку, и настроение моё упало. Поев немного, он отодвинул тарелку с манной кашей и теперь снова лежал на спине, устремив в потолок свой неподвижный взгляд.
Я подошла к Коле. Спросила:
— Ну, поел? Сыт?
Молчание. Глаза его закрываются. Он засыпает или делает вид, что уснул. Через некоторое время в комнате наступает полная тишина. Дети заснули. Катя и Валя ушли на кухню мыть посуду.
Я подошла к окну, чуть отодвинула край одеяла. Тёмное, пасмурное небо. Лёгкий буран. В проделанную мною щёлку влетают снежинки. Холодно…
«Если б солнце! — подумала я. — Если б тепло и долгий солнечный день! Как порозовели бы лица моих ребят!»
Тишина. Я подумала: «А сколько времени в Ленинграде не было бомбёжек? Не обстрелов, нет, — они бывают по нескольку раз в день, — а бомбёжек с воздуха?»
Постаралась припомнить последнюю бомбёжку. Это было, кажется, в декабре. Потом самолёты не летали. И с Ладоги мы не наблюдали, чтобы бомбили Ленинград. Немцы не хотят рисковать самолётами. Стрелять из орудий проще и безопасней. Я подумала: «А знают ли они, что творится в Ленинграде?»
Подумала и сама усмехнулась своей наивности. Конечно, знают! Знают и торжествуют: Ленинград замерзает, Ленинград голодает…
Я отошла от окна. Ребята спали. У некоторых лица во сне заострились, сделались меньше. Я подошла поближе и прислушалась к их дыханию.
И вдруг мне пришла в голову страшная мысль… Может быть, сейчас где-то на Вороньей горе уже наводят орудие на какой-то квадрат, и этот квадрат — мы, эти вот дети, и через секунду грянет выстрел, и здесь не будет ничего, кроме клубящейся каменной пыли, крови и изуродованных детских тел… Мне стало жутко от сознания неотвратимости несчастья. Я подумала: «Как ужасно, как нелепо, что нельзя остановить этих идущих сейчас к орудию людей и отшвырнуть в сторону само орудие». Я почувствовала, как велико моё ожесточение, моя ненависть к этим страшным, чёрным людям, виновникам всех бед. Но потом мне стало казаться невозможным, чтобы в детей попал снаряд.
«Что будет с этими детьми дальше, как сложится их жизнь? — размышляла я. — Самому старшему из них восемь лет… У них нет родителей, нет дома. Ведь только материнская ласка сможет залечить их раны, изгладить из маленьких сердец страшные воспоминания. Но сумеют ли голодные, ежеминутно находящиеся под орудийными выстрелами взрослые люди помочь этим детям вновь обрести своё детство? У каждого из нас бывают минуты, когда вспоминаешь невозвратимую пору детства, точно милую, полузабытую сказку… О чём же может когда-нибудь вспомнить такой Коля?
Я подошла к Марусе. Девочка спала. Из-под одеяла высунулась её тоненькая ножка в чулке. Я осторожно укрыла её одеялом. Мне показалось, что Маруся улыбнулась во сне. Что видела она сейчас? Свою мать, солнце или любимую игрушку? Или показалось Марусе, что она снова смотрит на мир через весёлое жёлтое стёклышко — и всё, что она уже давно привыкла видеть серым и безрадостным, озарилось новым, волшебным светом?
Я нагнулась и поцеловала девочку в лоб.
— Спи, моя Люба, — шёпотом сказала я.
Она не пошевельнулась. Она тихо спала, сжимая в руке кусочек жёлтого стекла.
…Как-то мы сидели вечером все вместе: Анна Васильевна, Сиверский, Соня, Катя, Валя и я. Было воскресенье, около шести вечера, мы собирались кормить ребят ужином. Вдруг слышу, подъехала машина.
— Ещё ребят привезли! — крикнула я и побежала на улицу.
Но на лестнице столкнулась с Ириной. Вот была неожиданная встреча! Я Ирину уже почти месяц не видела. Ирка, возбуждённая, радостная, поцеловала меня и кричит:
— Собирайся, детский сад, поедем танцевать!
Я ничего не поняла и вообще была очень удивлена, увидев Ирину в таком возбуждённом состоянии, а её слова «поедем танцевать» прозвучали так же нелепо, как, скажем, «пойдём купаться»… Но Ирина тут же на лестнице рассказала мне, что танцы должны быть в Доме культуры в первый раз за всю блокаду и в тот район всё равно с завода едет полуторка.
Всё это Ирина рассказала мне быстро-быстро и в эти секунды напомнила мне прежнюю Ирину — «море по колено».
Я всё-таки затащила её к нам в комнату. Мне показалось, что, увидев столько детей, Ирина смутилась и не знала, что ей делать. Она познакомилась с моими девушками и потом всё время старалась не смотреть на ребят, но я заметила, что всё-таки бросала на них взгляды украдкой. Потом спросила, указывая на мальчика, лежащего в постели у печки:
— Сколько… этому?
— Четыре, — ответила я.
— А выглядит, как годовалый. — Голос Ирины стал снова хриплым, как обычно.
Она отвернулась от ребёнка, посмотрела на окна, прикрытые одеялами, и поёжилась.
— Дует у вас тут. — И добавила: — Столько времени фанеры достать не можешь!.. Организатор!.. — Затем повернулась к моим девушкам и сказала громко: — Ну, поехали танцевать?
Конечно, её никто не понял, и Ирине пришлось повторить всё то, что она сказала мне на лестнице.
Я заметила, что глаза Кати и Вали заблестели. Они не знали, верить ли Ирине или нет, но само слово «танцы», слово из далёкого, забытого прошлого, привело их в нервное, возбуждённое состояние.
— Ну, быстро! Быстро! — торопила Ирина. — А то мои девушки в машине замёрзнут.
Наконец я сообразила, что происходит. До этого у меня в голове была путаница: приезд Ирины, танцы, спешка…
Я сказала:
— Мы не можем все ехать, Ирушка. Кто же останется с детьми?
Ирина растерянно посмотрела на меня.
Я почувствовала лёгкое раздражение. Зачем она приехала сюда со своими танцами? Мы уже успели забыть обо всём, что не относится к нашей работе. А тут… Я украдкой взглянула на моих девочек и заметила, как вздрагивают губы у Кати и как Валя теребит край своего ватника. А ведь они сейчас расплачутся. Вот странно! Эти девушки не плакали перед лицом смерти, стужа их не брала, голод не выжимал слёз, а тут…
— Вот что, девчата, — сказала вдруг Анна Васильевна, до этого молча сидевшая на чурбаке у печки, — вы поезжайте, а мы со стариком, — так она звала Сиверского, — посидим. Ребята накормлены, новых сегодня уже не привезут. Поезжайте.
— Ну, хорошо, — согласилась я, — поезжайте.
— А вы? — спросила Катя.
— Я не поеду, — ответила я. — Не могут же все разъехаться.
— Все не все, — сказала Анна Васильевна строго, — а только ты, начальница, здесь вовсе не нужна.
В этот момент Ирина, до того стоявшая наклонив голову, как будто разглядывая что-то на полу, выпрямилась и произнесла с какой-то отчаянной решимостью, обращаясь ко мне:
— Эх… едем!
И я тоже повторила:
— Едем!
— Мы побежим переодеваться! — крикнула Валя.
— Вот это уже не выйдет, — остановила её Ирина, — там на улице у меня девочки замёрзнут, да и машину нельзя задерживать. Ноги в руки — и марш!
Я заметила, как Валя растерянно оглядела свой старенький, подпоясанный узеньким ремешком ватник.
Мы пошли к выходу. Полуторка стояла у подъезда. Я привычно вскочила на колесо, перемахнула через борт и очутилась среди знакомых заводских девушек. Валя и Катя тоже забрались в кузов.
— Ну, все? — спросила Ирина, села в кабину и громко стукнула дверцей.
Мы поехали.
Удивительно хороший был вечер! Дома высились из сугробов, как из огромных пуховых перин. Ветра не было, и от этого всё вокруг казалось неподвижным и величественным. Высоко над нашими головами, словно огромная океанская рыба, плыл аэростат воздушного заграждения, и, хотя я знала, что аэростат никуда не плывёт, а это мы движемся, мне всё-таки казалось, что он медленно-медленно проносится над нами.
Глупое желание пришло мне в голову. Мне захотелось сидеть в лодке, привязанной к этому аэростату, и вот так же плыть по небесному океану, плыть медленно, спокойно, без толчков… И настала бы ночь, потом день, потом снова ночь, а я бы всё плыла и плыла!.. Я посмотрела вверх, но аэростата уже не было видно, мы свернули в переулок. Тогда мне пришло в голову, что езда в полуторках и трёхтонках стала прямо-таки эпохой в моей жизни. Из кузова грузовой машины мир всегда кажется каким-то особенным, совсем другим, чем когда идёшь пешком или едешь в так называемых нормальных условиях.
Потом я стала думать о неповторимости жизни. Я уже думала об этом на Ладоге, когда вспоминала, что с первыми лучами солнца весь этот с такими усилиями созданный мир исчезнет, растает. И вот Ленинград, такой, каким я вижу его сейчас, тоже никогда не повторится.
Мы всё ближе подъезжали к заставе, ныряли в проходы между баррикадами, проехали мимо вереницы сцепленных, превращённых в бесконечную баррикаду трамваев и остановились у большого серого здания Дома культуры.
Опять мне пришла в голову мысль, что вся эта Иринина затея довольно-таки нелепа.
«Какие сейчас могут быть танцы?» — подумала я.
— Ну, приехали! — объявила Ирина.
Она уже вышла из кабины. Мы вылезли из кузова и столпились около подъезда. Ирина толкнула парадную дверь, но она оказалась запертой.
— Откуда ты взяла, что здесь это самое?.. — тихо спросила я Ирину, я не решалась произнести слово «танцы».
— Да я точно знаю, что будет! — громко и немного раздражённо ответила Ирина. — Просто вход, наверно, не тут.
Она оставила нас и быстро пошла за угол. Мы все молчали. Я смотрела по сторонам, не идёт ли кто-нибудь. Мне казалось, что каждый, кто нас увидит, сразу поймёт, что мы приехали на танцы.
— Девочки, всё в порядке! — раздался весёлый голос Ирины из-за угла. — Бал в разгаре, идите быстрее!
С меня точно груз свалился. Наверно, и остальные почувствовали то же самое, потому что сразу все заговорили, кто-то засмеялся, и мы наперегонки бросились к Ирине.
Следом за ней мы протиснулись в маленькую дверь, гуськом, держась за руки, прошли длинный коридор и вдруг, точно по команде, остановились. Откуда-то издалека до нас донеслись звуки оркестра… Мы стояли в темноте, прижавшись друг к другу.
— Оркестр! — тихо промолвила Катя.
Я никогда не увлекалась танцами и джаз прямо-таки не любила. Сейчас я стояла как зачарованная. Мне казалось, что всё это происходит во сне.
— Ну, чего же вы? — раздался голос Ирины. — Пошли!
Мы двинулись вперёд. Звуки оркестра становились всё громче и громче. Наконец мы попали в очень широкий коридор, освещённый двумя большими фонарями, подошли к двери, ведущей в зал, и… застыли на пороге.
В большом зале был установлен «юпитер». Луч его падал на сцену, где сидели музыканты, человека четыре, в шубах. В том же электрическом луче, на освещённом участке зала, танцевало несколько пар. Оркестр играл какую-то очень ритмичную мелодию. А мы всё стояли на пороге и не решались войти. Именно потому, что и танцующие и музыканты помещались как бы в одной плоскости, в одном электрическом луче, окружённые со всех сторон темнотой, они казались по сравнению с нами совсем в другом мире.
— Ну, — воскликнула Ирина, — вот вам и бал! Прошу приступать!
И наши девочки вошли в освещённый участок. Мы остались с Ириной вдвоём.
— А ведь всё это выглядит как неправда, — сказала я Ирине.
Она ничего не ответила.
— По какому случаю эти танцы? — снова спросила я её.
— Ах, боже мой, — ответила Ирина, — ну зачем тебе случай? Просто люди решили повеселиться.
— Но по какому поводу?
— Поводу, поводу… — раздражённо проговорила Ирина. — Ну вот, нормы на днях увеличили… это повод. Весна скоро, а мы живы… Повод? Наконец просто повеселиться захотелось. Идём танцевать! — неожиданно закончила она, схватила меня за руки и втащила в электрический луч.
— Со мной! — крикнула Катя и, оторвав меня от Ирины, обхватила и стала кружить в медленном ритме.
Я присматривалась к танцующим. Их было человек тридцать, главным образом женщины. Мужчин здесь было не больше десяти, большинство из них совсем мальчики.
Но самым интересным были лица танцующих. На них застыла хорошая, блаженная улыбка, точно всё, что они сейчас видят и чувствуют, происходит во сне. Эта улыбка, а может быть, и яркий свет скрашивали худобу лиц. Но постепенно я теряла способность разглядывать и наблюдать. Мной стало овладевать какое-то незнакомое или давно забытое чувство. С каждой минутой мне всё меньше хотелось рассуждать, я уже начала ощущать и подчиняться ритму танца, хотя и до этого послушно подчинялась Кате, не отдавая себе отчёта в движениях.
Вдруг у меня сильно закружилась голова.
— Я отдохну, — сказала я Кате, осторожно высвободилась из её рук и вышла из полосы света.
В темноте нащупала скамейку, стоящую у стены, и села. Сразу почувствовала себя лучше. Стала смотреть на танцующих.
Вот Ирина танцует с каким-то парнем. Я помню, как она любила танцевать до войны. Но это было до замужества: Григорий не интересовался «танцульками», а ведь Ирина без него совсем никуда не ходила. Как она хорошо танцует! Надо очень хорошо танцевать, чтобы в ватнике и валенках всё-таки хорошо выглядеть.
А Катя теперь танцует с Валей, — вот неразлучная пара. Я посмотрела на лица музыкантов: они были как-то особенно оживлённы. Я вспомнила обычно бесстрастные лица музыкантов на танцплощадках и в ресторанах; там, на своей эстраде, они всегда казались мне усталыми и даже раздражёнными царящим внизу оживлением, а здесь эти четыре человека в шубах с поднятыми воротниками как бы составляли одно целое с танцующими.
Но вот наступил перерыв, и люди стали медленно расходиться по залу.
Ирина отыскала меня и села рядом.
— Здорово? — сказала она.
Я не поняла сразу, спрашивает она или просто восхищается.
— А знаешь, Ирка, — проговорила я, — всё-таки это до крайности смешно, прямо-таки нелепо.
— Что именно? — насторожилась она.
— Да вот вся эта танцулька. Ведь тут до передовой рукой подать.
— Ну и что же? — возразила Ирина и даже чуть отодвинулась от меня.
Снова заиграл оркестр. Ирина встала.
— Можно подумать, что тебе эти танцы огромное удовольствие доставляют, — заметила я.
— Вот ты и подумай, — ответила Ирина и шагнула в полосу света.
Я тоже встала, но задержалась, заметив, что в дверях кто-то стоит. Приглядевшись, увидела двоих военных в полушубках и валенках. Я стояла очень близко к двери, но в темноте они не замечали меня.
— Танцуют, — сказал один.
— Танцуют, — отозвался другой.
— А я думал, надули, — заявил первый, — так, подумал, шутят… Какие сейчас танцы.
— Так что же, пойдём или нет?
— Погоди.
Они замолчали. Как я ни старалась рассмотреть их лица, мне это не удавалось: слишком было темно. Судя по голосам, они были молоды.
Мною овладело любопытство.
«Как они попали сюда? — думала я. — Они пришли одни, без девушек, — значит, их никто не пригласил».
— Смотри, и саксофон, — сказал один из военных.
— Всё в порядке, — ответил другой. — И девчат много.
— И свет.
Они всё ещё стояли у двери, невидимые для танцующих, но потом начали медленно продвигаться вдоль стены, пока один из них не наткнулся на меня.
— Простите, — извинился он, чуть отступая, но тут же протянул руку. — Потанцуем?
И я тоже протянула ему руку. И он увлёк меня в полосу света и повёл в танце. Только теперь я рассмотрела его лицо. Ему было самое большее лет двадцать, курносый нос задорно сидел на большом, чуть рябоватом лице. На барашковом воротнике в луче света искрился снег.
— Младший лейтенант Никонов. Знакомые девушки зовут меня Колей. А вы кто?
Он произнёс это с такой наивной серьёзностью, что мне захотелось рассмеяться. Но я побоялась обидеть его и ответила так же серьёзно:
— А меня звали Лидой, когда я была помоложе. А чин у меня совсем небольшой, о нём не стоит и говорить.
Никонов посмотрел на меня очень внимательно, точно желая проверить, сколько же мне в самом деле лет, сбился с танца и наступил мне на ногу.
— Простите, — смутился он.
На нас уже смотрели все танцующие, — вернее, на Никонова. Его товарища я не видела, — очевидно, он всё ещё стоял в темноте.
Танец кончился. Никонов взял меня под руку и повёл к скамейке. Мы сели и снова оказались почти в темноте.
Никонов сказал:
— А мы думали, девчата надули нас… Получили с лейтенантом отпуск в город на пять часов… Ну, пошли, тут ведь от передовой-то рядом… К заставе подходим — девчата идут. «Куда?» — спрашиваем. «На танцы». — «Бросьте, говорим, девчата, разыгрывать, какие сейчас танцы!» — «Ничего, говорят, не разыгрываем, самые настоящие танцы». И объяснили, где будут. Ну, нам с лейтенантом кое-куда надо было зайти, неподалёку. Потом выходим, смотрим — ещё три часа впереди. А идти-то некуда. «Зайдём, говорю, на эти самые танцы». А он смеётся: «Верь, говорит, им больше, нашёл тоже танцы». А всё-таки пошли… Ну вот и пришли.
— Ну и нравится? — спросила я.
— А как же? — ответил Никонов, и в темноте мне показалось, что он улыбнулся. — Тут свет, девчата, поговорить можно… А то сидишь-сидишь в блиндаже — и хоть ты и в городе, а будто за тысячу вёрст от него.
— А куда же ваш приятель пропал?
— Тут где-нибудь. У нас такое правило: где девушки — друг другу не мешать.
Никонов произнёс всё это с серьёзной небрежностью, — видимо, он очень хотел казаться бывалым ухарем-парнем, но ему это плохо удавалось. Снова заиграл оркестр.
— Что ж, продолжим? — предложил он, вставая.
Я положила ему руку на плечо, и мы начали танцевать. Теперь оркестр играл что-то медленное. Мимо меня проплыла Ирина в паре с какой-то девушкой, а затем я увидела лейтенанта, друга Никонова. Он танцевал с Катей.
— Вот и мой орёл появился! — кивнул головой Никонов.
Мы танцевали ещё долго, Никонов не отходил от меня, и это было мне очень приятно. Я даже не спрашивала себя, почему. Я чувствовала себя старухой перед ним. Но именно потому, что он был так заразительно молод и так вдохновенно предан «своей даме», мне стало радостно и весело.
Когда музыканты перестали играть и начали складывать свои инструменты, стало тоскливо. Никонов растерянно опустил руки.
— Ну вот… и всё.
Он произнёс это с такой грустью, что мне стало его жалко. Именно поэтому я и задала ему нелепый вопрос:
— Вам в какую сторону идти?
— Нам одна сторона, — ответил он и пожал плечами, — где воюют.
— В часть?
— В часть. Сейчас придём, ребята в блиндаже сидят… Начнут спрашивать, где были, что делали… Для них ведь тоже про город узнать — вроде отпуска. Ну, расскажу, что на танцах был… С девушкой танцевал, по имени Лида… Спросят какая… Расскажу. Спросят: «Адрес взял, писать будешь?» Скажу: «Взял, буду»… Только всё это обман, потому что сейчас разойдёмся мы с вами — и… всё.
Я взяла его за руку и спросила:
— А разве вам некому писать? И разве вам никто не пишет?
Никонов покачал головой:
— Нет… Один. Некому. Не успел.
Скольких людей война застала вот так же, на пороге жизни, когда они ко всему стремились, но ещё ничего не успели!
— Вот что, Коля, — сказала я, в первый раз называя его по имени, — вы всё-таки запишите мой адрес и, если будет желание, напишите.
— Правда? — удивился Никонов.
Он вытащил из планшета блокнот, и я записала в нём мой адрес.
Мы вышли из зала. Уходя, я задержалась на секунду и оглянулась. Зал тонул во мраке, и трудно было представить себе, что тут только что было светло и весело.
Я догнала нашу группу в коридоре, и мы вышли на улицу. Я заметила, что лейтенант, товарищ Никонова, шёл рядом с Катей. Мы попрощались на площади. Никонов и его друг пошли по направлению к Кировскому заводу. Они шли не оглядываясь, дружно шагали в ногу, их полушубки чуть белели вдали. Потом я догнала моих девушек. Они громко и оживлённо обменивались впечатлениями. Давно уже я не слышала, чтобы люди вообще разговаривали на улице. Я прислушалась. Они говорили не о танцах, но о разных житейских мелочах, о которых в последние месяцы совсем забыли, точно танцы разбудили в них какие-то далёкие воспоминания.
Там, в зале, под музыку, в полосе яркого света, встал передо мной давно забытый мир, а настоящий, сегодняшний, ушёл куда-то в темноту. Но здесь, на улице, Ленинград снова обступил меня со всех сторон, и я уже не могла ни о чём другом думать, кроме своих детей, оставленных там, в другом конце города. И прежде всего подумала о Марусе. Я представила себе, как она спит, — тихо, лицом вверх, высунув из-под одеяла свою худую ножку в шерстяном чулке.
Ирина отстала немного и пошла рядом со мной. Некоторое время мы молчали, а потом она спросила:
— Ну, как ты живёшь, Лидуша? За это время мы с тобой ни разу не поговорили как следует.
Она взяла меня под руку…
Было уже совсем поздно, когда мы подходили к нашему дому. На противоположной стороне, на ступеньках подъезда, сидела какая-то женщина, опустив голову. Я перешла через дорогу, чтобы узнать, что с ней. Но оказалось, что эта женщина — разведчица районного штаба МПВО и на ней лежит обязанность во время обстрела и бомбёжки сообщать в штаб, куда упал снаряд или бомба. Мы познакомились. Её звали Серафима Николаевна Орлова, и я пригласила её заходить к нам.
Когда я поднималась по лестнице, меня охватила тревога. Я отсутствовала не больше трёх-четырёх часов, но мне казалось, что прошли долгие дни с тех пор, как я оставила детей. И опять я поймала себя на мысли о том, что больше всего беспокоюсь о Марусе. Я торопилась именно к её постели.
Когда мы вошли в комнату, там был полумрак. Горела только одна коптилка, и я не могла разобрать, здесь Анна Васильевна и Сиверский или нет.
Я подошла к Марусиной постели. Девочка спала. Прислушалась к её дыханию — оно было ровным и спокойным. Возле печки, на стуле, положив голову на спинку, спал Сиверский. Печка почти погасла, поленья в ней едва тлели. Анны Васильевны в комнате не было.
Я не стала будить Антона Ивановича, послала девушек за дровами, а сама начала обход.
Все дети спали. Я подходила к постели каждого ребёнка, слушала, как он дышит. Иногда мне чудилось, что я вовсе не слышу дыхания, и тогда мне казалось, что и моё сердце сейчас остановится. Но потом я наклонялась к самому личику ребёнка и убеждалась, что он дышит, пусть слабо, почти неслышно, но всё-таки дышит. За эту неделю в нашем стационаре вообще не было ни одного смертного случая.
На последней кровати лежал Колька. Он не спал, а лежал с открытыми глазами, и на маленьких тонких губах его застыла едва заметная усмешка.
Я постояла немного у его постели, хотела что-то сказать, но так и не произнесла ни одного слова.
Вошли Катя и Валя с охапками дров. Сиверский всё ещё спал.
Мы растопили печку, а потом расселись около неё на чурбачках. Делать было уже нечего, и можно было идти спать, но перед сном нам хотелось посидеть вот так у печки. Мы смотрели на быстро растущее пламя, и Катя вдруг сказала тихо, ни к кому не обращаясь:
— А я его адрес записала.
Где-то совсем недалеко разорвался снаряд. Я бросилась из комнаты. Сбегая по лестнице, услышала второй разрыв и грохот обвала. На улице никого не было. Третий разрыв прогремел совсем рядом, будто за моей спиной. Вдоль улицы бежала какая-то женщина. Это была Орлова, разведчица штаба МПВО. Она крикнула мне:
— Рядом, здесь где-то!
Забыв обо всём, я побежала за ней.
Едва завернув за угол, мы увидели дом, в который попал снаряд. Дом точно дымился. Клубы каменной пыли ещё не осели, и нельзя было разглядеть, глубока ли пробоина в стене. Около дома уже толпились люди; из пробоины донёсся пронзительный женский крик. И в этот момент я услышала далёкий звук выстрела, точно удар по барабану, потом почувствовала, что поднимаюсь в воздух.
Последнее моё ощущение — острая боль в виске.
«…Сашенька, родной, пишу тебе это письмо в госпитале… Я всё думала: сообщать ли тебе, что я сюда угодила? Но теперь я совершенно здорова и, очевидно, дня через два выпишусь, поэтому и решила написать. А вообще мне повезло: на том месте, где я стояла и куда упал снаряд, было ещё много народу и много убитых и тяжелораненых. Меня же только контузило…»
…Сегодня во время утреннего обхода врач сказал мне, что я могу выписываться. Со мной не было никаких вещей, поэтому на сборы ушло немного времени. Я дождаться не могла, когда окончатся все формальности с выпиской, и, когда получила наконец разрешение уйти, обрадовалась так, будто из заключения вырвалась на свободу.
Госпиталь помещался во дворе, и двор был очень большим. Я скорей хотела попасть на улицу и шла очень быстро. Погода стояла просто чудная. Небо было весенне-голубым, и снег вокруг был пропитан водой. Старичок вахтёр, стоявший у госпитальных ворот, почему-то улыбнулся, когда я проходила мимо него, и сказал:
— А на улице-то что делается, мать моя!
Я решила, что слова его относятся к погоде, и ответила:
— Весна, дедушка, весна!
Распахнула калитку, вышла на улицу, зажмурив глаза от бившего мне прямо в лицо солнца, прошла несколько шагов и остановилась в недоумении. Вдоль всей улицы, насколько хватало глаз, я видела людей с лопатами и ломами в руках, скалывающих лёд и убирающих снег. Я просто не понимала, что это такое делается. Мне пришло в голову, что очистка на этой улице производится для каких-то особых целей. Я дошла до угла, но, повернув, увидела и на этой улице людей с ломами и лопатами в руках.
У меня закружилась голова. Я не могла понять, какая сила заставила этих голодных, измученных людей выйти на улицы. Я видела перед собой оживший Ленинград. Присмотрелась к работающим: здесь были и пожилые, и молодые, и совсем ещё дети. Я стояла, прислонившись к стене, не в силах поверить, что всё это: и солнце, такое радостное и, казалось, давно забывшее Ленинград, и, главное, эти люди, и гранитный, асфальтовый, торцовый город, появляющийся из-под снега и льда, — всё это правда, всё это на самом деле. И мне почудилось, что если бы я в эту минуту узнала, что мы победили, победили окончательно, то чувство, которое я испытала бы при этом, было бы похоже на то, которое овладело мною сейчас. Мне не хотелось спрашивать, кто организовал эту гигантскую работу, не хотелось ничего узнавать. Я поняла, что наступил перелом, что окончательная и полная победа — это только вопрос времени и нашего мужества. Потом я услышала чей-то голос:
— Ну, отдохнула, и будет. Бери-ка лопатку.
Я обернулась и увидела совершенно незнакомую мне женщину.
У стены стояли составленные пирамидкой, как винтовки, лопаты. И я тоже принялась за работу.
Я работала недолго, потому что от слабости опять закружилась голова, и та же самая женщина, которая велела мне взять лопату, узнав, что я только что вышла из больницы, отправила меня домой…
Это была весна, настоящая весна, первая весна блокады. Как мы ждали её! Как мечтали, сидя у остывшей печки, о тепле, о солнце! Все мы думали, что дожить до весны — значит победить блокаду. И вот весна наступила. Я смотрела на расчищенный асфальт мостовой, на тротуары и всё-таки не могла поверить, что пелена снега, плотно окутавшая и дома, и троллейбусы, и трамваи, почти исчезла. Я шла по Литейному. Около домов на скамьях, на ступеньках, на стульях, вынесенных из квартир, сидели люди, завёрнутые в одеяла, в салопы и шубы, подставив солнечным лучам свои исхудалые лица. И я подумала: «Это ведь всё те же самые люди. Вчера они, наверно, весь день трудились, очищая город, сейчас сидят, с виду беспомощные и расслабленные; а начнись обстрел — они оставят свои скамеечки и пойдут из последних сил разгребать обвалившиеся дома и спасать погибающих. Интересно, — мелькнуло у меня в голове, — живёт ли сейчас в Ленинграде какой-нибудь историк, который всё наблюдает, записывает, обдумывает и после войны напишет книгу о поведении советского человека?»
И вдруг я остолбенела: из-за угла показался трамвай. Я остановилась, не веря своим глазам. Трамвай — один вагон — спокойно выехал на Литейный и покатил по направлению к Невскому.
И на всём протяжении Литейного, насколько хватало глаз, вставали со своих скамеечек и стульев люди и махали руками навстречу трамваю. И вожатый непрерывно звонил в ответ. Все смотрели вслед уходящему трамваю, пока он не исчез в конце залитого солнцем проспекта.
…Первым, кто встретил меня, когда я вернулась в детдом, был Коля. Он стоял на лестнице, у перил, в толстых чулках и длинном ватнике. Увидев меня, он смутился, засопел и стал тереть нос рукавом.
Мне было так странно, так неожиданно видеть Колю на ногах, что я даже не сразу узнала его.
— А я вас из окошка увидел, — сказал Коля.
И я почувствовала такую нежность к нему, что схватила его на руки. Он уткнулся в моё плечо. И так, держа его на руках, я вошла в комнату.
Издали доносились шум, смех и пение. А когда я вошла в комнату, то увидела, что всюду — на кроватях, на полу и на подоконнике — сидят дети, и Сиверский показывает им фокусы.
Когда мы с Колей появились в дверях, дети бросились ко мне, карабкаясь на плечи, и я еле удержалась на ногах.
Маруси среди ребят не было.
— У неё нашёлся родственник, который получил разрешение вывезти девочку на самолёте, и теперь она на Большой земле, — рассказала мне Анна Васильевна. — Да и всем-то скоро ехать придётся, — добавила она.
И я узнала, что уже есть решение Москвы об эвакуации детских домов из Ленинграда и что, как только откроется навигация на Ладоге, наш детдом будет эвакуирован.
— Поедете? — спросила меня Анна Васильевна.
Я покачала головой. Разве я могла уехать из Ленинграда?
— Останусь, — ответила я.
— А я поеду, — просто и убеждённо сказала Анна Васильевна. — Надо помочь детям…
Вот я и снова одна. Мне никогда не казалось, что эта девочка Маруся заменит мне Любу. Но с ней мне было как-то теплее. Я не задумывалась о будущем, потому что тогда мне стало бы ясно, что рано или поздно мне придётся расстаться с Марусей. Теперь это совершилось. Но, странное дело, сейчас я восприняла эту разлуку совсем не так, как если бы это случилось хоть месяц назад. Я целиком находилась под впечатлением только что виденного мною оживающего, залитого солнцем города и в предчувствии чего-то значительного и радостного. Я вспомнила, как зимой стояла на Литейном и, смотря вдаль через осколок жёлтого стекла, мечтала о солнечном мире. А сейчас мне уже казалось, что я вижу этот мир наяву…
— Как хорошо, что вы пришли именно сегодня! У нас вечером гость, — объявила Валя, — Костя Линьков.
Фамилия «Линьков» показалась мне смутно знакомой, но я никак не могла вспомнить, где я её слышала.
— Да это наш соученик, мы с Валей о нём рассказывали, когда свою школу вспоминали. Он теперь партизан, — пояснила Катя. — Валя встретила его на улице, среди партизан, сопровождавших подводы с подарками для ленинградцев…
Линьков пришёл под вечер. Это был парнишка лет шестнадцати, низкорослый, отчего казалось, что лет ему ещё меньше, в полушубке, подпоясанном ремнём, на котором висел огромный пистолет в новенькой жёлтой кобуре. На кубанке Линькова была прикреплена наискось красная ленточка.
Показавшись в дверях, он остановился и сказал, улыбаясь:
— Ну, принимайте гостя!
Валя и Катя бросились к Линькову, но, подбежав, остановились, точно стесняясь обнять и поцеловать его, а он протянул им руку и проговорил спокойно:
— Выросли, выросли, девчата! И блокада вас не берёт!
Девочки представили мне гостя.
— Это, значит, и есть ваш командир? — спросил Линьков, смотря мне прямо в глаза.
Но я почувствовала себя так же, как тогда, на заводе, перед Никанором Семёновичем. Когда Линьков появился в дверях, он показался мне совсем ребёнком и немного смешным из-за своей огромной трофейной кобуры. Но теперь, когда он стоял передо мной и смотрел мне прямо в глаза, он перестал казаться мальчиком.
— Ну, здравствуйте! — Линьков пожал мне руку крепко, по-мужски.
Дети поднялись на своих койках и во все глаза смотрели на Линькова. На их лицах было радостное оживление.
— Здорово, орлы! — обратился Линьков к ребятам. — Чего ж вы тут полёживаете? У нас такие, как вы, в разведку ходят.
В его тоне звучали одновременно и снисходительность взрослого человека, разговаривающего с малышами, и задор мальчишки.
— Куда ходят? — спросил вдруг Коля.
— В разведку, — повторил Линьков.
— И наганы дают? — тихо осведомился Коля.
— А нам никто не даёт, — ответил Линьков. — Мы сами берём у фрицев.
Скоро все мы, и взрослые и дети, оказались в одном кружке у печки. На улице поднялся ветер, и Валя никак не могла растопить печку: её задувало.
— Дай-ка я, — предложил Линьков.
Затем он как-то по-особенному уложил дрова, и через минуту язычок пламени облизывал поленья.
— Здорово это у вас получилось, — удивился Сиверский.
— На том стоим, — ответил Линьков.
— Расскажите что-нибудь про партизан, — попросил Коля.
Его поддержали все ребята:
— Расскажите! Расскажите!
Тогда Линьков начал рассказывать. Мы услышали историю о том, как он попал в партизаны. Очень просто, без тени рисовки, рассказал он, как работал на оборонительных рубежах вместе с комсомольцами шефствовавшего над школой завода, как внезапно они были отрезаны от города вражеским авиационным десантом и разбежались по деревням и как впоследствии ему, Линькову, удалось встретиться с партизанами и вступить в отряд.
Затем он начал рассказывать про жизнь отряда. Мне показалось, что Линьков долго и терпеливо ждал минуты, когда он встретится со своими старыми друзьями и расскажет им о своей жизни. Он скоро увлёкся и забыл о своих слушателях, больших и маленьких. Лицо его, освещённое пламенем пылающей печки, казалось одухотворённым. Мы слушали, не сводя с него глаз.
И вдруг, пожалуй, первый раз за всё время, я подумала о том, что все мы живём в необычном мире. Я вспомнила, что, когда об этом говорил мне Саша, я не понимала его. Я думала, что это ему, внезапно с Большой земли попавшему в Ленинград, кажется, что он перенёсся в «четвёртое измерение», а нам, пережившим и видевшим здесь всё, не может это казаться. Но сейчас, слушая Линькова, я представила себе Ленинград в виде большого острова, отрезанного от остальной суши чёрным, разъярённым морем, и кругом ещё маленькие островки, на которых живут партизаны, и подумала, что действительно мы живём в страшное и незабываемое время.
Я так задумалась, что даже вздрогнула, когда услышала слова Линькова.
— И я вместе с новенькими партизанами дал партизанскую клятву, — говорил Линьков, — и тогда стал уже настоящим партизаном…
С треском выскочила из печки головёшка; он взял её рукой и не спеша бросил в печь. Я заметила, что у Линькова большая, совсем недетская рука. И я спросила:
— Скажите, что это за клятва? Что в ней говорится?
— Это клятва, которую дают все ленинградские партизаны перед вступлением в отряд, — спокойно ответил Линьков.
— Ты знаешь её наизусть? — тихо спросила Катя.
— Да, я знаю её наизусть.
И когда я уже думала, что Линьков не произнесёт больше ни слова, он встал и сказал:
— Вся клятва длинная, только там её все вместе говорят, поэтому не собьёшься.
Он сделал небольшую паузу и, смотря на пылающие дрова, произнёс:
— «…Я клянусь до последнего дыхания быть верным своей родине, не выпускать из своих рук оружия, пока последний фашистский захватчик не будет уничтожен на земле моих отцов и дедов…»
Я смотрела на пылающее лицо Линькова, и мне казалось, что он уже не видит нас, что не нам читает он партизанскую клятву.
— «…Я клянусь всеми силами, всем своим умением и помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город Ленина от вражеской блокады…»
Голос его окреп и теперь заполнял всю комнату. Десятки ребячьих глаз смотрели на Линькова точно заворожённые.
— «…Я клянусь, что умру в жестоком бою с врагом, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание фашизму…»
Я поймала себя на том, что и мои губы шевелятся, повторяя слова за Линьковым, и мне показалось, что и Сиверский, и Анна Васильевна, и девушки повторяют их.
— «…Если же по своему малодушию, трусости или злому умыслу я нарушу эту свою клятву и предам интересы трудящихся города Ленина и моей отчизны, да будет тогда возмездием за это всеобщая ненависть и презрение народа, проклятие моих родных и позорная смерть от рук товарищей».
Линьков замолчал, но не сел, а продолжал стоять, озарённый красноватым пламенем раскалённой печи, а слова клятвы, которые я повторяла про себя, сами собой перешли в другие слова. «Я клянусь, — говорила я про себя, — что буду правдивым и честным человеком, что я верну к жизни этих детей…»
…Линьков ушёл поздно вечером, и с его уходом мне показалось, что комната наша опустела и чего-то в ней не хватает.
В ту ночь я долго не могла заснуть.
…И вот наступил этот день. Сегодня мы должны отправить детей на Большую землю. С утра в нашем детдоме было шумно и суетливо. Отъезд назначен на четыре часа. Но чем ближе подходило время разлуки, тем тише становилось в нашей комнате. Я почувствовала большую грусть от сознания, что никогда не увижу больше этих ставших родными детских лиц и навряд ли когда-нибудь мы, взрослые, соберёмся по-прежнему у печки и будем радоваться, глядя на выздоравливающих детей. В эти минуты я особенно остро почувствовала, как все мы пятеро крепко связаны и как трудно нам расставаться. Очевидно, не я одна чувствовала так: лица моих товарищей становились всё сосредоточеннее. Мы старались не глядеть друг на друга. Но вот прогрохотал и затих грузовик, и мы стали выводить детей и усаживать их в машину…
Сначала Финляндский вокзал, а там — поезд, недолгий путь и Ладога. Уже стемнело, когда мы подходили к пирсу; это время было выбрано из опасения воздушных налётов. Но пирс всё же был освещён, так как в темноте нельзя грузить и разгружать суда и баржи. Увидя тёмные воды Ладоги, я в течение нескольких секунд снова прожила всю свою ладожскую жизнь.
Накрапывал лёгкий весенний дождь, свет фонарей отражался на мокрых досках пирса. Пароход уже стоял у пристани.
Мы усадили детей на пароход, и каждый из нас поцеловал на прощание Анну Васильевну.
Дождь пошёл сильнее. Послышалась отрывистая команда капитана в переговорную трубу. Зашумела машина, и пароход как-то незаметно отвалил, и я увидела воду, бурлящую между пароходом и пристанью.
Мы — Сиверский, Катя, Валя и я — стояли на мокрых досках пирса, под дождём, освещённые редкими фонарями. И не знаю, как им, моим друзьям, но мне никуда не хотелось идти. В первый раз за последние месяцы я почувствовала, что меня никто не ждёт и никуда не надо спешить.
И вдруг — так бывает перед расставанием или при встрече после долгой разлуки — я посмотрела на них, на моих товарищей, и увидела их как-то заново. С грустью я подумала, что никогда не знала этих людей до конца, что это светлые, замечательные люди, а не простые, обыкновенные, как я думала раньше.
— Что вы теперь думаете делать, Антон Иванович? — спросила я наконец Сиверского.
Он ответил не сразу, он ещё долго смотрел на чёрную ладожскую воду, в которой, как звёзды, отражались фонари.
— Работать. Конечно, работать, — сказал он. — Что же ещё можно делать в Ленинграде? Поступлю на химический завод. Маленький, правда, ну ничего… Я заходил туда. Мы почти договорились. Ведь я же химик, Лидочка, не только кормилица, но и химик.
— А ты, Валя? — спросила я.
Девушка подняла голову, и я увидела чуть заметный влажный блеск на её ресницах.
— Не знаю ещё, — ответила она, — не знаю… Так много хочется сделать… Так много…
А я давно уже знала, что буду делать. Решила это ещё тогда, в тот светлый весенний день, когда шла из госпиталя по ожившим ленинградским улицам. Я подумала тогда, что могу наконец осуществить свою мечту, потому что Ленинград оживает, он уже встаёт на ноги, а я выполнила свой долг здесь и могу идти дальше, ещё дальше, вперёд, с теми, кто принимает на себя первые удары врага.
Я решила, что вернусь в армию.
Ну вот я и покидаю Ленинград. Направление в армию у меня в кармане. Я снова в кузове полуторки.
Каждый новый период моей военной жизни начинается с полуторки. Я как бы «въезжаю» в жизнь в кузове грузовика.
Машина мчится по улицам Ленинграда. Над трубой пришвартованного к Невской набережной большого корабля вьётся дымок. Я понимаю, что корабль пока ещё никуда не может уйти, но дымок этот воспринимается мною как радостное предзнаменование…
Мы за городом. Здесь весна чувствуется ещё больше, снег ещё не везде стаял, но уже журчат ручейки. У маленького болотца сидит лягушка и квакает, смешно вытянув туловище.
Потом мы въехали в густой лес. Дорога через него, наверно, была недавно проложена, потому что я видела совсем ещё свежие пеньки и куски коры, разбросанные по обочинам этой узкой дороги, и чувствовала острый запах древесного сока.
«Страшно в таком дремучем лесу ночью, — подумала я. — Тут, наверно, и людей-то совсем нет».
Точно в ответ на мои мысли, громкий голос откуда-то из самой чащи крикнул:
— Прохоров, чтоб тебе пусто было, ты куда котелок де-ел?
Лесное эхо подхватило голос, и кто-то, невидимый за деревьями, засмеялся.
Тут я рассмотрела, что верхушки деревьев опутаны проводами и провода эти то тянутся вдоль дороги, то сворачивают в самую глубь леса. Внимательно всматриваясь в просветы меж деревьев, я различила несколько танков, искусно замаскированных еловыми ветками. Мелькнули полуторки, вдавившиеся своими кузовами в лесную чащу.
Чем дальше мы въезжали в лес, тем больше ощущала я окружающую нас со всех сторон невидимую жизнь: вот послышался хруст сучьев, а вот затарахтел мотор. На одном из поворотов наш шофёр резко затормозил, пропуская пересекающие дорогу танки. И мне представилось ясно, что если бы был подан сигнал, то разом ожил бы и двинулся весь этот лес.
«Армия, — подумала я, — армия!»
Наконец мы выехали на опушку.
Потом показалось какое-то полуразрушенное село. Одиноко торчали из талого снега трубы, сохранилось лишь два-три дома.
Машина остановилась.
— Ну вот и приехали. — Шофёр потянулся, щурясь на солнце. — Теперь вам в отдел кадров надо, вон в тот дом.
В первой комнате, куда я попала, отворив дверь домика, сидел какой-то лейтенант и пил чай. Он обмакивал кусок сухаря в стакан, обсасывал его и прихлёбывал чай. Я спросила, кому должна сдать моё предписание.
— Давайте сюда, — сказал лейтенант, не выпуская сухарь.
Я протянула бумагу.
Лейтенант взял листок, разгладил его на столе, прочитал и проговорил:
— Пойдёте в армейский госпиталь.
Вот этого я ожидала меньше всего. Я не хотела идти в армейский госпиталь. Я хотела служить в части. Для этого и уехала из Ленинграда. Я возразила:
— Мне бы не хотелось работать в госпитале.
Лейтенант обмакнул сухарь в чай и спросил:
— А что бы вам, интересно, хотелось?
Во мне уже поднималось раздражение. Меня злил и его снисходительно-иронический тон, и его сухарь, с которого капал чай. Но, помня о дисциплине, я сдержалась и ответила коротко:
— Я хотела бы в часть.
Лейтенант положил сухарь на стакан и посмотрел на меня устало:
— Пойдёте в армейский госпиталь.
У меня чуть не вырвалось: «Не пойду», — во всяком случае, я бы сказала ему что-нибудь резкое, но в этот момент за дверью раздались шаги, и лейтенант вскочил, одёргивая гимнастёрку. Я стояла спиной к двери и поэтому не видела, кто вошёл.
— Начальник сейчас будет, товарищ армейский хирург, — доложил лейтенант.
Я обернулась и чуть не вскрикнула от неожиданности: передо мной стоял Андрей Фёдорович.
Я бросилась было к нему — и он сделал движение по направлению ко мне, — но тут же остановилась и приложила руку к ушанке.
Андрей Фёдорович опустил мою руку.
— Лида!.. — проговорил он, и мне показалось, что в голосе его, помимо удивления, прозвучало ещё что-то, — может быть, тревога или даже испуг.
Но, очевидно, всё это мне только показалось, потому что в следующую минуту Андрей Фёдорович, не обращая никакого внимания на лейтенанта, — я заметила, какая у него стала глупая физиономия, — взял меня под руку, отвёл в угол, усадил на табуретку и стал расспрашивать. Потом, точно вспомнив, сказал:
— Чего же мы тут сидим? Ко мне, ко мне идёмте. Моя хата напротив.
Он чуть не насильно поднял меня за плечи и подталкивал к выходу. Когда я выходила, лейтенант спросил:
— А что начальнику сказать, товарищ военврач?
— Ничего, — ответил Андрей Фёдорович. Он задержался на секунду в дверях и добавил: — Скажите, скоро буду.
Мы вышли из домика. И здесь, на улице, мне почему-то показалось, что Андрей Фёдорович стал будто меньше ростом. Во всяком случае, борода его определённо стала короче. Он был не в шинели, а в одном меховом жилете, подпоясанном ремнём. Борода закрывала петлицы, и я не могла определить, кто он теперь по званию.
— Вот это встреча! — воскликнул Андрей Фёдорович, когда мы очутились на улице. — Как же вы попали сюда?
Я рассказала.
Мы подошли к какому-то домику. Собственно, это был не домик, а сарай или хлев с воротами вместо двери и, по-видимому, без окон.
— Вот здесь я живу, — махнул рукой Андрей Фёдорович, толкая дверь-ворота. — Не дворец, конечно, но зато на твёрдой земле.
Он вошёл в домик, и я за ним. Мы находились в небольшой комнатке, освещённой светом керосиновой лампы без стекла. Окон здесь действительно не было. Стоял столик на трёх ножках, и над ним, вставленная в стенную щель, красовалась доска, заменяющая книжную полку.
Но вдруг я увидела между доской и столиком приколотую к стене мою фотокарточку. Я резко отвернулась. Это была та самая карточка, которую я хотела подарить Саше на прощание и никак не могла найти. Не знаю, заметил ли моё движение Андрей Фёдорович.
— Погодите, — вдруг заспешила я, — ведь мешок-то мой в отделе кадров остался.
И я выбежала из домика, не дожидаясь ответа Андрея Фёдоровича. Когда я вернулась с мешком, карточки на стене не было.
Андрей Фёдорович сидел за столом. Он пристально и, как мне показалось, испытующе посмотрел на меня. Но я сделала вид, будто ничего не замечаю.
Я села напротив Андрея Фёдоровича и стала рассказывать о своей работе в Ленинграде. Когда я кончила рассказ, Андрей Фёдорович встал, прошёлся по комнатке, пригибая голову, — потолок был очень низкий, — и проговорил:
— Ну, всё прекрасно. Будете работать в армейском госпитале.
Я сказала:
— Андрей Фёдорович… Мне бы не хотелось работать в армейском госпитале.
Его борода дёрнулась.
— А что бы вам, интересно, хотелось?
Мне стало очень не по себе оттого, что разговор наш, по какой-то странной случайности, стал повторением моего разговора с лейтенантом. Но я решила довести дело до конца.
— Мне бы хотелось работать в какой-нибудь части.
— Так… — протянул Андрей Фёдорович. Потом он обернулся к стене и продолжал: — Если речь идёт обо мне, то вы напрасно беспокоитесь. Армейский хирург бывает в госпитале только немного чаще, чем в любом из санбатов.
— Андрей Фёдорович! Ну как вам не стыдно так говорить! Спросите у того противного лейтенанта, и он вам подтвердит, что я просилась в часть ещё до того, как встретила вас.
— Так… — снова протянул Андрей Фёдорович, сел на койку и опустил голову, подперев её руками.
И мне снова стало его очень жалко, как было жалко тогда, когда я уезжала с Ладоги. Я подумала, что Андрей Фёдорович единственный, кажется, человек, которому встречи со мной всегда приносят только огорчения.
Я не могла быть равнодушной к этому. Ведь мы прожили с ним бок о бок два месяца на неверном льду Ладоги; он был тогда самым близким из находившихся возле меня людей. Я вспомнила, как он растирал меня, замёрзшую после купания в проруби; вспомнила часы, когда его трогательная, немного грубоватая, застенчивая забота была для меня единственной радостью, единственным утешением.
Но я никогда не любила его, и теперь, после встречи с Сашей, я знала об этом твёрже, чем когда бы то ни было. Иной раз мне казалось, что я могу пойти на компромисс со своей совестью, думала, что я могла бы сделать это для Андрея Фёдоровича, только для него, — пожалеть, солгать, сказать, что люблю; но тут же мне представлялось страшным: жить с человеком бок о бок, ежеминутно быть готовым ко всему, держать в руках смерть и жизнь друг друга — и обманывать в таком большом.
— В тот вечер у меня был этот корреспондент. — Андрей Фёдорович не поднимал головы. — Впрочем, вы ведь, наверно, встретились.
— Да, — ответила я.
— Он пришёл вскоре после того, как вы уехали. И часа не прошло. Мы провели вместе вечер и ночь. Даже машину застрявшую вместе выталкивали.
Он говорил, всё ещё не поднимая головы. Я молчала. Он тоже замолчал.
— Вы давно с Ладоги? — спросила я, когда уже невозможно было молчать.
— Недавно, — ответил Андрей Фёдорович. Внезапно он встал и подошёл ко мне.
— Послушайте, Лида, я никогда ни о чём не просил вас. Но сейчас прошу: останьтесь здесь.
Я хотела остановить его, сказать, что это невозможно, но он не дал мне раскрыть рта.
— Я знаю, что говорю не то, что надо, — продолжал Андрей Фёдорович, — но вы не будете надо мной смеяться. Мне трудно жить, Лида. Я уже не могу, не могу больше жить один. Я ничего не хочу от вас, просто, — прийти вечером, очень редко, и чтобы горел огонь. Знаете, что я пережил в ту ночь? — спросил он, внезапно возвысив голос. — Вы уехали, вас нет, а он здесь. Он расспрашивает меня о вас, я отвечаю… Я чувствую, что я для него только справочное бюро и что утром он уедет, уедет к вам, а я останусь — и кругом лёд… Словом, всё это глупости, но сейчас я прошу вас: останьтесь. Попробуйте. Вы тотчас же уедете, если захотите. Тогда я не скажу вам ни слова. Но сейчас я прошу: останьтесь.
Он отошёл от меня и повернулся лицом к стене.
Я подошла и положила руки ему на плечи. Он вздрогнул, но не повернул головы. Я сказала:
— Андрей Фёдорович, не сердитесь на меня. Я не могу этого сделать. Я не могу, я не хочу, чтобы вы жили тем, чего нет.
Он резко повернулся и сбросил мои руки со своих плеч.
— Уходите, — почти крикнул он.
Я отошла к двери и взяла свой мешок. Моё лицо горело. Мне казалось, что воспоминание об этой сцене будет вечно мучить меня.
— До свидания, Андрей Фёдорович, — протянула я руку.
Он произнёс почему-то:
— Хорошо, — но не двинулся с места.
Когда я открывала дверь, он остановил меня:
— Ваша фотокарточка здесь. Хотите её забрать?
— Нет, — ответила я.
Он передёрнул плечами.
— Где же вы всё-таки хотите работать?
— Пока в санбате.
— Хорошо. — Он подошёл к столу, написал что-то на листке бумаги и протянул листок мне: — Отдайте в отдел кадров…
Я не помню, как дошла до отдела кадров. Я ничего не видела и не слышала вокруг. Только в ушах звенело. Опомнилась только тогда, когда уже стояла перед лейтенантом и протягивала ему бумагу.
Пока лейтенант читал, я вспомнила, что даже не посмотрела, что там написано. Подумала: «Ну, будь что будет».
— А я полагал, что армхирург вас при себе оставит, — медленно протянул лейтенант.
Я почувствовала в его голосе почти неприкрытую насмешку. Посмотрела ему прямо в глаза и сказала:
— Не всем же в тылу отсиживаться.
С радостью заметила, что лейтенант покраснел. Он стал рыться в куче лежащих перед ним бумаг, вытащил какой-то длинный листок и бросил его мне.
— Заполняйте анкету.
Я долго заполняла анкету, в ней было бесконечное количество самых нелепых вопросов; потом ходила подписывать документы и менять продовольственный аттестат. Когда я вернулась к лейтенанту, он протянул предписание и процедил сквозь зубы, не глядя на меня:
— Приказано, чтобы предупредить, когда решите ехать. На машине вас доставят.
С предписанием в руках я вышла из отдела кадров и решила: «Доберусь на попутных».
…И вот я иду в санбат по бесконечной дороге с мешком за плечами. Иду и оглядываюсь: не видно ли попутной машины. Дорога идёт через поле, грязища страшная. С трудом вытаскиваешь сапоги. А в общем хорошо! Солнце ещё высоко. Всё вокруг течёт. В полях — островки талого снега. Слышно, как журчит вода, поют птицы.
Но идти трудно. Мешок мой, который я до этого почти не ощущала за спиной, становится всё тяжелее. Я, правда, привыкла к ходьбе; на Ладоге иногда приходилось делать большие переходы, да и в городе концы были тоже порядочные, но по такой грязи я ещё никогда не ходила.
Стоит полная тишина. Я не слышу ни артиллерии, ни стрельбы, хотя и приближаюсь к линии фронта.
«Будто и войны нет», — подумала я и попыталась представить себе день после окончания войны. Вот всё стало на свои места. И все люди, оставшиеся в живых, вернутся туда, где жили до 22 июня 1941 года, и будут продолжать жизнь, так жестоко прерванную в этот день. Нет! Не просто продолжать! После того как за спиной людей останутся годы страшных испытаний, невиданных взлётов человеческой гордости и мужества, в жизнь должно войти что-то новое, очень высокое, потому что она будет строиться руками людей, переживших величайшие испытания.
«А что бы хотелось мне для себя?» — мечтала я.
Я хочу многого. Хочу большого счастья для себя и для людей. Вся жизнь теперь кажется мне высокой горой, на которую очень трудно взобраться, но на вершине которой ждёт нас настоящая большая радость…
Идти становится всё труднее. Лямки от мешка так и впиваются в плечи. Замечтавшись, я не заметила, что очень медленно стала идти. Солнце близко к закату. Так я не только засветло, а и к ночи не доберусь. А что, если ночь застанет меня в пути? Ведь у меня и оружия-то никакого нет.
Впереди только бесконечная рыжая лента дороги. Я взглянула на бумажку — план дороги: до дивизии оставалось не менее восьми километров.
«Не дойду», — решила я.
И вдруг, обернувшись, я увидела чёрную точку на дороге. Машина! Моё настроение сразу поднялось. Я стою и жду, хотя всё время убеждаю себя в том, что надо идти вперёд, потому что машина всё равно нагонит. Но сколько я себя ни уговариваю, всё-таки с места не двигаюсь. У меня так разболелись ноги, что кажется, если сделаю ещё несколько шагов, то упаду прямо в грязь.
И тут мне в первый раз пришла в голову мысль: а не много ли я взяла на себя? Справлюсь ли я? Не правильнее ли было остаться в Ленинграде?..
А чёрная точка всё ещё не приближается. Очевидно, машина застряла на дороге и не может выбраться. «Надо идти», — сказала я себе и пошла.
Теперь я уже не шла, как прежде, осторожно выбирая островки суши, а двигалась по прямой, хлюпая по лужам и проваливаясь в болотца.
И тут я увидела, что навстречу мне идёт человек в огромных болотных сапогах, коренастый, в шинели, забрызганной грязью. Когда он подошёл ближе, я рассмотрела, что это капитан.
Поравнявшись со мной, он заметил:
— Трудновато грязь месить, а?
Теперь я разглядела его лицо: он был не молод, у него было много морщин, белые волосы выбивались из-под фуражки на лоб.
Я так обрадовалась встрече с человеком на этой пустынной дороге, что даже усталость моя исчезла.
— Тут в моих сапогах намучаешься, а в ваших-то и наплакаться можно, — сказал капитан.
У капитана была простодушно-открытая манера разговаривать. Я сразу почувствовала к нему симпатию и спросила, далеко ли до Н-ской дивизии.
— Э-ге! — протянул он. — А я как раз оттуда иду! Километров шесть вам ещё махать надо! — Он внимательно посмотрел на меня и спросил: — А вы не из армии шагаете?
— Оттуда, — ответила я.
— А я туда, — сказал капитан. — Далеко ещё?
— Не очень, километров шесть.
— Ну, значит, нам поровну, — засмеялся он.
Мне стало очень жаль, что мы идём в разные стороны. Вот было бы хорошо идти по дороге с этим весёлым, приятным человеком.
— Вот жаль, что не по дороге нам, — с сожалением проговорил капитан. — Ну, желаю счастливо оставаться! Смелее идите, грязи не бойтесь. Счастливо! — ещё раз повторил он, махнул рукой и пошёл.
Я обернулась ему вслед. Капитан шёл быстро и уверенно, тяжело ступая своими огромными сапогами.
Наконец солнце скрылось. Над горизонтом ещё стояло розоватое зарево, точно от пожара, но всё вокруг внезапно изменило окраску, поблекло, посерело… Стало холоднее.
Я ничего не видела перед собой и ни о чём не думала. Только напрягала все свои силы, чтобы не остановиться, потому что знала, что тогда уже не смогу сделать ни шагу дальше. Мои ноги стали тяжёлыми, как брёвна. Я с трудом вытаскивала их из грязи и вдруг упала в яму, наполненную водой. Почувствовала, как в сапоги льётся ледяная вода. С отчаянной надеждой обернулась назад, на дорогу, и увидела приближающуюся санитарную машину.
Когда «санитарка» приблизилась, я встала и подняла руку, хотя между нами оставалось ещё несколько десятков метров.
И тут я увидела, что дверцы кабины открылись и шофёр машет мне оттуда рукой. Затем он крикнул:
— Лида!
Я почувствовала, что вся дрожу, то ли от холода, то ли от радости. Сделала несколько шагов навстречу. Из кабины прямо в грязь выпрыгнул Сеня, наш ладожский шофёр.
Я так растерялась, что даже слова не могла произнести, а он схватил мою руку, стал её трясти и приговаривать:
— Насилу догнал, насилу догнал…
Тут только оцепенение оставило меня.
— Сеня! — закричала я и стала его целовать.
Я увидела, что от моих поцелуев у него на лице остаются грязные пятна, и смутилась, а Сеня смутился ещё больше.
Наконец я успокоилась и спросила его, как всё это получилось и каким образом он сюда попал. Сеня ответил, что работает теперь в санотделе, и я, ещё ничего толком не сообразив, воскликнула:
— Да ведь и Андрей Фёдорович там!
Но Сеня пропустил это мимо ушей. Он сказал:
— Ну, поехали, — и помог мне влезть в кабину.
Мы поехали, ныряя в заполненные водой ямы и вздымая чёрные брызги. Я молчала, всё ещё переживая радость своего избавления. И тут же подумала: «А как же я справлюсь с этой жизнью там, в части?»
Сеня молчал, поминутно ударяясь грудью о колесо баранки. И вдруг я услышала, что он молчит. Я говорю «услышала», потому что его молчание внезапно показалось мне нарочитым и неестественным. И как ни странно, но только в эту минуту я поняла, что это Андрей Фёдорович послал его вдогонку за мной.
Я спросила:
— Тебя из-за меня послали, Сеня?
Он ответил угрюмо:
— Никто меня не посылал. По своим делам ехал.
Бедный Сеня! Он не умел лгать.
Я снова спросила:
— А куда же ты едешь?
Этот простой вопрос окончательно смутил его.
— Еду… по дороге… — пробурчал Сеня.
Как скверно я себя ни чувствовала, мне было всё же трудно удержаться от улыбки. Однако я промолчала, и мы проехали несколько километров, не проронив ни слова.
Быстро темнело. Небо подёрнулось серой дымкой. Розовый свет над тем местом, где зашло солнце, погас. Подул ветер, и вода в ямах и воронках покрылась рябью. Сразу стало мрачно и тревожно.
Я не могла больше выносить молчания. Я проговорила:
— Что же, Сеня, так и не спросишь меня ни о чём? Так и будем молчать?
— А чего же спрашивать, когда всё уже отвечено, — сказал Сеня будто с неохотой, но мне показалось, вроде он и сам рад, что молчание наконец нарушилось.
Тогда я пустилась на хитрость. Я принялась разговаривать с Сеней так, как будто бы ничего не случилось. Я засыпала его вопросами, спрашивала, давно ли он с Ладоги, не обращала внимания на его тон, на хмурые, односложные ответы и задавала новые вопросы.
Я почувствовала, что лёд тронулся. Сеня становился всё более разговорчивым и наконец спросил:
— А с нами, значит, опять жить не хотите?
Тут только я догадалась, откуда всё это идёт. И мне вдруг захотелось снова крепко-крепко поцеловать Сеню, потому что я поняла, что только настоящий большой друг может так близко к сердцу принимать мои поступки. Я сказала:
— С чего ты взял, Сеня, что я не хочу с вами жить?
— А как же? — с горечью ответил Сеня. — Захожу я к Андрею Фёдоровичу в хату печь растопить. Топлю печь, вдруг слышу, он мне говорит: «А тут Лида была. Помнишь, говорит, Лиду?» — «Как же, говорю, не помнить. Почему же она сюда попала?» А Андрей Фёдорович отвечает: «Работать приехала». — «С нами будет?» — спрашиваю. «Нет, говорит, не с нами. В санбат назначение получила».
Ну, меня тут такое зло на Андрея Фёдоровича взяло! «Как же это вы, говорю, начальник большой, а не смогли нашу Лиду здесь оставить». А он посмотрел на меня, и взгляд у него какой-то тёмный стал, и говорит: «Не хочет, Сеня, наша Лида здесь оставаться. Хочет в часть. Вот ты её и отвези». Сначала меня это как по лбу ударило: что это, думаю, значит — «не хочет»? А потом вспомнил, как вы с Ладоги уезжали, подумал: «Наверно, и правда не хочет. Всё чего-то ищет, ищет…»
— Ну вот, — продолжал Сеня, — час проходит, другой, являюсь я к Андрею Фёдоровичу, спрашиваю, когда ехать. А он на меня не смотрит и говорит: «Некуда ехать, ушла она уже. Пешком пошла».
Ну тут я уж совсем в тупик стал. «Как, говорю, ушла? Да разве она дойдёт в грязь такую?» А Андрей Фёдорович как закричит, характер-то его знаете: «Ушла, говорят тебе, и убирайся ты отсюда к…» Ну, словом, прогнал меня. Ну вот, ещё час проходит, бежит за мной связной. «Военврач, говорит, требует». Прихожу, а Андрей Фёдорович сидит к двери спиной, в угол смотрит. «Заводи, говорит, «санитарку» и подвези её. Она, говорит, по дороге пошла. Тут одна дорога».
Ну вот, я и поехал. Думаю: «Нагоню, подвезу, а ни слова не скажу. Раз не хочет с нами, всё лучшего чего-то ищет, так и нам с ней не по пути. Ну вот».
Он замолчал.
— Видишь ли, Семён, — начала я, с трудом находя слова, — по-моему, каждый человек должен быть честным сам с собою. Так вот, Сеня, я ещё там, на Ладоге, сказала тебе, что буду всегда впереди. Мне кажется, что я смогу это, а раз могу, но не сделаю, значит, перестану быть честной сама с собой и мне трудно будет жить.
Сеня молчал, и я не знала, доходит ли до него то, что я говорю, правильно ли он понимает меня.
— И вот я поехала в часть, а по дороге встречаются друзья — ты, Андрей Фёдорович, и я знаю, что, останься я с вами, мне бы жить было легче, удобнее.
Я кривила душой, но мне показалось, что сейчас я имею на это право.
— Но, — продолжала я, — тогда мне нужно было бы отказаться от моего правила в жизни, и в конце концов мне стало бы труднее жить…
Сеня повернул ко мне голову:
— А вы думаете, женщине там легко, на передовой-то? Там-то, думаете, все вас понимать будут?
Я поняла, на что он намекает, и ответила:
— Всё зависит от человека, Сеня. И когда мир, и когда война.
Он помолчал.
Мы ехали совсем медленно. Колёса всё время проваливались в грязь. Иногда мне казалось, что мы вовсе не продвигаемся вперёд. Потом Сеня посмотрел на меня и тихо сказал:
— В грязи у тебя всё… И шинель и ушанка даже. Ты грязь-то, пока не высохнет, не счищай. Как высохнет, она сама отвалится. А потом щёткой. Щётка-то есть у тебя?
— Нет.
— У меня есть. Я тебе дам. Шофёру она всё равно ни к чему.
Прежде всего, я работаю не в санбате, а в санчасти полка. Случилось это так. Когда я явилась к начсандиву, выяснилось, что санбат ещё только развёртывается и пока надо сидеть в резерве. Но это совсем не входило в мои планы. Я стала настаивать, чтобы меня определили куда-нибудь временно. Тогда начсандив прикомандировал меня к санчасти одного из полков.
Работы мало, потому что нет активных боевых действий, только снайперы с обеих сторон стреляют да разок в два-три дня бывает артиллерийский налёт. Словом, куда спокойнее, чем в Ленинграде.
Врач полка, мой непосредственный начальник, — очень хороший парнишка, именно парнишка, потому что военврач третьего ранга Василий Тимофеевич Пухов на два года моложе меня. Он небольшого роста, белобрыс, приветлив и вместе с тем очень застенчив. Он окончил институт перед самой войной где-то в Сибири и попал на наш фронт. Он очень хорошо ко мне относится, даже чересчур «опекает». Он влюблён в свою профессию, каждый раненый для него «интересный случай», после каждой операции, даже перевязки, Пухов делает заметки в своём блокноте. Он мечтает после войны стать аспирантом, профессором, академиком.
Моя соседка по блиндажу Тоня Беляева очень молода, ей не больше восемнадцати лет. Она колхозница одного из пригородных ленинградских колхозов, на фронт пошла добровольно и уже здесь, в дивизии, получила специальность связистки. Форма на ней сидит прекрасно. Во всём, как говорится, видна «заправочка». Я уж давно заметила: есть такие девушки, на которых форма сидит так, будто они её с детства носят. Впрочем, и мужчины тоже есть такие. Мы с ней знакомы недавно, поэтому мне трудно сказать что-либо определённое о её характере, тем более что она целыми днями сидит на командном пункте полка у телефона.
…Иной раз мне кажется, что за время войны у людей накопился такой огромный и такой неизрасходованный запас ласки, сочувствия и желания счастья, что его хватит на долгие годы мира. Война не только ожесточает людей; иногда она делает угрюмых — приветливыми, грубых — сентиментальными, скрытных, любящих одиночество — привязчивыми.
Но и требования людей друг к другу здесь повышенные. Не потому ли это, что подлинным мерилом дружбы на войне является в конечном счёте готовность прийти на помощь другу, даже если жизни твоей угрожает смерть?..
Но чувствую я себя сейчас очень одинокой! Может быть, потому, что до сих пор не смогла найти себе подругу, с которой могла бы говорить обо всём.
Там, в Ленинграде, было совсем другое дело. Там некогда было грустить, там был детдом, Ирина.
…В тот вечер было пасмурно и дул холодный ветер. И лета-то настоящего мы не видели, всё дожди да дожди. Мне иногда кажется естественным, что и лето и весна были пасмурными и что хорошие, солнечные дни обязательно настанут, как только вернётся мир.
Я сидела на пеньке и писала Саше письмо. Потом долго свёртывала его «солдатским треугольником». Никак не могу научиться этой нехитрой науке, хотя другие делают это очень быстро: раз-два — и готово. Как раз в то время мимо проходил наш полковой почтальон, и я поторопилась отдать ему мой несуразный треугольник.
Пока почтальон, пожилой усатый боец, был ещё виден, я следила за ним взглядом, и мне казалось, что я вместе с моим письмом приближаюсь к Саше. В своём последнем письме Саша писал, что, очевидно, скоро снова получит командировку в Ленинград. Он писал, что не знает точно, когда — это могло быть и завтра и через месяц, — но уверен, что обязательно приедет.
Я уже собралась идти в свою землянку, как вдруг заметила, что прямо ко мне направляется какой-то капитан. Первое, что бросилось мне в глаза, — его сапоги. Они были огромные, тяжёлые, с голенищами, расходящимися выше колен широким раструбом. Я сразу узнала этого капитана: мы встретились, когда я шагала по грязи в санбат.
— Медицина? — спросил капитан, видимо не узнав меня.
— Медицина, — в тон ему ответила я.
— А где этот самый… Пухлый? — Так он назвал моего начальника Пухова.
— Наверно, у себя в землянке.
— Да нет его там, — отозвался капитан. — Вы вот что, красавица, скажите ему, чтобы витамин прислал. Бардин, мол, был и витамин для батальона просил.
— Хорошо, передам. — И добавила: — Есть.
А капитан подошёл ко мне ближе, посмотрел на меня в упор и вздохнул:
— Эх, не приспособлена наша форма для девчат… Руки-ноги интендантам повыдергать.
Он махнул рукой, повернулся и пошёл, широко переставляя свои огромные ноги, так и не узнав меня.
А я полезла в землянку, села на топчан, сняла гимнастёрку.
Что бы такое придумать?
Решила немного ушить воротник, переставить пуговицы и загнуть манжеты. Всё равно ничего больше не придумаешь.
Достала иголку, нитки и ножницы. В первую минуту мне было как-то неудобно, непривычно держать иголку. Я всё боялась уронить её, а это была моя единственная иголка. Я вдруг увидела, как огрубели мои пальцы. Потом я почувствовала спокойствие и даже радость оттого, что шью. Я сидела на самом краю топчана, у выхода. На пригорке росла берёза, и я только сейчас заметила, что листья её начинают желтеть. «Проходит лето», — грустно подумала я.
Шила долго, не поднимая головы, а когда собралась примерить гимнастёрку, увидела приближающуюся Тоню.
«Как хорошо сидит на ней гимнастёрка! И сапоги по мерке, — позавидовала я. — А в мои можно руку просунуть».
— Шьёшь? — спросила Тоня, входя в землянку.
— Плаваю, — буркнула я.
— Не сердись, — беззлобно проговорила Тоня и растянулась на топчане, не снимая сапог.
— Сними сапоги, — посоветовала я.
— Устала, — ответила Тоня. — Немцы штурмовать Ленинград собираются, — сказала вдруг она.
Я перестала шить и опустила гимнастёрку на колени.
— Что ты такое говоришь? — спросила я. Мне показалось, что я ослышалась: уж очень будничным голосом произнесла Тоня эти слова.
— Потому — им невыгодно его в блокаде держать, только руки связывает, — продолжала Тоня. — И вот дивизии против нашего фронта стягивают.
Я почувствовала, что Тоня говорит правду, но всё же переспросила, волнуясь:
— Откуда ты это знаешь?
— Подполковник комбатов собирал, — ответила Тоня. — Только я всё не упомню, он тихо говорил, а я всё «Сарафан» вызывала, там Лёшка Солдатенков, на «Сарафане», сидел, а когда этот малахольный сидит, никогда связи нет, это уж как часы…
Я даже не слушала Тоню, два слова стучали у меня в голове, вытесняя всё остальное: «Штурм Ленинграда, штурм Ленинграда».
— А потом, — продолжала Тоня, — как кончилось совещание, командир полка стал прощаться с комбатами, а капитан Бардин и говорит…
— Бардин? — переспросила я.
— Ну да, Бардин, командир первого батальона. Знаешь его?
— Не знаю, — ответила я.
— Да ну? — удивилась Тоня и даже приподнялась на топчане. — Это ж знаменитый комбат. Весь полк его знает.
— А я вот не знаю, — сказала я и подумала: «Значит, этот человек с белыми волосами, в болотных сапогах и есть комбат Бардин?»
Я, конечно, слышала о нём. Говорили, что ни один из командиров не пользовался у бойцов такой любовью, как комбат первого. И я сказала:
— Он подходил ко мне. Про витамины спрашивал. И над гимнастёркой моей смеялся.
— Знаешь что? — предложила внезапно Тоня, приподнявшись. — Померяй-ка мою гимнастёрку. Раз даже Бардин заметил, — значит, уж неудобно.
— Не хочу, — упрямо ответила я.
— Нет, ты померяй, — не унималась Тоня, — я всё равно себе другую, по росту, оторву. — И она быстрым движением расстегнула ремень.
В тот день я проснулась очень рано. Била артиллерия. Тонин топчан был пуст, — очевидно, она так и не приходила с вечера. Я приподняла плащ-палатку, прикрывающую вход. На дворе было серо, так серо, как бывает на рассвете, когда предстоит сумрачный и дождливый день.
Мне стало очень тоскливо. Я физически ощутила эту тоску. Я и проснулась от этого щемящего чувства. Впрочем, наверно, меня разбудила артиллерия, — давно уже так не палили. Два снаряда, один за другим, просвистели где-то надо мной. Вот и разрывы. Вот кто-то пробежал мимо землянки. Нет, сегодня какое-то необычное, тревожное утро. И Тони нет, и стреляют больше, чем обычно, и кто-то куда-то бежит…
Я встала, оделась и вышла. И сразу же почувствовала, что действительно что-то необычное происходит вокруг. Вдалеке, у блиндажей комполка и начштаба, суетились бойцы.
И вдруг страшная мысль пришла мне в голову: «Штурм Ленинграда!» Я побежала в землянку, где жил врач, и, не постучавшись, толкнула дверь. Землянка была пуста. Серое байковое одеяло наполовину свешивалось с топчана. «И он ушёл», — с отчаянием подумала я и выскочила наружу. Мимо пробежал связист, на ходу раскручивая катушку.
— Куда все ушли? — крикнула я.
Связист махнул рукой и быстро пробежал мимо.
Где-то совсем близко прогрохотал разрыв, и земля под моими ногами дрогнула.
Не было видно никого из командиров. Я пошла по направлению к командному пункту. Когда подошла уже совсем близко, из блиндажа вышел капитан — помначштаба. Это был маленький пожилой человек в очках, подстриженный бобриком. Он что-то сказал бойцу, возившемуся с проводами, и побежал к землянке штаба. Я зашагала ему наперерез и, когда мы поравнялись, спросила:
— Товарищ капитан, что случилось?
Помначштаба остановился, посмотрел на меня, точно не узнавая, поправил очки.
— А что, собственно, случилось? — переспросил он.
Я от этого вопроса совсем растерялась. Ведь было же совершенно очевидно, что произошло что-то. Я боялась, что капитан сейчас побежит дальше и я ничего не узнаю. Пришлось пуститься на хитрость:
— Мне очень нужна Тоня Беляева, связистка. Она на КП?
— Она на НП, — ответил капитан, убегая.
— А остальные? — крикнула я ему вслед.
Капитан ничего не ответил и нырнул в штабную землянку. Я стояла, пытаясь сообразить: что же, собственно, происходит? Я знала, что наблюдательный пункт полка находится в полутора километрах отсюда, ближе к передовой. Я знала, что командование обычно переходит на НП, когда начинается операция. Значит…
Помначштаба вынырнул из землянки и шёл по направлению ко мне с папкой под мышкой и смотрел себе под ноги. Когда он поравнялся со мной, я спросила:
— Товарищ капитан, все на НП?
Помначштаба поднял голову и посмотрел на меня с досадой.
— Что вам, собственно, нужно, товарищ медсестра? — спросил он, останавливаясь.
— Мне нужен врач, военврач третьего ранга Пухов, я была в его землянке, там пусто.
— Наверно, он на НП, — ответил капитан и добавил: — Все на НП.
— А как же я? — вырвалось у меня.
— Вы? — переспросил капитан. — То есть, собственно, что вы?
— А я… мне ведь тоже на НП надо?
Капитан пожал плечами.
— Вам приказано?
— Нет, но я…
— Так не морочьте мне голову! — закричал капитан и, точно испугавшись, что потерял со мной столько времени, побежал к КП.
Я пошла к своей землянке, стараясь идти как можно медленнее, потому что не знала, что буду делать, когда приду. Никогда за всю войну мне не приходилось испытывать ощущения такой никчёмности и заброшенности.
Пошёл дождь. Всё подёрнулось туманом. Откинув плащ-палатку, я вошла в землянку. Мокрый полог хлестнул меня по лицу. В землянке было пусто и сыро. Сверху по ступенькам стекали чёрные струйки воды.
Я услышала чьи-то тяжёлые, хлюпающие по грязи шаги. Полог откинулся, и в землянку просунулась голова нашего санитара, «старичка», как мы его звали, Сидора Васильевича Михалёва. Он был до того грязен, что лицо его казалось чёрным.
— Военврач три комплекта требует! — проговорил Михалёв, не здороваясь и не переступая порога.
Я схватила его за руку и втащила в землянку.
— Откуда ты, Михалёв? Оттуда?
— Из самого «оттуда», — ответил он.
Михалёв стоял, согнувшись у притолоки, и тяжело дышал. Сапоги его были покрыты глиной. В грязи были и брюки, и гимнастёрка, даже на шее его я увидела комочек глины. С пилотки, так не шедшей к немолодому, морщинистому лицу Михалёва, стекали струйки воды.
— Сядь, сядь! — повторяла я. — Сядь на топчан! — И почти насильно усадила его.
— Три комплекта прислать, три комплекта, — заторопился Михалёв, вставая и нагибая голову.
— Раненых много? — спросила я.
— Ой, много! Военврач прямо с ног сбился, не успевает в санбат отправлять.
— А насчёт меня он говорил что-нибудь?
— Так чтобы три комплекта дали.
— Не хочу я тут оставаться! — вырвалось у меня; я чуть не плакала.
— Без вас, точно, трудно, — сказал Михалёв, очищая ногтями глину с брюк. — Вот военврач ночью оперировали, так жалели: «Эх, Лиду бы сюда».
Я вскочила.
— Идём! — сказала я. — Он велел мне идти, это ясно, ты просто забыл.
Михалёв растерянно посмотрел на меня.
— Так что приказа не было, это я точно помню.
— Ничего ты не помнишь! — закричала я. — Ты забыл просто. Или он забыл. Подумал, а сказать забыл. Сейчас я возьму комплекты, и мы идём.
Не дожидаясь ответа, я выскочила из землянки. Дождь лил по-прежнему. Я побежала в палатку, где у нас хранились медикаменты, взяла три сумки с аптечками и вернулась.
— Пойдём, — сказала я Михалеву, — всё готово, пойдём.
Сидор Васильевич смотрел на меня. Видно было, что он смертельно устал и ему трудно сделать лишний шаг. Дождь всё усиливался. Пробежав от нашей землянки до аптечной палатки, я уже порядочно вымокла. По моему лицу медленно стекали капли воды.
— Может, переждём трошки, — неуверенно предложил Михалёв, — льёт-то вон как!
— Он так на весь день может зарядить, — ответила я.
— На весь день не должно, — медленно произнёс Михалёв.
Потом он откинул полог.
— Пойдём, — сказал Михалёв и придержал полог, пока я вылезала из землянки со своими сумками.
Ступеньки стали мокрыми и скользкими. Михалёв вылез следом за мной.
— Пошли, что ли, — повторил он, беря у меня две сумки, и пошёл, ссутулившись и наклонив голову, навстречу дождю.
Я пошла за ним. Дождь хлестал нам прямо в лицо. Ноги мои скользили и разъезжались на мокрой глине. Сумка сразу намокла и стала такой тяжёлой, будто в неё наложили камней.
«А всё-таки я иду! — подумала я. — И пройдёт час, ну, может быть, два — и я буду среди своих. А не влетит ли мне? Ведь всё-таки я иду самовольно, без приказа. Нет, не может быть, чтобы меня ругали за то, что я пришла помочь. Да и кто меня будет ругать? Пухов?»
Я шла, стараясь не отставать от Михалёва.
— Сидор Васильевич, — позвала я, — нам далеко идти?
— Оно не так чтобы далеко, а может выйти и далеко, — ответил, не оборачиваясь, Михалёв.
Мы шли по направлению к передовой, но мне как-то не верилось, что там, за этим дождём и туманом, может что-то происходить и что там есть какие-то люди. Мне казалось, что существуем только мы с Михалёвым и всё живое находится за нами, а впереди только дождь, туман и размокшая, вязкая глина.
Сейчас я уже не слышала артиллерийских разрывов, но треск пулемётов раздавался со всех сторон. Я подумала: «Как это командиры разбираются во всём и руководят боем, когда вот такой туман и дождь и не поймёшь, кто стреляет и откуда, где свои и где враги».
Пролетел, завывая, одинокий снаряд и разорвался где-то справа от нас.
— Боязно? — спросил Михалёв.
Я ничего ему не ответила, но про себя решила, что совершенно не страшно. У меня было такое ощущение, что всё, что происходит вокруг — стрельба, разрывы, — не имеет отношения ко мне и никакой реальной опасности для меня не существует.
А Михалёв, который, видимо, иначе истолковал моё молчание, пояснил:
— А ты, как снаряд засвистит, ложись. Лучше лишний разок поклониться, своя голова-то дороже.
Я вспомнила: кто-то говорил мне как раз обратное: «Свой снаряд, то есть для тебя предназначенный, не свистит, а свистит тот, который уже пролетел».
…Не знаю, сколько времени мы шли. Иногда казалось, что мы не идём, а только, стоя на месте, с трудом перебираем ногами.
Иногда я соскальзывала в какие-то окопчики, несколько раз запутывалась в обрывках колючей проволоки, перелезала через бугры и траншеи.
— Пришли, — проговорил Михалёв и исчез.
Я вошла в санитарную палатку.
В первую минуту меня оглушили стоны и запах йодоформа. Палатка была перегорожена на две части брезентом, и здесь, в первой половине, лежали люди. Они лежали и на носилках, поставленных прямо на землю, и просто на земле, в рыжих, испачканных в глине, прожжённых шинелях. У многих головы, руки и ноги были обмотаны бинтами, на которых проступали розовые пятна крови, и было как-то странно видеть на этих грязных, облепленных глиной людях белоснежные повязки.
— Кетгут! — услышала я из-за полога голос Пухова.
Очевидно, он оперировал. Боец, лежавший на носилках у входа, в коротенькой рыжей шинельке, держался обеими руками за ногу, прямо поверх брюк забинтованную уже ставшим грязным бинтом, на котором проступали бурые пятна, и отрывисто стонал.
Другой, уже немолодой, боец, с мокрыми, неопределённого цвета усами и забинтованной головой, держал в руках пилотку, выпачканную в крови, для чего-то растягивал её и повторял только одно слово:
— Сестрица, сестрица, сестрица, сестрица…
Сначала меня оглушили эти стоны, выкрики и чьё-то жалобное всхлипывание, но я взяла себя в руки.
«Конечно, они тут не справляются!» — подумала я с чувством досады и радости.
— Много ещё там? — услышала я голос Пухова.
Полог откинулся, и я увидела моего начальника. Он был в белом нечистом халате и держал перед собой руки с растопыренными пальцами, чтобы не коснуться чего-либо.
— Вы?! — воскликнул он, увидя меня, и я не поняла, сердится он или радуется.
Тогда я доложила:
— Явилась по вашему приказанию. Три комплекта доставила.
Пухов несколько раз моргнул и спросил:
— Что? По приказанию? А аптечки тут?
В это время раненый на носилках застонал ещё громче. По лицу Пухова пробежала страдальческая гримаса, и он крикнул:
— Ну… ну, раздевайтесь скорее и мойтесь!.. Тут с ума сойдёшь!
Он повернулся и пошёл к операционному столу. Полог упал…
Я не помню, как прошёл этот день. Помню только, как разделась в заднем тамбуре палатки, умылась, надела халат, стала к столу. Всё дальнейшее слилось в одно — кровь, стоны, мелькание инструментов в руках Пухова…
Пухов еле стоял на ногах и два раза украдкой пил коньяк. Его лицо посерело, осунулось и перестало казаться детским; халат был весь в кровяных пятнах.
Последнего раненого мы оперировали уже поздно вечером, при свете керосиновой лампы.
Затем Пухов бросил с остервенением инструменты в тазик и проговорил:
— Ну, кажется, всё?
Вот тогда-то, после этих слов, я почувствовала смертельную усталость; ноги мои, которых я за эти часы как-то не ощущала, внезапно отяжелели, и я стала искать, на что бы сесть.
— Сейчас будем спать, — сказал Пухов. — Поспим, пока ещё не привезут.
Но он не мог спать, а, вытащив свой блокнот «интересных случаев», стал что-то записывать.
Я вышла в тамбур палатки и, увидев лежащие на земле носилки со свежими ещё следами крови, просто упала на них. Тотчас всё закружилось передо мною, потемнело, и я заснула.
…Мы лежали все вместе, рядом: две сестры из санбата, я, Михалёв и Пухов. Когда я проснулась, я увидела, что Пухов, осторожно ступая, пробирается к выходу. Было ещё темно, но спать мне уже не хотелось. Кругом стреляли из пулемётов и автоматов. В откинутый наверху квадрат было видно несколько звёзд. Значит, дождь наконец перестал. Я попробовала пересчитать звёзды в квадрате: их было семь или восемь. Я вспомнила, что вот так же смотрела на звёзды через окно палатки на Ладоге. Только там они были ясные и холодные, белые, как кусочки льда.
Зашуршал полог, и вошёл Пухов. Он остановился у входа. При свете звёзд его лицо показалось мне особенно осунувшимся. Даже губы, детски припухлые, стали тоньше. Щека подёргивалась в нервном тике, чего я раньше у него не замечала. Пухов стоял у входа и смотрел на нас.
Потом он скомандовал так громко, что я вздрогнула:
— Подъём!
Я приподнялась. Михалёв тоже, одна сестра вскочила, а другая, лежавшая рядом со мной, продолжала спать. Я сказала тихо:
— Вставайте!
Она открыла глаза и облизала губы.
— Кажется, я заболела, — проговорила она.
Я дотронулась до её лба. Он был очень горячим, на виске её лихорадочно бился пульс.
— Тогда лежите, — посоветовала я.
— Сейчас начнут поступать раненые, — сказал Пухов, — и потом ещё… Словом, не хватает санинструкторов, не успевают раненых выносить, командир полка приказал выделить двух сестёр.
Я видела, как вздрогнула его щека, и он сам, очевидно, это почувствовал, потому что дотронулся до щеки рукой.
— Сейчас идти? — спросила я, вставая.
Пухов посмотрел на меня, и лицо его внезапно снова показалось мне детским.
— Вы… хотите?
— Да, пойду, — отвечала я равнодушным голосом, потому что этот вопрос уже был решён для меня. — Что брать с собой? Только сумку? — спросила я, натягивая сапоги. Они были совсем мокрые, даже глина сверху не просохла.
— Да… сумку, и… там ждёт связной из роты… — чужим голосом произнёс Пухов.
Снаружи послышались чьи-то шаги и стоны: это несли раненых.
Сразу же, как только я вышла на воздух, на меня обрушились все звуки боя: треск пулемётов и автоматов, частые винтовочные выстрелы.
— Кто здесь связной из роты? — громко спросила я.
— Я, — отозвался чей-то тонкий голос, и от дерева отделилась маленькая фигурка.
Это был очень молодой парень в обмотках и огромных ботинках. У него было смешное, совсем детское лицо и хитроватая улыбка.
— В роту, значит, пойдём? — спросил он.
— В роту, — ответила я.
— Ну что же, — весело согласился парень, — айда в роту. — И он пошёл вперёд.
Связной шёл быстро, громко чавкая ботинками по ещё не успевшей просохнуть земле. Начинался рассвет.
А стрельба становилась всё оглушительней. Вокруг свистели пули. Этот свист прижимал меня к земле, и я шла, вобрав голову в плечи.
Передо мной возникали и исчезали люди. Подносчики снарядов со своими ящиками, санитары с носилками, командиры — все куда-то спешили, растворяясь в тумане.
Мой связной шёл будто наобум, не разбирая дороги. Автомат болтался у него на плече стволом вниз. Один раз он споткнулся, и я, думая, что его ранило, бросилась к нему, но парень выругался:
— Вот болото-то, лягушачьи места! — и снова пошёл вперёд. Я попробовала идти так же, как он, не сгибаясь, но никак не могла заставить себя держать голову прямо.
Внезапно где-то совсем рядом застрочил пулемёт, связной крикнул:
— Ложись! — и с ходу грохнулся в грязь.
Я тоже упала рядом, грязные брызги залепили мне лицо, но я боялась шевельнуть рукой, чтобы протереть глаза.
«Пиу, пиу, пиу!» — ныли надо мной пули.
Не помню, сколько времени мы так лежали. Пулемёт, стрелявший, как мне казалось, совсем рядом, замолчал. Я спросила:
— Это немцы стреляли?
— Все стреляют, — ответил парень, — и фрицы и наши. Разве разберёшь? Звук-то одинаковый.
Я старалась продолжать разговор, только чтобы подольше не вставать.
— А что там… в роте-то… бой? — спросила я.
— В роте? — переспросил связной. — В роте-то всегда бой. Вот вчера фрицы наступать пробовали, только мы им наклали. А сегодня — опять. На нашем участке самое сейчас главное место. А вы санинструктором к нам? — спросил он.
— Да, — ответила я.
— Ну правильно, — точно с кем-то соглашаясь, сказал парень. — А то у нас всех медиков за ночь-то поубивало. Ну, встали!
Он резко поднялся.
— Теперь бегом! — скомандовал парень. — А то тут полный прострел. — И он побежал.
Я бежала за ним, стремясь не отставать, и грязь из-под его ботинок летела прямо на меня; но я старалась смотреть только на его ботинки и больше ничего не видеть и ни о чём не думать. Что-то прогрохотало в стороне, и совсем недалеко поднялся из земли чёрный столб, оранжевый у основания, а я бежала и всё думала, как бы не упасть, потому что боялась остаться одна.
Наконец мы добежали до пригорка, и связной нырнул в какую-то дыру, я — за ним. Оказалось, что это вход в блиндаж. Блиндаж был малюсенький и набит до отказа. Я никак не могла туда втиснуться, так и застряла в дыре — половина внутри, половина снаружи.
В это время начался обстрел, снаряды рвались где-то совсем близко. С потолка сыпалась земля. Я сделала ещё усилие, чтобы протиснуться вперёд, но это было невозможно. А снаряды всё рвались, и я чувствовала, как бьёт меня по спине взрывная волна. Я всё боялась, что у меня оторвёт ногу, мне казалось, что вот сейчас её оторвёт, и я уже стискивала зубы, чтобы преодолеть боль.
Но обстрел быстро прекратился. Я вышла наружу и села прямо на землю у входа в блиндаж. Я ни о чём не думала, совсем ни о чём. У меня было такое ощущение, будто я совсем пустая, будто всё из меня вынули… Наконец мой связной вылез и сказал, что получил приказание отвести меня на передовую.
Тогда я совсем не восприняла это тысячу раз слышанное слово «передовая», а только ужаснулась, что снова надо куда-то идти. Я совсем измучилась и чувствовала, что силы мои исчерпаны, хотя ничего особенного не произошло: ведь я даже до передовой ещё не дошла.
— Идти будем так, — разъяснил парень, — сначала за мной — бегом, а потом поползём, а то кумпол сшибут.
Он снял с плеча автомат и, пригнувшись, побежал к лощинке. Я побежала за ним.
Мы промчались мимо маленького леса, и я слышала, как стучали пули, впиваясь в деревья, и срезанные листья, кружась, падали в грязь.
Как только лесок кончился, связной упал и пополз. Я тоже бросилась на землю и поползла. Он полз так, будто плыл на боку, а я так не умела. Мне очень мешала санитарная сумка, она волочилась по земле и за всё задевала. Наконец я провалилась в какую-то глубокую траншею.
Парень стоял выпрямившись и ожидал меня.
— Далеко до передовой? — спросила я, еле ворочая языком.
— А здесь и есть передовая. Ну, двинули к начальству. — Связной пошёл по траве, чуть пригибая голову, я — за ним.
В одном из поворотов траншеи, в небольшом углублении в стене, сидел какой-то лейтенант. У него было серое, видимо, давно не мытое лицо. Мой связной что-то тихо доложил лейтенанту. Тот повернул голову, скользнул по мне взглядом и сказал чуть с хрипотцой:
— Только смотри, чтобы целой остаться. Мне медики во как нужны. Если убьют, я тебе тогда…
Потом он подозвал меня поближе, объяснил, куда надо относить раненых.
Из всего того, что сказал лейтенант, я поняла, что мне надо только оказывать самую первую помощь раненым и перетаскивать их в угол траншеи, откуда их будут отправлять в ППМ, к Пухову. А во время атак мне надо идти позади и, если кто упадёт, перевязать, а отнесут его уже санитары. Правда, лейтенант добавил, что санитаров-то почти не осталось.
Получив инструкции, я спросила связного:
— Ты куда сейчас?
— Я туда, откуда с тобой пришёл.
Я подумала о том, что ему придётся снова проделать весь этот страшный путь. Но ему это, по-видимому, было нипочём. Лицо его по-прежнему хранило чуть насмешливое, хитрое выражение.
Попрощались мы очень дружески, и я двинулась вперёд по траншее…
Сейчас ночь и совсем тихо, будто и войны нет. Я сижу в траншее; из её глубины звёзды кажутся особенно яркими. Рядом со мной сидят бойцы, и почти всех их я уже знаю по имени.
Если когда-нибудь потом меня спросят, как прошёл мой первый день на передовой, как произошло моё «боевое крещение», я, пожалуй, ничего не смогу толково рассказать. Помню лишь, как пришла в траншею, села в угол и стала потихоньку выглядывать наружу. Потом увидела, как несколько бойцов выскочили из окопов и стали перебегать, а один из них вдруг упал шагах в десяти от моей траншеи. Стрельба стояла страшная.
«Ну, — подумала я, — сейчас надо выскочить и перетащить того бойца сюда, и тут перевязать». Ну… и не выскочила: не могла заставить себя выскочить, меня точно приковали к траншее.
Я твердила себе: «Трус, трус несчастный!» — и всё-таки не могла выпрыгнуть из траншеи. А потом вдруг слышу, как раненый стонет:
— Сестрица!.. Сестрица!..
Конечно, он просто звал кого-нибудь на помощь, но в ту минуту мне показалось, что он меня зовёт, знает, что я здесь, в десяти шагах от него, и прячусь, боясь пробежать эти десять шагов, чтобы спасти его. И вот тогда я заплакала, выпрыгнула из траншеи и побежала к раненому.
Несколько раз, пока я бежала, моё лицо обжигало горячим воздухом. Только потом я сообразила, что это пули. Добежав до бойца, увидела, что он ранен в голову: всё его лицо было залито кровью. Я решила не перевязывать его под огнём, а перетащить в траншею, попробовала тащить его так, как нас когда-то учили на курсах в Ленинграде, будто спасаешь утопающего. Но мне его и на метр сдвинуть не удалось — такой он был тяжёлый. Тогда я просто взяла его под мышки и волоком потащила.
Как я очутилась вместе с раненым в траншее — уж не помню.
А затем всё пошло проще. У меня не было времени бояться: я бегала по траншеям, перевязывала и перетаскивала раненых…
Потом наступил вечер, и стрельба прекратилась. Зажглись звёзды, и мне вдруг вспомнилось, как в «Детской энциклопедии» сказано про звёзды, что «из глубокой ямы они кажутся совсем иными, чем с поверхности земли». Я посмотрела на звёзды, — они и впрямь были большие и точно расплавленные…
В этой траншее я решила остаться на ночь: она была глубже и шире остальных. Земля была совершенно сырая. Она и наверху-то не успела за день просохнуть, а здесь стояли сплошные лужи.
Рядом со мной сидело трое бойцов. Одного из них звали Василий Прохорович, он был немолод, усат и угрюм; другой, Сенцов, совсем ещё молодой, тип задиры, парня из пригорода; третьего звали Шило, он тоже был молод, но медлителен и задумчив.
Все мы четверо сидели, прижавшись к передней стенке траншеи, и смотрели на небо.
— А интересное дело, — проговорил вдруг Шило, — есть всё-таки люди на звёздах или нет?
— На звёздах! — презрительно протянул Сенцов. — Скажи — на планетах. Может, и есть. А звёзды — они что? Раскалённое вещество, и никакой жизни там нет.
— Ну, на планетах, — покорно согласился Шило, — это всё равно — звезда, она и есть звезда, хоть и планета. И вот, значит, живут там, может, люди, смотрят на нас внизу и не поймут, что тут такое делается.
— И не поймут, как такого мудреца, как Шило, эта самая земля носит, — степенно добавил Василий Прохорович.
— Нет, дядя Василий, ты не смейся… И вот живут там люди, смотрят вниз и видят — идёт смертельная война. Может, они и не знают, что на земле на нашей фашисты буйствуют и что нам другого выхода не было, как драться с ними, и вот смотрят они и не понимают.
— Политрука им нашего послать, он бы им разъяснил, — заметил Сенцов.
— Опять ты не про то, — остановил его Шило. — И вот, думаю я, придёт время, когда будут люди по желанию своему и на звёзды летать, и куда хошь.
— Это при полном коммунизме, — не унимался Сенцов.
— Может, и при полном, — согласился Шило. — И какая тогда интересная жизнь будет!..
Я сидела, прижавшись к мокрой земляной стене траншеи, и слушала этот разговор. Он как бы убаюкивал меня.
Но в это время послышался гул моторов. От вражеского горизонта медленно проплыли по небу во внезапно вспыхнувших со всех сторон лучах прожекторов несколько серебристых точек. Загрохотали зенитки.
— Опять на Ленинград пошли, — сказал Василий Прохорович. — Вот так каждый день над нашими головами пролетают.
— На Ленинград, — повторил внезапно изменившимся голосом Сенцов. — Эх!.. У меня там Груня и сын. Может, сейчас спать укладываются… Не знают, что эти летят… Вот когда крылья-то нужны, Шило! — выкрикнул он. — Не на звёзды летать, а вот к этим бы сейчас подлететь да в куски их, в кровь!
— И у меня ведь в Питере семейство, — тихо промолвил Василий Прохорович.
Самолёты, выйдя из лучей прожекторов, исчезли в темноте, и скоро мы услышали глухие, точно из-под земли доносящиеся взрывы и увидели красноватый туман вдали: там был Ленинград.
— Бомбят, гады, — медленно произнёс Шило.
Все молчали.
Не помню, сколько времени продолжались взрывы, но только когда они прекратились, зарево не погасло, а стало из розового багрово-красным.
— Отбомбились, — тяжело уронил Василий Прохорович. Тогда и остальные медленно, точно с трудом, отвернулись от зарева.
— Ну… вот… — протянул Сенцов. — Может, теперь у меня и дома-то нет. Может, и мой дом в том костре горит.
— А ты не думай, — посоветовал Шило.
«Не думай»! — зло повторил Сенцов. — У тебя в Ленинграде никого нет, вот тебе-то легко не думать!
— У меня нигде никого нет, — покачал головой Шило и повторил: — Нигде никого… теперь…
И после паузы добавил:
— А я вот хочу не думать. Хочу только про будущее… Про то, как жить когда-нибудь будем… Про жизнь хочу думать… — И, внезапно повернувшись ко мне, спросил: — Как, думаете, девушка, после войны жить будем?
Я ответила быстро, точно всё время ждала этого вопроса:
— Сначала, думаю, трудно будет… А потом, наверно, очень хорошо.
— Вот, вот, — будто обрадовался моему ответу Шило, — сначала трудно, а потом хорошо. Новые люди народятся.
— Жди, пока народятся, — бросил Сенцов.
— И ждать не надо, — убеждённо сказал Шило, — они уже родятся. Уже! В нас родятся.
— Чудной ты, Шило, — точно недоумевая, проговорил Василий Прохорович. — Кабы не знал я, что ты геройский парень, медалями награждённый, так и подумал бы — послушай только тебя, — что не герой ты, а мечтатель какой-то. Всё ты о будущем да о будущем.
— Нельзя без будущего, — ответил Шило.
Он снова повернул голову ко мне и сказал:
— Холодно тебе?
— Холодно.
— А шинель-то твоя где же?
— В полку оставила, торопилась и забыла. Да мне и не так уж холодно, плащ-палатка есть.
— Нельзя без шинели, — наставительно сказал Василий Прохорович. — Солдат без шинели — никуда.
— Садись ближе, — предложил Шило.
И я придвинулась к нему, а он, распахнув шинель, накрыл меня полой. Мне стало тепло-тепло, глаза начали смыкаться. Сквозь тяжёлый сон я слышала чьи-то голоса, а потом, открыв глаза, увидела, что лежу на чём-то мягком и укрыта шинелью, и тогда совсем заснула…
Проснулась я от оглушительного взрыва. Трое моих новых знакомых лежали на дне траншеи, уткнув лица в сырую глину. В траншею летели куски глины и дерева. Я приподнялась и увидела, как весь вражеский горизонт, насколько охватывал глаз, будто вскипел, точно поднялся в воздух. А канонада всё возрастала.
— Ну, значит, сейчас наступать начнём, — сказал Василий Прохорович.
— Теперь слушай команду, — проговорил Шило.
И вдруг смолкла наша артиллерия, и тишина, наступившая внезапно, была страшнее, чем грохот. А потом откуда-то из-под земли раздался истошный, протяжный крик:
— А-а-а-а-а!
И из траншей и окопов стали выскакивать бойцы и бежать вперёд, стреляя на ходу. Вот пробежали трое моих бойцов, я даже не заметила, как они выпрыгнули из траншеи.
В этот момент немцы опять открыли ураганный огонь. И снова земля поднялась вверх, будто её выбросили огромным ковшом, запахло озоном. Снова раздался протяжный крик:
— А-а-а!
Но теперь никто не бежал вперёд. Люди лежали, придавленные к земле огнём.
И тогда совсем недалеко от меня появился человек, показавшийся мне знакомым. Он не бежал, а очень быстро шёл, стреляя из автомата. За ним, точно из-под земли, стали появляться люди.
И я тоже выпрыгнула из траншеи и побежала за бойцами, стараясь не потерять из виду того человека.
Но вдруг справа и слева от меня раздались разрывы, и стало темно от земляной стены, повисшей в воздухе. Я уткнулась лицом в землю, а когда поднялась, то увидела, что метрах в двадцати от меня лежит тот боец, что шёл впереди всех.
Земля вокруг всё ещё кипела, то здесь, то там взлетали в воздух маленькие земляные столбики, и этот проклятый звук «пиу-пиу-пиу» звенел в ушах.
Я подползла к раненому.
Он лежал лицом вниз. Трудно было определить, куда он ранен. Потормошила его за плечи, но он не поднял головы. Тогда я сама подняла его голову. Это был комбат Бардин.
— Вы… ранены, товарищ комбат? — спросила я.
Он молчал. На лице его не было крови, но оно было совсем чёрным, — очевидно, опалено порохом. Глаза закрыты, рот полуоткрыт. Я не знала, жив он или мёртв. Знала только, что и в том и в другом случае должна доставить комбата в тыл.
Я стала легонько переворачивать комбата на бок, чтобы подлезть под него, — за целый день я научилась кое-как перетаскивать раненых, — но когда я его приподняла, то увидела, что земля под ним почернела от крови.
«В живот!» — подумала я и перепугалась: раны в живот самые опасные.
Гимнастёрка и брюки комбата были в крови; я понимала, что рана продолжает кровоточить, потому что всё время появлялась свежая кровь. Стала ощупывать его тело, но в это время из его плеча кровь брызнула фонтаном: значит, повреждение артерии. Надо было наложить повязку немедленно. Лёжа плашмя и стараясь не поднимать головы, я вытащила из сумки жгут и бинт и стала перевязывать раненого. Каждый раз, когда мне надо было приподнимать комбата, чтобы подсунуть бинт, я боялась, что в него попадёт шальная пуля, и старалась держать свою руку так, чтобы защитить его. Я перевязывала, не зная точно, где рана, и перебинтовала ему всю грудь и живот.
Наконец с перевязкой было кончено, и я стала перетаскивать раненого Бардина к траншее. Повсюду валялись куски колючей проволоки, и ползти было очень трудно. Я изнемогала. Вдруг я услышала далёкий, похожий на «ура» крик и, обернувшись, увидела, что бойцы наши ведут бой уже далеко, метрах в двухстах от нас, а мы в поле совершенно одни.
Я стала кричать и звать кого-нибудь на помощь, но никто не ответил. Я заплакала от отчаяния. И вдруг почувствовала, что комбат пошевелил рукой. У меня сразу все слёзы пропали. «Значит, он жив!» — подумала я, и это прибавило мне силы. Я обхватила его и подтащила к краю траншеи, спрыгнула и осторожно спустила его вниз. Затем зачерпнула воды из лужицы и вытерла комбату лоб; на виске у него чуть заметно пульсировала крохотная жилка. В этот момент я увидела двух бойцов — подносчиков снарядов. Они бежали, согнувшись, по полю с пустыми ящиками в руках.
— Сюда, — закричала я сколько было силы. — Здесь комбат раненый!
Они увидели меня и прибежали на помощь.
…Комбат лежал на операционном столе, и Пухов суетливо мыл руки. Я поливала ему из кувшина.
Когда я доставила комбата в роту, то получила приказание немедленно сопровождать его на «санитарке» далее. За всё это время комбат только один раз и очень ненадолго пришёл в сознание. Он открыл глаза и закричал:
— В третью роту! В третью роту! Главный участок! Сам пойду! — и больше уже не произнёс ни слова.
Как только я доставила комбата на ППМ, пришёл командир полка. Он посмотрел на раненого Бардина, потом на Пухова и спросил:
— Ну, будет жить?
Лицо Пухова стало детским и смущённым. Он ответил:
— Постараемся.
— Смотри старайся, — бросил подполковник. — А где та девчонка, что его вынесла? Мне из роты звонили.
Я козырнула.
Подполковник посмотрел на меня:
— Ты? Молодец. Мой лучший комбат. Представлю.
Затем он повернулся и ушёл.
Когда я поливала Пухову на руки, он сказал:
— Поздравляю. Это он вас к ордену представит. А может быть, к медали. Нет, к ордену.
Мне казалось, что Пухов очень медленно моет руки. Все мои мысли занимал лежащий на столе человек. Будет он жить или не будет?
Пухов тщательно тёр руки. Мне показалось, что они у него дрожат.
«Плохо, — подумала я, — он волнуется».
Наконец Пухов вымыл руки и, держа их перед собой, направился к столу. Я пошла за ним.
У комбата было два ранения: пулевое — в плечо и осколочное — в брюшную полость. Из раны в плече всё ещё сочилась кровь. Маленькая черноватая ранка в правой части живота почти не кровоточила, но я знала, что именно от таких ран и умирают.
— Ранение в брюшную полость, — заключил Пухов.
Я молча подала ему шприц с наркозом.
Руки Пухова теперь не дрожали. Он быстро и ловко отыскал кровоточащие сосуды и захватил их зажимами. Кровотечение прекратилось.
— Перевязать, — бросил Пухов и отвернулся.
Я стала быстро бинтовать рану.
— Ну, — сказал Пухов, поворачиваясь ко мне, — теперь в санбат его. С этим, — он кивнул на чёрную ранку в правой части живота, — с этим мы здесь ничего сделать не можем. Вы отвезёте его в санбат — и немедленно!
«Санитарка» стояла у самой палатки. Я крикнула шофёру, чтобы он заводил мотор. Потом мы завернули комбата в одеяло, и Пухов с Михалёвым на носилках внесли его в «санитарку».
Я тоже хотела влезть. Но в эту минуту кто-то дотронулся до моего плеча. Передо мной стоял немолодой боец в порванной, запачканной в глине гимнастёрке.
— Я сержант Евстахиев, ординарец его, — торопливым шёпотом проговорил боец, — без меня горе случилось. Услал он меня в полк. А так разве я бы допустил… От бойцов-то я скрываю. Узнают — плакать будут. Это ведь такой человек!..
В морщинках его лица застыли грязь и копоть. Небольшие добрые глаза пристально смотрели на меня, и в них было что-то высоко человечное и очень детское…
— Выходим комбата, Евстахиев, обязательно выходим, — успокоила я его, влезая в машину.
Евстахиев не уходил.
— Обещаю! — крикнула я ему уже из кузова.
— Ну, поехали, — приказал Пухов, захлопывая дверь. — Поезжайте осторожно, медленно!
В «санитарке» было темно. Я даже не видела лица комбата. Я положила руку ему на лоб и нащупала ту пульсирующую на виске жилку, которая так обрадовала меня тогда, в поле. «Только бы доехать, только бы доехать!» — стучало в моём мозгу, в такт пульсирующей жилке. Машину сильно тряхнуло на ухабе. Комбат чуть слышно застонал.
Чтобы как-нибудь сократить этот тяжкий путь, я стала говорить:
— Теперь всё будет в порядке, товарищ капитан, кровотечение прекращено. Вот сейчас мы доедем до санбата, тогда всё будет совсем хорошо.
Я знала, что он мне не ответит, но всё же прислушалась. Он молчал.
— Вы понимаете, — говорила я, — в ППМ нельзя оперировать брюшную полость, там нет нужных условий. А в санбате всё это сделают в два счёта. И врачи там замечательные, опытные, хорошие врачи.
Мне хотелось плакать.
— А потом вы поправитесь, обязательно поправитесь. Вы даже не пишите своим, что ранены. И если кто-нибудь вам будет говорить, что ранения в живот самые опасные, вы не верьте…
Я сознавала, что говорю глупости, но не могла молчать.
— А наши пошли вперёд, — продолжала я. — Когда я вас подобрала, они уже ушли метров за двести…
Я сделала паузу и вдруг услышала шёпотом произнесённые слова:
— Наши… вперёд!
И тут я стала плакать и глотать слёзы и зажимать глаза руками, чтобы только прекратить этот глупый плач, и всё повторяла:
— Да, да, да, наши пошли вперёд…
Машина остановилась. Я раскрыла дверь. Мы были в лесу. Между деревьями виднелись санитарные палатки. Мы приехали.
Я выпрыгнула и огляделась, стараясь определить, где штабная палатка, но к машине уже шли люди.
— Комбат? — спросил меня на ходу врач в белом халате.
— Да, — ответила я.
Они прошли, не сказав больше ни слова, вытащили из машины носилки, и только, проходя мимо меня, врач спросил:
— Вы сопровождаете комбата?
— Да.
— Есть предписание оставить вас здесь, в санбате. Сейчас устраивайтесь на ночлег, утром получите точные указания от командира санбата.
Я молча козырнула. Носилки исчезли в одной из палаток. Я осталась одна. Был уже вечер. Тихо шумели деревья. В лесной чаще мелькали светляки. Пахло лесом и осенними раздавленными листьями. Было удивительно тихо, и от этой непривычной тишины кружилась голова…
…Оформившись, я пошла в палатку. Это была обычная палатка, такая же, как и все остальные. Огромный брезентовый шатёр поддерживали два врытых в землю столба. По обеим сторонам палатки стояли кровати, и на специальных брусьях лежали носилки, заменяющие койки, в дальнем конце стоял столик с медикаментами, у которого сидела сестра. На свободной койке у входа полулежал санитар.
И вдруг, едва сделав несколько шагов в глубь палаты, я остановилась, точно кто-то с силой схватил меня за плечи. На секунду всё поплыло перед моими глазами. Комбат и всё, что было связано с ним, исчезло из моего сознания. Мне показалось, что в нескольких шагах от меня на койке лежит Саша.
«Это мне кажется!» — подумала я, не двигаясь с места.
Я до боли широко открыла глаза, думая, что видение исчезнет. Но всё оставалось по-прежнему. Я видела, что на четвёртой койке, считая от той, у которой я стояла, лежал он. Его лицо, прикрытое до подбородка одеялом, было совершенно белым, глаза закрыты. Я ещё ничего не соображала, мне только сделалось страшно. Потом показалось, что кто-то рядом со мной совершенно чужим, незнакомым голосом крикнул: «Саша!» И я бросилась к нему.
Всё это было так. Саша находился здесь. Его привезли позавчера. Люди, которые сопровождали его, рассказали, что он находился в самолёте «У-2», подбитом рано утром над расположением нашей дивизии. Над землёй стоял низкий туман, и облачность была тоже низкая, и самолёт шёл на необычной для «уток» высоте. Его обстрелял «мессершмитт». С земли видели, что «У-2» после первой же очереди резко пошёл вниз. Когда подоспели к самолёту, то увидели, что лётчик перерезан пулемётной очередью, а пассажир жив, хотя потерял сознание и весь испачкан кровью.
Какое-то время я стояла на коленях перед его кроватью, не видя ничего, кроме его белого лица, закрытых глаз и спутанных волос. Всё происшедшее как-то не доходило до меня, я понимала только, что вижу его, что мы снова встретились, и мне было одновременно и страшно от этой встречи, и странно оттого, что я чувствую этот страх.
Я долго не могла сообразить, что с ним; первые минуты я даже никого не спрашивала об этом. Я сразу забыла, что я медик, сестра, мне было только страшно видеть его безмолвным, лежащим на госпитальной койке.
Потом я почувствовала, как кто-то подошёл ко мне. Это была сестра, маленькая толстая девушка.
— Кто он вам, муж, брат? — спрашивала она низким грубоватым голосом.
— Да, да, да… — повторяла я, боясь отвести от него взгляд. И снова я забыла обо всём, кроме него.
Потом я опять услышала голос:
— Вы встаньте, ну, встаньте, что же делать, сейчас ваша смена будет.
Эти слова вернули меня к действительности. Я всё вспомнила — и как попала сюда, и то, что остаюсь здесь на работе. Я вскочила.
— А меня зовут Нюра, — протянула мне сестра свою полную короткую руку.
Я крепко пожала её.
— Он сейчас спит, — сказала Нюра. — Врач его недавно смотрел, через час снова придёт.
Саша по-прежнему спал. Я не знала, что это было — сон или глубокое забытье, беспамятство, но он лежал неподвижно, точно неживой, я не слышала его дыхания, не видела, чтобы на его лице дрогнул хоть один мускул. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас рядом со мной, тогда бы не было так жутко.
Я стояла у его постели. Вдалеке монотонно стучал движок электростанции. Свет горел неровно — то вспыхивал ослепительно ярко, то почти затухал. Мне вдруг неудержимо захотелось схватить Сашу за плечи, чтобы он проснулся, встал, избавил меня от этого кошмара.
«Ведь бывают же такие страшные сны, — подумала я, — когда всё происходит будто наяву. Может быть, и это всё сон?»
— Ну, как он? — раздался за моей спиной чей-то голос.
Я обернулась. Передо мной стоял врач. Он был низкого роста, в меховом жилете, который был ему явно велик. Лицо врача напомнило мне Пухова; у него были такие же полные, быстро розовеющие на морозе щёки.
— Новенькая? — спросил врач. — Как капитан? — Он кивнул на Сашу.
— Спит, — тихо ответила я.
— Ну, — недовольно и резко ответил врач, — так он и вечным сном заснёт, а вы и не заметите.
Я почувствовала боль, точно от удара. А врач нагнулся над Сашей, пощупал у него пульс и, открыв веко, поводил перед глазом пальцем. Потом он выпрямился и, на ходу бросив: «Плохо», — подошёл к столику, на котором стояли медикаменты.
Я шла за ним, ничего не видя, ничего не соображая.
— Введите ему кофеин, — приказал врач. — Понятно?
Я ничего не ответила.
— Да что с вами? — раздражённо спросил врач. — Вы понимаете, что я говорю?
Я поспешно закивала головой и даже повторила назначение, чтобы врач не подумал, что я ничего не понимаю, и не сменил меня.
— Пойдёмте дальше. Как дела с комбатом? — на ходу спросил он.
Я быстро нашла его карточку в пачке, которую взяла со стола. Там было написано:
«Владимир Семёнович Бардин, капитан, 1900 года рождения, осколочное ранение. Повреждено две петли тонкой кишки и сосуды брыжейки. Резекция тонкой кишки».
Врач уже стоял у койки комбата и, откинув одеяло, осматривал бинты. Я тоже подошла.
Бардин лежал на спине, рука его была вытянута вдоль бедра, пальцы сжаты в кулак. Когда я подошла, он чуть скосил глаза в мою сторону, несколько секунд смотрел молча, потом повернул ко мне голову и проговорил, с трудом произнося слова:
— А я вас знаю. Из нашего полка… Где я вас видел?
Он чуть нахмурил лоб и потом улыбнулся.
— Вспомнил!.. Гимнастёрка с широким воротом? Так?..
— Да, — будто во сне ответила я, — только это было очень давно.
— Живот почему-то давит, — недоуменно прошептал комбат.
Мне показалось, что голос Бардина доносится ко мне откуда-то издалека. Я попыталась отсюда увидеть лицо Саши. Я встала на цыпочки, но его койка была далеко, и я ничего не увидела.
Врач уже перешёл к следующей койке. Так я переходила за ним от одного раненого к другому и всё делала точно во сне, еле передвигая ноги. Наконец врач пошёл к столу.
— Так вот, — сказал он вполголоса, оборачиваясь ко мне и зачем-то потирая толстым указательным пальцем свою пухлую щёку, — тот, корреспондент, вряд ли протянет до утра. С комбатом тоже неважно. Словом, делайте всё точно, как я сказал. Я скоро опять зайду. Да вы слушаете меня или нет?
На секунду мне показалось, что широкое, пухлое лицо врача перевернулось и стало расплываться. Я схватилась рукой за угол стола и ответила как можно твёрже:
— Я всё поняла.
Врач ушёл.
Я схватила ампулу с кофеином. Руки дрожали, и я никак не могла отбить запаянное горлышко. Наконец стекло отлетело с лёгким хлопушечным выстрелом. Я набрала шприц и побежала к Сашиной постели. Он по-прежнему лежал неподвижно. Дыхания не было слышно. Белое лицо походило на маску. Я откинула жёсткое, волосатое одеяло, схватила Сашу за руку и стала прощупывать пульс. Я никак не могла найти его. Вдруг я ощутила частые лихорадочные удары, но тут же поняла, что это мой собственный пульс. Тогда я впрыснула ему кофеин. Когда я вводила иглу ему под кожу, то почувствовала боль, точно это меня укололи иглой. Затем я стала вглядываться в его лицо. Ничего не изменилось. Всё оставалось по-прежнему.
И вдруг всё, что окружало меня, — брезентовые стены палатки, койки с людьми, — всё отдалилось куда-то и исчезло. Мне почудилось, что я сижу в тёмном и холодном номере «Астории», у стола, на котором чернильница с замёрзшими чернилами, — и больше ничего. Меня охватило то же состояние, что и тогда, перед его приходом, когда я ещё издалека почувствовала его шаги. Потом и это исчезло, и мне представилось, что я в своей комнате за Нарвской, очень холодно, в разбитое окно врываются ветер и снежная пыль…
И мне всё вокруг кажется чёрным, совсем ничего нет, одна чернота, я ничего не вижу, только чувствую, что держу его руку в руках и не могу разжать руки, потому что тогда уже будет совсем всё кончено, а так что-то есть; и кто-то стонет в темноте, стонет и стонет; я не могу понять, кто это стонет, — и снова появляются передо мною брезентовые стены палатки, белое лицо Саши, койки с людьми. Но стон продолжается. Я вижу: стонет комбат Бардин, и понимаю, что должна сейчас же подойти к нему. Бардин стонет всё громче, и я встаю и иду к нему.
Комбат лежит, скомкав угол простыни. На лбу его блестели капельки пота.
Я спросила:
— Что с вами? Болит?
— Д-да… — простонал он, — живот… живот давит.
— Это всегда бывает после операции, — успокоила я его и наклонилась, чтобы поправить подушку. — Через несколько дней это пройдёт. А сейчас я вам сделаю укол.
— Вы… чего плачете? — спросил Бардин.
Я испугалась его слов. Мне показалось, что я делаю что-то непростительное, подойдя к постели тяжело больного человека с заплаканным лицом. Я постаралась улыбнуться.
— Это я в печку дрова подкладывала, это от дыма.
Я пошла к столику, набрала в шприц пантопона и сделала Бардину укол. Через несколько минут он перестал стонать. Я пощупала у него пульс. Удары были очень слабые, но явно ощутимые. Я вернулась к Саше. Мне показалось, что теперь я различаю его дыхание. Я прижалась ухом к его груди и едва расслышала биение сердца. Оно было чуть заметным, прерывистым и неровным, точно язычок свечки на ветру. Глаза Саши были по-прежнему закрыты. Я была бы готова сейчас на всё, чтобы только спасти его, отдала бы руку, ногу, пошла бы в огонь, я готова была бы умереть, чтобы только он был жив.
— Ну, как он? — раздался голос.
Позади стоял врач. Я не слышала, как он снова вошёл. Я хотела ответить: «Плохо», — но не смогла выговорить это слово.
Врач, приложив стетоскоп к груди Саши, выслушивал сердце. Потом резким движением вытащил резинки из ушей и выпрямился.
— Камфару, — сказал он.
— Я уже дала ему кофеин, — ответила я.
— Введите камфару, — повторил врач, — впрочем… — Он махнул рукой и пошёл к койке Бардина.
Я стояла около Саши и не могла двинуться с места. Я видела, как врач нагнулся над комбатом, затем обернулся и бросил:
— Сестра, где вы там?
У столика с медикаментами он сказал мне:
— Смотрите за Бардиным в оба. Кое-какая надежда есть.
— А как с ним? — почти крикнула я.
— С корреспондентом? — Врач посопел и скривил губы. — Думаю, что ему уже не придётся писать. Вот. Остальное у вас в порядке, назначения прежние. — Он передёрнул плечами и пошёл к выходу.
Я стояла в оцепенении. Меня мучила мысль, что я не рассказала врачу всего, не сказала ему, кем был для меня Саша. Я должна была рассказать ему всё, всё: и о том, что было до войны, и о поисках в Ленинграде — словом, обо всём.
«Ну и что же? — ответил мне внутренний голос. — Что изменилось бы от этого? Разве Саша стал бы более дорогим для этого врача?»
И вдруг меня охватила злоба на этого пухлого молодого человека.
«Это плохой, плохой врач, — стучало у меня в голове, — он ещё очень молод, он не может, не умеет спасти Сашу. Боже мой, Саша погибнет, оттого что возле него нет настоящего, опытного специалиста!»
Я вспомнила, что врач велел впрыснуть Саше камфару. Я была во власти какого-то непонятного, противоречивого чувства: мне хотелось быть всё время с Сашей, не выпускать его руку из своих рук и одновременно хотелось быть в стороне, но знать, что рядом с ним стоит опытный, мудрый доктор, который спасёт его.
Я впрыснула ему камфару. Опять ни один мускул не дрогнул на его лице, когда я вводила иглу. Я не могла удержаться, наклонилась и прошептала над самым его ухом:
— Сашенька, Сашенька, это я. Ну, посмотри на меня, я здесь и никуда не уйду, открой же глаза, ведь это я, я!
Всё было по-прежнему, только сердце его стало биться чуть чаще. В этот момент в моих ушах прозвучали слова: «Смотрите за Бардиным в оба. Кое-какая надежда есть». Бардин спал, открыв рот и подложив ладонь под щёку. Он показался мне не взрослым, мужественным человеком, а ребёнком из моего детдома. Комбат дышал ровно.
«Он будет жить», — подумала я и вдруг вспомнила, как тогда, в детском доме, я боролась со смертью. «Главное, не допустить сюда смерть, — сказала я себе, плохо сознавая, что говорю. — Ни одной жертвы, ни одной жертвы, — повторяла я. — Если она возьмёт хоть одного — всё пропало». И я почувствовала, как исчезла моя слабость, перестали дрожать колени и пальцы сами сжались в кулаки. «И Саша будет жить, назло всем врачам, — решила я, — иначе где же справедливость?» Я твёрдыми шагами пошла к его койке, но едва увидела Сашино лицо, как вся моя решимость пропала, и я схватилась за койку, чтобы не упасть.
Я увидела, что за эти несколько минут лицо его посинело, на лбу выступил холодный пот. Я откинула одеяло и увидела, что тело его тоже синеет, и синева эта, проступая между белых бинтовых повязок, казалась особенно зловещей. Я схватила Сашу за руку. Пульса не было.
И страшное слово точно молоток ударило меня: «Шок!»
«Врача, врача! Это шок!» — застучало в моих висках, и я бросилась вон из палатки.
От свежего воздуха у меня закружилась голова. Недвижно стояли тёмные ели. Ещё существует какой-то другой мир, кроме палатки! Я побежала к блиндажу командира, потому что не знала, где сейчас врач. «Не успеешь, не успеешь, не успеешь», — шептал мне кто-то в ухо. Я добежала до командирского блиндажа и с разбегу толкнула дверь. Блиндаж был пуст.
«Наверно, он где-нибудь в палатках», — мелькнуло у меня в голове, а тот же проклятый голос шептал мне в ухо: «Там уже всё кончено, ведь это шок».
Я услышала шум автомобильного мотора. Прямо из леса, ломая придорожные сучья, выехала машина-«санитарка». Машина подъехала к блиндажу, дверцы кабины открылись, и оттуда вышел Андрей Фёдорович. И тогда меня разом оставили все силы, я, точно девчонка, разрыдалась, бросилась к Андрею Фёдоровичу и, схватив его за плечи, закричала:
— Скорее, ради бога скорее! Там Саша, Саша, он умирает!
…С тех пор прошло четыре часа. Ему два раза вводили физиологический раствор, глюкозу с инсулином, сделали переливание крови. Сейчас он лежит в шоковой палате, обложенный грелками. Андрей Фёдорович там. Моя смена кончилась, и Андрей Фёдорович запретил мне идти в шоковую палату. Сейчас жизнь Саши в его руках…
Я совершенно спокойна, хотя не уверена, будет ли он жить, ведь я знаю, сама медик. И всё-таки не могу больше плакать, не могу кричать.
Я могу только думать. Думать о том, что всего лишь день назад была счастлива. Я знала, что он жив-здоров и что оба мы делаем то, что должны делать для того, чтобы в конце концов встретиться. Как это жутко, что очарование счастья ощущается особенно сильно, когда это счастье разбито. «Если он умрёт, я буду совсем одна, — подумала я, и тут же пришла другая мысль: — Как это я могла подумать: «Если он умрёт!..»
И вот так я сидела и думала, как вдруг прибежал санитар и сказал, что меня срочно зовут в палату. Это был санитар не из шоковой палаты, а из той, где я работала. Я накинула шинель на плечи. Санитар торопил меня.
В палате меня встретила Нюра. Она проговорила шёпотом:
— Комбат всё время вас зовёт. Он то в сознании, то бредит. И всё время — вас. У него пневмония началась.
Я надела халат и подошла к Бардину. Его серые, глубоко сидящие глаза внимательно смотрели на меня. Когда я подошла к койке, он сказал:
— Ну, вот и вы… — Он говорил очень тихо, захлёбываясь в одышке, — вот и вы… знаю… Где были? Гимнастёрка…
Я не понимала, бредит он или говорит в сознании. Я села на край койки и положила руку ему на лоб. Лоб был горячий.
— Я не помню… — продолжал Бардин, — нет, не помню… ещё вас видел… ещё… не только тогда, с гимнастёркой. Может быть, во сне.
Подошла Нюра с порошком сульфидина в одной руке и кружкой в другой.
— Выпейте, — сказала она.
Я подняла Бардину голову, и Нюра всыпала ему в рот порошок, затем зачерпнула ложечкой воды из кружки и дала запить. Я понимала, что комбат бредит, в его разгорячённом сознании мелькают отрывки воспоминаний. Он не знал, не помнил, что это я вытащила его из боя, но что-то из этого эпизода, очевидно, удержалось в его памяти. Я почувствовала успокоение, держа свою руку на лбу Бардина. Это было не то оцепенение, не то страшное спокойствие, которое я испытывала, сидя одна. Нет, мне почему-то представилось, что Саша и этот лежащий передо мной человек связаны друг с другом, что жизни их переплетены и что, пока жив Бардин, не может умереть и Саша.
Я вытерла ему лоб полотенцем. Он закрыл глаза. Я наклонилась к самому его уху и проговорила:
— Это я, я… Всё будет хорошо… Всё будет хорошо. Вы поправитесь, врач говорит, что дело идёт уже на поправку… Я буду здесь, с вами, и никогда не уйду…
Несколько минут Бардин молчал, а затем пересохшие губы его раздвинулись, и он прошептал:
— Спасибо… хорошо.
Потом он заснул.
Я подошла к Нюре.
— Он заснул. Теперь я пойду. А его надо переворачивать с боку на бок, часто-часто, чтобы не было застоев.
— Знаю, — грубовато ответила Нюра.
Я вышла и увидела, что с противоположной стороны, оттуда, где помещается шоковая палата, идёт Андрей Фёдорович. На нём был белый халат, подпоясанный марлевой тесёмкой, и борода чёрным бесформенным пятном расплывалась на нём. Он подошёл к моей палатке и, откинув полог, вошёл.
Не выбирая дороги, я побежала к своей палатке. Добежав, остановилась. Я не могла войти и узнать… Но полог поднялся, — я увидела Андрея Фёдоровича.
— Вас нет, — сказал он, — я хотел уйти.
— Ну… как? — еле выговорила я, входя в палатку.
— Пока без перемен, — ответил Андрей Фёдорович. Он почти насильно усадил меня на койку.
Что-то подступило к горлу, у меня потекли слёзы.
— У него серьёзные ранения, два сквозных пулевых в плечо, — сказал Андрей Фёдорович негромко и неторопливо, — шок вызван ушибом при падении и большой потерей крови. Мы только что сделали ещё одно переливание…
— Зачем, зачем вы мне всё это говорите? — вырвалось у меня так громко, что я сама испугалась своего голоса. — Я спрашиваю: будет ли он жить?
Я посмотрела на Андрея Фёдоровича, но слёзы мешали мне разглядеть в этот момент его лицо. Он схватил меня за руку.
— Лида, Лидушка, — сказал он какой-то несвойственной ему скороговоркой. — Не надо так говорить! Он должен жить, конечно, должен. Я сделаю… мы сделаем всё, всё… Я сейчас опять иду туда.
И как только он сказал эти слова, я подумала: «Почему он здесь, почему он до сих пор здесь, когда должен быть там, около него?» Я вскочила и подтолкнула его к двери:
— Идите же, идите скорее!
Андрей Фёдорович ничего не сказал и вышел из палатки.
Его слова ещё звучали в моих ушах. Было необычно слышать от него так поспешно и неуверенно произнесённые слова. Я привыкла к его спокойной, слегка иронической манере говорить. Она хотя и раздражала меня иногда, но всегда вселяла уверенность. А это будто сказал не он, не Андрей Фёдорович, а какой-то другой человек, обычный, слабый, сомневающийся.
…Я не помню, сколько времени прошло с тех пор. Я сидела на койке, укрыв ноги одеялом, было очень холодно, печка не топилась. Внезапно зашуршал полог, и я увидела санитара. Я сразу почувствовала, что этот санитар «оттуда».
— Вас зовут, — угрюмо буркнул санитар, и я поняла, что всё кончено.
Я боялась расспрашивать его, где-то ещё теплилась надежда, но по тону его я поняла: это конец. Я встала и пошла к выходу.
— Куда ж в чулках, сапоги-то наденьте!
Я стала надевать сапоги, подумала: «Странно, почему я совсем не чувствую ног?»
Санитар довёл меня до входа в шоковую палату.
— Ну вот, — сказал он и ушёл.
Войдя в палату, я увидела несколько пустых коек. Только около одной стояли спиной к входу сестра и Андрей Фёдорович. Я поняла, что там лежит он. Я видела всё как бы в тумане, и мне всё время казалось, что у меня слипаются веки. Я протёрла глаза, но туман не исчезал. Я медленно подошла и стала за спиной Андрея Фёдоровича. Я не видела Сашу и боялась взглянуть на него. Вдруг я услышала, как сестра сказала:
— Просыпается!..
— Что? — вырвалось у меня.
Андрей Фёдорович резко обернулся.
— Тише! — прошептал он. — Смотрите.
Он подвёл меня к изголовью. Теперь я видела Сашино лицо. И мне показалось, что синева, заливавшая его лицо, исчезает. Я видела только постепенно бледнеющие синие пятна на лбу и на шее.
— Пятьдесят восемь! — сказала сестра. В её голосе прозвучало торжество. Я только сейчас заметила, что она держит Сашину руку, слушая пульс.
«Что же это такое? — подумала я. — Ведь он жив, жив, жив!» Мои глаза встретились с глазами Андрея Фёдоровича, и я увидела в них новое, никогда не виданное раньше выражение. Андрей Фёдорович высоко поднял голову, борода его стояла торчком, а глаза сияли, точно их зажгло изнутри. Весь вид Андрея Фёдоровича выражал огромную силу, гордость, радость. И где-то в глубине у меня мелькнула мысль, что я никогда ещё не видела его таким красивым.
Я снова стала смотреть на Сашу и увидела, что ресницы его дрогнули, глаза медленно открылись, потом снова закрылись, и снова медленно, точно преодолевая большую тяжесть, поднялись веки. И я увидела его взгляд, такой родной и знакомый, и услышала, как Саша тихо, одними губами, произнёс:
— Лида… Лидонька!..
…Через час мы с Андреем Фёдоровичем вышли из палаты. Саша заснул. Это было уже не забытье, не тяжёлое беспамятство, а настоящий сон.
— Пройдём по лесу, — предложил Андрей Фёдорович, когда мы вышли из палаты. — И вам и мне надо отдохнуть.
Теперь во всём облике его — в опущенных плечах, слегка ссутулившейся спине и потухших глазах — чувствовалась огромная усталость.
Мы пошли по узкой тропинке, задевая влажные хвойные ветви. Некоторое время мы шли молча, потом Андрей Фёдорович проговорил:
— Ну вот… теперь он будет жить.
— Спасибо вам, — едва слышно промолвила я и взяла его под руку. Я почувствовала, как вздрогнула его рука.
— Ну, это глупости, — отмахнулся Андрей Фёдорович, — я тут ни при чём. Лечение при шоке обычное, это знает даже студент. Всё это мог сделать любой. — Он снова заговорил своим обычным, знакомым мне тоном.
— Вы знаете, — начала я, сжимая его руку, — мне кажется, что какое-то время я не жила. Вот все эти последние часы. Точно я заглянула во что-то страшное, беспросветное. А теперь снова я вернулась к жизни. Но… я теперь никогда не забуду, как смотрела туда, в темноту.
— Забудете, — уверенно произнёс Андрей Фёдорович и пристально посмотрел на меня, — жизнь есть жизнь.
Эта фраза что-то разбудила во мне, я вспомнила, что она когда-то уже была произнесена в нашем разговоре, не помню только, им или мною и по какому поводу.
— Какое всё-таки счастье быть врачом, — воскликнула я, — держать в руках жизнь человека, защищать его от смерти! И какая радость победить!
— Да, — задумчиво согласился Андрей Фёдорович, — это бывает хорошо.
— Вы уверены, что теперь уже ничего не случится?
— В настоящую минуту я уверен, что всё обойдётся.
Мне хотелось, чтобы он говорил ещё и ещё, каждое слово, которое произносил Андрей Фёдорович, придавало мне силы.
Но он замолчал. Прямо над нами, через дорогу, с одной ветки на другую перепрыгнула белка, мелькнув пушистым большим хвостом.
— Вы знаете, — сказала я, — вот эти дни мне всё больше приходит в голову мысль о том, что все люди как-то связаны между собой. Я уже не раз думала об этом.
Андрей Фёдорович молчал.
— Вы когда уезжаете? — спросила я его.
— Скоро. Пойдёмте обратно. Мне надо поговорить с командиром санбата.
— Вот что, — сказал Андрей Фёдорович, подойдя ко мне вечером, — завтра мы его эвакуируем.
— Как? — вскрикнула я.
— Тише. Я говорю с вами как врач. Он очень слаб. В условиях санбата, я не могу ручаться… Словом, это транспортабельный больной, мы эвакуируем его в армейский госпиталь… на самолёте. Вашего Бардина я бы тоже эвакуировал, но его ещё нельзя трогать с места.
— Когда? — беззвучно спросила я.
— Завтра, — ответил Андрей Фёдорович.
— Завтра? Но я ведь… ведь я так и не говорила с ним…
— Вы и не будете с ним говорить. Всякие волнения для него… словом, невозможны. Мы едва убедили его, что тогда вас не было и ему просто показалось.
…Ночь. На моём попечении находится двадцать человек, лежащих в этой палате. Кто-то громко застонал в противоположном конце, и я побежала туда. У лейтенанта, раненного в голову, начинались боли. Впрыснула ему морфий и постояла немного у койки. Затем направилась к постели комбата.
Теперь он повторял только одно слово:
— Пить, пить, пить…
Подошёл Андрей Фёдорович, посмотрел на температурный листок капитана, покачал головой и коротко бросил:
— Назначения те же.
К утру температура у капитана несколько спала. Пришёл врач. Около Бардина он стоял дольше всех. Он сказал:
— Со стороны лёгких всё протекает нормально.
Вечером за мной пришёл связной командира санбата. В блиндаже командира сидел Андрей Фёдорович, больше никого не было. Когда я пришла, он ходил по блиндажу, заложив руки за спину, ссутулившись, — потолок был низкий.
— Ну вот и вы, — обрадовался Андрей Фёдорович. — Я позвал вас, чтобы попрощаться. Утром мы едем.
Он сел на кровать комбата и, опустив голову, вытянул свои толстые ноги в кирзовых, с широкими голенищами сапогах. Борода его, упиравшаяся в грудь, как бы изогнулась.
«Утром? Уже этим утром?» — подумала я и села на чурбачок возле вбитого в пол столика.
— Вы собираетесь везти его на самолёте? — спросила я.
— Да. Посадочная площадка в восьми километрах отсюда.
— Андрей Фёдорович, скажите мне честно: это правда, что жизнь его вне опасности? Ведь уж так повелось, что мы говорим друг другу только правду.
Андрей Фёдорович поднял голову, и борода его выпрямилась.
— Да, только правду, — тихо повторил он и добавил уже громче: — Я вам говорил — непосредственной опасности нет. Дальнейшее зависит от его организма и от ухода.
— В уходе я не сомневаюсь.
— Да, можете не сомневаться.
Мы помолчали, потом я сказала:
— Андрей Фёдорович, каждый раз встреча с вами приносит мне счастье. Без вас я не выдержала бы на Ладоге. Сейчас вы спасли Сашу.
Он медленно провёл рукой по бороде и проговорил:
— Когда мы встретились в последний раз и вы ушли, я думал, что начну вас ненавидеть. Вы простите, что я так говорю, — сейчас это глупо.
— Глупо! — усмехнулась я. — На Ладоге у нас не было этого слова.
— Я не к тому, — махнул рукой Андрей Фёдорович, — всё это прошло.
Он встал и снова начал шагать по блиндажу, втянув голову в плечи.
Потом он остановился позади меня и положил на мои плечи свои большие красноватые руки.
— Вот есть человеческие чувства, — сказал Андрей Фёдорович, — любовь, ненависть, дружба, верность… Это, так сказать, три измерения жизни. Но есть какие-то такие сочетания, необычайные и, на первый взгляд, странные, поняв, почувствовав которые обретёшь новое, неизведанное счастье. Мне кажется, что теперь в жизни совершается так много нового, что невольно спрашиваешь себя: а не есть ли это давнишняя человеческая чудесная мечта, осуществляющаяся незаметно для нас? Вы меня понимаете? — Его руки чуть вздрагивали на моих плечах.
— Я вас понимаю, — ответила я, — только мне никогда не приходилось думать об этом!
— Вот, вот, — точно обрадовался Андрей Фёдорович, — об этом не думают, потому что это совершается само собой. Это… в воздухе. Новое… Новое… Ведь подумать только: не немцы сейчас штурмуют Ленинград, а мы штурмуем немцев… Но когда вдруг сознаёшь это, то чувствуешь радость. Ну вот… а он будет жить, Лида!
Я вскочила. К горлу моему подступил комок, и я боялась, что сейчас из моих глаз польются слёзы.
— Он будет жить, — тихо повторил Андрей Фёдорович, — и вы наконец будете вместе, и всё будет хорошо.
Я улыбнулась.
— Вы, Андрей Фёдорович, так говорите, как будто война уже кончилась и всё уже позади.
— Война? — переспросил Андрей Фёдорович. — Да, война ещё далеко не кончилась, но… мы уже победили.
Я подумала: «Что такое он говорит? Как это мы уже победили, когда Ленинград до сих пор в блокаде?»
— Вот, посмотрите на Ленинград, — продолжал Андрей Фёдорович, точно читая мои мысли. — Ведь вы же сами уверены, что раз мы дожили до весны, дожили до осени, то теперь-то наверняка победим… Теперь время за нас. Сейчас главное — делать… делать то, что надо….
Андрей Фёдорович отвернулся к двери и через минуту сказал:
— Ну, мы отправляемся на рассвете. Я буду сообщать вам, как пойдут дела.
— Андрей Фёдорович, — вырвалось у меня, — завтра утром я не дежурю, можно мне… проводить?
Он повернулся ко мне и нахмурился.
— Но я же сказал, что вам нельзя.
— Я сяду в кабину и так и не выйду, пока не прилетит самолёт.
Андрей Фёдорович подумал немного и сказал:
— Хорошо.
…Мы выехали на рассвете. Носилки, на которых лежал Саша, внесли в кузов «санитарки». Туда же сел Андрей Фёдорович и два санитара. Я сидела в кабине.
Когда мы поехали, я подумала: «Как странно складывается наша жизнь — быть рядом и не иметь возможности сказать друг другу хоть слово!»
Мы ехали по какой-то новой, незнакомой мне лесной дороге и минут через двадцать выехали на опушку. Отсюда был виден аэродром — небольшое зелёное поле. Машина остановилась, и Андрей Фёдорович отворил дверцу кабины и, вынув часы, сказал:
— Сейчас должны прилететь.
— Как Саша? — шёпотом спросила я.
— Спит, — ответил Андрей Фёдорович.
В это время я услышала характерный для «У-2» прерывистый, точно стук движка электростанции, гул мотора и увидела самолёт, низко летящий над лесом. Под фюзеляжем его было специальное приспособление, похожее на лодку, и я поняла, что это и есть санитарный самолёт.
Самолёт зашёл на аэродром с дальней от нас стороны, промчался по полю, подпрыгивая на невидимых кочках, и замер. Из люка вылез лётчик и пошёл к нашей машине.
Внезапно в походке этого лётчика, грузного, большого человека, мне показалось что-то знакомое. И вдруг я всё вспомнила: Ладогу, метель, серый, холодный госпиталь в Ленинграде… «Какое счастье, — подумала я, — что Сашу повезёт именно этот знакомый лётчик!» Я выпрыгнула из кабины и побежала ему навстречу.
— Это вы? — закричала я.
— Конечно, я, — пробасил в ответ лётчик, широко расставляя мне навстречу руки. И как-то так получилось, что он схватил меня своими огромными руками и поднял высоко в воздух.
И вдруг уже в тот момент, когда он держал меня в руках, мне показалось, что я ошиблась.
— Как ваша нога? — робко спросила я.
— Нога? — переспросил лётчик. — Да… ничего нога.
Это был не он. Он просто был очень похож на того. Я ошиблась.
К нам подошёл Андрей Фёдорович, и лётчик, вытянувшись, отдал ему рапорт.
— Знакомого встретили? — спросил меня Андрей Фёдорович.
— Точно так. Знакомы, — поспешно доложил лётчик.
Машина подъехала вплотную, и я увидела, как двое санитаров вынесли из кузова носилки и внесли их в гондолу самолёта. Андрей Фёдорович тоже подошёл к самолёту, а мы с лётчиком за ним. И вдруг я сказала:
— Я вас очень прошу… Вы везёте человека, который для меня… Словом, я вас прошу…
Лётчик внимательно посмотрел на меня и улыбнулся:
— Будьте покойны, знакомая! Повезу по самой укатанной дорожке. Не шелохнётся.
Мы попрощались с Андреем Фёдоровичем. Он влез в кабину. Лётчик протянул мне свою огромную ладонь и сказал:
— Ну, всё будет в порядке. Будьте счастливы! — Он задержал мою руку в своей и повторил: — Будьте счастливы!
Потом один из санитаров стал заводить винт самолёта. Заревел мотор.
И вот самолёт уже несётся по полю, трава на его пути пригибается, точно придавленная огромной невидимой ладонью, вот самолёт уже над лесом, так низко, точно не летит, а мчится по сплошной зелёной дороге.
Я стою и вижу, как постепенно уменьшается в размерах самолёт, и в ушах моих всё звучат слова лётчика: «Будьте счастливы… Будьте счастливы!..»

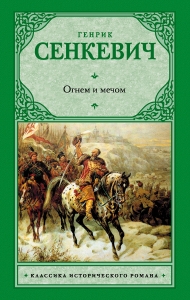



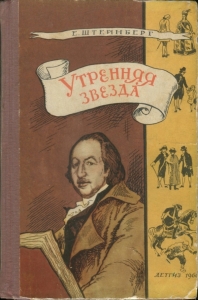
Комментарии к книге «Лида», Александр Борисович Чаковский
Всего 0 комментариев