Анатолий Лысенко ХОМУНЯ Историческая повесть
А лепо ны было, братье… Поискать отець своих и дед своих пути и чести!
Летопись XII векаНа Северном Кавказе найдено несколько древнерусских энколпионов — двустворчатых крестов для личного ношения. Ряд из них обнаружен на аланских памятниках Ставрополья. Такие энколпионы найдены, в Нижнем Архызе, на городище Адиюх, на окраине г. Карачаевска. Энколпионы с Нижнеархызского городища имеют ближайшее сходство с некоторыми широко известными экземплярами древнерусских энколпионов. На одном из них изображена фигура богородицы Одигитрии — путеводительницы с младенцем на руках, по обеим сторонам которой апостолы Петр и Павел с греческими надписями, на втором изображена фигура Христа и три деисусные фигуры.
Очерки истории Ставропольского края, т. IНо самая интересная находка была сделана в апсиде. Это две половинки от двух бронзовых складных крестов — энколпионов XI–XII веков. На лицевых сторонах изображены фигуры в рост — богоматерь Одигитрия с младенцем и Христос, в концах помещены погрудные фигуры святых. Значение этих предметов состоит в том, что оба энколпиона древнерусского происхождения… Может быть, в средневековом городе в ущелье Большого Зеленчука бывали и русские люди?
В. А. Кузнецов В верховьях Большого Зеленчука· · ·
1. Рабы
В лето 6730-е от сотворения мира,[1] в семнадцатый день июля, когда солнце, застыв посреди бездонной голубизны неба, пылало особенно ярко и камни раскалились так, что, казалось, плюнь — зашипит, по берегу Куфиса, стиснутого высокими горами, медленно двигался караван богатого сарацинского купца Омара Тайфура.
Дорога, словно проложили ее по следу пугливого зайца, растерянно и, на первый взгляд, даже бестолково металась между рекой и угрюмыми утесами. Поднимаясь встречь потоку, она то резко взбиралась на крутые склоны, тесно прижимаясь к отвесным скалам, — и тогда река как бы проваливалась куда-то вниз, глухо шумела под обрывом, на дне пропасти, — то опять неожиданно подходила к самой стремнине. Зеленоватый Куфис вскипал и пенился между огромными валунами, сброшенными сюда еще во времена хаоса, еще в те времена, когда злые джинны были заточены в глубокое подземелье и постоянно, ссорясь между собой, сотрясали горы. Тугие струи яростно наскакивали на отшлифованные глыбы базальта, разлетались на мелкие брызги, и они, подсвеченные полуденным солнцем, сверкали розоватой, с фиолетовой просинью, радугой, обдавали путников прохладой.
Разбиваясь о камни и тут же собираясь в стрежень, бурные воды стремительно скатывались с двуглавой Ошхамахо — горы счастья — и неслись на запад, в Сурожское море, до самой Тмутаракани, разграбленной и навеки уничтоженной кочевниками.
Чем круче становился подъем, тем сильнее ревела и устремлялась вниз река, тем тяжелее ступали, поднимаясь в горы, ослы, мулы, лошади и люди.
— Пошеве-еливай, человеконогие! Гы-гы-гы!..
Это трубный голос высокого и плотного, будто набитого мускулами, косматого Валсамона. Первый раб-телохранитель походя, чуть склонившись с седла, стеганул плетью зазевавшегося невольника — тот потянулся к кизиловой ветке, хотел сорвать ягоду. Не оглядываясь, Валсамон пришпорил коня и направился на свое почетное место у правой руки Омара Тайфура, ехавшего во главе каравана.
— Гы-гы-гы! — эхом катился по ущелью трубный голос. — Не отставай, счастливый!
Потирая обожженную плетью щеку, раб негромко, но злобно выругался, плюнул вслед ускакавшему Валсамону и не спеша двинулся вверх по каменистой дороге.
* * *
Полураздетые носильщики с красными, растертыми до крови плечами еле-еле переставляли натруженные ноги, обутые в сандалии на деревянной подошве, и не обращали внимания на голос грозного стража. Не хватало сил даже порадоваться, что первый раб-телохранитель на сей раз не стал всех подряд хлестать плетью, поиграл только с одним из их горемычных собратьев. Погонщики не так устало, но тоже понуро тянулись за навьюченными товаром ослами и мулами, опасливо поглядывали на телохранителей. Вооруженные саблями, ножами, луками и стрелами, стражи дремали в седлах, по очереди останавливались, пропуская караван, потом скакали вперед, лошадьми наезжали на уставших невольников, сбивали их с ног, хлестали плетьми и арапниками.
— Почему ты носильщиков зовешь «человеконогими», Валсамон? — спросил Хомуня, по возрасту самый старший в караване.
Валсамон снисходительно посмотрел на второго раба-телохранителя, снял с головы засаленный, бывший когда-то белым, как чалма у Омара Тайфура, платок, вытер лицо, водворил платок на место и лишь потом удостоил ответом.
— Ты глупый от старости или с детства? Присмотрись как следует. Ноги у них человеческие, а душа — рабская, как у тебя! Гы-гы-гы!..
Валсамон засмеялся так громко, что Омар Тайфур, ехавший впереди, обернулся и бросил на него недовольный взгляд.
Валсамон умолк.
Хомуня, расслабленный жарким солнцем, вяло покачивался в седле, чуть смежив в полудреме припухшие от усталости веки. Он ехал на сером жеребце по левую сторону своего господина, как и положено второму рабу-телохранителю, отстав на полкорпуса его лошади. Горные дороги для пятидесятитрехлетнего человека уже тяжелы, и он рад был бы остаться в Херсонесе, прислуживать отцу Тайфура, старому Хакиму, а потом вместе с ним возвратиться в Трапезунд и там коротать дни, отпущенные ему богом.
Хомуня попытался подсчитать, сколько лет он прожил в Трапезунде. Его привез туда иудей Самуил перед тем, как внуки ромейского императора Алексей и Давид Комнины с помощью войск своей тетки, грузинской царицы Тамары, заняли город и образовали империю. Время было смутное, человеческая жизнь стоила не больше упавшего на дорогу виноградного листа, наступить на него, затоптать, смешать с грязью — дело безгрешное. Самуил, опасаясь, что после взятия Константинополя крестоносцы пойдут на Трапезунд, спешно распродал имущество, товары, рабов и бежал на Кавказ. Хомуню приобрел у него богатый сарацин Хаким.
Дом Хакима стоял недалеко от моря, чуть ниже базилики святой Анны. Лавки его были разбросаны по всему городу: и в гавани, и за речкой, и даже за старыми стенами, у базилики Панагии Хрисокефалос. Сначала Хомуня лишь разносил товары благородным и влиятельным людям, постоянным покупателям купца, а потом, когда Хаким узнал, что его новый раб способен в языках, читает и пишет по-гречески, доверил ему быть сидельцем, торговать в лавке.
Хомуня умел изъясняться не только с греками, но и с арабами, аланами, тюрками. Среди какого народа жил, тому языку и учился. По свету он побродил немало. Да и Хаким оказался из тех купцов, которые дома сидеть не любят, водил караваны в Амастриду, Ираклию, Херсонес, на Кавказ. Два раза ходил в Багдад. И каждый раз брал с собой Хомуню. Однажды выделив его из множества других своих рабов, купец уже не мог обходиться без Хомуни ни в путешествиях, ни дома.
Дела у Хакима хорошо шли до тех пор, пока не нажил себе врага, повздорил с прониаром Веспасианом, влиятельным чиновником, приближенным к императору. Из-за него Хаким вынужден был переехать в Херсонес, где тоже имел торговые дома. И только теперь, узнав о смерти Алексея Комнина, загорелся возвратиться в Трапезунд. Так уж заведено испокон веков, и купец хорошо усвоил это: когда приходит к власти новый правитель, первым делом гонит в шею старых фаворитов и приближает своих друзей. Значит, и Веспасиан, бывший недруг Хакима, должен теперь остаться не у дел.
Готовился к отъезду и Хомуня. Но молодой господин, получив разрешение отца самостоятельно вести караван через Железные ворота в Багдад, забрал Хомуню с собой.
* * *
…Солнце застыло над головой, жестко обжигая и без того черную, задубелую на ветру кожу. Широкая, голубоватая от седины борода Хомуни свалялась от пыли и, раздвоившись, словно соски у молочной козы, упруго торчала в стороны. Капли пота катились со лба, собирались на кончике крупного, прямого носа, на густых бровях, сбегали к усам и бороде. Со стороны казалось, что Хомуня спит. И первый раб-телохранитель, молодой ромей Валсамон, с нетерпением ждал, когда Хомуня мешком свалится с лошади и упадет на взбитую копытами землю.
Валсамон даже зарычал от злости и скрипнул зубами, когда увидел, что по еле заметному взмаху руки молодого купца лошадь Хомуни напряглась и догнала белого иноходца Тайфура, а Хомуня, чуть склонив голову и приложив правую руку к сердцу, спросил:
— Слушаю, мой господин.
Большинство рабов у Тайфура были молодые ромеи, из греков. Как и Валсамон, другого, кроме языка своей матери, не знали. Купец же по-гречески говорил не очень хорошо, поэтому чаще всего общался с Хомуней на арабском. Это особенно задевало Валсамона, с трудом выучившего десяток слов языка своего хозяина. Валсамону казалось, что Омар Тайфур недостаточно ценит его как начальника стражи, умеющего поднять на ноги даже мертвого раба, бесстрашно схватиться с любым, кто посмеет угрожать хозяину, что Тайфур хочет приблизить к себе Хомуню, эту старую развалину, уже не способную укротить дикую лошадь или бегом, не останавливаясь, взобраться на вершину горы, перенести самый тяжелый вьюк через бурную реку.
Срывая злость, Валсамон зарычал на третьего раба-телохранителя Аристина и, огрев его плетью, указал на погонщика, спустившегося к воде. Размахивая бичом, Аристин поскакал к отставшему, а Валсамон начал прислушиваться к словам Тайфура и Хомуни, но, ничего не разобрав, отвернулся.
— Моя лошадь устала, — сказал Тайфур, — не пора ли сделать привал, Хомуня?
— Как прикажешь, мой господин. Только отец твой посоветовал бы остановиться в караван-сарае. Нам осталось меньше пяти попьрищ, сразу за поворотом.
— Как ты сказал? Попьрищ? Что это?
Хомуня улыбнулся.
— Прости, господин, нечаянно вырвалось русское слово. Путевая мера. Тысяча шагов.
Купец погрузился в свои мысли, и Хомуня придержал коня. Не подобает рабу без нужды ехать рядом.
Лет десять назад, а может быть и больше, когда караваны водил еще сам Хаким, Хомуня занимал место по правую руку своего хозяина. Но годы берут свое. Вместе с Хакимом состарился и Хомуня. Поэтому он спокойно уступил место молодому и сильному Валсамону. Теперь Хомуня только называется телохранителем. Хотя и носит оружие, но саблю вытаскивает редко, при крайней необходимости. Больше прислуживает купцу, помогает ему советом. Если Омар Тайфур затрудняется при общении с половцами или аланами, служит толмачом. На охоте же нет пока равных Хомуне. Точности его глаза позавидует любой телохранитель купца. Луком Хомуня владеет не хуже степняков, а терпения и выносливости хватает — за долгую жизнь научился беречь силы, не делать лишних движений.
Караван-сарай прилепился к подножию горы, вершину которой венчали стены мощной крепости Хумара. Хомуня удивился: раньше открытый всем ветрам, теперь этот приют купцов и путешественников огорожен высоким каменным забором. Кругом тихо и пустынно. Лишь недалеко в стороне, у самого Куфиса, безнадзорно паслись десяток коз и две коровы. Но не успел караван приблизиться к воротам, как появился невысокий, в темно-зеленых салбарах и сером халате, в мохнатой шапке чернобородый алан. Хомуня еле узнал в нем постаревшего хозяина караван-сарая. Густая курчавая борода, скрывавшая почти все его лицо, длинный кинжал на боку делали Анбалана суровым и неприступным.
Хомуня выехал вперед и поклонился хозяину караван-сарая.
— Мир дому твоему, славный Анбалан, сын Анбалана. Тебя приветствует знатный сарацин Омар Тайфур, купец из Трапезунда, сын достопочтенного Хакима, который много лет назад был твоим гостем.
Анбалан с любопытством посмотрел на Омара, небрежно развалившегося в седле, на его пестрые широкие одежды, улыбнулся, подумав, что дурак всегда пестрое любит, и гостеприимно распахнул ворота.
Двор караван-сарая оказался настолько просторным, что здесь свободно могли разместиться несколько таких караванов. Пока располагались, снимали и укладывали в большой деревянный сруб тюки с товаром, в ворота въехали три вооруженных всадника. Телохранители Тайфура схватились было за рукояти сабель, но Анбалан поспешил успокоить их.
— Посол князя Бакатара, вождя крепости Хумара, — сообщил он.
Посол соскочил с коня и, неслышно пружиня по земле мягкими сапогами, подошел — будто подкрался — к Омару Тайфуру, с достоинством поклонился ему и передал приглашение Бакатара посетить крепость. Едва дождавшись, пока Хомуня переведет его слова на арабский, посол резко повернулся, чуть ли не подбежал к своему коню, вскочил в седло и, сопровождаемый слугами, отъехал к воротам.
Анбалан тронул Хомуню за руку и шепнул:
— Твоему хозяину надо торопиться. Бакатар ждать не любит. Седлайте моих коней. Ваши устали, а мои застоялись.
Омар Тайфур приказал Валсамону приготовить двух лошадей, а сам вместе с Хомуней начал отбирать подарки князю. В тороку положили парчовый халат, кинжал и саблю дамасской стали, с рукоятью, украшенной бронзовыми пластинами, расписанными арабской вязью, несколько соболей, купленных в Херсонесе у русских торговых людей, два греческих кубка с ручками в виде виноградной лозы, бусы из горного хрусталя и маленькую корчагу с перцем.
* * *
Подошел Валсамон с двумя оседланными лошадьми. Пока Хомуня пристраивал тороку, Тайфур, осмотрев поданную ему лошадь, вскочил в седло и неторопливо направился к воротам. Валсамон двинулся следом.
Омар Тайфур оглянулся и, увидев ехавшего за ним первого раба-телохранителя, от удивления — он не приказывал Валсамону сопровождать себя в крепость — широко раскрыл свои желтоватые, с густыми красными прожилками глаза и округлил тонкие, чуть потрескавшиеся губы, словно собирался свистнуть. Но не свистнул, наверное, передумал. Вместо этого поднял руку и жестом остановил раба, подозвал Хомуню и велел ему ехать вместо Валсамона.
Закипая гневом, Валсамон медленно сполз с лошади. Даже сквозь темный загар на его лице ярко проступали бурые пятна, ноздри хищно дрожали, как язык у змеи.
Валсамону легче было перенести унижение, если бы Тайфур заранее выбрал себе в сопровождающие Хомуню. Тогда он мог сделать вид, что в крепость ехать не хочется, посмеялся бы над сонным русичем и пожелал ему свалиться в пропасть. Даже пообещал бы поставить свечку в христианском храме, если таковой когда-нибудь встретится на пути. И уж, конечно, Валсамон не стал бы сам седлать лошадей, заставил бы это сделать Аристина, да еще присоветовал бы незаметно надрезать подпругу, чтобы навсегда покончить с ненавистным ему человеком. Теперь же, в присутствии хозяина караван-сарая, посла князя Вакатара, на глазах у всех ничтожных рабов — он спиной чувствовал их злорадные рожи, — приходилось уступать место своему противнику.
Валсамон, скаля зубы, чтобы скрыть обиду, подождал, пока подбежит Хомуня, отдал ему повод, сделал вид, что хочет помочь подняться в седло, а сам резко ткнул в пах русича. Застонав от боли, Хомуня с трудом взобрался на лошадь, помедлил и, собрав силы, со всего маху ожег плетью коварного Валсамона.
Лицо грека залилось кровью, но он даже не прикрыл его рукой, продолжал скалить зубы. Только прошептал:
— Ты подохнешь скоро, пень трухлявый!
Омар Тайфур издали наблюдал за своими рабами. Ему доставляло удовольствие видеть, как они изводят друг друга насмешками, дерутся, отстаивая свои маленькие привилегии, коими он наделял особенно проворных, награждал их званиями первого раба-телохранителя, второго, третьего… Выделял главного погонщика, главного носильщика, назначал к ним помощников, заставлял рабов соперничать, доносить, выслуживаться.
Конечно, иногда дело заходило слишком далеко. Как у ромея с русичем. Слабый умом, самолюбивый Валсамон вполне способен убить своего противника. Сначала эта догадка вызвала у Тайфура раздражение. Но потом оно исчезло. Тайфуру опротивели навязчивые советы Хомуни, хотя и обходиться без них пока не мог. «Старая лиса, — размышлял купец, — делает вид, что подсказывает, как поступил бы Хаким. Даже в такой мелочи, как выбор стоянки для каравана, сослался на родителя. Теперь приходится тащиться к князю Бакатару, везти подарки этому ястребу, высмотревшему добычу со стены своей крепости». Омару пришла в голову мысль, что отец, с трудом соглашаясь отпустить от себя любимого раба, тем самым незаметно навязал ему соглядатая.
Тайфур снова оглянулся, увидел осунувшееся лицо Хомуни, его запавшие глаза и почувствовал, как усиливается неприязнь к старому русичу. С этим он и двинулся за ворота следом за послом князя Бакатара.
* * *
У поворота, там, где дорога огибала скалистый выступ, всадники вспугнули черного грифа. Недовольный появлением людей, гриф, лениво взмахивая крыльями, с трудом оторвался от земли, где оставался несъеденным его обед — дохлый шакал с разодранным брюхом, — и улетел. Хомуня проводил взглядом огромную голошеюю птицу и в той стороне, куда улетел гриф, увидел высокий, вырубленный из серого песчаника столб. Хомуня даже приостановил коня от удивления: настолько величественным показалось ему это необычное для глухих горных мест творение рук человеческих. Столб будто вырастал из земли и устремлялся к солнцу, которое резко высвечивало большой крест, мастерски высеченный в верхней части каменного исполина. Хомуня почтительно перекрестился, подумал о боге и о людях, сотворивших такое чудо ради укрепления своей веры.
На первый взгляд, до крепости — рукой подать, ее стены хорошо просматривались на фоне безоблачного неба. Но добраться туда было не просто. Она стояла на высокой горе, опоясанной глубокими и скалистыми балками. Крутые склоны, нагромождения камней, осыпь, отвесные обрывы у края вершины делали Хумару неприступной.
Ехали по сухому дну балки, узкой дорогой, петлявшей между зарослями кустарника. Впереди следовал посол князя Бакатара, за ним — Омар Тайфур, Хомуня. Замыкали — два молодых алана на низкорослых лошадях. И не понять, в качестве гостя ли ехал купец в крепость или пленника.
Дорога, а точнее — хорошо пробитая тропа, то поднималась на крутизну — и внизу открывалась широкая балка Шугара, на склонах поросшая синеватыми островками терновника и поблекшего на солнце барбариса, то снова опускалась в загроможденное камнями дно балки — и терновник уступал место кизилу и боярышнику, их раскидистые ветви теснили тропу так, что приходилось низко наклонять голову, а порой чуть ли не ложиться на шею лошади.
Боль у Хомуни прошла. Подзабылась, ушла куда-то, растворилась во времени и обида на жестокого и коварного Валсамона. Но сердце было неспокойным.
* * *
Хомуня смутно вспоминал начало их вражды. Это произошло у развалин Тмутаракани. Стоянку в тот раз выбрали недалеко от стен мертвого города, на холмах, рядом с тмутараканскими идолами — огромными статуями, воздвигнутыми древним божествам Санергу и Астарте. Место это чуть возвышалось над городом, хорошо продувалось ветром, комар не задерживался. И Хомуня был доволен, что Тайфур согласился. Иначе какой отдых, если комар — от него, как ни старайся, никуда не спрячешься — поминутно впивается в тебя острым жалом. И будь ты трижды усталым, без сил упадешь на землю — все равно не уснешь, всю ночь будешь хлопать себя по голому телу.
Трава на холме была сочной и мягкой. Пьянило от запахов ромашки, чабреца и донника. Пока рабы ставили шатер для Омара Тайфура, Хомуня рвал чабрец, чтобы себе и купцу подложить под голову.
— У нас на Руси чабрец зовут богородскою травою. Сон на подушке из чабреца дает здоровье и долголетие. Она целительная, травка эта, всякую заразу от человека отводит, — пояснил он Тайфуру.
Для себя постель Хомуня мостил рядом с шатром Тайфура. Легкий ветерок подувал с моря, нес прохладу, и Хомуня надеялся, что ночью будет хорошо. Он бросил на землю охапку травы и с удивлением отметил, что плотная широкая тень каменной Астарты падала на шатер и делила его на две равные части. На левой, прикрытой тенью стороне, краски совсем поблекли, ткань стала серой, будто слегка присыпанной пеплом, а справа — сияла на солнце, выглядела яркой, как голубой, с розовыми и желтыми цветами, праздничный халат Тайфура.
Хомуня подошел к каменному изваянию и посмотрел вверх. Подсвеченное солнцем, красноватое, с белым пушистым козырьком, небольшое облако золотой короной повисло над Астартой. Словно живое, оно постоянно меняло окраску и, казалось, вот-вот опустится на голову богини любви и плодородия.
Может, от предвечернего света, а может, так привиделось Хомуне, но лицо Астарты дрогнуло, тень недовольства пробежала по ее каменным щекам.
Хомуня протер глаза. Видение оставалось. Но теперь Астарта спокойно смотрела на Санерга, стоявшего на соседнем холме, и дальше, в глубь степи.
— Хомуня! Ты что, оглох?
Голос Тайфура прозвучал так неожиданно, что Хомуня вздрогнул и тут же почувствовал, как неприятный озноб пробежал по его телу, будто купец дохнул на него холодом. В ту же минуту солнце скрылось за тучами — статуя снова стала серой, потеряла краски. Золотое облако сместилось.
— Я хочу осмотреть развалины города. Возьмите с Валсамоном оружие. Аристин пусть присмотрит за табором.
* * *
Тмутаракань встретила кладбищенской тишиной. Улица, на которую ступили Хомуня, Валсамон и Тайфур, была покрыта раскидистыми зарослями цикория, широкими листьями лопуха; небольшие полянки устлались мягким ковром полевицы, осочного пырея и тонконога. По обеим сторонам заросшей дороги, скрытые кустарниками, таинственно выглядывали остатки стен и заборов. На месте былых садов сквозь бурьян пробивалась молодая поросль вишен, орешника и яблонь; выше — диковинными зверями, драконами и лешими рогатились полузасохшие сучья старых умирающих деревьев.
У поворота, откуда хорошо была видна крыша дворца князя Мстислава и поросший бурьяном купол церкви святой Богородицы, прямо на дороге одиноко раскинула ветви молодая яблоня с мелкими чуть желтоватыми плодами.
Валсамон наклонил ветку и потянулся за яблоком.
— Карр-р-р, карр-р-р! — неожиданно закричал ворон, неслышно опустившийся почти рядом, на сухое дерево.
Валсамон отдернул руку и выругался.
— Испугал, дьявол. Я тебе каркну, перьев не соберешь, падаль вонючая!
Валсамон поискал камень — не нашел. Потянулся за яблоком.
— Карр-р-р, карр-р-р!
Валсамон вздрогнул и снова отпустил ветку, но тут же решительно наклонил ее, сорвал яблоко и швырнул в ворона.
Птица улетела.
Доверху увитый густыми переплетениями хмеля, княжеский дворец, казалось, намеренно притаился в глубине двора и настороженно, через пустые ворота, выглядывал на улицу, словно боялся, что может войти в него кто-нибудь незванный и помешать его тихой, загадочной жизни. Чудом сохранившаяся дверь, которая вела во внутренние покои дворца, была приоткрыта, и каждый раз, как только налетал сильный порыв ветра, она жалобно скрипела, хлопала о стену и тут же возвращалась на место. При этом воробьи, собравшиеся у крыльца, испуганно вспархивали, будто кто-то стоял за дверью и постоянно отгонял их, не пускал внутрь. Перед крыльцом, на выложенной каменными плитами площадке, лежали промытые до ослепительной белизны кости быка или коровы, серые потрескавшиеся рога обломились и валялись рядом с черепом.
В комнатах пахло плесенью. С потолков грязными клочьями свисала паутина. Пол, покрытый толстым слоем пыли, дышал под ногами, густые облака ее поднимались вверх, окутывали купца и его телохранителей. Пыль остро щекотала в носу, и Валсамон, шедший впереди всех, расчихался так громко, что, казалось, ветхие стены и провисший потолок вот-вот обрушатся и навечно похоронят здесь путников.
Хомуня посмотрел на Омара Тайфура. От брезгливости и отвращения лицо его перекосилось, лоб сморщился, губы оттопырились. Купец потерял интерес к развалинам и уже повернул было назад, но дикий возглас Валсамона, заглянувшего в угловую комору, остановил его.
— А-а-а-а! — завопил Валсамон и отпрянул от дверного проема. — Спаси и защити меня, святой Павсикакий!
— Что там? — испуганно спросил купец.
Валсамон побледнел, уронил на пол саблю, истово крестился дрожащей рукой и не мог произнести ни слова.
— Говори же! — приказал Тайфур.
— Там… ведьма… сидит.
— Откуда ей взяться, днем-то? — спросил Хомуня и подошел к коморе.
Заглянув внутрь, Хомуня вздрогнул, но быстро справился с испугом, перекрестился и вошел в комору.
В углу, на скамье, Хомуня увидел скелет человека. Длинные густые волосы удерживались на черепе серебряным ободком и свисали до самой скамьи. Между ребер скелета, там, где должно быть сердце, торчала стрела.
Выждав минуту, в комору вошел купец, а следом и Валсамон. Все молча смотрели на останки.
— Женщину поразили стрелой.
Не успел Хомуня произнести эти слова и перекреститься — все вокруг осветилось яркой вспышкой молнии и грянул оглушительный гром.
Валсамон, а за ним купец и Хомуня выскочили из княжеского дворца. Над мертвым городом клубилась тяжелая, будто налитая свинцом туча. Небо беспрестанно рассекали огненные полосы. Поднялся сильный ветер. На землю упали первые капли дождя.
Бежать к табору было уже поздно, но и оставаться в княжеском дворце никому не хотелось. Решили заскочить в церковь и там переждать дождь.
В глубине церкви, рядом с остатками иконостаса, Хомуня обнаружил старое кострище, кучу поленьев и хвороста. Вокруг лежали четыре толстых обрубка, служившие кому-то вместо скамеек. Хомуня достал кресало, кремень, трут, и вскоре костер тускло высветил потемневшие от копоти своды храма. Омар Тайфур и Валсамон сели на бревна, подставляя огню влажные полы халатов. Из небольшого мешка, пристегнутого к поясу, Валсамон достал яблоки, подал купцу и Хомуне.
— Я ничего не боюсь, даже смерти, — хрумкая яблоком, оправдывался Валсамон за недавний испуг во дворце, — а вот нечистых, колдунов… Перед ними я…
— Ха-ха-ха! — раздалось где-то недалеко от церкви.
Валсамон умолк.
— Ха-ха-ха! — послышалось еще ближе. И тут же смех сменился плачем.
— Что это? — тихо спросил Валсамон и с надеждой, словно просил защиты, посмотрел на Хомуню и Тайфура.
— Филин. Да, это — филин.
Через минуту снова послышался стон, теперь у самого входа. Хомуне показалось, что какая-то тень мелькнула в проеме дверей и снова исчезла. Все трое вскочили почти одновременно. Валсамон, сидевший чуть в стороне, подошел ближе и стал рядом с Хомуней.
Освещенная слабым мигающим светом костра, в церковь вошла женщина. Ее длинные мокрые волосы, прикрывая часть лица, тяжелыми космами спадали поверх легкого плаща.
— Это она, — прошептал Валсамон, — та самая, из дворца.
Женщина подошла ближе и долго, широко раскрытыми глазами, не мигая, смотрела на Омара Тайфура. Она была молода, на вид — лет двадцати пяти, не более. Тяжело вздохнув, присела на обрубок.
— Наконец-то я вас нашла, — сказала она. — Потом добавила: — Как я устала.
— Откуда ты взялась? — спросил Хомуня.
— Из моря. Разве ты не видишь, старик, я вся мокрая. Волны сегодня высокие. Мне было очень трудно справиться с ними. Вода смывает зло. Ты не бойся, я добрая. Поэтому море и выпустило меня. Каждый вечер я выхожу на берег и гуляю по городу. Почему вас так долго не было?
— Кто ты? — спросил купец.
— Разве ты не узнаешь меня?
Женщина поднялась с бревна, подошла ближе к Омару Тайфуру и снова пристально посмотрела ему в глаза. Купец не выдержал и потупился.
— Я — Астарта. Когда-то была девой. А еще — птицей и рыбой морской. Ты всегда звал меня так. Но с тех пор, как тебя убили, я опять стала Астартой.
Женщина подошла к побледневшему Валсамону, провела рукой по его лицу.
— Успокойся, раб. Я знаю, не ты убивал моего мужа.
Валсамон готов был бежать прочь без оглядки, но страх удерживал его на месте. Астарта повернулась к Омару Тайфуру.
— Ты набрал себе новых рабов? — спросила она. — Тех, которые тебя убивали, отпустил? Ты благородный. Справедливый перед богом и перед людьми. И перед сыном. Ты подобен богу, воскресшему из мертвых. Только не сердись на меня так сильно, как в тот раз, когда я застала тебя на конюшне. Ты прелюбодействовал, и поэтому я так грубо ругалась и царапала тебе лицо. Поверь, мне было очень больно. Так же больно, как нашему сыну. Он был красивый мальчик. Как он кричал. Ты любил и рабов своих. Они же, несчастные, сговорились и убили тебя. Тело твое поглотила морская пучина. Но теперь все позади. Вода очистила тебя от зла. И ты будешь снова любить меня. Я по-прежнему красива. Ты не забыл моего тела?
Астарта отошла к бревну и начала раздеваться. Сначала сбросила с себя плащ, потом разорванное на боку мокрое платье и нательную сорочку.
— Она безумна, — шепнул Хомуня купцу.
Астарта стала перед костром, медленно обеими руками откинула за плечи подсохшие волосы и, прекрасная, как Афродита — ее статуи когда-то так поразили Хомуню, — осторожно ступая босыми ногами, снова подошла к Омару Тайфуру.
— Посмотри на меня, мой любимый Санерг. Потрогай — и ты убедишься, что грудь моя не менее упруга, чем прежде. Что же ты медлишь, прикоснись.
Астарта взяла руки Тайфура и приложила их к своим грудям.
— Ты весь горишь. В твоих ладонях столько тепла, что я уже совсем согрелась, — сказала она. — Только не отпускай меня, Санерг. Проведи руками по животу. Вот так. И по бедрам.
Астарта вдруг нахмурилась, отступила от Тайфура и приблизилась к Хомуне. Долго стояла молча, затем подняла руки и погладила ему бороду.
— Сколько сострадания я вижу в твоих глазах, старик. У тебя доброе сердце. Скажи, оно так же страдает, как и мое? И болит так же?
Хомуня не ответил. Он подумал о том, что все его страдания ничего не значат по сравнению с теми бедами, которые, по всему видать, пришлось пережить этой душевнобольной женщине, назвавшей себя Астартой. Даже то малое, что можно было понять из ее бессвязной речи, ни в какое сравнение не шло с его, Хомуни, собственными испытаниями. И разве можно физические боли мужчины сравнить с душевными муками матери?
Женщина как-то сразу потеряла интерес к Хомуне, не дождавшись его ответа, снова подошла к Омару Тайфуру.
— Посмотри, Санерг, как больно было моему сердцу. — Астарта повернулась ближе к свету, подняла рукой левую грудь — и все увидели рваные рубцы. — Я вытащила отсюда стрелу. А тебя спасти не могла.
— А-а-а-а! — завопил Валсамон. Увидев шрам на груди женщины, он снова вспомнил скелет из коморы княжеского дворца. — Нечистая сила!
Валсамон крестился, читал молитву, а женщина удивленно на него смотрела.
— А где же мой мальчик, что же это я? Он же не умеет плавать. Мне надо в море, а волны сегодня особенно высокие. Я боюсь за своего мальчика! — громко застонала она и бросилась к выходу.
— Куда же ты, Астарта, вернись! — кинулся следом Хомуня. — Пропадешь!
Хомуня выскочил из церкви — женщины уже не было.
Дождь перестал. На небе сияли яркие звезды. Луна, взобравшись на княжеский дворец, готова была покатиться по крыше. Ветер утих.
Постояв немного, Хомуня повернул в церковь. Но не успел сделать и двух шагов, как почти рядом, в траве, услышал слабый стон Астарты. Хомуня подхватил мокрое от дождя холодное тело и понес в церковь.
Омар Тайфур расстелил у костра плащ Астарты, и Хомуня осторожно опустил на него потерявшую сознание женщину. Валсамон подбросил в костер хворосту. Пламя разгорелось сильнее. Астарта открыла глаза, но взгляд ее был уже не живым, потухшим. Хомуня хотел подложить ей под голову валявшийся рядом мешок Валсамона, но, едва прикоснулся к Астарте — почувствовал, как мелкая дрожь пробежала по ее телу. Астарта приоткрыла рот, судорожно, со стоном вдохнула воздух и тотчас затихла. Она умерла.
Хомуня перекрестился, прикрыл обнаженное тело мокрым платьем, взглянул на Тайфура. Купец стоял, уронив на грудь голову, и беззвучно, одними губами, читал молитву.
* * *
Возвратились в табор поздней ночью. Аристин не спал, ждал Омара Тайфура и не давал погаснуть костру. Каменная статуя древней богини Астарты, подсвеченная красноватыми всполохами, смотрела на Санерга и дальше, в степь, в бездонное звездное небо.
Утром Омар Тайфур долго не выходил из шатра. Хомуня успел подогреть воду — купец имел привычку и в жаркие дни умываться только теплой, — приготовить ему завтрак, но Тайфур не спешил вставать. Хомуне, сидевшему подле шатра, с противоположной стороны от входа, где еще держалась неширокая полоса тени, слышно было, как Омар Тайфур поминутно ворочается в постели и горестно вздыхает. Хомуня предполагал, что купец так тяжело переживает встречу с Астартой, ее неожиданную смерть. Но это было не совсем так. Хотя все, что произошло с Астартой, не оставило Тайфура равнодушным, расстроился он не столько из-за ее смерти, сколько из-за того, что мужа этой женщины убили собственные рабы. Тайфур боялся, что здесь, вдали от городов и селений, его невольникам тоже несложно будет расправиться со своим хозяином.
Тайфур лежал в шатре и чувствовал себя самым несчастным человеком на земле. Ему рисовались ужасные по своей жестокости картины. Представлялось, что рабы давно сговорились убить хозяина, но прежде чем сделать это, непременно будут всячески издеваться над ним, наслаждаясь его муками. Тайфур порой воспалялся так сильно, что наяву бредил, даже чувствовал, как острые ножи телохранителей с хрустом вонзаются в его тело. Он готов был кричать от воображаемой боли, но не смел этого делать, боялся, что рабы, догадавшись о трусости своего господина, наверняка поспешат приступить к задуманным ими кровавым замыслам. Тайфур так разбередил душу, что уже не видел никакого выхода из положения, созданного собственным воображением, и совсем пал духом. Ему казалось, что если даже сейчас встанет, выйдет из шатра и разделит между рабами свое имущество, то и тогда не избежит смерти.
— Они не преминут вам вредить, они хотели бы того, чтобы вы попали в беду, — шептал он строки из Корана.
Тайфур услышал, как кто-то тихо подкрался к шатру и начал осторожно развязывать тесемки, соединявшие его борта, чтобы проникнуть внутрь. Купец поднял голову, сунул руку под подушку и с ужасом обнаружил, что на этот раз там не оказалось кинжала. То ли он сам забыл его положить, то ли выкрал кто. Тайфур бессильно уронил голову на подушку и, путая слова, тихим голосом начал читать предсмертную молитву.
— Аллах творит, что желает. Когда он решит какое-нибудь дело, то скажет ему: «Будь» — и оно бывает. Пользование здешней жизнью недолго, а последняя жизнь — лучше…
В шатер просунулась косматая голова Валсамона.
— Горе им за то, что они приобретают, — еле слышно прошептал Тайфур и приготовился к самому худшему.
— Доброе утро, мой господин, — улыбнулся Валсамон. — Как ты себя чувствуешь? Не заболел ли? Пусть все твои несчастья падут на мою голову.
Тайфур не ответил, но облегченно вздохнул и расслабился — не увидел злого умысла на лице своего раба.
— Носильщики обрадовались, думали, что ты заболел, господин мой. Прикажи наказать их. Гы-гы-гы! — затрубил Валсамон.
— Бейте их по шеям, бейте их по всем пальцам! — ответил Тайфур словами Корана. Потом высвободил из-под одеяла ногу и что есть силы двинул ею в лицо Валсамона. — Берите их и избивайте, где бы ни встретили вы их. Над этим мы дали вам явную власть.
Валсамон исчез из шатра и, может быть, не слышал, как Омар Тайфур крикнул ему вслед:
— Солнцу не надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день!
Если бы даже и услышал Валсамон последние слова Омара Тайфура, все равно бы не разобрал, потому что купец произнес их по-арабски.
Хомуне показался неожиданным гнев хозяина. Не понравился ему и донос Валсамона. «Зря он это сделал, — подумал Хомуня, — к хорошему это не приведет».
* * *
Лишь к полудню купец появился перед рабами и сразу велел Хомуне взять Аристина, двоих носильщиков, пойти с ними в церковь и похоронить Астарту. К этому времени Тайфур, наконец, придумал, как сделать, чтобы рабы свои злые намерения, если таковые зреют в их душах, направляли друг против друга и всеми силами старались добиться расположения хозяина.
Прежде всего он велел хорошо накормить каждого невольника, выдать новую одежду тем, у кого она сильно изорвалась, а вечером наделил лучших своих рабов особыми полномочиями, чинами и званиями. Вот тогда-то Валсамон и был возведен в степень первого раба-телохранителя. Он тут же с наслаждением выпорол носильщика, нечаянно уронившего на землю незавязанный бурдюк с водой. Оно и понятно: сел дурак на лошадь и думает, что уже господином стал.
Все, что сделал Омар Тайфур, Хомуня поначалу воспринял как невинную забаву молодого купца. Единственное, что вызвало неприятное чувство, — самым низшим по званию рабам, если они обращались к Омару с просьбой, полагалось за десять шагов становиться на колени, на четвереньках ползти к стопам хозяина и только потом просить его о милости. Если кто противился, рабы, наделенные на то полномочиями, палками заставляли в точности исполнять ритуал.
Это напоминало Хомуне далекие времена, когда его — молодого, строптивого, не умеющего смириться и привыкнуть к злу, к постоянному унижению, — больше всего травили, растаптывали душу те, кто рядом с ним изодранными до костей окровавленными руками, в изнурительных до отчаяния трудах добывали камень в каменоломнях, строили дома, рыли оросительные каналы, носили вьюки с товаром, растили хлеб, ковали железо, с кем доверчиво делился мыслями, кого покрывал от расправы, — они же доносили на него хозяину, врали, плели небылицы о непокорном русиче. Если рабовладелец или управитель наказывал Хомуню, они радостно смеялись. Избитого, оставляли без пищи, без одежды, заставляли голыми руками убирать дерьмо, шпыняли, бросали в него камнями и палками, не упускали малейшей возможности унизить, превратить его в скота, в падаль. Ни хозяева, ни рабы не могли понять желания русича и в неволе сохранить человеческий облик, независимость и достоинство. Правду говорят, что ближняя собака скорей укусит. Чем дольше жил, тем больше Хомуня поражался способности униженных унижать себе подобных, с волчьей хваткой и свирепостью рвать горло слабому, если почувствуют, что хозяин, будто псам, отстегнул им ошейники.
Люди, сумевшие сберечь в себе доброту и сострадание, — и такие попадались ему на пути, — не раз советовали смирить гордыню. Египтяне говорили: «Раб — это живой убитый, если господин пнул тебя ногой в живот, стань на колени и поцелуй ударившую тебя ногу».
Хомуня не мирился, пытался бежать на Русь — его ловили, бросали в темницу, заковывали в кандалы, возвращали хозяину, тот тоже избивал его и в конце концов перепродавал другому. Из половецкой степи Хомуня попал к ромеям, из Константинополя в Египет, Персию, Антиохию, Крит, Иерусалим, Никею, снова в Константинополь. Откуда и привез его иудей Самуил в Трапезунд…
Хомуня ехал следом за Омаром Тайфуром, вспоминал свою трудную, неудавшуюся жизнь и пытался найти корни, от коих и произрастают зло, алчность, — все то, что заставляет людей грабить и убивать друг друга. «Может, человек всасывает свои пороки с молоком матери? — размышлял Хомуня. — И если в груди женщины не хватает молока, то и сын, мучимый голодом с первых дней своего существования, растет алчным и жадным, всю жизнь добывает себе богатство, не жалея для этого ни своей, ни чужой крови. Но тогда как быть с Омаром Тайфуром? Почти двадцать лет Хомуня прожил в доме его отца, хорошо помнит, что мать купца была женщиной исключительно молочной, хватало не только Омару, но и Аристину, сыну умершей рабыни, ее служанки. Тому Аристину, которого Омар Тайфур истязал постоянно, хотя и пожаловал ему звание третьего раба-телохранителя, будто и не вскормлены они молоком одной матери. А может, эти пороки переходят из поколения в поколение, как божья отметина за грехи предков?»
Снова вспомнился Хаким. Тот за двадцать лет ни разу не ударил, разговаривал без надменности, можно сказать, даже уважительно, как с равным. А разве Хомуня не допускал оплошностей? Допускал. Было за что и наказывать. Но старый купец, видно, понимал: плетью бояться себя заставишь, а любить не принудишь.
Тайфур же будто и не родной — ни в отца, ни в мать не пошел. Добротою бог обделил. Жена старого Хакима родила сына, а сердца ему не дала.
* * *
После Тмутаракани шли быстро. Задержались лишь в большом предгорном селении, торговали с касогами. Когда пришло время двигаться дальше, собрали товар, свернули и упаковали шатер, подготовили лошадей, Тайфуру вздумалось попрощаться с местным князем. И носильщики снова сбросили с себя вьюки, телохранители спешились, расседлали коней.
Время приближалось к полудню. Воздух стал гуще, плотнее, словно в него подмешали подогретого пару. Солнце палило нещадно — и рабы, довольные, что Тайфур и Валсамон ушли в селение, скрылись в тени на окраине леса.
Прислонившись спиной к шершавому стволу могучего дуба, Хомуня сидел на мягкой траве и смотрел на путников, которые приближались к табору. Их было двое. Один — высокий, худой, с длинной седой бородой, в широком голубом халате и в белой войлочной шапке. Он опирался на посох, но шагал широко и бодро, так что его спутнику, мальчику лет десяти-двенадцати, приходилось часто семенить рядом, а то и бежать вприпрыжку. За спиной мальчика болталась котомка, у старика — домра, с округлым, как обрезанная луковица, кузовком. Не доходя до табора, они свернули к одинокому тополю, стоявшему неподалеку, у родника.
Присев под деревом, старик развязал котомку, достал две лепешки. Одну отдал мальчику. Но увидев, как тот жадно на нее набросился, отломил ему от своей еще половину.
Хомуня встал, достал из своих запасов хлеб, сыр, небольшой кусок вяленого мяса и отнес путникам. Присел напротив.
Мальчишка обрадовался, громко засмеялся.
Старик принял подарок сдержанно, отломил немного сыру и хлеба, пожевал. Мальчик, взглянув на деда, подвинул к себе котомку и положил туда половину принесенного Хомуней хлеба и сыра.
Потом старик спросил:
— Ты кто?
— Я — из каравана сарацинского купца. Раб, — медленно, подбирая слова, ответил Хомуня. Касогов он понимал хорошо, а вот говорил на их языке с трудом.
— Ты только одеждой походишь на них, — старик кивнул туда, где находился табор.
— Я — русич, из северной страны.
Старик улыбнулся.
— У нас, у адыгов, есть песня о русичах, о том, как наши воины разбили их Тамтаракай. Если душе твоей не обидно, я бы спел для тебя.
— Недавно я видел развалины Тмутаракани. Спой, я послушаю твою песню.
Старик взял домру, ударил по струнам, прикрыл глаза, тихо запел:
Старый Инал умирал на лугу, под зеленой, покрытою лесом горою, вечно стоявшей меж морем и пастбищем. Все сыновья из набегов вернулись, их раны слезами кровавят на лицах, горечью горькой и печей печальной. Юные внуки стоят и на вечный покой провожают сурового деда, кровью залившего недругов сёла. Каждый из них был достоин оружья великих адыгских воинственных предков, славой покрывших горы и долы. Старый Инал отдал саблю и власть над князьями любимому внуку Идару, барсоподобному храброму воину. Кречетом быстрым летал над землею, чтимый богами удачливый воин, саблею предков искусно владевший. Люди соседних равнин и далеких ущелий ясак уплатили Идару, главному князю храбрых касогов. Лишь не склонились пред ним непокорные, вольнолюбивые, гордые русы, жившие в Тамтаракае, у самого моря. Их покорить поручил он дружинам своим во главе с великаном Ридадей, многосчастливым и сильным. В поле тот встретил одетые в бронь и кольчуги полки Удалого Мстислава, телом дородного русичей князя. Зубром могучим встал гордый касожский силач пред веселым и храбрым Мстиславом, любым дружине и смелым в походах. «Выбери, князь, среди русичей самого сильного, пусть он со мною сразится, громко сказал благородный воин Идаров Мстиславу. — Так сохраним мы дружины свои. Если он одолеет — возьмешь мою землю, щедрую, добрую, людям родную. Ежели я одолею — возьму все твое: и детей и жену молодую, светловолосую, голубоглазую». «Пусть так и будет, — степенно ответил Мстислав Удалой великану Ридаде, воину храброму, зуброподобному. — Сам я бороться согласен с тобою сегодня, счастливый и храбрый Ридадя, лучший и верный воин Идара».Хомуня смотрел на изрезанные морщинами бледные руки старика, неторопливо перебиравшего струны, вслушивался в слова песни и чувствовал, как она все больше и больше захватывает его, заставляет вспоминать неудачный военный поход, в котором довелось участвовать ему в молодые годы.
Иногда Хомуня поднимал голову и встречался с взглядом адыга. Глаза у старика были добрыми и немного озорными, их, показалось Хомуне, никогда не покидала улыбка.
А старик потому и улыбался, что чувствовал, как сидящий перед ним человек, раб из далекой страны русов, для которого он пел, с участием слушает песню, волнуется. И это радовало старика, голос его становился крепче, пальцы увереннее перебирали струны.
Разом схватили друг друга за плечи могучие витязи в схватке смертельной, Мстислав Удалой И Ридадя Счастливый. Горы сошлись и земля содрогнулась, шакалы примолкли, взревели медведи, честные витязи — славы достойны. Лисы сбежали, попрятались в норы, застыло на месте горячее солнце, ясное, теплое, жизнь стерегущее. Ветры притихли, слетелися вороны, стиснули зубы Ридадя с Мстиславом, воин касожский с воином русским. Беркут могучий парит над горами, спешат под утес молодые козлята, дети невинные сильных отцов. Стрепет пугливый в траве затаился, дрогнуло юное сердце у девы, любящей витязя самого лучшего. Боги следили за схваткой жестокой и втайне гордились своими сынами, русичем храбрым и сильным касогом. Рыба в пучине — стрела серебриста, но в цепкие лапы попала орлану, быстро летящему рядом с волною. Кровью полита земля молодая, повержен Ридадя дородным Мстиславом, сыном Владимира, светлого князя. Плакали девы над телом холодным, сникли от скорби знамена Идара, славного князя храбрых касогов. Семьдесят лет и два года прошло, а у внуков в сердцах кровоточили раны, горькой обидой и мщеньем желанным. Войско собрали большое они и на помощь призвали шесть тысяч аланов, конников быстрых и смелых в бою. Серну настиг леопард длиннохвостый, трепещется горлинка в лапах сапсана, сокола быстрого с когтем железным. Стаи волков словно тучи клубились, под древними стенами Тамтаракая, светлого города русичей храбрых. Черный могильник взлетел к облакам и широкие крылья расправил над степью, алой зарею залитой, стоном наполненной. Сабли ломались, и гибли в боях сыновья молодые, и плакали вдовы, страшным объятые ужасом. Хаты горели, младенцы в дыму задыхались, в крови захлебнулась надежда, к жизни желанной у русичей. Солнце померкло, погасли зарницы, лишь ветер полощет ковыль на дороге, память стонала песней былинной.Хомуня сидел, низко уронив голову. Песня старого адыга совсем растревожила душу. Хотя в ней и рассказывалось о событиях давно минувших, Хомуне стало обидно, что здесь, в Тмутаракани, так нескладно все получилось. Где теперь они, потомки тех русских людей, которые жили когда-то на берегу моря? Может быть, они, проданные, как и Хомуня, в рабство, уже позабыли и язык свой или так же, как и он, тоскуя по своей земле, до сих пор мыкают горе где-нибудь на чужбине?
Хомуне показалось, что старик не окончил песню, оборвал ее на полуслове. Он поднял голову и в ту же секунду вскрикнул — тонкая плеть со свистом словно ножом, остро полоснула его по спине. Хомуня вскочил и увидел Омара Тайфура. Купец замахнулся еще раз, но не ударил, вяло опустил руку и молча пошел к каравану. Там все были готовы к дороге.
Старик зло посмотрел вслед Омару Тайфуру и громко сказал:
— Да постигнет тебя участь Тамтаракая, сарацин паршивый. — Старик поднял голову и сочувственно взглянул Хомуне в глаза. — Я буду молиться, чтобы судьба к тебе была благосклонной, русич.
— Спасибо на добром слове. У нас на Руси говорят: было бя счастье, а дни впереди.
Хомуня быстро набросил седло на спину своей лошади и догнал караван…
* * *
Радостные возгласы посла князя Бакатара возвестили об окончании пути. Хомуня, следом за Омаром поднявшись на вершину, где стояла крепость Хумара, увидел грозные башни с темными глазницами узких окон, высокие — саженей пять — стены крепости, увенчанные парапетом с частыми проемами бойниц, мощные, окованные железными полосами, деревянные ворота. Рядом — два облаченных в легкие кольчуги стражника. Ворота тяжело, со скрипом, открылись, и всадники, не останавливаясь, въехали на небольшую, тесно заставленную строениями площадь.
Хомуне сразу бросились в глаза даже не строения и не детинец, возвышавшийся справа, а родник на краю площади, у самой башни, недалеко от ворот. Неведомым путем вода сумела пробиться из каменных недр в самую высь и прозрачной струей вытекала из небольшой глиняной трубы в деревянное корыто, а затем отводилась такими же трубами куда-то в глубь крепости.
К детинцу, где находились дом князя и небольшая церквушка, прямо от ворот было не проехать, все завалено камнями — подновляли стену, — и посол Бакатара повел гостей кружным путем, по узким улочкам, между приземистыми, но длинными домами, протянувшимися вдоль крепостной стены, и княжескими конюшнями. В дальнем углу располагалась покрытая копотью кузница, тут же стояли двухколесные арбы, груженные плетеными сапетками с рожью, ячменем, просом и кукурузой, тушами заколотых животных, бревнами. Напротив, под навесом, скорняки выделывали бараньи шкуры, оттуда тянуло острым запахом кожи.
То ли посторонние люди редко бывали в крепости, то ли аланов привлекли яркие, роскошные одежды Омара Тайфура, но кузнецы и скорняки прекратили работу и молча уставились на иноземного купца.
Чуть в стороне Хомуня увидел еще один небольшой родник. Вода вытекала прямо из небольшого углубления между камнями и слабым ручейком уходила мимо скорняжной под стену крепости. У родника, присев на корточки, женщина в черных строгих одеждах ковшиком наливала воду в большой кувшин. Она лишь мельком взглянула на приезжих.
Через узкие ворота въехали в княжеский двор. Бакатар, встретивший гостя у порога, оказался веселым и гостеприимным человеком. То и дело приглаживая широкие усы, он громко смеялся, и смех этот был довольно приятным. Князь часто заглядывал гостю в глаза, будто хотел удостовериться, правильно ли понял его собеседник. После взаимных поклонов и приветствий пригласил Тайфура к столу, уставленному дымящимся мясом, фруктами и напитками.
Во время обеда Хомуня стоял позади Тайфура, часто сглатывал слюну, толмачил машинально, почти не вникая в смысл беседы. Омар рассказывал князю о Херсонесе и Трапезунде, о землях, расположенных в низовьях Куфиса, о людях, населявших эти земли. Бакатар слушал внимательно, лишь изредка задавал купцу вопросы, интересовался обычаями народов, их правителями. Но когда узнал о намерении сарацина идти в Дербент, встревожился:
— Тебе не следует идти в Дербент, — торопливо перебил он гостя. — Потеряешь не только караван, но и жизнь.
Омар Тайфур вопросительно посмотрел на Бакатара.
— Ты мой гость. Я не могу желать тебе зла. К Железным воротам сейчас идти опасно. Дербент пал. Его разрушили монголы — кочевники, пришедшие с востока. Я не знаю людей более жестоких, чем они. Убивают не только мужчин, способных держать в руках оружие, но и женщин, стариков и детей, грабят жилища. Что не в силах унести с собой, предают огню. Их тумены уже вторглись на земли степной Алании. Мы готовимся наглухо закрыть монголам путь в горы.
— Что же мне делать? — пораженный известием, тихо спросил Тайфур.
Князь пожал плечами.
— Может быть, тебе повернуть на север, через половецкую степь — на Русь? Я знаю купцов, которые выбрали именно этот путь. Считают, что с Русью торговля выгодна. Да и половцы сейчас не опасны, купцов не трогают. Хоть и кочевники они, а ищут союз против монголов с нами и русичами.
Едва князь произнес слово «Русь», у Хомуни тревожно забилось сердце, ладони покрылись потом, задрожали колени. Он еле сдерживал себя, чтобы не упасть Тайфуру в ноги и молить, молить купца повернуть на север. Только бы ступить на родную землю, подышать ее воздухом, услышать русскую речь, а там — свобода или смерть… Слезами наполнились глаза Хомуни. «О, святая Одигитрия! — беззвучно шевелил он губами и, просунув руку под рубаху, прикоснулся к висевшему на шелковом шнурке бронзовому кресту — энколпиону с изображением богоматери Одигитрии с младенцем. — Спасительница, заступница моя! Дай силы рабу твоему выдержать и это испытание».
Хомуня острой гранью креста резко, сколько силы было в руке, царапнул по груди. Боль помогла подавить слабость, собрать волю и спокойно, не дрогнувшим голосом, перевести на арабский слова князя. Хомуня толмачил и ощущал, как его собственная кровь из раны медленно стекает по животу.
Бакатар мельком взглянул на Хомуню, чуть замешкавшегося с переводом, и продолжил:
— Можно отправиться и на юг, через горы. По Инджик-су поднимешься на плато Аркассара, через урочище Пхийя и перевал Ачарар выйдешь в ущелье реки Гумисты и спустишься к Севастополису. А там — рядом и Трапезунд. Но для каравана это слишком трудный путь. Можешь много потерять и рабов и ослов. Если вьюк упадет в пропасть — не достанешь. Да и торговли хорошей предсказать не могу. В Севастополис много морем привозят товару всякого, — Бакатар помолчал немного, заглянул в глаза Омару Тайфуру и добавил: — Через Клухорский перевал идти легче. Но ты не ходи туда. Выше по ущелью правит кровожадный Пазар, мой враг, он убьет тебя.
— Спасибо за совет, князь, — Тайфур встал из-за стола, — я подумаю, какую дорогу выбрать. Только скажи мне, за что Пазар может убить меня?
Бакатар усмехнулся, пригладил усы.
— За то, что я принял тебя как гостя и оставил в живых.
* * *
На обратном пути Хомуня жевал лепешки с сыром, которые сунул ему на прощанье слуга Бакатара, и все молил и молил бога, чтобы купец пошел торговать на север.
В караван-сарае после краткого сна Тайфур велел Аристину, охранявшему покой своего хозяина, позвать к себе русича.
Хомуня вошел и молча поклонился Омару Тайфуру.
— Садись, — купец указал на коврик, разостланный у входа в комнату. — Расскажи мне о Руси, какая она?
— Прости, мой господин. Сумею ли? Тридцать семь лет прошло, как продали меня в рабство.
— Вспомни о городе, в котором жил. Все, что помнишь, о том и рассказывай. Время у нас есть. В путь тронемся только завтра.
Хомуня, обрадованный надеждой, поклонился Тайфуру.
— Слушаюсь, мой господин.
Купец подложил под локоть подушку, подтянул ближе кувшин с шербетом, приготовился слушать.
Хомуня тяжело вздохнул.
— Правду говорят, что раб — это живой убитый. Жизнь моя прекратилась еще там, где набросили на меня аркан. И если душа моя до сих пор не рассталась с телом, то только потому, что не порвались нити памяти с тем далеким временем, когда я твердо ходил по родной земле.
Казалось бы, что я сделал для Руси? Ничего. Даже меч свой как следует не обагрил кровью ее врагов. Русь же до сих пор щедро питает меня все эти годы. Питает надеждой, дает стойкость душе, помогает вынести все муки, не сломаться.
Порой мне кажется, будто земля обширна, как пустыня, и холодна, как снег в горах. Все, что происходит со мной и вокруг меня, — длинный и тяжелый сон, в который я погружен Дивом, умыкнувшим мою душу и удалившим ее от бога. И только изредка, чтобы усилить мои страдания, он переносит меня памятью на Русь — сказочную и великую, теплую и ласковую, как руки матери. И тогда я воочию вижу землю, пропитанную запахами моего детства и юности, поросшую злаками и травами; Залесье, стольный град Владимир, а рядом — село Боголюбово, светлое, словно умытое водами тихоструйной Нерли и Клязьмы; и людей, приветливых, добрых и сильных; вижу и другие города с величественными церквами и высокими теремами, сотворенными искусными руками русских мастеров. И снова туман застилает глаза. Что есть мочи пытаюсь разорвать пелену, но тщетно. Лишь сердце стонет от тоски и бьется, как у малой пичуги, зажатой в ладони.
Разве можно понять, где сон, а где явь?
В эти минуты я снимаю с груди крест — он один остался у меня светлой памятью о Руси, об отце и матери, под его створками — кусочек земли и засохшая травинка из села Боголюбова, — и целую отлитое киевским мастером изображение богоматери Одигитрии и успокаиваюсь, снова обретаю веру — путеводительница поможет разорвать путы Дива, даст силы выдержать испытания и вернуться на родную землю. Только надежда и способна продлить дни нашей жизни. Иначе каков смысл в мучениях?
Этот и еще один почти такой же крест привез из похода на Киев отец мой, Козьма, летописец и словутный воин, старшой дружины Андрея Юрьевича, великого князя владимирского, прозванного у нас Боголюбским. Хоть и не боярского рода мой отец, но близким был человеком великому князю. И не только ему. И князю Игорю Святославичу. В те годы Игорь еще не получил удела на княжение, водил в походы чужие полки. На Днепре отец с воинами обоих князей бок о бок бился против киевской рати, «согжоша и грабиша два дня весь град Подолье и Гору, и монастыри, и Софью», — так после похода записал он в летописи.
Почему князь Андрей воевал Киев? Хотел самолично править Русской землей, чтобы все удельные князья по его воле ходили, а они-то сами желали быть великими и чинили раздоры. Князя Андрея страшила «тьма разделения нашего». По молодости он считал, что лучше добрая война, чем худой мир. Вот и старался мечом примирить непокорных. Только одного не разумел он: когда друг о друга слоны трутся, то между собой комаров давят.
Второй крест достался брату моему, Игнатию, одногодку Юрия, сына великого князя Андрея. Дружны были в детстве княжич с Игнатием. Вместе играли, ходили учить грамоту в церковь Покрова, поставленную Боголюбским против княжеского дворца, на реке Нерли. Позже и я постигал там книжную мудрость.
Я любил эту церковь. Небольшая, с золотою маковицей и узкими, словно прорезанными в камне, окнами, она легко вознеслась над высоким холмом, насыпанным мастерами у самой воды.
Весной, когда Нерли выходит из берегов и холм превращается в остров, церковь становится похожей на большую нарядную ладью, и плавно парит над спокойной гладью реки. А кругом — одетые в буйную зелень, с голубыми, красными и желтыми цветами, поречье, широкие луга, темные ельники и дубравы.
Рядом с храмом тихо и покойно. А в солнечные дни он светится особенно ярко, будто зовет к себе русичей, стремится укрыть их под своими сводами — то ли пришли они с разоренного половцами юга, то ли с холодного севера — и напомнить всем, что «путь их един, как един и язык».
Имя свое этот храм носит в честь особого праздника, который ввел Андрей Боголюбский во славу победы над булгарами, не пускавшими вниз по Волге ладьи с товарами русских купцов в Грузию. Эту победу он одержал первого октября лета 6672-го вместе с рязанскими, муромскими и смоленскими князьями. Говорят, что князю Андрею привиделось, будто Богородица сняла с головы свое пурпурное покрывало и простерла его над Залесьем, над Владимиром и Суздалем, и даровала победу над булгарами. С тех пор-то и начал звучать во всех русских церквах в молитвах и песнопениях призыв к единству Русской земли, в коем осуждалась, как говорил князь Андрей Юрьевич, «тьма разделения нашего».
Первую смерть я увидел, когда мне минуло пять лет. Все мы жили при дворе князя Андрея. В доме у него постоянно теснились дружинники, мастеровые, художники, холопы, наезжали бояре, послы удельных князей, иноземные гости. Но перед той кровавой ночью лета 6682-го было тихо и пустынно…
2. Хомуня
Козьма, дожидаясь княгини Улиты, стоял подле ворот, держал под уздцы оседланных лошадей и хмуро поглядывал на окно, за которым как раз и располагалась ложница госпожи. Князь Андрей приказал сопроводить княгиню во Владимир, но Козьме не хотелось ехать туда. И не потому, что недолюбливал эту непутевую дочь боярина Кучки, ставшую женой Андрея Боголюбского. Козьму беспокоила неизвестность, не ведал он, когда княгиня изволит отпустить его обратно в Боголюбово. А ему непременно надо было вернуться засветло. На завтра, на воскресенье, в день святых апостолов Петра и Павла, назначены постриги Хомуне, младшему его сыну.
Князь Андрей сам обещался быть крестным отцом, отвести Хомуню в церковь Покрова, куда к назначенному времени подойдет и Арсений, игумен пустыни святых Козьмы и Демьяна. Арсений прочтет молитву, предназначенную на первое стрижение волос у детей мужского полу. Соберутся гости, и Козьме надо было заранее подготовиться к встрече. Дело серьезное. Настало время сыну переходить из рук женских в мужские, предстоит в первый раз самостоятельно ехать верхом на коне, вступить в бытие гражданское, в чин благородных дворянских всадников.
Козьме наскучило впустую водить глазами по окнам княжеского дома, он отвернулся и взглянул на церковь, которая высилась неподалеку от ворот, улыбнулся. Ему представилось, как добросердечный Арсений — высокий, худой и нескладный, с тонким и длинным носом, за что многие и зовут его Дятлом, — будет взирать на маленького, с наперсток, Хомуню и громоподобным басом, нараспев, читать молитву: «Заповедывай нам ся во славу Твою творити, пришедшего раба твоего начаток сотворити стрищи власы главы своея, благослови вкупе с его восприемником…»
Козьма не заметил, как откуда-то сзади подобрался к нему Хомуня и уцепился за ножны меча.
Задрав подбородок, Хомуня, не мигая белесыми, как и у самого Козьмы, ресницами, пристально и долго глядел отцу в глаза. Длинные светлые волосы его, повязанные синеватой, выгоревшей лентой, трепал ветер, щекотал ими обсыпанное конопушками лицо. Но Хомуня, как завороженный, не обращал на то внимания. Заранее зная, что отец не возьмет его с собой, попросил твердо, словно приказал:
— Я хочу с тобой, батяня. Посади меня в седло.
Козьма расплылся в улыбке, наклонился к сыну, взял на руки.
Хомуня крепко обхватил шею отца и уткнулся лицом в его мягкую, пахнувшую медом и травами, коротко подстриженную бороду. Эти запахи особо остро он чувствовал, когда отец приходил из бани. Хомуню и самого мать купала в настое разных трав, но борода отца, казалось ему, всегда пахла по-особому. Он даже как-то спрашивал об этом, почему так происходит. Отец усмехнулся и ответил, что после постригов Хомуня будет ходить в баню не с матерью, а с ним. И тогда они станут мыться в одной воде и пахнуть будут одинаково.
Хомуня отстранился от бороды отца и снова посмотрел ему в глаза, ждал ответа.
Козьме не хотелось, чтобы сын расплакался от обиды, но не придумал, чем утешить его. Вздохнув так, словно и самому хотелось, чтобы Хомуня вместе с ним ехал во Владимир, Козьма тихо, чуть дрогнувшим голосом, сказал:
— Нельзя, Хомуня. Я жду княгиню. К тому же вечер скоро, куда ж тебе, на ночь глядя? — и будто вспомнив самое главное, поспешно добавил: — Завтра, после постригов, ты сам поедешь верхом. Теперь у тебя будет собственная лошадь. Она уже в конюшне. Найди в молодечной Прокопия, попроси показать.
Что постриги назначены на воскресенье, Хомуня знал и давно ждал этого дня. Волосы мешали ему. И мальчишки, те, что постарше, говорили обидные слова, обращались с ним так, словно он девочка. Но о коне Хомуня услышал впервые. Обрадовавшись, он быстро выскользнул из рук отца и побежал искать Прокопия.
В своем воображении Хомуня уже видел этого коня, тот рисовался ему могучим, сильным, с огромной густой гривой и почему-то обязательно с красным седлом и желтой, расшитой золотом, попоной. Он с наслаждением представил, как сейчас погладит шею коня, заранее чувствовал ладошкой гладкую и теплую шерсть. Но тут Козьма неожиданно вернул Хомуню. И тот снова, задрав вверх подбородок, смотрел на отца не мигая, лишь нетерпеливо, как жеребенок, переступал ногами.
— Хомуня, ты еще успеешь к Прокопию. Сначала сходи во дворец, к княгине Улите, поищи ее в ложнице. Скажи, что кони готовы.
Хомуня кивнул головой, повернулся и засверкал пятками к дворцу. Хомуня торопился, беспрестанно спотыкался о высокие ступени, опирался на них руками, и тогда уже на четвереньках одолевал крутые лестницы.
Перед дверью, что вела в ложницу княгини, Хомуня приостановился, перевел дух, потом несмело потянул за массивную бронзовую ручку — тупой крюк с узорами и небольшим шишаком на конце.
Посреди светелки, недалеко от окна, княгиня стояла в объятиях ключника Анбала, ясина родом, и не сразу заметила переступившего порог Хомуню. А увидев, резко оттолкнула от себя ключника, так, что тот, налетев на скамью, чуть не упал на пол, удержался за спинку кровати, стоявшей рядом, у стены. Княгиня быстро оправила платье и молча устремила глаза на мальчишку.
Хомуня, как и учили его, низко поклонился и смиренно сказал:
— Госпожа княгиня Улита, кони готовы.
— Хорошо, отрок, ступай, — спокойным голосом приказала она. — Я сейчас спущусь во двор.
Хомуня взглянул на ключника, испугался его темного злого лица и стремглав, под громкий смех княгини, выскочил из ложницы. Улита что-то говорила Анбалу, но Хомуня не прислушивался, вприпрыжку сбегал по ступеням.
Вернувшись во двор, он издали крикнул отцу, что княгиня скоро придет и, не останавливаясь, помчался к молодечной.
Козьма поднял глаза — и в раскрытом окне княгининой ложницы увидел Анбала. Ключник, проследив за Хомуней, тотчас скрылся в глубине комнаты.
Козьма сердито сплюнул под ноги. Люди давно уже судачат о бесстыдстве ключника и княгини, но никто не решается сказать об этом Боголюбскому. А тот, то ли и в самом деле не замечает, как насмехается над ним княгиня, то ли делает вид, что в доме царит такой же покой, как и в прошлые годы, до казни Кучковича, старшего брата Улиты, учиненной за измену князю Андрею.
Чем ближе к старости, тем все меньше и меньше становится у князя людей, на которых можно положиться. Как-то сразу один за другим начали умирать его братья и сыновья. Теперь у князя остался всего один наследник, Юрий, самый младший его сын. Да и тот сейчас далеко, посажен на княжение в Новгороде Великом. Там же, при юном княжиче, служит и Игнатий, старший брат Козьмы.
Искусных воевод тоже не стало у князя, некому теперь водить его дружины в ратные походы, выигрывать сражения. Между тем, враги совсем перестали скрывать свои помыслы, в открытую восстают против Андрея.
А он только тем и занимается, что строит храмы, дворцы, города. Со всех русских земель собрал каменотесов, художников, всяких мастеровых людей, не жалея злата и серебра платит им за труды их великие. Оградил город Владимир земляными валами, высокими частоколами, крепкими, рубленными из дуба, грозными башнями. Поставил Золотые ворота, на самом высоком месте новой столицы заложил Успенский собор, да такой, чтобы своим величием мог соперничать с главным храмом Руси, прекрасной Софией Киевской. Организовал книгопечатание. Переписчики сначала посмеивались: ничего, дескать, из этой затеи не выйдет. Но князь Андрей своего добился, первые печатные книги передал в Успенский собор и в храм Покрова.
Растет Владимир, заложенный дедом Андрея, великим Мономахом, встречает каждого путника колокольным звоном многочисленных церквей. Диву даются иноземные гости, особенно те, которые прибывают в город не в ладьях, а ведут караваны прямым путем, через степи и дремучие леса. Праздничный перезвон обрушивается на них сразу, как только расступится лес и откроется широкая болонь Клязьмы, и сама река, и белокаменный город на ее берегу. А над ними — Успенский собор, огромный, словно сказочный богатырь с золотым шеломом на голове. Он зорко смотрит и на восток, и на запад, и на юг, и на север, бдит землю русскую, готовый созвать ее полки на всякого ворога, кто переступит границу.
В Боголюбове князь Андрей не дает стареть своему любимому детищу — церкви Покрова на Нерли. Украсил ее патами, золотом и финифтью, драгоценными каменьями и жемчугом. Столпы и ворота от верху до долу так же приказал оковать золотом, лучшим мастерам велел изготовить для храма многоценные сосуды и кубки.
Храмы божьи великий князь строит превосходные, а в доме своем и в княжестве порядка навести не может. После казни брата княгиня все чаще и чаще стала уезжать во Владимир, неделями жила у Петра, Якимова зятя. Яким теперь за старшего у Кучковичей, командует всеми, словно князь.
Следом за княгиней к Петру зачастил постельник Ефрем Моизович, а потом потянулся к Кучковичам и ключник Анбал. Никто не знал точно, чем они там занимались, но вскоре в Боголюбово прошел слух об особом предрасположении княгини Улиты к ключнику.
Козьме обидно было за своего любимого князя, но вмешиваться в его семейные дела считал делом недостойным, ожидал, что перебесится княгиня, остепенится. Да и братья ее, которые, несмотря на измену старшего, все так же пользовались особым расположением и доверием Андрея Боголюбского, обласканы им большими наградами. Они-то должны были заметить недостойные поступки сестры, пресечь блудницу, отвести позор от княжеского дома.
Такие тяжкие думы угнетали Козьму, пока не подошла сама княгиня. Она была в добром расположении духа, говорила с Козьмой приветливо, улыбалась и не прятала глаза. Сомнения Козьмы от этого как-то сразу развеялись, показались напрасными. Он помог Улите подняться в седло, махнул рукой отряду младших отроков, дожидавшихся выезда княгини в тени под старым дубом, и двинулся следом за госпожой.
Улита оглянулась, увидела, что Козьма выстроил всадников походной колонной, по трое в ряд, приказала самому ехать рядом с ней.
Она сокрушалась и жаловалась Козьме, что князю Андрею опять стало нездоровиться, самой приходится иметь дело с боярами, решать дела великого княжения.
И действительно, к их приезду в доме Петра собралось около двадцати знатных вельмож, но все больше — Кучковичи и их друзья. А после захода солнца сюда же прибыли ключник Анбал и постельник Ефрем Моизович. О чем они говорили там, собравшись в повалуше, верхнем жилье дома, — неведомо. Боярские слуги чужих туда не пускали.
Козьма бесцельно бродил по застроенному клетушками, тесному от избытка сараев, навесов, амбаров и балаганов боярскому двору и не находил себе места. В душу опять стучалась тревога и сжимала сердце, давила его.
К ночи тревога опять исчезла сама, помимо его воли. Это случилось после того, как уехали Анбал и Ефрем, а следом за ними и Кучковичи, чуть захмелевшие, вышли и громко начали прощаться с княгиней. Разъехались, как показалось Козьме, всяк в свою сторону.
Проводив бояр, княгиня подошла к Козьме и приказала никуда не отлучаться. «Ранним утром, — сказала она, — поедем обратно». Вот тогда Козьма и успокоился, зашел в людскую, прилег на широкую скамью и уснул.
* * *
Хомуня в молодечной Прокопия не застал, и никто из дружинников толком не мог сказать, куда он отлучился. Хомуня выскочил во двор, кинулся к воротам, но и отца уже не было.
Проглотив обиду, Хомуня сам отправился в конюшню. Было бы кому пожаловаться, может быть, и расплакался. Но что же слезы лить понапрасну, если помощи все равно ждать не от кого. Да и отец не раз говорил, что плакать перед постригами — самое последнее дело, совсем не мужское. Хомуня лишь крепче стиснул зубы и прибавил шагу.
* * *
Княжеская конюшня вытянулась вдоль высокого забора, за часовней и небольшим садом, почти у самой Нерли. Передние ворота были закрыты на массивный деревянный засов, но Хомуню это не смутило, он не раз уже пользовался дырой, прорубленной у порога.
В длинном сумеречном помещении пахло конским навозом, сеном и лошадиным потом. Конюшня была почти пуста. Лишь в дальнем углу ее, у распахнутых настежь вторых, задних ворот, яркое солнце косыми лучами высвечивало у ясель несколько коней. Там же серой тенью промелькнул человек и скрылся за крупом лошади.
Хомуня подошел ближе и увидел Прокопия. Тот старательно, щеткой, чистил кобылу, длинноногую, серую в мушках, или, как говорят дружинники, в горчице, — в мелких крапинах, какие появляются на боках, когда лошадь начинает стареть. От самой бабки до колена задняя левая нога кобылы почти сплошь была покрыта темной шерстью, словно надели на нее меховой старый чулок. И еще одна примета бросилась в глаза: левое ухо лошади было наполовину отрезано — то ли след былых сражений, то ли отсекли ухо по какой другой причине.
Увидев Хомуню, Прокопий выпрямился, подмигнул ему.
— Хорошо, что пришел, Хомуня. А то я совсем замаялся. Поможешь мне?
Хомуня уставил на Прокопия широко открытые голубые глаза, не знал, что ответить. Он не против помочь, но сначала хотелось бы увидеть своего коня. Неуверенно потоптавшись, Хомуня отступил в сторону, оглядел стоявших рядом лошадей, опустился на корточки, зачем-то заглянул им под ноги.
— Ты чего ищешь?
Хомуня поднялся, подошел ближе.
— А где мой конь, Прокопий? Отец сказал, что ты мне покажешь его.
— Вот он, перед тобой. Готовлю к завтрашнему дню. — Прокопий достал из кармана кусок хлеба, протянул Хомуне. — Возьми, покорми Серую, пусть привыкает к тебе.
Хомуня взял у Прокопия хлеб, но не спешил отдать его лошади, разочарованно смотрел на кобылу, на ее не такую уж густую и совсем не длинную гриву, как ему представлялось.
Кобыла словно догадалась, что люди заговорили о ней, переступила ногами и повернула голову, будто давала Хомуне возможность рассмотреть себя лучше, чтобы понравиться новому маленькому хозяину. Почувствовав острый запах кисловатого хлеба, она потянулась к нему мордой.
Хомуня испуганно отдернул руку. Лошадь недовольно фыркнула, опустила голову, всем видом показывая, что обиделась. Потом опять потянулась к хлебу.
Хомуня увидел ее темные, с фиолетовым отливом, немного грустные глаза, и ему показалось, что лошадь смотрит на него укоризненно. Хомуне жалко стало Серую. Он неуверенно и боязливо протянул ей хлеб. Кобыла зашевелила ноздрями, чуть оттопырила большие черно-красные губы, крупными желтоватыми зубами попыталась достать душистый ломоть. Хомуня опасливо отдергивал руку, пока, наконец, не осмелился вложить хлеб в ее приоткрытый рот.
— Молодец! — похвалил Прокопий. — Там, на солнце, сушится еще кусочек, принеси ей.
Хомуня кинулся к воротам, в самом углу, на лопушке, нашел небольшой ломоть мокрого, слегка заплесневелого хлеба и вернулся к Серой. Прокопий показал, как на раскрытой ладошке, не опасаясь за свою руку, подавать лошади лакомство.
Теперь у Хомуни все получилось быстрее и спокойнее. Преодолев страх, он погладил кобыле храп, потом маленькой ладошкой прикоснулся к ее груди. Серая ткнулась мокрыми, теплыми губами в шею Хомуне, отчего он вздрогнул и отдернулся. Но кобыла не сделала больно, только пощекотала за ухом. Хомуня рассмеялся и благодарно посмотрел на Прокопия. В эту минуту он уже не только смирился, что лошадь оказалась не такой, какой представлял ее в своем воображении, но и успел полюбить. И когда Прокопий спросил, нравится ли ему Серая, Хомуня радостно кивнул. Теперь она была для него самой лучшей лошадью на свете и ни на какую другую он не согласился бы ее променять.
Солнце клонилось к закату, когда они с Прокопием закончили чистить Серую. Посвежевшая, она уткнулась в ясли и только изредка поднимала голову, посматривала на Хомуню и Прокопия.
— Ты иди, а то мать, наверное, заждалась, ищет уже, — сказал Прокопий и проводил своего помощника к воротам. — Ступай, ступай побыстрее.
Хомуня вприпрыжку бежал через сад, мимо часовни, радовался жизни, хорошему дню, а главное — необыкновенной лошади, которую ему подарил отец к завтрашним постригам, радовался тому, что его, наконец, скоро причислят к мужчинам, и у него будет не только собственная лошадь, но и свой, хотя и маленький, меч и настоящее седло, обещанные Прокопием.
Хомуня свернул за угол часовни и нечаянно налетел на огромного человека, ударил его головой. Охнув, тот чуть присел от неожиданности и тут же накрыл Хомуню то ли плащом, то ли мантией, крепко, обеими руками, прижал его голову к себе, так, что трудно было дышать. Пытаясь вырваться, Хомуня яростно колотил своего мучителя по животу.
— Ага! Попался, пардус этакий! Признавайся, разбойник, что утворил на сей раз?
Хомуня узнал грозный голос князя Андрея, испугался, перестал молотить его кулачками — и князь сразу отпустил пленника, слегка отстранил от себя.
Вытирая рукавом взмокший от напряжения лоб, Хомуня подумывал, как быстрее убежать от князя, но, увидав его доброе улыбающееся лицо, успокоился.
— К маме хочу, — насупившись ответил он.
— Вот те на! Чуть князя с ног не сбил и на него же обиделся, — князь опустился на корточки, пристально посмотрел Хомуне в глаза. — А еще собираешься стать моим отроком, дружинником. А того не ведаешь, что у сердитого губа толще, а брюхо тоще.
— Не-ет, — смягчился Хомуня, — не обиделся. Ты голову мне придавил.
Князь продолжал улыбаться, и Хомуня окончательно позабыл обиду, с интересом смотрел на его редкую, тронутую сединой бороду, доброе, изрезанное морщинами лицо с узкими, как у половцев, темными глазами. Потом и сам улыбнулся.
— А у меня конь есть, настоящий. В конюшне.
— Правда? — удивился князь.
— Да. Кобыла, Серая зовут ее. Прокопий мне завтра меч даст и седло.
— Ну, тогда обязательно возьму тебя отроком в младшую дружину. Подрастешь — пойдешь половцев воевать.
Хомуня согласно кивнул. Князь поднялся, взял его за руку.
— Пойдем ко мне в горницу, отрок. Вместе поужинаем. Голоден, наверное?
Хомуня сглотнул слюну, зашагал рядом с князем.
У каменной лестницы, ведущей в господские покои, Хомуня нерешительно остановился, поднял голову.
— Мама заругает. Уже ищет, наверное.
— Не заругает, кого-нибудь пошлю к ней.
В ожидании, пока подадут на стол, князь Андрей сидел напротив Хомуни и думал о том, что к старости ему становится все более одиноко. И не только оттого, что растерял детей, нет внуков. Один сын у него всего лишь и остался.
У каждого ростка — своя жизнь. Мстиславу, старшему сыну, суждено было еще в молодые лета умереть от ран, полученных в военном походе за отчину. Вспомнив об убиенном, князь Андрей перекрестился и еще раз уверился в мысли, что в том оно и есть предназначение Мстиславово — не дожить до зрелого возраста, отдать земле своей все, что дано было ему богом и родителями. В битве с булгарами сложил голову и Изяслав.
Боголюбский посмотрел на Хомуню. Тот, не спрашивая, подтянул к себе раскрытую книгу — «Поучение Владимира Мономаха», переписанное для князя Козьмой, — и сосредоточенно начал рассматривать рисунки, зашептал еле слышно, складывая слова.
Глядя на отрока, князь Андрей взгрустнул по своей молодости. И не то чтобы хотел вернуть себе давно минувшие годы, заново стать унотом, вроде Хомуни. Об этом он не помышлял. Считал, что жить заново — все равно, что сполна насытившись, сразу садиться к другому столу: пища ни глаз не радует, ни утроба ее не приемлет.
Взгрустнулось потому, что за годы своего великого княжения так и не сумел сделать, что замышлял, — собрать всю Русскую землю в единую отчину. А теперь, в шестьдесят три, уже не сотворишь того, что под силу было в сорок пять лет. В те времена князь Андрей отдавал себя делу, которое начал еще в молодости, сплошному заселению русскими людьми пустующих земель Залесья. Хоть и давно в этих местах выросли Ростов, Ярославль, Суздаль, но в селах, довольно редких в междуречье Оки и верхней Волги, жили в основном иные люди, мирные финские племена: мурома, весь, меря. Народ этот тихий, приветливый, поклонялся своим и славянским языческим богам, русичи охотно селились рядом, роднились с ними, вовлекали их в христову веру — только она и вызывала между ними споры, — брали их девиц в жены, отдавали им своих дочерей, заводили общее хозяйство.
Еще при отце Андрея, при Юрии Долгоруком, получившем от Мономаха в управление Суздальскую землю, или, как теперь стали называть, — Белую Русь, потянулись-сюда теснимые половцами новые поселенцы. Рядом с древними русскими городами разрослись новые — Кснятин, Москва, Юрьев. А потом и Димитров, названный так в честь Дмитрия-Всеволода, младшего Андреева брата, родившегося у Долгорукого прямо во время полюдья, когда тот вместе с непраздной женой объезжал свою волость, собирал дань.
При князе Андрее выросли и окрепли Боголюбово, Тверь, Городец-на-Волге, Кострома, Стародуб-на-Клязьме, Галич, Звенигород, село Киево на Киевском овраге. Заселяя новые земли, люди приносили с собой старые названия, привычные им по южной Руси.
Как раз в те годы у князя и появился на службе Козьма, отец Хомуни, муж не только храбрый, но и способный к книгописанию. Козьма прибыл в Залесье из самого Киева, оттого и закрепилось за ним прозвище — Кузьмище-Кыянин.
Два сына у Козьмы, Игнатий и Хомуня, а разнятся между собой, словно не одна мать родила их. В облике старшего — смесь русской и половецкой крови, младший — чистый русак, точная копия отца. В давние времена дед Хомуни и Игнатия по материнской линии ходил с князем Мстиславом — старшим сыном Владимира Мономаха — в ратный поход, захватил в полон дочь половецкого хана и женился на ней. От нее-то и достались Игнатию приметы половецкие. И не только приметы. И языку половецкому она обучила своих внуков. Мал Хомуня, но одинаково ему, что по-русски изъясняться, что по-тюркски.
Князь Андрей тоже не совсем похож на русича. И ему лицо досталось от матери, знатной половецкой красавицы. А нравом Андрей — настоящий северный князь, истый суздалец-залешанин, любил свою вотчину и никогда не стремился в Киев. Этим и отличался от Юрия Долгорукого. Тот, наоборот, почитал для себя честью владеть киевским столом, боролся за него всю жизнь. И добился великого княжения, одолев Изяслава Волынского, племянника своего.
В те годы Андрею было уже около сорока. И когда впервые приехал в Киев, к отцу, многие заметили, что во время ратных походов в удали он не уступает своим родственникам, молодым и пожилым князьям. В разгар сечи часто забывается, залетает в самую опасную свалку. Однажды в пылу не заметил даже, как с него мечом свалили шлем. Но обычно князя Андрея никогда нельзя застать врасплох, не терялся в самых неожиданных и сложных положениях. А вот после битвы, в отличие от других, быстро трезвел от воинского опьянения, сразу становился осторожным, благоразумным, мирным распорядителем, умел наклонять дела в свою пользу, кстати молвить и вовремя смолчать. Первым подступал к отцу и просил помириться с побитым врагом.
Юрий Долгорукий недолго княжил в Киеве. Изяслав Волынский добился победы и отобрал у него престол. Долгорукий расстроился, горько, по-детски плакал, сожалея, что ему приходится расставаться с великим княжением. Андрей переживал за отца, но не разделял его страсти к Киеву. Дело близилось к осени, и Андрей торопил его быстрее вернуться в Залесье: «Нам, батюшка, — упрашивал он, — здесь теперь делать нечего, уйдем-ка отсюда затепло».
После смерти Изяслава Юрий Долгорукий снова, теперь уже прочно, до конца дней своих, уселся на Киевском столе. Поначалу он оставил Андрея княжить во Владимире, который и городом-то не считался, а так, пригородом Суздаля. Потом приказал перебраться ближе к Киеву, в Вышгород. Чтобы всегда был рядом, а в случае смерти отца, без лишних помех мог бы занять, на правах старшего сына, великокняжеский стол.
Крут характером был отец, не терпел своеволия. Но Андрей крепостью не уступал родителю. К тому же отличался красноречием, любил посостязаться в мудрости и с отцом, и с иноземными послами, и с удельными князьями. Не вытаскивая меча, многих из них умел побудить вовремя отказаться от своих притязаний.
Но в главном своем помысле уговорить отца Андрей так и не смог. Много раз пытался ему доказать, что хоть и велик Киев, хоть и по праву зовется «матерью городов русских», а не может доле оставаться столицей Руси. Считал, что пора перенести ее в северные земли, в Залесье. И не только из-за бесконечных набегов половцев. Слишком лакомым кусочком стал Киев для братьев, племянников и всех родственников: «Вечно они в мятеже и волнении, все добиваются великого княжества Киевского, ни у кого ни с кем миру нет. Оттого все княжения запустели, а со стороны степи все половцы выпленили».
Но отец не мог жить без Киева, без прекрасной Святой Софии — главного храма Руси. Весь мир знает дорогу в этот великий город. А греки, армяне, евреи, немцы, моравы, венециане живут тут постоянно, своими поселениями. Влечет их сюда выгодная мена товаров и гостеприимство россиян. Как прожить князю без купцов? Где взять куны? Как без них содержать дружину?
Не убедил Андрей отца. Но от своего не отступился. Коль так получилось, решил сбежать от него. «Выкрал» из вышегородской церкви привезенную из Константинополя и поразившую его икону Богоматери с младенцем, надеясь, что она защитит его от отцовского гнева, меч Бориса, множество книг, и тайком ушел обратно в Залесье. От народа, однако, князь не скрывался. Наоборот, приказал укрепить икону на своей ладье так, чтобы лучше видна была людям. На каждой стоянке, на волоках, где ладьи перетаскивали из одной реки в другую, устраивал торжественные молебны, звал на них не только дружинников, но и жителей сел и городов, возле которых останавливался на отдых. Получилось так, что «тайная» дорога князя была четко означена часовнями и крестами, поставленными на местах молебнов, будто сама Богородица указывала людям путь в Залесье, где должна возродиться новая Русь.
Через два года Юрий Долгорукий умер и великим князем, как и положено по обычаю, стал старший из его сыновей, Андрей. Но он, на удивление всем, в Киев не возвратился, сделал своей столицей безвестный Владимир. Оскорбленные киевляне в растерянности ждали, что великий князь одумается, переменит свое решение. Но все же приехали поздравить Андрея. С тем же прибывали к нему и полоцкие, черниговские, курские князья, бояре Господина Великого Новгорода. Каждого человека Андрей встречал радушно, возил по Суздальской земле, показывал новые процветающие города и села, многих приглашал к себе на службу. «Я всю Белую Русь, — хвалился он, — городами и селами населил и многолюдной учинил».
А вот ростовские бояре и епископ их, будто и коренные залешане, возмутились. Приехали к Андрею скопом. Бородатые, молчаливые, смотрят в землю. Насильно подтолкнули вперед тысяцкого, Степана Кучку.
— Если ты, великий князь, считаешь, — от имени всех сказал, будто выдавил из себя, боярин, — что столица Руси должна быть в Залесье, то почему не в Ростове, в городе, принявшем крещение вслед за Киевом?
Князь Андрей сощурил и без того узкие половецкие глаза, улыбнулся, оглядел рассерженные лица бояр и подумал: «Коль вы, отмахав десятки верст, прискакали во Владимир только за тем, чтобы указывать мне, повелевать великим князем, то что сталось бы, поселись я в вашем городе?»
Князь Андрей, погасив улыбку, повернулся к иконе, опустился на колени и долго молился Богородице. Боярам делать нечего, последовали примеру князя. Окончив молитву, тот встал, повернулся к людям — на лице опять ласка и приветливость.
— Так и помышлял я привезти эту чудотворную икону, — князь снова обернулся к Богородице, трижды перекрестил лоб, — так и помышлял я, мудрые мои бояре, привезти лик Богородицы в старую отцовскую отчину, в Ростов. Но было мне видение. Уже здесь, на Суздальской земле, во сне явилась ко мне Богородица и сказала: «Не хощу, да образ мой несеши в Ростов, но во Владимир постави его». — Князь Андрей улыбнулся, кротко, будто виноват в том, что получил такое повеление, подошел к епископу, стоявшему чуть в стороне, и сказал тихо, но так, чтобы все слышали: — Я — раб божий. Как мне ослушаться воли пресвятой Богородицы?
Епископ благословил князя Андрея. А бояре потупили взоры — князь, может быть, и неправду говорит, но кто же рассудит? Никто, кроме самой Богородицы.
А что ж Киев? За него все так же продолжали драться князья. Андрей сначала не вмешивался в усобицы, только посмеивался, видя, как часто его родственники смещают друг друга на почетном столе. Но как только в Киеве объявился главный его соперник, двоюродный племянник, Мстислав Изяславович Волынский, направил туда войско. И не только свое, многие князья примкнули к Андреевой рати. И опять великий князь не стал занимать престол отца и деда. Отдал Киев младшему своему брату, Глебу, а после его смерти — ближайшим родичам, родным племянникам, Ростиславичам Смоленским. Старший из них, Роман, сел в Киеве. Младшие, Давид и Мстислав, — в ближайших от южной столицы городах.
Роман, при общем ликовании киевлян, помнивших справедливость и незлобивость его отца, торжественно отметил свое восшествие на престол, одновременно праздновал и победу, одержанную Игорем Святославичем Северским близ урочища Олтавы и реки Ворсклы над половецкими ханами Кобяком и Кончаком. Юный Игорь в знак уважения сам вручил Роману сайгат, за что, в свою очередь, щедро был одарен Ростиславичами.
Поначалу Ростиславичи мирно княжили в Киеве. А потом показали неповиновение великому князю. И тот сразу направил туда посла с грозным приказом: «Не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братией, так пошел вон из Киева, ты, Мстислав, вон из Белгорода, а ты, Давид, вон из Вышгорода; ступайте все в Смоленск и делитесь там, как знаете».
Посол возвратился оскорбленным: князья обрили ему голову и бороду, потом отпустили и велели сказать великому князю: «Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви; но если ты посылаешь к нам с такими речами, не как к князьям, а как к подручным и простым людям, то делай, что задумал, а нас бог рассудит».
* * *
— Бог всех рассудит, — неожиданно вслух произнес Андрей. Хомуня, испугавшись, вздрогнул, быстро отодвинул книгу.
— Читай, читай, — успокоил его князь.
Пока Андрей занят был своими мыслями, Хомуня с трудом одолел страницу. Не все поняв в мономаховых наставлениях, спросил:
— Князь Андрей, почему твой дед одних половецких ханов отпускал на волю, а других убивал?
— Чтоб мир был, отрок. Даже врагов своих не всех казнить надо, иначе великая ненависть будет между людьми.
— Потому половцы и не тронули Мономаха, когда он из Чернигова сквозь их полки с детьми и женами ехал?
— Все так, Хомуня. Но ты же не читал такого. Об этом на других листах писано.
— А я и так помню, отец много читал мне. Скажи, князь Андрей, и ты в тот раз с Мономахом ехал из Чернигова? Не боялся половцев?
— Эк хватил. Меня на свете еще не было.
В горницу с подносом вошла холопка, синеглазая молодая баба в длинном, расшитом ярким узорочьем платье.
Едва Хомуня успел отодвинуть книгу, холопка тут же поставила перед ним серебряное полумисье с кашей, гречневой рассыпчатой велигоркой.
— Нос еще мокрый, а туда же, за книгу берется. Грамотей, — прошептала она и потрепала стянутые лентой волосы Хомуни.
Князь Андрей встал из-за стола и направился к иконам. Хомуня бесшумно вскочил и тоже подошел к образам, висевшим в красном углу.
Пока молились, холопка успела принести еще два блюда. На одном лежали листья крапивы, лук, огурцы, на втором — щучина росольная с хреном.
Холопка отошла к дверям, привалилась спиной к косяку и, скрестив на груди руки, молча смотрела на князя. Потом перевела взгляд на Хомуню, спросила, явно обращаясь к Андрею:
— Может, унот хлёбово будет, чуток затирухи от обеда осталось? Так я быстро погрею.
Князь задержал ложку, посмотрел на Хомуню.
— Не-е, — набивая рот крапивой, отказался Хомуня. — Я щучины хочу.
Князь улыбнулся, потянулся за кашей.
После ужина, не успела холопка убрать со стола, вошел Прокопий.
— Садись, — указал ему на скамью Андрей. — Опоздал ты, мы уж и поесть успели.
— Я не голоден, князь. Спасибо.
— Ну, тогда почитай нам Мономаха. Глаза мои что-то плохо видят. Хоть и крупно Козьма написал, а плывет всё, будто сквозь воду гляжу на писанье это. А печатные книги давно уж и не открываю, слишком мелкие буквы сделали мастера. Только вам, молодым, и читать их.
Сгущались сумерки. Прокопий встал, от лампады зажег свечу, поставил ее так, чтобы виднее было.
— Что прочитать-то, князь?
— Любое поучение, открывай наугад.
Прокопий уселся удобнее, поставил еще ближе подсвечник, перевернул несколько страниц.
Читал он негромко, но торжественно, чуть нараспев, как и любил князь Андрей: «На войну вышед, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни денью не лагодите…»
Хомуня подвинулся к Прокопию, подсунул голову ему под руку, заставил обнять. Умостившись, внимательно слушал, пытался глазами следить за написанным: «Лжи остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол…»
Монотонное чтение убаюкивало разомлевшего от плотного ужина Хомуню. Изо всех сил пытался он всматриваться в книгу, найти нужную строку, но глаза уже ничего не видели, веки сами собой смыкались, голос Прокопия отдалялся, пропадал куда-то.
Временами Хомуня вздрагивал, будто бы просыпался, но глаз не открывал. Сквозь дрему доносился голос Прокопия: «…Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится…»
Когда Прокопий закончил читать, Хомуня уже крепко спал. Князь приказал Прокопию уложить отрока где-нибудь рядом, в любой горнице и самому ложиться там же.
— Все одно завтра утром вести мне его в церковь, — сказал князь. — Обещался я Козьме быть крестным отцом Хомуни.
— Какое же имя христианское даст ему отец Арсений? — спросил Прокопий. — Завтра ведь праздник святых апостолов, имена знатные, кто будет покровителем Хомуни?
Князь пожал плечами.
— Подберет. По мне — так и наши, русские имена, хороши. Есть же теперь и на Руси святые, Владимир хотя бы…
* * *
Ночью Хомуня просыпался редко. Вставал, когда солнце поднималось высоко. Если ленился, мать бранилась, стаскивала одеяло, заставляла студеной водою мыть лицо и сразу усаживала за стол. Хомуня быстро съедал свои неизменные кундюмы или гороховую лапшу с ржаным, ноздреватым хлебом, испеченным на квасной закваске, запивал, опять же, квасом, а иногда сбитнем, приготовленным на отваре лесных трав с медом, и бежал в церковь, где старый и добрый Арсений учил унотов грамоте.
На сей раз Хомуня проснулся до рассвета. То ли от того, что ему подстелили какую-то лохматую шубу и она непривычно щекотала голое тело, то ли было слишком жарко, и он сбросил с себя одеяло, а к утру похолодало.
Хомуня лежал на спине, беспокойно водил глазами по стенам и потолку, никак не мог понять, где находится, как его занесло в чужой дом. Особенно пугал негромкий, с легким присвистом, храп, который доносился до него откуда-то снизу. Если б то был отец, Хомуня узнал бы его, отец храпит громче, с переливами.
Хомуня осторожно повернулся набок и увидел, что горница, где он спал, довольно большая, в два окна. В оба глазасто смотрела ясная, словно начищенная песком и обмытая родниковой водой, луна, — нарисовала на полу длинные светлые полосы, похожие на разостланные холсты.
Осмотревшись, Хомуня увидел, что кроватью ему служат две придвинутые друг к дружке широкие скамейки. В той стороне, куда Хомуня лежал головой, стоял у стены длинный стол. Больше в горнице ничего не было. Хомуне со страхом подумалось, что ночью его выкрали из собственной кровати и перенесли сюда, в эту большую полупустую горницу, которая неизвестно где находится. Может быть, она далеко, за тридевять земель от Боголюбова, где-нибудь в тридесятом царстве, и никаких постригов теперь не будет. И неизвестно, что с ним сделает тот, который храпит с присвистом. Хорошо, если бы отец быстрее отыскал его здесь и забрал к себе.
Приподнявшись на локти и затаив дыхание, Хомуня подвинулся к самому краю своего ложа и осторожно глянул вниз. Увидел освещенного луной Прокопия — и от радости едва не вскрикнул. Прокопий лежал на полу, подстелив под себя темный войлочный ковер.
Только теперь Хомуня вспомнил вчерашний ужин у князя Андрея, тотчас узнал и горницу, а точнее — сени княжеского дворца. Вон та дверь ведет в Андрееву ложницу, эта — на крыльцо.
Успокоенный, Хомуня снова откинулся на спину, тихо засмеялся. Скоро взойдет солнце, наступит утро, и князь поведет его в церковь. Потом Хомуне обрежут волосы, подведут к нему Серую и Прокопий, а может, и сам князь, посадит его в седло. Соберется толпа, и Хомуня, прижавшись к гриве, не как прежде, у отца на коленях, — сам стрелой поскачет на глазах удивленного народа прямо в чистое поле, на луга, вдоль Нерли, а рядом — на своих конях — отец, Прокопий, князь Андрей.
В горнице внезапно потемнело, будто окна в миг задернули серым полупрозрачным покрывалом. Хомуня повернул голову и увидел, что луны уже нет, спряталась за редкое, как вычесанная кудель, облако. Через минуту опять заглянула в горницу и опять скрылась. Так повторялось много раз, и Хомуне показалось, что луна играет с ним в прятки. Хотя по правде, ей сейчас уже не до игр. С каждой минутой она бледнела, будто пугалась наступавшего рассвета, таяла. Но Хомуня не стал отказываться от игры, приподнялся, в ногах нашел скомканный плащ, накрылся им с головой, оставив только маленькую щель, чтобы подсматривать.
Как только луна заглянула в горницу, Хомуня резко отбросил плащ за спину. В тот же миг на крыльце негромко затопали, заскреблись в дверь, пытались открыть ее. Хомуня затаился, перестал дышать. Ждал, когда Прокопий проснется и выяснит, кто пришел. Может быть, воры какие. Но Прокопий все так же безмятежно спал и ничего не слышал.
На крыльце раздались приглушенные до шепота голоса, скрежет, старались поддеть запор.
Хомуня от страха прижался к стене, ему хотелось спрятаться, завернуться в плащ, но никак не мог вытащить его из-под себя. Потом все же кое-как прикрылся полой.
Светало быстро. Хотя солнце все еще скрывалось в далеком заречном лесу, но день уже вступал в свои права, торопился открыть тайны, высветить людские грехи. А может, сам господь решил изгнать из Боголюбова дьяволов, замысливших учинить здесь египетскую казнь, залить кровью андрееву землю, наслать мор на людей.
Наконец Прокопий проснулся, приподнял голову. Услышав скрип, кинулся к двери. В это время она распахнулась, в сени ввалились какие-то люди, ударили Прокопйя по голове, он вскрикнул, выпустил из рук меч и рухнул на пол.
Дьяволы — бояре Кучковичи и их сподручники — не боялись рассвета. Хомуня увидел, как двое из них спокойно наклонились над Прокопием, приподняли его и оттащили к стене.
— Это не князь, — тихо сказал один, и голос этот показался Хомуне знакомым. — Милостник его, Прокопий.
У Хомуни замерло сердце, тело покрылось липкой испариной, голова кружилась. Он судорожно, будто рыба, выброшенная на берег, разевал рот, пытаясь кричать, но голоса не было, лишь слабо сипело в горле, из глаз катились слезы.
Ворвавшиеся люди толпой кинулись мимо него к княжеской ложнице. Хомуня заметался на постели, искал, где надежнее спрятаться. Ему хотелось выскочить во двор, бежать к матери, найти у нее защиту. Но было страшно. На какой-то миг он даже потерял память и очнулся уже под скамейками, когда больно ударился головой о перекладину.
— Господин! Господин мой! Князь великий! — услышал Хомуня голос того самого человека, который оттаскивал Прокопия. Теперь он узнал его. Это — Кощей, княжеский отрок младшей дружины.
Хомуня лежал не шевелясь, лишь изредка размазывал по щекам слезы.
— Кто там? — за дверью сонно спросил князь Андрей.
— Прокопий я, княже! Прокопий.
— Прокопий? — переспросил князь. Помолчал секунду и крикнул громко, встревоженно: — Нет! Не Прокопий ты!
— Открывай, князь! — потребовал другой человек. — Хватит прятаться, не трус же ты!
Князь Андрей узнал этого, второго.
— Зять Якимов? — удивился он. — Петро? Почто ты уподобился Горясеру?
Кучковичи наперебой выкрикивали бранные слова, и Хомуня от страха закрыл глаза и зажал уши ладошками.
В соседней комнате, между тем, князь Андрей, окончательно поняв намерения Кучковичей, кинулся к кровати, где у изголовья всегда хранил меч Бориса. Но там оружия не оказалось. Андрей с ужасом вспомнил, что днем в ложницу несколько раз заходил Анбал, ключник его, переставлял что-то, прибирался. Он-то, значит, и выкрал меч.
— Иу-уда-а! — в отчаянии, потрясая кулаками, закричал Андрей.
Он заметался по ложнице, хотел натянуть на себя порты, но в тот же миг дверь затрещала и с грохотом упала к его ногам. В ложницу вскочили двое и, пораженные, застыли на мгновение.
Окно княжеской спальни было плотно завешено, не пропускало света. Лишь крохотный огонек теплился у образов, тускло высвечивал обнаженного князя, застывшего посреди комнаты. В полумраке его можно было принять и за Авеля, готового к смерти, и, наоборот, за слугу господнего, сошедшего на землю покарать грешников.
Пока Кучковичи стояли в растерянности, князь Андрей собрал силы и со всего маху двинул кулаком поднявшего на него меч. Охнув, тот присел, схватившись за голову.
В ложницу заскочило еще несколько человек, смешались, толкая друг друга. Огонек лампады потух. Не разобравшись в темноте, они вонзили меч в своего же сообщника, выволокли его в сени, к свету. А когда рассмотрели, с пущей злостью набросились на князя Андрея, каждый норовил достать его мечом или саблей.
— Разве мало я делал добра вам, разве было зло от меня? — падая на пол, воскликнул князь. — Пусть бог услышит и отметит за хлеб мой.
Кучковичи напоследок сапогами пнули обмякшее тело и выскочили в сени, подобрали своего раненого, вынесли во двор.
Едва они спустились с крыльца, Хомуня услышал, как тяжело застонал князь. Вскоре увидел и его самого. Обнаженный, почти сплошь покрытый кровью, он подполз к дверному проему, с трудом, держась за стену, поднялся и медленно, переступая как пьяный, направился к крыльцу. По ногам его стекала кровь, оставляя на полу темный широкий след.
Князю Андрею оставалось лишь переступить порог. Но он остановился, словно пытался рассчитать свои силы, потом обеими руками схватился за живот и дико взвыл от какой-то новой внутренней боли.
— А-а-а-а! — кричал он и все ниже и ниже наклонялся вперед, пока не уперся плечом в притолоку.
Князя Андрея тошнило, в животе у него горело огнем, будто насыпали туда углей. Он продолжал кричать даже тогда, когда изо рта его ключом ударила густая, перемешанная с кровью жижица.
Хомуня снова зажал уши руками и закрыл глаза. Он тоже выл и бился под скамейкой. Но кто мог услышать его, если кругом витала смерть? Убийцы? Так они лишены милосердия. Израненная душа Хомуни, казалось, покидала его тело, голос постепенно слабел, становился глуше, пока не исчез совсем.
У князя Андрея рвота, наконец, прекратилась. Постанывая, он ладонью вытер окровавленный рот, переступил порог и начал спускаться с крыльца. Когда сошел вниз, силы уже покидали его. Он проковылял еще совсем немного и присел на землю, обхватив прохладный, мокрый от росы столб, который оказался на его пути.
Кучковичи, услышав стоны и крики, вернулись и по кровавому следу отыскали князя.
— Господи, — простонал Андрей, — в руки тебе передаю душу мою. Прости грехи мои и удостой милостью, причти к избранному тобой стаду…
Убийцы вороньем набросились на умирающего князя, добили его. Когда отступили от мертвеца, Петр, зло усмехнувшись, подошел ближе, высоко поднял окровавленную саблю и с наслаждением, будто исполнял свое самое заветное желание, резким взмахом отсек от тела Андрея левую руку.
* * *
Во дворе затихло. Хомуня пошевелился, осторожно вытянул под скамейкой онемевшие ноги, расслабился и негромко зарыдал. Сквозь плач услышал стон Прокопия. Тот очнулся, пошарил вокруг себя руками, подобрал меч, кое-как встал на ноги.
На крыльце снова затопали, загомонили. Хомуня умолк. В ту же минуту в сени опять ворвались Кучковичи. Тот, кто бежал первым, удивленно вскрикнул, поразившись живучести обитателей этого дома, и с хрустом вонзил, меч в княжеского любимца. Прокопий снова упал, теперь уже бездыханный.
Кучковичи разбрелись по княжеским покоям и вскоре начали выносить оттуда золотую и серебряную посуду, шкатулки с драгоценностями, украшения, одежду.
До восхода солнца они успели погрузить награбленное на телегу, впрягли в нее Серую, подаренную Хомуне отцом, а вместе с ней и саврасого княжеского жеребца, вскочили в седла и исчезли, словно вампиры, досыта напившиеся крови.
* * *
И только после этого Хомуня выбрался из своего укрытия. Судорожно пытаясь сглотнуть подкативший к горлу комок, он с ужасом смотрел на окровавленный труп Прокопия, в отчаянии, даже не надев порты, босыми ногами ступил на крыльцо, сплошь покрытое кровью, увидел голое истерзанное тело князя, руку его, валявшуюся рядом, — и закричал громко, сколько оставалось сил в его ослабевшей груди. Истошно вскрикнув, он тут же испугался своего голоса, плотно зажал рот ладошками и, залившись слезами, кинулся вон из княжеского двора, в сторону тихой, окутанной утренним туманом Нерли.
Он бежал не разбирая дороги, прямо по скошенному лугу, сквозь густые заросли ивняка. И не чувствовал, как тонкие зеленые ветки хлестали по голому телу, колючки впивались в босые ноги. Выскочив на берег, он, не останавливаясь, спрыгнул в реку, и еще долго бежал по мелководью, до тех пор, пока не споткнулся о корягу и, попав в колдобину, окунулся с головой в прохладную воду. Яма оказалась неглубокой, и Хомуня, чуть побарахтавшись, встал. Вода доставала до пояса. Обмыв руки от черной грязи, он стоял неподвижно, тупо смотрел на медленно текущую реку. Из оцарапанной щеки его тонкой струйкой сочилась кровь и, смешиваясь со слезами, крупными каплями падала в воду.
В голове кружилось. Хомуня чувствовал, как его покидают последние силы, слабеют ноги, подгибаются колени, желтовато-мутная пелена застилает глаза.
Он уже не видел ни крови, ни реки, ни деревьев на ее берегу. Тело стало удивительно легким и непослушным. Покачиваясь, оно медленно оседало, точно так же, как мелкие пушистые зонтики одуванчика нехотя опускаются вниз, если их не уносит ветер и хорошо греет солнце.
Исчезли звуки, горечь и страх, боль и страдание.
Ничего не было.
Сознание вернулось к Хомуне уже под водой. Захлебываясь, он с трудом выбрался из колдобины и, еле волоча ноги, не обмыв рук и лица от тины, побрел к берегу.
Сразу стало холодно. Мелкая дрожь охватила все тело, дробно стучали зубы.
Выбравшись на теплую землю, он кинулся домой, к матери. Но против его желания, против его воли какая-то неведомая ему колдовская сила упорно тянула обратно к княжескому дворцу. Страшно было снова видеть обнаженное окровавленное тело князя Андрея, но он не в силах был миновать эту Голгофу, лишь немного умерил бег, а вскоре и совсем пошел тихо, еле переставляя ноги, понурив голову.
Во дворе, придерживаясь руками за влажную от росы белую стену княжеского дома и оставляя на ней отпечатки грязных ладошек, Хомуня с ужасом приближался к крыльцу. Там уже толпились люди, и он остановился поодаль.
Обессиленный, опустился на землю, прижался спиной к жесткой стене, крепко, чтобы теплее было, обхватил изодранные, измазанные тиной колени и положил на них голову.
Во двор въехали всадники. Хомуня узнал отца и княгиню Улиту, но встать и пойти им навстречу не мог. Обидно было, что и отец не заметил его, кинулся сразу к тем людям, которые стояли у крыльца. Одни из них горестно причитали, другие — смеялись, будто ничего не произошло.
Проводив взглядом отца, Хомуня повернулся боком к стене, попытался ухватиться за влажные камни и подняться, но руки беспомощно соскользнули, и Хомуня едва совсем не свалился на землю. После этого он больше не пытался вставать, уселся удобнее, привалившись спиной к стене.
Сквозь зыбкую дрему до него доносились громкие стенания отца, слышалось, как он долго выспрашивал, где лежит тело убитого князя. В ответ раздавался лишь злобный хохот Анбала. Потом кто-то сообщил, наконец, что князя выбросили в сад, на съедение голодным псам. Отец потребовал у ключника ковер, чтобы завернуть в него останки своего господина, проклинал Анбала за измену, грязно ругал княгиню Улиту.
Но с каждой минутой все это удалялось от Хомуни, все меньше и меньше доходило до его сознания. Потом неожиданно наступило просветление и ясно послышался голос матери. Сердце Хомуни застучало сильнее, он открыл глаза и увидел ее, бегущую прямо к нему, простоволосую, с распущенными косами. Красивое, любимое Хомуней, лицо ее страшно исказило страдание, рот широко открылся, губы изломались в крике.
— Хому-у-ня-а! Крови-ночка моя-а!
* * *
Очнулся не скоро. Это он понял из разговоров, которые в соседней горнице мать вела с людьми, приходившими проведать больного. Рассказывали, что бесстыжая эта, княгиня Улита, собрала свои драгоценности, которые чудом сохранились во время грабежа, и сразу уехала вместе с убийцами князя в Москву, в отцовскую вотчину Кучковичей. Городок этот — на границе Суздальской и Черниговской земли — иногда так и называли: не Москва, а Куцкова.
Великая смута случилась на всей Суздальской земле. Жители Боголюбова и окрестных сел разграбили княжеский дом, не пожалели имений мастеров и художников, приехавших по зову Андрея строить и украшать здания. Люди словно обрадовались смерти государя. Во Владимире и в других городах убивали посадников, управителей, их слуг и дружинников. И только после смуты, когда поостыл разъяренный народ, на шестой день после убийства похоронили князя Андрея во Владимирской церкви святой Богородицы.
И велик плач стоял по дороге из Боголюбова до Владимира.
Хомуня поначалу холодел от таких рассказов, ослабшими ручонками закрывал уши или натягивал на голову одеяло. Лежа в чистой постели, окруженный материнской заботой и лаской, он покрывался обильным потом не только от тяжкой и злой простуды, но и от воспоминаний об ужасной ночи, и оттого, что к тяжким воспоминаниям этим каждый раз добавлялись все новые и новые краски жестокости и бессердечия.
Но постепенно кровавые раны в его детской исстрадавшейся душе затягивались. И этому помогали не только беседы игумена Арсения, подолгу сидевшего у постели Хомуни и утешительными словами врачевавшего его сердце. Может быть, еще в большей степени помог ему отец Кирилл, неожиданно приехавший из далекого села, из верховий Нерли, где жило большое племя меря. Племя это еще давно, при Юрии Долгоруком, приняло христианство, и отец Кирилл был тамошним священником. Он хорошо знал Козьму и подружился с ним, хотя по возрасту мог ему в отцы годиться, если не в деды.
Отец Кирилл за всю жизнь только раза два-три всего и приезжал в Боголюбово. Но всякий раз казалось, что живет он здесь вечно. Древний, благообразный старичок, сухощавый — кожа да кости, — подвижный и неугомонный, Козьме привез в подарок несколько свитков пергамента и упросил переписать для своих прихожан «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Сказал, что церковь у них в селе уже старая, крыша прохудилась и часть книг подпортилась, не доглядели, хорошо было бы обновить особо ветхие.
Настасье, матери Хомуни, отец Кирилл преподнес кусок малинового шелка, купленного у восточных купцов, да несколько клубков ниток разных цветов.
Потом подошел к Хомуне, улыбнулся ему, подмигнул и присел рядом.
— Что ж ты расхворался так, отрок? А я-то надеялся на тебя, думал, поведешь меня в лес, по грибы. Сам-то я уже старый, боюсь заблудиться, — перемежая русские и финские слова, сказал отец Кирилл и горестно покачал головой, будто и вправду собирался по грибы с Хомуней.
Старик сидел на кровати у ног Хомуни и долго перебирал складки своей широкой мантии, приговаривал:
— Не пойму я, что нашел, а что потерял. Был конь и не стало его. То ли сам ускакал куда, то ли злые люди увели.
— И мою Серую увели Кучковичи, — на глазах у Хомуни выступили слезы.
— Пусть она их копытом убьет, тогда они и воровать перестанут. А конь у тебя еще будет, лучше прежнего, — старик встряхнул мантию.
— И куда он запропастился? Может, на лугу пасется, а может, в Нерли купается. Ага, нашел. Вот он — сивка-бурка!
Отец Кирилл откуда-то из потайных карманов вытащил небольшого коня, вырезанного из кости, и протянул Хомуне. Конь был белый, с еле приметными серыми полосками по бокам, передняя нога чуть приподнята, согнута в колене, взнузданная голова высоко задрана, рот приоткрыт, грива вьется по ветру.
У Хомуни загорелись глаза, сердце радостно застучало. Разглядывая подарок, осторожно трогал уздечку из тонюсенькой серебряной нити.
— Ты живи долго, Хомуня. Будут у тебя еще и настоящие кони. И людей встретишь хороших. Я по себе знаю, — старик помолчал, погладил редкую седую бороду и спросил вдруг: — Скажи, сколько лет я живу на свете?
Хомуня пожал плечами, откуда ему знать?
— Вот и я не знаю. Считал, считал — и со счету сбился. Начал сначала — и опять забыл. Одно могу сказать: на моих глазах много убивали бояр и холопов; и хороших людей, и плохих. Подчас думаю, кто из них хороший, кто плохой, коль те и другие способны поднять оружие на человека? Ты считаешь, что Кучковичи плохие, раз убили князя Андрея и Прокопия. А те, кто с ними, рассуждают иначе: ведь покойный князь Андрей не позволял им своевольничать, казнил их старшего брата. Человек — все одно, что дорога. Если ее согревает солнце — дорога гладкая, сухая. Идти по ней — ногам радостно. А пойдет дождь, разведет слякоть — и ступать по ней не хочется, ноги замарать боимся. Так и человек, он тоже от погоды зависит.
Хомуня недоверчиво улыбнулся, дескать, и в стужу и в вёдро человек одинаков, только одевается по-разному, если мороз, то и шубу натягивает.
Отец Кирилл подвинулся ближе. Положил Хомуне на грудь бледную, морщинистую руку, наклонился.
— Хочешь — расскажу, почему в человеке уживаются добро и зло, хорошее и плохое, чистое и грязное?
Хомуня кивнул головой.
Старик взглянул на икону, висевшую в углу, трижды перекрестился.
— Прости, господи, меня грешного. Ты — один на свете создатель. Но отроку я расскажу и про того бога, который сотворил племя народа меря, к которому и я принадлежу.
Козьма, молча сидевший здесь же, в горнице, встал, подошел к образам, поправил огонек лампады, прошептал молитву и осенил крестным знамением Хомуню, чтобы дьявол не опутал его. Отец Кирилл подождал, пока Козьма вновь усядется на скамью, взглянул на него и сказал:
— Это — притча, богохульства здесь нет, а мудрости много, если толковать ее верно. Я буду молить Христа, чтобы даровал Хомуне здоровье.
Старик опустил голову, задумался, словно подыскивал слова, с которых и надо начинать рассказ.
— Когда-то в лесах наших и на полях лишь дикие звери гуляли. Скучно им было, тоскливо. И тогда бог решил произвести на свет людей. Остановил он солнце посреди неба, разогнал тучи и спустился на землю. Прямо на берег Нерли попал. Нашел белую глину и вылепил из нее человека. Примерно такого, как я, только не старого. Сделал ему ноги, чтобы ходил; руки, чтобы работал, глаза, чтобы видел; уши, чтобы слышал; голову, чтобы думал. Хороший получился у него человек. На мерю похожий. Осталось только душу вложить в него, чтобы живой был. А для этого надо на небо возвратиться, оттуда ее принести.
Позвал бог собаку, приказал ей сторожить человека, а сам по делам своим отправился.
Только отлучился, а дьявол тут как тут. Задумал он пакость учинить над творением божьим, да собака не пускает, кусается. Но дьявол хитрый был, горазд на выдумки. Напустил он на собаку студеный ветер. Сидит она подле ног человека, воет от холода, дрожит. Дьявол же рядом ходит, посмеивается. Потом вытащил из кармана теплую шубу, показал собаке. Собака, видно, плохая была, польстилась на мех и позволила дьяволу делать все, что захочет. А ему только того и надо было. Оплевал глиняное тело, измазал его скверной и брениями и был таков.
Вернулся бог, посмотрел на свое творение и в отчаянии схватился за голову — как очистить тело человека? То ли сил у него на то уже не было, то ли руки пачкать не захотелось. Долго думал, как исправить лукавые проделки дьявола. И придумал. На то он и бог. Кое-как вывернул тело наизнанку и вложил в него душу.
Вот почему бывает такая грязная внутренность у человека. Она-то, внутренность эта, как раз и есть все одно, что дорога. Если кто надумает испортить ее, проедется телегой в сырую погоду, то следы так и останутся.
Так что все от самих же людей и зависит. Кто с малых лет бережет в себе добро и сострадание к другому человеку, и к скотине, и к зверю, и к птице — у того и душа велика и благородна, и помыслы его чисты. А кто в дурную погоду — считай, в дни, когда овладевают человеком непомерные желания, которые невозможно исполнить, не причинив ущерба другим людям, — наполнит душу свою завистью, злом и алчностью, то жди беды от такого человека.
Когда по жизни будешь идти и понадобится попутчик, прежде загляни в душу ему, насколько чиста она, не заляпана ли брениями. А встретишься со злом — ратью на него. Но пуще свою душу береги, Хомуня, не марай.
Вот так, отрок. Никому на земле не известно, чего более: добра или зла. Но жить все одно надо. На то и дадена жизнь человеку.
* * *
Настасья сама лечила сына от простуды. Знахарки в этом деле лучше нее не сыскать во всем Боголюбове. Лоб и затылок растирала ему маслом мяты и медовки, плечи и лопатки — соком тертой редьки и хрена, руки — мазями с сосновой живицей и чесноком, подошвы — кислым тестом, солеными огурцами и квашеной капустой. Когда начал вставать и выходить на улицу, заставляла надевать мокроступы — лапти из липы, в которые всегда клала свежие листья одуванчика, мать-и-мачехи, подорожника и ольхи.
Но главной лечебницей считала баню.
Каждый день, едва солнце своротится с дворца и опустится за колоколенку дряхлой деревянной церквушки, наспех срубленной еще в те времена, когда только начинали возводить княжеский дворец и собор, Козьма собирался к Нерли. Там, за ракитником, на широкой излучине, из ошкуренных сосновых бревен своими руками он сработал невысокую, просторную баньку. Особенно удалась ему калильная печь. Он сделал ее из булыжников, речных кругляшей, доставленных сюда ладьей с верховьев реки. Печь не очень много поедала дров, а каменку грела хорошо.
Перво-наперво Козьма растапливал печь, потом носил воду из Нерли, заливал в чаны. Наполнив их, еще подбрасывал в топку крепких поленьев и возвращался домой.
Дальше хозяйничала сама Настасья. Собирала теплую одежду для Хомуни, готовила травы — они постоянно сушились у нее в темной коморе, веники: березовый — обязательно, а дубовый или ольховый — попеременно. Все делала не спеша, чутьем угадывала, когда перегорят дрова и печь перестанет чадить.
Только однажды, собравшись поехать во Владимир, Козьма затопил баню не после полудня, как обычно, а утром. Оттого Настасье и сына пришлось разбудить раньше времени. Едва не сонного усадила за стол, поставила перед ним блины с медом. Пока ел, она готовила одежду, снадобья.
Управились быстро. Не успел Козьма взнуздать своего жеребца, набросить на него седло и вывести из конюшни во двор, Настасья уже стояла с Хомуней на крыльце.
— Пошто скоро так, катуна? Дрова в печи не сгорели еще.
Настасья зарделась, положила руку на плечо Хомуни, прижала его к себе. Нравилось, когда муж называл ее катуной. Слово это он произносил редко, и оно так славно у него звучало, что у Настасьи каждый раз млело в груди.
— А мы лугом сегодня пойдем, отец. Проводим тебя до развилки. Заодно зелие соберем.
Козьма оставил коня, подошел к крыльцу, взял Хомуню на руки, губами приложился к его теплому лбу.
— Лагодишь ты сыну, — Козьме показалось, что Настасья слишком тепло одела Хомуню. Поверх сарафана натянула на него опашень, старое — недоноски Игнатия — распашное летнее платье с короткими рукавами, на ноги — шерстяные носки и поршни из сыромятной кожи. Козьма еще раз прикоснулся губами ко лбу сына. Потом повернулся к Настасье, сказал: — Жару у него почти нет, лоб не очень горячий. Солнце поднимется — парко будет. Как бы ветром не обдуло.
— Раздену, коль припечет.
Козьма посадил Хомуню в седло.
— Держись крепче, сынок.
Хомуня обеими руками уцепился за луку седла, но радости не испытывал. И не потому, что отец не отдал ему поводья, сам повел жеребца. С смертью князя Андрея все получилось не так, как хотелось. Волосы ему укоротили без торжественных постригов, когда лежал в беспамятстве; собственного коня не стало, увели Кучковичи. Да и в теле своем не чувствовал прежней бодрости. Раньше дни казались короткими — не успевал набегаться, наиграться в богатырей и разбойников. А теперь время движется так медленно, словно его пересадили на воловью упряжку.
Хомуня смотрел, как отец и мать шли рядом, о чем-то тихо — ему не расслышать — разговаривали, то и дело поворачивались друг к другу, улыбались.
То доброе, что было между ними в эту минуту, постепенно передавалось и Хомуне, ему даже захотелось спуститься на землю, чтобы шагать рядом, взявши родителей за руки. Но он не решался просить их об этом. Ехать на отцовском жеребце тоже не каждый день доводится. Когда еще, в другой раз, отец посадит его в седло.
Козьма обернулся к сыну, подмигнул ему.
— Ну как, освоился? Хочешь, поводья отдам? Справишься сам, не упадешь?
Козьма попросил Настасью придержать коня за уздечку, укоротил стремена, подогнал их так, чтобы Хомуня свободно мог упираться в них ногами. Потом перебросил поводья через голову лошади, передал их сыну.
Настасья выпустила из рук ремень уздечки и посторонилась.
— Езжай, только потихоньку.
Жеребец не трогался с места. Фыркая, он то и дело наклонял голову. Поводья туго натягивались, стаскивали Хомуню с седла, и он боялся, что выронит их, не сможет управлять конем. Раньше, когда отец, бывало, сажал Хомуню перед собой и передавал ему поводья, лошадь казалась послушней.
Хомуня волновался: а что как отец долго не выдержит, рассердится на неумеху и снимет с седла, скажет: «Рано тебе еще ездить верхом, надо подрасти».
И все же он изловчился. Одной рукой — другой держался за луку седла — резко потянул на себя поводья, встряхнул их, звонко чмокнул губами — и жеребец не спеша, будто нехотя, пошел по накатанной дороге.
Постепенно Хомуня успокоился, почувствовал себя свободнее. Сильнее уперся ногами в стремена, взял поводья в обе руки и заставил жеребца перейти на легкую рысь.
Отец и мать остались где-то далеко позади. Хомуне не терпелось оглянуться, увидеть их лица, порадоваться вместе с ними своей удаче — большой и сильный жеребец подчинился ему. Но ехать в одну сторону, а смотреть в противоположную — для него оказалось делом довольно трудным, боялся не удержаться в седле и свалиться на землю. Доехав до развилки дорог — одна вела во Владимир, другая — берегом Нерли уходила вправо и скрывалась между холмами, поросшими редколесьем, — Хомуня натянул поводья, придержал коня и развернул его обратно.
Родители бежали навстречу, что-то кричали Хомуне, размахивали руками и громко смеялись. А он мчался во весь опор. Настасья, заметив, что сын даже не пытается сдерживать коня, отскочила в сторону, запуталась в высокой траве и упала. Козьма же, наоборот, хотел схватить жеребца за уздечку, но, то ли промешкал, то ли увидел счастливое лицо сына и в последний момент раздумал его останавливать, чуть не попал под ноги лошади, еле успел увернуться, и тоже покатился по траве.
Не доезжая Боголюбова, Хомуня снова развернул коня и поехал обратно. Козьма и Настасья стояли у дороги, ждали сына.
На этот раз Хомуня сам остановил жеребца в двух-трех шагах от отца.
— Экий ты лихой наездник, сын. Настоящий мужчина. Только вот родителей своих чуть конем не потоптал, — Козьма рассмеялся, подошел к Хомуне, снял его с седла, но на землю не поставил, крепко прижал к груди, поцеловал. — Молодец! Вырастешь — хорошим дружинником будешь.
Настасье тоже хотелось обнять сына. Но ей доставляло не меньшую радость издали смотреть, как Козьма ласкается с Хомуней. Губы у нее подрагивали, рот временами чуть приоткрывался, словно никак не могла улучить удобную минуту, чтобы сказать, как ей хорошо оттого, что сын начинает поправляться, становится таким же, как и прежде, до болезни, что все они втроем так любят друг друга. Но Настасья так и не вымолвила ни одного слова, будто боялась спугнуть счастье и накликать новую беду.
Об одном только она жалела, что нет с ними старшего сына, Игнатия. Давно обещался приехать, да что-то держит его там, в Новгороде. Но теперь, наверное, скоро появится. Должен же княжич Юрий, господин Игнатия, наконец, побывать во Владимире, на могиле своего отца. Настасья надеялась, что княжич не оставит Игнатия в Новгороде, прибудут вместе. Тогда уж, хотя бы на день-два, а вырвется Игнатий в Боголюбово, и они всей семьей побудут вместе, налюбуется она своими сыновьями.
С Хомуней на руках Козьма подошел к коню, отпустил путлища стремян, снова поцеловал Хомуню и сказал, что пора ехать, ибо солнце уже высоко, и он может не поспеть во Владимир к обедне.
— Сегодня, когда вернешься, батяня, ты мне снова позволишь покататься верхом? — Хомуня с надеждой заглянул в голубые, как небо, глаза отца.
— Не вернусь я сегодня, сын, — огорчил Хомуню Козьма. — Может быть, только завтра приеду, а может, и всю неделю пробуду в отлучке.
* * *
Козьма вскоре уехал. Настасья и Хомуня пошли лугом в сторону Нерли, наискосок — к Боголюбову, к бане. По пути, как и задумала Настасья, собрали в запас несколько пучков целебных трав: зверобоя, душицы, иван-чая, цикория, сорвали несколько стеблей сушеницы, ножом выкопали с десяток корней девясила и лапчатки. Каждую траву связали по отдельности, а потом уж сложили в небольшую корзину из тонких ивовых прутьев.
Так, за делом, незаметно и подошли к бане.
* * *
Печь еще жарко дышала углями, но пламени уже не было. Лишь с одного боку, рядом с зольником, вырывалось несколько голубоватых язычков. Они трепетно тянулись вверх, слабыми всполохами лениво лизали низкие своды каменки.
В сажени от печки Хомуня бросил на пол охапку сухой травы, прилег на нее и неотрывно смотрел на тлеющие угли. Разомлев, он чуть задремал и не слышал, как в предбанник вошла Настасья, приоткрыла дверь в парную.
— Хомуня, поди сюда, сынок, — позвала она.
Хомуня вздрогнул, открыл глаза.
— Иди, посмотри, — Настасья махнула рукой и отступила в сторону.
Хомуня поднялся, подошел ближе и заглянул в баню. На тонко присыпанном пеплом полу виднелись птичьи следы.
— Кто это ходил здесь? — удивился Хомуня, он хорошо помнил, что дверь плотно была прикрыта на запор.
— Злые навьи приходили мыться, духи умерших, самоубийц. А может, это и сам баенник наследил. Домовой, он всегда на житье поселяется в бане. Людей он не любит, особенно родильниц.
Увидев испуганные глаза Хомуни, Настасья спохватилась, поспешила успокоить сына.
— А ты не бойся, если войти в баню вдвоем, то баенник не тронет. Бывает, когда в избе тесно, люди даже родильницу приводят сюда, только не покидают ее, не оставляют одну. К тому же пар от каменки выживает его прочь. Домовой возвращается лишь после того, как баня совсем остынет. А злых навьев мы требой задобрим, жертву им принесем. Возьми в сумке немного хлеба и сыра, положи на крышу. И молока налей в миску, она на крыше стоит. Отец всегда держит ее там. Навьи молоко любят. Лестницу за баней поищи, у стены.
Пока Хомуня положил требу на крышу и вернулся в предбанник, Настасья успела вымыть пол в бане и полок, остатки воды выплеснула на траву. Потом спустилась к реке, ополоснула ведро и поставила его в предбаннике.
Управившись, Настасья присела на сухую траву, рядом с Хомуней. Немного посидела молча. Потом, отдохнув, поднялась на колени, лицом повернулась к пылающим углям, перекрестилась три раза. Толкнув Хомуню, дала ему знак, чтобы и он сделал то же самое. Хомуня послушно исполнил. Настасья сложила ладони, приподняла их так, что пальцы, плотно прижатые друг к другу, едва не касались ее подбородка и негромко, устремив глаза на огонь, нараспев прочитала заговор-заклинание:
— Батюшко ты, Царь-Огонь Сварожич, всеми ты царями царь, всеми ты огнями огонь. Будь ты кроток, будь ты милостив! Как ты жарок и пылок, как ты жгешь и палишь в чистом поле травы и муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные коренья. Тако же и я молюся и корюся тебе-ка, батюшко, Царь-Огонь Сварожич, — жги и спали с раба божия Хомуни всяки скорби и болезни, страхи и переполохи. Вдохни в моего сына, батюшко, Царь-Огонь Сварожич, неугасимую жажду к жизни, целебным огнем зажги Хомуне израненную извергами душу. Аминь. Аминь. Аминь.
Настасья трижды перекрестилась и низко поклонилась огню. Хомуня смотрел на дышащие жаром угли, и виделось ему в печи доброе улыбающееся лицо Дажьбога, сына Сварога. Пепельная борода его рассыпалась по всему поду печи, а в центре — сложенные из углей, будто потрескавшиеся, губы, немного сбитый набок огромный, слегка покрытый седоватым пеплом, нос; глаза — два ярких пылающих уголька с чуть-чуть колышащимися ресницами — язычками пламени.
Царь-Огонь, сам медленно умирая, отдавал тепло Хомуне, грел каменку. Плотно подогнанные друг к другу кругляши раскалились настолько, что светились почти так же, как и потухающие угли.
Чтобы не видеть, как будет исчезать лицо Дажьбога, Хомуня вышел из предбанника и не спеша направился вдоль Нерли, навстречу течению.
Бесцельно побродив по низкому берегу, Хомуня поднялся в небольшую, взбежавшую на пригорок сосновую рощицу и там, рядом со старым кострищем, на пригреве, наткнулся на стайку маслят. Пока собрал их в подол опашеня и вернулся обратно, Настасья уже выгребла из печи остатки углей, закрыла топку тяжелой заслонкой, сколоченной из дубовых досок.
Грибам Настасья обрадовалась, помогла Хомуне выложить их в ту же самую ивовую корзину, в которой уже лежали привядшие травы, собранные впрок, для лекарства. Затем подала сыну берестяную кружку.
— Выпей лукового соку и раздевайся. Готова банька.
Хомуня взял посудину и с отвращением посмотрел на белесую густую массу, сморщился.
— А ты не примеряйся. Закрой глаза — и в рот.
Хомуня проглотил сок лука, поспешно зажевал его кусочком кислого ржаного хлеба и только потом шумно выдохнул.
— Фу, противный.
— Лекарство горькое, а здоровье от него крепчает быстро, и силушка по жилушкам огнем бежит.
Сбросив с себя одежду, Хомуня юркнул в баню и, сделав два-три шага по теплому полу, остановился, подождал, пока глаза привыкнут к серому полумраку: свет еле-еле пробивался сюда через маленькое оконце, затянутое бычьим пузырем.
Вдоль глухой стены, прямо напротив оконца, стояла широкая скамейка, а на ней — деревянная, похожая на низко обрезанный бочонок, шайка с двумя коваными железными ручками. Рядом с шайкой — большой берестяной ковш, старая потрескавшаяся, выщербленная сверху, корчага со щелоком. На краю каменки — чан с горячей водой, чуть поодаль, ближе к двери, — с холодной. В самом углу, рядом с каменкой, — высокий, тщательно выскобленный ножом, полок с двумя приступками и подголовьем.
Каменка так дышала жаром, что тело Хомуни покрылось обильным потом, а сухие, коротко остриженные волосы, показалось, поднялись дыбом, словно иголки у ежика, стали какими-то непривычно чужими, жесткими. Но стоило ему прижать их вспотевшими ладошками, потереть голову — ощущение чуждого пропадало. Убрал руки — опять то же самое.
Хомуня рассмеялся. Ему стало весело, захотелось поозоровать. Едва Настасья разделась и вошла в баню, Хомуня подскочил ближе к полку, повернулся лицом к матери, запел:
Блошка банюшку топила, вошка парилася, с полка ударилася.Настасья стояла посреди бани, распускала свои толстые длинные косы, любовалась сыном — коль начал шалить, значит, здоровье и вправду к нему возвращается.
— Полезай наверх, да смотри не свались, как та вошка.
Хомуня встал на приступки, руками прикоснулся к полку.
— Горячий! — воскликнул он и соскочил обратно.
— Возьми ковш, облей холодной водой.
Смочив нагретое раскаленным воздухом дерево, Хомуня улегся на самом верху, закрыл глаза и со страхом ждал, когда мать плеснет на каменку водой.
Но Настасья не спешила. Взяла корчагу, подошла к сыну, натерла ему спину, грудь, ноги, руки щелоком, потом плеснула на камни горячей, настоянной на травах, водой. Острый пахучий пар шумно взвился к потолку, в одно мгновение заполнил всю баню, горячей влажной шубой окутал Хомуню и Настасью. В бане совсем потемнело, словно солнце зашло за тучу. Хомуня перевернулся на живот и, уткнув в руки лицо, лежал не шевелясь, лишь изредка скулил, обжигаемый густым паром. Но Настасье и этого показалось мало, она еще раз набрала в корчагу воды и ливанула ее на камни.
— Хватит! — закричал Хомуня и тут же рванулся вниз, но Настасья задержала, подвинула его к стене, улеглась рядом.
— Терпи, сынок, терпи, — ласково уговаривала она. — Баня — мать наша: кости распаришь, все тело поправишь. Вот приедет Игнатий, он тебя еще лучше попарит. Жаркую любит баню, братишка твой, даже отец с трудом выдерживает, когда Игнатий начнет пару поддавать.
Настасья достала мягкий березовый веник и, сначала потихоньку, а потом все сильнее и сильнее принялась хлестать Хомуню. Распаренного, еле живого, она окатывала его холодной водой, приговаривала:
— Баня грехи смоет, шайка сполоснет; с гуся вода, с тебя худоба; болести в подполье, на тебя здоровье.
Дав сыну немного отдыха, Настасья снова поддавала пару, снова бралась за веник.
Постепенно Хомуня притерпелся, привык. И тогда они менялись местами. Теперь уже сын брал в руки попеременно то березовый, то дубовый веник и с ответным усердием сек мать по розовому распаренному телу, окатывал ее холодной водой.
— Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься не ожгись, поддавай не опались, с полка не свались.
Вконец обессиленные, они выскакивали в предбанник, усаживались на скамейке, с наслаждением пили квас, отдыхали. Потом все начиналось сначала.
* * *
Вместо недели Козьма пробыл во Владимире более двух месяцев.
Задержался потому, что в это время как раз решалась судьба великокняжеского стола. За него боролись братья покойного князя Андрея, Михалко и Всеволод Юрьевичи, со своими племянниками, Ярополком и Мстиславом и Ростиславичами, внуками Юрия Долгорукого.
Ростиславичей пригласили на княжение ростовские и суздальские бояре, а Юрьевичи сами прибыли в северную столицу. Но Михалка — как старший из двух оставшихся в живых сыновей Долгорукого, он по праву претендовал на отчий и дедов стол, — принял только город Владимир. И ему пришлось семь недель держать там осаду племянников с их боярскими войсками.
Козьма, не задумываясь, встал на сторону Михалки. А покинул нового своего князя лишь после того, как тот решил сдать племянникам город и уехать ни с чем.
Козьма вернулся в Боголюбово. Хомуня к этому времени окончательно выздоровел. Как и до болезни, несмотря на прохладную осень, бегал по улицам босиком, одевался легко, лишь бы наготу прикрыть. Внешне, может быть, Хомуня почти не изменился, только исхудал немного да вытянулся за лето. Но характером, Козьма заметил это сразу, стал совсем не таким, как до убийства князя Андрея и Прокопия. Заметно поубавилось в нем прежней покладистости, но зато больше стало рассудительности и твердости. Прибавилось, правда, и непостоянства. Одним и тем же делом заниматься не хотел: то пропадал с Арсением в церкви, помогал ему перебирать книги, читал, учился у него русскому и греческому письму; то, если Козьма позволял, с самого утра охлюпкой, без седла, уезжал на жеребце куда-то вдоль Нерли или Клязьмы и возвращался лишь вечером. Каждый раз Козьма придирчиво осматривал коня, но ни разу не находил его усталым или голодным. Сам же Хомуня после таких отлучек жадно набрасывался на все, что поставит Настасья перед ним на стол. Козьма иногда пытался выспрашивать сына, где пропадал целый день, но тот лишь пожимал плечами:
— А здесь, недалеко. В лесу, на лугах.
Друзей у него прибавилось, хотя среди мальчишек немало было и таких, кто относился к нему враждебно. Но Хомуня все меньше и меньше боялся их, перестал прятаться, вел себя так, будто всегда знал, где надо проявить смелость, а чего остерегаться.
Случалось, Хомуня вообще днями не выходил из дому, становился ласковым и нежным с матерью, бросался исполнять любое ее желание. Потом и это проходило. Снова бежал в церковь к Арсению, или в конюшню, или садился рядом с отцом, брался за книги.
Настасья разводила руками, не понимала, что происходит с сыном. Козьма же в ответ улыбался, успокаивал:
— Взрослеет сын, катуна. Дорогу себе нащупывает, мужчиной становится.
* * *
Настасья была искусной рукодельницей, мастерицей плести кружева, расшивать чуги, опашени и ферязи — женские и мужские одежды — шелком и драгоценными нитями, покрывать их русскими узорами. Бояре охотно несли ей свои заказы и щедро платили мукой, медом, рыбой, холстами — всем, что забирали у своих поселян.
Почти каждую весну Настасья придумывала новый узор. А начинала его шить в тот день, когда Козьма с княжеской дружиной отправлялся в очередной ратный поход. Сразу после проводов она спешила к себе в горницу, долго молилась, потом садилась у окна на скамью и начинала работу. Старалась шить так, чтобы нить, какой бы она ни была тонкой, не рвалась, а рисунок на ткани получался веселым и ясным. Настасья искренне верила, что от этого зависит судьба ее мужа, вернется ли он домой целым и невредимым, или жизнь его оборвется, как нить в ее руках.
Хомуне рассказывал об этом Игнатий. Просил никуда в день отъезда отца не отлучаться, вести себя тихо, чтобы мать не волновалась и в расстроенных чувствах не испортила узора, не порвала тонкую нить, которая только и оставалась у нее единственной надеждой на возвращение отца.
Еще ни разу Настасья, вышивая новый узор, не порвала нить. Но дни от этого не становились для нее менее тревожными. Известно ведь, что воин воюет, а жена дома горюет. Ждать мужа из ратного похода нелегко. А когда подрос Игнатий и совсем ушел из дому, начал служить у княжича Юрия, Настасье стало еще тревожнее. Теперь грозились оборваться сразу две нити, натянутые туго, как струны на гуслях.
Настасья молилась богу и надеялась, что Хомуня, когда вырастет, станет иконописцем, будет украшать храмы господние. Отец Арсений не единожды уверял ее, что бог одарил Хомуню умением писать святой образ, только поучиться ему надо у мастеров. И Настасья радовалась, если сын подолгу пропадал в церкви, помогал художникам. Она была бы не против, если бы Хомуня стал и попом или, наконец, занялся бы любым другим ремеслом, только бы не шел по стопам отца, не вступал бы в княжескую дружину.
Козьма же, наоборот, все это считал делом несерьезным, твердо был убежден, что никакое ремесло ничего не стоит, если у народа нет сильной рати, способной защитить родной дом от супостатов.
3. Аримаса и Русич
Каждый вечер, еще до захода солнца, Мадая сильно клонило ко сну. Он словно проваливался в бездну, и ничего не мог с собой поделать. И просыпался Мадай в одно и то же время, когда Аримаса укладывалась спать. Он старался не кашлять и не ворочаться с боку на бок, чтобы не потревожить дочь.
О чем только ни думалось бесконечно длинными ночами. И о Сахире, старшей дочери, которую забрал себе в жены Бабахан; и об Аримасе, на которой, к несчастью, до сих пор никто не женился. А пора бы ей иметь мужа, рожать детей. Давно пора. Мадай подсчитал и удивился — два полных круга и еще один год прожила Аримаса, двадцать пять лет!
Как же он мог допустить такое? Юноши уже не возьмут Аримасу, а вдовец не находится. Почему так получилось? Ноги, руки у нее на месте. Стройна. Лицом — дай бог каждой иметь такое, сам бы целовал ее глаза и губы. Нет, Аримаса у него красивая. Пожалуй, получше Сахиры. А, впрочем, может, он и не прав. Сахира не родная ему дочь. Он всегда больше любил Аримасу.
Правда, чуть грубоватой стала Аримаса в последние годы. Но это потому, что ей самой приходится делать всю мужскую работу. И на зверя охотиться, и поле рыхлить, и рожь убирать. И вдруг подумалось: из-за него, из-за Мадая, никто не захотел жениться на Аримасе, брать к себе в дом беспомощного, ворчливого старика. Кому захочется возиться с таким?
Раньше у Мадая много скота было. А теперь только лошадь и корова. Бедно стали жить. Оно и понятно. Если мужчины в доме нет, о каком богатстве может идти речь. Сам Мадай уже давно не способен работать. И днем и ночью валяется на кошме. Наверное, в селении и не помнят, что Мадай был когда-то лучшим охотником. На медведя всегда в одиночку ходил. Вон сколько шкур по сакле разбросано. Шестьдесят пять лет ему было, когда родилась Аримаса. К тому времени оба сына, которые родились от первой жены, погибли. Он остался один и привел к себе в дом рано овдовевшую женщину. Ребенка от первого мужа, Сахиру, она родила уже в его сакле. Года через три принесла ему и Аримасу. Только сама прожила недолго. Но в третий раз Мадай жениться не стал. Сам растил дочерей. У других деды моложе, чем у Аримасы отец.
Мадай прислушался, ему показалось, будто в горах заревел медведь. «Нет, это не медведь, — сам себе прошептал Мадай. — Гроза? Еще рано, весна только начинается».
А рев становился все громче и громче. Скоро он перерос в сплошной грохот, будто все горы рушились разом. Вскочила Аримаса, раздетая, заметалась по стынущей сакле. Подбежала к Мадаю и опустилась перед ним на колени.
— Отец, я боюсь! Надо спасаться! Что это?
Рев и грохот были уже рядом, ржала и рвалась с привязи лошадь, мычала корова, земля дрожала, и Мадай уже не слышал последних слов Аримасы. Что-то тяжелое глухо ударило в саклю, она вздрогнула, покосилась, но устояла, только бревна натужно заскрипели, возвращаясь на прежнее место. По сакле пронесся ветер, костер разгорелся сильнее. И сразу все стихло. Аримаса лежала, тесно прижавшись к отцу, и плакала громко, навзрыд, как иногда в детстве.
Мадай молча гладил ее распущенные волосы. Ему жалко было Аримасу. Из-за него не решилась бежать из сакли. Но, кажется, все обошлось. Теперь он догадался, что гремело за стенами.
— Успокойся, Аримаса. Все уже позади. Рядом прошла лавина. Успокойся, дочь.
Когда костер совсем погас и небо утренним светом заглянуло в дымовую дыру, Аримаса успокоилась и, обессиленная, уснула в объятиях отца. Уснул и старый Мадай.
Разбудила их корова. Она глухо мычала, звала хозяйку — вымя распирало молоко. Аримаса встала с трудом. Мадай посмотрел на нее и ужаснулся. Даже при тусклом свете видно, как вспухли и налились кровью глаза дочери.
Полсть, которой закрывали дверной проем сакли, почти до половины была завалена снегом, и Аримасе пришлось немало потрудиться, чтобы выбраться наружу.
Выбравшись, Аримаса взглянула в сторону селения и закричала в ужасе. Вместо селения увидела нагромождения плотно сбитого снега с торчащими скелетами обломанных деревьев. Она взбежала наверх и посмотрела вокруг. Далеко, за широкой грядой, одиноко зияли пустыми дверными проемами несколько полуразрушенных домов. Кругом было тихо и безжизненно.
Мадай тоже выполз и печальными глазами уставился на мертвые снежные глыбы.
После завтрака Аримаса пробралась к уцелевшим домам. Поняла, что оставшиеся в живых люди в спешке покинули свои сакли и ушли из долины. Она с радостью отметила, что сакля Бабахана и Сахиры, стоявшая на краю селения, пострадала меньше всех. Значит, сестра не погибла. Собрав брошенные домашние вещи и сложив их в одну кучу, Аримаса вдоль снежной насыпи перешла на противоположный берег небольшой речки — лавина докатилась даже туда, где начинаются высокие, отвесные скалы, поверх которых проходила дорога на город Аланополис.
Как и предполагала Аримаса, под скалами, у Хвоста еминежа, торчащего из недр земли в нескольких шагах от обрыва, можно было на лошади обогнуть язык лавины и добраться к покинутым домам.
Когда снова перешла речку, только теперь с другой стороны белой насыпи, ближе к своей сакле, увидела скрытую огромными, как валуны, плотно сбитыми комьями снега корову — лишь голова и видна была. К удивлению Аримасы, корова еще дышала, но уже почти не открывала глаз.
Аримаса побежала в дом, взяла нож, топор, большую корчагу и вернулась обратно.
Расчистив снег, Аримаса отрубила голову корове и собрала кровь в корчагу. С тушей она провозилась целый день, но выкопала из снега все мясо и перетаскала в саклю. Следующий день она потратила на его обработку, чтобы не пропало. Часть пересыпала солью, часть потушила, окорока повесила вялить на высоко обрубленные сучья сосны, которая росла у самой сакли.
Шли дни. Снег полностью растаял. Аримаса надеялась, что сородичи все же надумают побывать на месте бывшего селения, и тогда, может быть, помогут перебраться на новое место, туда, где теперь, наверное, они уже построили себе новые жилища. Но за все лето так никто и не приехал. Только на противоположной стороне, поверх скалистой гряды, иногда проходили караваны. Некоторые шли из Грузии в сторону Куфиса, но чаще видела тех, кто наоборот, поднимался вверх из долины Куфиса в Грузию. Аримаса издали смотрела на людей, но никому из них не было дела до затерявшейся под утесом одинокой сакли. А может, оттуда ее, эту саклю, и не видно за соснами?
Но зато свободно было на поле, где росла многолетняя рожь, — одно, хоть и горькое утешение. Никогда еще Аримаса не привозила в саклю столько зерна. Им с отцом хватит года на два, а может, и больше. С ячменем получилось хуже, слишком мало его посеяла. Придется гнедому больше довольствоваться сеном. Сена она постаралась запасти вдоволь. Лучшее, из самой молодой травы, Аримаса сложила в сакле отдельно: скоро у коровы должен появиться теленок.
Зима пришла внезапно. Стоял теплый безветренный день. Солнце так прогрело землю, что Аримаса босиком ходила к роднику и ноги не мерзли. Но к вечеру небо покрылось тучами, заморосило, потянуло холодом. Ночью выпал снег. Три дня Аримаса только тем и занималась, что отгребала его от входа в саклю, расчищала дорожку к воде.
Потом снова заиграло и пригрело солнце. В ущелье потеплело, снег осел, стал упругим. За ночь приморозило, и он уже не проваливался под ногами. Аримаса отправилась в лес, отыскала звериные тропы, поставила ловушки.
Едва вернулась, с гор спустился туман. К утру и сосны, и крыша сакли, и дорожка — все обледенело. Было очень скользко, и Аримаса, чтобы легче идти к ловушкам, взяла старую отцовскую пику — опиралась на нее и долбила лунки на крутых подъемах.
Старый Мадай тоже не сидел без дела. Когда туман уплыл вниз по ущелью и солнце наполнило долину теплым воздухом, Мадай, захватив два длинных тисовых прута, нож, полосы мягкой кожи, небольшую полсть, выполз из сакли.
Бросив полсть на пригреве, он уселся на нее и начал мастерить ловушки. Раньше он много делал ловушек и на оленя, и на зайца, и на лису. Аримаса здесь же, в селении, меняла их на соль, ткани, ножи. Удачливые охотники — то ли от щедрости душевной, то ли жалели старого Мадая, — но одаривали Аримасу купленными в Аланополисе готовыми халатами, шароварами, и еще разной одеждой и обувью. Теперь же ловушки без дела висели на стене сакли. Но Мадай не обращал на это внимания, если чувствовал в себе бодрость, снова принимался за дело. В селении считалось, что никто лучше Мадая не знает повадок диких животных. Ловушку он делал так, что зверь, казалось, сам рвался в петлю, едва дождавшись, пока охотник поставит ее на тропе.
Согревшись на солнце, Мадай незаметно уснул. Проснулся, когда снизу, от реки, потянуло холодом, и туман снова начал подступать к сакле.
Еще в глубокой дреме он услышал песню. Таких в селении никогда не пели, протяжных и грустных, будто человек молился богам, сотворившим горы, и пел ее так, чтобы голос его услышали большие и малые вершины.
Мадай подумал, что песня ему приснилась. Поначалу он даже воспринял ее как зов предков, которые, он чувствовал, уже давно поджидали его в подземном царстве мертвых. Но в долину снова долетел тот же напев, Мадай взглядом окинул заледенелые высоты, старался найти того, кто, не жалея горла, пытался перекричать молчаливые горы.
Всадников Мадай увидел высоко на скалах, где проходила дорога на Аланополис. Они двигались со стороны Грузии. Мадай проникся состраданием к людям, которых зима врасплох застала на перевалах, и они, промерзшие, теперь спешили спуститься вниз, к теплым саклям города.
— Не надо спешить, — негромко, зная, что его все равно не услышат, сказал Мадай. — В Аланополис вы доберетесь только завтра, к заходу солнца, не ранее. Лучше сойти с коней и осторожно пробить перед собой оледенелый снег, обойти Выступ погибшего тура. Разве сверху не видно, что Хвост еминежа навострил свою гранитную чешую?
Мадай вспомнил, как несколько лет назад молодой тур не удержался на покрытой гололедом скале и по желобку между утесами скатился вниз и упал, распоров бок о Хвост еминежа — высокий гранитный столб, острым копьем торчавший внизу, под скалистой стеной. Тур достался Аримасе. Она первой его увидела, побежала на речку и волоком притащила тушу к сакле.
Не отводя глаз от вершины, Мадай непроизвольно уперся ногами в снег — будто помогал путникам удержаться на скользком утесе. И тут он увидел, как у последнего оступилась и заскользила лошадь. Всадник пытался удержать ее, но она, цепляясь копытами о наледь, неумолимо приближалась к обрыву. Уже на самом краю, взмахнув руками, всадник прыгнул с лошади, но тоже не удержался и покатился вниз. Он пытался зацепиться за скользкие выступы, но не сумел — лошадь, а следом за нею и всадник, камнем полетели на Хвост еминежа.
Старый Мадай прикрыл ладонью глаза.
Когда снова посмотрел туда, где высился острый гранитный столб — по белому снегу тянулся вниз темный кровавый след, на берегу речки лежала бездыханная лошадь. Всадника Мадай не увидел.
Наверху, почти на самом краю утеса, оставив лошадей в стороне, сгрудились люди. Обнажив головы, они молча смотрели вниз. Постояв так, они перекрестились, надели шапки и не спеша двинулись дальше. Наплывший туман скрыл и людей, и речку, и Хвост еминежа. Стало совсем холодно, и Мадай покинул насиженное место, забрался в саклю.
Вернулась Аримаса. Уставшая, без шапки, с растрепанными волосами, в разодранной на боку епанче, но возбужденная удачей, оттого и веселая. Она с трудом перетащила через порог связанную косулю. Подсев к костру и протянув к огню окоченевшие от холода руки, Аримаса засмеялась и громко начала рассказывать Мадаю, как увидела косулю на тропе, недалеко от ловушки, как та бросилась бежать и тут же на глазах, нежданно-негаданно, попала в петлю.
— Мне захотелось, чтобы ты попробовал свежей крови, отец, поэтому и решила живую притащить в саклю. Если бы ты знал, как я смешно боролась с косулей, пока не сумела связать ей ноги. — Аримаса, улыбаясь, поверх костра взглянула на отца, но он не разделял ее настроения и совсем не радовался добыче. Мадай сидел, понурив голову, разглядывал свои темные, потрескавшиеся руки. Аримаса встревожилась. — Ты не заболел, отец?
Мадай поднял глаза и тихо произнес:
— Нет, Аримаса, я чувствую себя не хуже, чем утром. Меня печалит ошибка богов — они послали смерть человеку, не завершившему свои дела на земле.
Мадай рассказал о всаднике.
Аримаса нахмурилась и сникла. Лучше бы отец не рассказывал ей об этом. Без того одиноко и тоскливо в душе, хоть волком вой. И завыла бы. Да что толку в том, все равно никто не услышит.
Но Мадай понял ее совсем по-другому.
— Знаю, что ты устала, Аримаса. Но пока светло, надо похоронить человека, оттащить труп к скалам и забросать камнями. Грех ляжет на нас, если звери растерзают его в нашем ущелье. Возьми коня, попону — так тебе легче будет, — Мадай виновато посмотрел в глаза дочери. Был бы покрепче, не ждал Аримасу, управился бы сам. — Если останутся силы, может, сумеешь приволочь к сакле его лошадь? Не пропадать же мясу.
Аримаса молча кивнула головой, еще немного посидела у костра, потом решительно встала, бросила коню на спину попону, упряжные ремни и вывела его из сакли.
Аримаса шла к Хвосту еминежа, и мучительная грусть все больше и больше овладевала ею. Не оттого, что тот человек погиб в ущелье. Такова воля богов — они решили позвать к себе его душу. Аримаса жалела себя. Слишком тяжело ей без людей. Так тяжело, что сил больше нет. Если бы не отец, сейчас бы села верхом на гнедого и поехала куда глаза глядят. Может быть, и приютили бы ее люди, не вековать же одной.
У речки Аримаса увидела лошадь. Она растянулась на снегу у земерзшего русла, спиной уперлась в торчавшее бревно, занесенное сюда лавиной еще прошлой весной.
Всадника Аримаса нашла не сразу. Наполовину утонувший в снегу, он лежал недалеко от острого гранитного столба. Рука его как-то странно выглядывала из снега, словно человек этот видел Аримасу и звал к себе.
Аримаса подошла ближе, забросила гнедому на спину повод и присела у засыпанных снегом ног всадника. Лицо его, с густыми бровями, коротко подстриженной бородой и пышными усами, было таким непривычно белым, что Аримаса удивилась — такого она никогда не видела. Лоб и щеки плотно обтягивал темный капюшон, подбитый изнутри мехом, а по краям — расшитый серебром. Такой же узор Аримаса заметила и на его кафтане. Из-под раскрытого ворота выглядывала украшенная золотым шитьем красная шелковая рубаха.
— Богатый. Наверное, какой-нибудь князь, — вслух предположила Аримаса. — Может быть, боги мне разрешат забрать одежду? Теперь она ему не нужна, похоронить можно и в попоне. Вернуться в саклю, спросить отца?
Аримаса встала, еще раз взглянула на лицо всадника и насторожилась. Показалось, будто дрогнуло что-то или тень пробежала по щекам. Наклонилась и, притронувшись рукой к его губам, почувствовала тепло. Да и усы слегка заиндевели! Значит, дышит? Жив?
Аримаса присела, сильнее расстегнула ворот кафтана, приложила ухо к белой груди всадника — услышала несильные, но достаточно четкие удары сердца.
— Как же это я сразу не догадалась потрогать рукой? — упрекнула себя Аримаса. — Жив! Радость-то какая!
Аримаса вскочила на ноги, сняла с гнедого попону, расстелила на снегу и перетащила на нее непослушное, почти безжизненное тело. Носок левого сапога был разодран в клочья и заледенел в крови. Осторожно, чтобы не потревожить ногу, она связала концы попоны, пристегнула длинными ремнями к гнедому и потихоньку повезла к сакле.
— Отец, он жив! — с порога крикнула Аримаса. — Подбрось дров в огонь.
Мадай удивленно поднял голову — разве можно свалиться с такой скалы и остаться живым, — он кинулся помогать Аримасе, но закашлялся и отошел в сторону. Успокоившись, сказал:
— Близко к костру не клади, пускай привыкнет к теплу.
Аримаса развязала попону, наклонилась над раненым, сняла с усов намерзшие льдинки.
— Посмотри, отец, какой он красивый. Наверное, из знатного рода.
Мадай опустился на колени рядом с Аримасой. Расстегнул раненому ворот рубахи, приложил к груди свою сухую руку.
— Совсем холодный. Молодой, может, отойдет? Или нет?
— Что же делать? — бросила на отца испуганный взгляд Аримаса. — Придумай что-нибудь, отец. Ты же все знаешь.
— Не все, дочь моя. Не все. Я в горы ходил в одиночку, людей не видел. Вот мать твоя, хоть и молодая была, много знала. Перед тем, как тебе появиться на свет, со мной случилось несчастье. На леднике я провалился в расщелину. Выбраться — выбрался, а дойти до селения сил не хватило. Присел под сосной и уснул. Меня подобрали охотники и принесли в саклю. Мать твоя тоже не велела сразу к огню подносить, чтобы к теплу привык. Потом нагрела войлок, медвежью шкуру, раздела меня и сама обнажилась, и закуталась со мною в мех. Своим теплом и отогрела. Как видишь — до сих пор живу.
Аримаса смутилась.
— Спасти человека — все равно, что в полуночный час осветить его солнцем, — понял Аримасу Мадай. — Нечистого здесь нет. Солнце всегда благородно. Даже если оно заглянет в навозную яму, и тогда не осквернится. Вспомни весну. Чем больше по велению Хырт-Хурона солнце прогревает мокрую, грязную землю, тем быстрее растут травы. Человек потому и существует, что носит в себе божественное тепло. И поделиться им с другим человеком — для обоих радость.
Аримасе хотелось помочь попавшему в беду человеку. Корила себя, что не научилась обращаться с больными. Когда люди жили рядом, нужды в том не было. Сама она никогда не болела, да и отцу особого лечения не требовалось, а старость — даже боги остановить не в силах.
Аримаса подошла к костру, подбросила в огонь поленьев, вернулась назад и опять присела у изголовья больного. Но сидеть просто так, без дела, ей было трудно, не хватало терпения. Чтобы чем-то занять себя, она взяла гнедого, сходила с ним к речке, к Хвосту еминежа. Случайно обнаружила присыпанный снегом, оторвавшийся от седла хурджин. В нем были лепешки, сыр, плащ, книга, похожая на ту, которую она видела у священника, у отца Павла, жившего в маленькой церквушке в центре селения. Сама она в церкви бывала редко. Хоть и крестили ее в детстве, но со старой верой не разлучили. Как и отец, Аримаса больше надеялась на Апсаты, бога, который покровительствует охотникам.
Аримаса приволокла к сакле погибшую лошадь. Но рубить мясо не стала, отложила на завтра, поспешила в саклю к больному.
У костра, на вбитых в землю жердях, уже прогревался толстый войлок и две медвежьи шкуры. Мадай сидел у ног больного, тряпицей обвязывал рану на ноге.
— Много крови потерял, — Мадай печально взглянул на вошедшую дочь. — Не пойму, чем он разодрал себе ногу. То ли о камень, то ли еще обо что.
Аримаса присела сбоку.
— Готовь постель, раздевай его и укладывай, — поторопил Мадай. — Пора уж.
Расстелив рядом с костром горячую полсть, а поверх — медвежью шкуру, Аримаса затащила на нее больного, раздела его.
Решительно сбросив с себя одежды, она легла рядом и, укрывшись, тесно прижалась грудью к чужому мускулистому телу. Сначала Аримасу пугал исходивший от него колючий холод. Но, согревшись под горячим мехом, вскоре перестала чувствовать чужим незнакомого ей человека. Наоборот, захотелось заслонить его собою от смерти, чтобы душа его осталась здесь, не отлетела в вечное царство мертвых.
Может, никому смерть не принесла столько страданий, как ей. На глазах погиб почти весь ее род. Скоро исполнится год, как она, кроме отца, не видела ни одного человека. И теперь, когда в сакле появился попавший в беду мужчина, всем сердцем надеялась, что боги будут к ней справедливы, не допустят еще одной смерти. Сравнивая свою жизнь до лавины и после, она пришла к немудреному выводу: если у человека есть счастье, то оно есть, и ему всегда хватает — и мяса, и хлеба, и одежды, и тепла. А нет счастья — и жизнь становится обременительной.
Дремота овладела Аримасой. Засыпая, она попросила Хырт-Хурона дать этому мужчине хоть самую маленькую частицу тепла от своего жаркого солнца.
— Пусть его дорога будет длинной и счастливой, — прошептала Аримаса и погрузилась в сон.
И не слышала дочь старого Мадая, что бог огня и солнца, повелитель судеб людских, источник всех благ и радостей, внял ее молитве, продлил жизнь человеку, которого она согрела своим телом.
Мужчина очнулся. Сильнее забилось его сердце, весенним родником всколыхнулась молодая кровь и быстрее побежала по жилам.
Голова была еще туманной, но сознание возвращалось. Почувствовав себя в объятиях женщины, он попытался вспомнить, как попал к ней. Ничего не сообразив, приподнял свою непривычно отяжелевшую руку, провел ладонью по гладкой, бархатистой спине обнявшей его женщины. Хотел лечь удобнее, освободить затекшую ногу, но, едва пошевелил ею — острая боль пронзила все тело, сдавила голову, и мужчина снова потерял сознание. Но сердце его не остановилось, продолжало уверенно биться.
Они еще долго лежали, обнявшись. И только глубокой ночью к мужчине снова начало возвращаться сознание. Он застонал, и Аримаса проснулась. Грудь ее стала совсем мокрой и скользила по его напряженному, чуть вздрагивающему телу. Где-то между ними накапливалась вода, и стоило ей чуть пошевелиться, вода быстрым ручейком стекала по ее животу на густой медвежий мех.
Осторожно, чтобы не потревожить мужчину, Аримаса выкатилась из-под медвежьей шкуры, оделась и села у него в изголовье.
Проснулся Мадай, встал, подбросил в костер дров и, кряхтя, опустился около дочери.
— Ну как? — спросил Аримасу.
— Он весь мокрый.
— Это хорошо. Хворь из него выходит.
Мужчина опять застонал и открыл глаза.
Он посмотрел на старика, потом перевел взгляд на женщину, пытался понять, кто эти люди, которые сидят перед ним. У него слегка кружилось в голове, и потому казалось, что лица старика и женщины, тускло освещенные красноватым мигающим пламенем костра, плавают в покрытой рябью мутноватой воде. Временами они виделись ему такими расплывчатыми, что он начинал сомневаться — в самом ли деле этот старик и эта женщина сидят подле него или они грезятся ему.
Он снова прикрыл глаза. Кружиться в голове перестало, и он тут же вспомнил все, что произошло с ним на обледенелом утесе.
Сознание, наверное, он потерял сразу, как только свалился с кручи. На что он упал? На снег? На мерзлую землю?
Чем больше он осознавал случившееся, тем сильнее чувствовал боль в своем теле. Будто его побили палками. Или камнями. В древней Иудее, как сказано в Библии, неверных жен приговаривали к смерти, к побитию камнями. Ему хотелось улыбнуться своему нелепому сравнению, но он не сумел этого сделать. Сил не было. Тело его горело. Порой казалось, что в утробу ему поставили жаровню с углями. Во рту стало так сухо, что трудно было пошевелить языком
Ему хотелось пить, но ни старик, ни женщина не догадывались поднести хотя бы глоток воды. Он пошевелил губами, попросил пить, но голоса своего не услышал. Сухое горло не издало ни одного звука.
Он испугался, что эти люди, если даже он и наберется сил, заговорит с ними — хоть по-русски, хоть по-грузински — не поймут его. Они ведь не грузины. Последнее грузинское селение отряд миновал еще два дня назад. Там, в селении, крестьяне угощали ратников горячей бараниной и сыром и говорили, что впереди, за перевалом, грузинов уже нет, там живут аланы. Он не знал языка аланов, хотя в Тифлисе, при царском дворе, их было много. Он заучил всего несколько аланских слов, но сейчас и они не приходили ему на память.
И тут он вспомнил, как посол царицы Тамары заверял князя Юрия, что в Алании переводчик не понадобится. Почти все аланы двуязычны, владеют не только своим, но и половецким языком. Князь Юрий, всегда сдержанный, в этот раз не удержался, похвалился послу, что и русичи, особенно на юге, тоже свободно изъясняются с половцами, тоже говорят на двух языках.
Мужчина шумно, с присвистом и хрипотой — так клокотало в горле, вздохнул, открыл глаза, посмотрел на женщину и еле слышно попросил на тюркском:
— Суу бер ичерге — дай воды попить.
Женщина задумалась на мгновение, мельком взглянула на старика, и тут же ответила:
— Я согрею тебе молока, — улыбаясь, она ладонью вытерла его мокрый лоб, ласково погладила щеки. — Полежи, я быстро.
Мужчина хотел повернуться на бок, но тут же сморщился от боли, застонал и закрыл глаза.
Аримаса налила молока из большого кувшина в маленькую корчагу, поставила к углям.
Боль прошла, и мужчина снова поднял веки. Мадай наклонился ниже и тихо спросил:
— Ты кто?
— Я русич, Игнатием зовут…
И еще что-то произнес раненый, но то ли старик не расслышал последних слов, то ли просто не понял их, однако согласно кивнул головой.
— Аримаса, его зовут Русич, — сказал Мадай, когда дочь принесла молоко. — Ты без нужды не тревожь его. Пусть сил набирается.
Аримаса приподняла Русичу голову и поднесла ко рту корчагу с молоком.
Утром ему стало легче. Аримаса не скрывала своей радости, зарезала косулю, напоила его горячей кровью. Потом сварила почти половину туши, по нескольку раз на день садилась рядом с Русичем, поила его жирным бульоном, выбирала самые лучшие кусочки мяса, кормила с рук. Она, повеселевшая, без умолку рассказывала, как научилась охотиться, бить зверя, добывать пищу для себя и своего отца, старого Мадая, при этом постоянно улыбалась и ласково смотрела на Русича.
День ото дня он набирался сил, но нога продолжала болеть. Временами Русичу казалось, что рана заживает, боль начинает исчезать, но потом она снова усиливалась, мучила его ночами.
Русич чувствовал неловкость от своей беспомощности. Наверное, беспомощность эта и напомнила ему князя Михалка, которого шестнадцать лет назад довелось встречать в Москве, на границе Суздальской и Черниговской земли. Князь Михалко находился тогда почти в таком же состоянии: «Вышедшю же из Чернигова Михалкови и уя и болезнь велика на Свине. И възложивше на носилице несяхуть токмо ле жива…»
Это было год спустя после убийства Андрея Боголюбского. Михалко ехал во Владимир, чтобы еще раз попытаться завладеть великокняжеским столом. Но если год назад, после похорон Андрея, он надеялся только на свои силы да право старшего сына Долгорукого, то теперь жители Владимира, недовольные правлением Ростиславичей, сами направили к нему послов: «Ты старший между братьями, — передали послы волю горожан, — приходи к нам во Владимир; если ростовцы и суздальцы задумают что-нибудь на нас за тебя, то будем управляться с ними как бог даст и святая Богородица».
Позвать Михалка их принудила ненависть ростовских бояр к городу Владимиру, населенному простолюдинами, зарабатывавшими себе пропитание и порты на строительстве дворцов и церквей, которое вел Боголюбский.
Ростовцы и суздальцы, после смерти Андрея, захотели свою правоту поставить, сказали: «Как нам любо, так и сделаем: Владимир — пригород наш. Если захотим, пожжем Владимир или пошлем туда посадника: те бо суть холопи наши каменосечцы и древоделы и орачи». И хотя владимирцам все же удалось отвергнуть притязания старших городов, перенесших к себе в Ростов великокняжеский престол, и отказаться от посадника — вместо него приняли у себя младшего брата Ростиславичей, Ярополка, — но положение их от этого не улучшилось. Ростиславичи — князья молодые, во всем следовали воле бояр. А те поучали их больше брать с владимирцев взяток и судебных взысков. Не только простолюдины терпели тяжкие поборы, князья растащили из церкви Владимирской Богородицы золото и серебро, отобрали ключи от ризницы и все дани, какие назначил князь Андрей для этой церкви, задумали ограбить и великолепный Успенский собор — тоже детище покойного Боголюбского.
Такого терпеть дольше уже не было сил, и владимирцы стали собираться на сходки, говорили: «Мы приняли князей на всей нашей воле, они крест целовали, что не сделают никакого зла нашему городу, а теперь они точно не в своей волости княжат, точно не хотят долго сидеть у нас, грабят не только всю волость, но и церкви; так промышляйте, братья!»
Помня старую присягу Долгорукому, владимирцы приютили у себя княжича Юрия, сына Андрея Боголюбского, изгнанного Ростиславичами из Новгорода, не побоялись, что у Юрия начнется распря с двоюродным братом, Ярополком. А когда отрядили ополченцев в Москву для встречи Михалка, то упросили Юрия стать во главе их, сказали: «Либо Михалка князя себе добудем, либо головы свои сложим за святую Богородицу и за Михалка князя».
Юрий и сам не против занять стол отца, стать князем Владимирским, огорчался, что нет на то воли народа. К тому же понимал он, что черед его еще не пришел. Никто не позволит ему сесть на великокняжеский стол, коль живы младшие отцовы братья, Михалко и Всеволод. Потому согласился вместе с худыми владимирскими людьми и примкнувшими к ним переяславцами выступить против Ростиславичей. А Игнатию — что: куда княжич, туда и он, как нитка за иголкой. Еле-еле успел съездить в Боголюбово, повидаться с отцом и матерью.
Настасья расстроилась, сказала Игнатию, что лучше бы он не приезжал. И все потому, что Козьма, узнав, что владимирцы отправляются встречать князя Михалка, решил ехать вместе с Игнатием, старшим своим сыном, да еще взять с собою и младшего, Хомуню. «Пускай, — говорит, — мир увидит, привыкает к походам».
* * *
Несколько дней кряду шли дожди, гремели грозы. Москва-река вспухла от паводков, залила низины, затопила луга, подбиралась и к стенам города. Дорога отяжелела, превратилась в сплошное месиво. Но перед самым прибытием князя Михалка в Москву дождь внезапно прекратился, тучи разбежались по сторонам, небо над городом очистилось, засияло солнце, и владимирцы увидели в этом доброе предзнаменование, дружно высыпали за ворота встречать Михалка.
Носилки с князем были уже недалеко, в сотне шагов от встречавших, как в толпе началось беспокойство, люди потеснили друг друга, зашумели. Игнатий, стоявший впереди, рядом со своим господином, пошел узнать, что случилось, отчего взволновался народ, он пробрался к Козьме и Хомуне, которые расположились чуть в стороне, на валу. Оттуда увидел, что встречать Михалка вышли и люди московские. Это обрадовало владимирцев и одновременно удивило, что они тоже решились ослушаться своих бояр, Кучковичей, преданных Ростиславичам, и примкнуть к Михалке.
Между тем, уставшие дружинники опустили носилки на сочную, еще не обсохшую от проливных дождей густую траву, помогли Михалке подняться на ноги. Собравшиеся у ворот сразу окружили князя, вместе с ним целовали крест, клялись в верности друг другу, обещали не щадить живота в битве с Ростиславичами.
Встреча закончилась обедом. За столом рядом с князем сидели знатные и простолюдины, вместе с Михалко и его дружинниками пили мед и вино из рога Святовита. Только на сей раз не дождя просили у языческого бога, а изобилия и прибыли. Считали, что зло и вражда между людьми, подобно сухмени и жаре великой, тоже умаляют плодотворящую силу земли, а потому радовались, если кто нечаянно прольет вино или масло, дружно кричали, что пролитое к добру, земля сторицей оплатит даже эту маленькую жертву.
Князь Михалко, славившийся ученостью и книжностью, никогда не поклонялся языческим богам и строго осуждал идолопоклонство. Но на сей раз, чтобы не омрачить встречу и не нанести вреда душевному подъему народа, не только не хмурил бровей, наоборот, сам надрезал себе палец, пустил несколько капель крови в сосуд с вином, плеснул малую толику на землю, пригубил и передал кубок по кругу, приговаривая: «Будем же до смерти верны друг другу. А кто нарушит сию клятву, пусть кровь того человека прольется так же, как проливается это вино».
Простолюдинам нравилось, что Михалко не чурается худых людей, потянулись к нему со своими берестяными кружками, желали здоровья. Даже Козьма, не любивший хмельного, раскраснелся и под дружный смех князей рассказал байку о том, что первую на свете горилку выкурил сатана из куколя, подпоил ею прародительницу нашу Еву, а закусить дал запретным яблочком. С тех пор-то и пошел размножаться на земле род человеческий. А на Руси завелся обычай: чтобы люди лучше плодились — волосы жениха и невесты смачивать медом, а во время венца заставлять молодую чету пригублять бесовское вино, словно и вправду оно приносит здравие и богатство.
Хомуня, никогда ранее не видавший отца хмельным, удивился необычной его веселости и болтливости, смутился, упросил Игнатия уйти с обеда, увлек его посмотреть разгульную, вышедшую из берегов Москву-реку.
Едва минули городские ворота, увидели, как вдали, на краю широкой ровной площадки, наискось обрезанной крутым берегом, крестьяне украшали коня яркими красными лентами. Пока подошли ближе, мужики не только успели вплести ленты в гриву, но и обмазать медом голову лошади, повесить ей на шею два довольно больших, в локоть, жернова, спутать веревками ноги.
— Зачем это они? — удивился Хомуня.
— Водяного хотят задобрить.
Игнатий рассказал, что по обычаю, когда река выходит из берегов и начинает заливать луга и посевы, крестьяне миром, не торгуясь в цене, покупают лошадь, три дня откармливают ее хлебом и конопляными жмыхами, а затем топят в реке.
— Вишь, как вода колыхается, не терпится водяному, угощения ждет.
Крестьяне, признав в Игнатии знатного человека, расступились, почтительно пропустили вперед. И только самый старший, крепкий седобородый мужик, исполнявший обязанности жреца, не обратил внимания на пришедших. Не спеша завязал глаза лошади чистым рушником, спутанную, покрутил ее на месте, приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинец. Люби да жалуй нас, людей московских».
И тут Хомуня по «меховому старому чулку» на левой ноге лошади и обрезанному уху узнал кобылу, подаренную ему отцом год назад, к постригам.
— Это моя Серая! — громко воскликнул он и схватил Игнатия за руку. — Останови их.
Но было уже поздно, старик толкнул лошадь — она кувырком полетела с обрыва и, едва коснувшись воды, тут же исчезла в пучине.
Игнатий не стал выяснить, как Серая попала к крестьянам, угрожая саблей, доставил жреца на суд к князю Михалко.
Князь выслушал рассказ Хомуни о том, как Кучковичи увели его лошадь, спросил у Козьмы:
— Какие приметы у кобылы, которую подарил сыну?
Козьма назвал.
— Похожа она на ту, что утопил ты в реке? — спросил Михалко у жреца.
Старик низко поклонился князю.
— Может, и увел кто кобылу у отрока, однако не мы. В жертву водяному дадена купленная лошадь. Не нами так заведено, от дедов обычай чтим. Так что ряди по правде, князь.
Михалко кивнул головой.
— По правде буду судить. Как и положено, по закону.
Старик еще раз поклонился князю.
— Перед всем миром прошу, княже, ряди по правде. А закон что? Закон у каждого свой. Он все одно, что паутина: шмель пробьется, а муха увязнет.
Михалко велел найти и привести к нему того человека, у которого крестьяне купили лошадь.
Но суд до конца довести не удалось, приехал прелагатай, московский дружинник по имени Дрозд, сообщил, что Ярополк Ростиславич со своим войском идет на него, на князя Михалка.
— Ты сам видел, — Михалко с недоверием взглянул на молодого дружинника, — или тебе сорока на хвосте весть принесла?
Дрозд улыбнулся, хитро подмигнул людям, а князю сказал:
— А в Москве нету сорок, князь, тут они не летают.
— Как это не летают? Чем Москва не угодила им?
— Сорока унесла из храма частицу святого причастия — и митрополит предал ее проклятию.
Старик, утопивший лошадь, сделал шаг вперед.
— Совсем не так было, князь, отрок байку рассказывает. Митрополит здесь ни при чем, он никогда у нас не останавливался.
Михалко изогнул в удивлении лохматые брови, вопросительно посмотрел на жреца.
— Случилось это, когда убийцы преследовали боярина Кучку, предка нынешних господ наших. Боярин спрятался в кустах, а сорока выдала его своим щебетаньем. Вот он-то и предал ее проклятию.
Михалко рассмеялся, но тут же погасил улыбку, рукой отмахнулся от старика, наклонился к воеводе своему, Владимиру Святославичу, сыну Черниговского князя:
— Поднимай дружины, княжич, — и с богом на Ярополка, — потом повернулся к брату, Всеволоду: — Прикажи подать носилки, хочу впереди быть, среди ратников.
И только потом Михалко отпустил жреца, пообещал Хомуне довершить суд после победы над Ростиславичами.
Михалко сдержал слово. Как только все залесские города и Рязань признали его великим князем, заставил Ростиславичей вернуть награбленное, снова заехал в Москву, отомстил за своего брата — Андрея Боголюбского. «Князь, имея уже слуг готовых, велел немедленно убийцев главных взяв, а потом и княгиню привести пред суд, где яко дело известное, недолго испытав, осудил всех на смерть. По которому Михалко велел перво Кучковых и Анбала, повеся, расстрелять, потом другим 15 головы секли. Последи княгиню Андрееву, зашив в короб с камениями, в озеро пустили…».
Через год Михалко, не одолев болезнь, умер. Великокняжеский стол занял последний Андреев брат, Всеволод. Вот тогда-то и повернулась круто жизнь Игнатия. Всеволод не хотел иметь рядом с собой соперников, изгнал из Суздальской земли племянника своего, Юрия Андреевича. Тот вместе с Игнатием бежал сначала в Овруч, а потом к половцам, к хану Кончаку. Сблизился с сыном его, тезкой — Юрием Кончаковичем, кочевал с ним в степях Предкавказья, на Сунже.
После долгих лет мытарств и скитаний, когда Игнатий, наконец, решился вопреки воле Юрия Андреевича вернуться на Русь, случилась беда. Словно злая судьба всю жизнь преследует его. Хорошо, что в этом глухом ущелье он попал к добрым и хорошим людям, подарившим Игнатию не только жизнь, но и новое имя — Русич.
* * *
День ото дня нога Русича болела все сильнее и сильнее. Боль постепенно от пальцев переместилась вверх, стала острее, мучительнее. Он попросил Аримасу передвинуть постель к столбу, поддерживающему крышу сакли, чтобы можно было сидеть, опираясь спиной. Русич сам решил осмотреть больную ногу, начал снимать повязку, наложенную ему Мадаем, и оторвал ее вместе с пальцем. При этом он не почувствовал боли и с ужасом понял, что у него начался антонов огонь. Ему приходилось видеть людей, пораженных этим недугом: омертвевшие части тела, неживые, отваливались от туловища.
Русич смотрел на свою ногу, полностью осознав постигшую беду. Он наклонился, взял нож, позабытый Аримасой, острым лезвием ткнул туда, где отвалился палец, и опять не почувствовал боли. Тыча ножом в разные места, убедился, что почти до половины стопа у него омертвела.
В саклю неслышно вошла Аримаса, увидела бескровно отвалившийся палец, кинулась к Русичу, закричала и, содрогаясь от плача, опустилась перед ним на колени.
В дальнем углу зашевелился Мадай, подполз ближе, печальными глазами уставился на ногу Русича.
— О, боги! Зачем молодого, а не меня наказываете так жестоко, зачем было возвращать назад его отлетевшую душу?
Русич горько усмехнулся.
— Мадай, я не собираюсь помирать. Я еще жить хочу!
Старик выпрямился и со страхом взглянул на Русича.
— Смирись перед волей богов. С этим, — Мадай указал на отвалившийся палец, — долго не живут. Поверь мне, юноша. Дочь моя привезла тебя сюда, согрела своим телом и вернула к жизни. Втайне я надеялся, что Аримаса будет тебе достойной женой, хоть ты и чужестранец.
— Отец! — крикнула сквозь слезы Аримаса. — Не надо об этом.
— Прости меня, старого. Не снести мне больше испытаний, постигших наш род.
Русич растерянно смотрел на Мадая и его дочь. Он и раньше иногда вспоминал лежавшую с ним обнаженную женщину, но считал, что та приснилась ему, не мог даже представить, что это была Аримаса. Выходит, неправду она говорила, что раздевал его Мадай, застывшего отогревал медвежьими шкурами. Русич благодарно коснулся рукой лица Аримасы, погладил ее волосы, заплетенные в косы.
— Ты хочешь, чтобы я остался жив?
Аримаса, судорожно глотая слезы, кивнула головой и попыталась улыбнуться.
— Надо отрезать мне стопу.
— Как отрезать? — в один голос воскликнули Мадай и Аримаса.
— Вот здесь, — Русич ножом показал на щиколотку левой ноги. — Если не сделаем этого сегодня, то завтра придется отрезать по колено.
— Нет! Нет! — воскликнула Аримаса. — Я не могу этого сделать.
— Больше некому, Аримаса, Мадай слишком стар.
— Но тебе будет больно, ты будешь кричать?
— Возможно, — сказал он и неуверенно пожал плечами.
Аримаса отпрянула, широко раскрыла наполненные слезами глаза.
— Русич! Я не могу этого сделать!
— Надо, Аримаса. Иначе…
— Говори, Русич, что делать, — сказал Мадай. — Может, мне самому попробовать?
— Нет, тебе с этим не справиться. Надо притащить хорошее бревно, вскипятить корчагу жира, приготовить острый нож и ремни, чтобы привязать меня. А то от боли убегу еще, — пошутил он и обеими руками приподнял залитое слезами лицо Аримасы. — Успокойся. Ты же сильная.
Аримаса отрицательно покачала головой.
— Надо, Аримаса, — твердо сказал Русич.
Когда все было готово: в корчаге кипел жир, нож прокалился на углях, небольшое, но толстое сучковатое бревно лежало под коленом больной ноги, обернутой чуть повыше щиколотки лоскутом ткани и туго стянутой сырым ремнем, — Русич сказал:
— Привяжи обе ноги к бревну, а меня самого — к опорному столбу. Да посильнее, чтобы не дергался.
Аримаса молча сделала все, что приказал Русич.
— А теперь слушай внимательно. Стопу отрезай быстро, но не торопясь. Тебе не раз приходилось разделывать животных, знаешь, как отделяются кости. Потом возьмешь корчагу с кипящим жиром и окунешь в нее култышку, да не спеши вынимать, пусть хорошо ошпарится, зато после болеть не будет. Потом перевяжешь чистой тканью. Запомнила?
Аримаса кивнула головой.
— Ну, с богом, — Русич перекрестился. — Если начну кричать или просить остановиться — не обращай внимания. Все это не от ума будет, от боли. Только знай, чем быстрее закончишь, тем быстрее прекратятся мои мучения.
Аримаса взяла нож, стала на колени перед больной ногой, опустила руки.
— Нет, Русич, я не могу этого сделать.
— Хватит! Делай, что тебе велено! — грубо крикнул на нее Русич и в тот же миг дернулся от острой боли.
Он закрыл глаза, плотно затылком прижался к опорному столбу сакли, сжал зубы и уцепился руками в ремни, стянувшие ему грудь. Пальцы Русича побелели от напряжения, зубы заскрипели, но до самого конца он ни разу не вскрикнул, только негромко мычал и шумно втягивал в себя воздух.
Наконец, все кончилось. Аримаса, распластавшись на медвежьей шкуре, уткнулась лицом в мех, надрывно стонала, плечи ее, обтянутые тонким халатом, часто вздрагивали, окровавленные руки судорожно мяли край шкуры.
Мадай торопливо заворачивал в тряпку мертвую стопу, вытирал кровь. Из-под опущенных век Русича проступили слезы. Уронив на грудь голову, он сидел, не шевелясь, до тех пор, пока Мадай отвязал его от столба и вместе с дочерью оттащил на войлок. Аримаса хлюпала носом, избегала смотреть в лицо Русичу, прикрыла ему ноги медвежьей шкурой.
Русич уснул.
* * *
Рана заживала быстро. Еще задолго до весны Русич начал скакать по сакле на костылях, сделанных ему старым Мадаем. Потом дорожкой, протоптанной в снегу Аримасой, решился сходить к ручью, принес в кувшине воду. Воду он почти всю расплескал — костыли глубоко проваливались в снег, — сильно устал, но был доволен.
— Не горюй, Аримаса, — присев на бревно и вытирая мокрый лоб, пошутил Русич, — скоро у тебя будет помощник, станет легче. А то совсем замаялась с двумя немощными мужчинами.
Аримаса улыбнулась и опустила глаза на култышку, обмотанную мехом. Никак не могла забыть, как отрезала ногу.
* * *
Все было бы ничего, но Мадай совсем занемог, перестал вставать, а весной, чуть стаял снег, умер.
И Аримаса и Русич были готовы к этому печальному дню. Да и сам Мадай не цеплялся за жизнь, кончину свою встретил спокойно и в полном сознании. Ослабевшим голосом он подозвал Аримасу и Русича.
— Прощайте, дети мои. Слава богу, отмучился. Прости, Аримаса, что не сумел устроить твою жизнь. Так уж вышло нескладно.
У Аримасы потекли слезы.
— Не надо плакать, доченька, — задыхаясь попросил Мадай. — Прожил я много, ровесников своих похоронил, когда тебя еще на свете не было. Без печали отправляюсь в царство мертвых. И не хочу, чтобы душа моя видела твои слезы. Пусть остальные твои годы будут счастливыми. — Мадай передохнул немного, поискал глазами Русича. — Перед богом прошу тебя, Русич. Не бросай одну Аримасу в ущелье. — Мадай закрыл глаза. — Все, дети мои. Идите. Оставьте меня наедине с богами.
* * *
Похоронили старого Мадая далеко за речкой, в небольшой пещере. Аримаса поставила туда корчагу с водой, положила нож, бросила несколько кусочков угля и мела. Русич хотел сделать крест и пристроить его у могилы, но Аримаса не разрешила.
— Не верил он вашему богу, хоть и крещен был. Пусть будет так, как хоронили предков.
На обратном пути подошли к Хвосту еминежа, Аримаса показала Русичу место, где она подобрала его. Там же нашли саблю. Зимой ее не заметила под снегом. А весна отдала потерю. Ножны совсем испортились, но клинок лишь немного тронуло ржавчиной да позеленела бронзовая, украшенная серебром рукоять.
— Отвоевался, ратай, — тяжело вздохнул Русич и передал саблю Аримасе. — Может, сгодится.
В саклю заходить не стали. Отпустив гнедого, присели на бревнах и молчали долго, пока солнце красной жаровней не покатилось по откосу далекой вершины.
— Пойду дров в очаг подброшу, а то, боюсь, угли совсем перегорят, — опираясь на костыли, тихо сказал Русич.
Аримаса кивнула головой, тоже встала, следом вошла в саклю.
Немного места занимал Мадай, но без него как-то пусто стало в доме, одиноко. Аримаса присела чуть в стороне от еле тлевшего очага.
Русич собрал небольшой пучок тонких веток, раздул огонь, подвесил над ним котел с остатками мяса. Потом направился к сену, сложенному в углу сакли, набрал небольшую охапку и, прижав сено рукой к костылю, отнес в кормушку, положил корове и теленку. Сходил еще и столько же дал гнедому.
Аримаса печально смотрела на Русича, на то, как он, безногий, трудно делал обычную, не доставлявшую ей особых хлопот, работу. Русич вернулся к очагу и осторожно опустился на бревно.
— Иди сюда, Аримаса, — позвал он. — Посиди у огня, поешь. Что поделаешь, так уж все устроено. Человек смертен. Наступает время — он умирает. Но нам с тобой еще жить надо. И, может быть, еще долго.
Аримаса подошла, села рядом.
— Плохо мне, Русич. Отчего боги так несправедливы? Разве можно вынести все, что они возложили на меня одну. Или я настолько плоха?
— Все не так, Аримаса. Не верь, что дурным людям они посылают зло, а хорошим только добро. Бог ведь правду видит, да не скоро скажет. Не боги заботятся о человеке, а сами люди. Те, кто не становится глухим, когда узнает о чужой беде. Такие как ты. Разве боги спасли меня, не ты? — Русич помолчал, подумал немного и сказал: — Плохо, если человек только свою беду видит и заслоняется ею от всего мира. Люди, Аримаса, бывают разные. Одни не выставляют напоказ свое несчастье, взваливают на себя любую ношу и несут ее стойко. Оттого она и кажется остальным не особо тяжелой. Другие, наоборот, — сваливают свою ношу на плечи ближних своих. Ты принадлежишь к первым. В этом ты и хороша и для бога и для человека.
— Но ведь я других людей не вижу?
— Разве совсем ты отринута от людей? Всего только год прошел, как погибло селение. Считай — один миг. А до того вокруг тебя много их было: и хороших и плохих.
Аримаса вздохнула.
— Я подою корову и напою тебя теплым молоком, Русич.
— Подои, Аримаса, подои. А я пока, пожалуй, прилягу. Напрыгался за день, руки мои еще не привычны к такому.
Русич лежал на обычном своем месте, смотрел на черный от копоти потолок сакли и думал об Аримасе, о ее необычайной душевной силе, помогающей пережить несчастья, которые на нее свалились. Он завидовал ей. Найдется ли у самого столько сил, чтобы достойно перенести перемену в своей жизни.
Что наступила эта перемена, он понял давно, сразу, как антонов огонь мертвым пламенем охватил ногу. Все его благородные помыслы отдать себя отечеству, служить далекой, а теперь для него, может, и недосягаемой уже родине, стали неисполнимы. Как теперь найти дело, которое принесло бы удовлетворение душе? Особенно здесь, в затерянном от мира ущелье. Без посторонней помощи ему с Аримасой отсюда не выбраться. На костылях по горам далеко не уйдешь. А пахарю и охотнику нужны здоровые ноги.
Калека, наверное, оттого и считается человеком неполноценным, что в первую очередь сам осознает свою беспомощность. А осознав, напоказ выставляет убожество, чтобы люди прониклись жалостью. Смотришь, и нет уже прежнего человека. На взгляд, тот же самый, а душа другая. Но есть ведь и иные люди. Они тоже безрукие или безногие, а не замечаешь в них этого — настолько высоки они духом, правдивы и деятельны, не меняют своих благородных помыслов, как бы тяжело им ни приходилось.
Русич боялся слабости, вдруг и у него появится другая правда, отличная от той, которую имел раньше. Сумеет ли сохранить себя? Или как в присловье: «Гречиха стоит барыней, а хватит мороз — веди на калечий двор»?
Аримаса принесла молоко, прилегла на войлок. Русич выпил и отставил корчагу в сторону.
— Я бы с ума сошла, если бы тебя сейчас не было в сакле, — тихо прошептала Аримаса и придвинулась к нему ближе.
Красноватые всполохи костра неяркими бликами играли на щеках Аримасы, крохотными горячими искорками отражались в ее темных, широко открытых глазах, оттого и лицо ее казалось Русичу каким-то загадочным, притягивало к себе неизъяснимой силой, хотелось смотреть на него и смотреть неотрывно. Спокойное, будто сотворенное из бледного, розоватого мрамора, но не застывшее, а теплое и нежное, оно дышало, волновалось, жило теми чувствами и мыслями, которые в этот миг владели ею.
Вспомнилось, как он, впервые очнувшись после рокового падения с утеса, ощутил на себе ее горячее тело. Он тут же почувствовал, как приятно загорелась кожа на его ладони, вспомнившей прикосновение к нежной, словно покрытой бархатом, спине.
Русичу показалось, что Аримасу он знает всю жизнь. Словно и не было у него иных лет, которые прошли без Аримасы. Та, прежняя его жизнь, с каждым днем все больше и больше отдалялась. И теперь ушла в прошлое настолько, что иногда воспринималась, как сон. Русич вспоминал отца, мать, Хомуню — младшего своего брата, Боголюбово, Новгород-Северский. Но воспоминания эти порой походили на страницы давно прочитанной и утерянной книги. Русича пугало это. Он старался понять, почему так происходит. И после долгих раздумий решил: скорее всего потому, что ему суждено было умереть в этом ущелье. Но в последнюю минуту господь бог проявил к нему милость, позволил Аримасе и старому Мадаю спасти его.
Русич, сам того не ведая, видимо, давно убедил себя в этой выдуманной и неминуемой смерти, которая, к счастью, так и не наступила. Она-то, мнимая смерть, и привела к мысли о втором своем рождении, о новой жизни.
Если бы Русич не стал инвалидом, то сохранил бы надежду вернуться к отцу и матери. Теперь эта надежда рухнула окончательно. Вот почему прошлое воспринимается приятным сном. Теперь вся его жизнь здесь, в ущелье, рядом с Аримасой, самым родным ему человеком.
Русич, благодарный, нежно погладил Аримасу. Рука коснулась ее горячего бедра и он, одержимый нахлынувшим желанием, крепко стиснул Аримасу в объятиях и торопливо отыскал чуть вздрагивающие повлажневшие губы. Аримасу охватило сладкое волнение, и она еще сильнее прижалась к страстному телу Русича.
Прошумел по соснам и сразу стих ветер. Низкая туча белым весенним туманом скрыла саклю от усеянного мерцающими звездами неба. Поперхнулся и умолк филин. Притихли звери. Улетела кукушка.
Хороший человек достоин хорошей любви.
— Русич, ты мой муж? — спросила она, когда туман чуть рассеялся и луна заглянула в саклю.
— Да, Аримаса.
Аримаса погладила его бороду, потрогала нос, усы, прижала его руку к своей щеке.
— Русич.
— Что, Аримаса?
— У тебя красивое имя — Русич.
— Это не имя, Аримаса. Меня зовут Игнатием…
— Нет, нет! — ладошкой прихлопнула ему рот. — Я не хочу другого имени. С первого дня оно мне понравилось. Пусть у тебя будет только одно имя — Русич. Если услышу другое, то, боюсь, боги опять отвернутся от меня.
— Хорошо, Аримаса. Мне тоже нравится, что ты зовешь меня Русичем. Я и есть Русич.
Русич долго целовал ее губы, глаза, шею, грудь. Аримаса смеялась и ерошила ему волосы.
— Почему мне так хорошо, Русич?
— Потому, что ты моя жена, Аримаса. И лучше тебя на свете никого нет.
— Ты от меня не уедешь?
— Нет, Аримаса. Если уезжать, то только вдвоем.
— У нас с тобой хорошее ущелье, Русич.
— Мы родились здесь. Ты в первый раз, а я во второй.
— У тебя очень красивый крест, — она поднесла к глазам энколпион, висевший на груди Русича. — У меня тоже есть, но не такой, на нем нет страдающего Иисуса. Сейчас принесу, покажу. Он в углу на стене висит.
Аримаса встала, подошла к костру, подбросила дров, поворошила угли. Ярко вспыхнуло пламя и высветило обнаженную Аримасу. Ее длинные распущенные волосы упали на лицо, и она, поднимаясь, легким движением отбросила их за спину.
— Ты красива, Аримаса. Видно, бог все отдал тебе, что припас для других женщин.
— Он для тебя старался, Русич, — счастливая, улыбнулась Аримаса.
Она прошла в другой конец сакли, и Русич следом повернул голову, не мог оторвать глаз. «Бог не простит мне, если из-за меня Аримаса погубит себя чрезмерной работой. Коль она считает меня мужчиной, то им я и должен быть. Охота и пашня не для нее», — подумал он. А вслух сказал:
— Скорее иди, Аримаса. Так долго я не могу без тебя.
Аримаса подошла и села рядом, поцеловала Русича.
— Посмотри мой крестик. Он совсем крохотный, но зато никогда не темнеет.
— Золотой?
— Да. Вверху, где начинается наша речка, отец нашел три маленьких камушка. Давно это было. Еще в тот год, когда я появилась на свет. Один променял на крестик, а два — до сих пор валяются в коробке, где хранятся иголки и нитки. Говорят, что в Аланополисе все можно купить на эти камушки, а здесь — кому они нужны?
Аримаса положила руки на плечи Русича.
— Помню, когда Сахиру, сестру мою, Бабахан взял себе в жены, все селение собралось около церкви. Было торжественно и красиво. У нас ведь тоже сегодня свадьба? Давай обменяемся крестами. И я твой всю жизнь буду носить на своей груди.
У Русича дрогнуло сердце, он почувствовал, как повлажнели глаза. Снял энколпион и повесил его Аримасе. Шнурок оказался немного длинноват, но Русич не стал укорочивать. Крест уютно расположился в ложбинке между нежными, упругими мякитишками. В полном молчании приклонил к ней голову, трижды прикоснулся губами к ее устам.
То же самое сделала и Аримаса.
— Теперь и перед богом ты жена мне, Аримаса. Я хочу научиться языку твоих предков. Почаще говори со мной на аланском. А сейчас скажи мне, Аримаса, как по-вашему будет — жена?
Аримаса засмеялась и поцеловала Русича.
* * *
Утром, на восходе солнца. Русич спросил:
— Аримаса, ты не помнишь, поблизости в лесу растет тис?
— Железное дерево? Да, совсем рядом. А зачем тебе?.
— Проводи меня туда. Хочу из тиса сделать себе деревянную ногу.
— Я срублю и принесу.
— Нет, Аримаса. Мне нужно самому это сделать.
— Ну хорошо. Заодно поставлю ловушку. Как раз время охоты на кабана. А то мы лошадь твою уже съели.
Для приманки Аримаса из своих запасов достала буковых орешков, заготовленных еще с осени, и они отправились в лес.
Поймать кабана в ловушку не просто. Охотники предпочитают стрелять в него из лука. Специально для Аримасы Мадай, когда начали ему отказывать ноги, придумал особую систему петель и растяжных ремней, сам нашел в лесу место, где лучше ставить ловушку, показал дочери, как это сделать. С тех пор каждую весну, когда голодный кабан рыщет по лесу в поисках пищи, Аримаса приходит на то место, посыпает приманку, ставит петли. И чаще всего ей везет. Могучий зверь повисает на ремнях, за ночь теряет силы, и убить его не сложно, если до этого не раздерет волк, медведь или барс.
Снега в лесу еще много, но он хорошо слежался за зиму, костыли почти не проваливались, идти было легко.
— Вот и пришли, — Аримаса остановилась, похлопала рукой по мокрому стволу тиса. — Тут много железных деревьев, выбирай любое.
Русич сбросил со спины хурджин — топор звякнул о брусок точильного камня.
— Ну, я пошла, — Аримаса прижалась к Русичу и заглянула ему в глаза. — Мне еще далеко.
Русич обнял ее, поцеловал.
— Я не хочу, чтобы ты ходила на охоту, Аримаса. Это мужская работа.
— Я привыкла, мне не тяжело. Когда отрубишь то, что тебе нужно, оставь здесь и ступай в саклю. Я заберу на обратном пути.
— Иди, иди, — подтолкнул ее Русич. — Если есть дорога короче, ею и возвращайся. Я буду ждать в сакле.
Аримаса притронулась к его бороде, улыбнулась и быстро зашагала по твердому насту. Как только она скрылась из виду, Русич взял топор, выбрал подходящее, на его взгляд, дерево, опустился перед ним на колени и сделал надруб.
Тис с трудом поддавался, и Русич, поначалу задумавший отрубить сразу два коротких полена, ограничился одним, но длинным. Кое-как укрепил его за спиной — стоя на одной ноге, сделать это оказалось не просто, — отправился в обратный путь.
Идти на костылях было неудобно. При каждом прыжке, как он ни отклонял голову, полено норовило стукнуть его по затылку или снизу по ноге. Пробовал прицепить полено по-иному, но всяко было плохо и тяжело. И хотя от снега тянуло сыростью и холодом, пот ручьями струился по телу, руки, отвыкшие от тяжелой работы, немели, отказывались держать костыли. Иногда, поскользнувшись, он падал на снег, костыли разбегались в стороны и ему на коленях приходилось ползать за ними, обдирая руки о жесткие, вмерзшие в наст ветви. Аримаса догнала мужа у самой сакли. Увидев его мокрого, ободранного, с трясущимися руками, она испугалась и, не сдержавшись, выругала:
— Русич, ты изведешь и себя и меня. Какой ты жестокий.
Прислонившись спиной к сосне, он посмотрел на нее, вытер рукавом пот и улыбнулся.
— Ты помнишь себя маленькой, Аримаса?
Она удивленно вскинула брови.
— Ты ни разу не набивала колени?
— К чему все это?
— Считай, что я ребенок, делаю первые шаги, — Русич отклонился от сосны, сделал строгое лицо и в шутку прикрикнул: — Да освободишь ли ты меня, наконец, от этой проклятой ноши!
Аримаса выхватила нож, обрезала ремни.
— Оба мы с тобой дети, Русич. Лошадь стоит в сакле, а ты на себе бревна таскаешь.
На следующий день, пока Аримаса съездила на гнедом проверить ловушку и притащила кабана, Русич у сакли встречал ее без костылей, в руке у него был только один короткий посох. Левая нога его коленом опиралась на заостренный книзу столбик. Шел он, переваливаясь с боку на бок, отбрасывая в сторону буровато-красную деревянную ногу.
Аримаса, радостная, соскочила с седла.
— Теперь ты ходишь, как корова с переполненным выменем, — засмеялась она, обнимая Русича. Чуть отступив назад, спросила: — Ну как? — глазами показывая на деревяшку.
— Надо больше подложить меха и посильнее привязать — набивает колено. А вообще — хорошо. Главное — руки почти свободны, могут работать.
Русич постепенно перекладывал на себя заботу о доме. Заготавливал дрова, утеплял саклю. У брошенных домов нашел поломанную арбу, восстановил колеса и сделал из нее одноконку. И когда подсохла земля, вдвоем поехали на пашню. Надо было сохой рыхлить почву, сеять ячмень, вырывать сорняки на участке многолетней ржи.
Стояли теплые солнечные дни. Дышалось легко, работалось в удовольствие. Потому-то первый дождь, слабый, чуть-чуть моросящий, они и восприняли как не ахти какую помеху, от которой ни вреда большого, ни пользы. Но дождь, на удивление им, не прекратился до самого вечера, шел и на следующий день, и еще на следующий…
Русич томился от безделья. Небо походило на бурдюк, который висел на сосне — вода из него сочилась по капле в час, но лужа и в сухую погоду не высыхала. Так и этот дождь. Сыпал редко, а слякоти наделал много. Грязь тяжелыми комьями липла к обуви, тащилась следом. Было так тоскливо, что не хотелось выходить из сакли.
Каждое утро, проснувшись, Русич брал костыли и торопливо прыгал к двери, отворачивал полсть, выглядывал наружу, надеясь увидеть солнце. Но небо оставалось хмурым. Оно опустилось так низко, что казалось, вот-вот ляжет на крышу.
Внизу, у речки, за Хвост еминежа, за каждый пригорок и даже за большие валуны редкими хлопьями цеплялся туман. Легкий, еле заметный ветерок клубил сизую полупрозрачную стылость, будто пытался оторвать ее от мокрых утесов, да, видать, сил не хватало.
Наконец, пришел день, когда солнце все же заглянуло в ущелье. Усилился ветер, пропал туман. Едва подсохло — поехали на пашню. Но в первый день не сделали и половины того, что намечали. Опять пошел дождь. И не мелкий, как раньше, а крупный, с порывистым ветром. Работали до последней минуты, так что еле успели добежать до арбы и спрятаться под кошмой. Коня запрягать не стали, решили подождать, пока ветер прогонит тучи.
Мощные струи дождя словно плетьми глухо, но резко секли по плотному войлоку и ручьями стекали на землю. Арба стояла в небольшой низине и вскоре под ней образовалась огромная лужа.
— Боги прогневались на нас, Русич, поэтому и заливают ущелье водой, — сказала Аримаса.
— Чем же мы им не угодили?
Аримаса пожала плечами.
— Я сейчас попрошу их, чтобы больше не посылали нам сырость, — улыбнулся Русич.
Он вытащил из-под себя клок сена, подставил под дождь, чтобы чуть размякло и меньше ломалось. Потом достал из хурджина клубок тонких ремешков, лоскут мягкой кожи, нож. Поискал глазами, куда все это положить, чтобы не свалилось в воду. Не нашел, попросил Аримасу подержать. Снова заглянул в хурджин, пересмотрел, что там еще осталось, но кроме обрезков ремней, топора, точильного камня и наконечников для стрел, ничего подходящего не нашел.
Отложив хурджин в сторону, взял влажное сено, туго перевязал его тонким ремешком. Одну сторону подровнял, чтобы сноп можно было поставить торчком. Вторую, словно платком, повязал лоскутом кожи, ремешком обозначил шею, пристроил руки — получилась кукла. Из обрезков кожи сделал ей глаза, нос, рот.
— Ее зовут Мокрина, — удовлетворенно посмотрев на свое творение, сказал Русич. — Сейчас будем хоронить ее, утопим в луже, под арбой.
— А мне почему-то жалко ее. Зачем было делать?
— По-другому нельзя, Аримаса. Иначе дождь не перестанет. Но сначала я попрошу ее, чтобы прекратила дождь. А ты, наоборот, ругай Мокрину за то, что сырость развела на земле.
Русич сделал скорбную гримасу и жалобно, чуть не плача, в полный голос запел:
Мокроти-инушка мо-оя-я, Красавица ненаглядна-ая-я, Помоли-ися богу, чтобы солнышко согре-ело-о. Хлебушко мы посеяли ба-а, А то уже все помокло-о…Аримаса хохотала. Русич погрозил ей пальцем, она включилась в игру:
Ах, бесстыдница, Ах, нехорошая, Поле замочила, Сеять не даешь!Снова запел Русич:
Мокроти-инушка-а, богу помоли-ися, Чтобы хлебушко вырос наш, Да быстрей поспел ба-а. Чтобы хлебушко убрали-и, И зернышко прибрали-и, И чтобы мы сыты были-и…Аримаса наклонилась к кукле:
Ах, бесстыдница, Ах, нехорошая, Пашню замочила, Сеять не даешь!И опять Русич:
Мокроти-инушка ты моя-а, Сестричка родна-ая, Мы тебя хороним, Не для того, чтобы ты гнила, А для того, чтобы ты зазеленела.Русич опустил в воду Мокрину, костылем вдавил ее в грязь, привалил камнем.
К удивлению Аримасы, дождь и в самом деле перестал. Небо стало ясным, безоблачным. Солнце по-летнему грело землю.
— Ты волшебник, Русич, — сказала Аримаса.
* * *
Жизнь текла размеренно. Единственно, что беспокоило Русича, — заготовка сена. Травы поднимались быстро, и он не представлял, как будет резать их серпом. С деревянной ногой наклоняться к земле трудно, а на коленях много ли наработаешь? Была бы кузница да хорошая стальная полоса, он постарался бы сделать косу. Но железа у Мадая, кроме топоров, серпов, наконечников для стрел и еще кое-какой мелочи, не имелось.
Русич еще раз обошел остатки селения, но нашел лишь две короткие железные пластины и ржавый серп.
Он уже смирился с мыслью, что резать траву придется, в основном, Аримасе, а ему сушить и отвозить домой. Но выбрасывая из сакли остатки прошлогоднего сена, в углу обнаружил свою саблю. О сабле он совсем забыл и обрадовался ей не меньше, чем искатель драгоценностей — кладу.
Неподалеку от сакли быстро соорудил горн, установил наковальню. Самым сложным оказалось из пластины и старого серпа сделать клещи. Они получились слишком короткими и держали плохо. Но Русич кое-как приспособился и, перекрестившись, вытащил из горна раскаленную добела саблю.
У горна провозился до самого вечера. И хотя коса получилась тяжеловатой, но резала траву хорошо. Он опробовал ее тут же, рядом со своей кузницей.
Прокосив в густой траве широкую, ровную дорожку, Русич бережно обтер тряпкой влажное, позеленевшее от сочной травы полотно и направился к сакле, не терпелось показать жене свое изделие.
Но Аримасы в сакле не было. Русич поставил косу к стене и, недоумевая, куда она могла уйти, присел отдохнуть. Когда возился, усталости не чувствовал, а теперь дало знать о себе набитое за день колено, да и здоровая нога набрякла от напряжения.
Аримаса вернулась расстроенной. Искала корову, но ни внизу, ни вверху по ущелью ее не нашла. Только в одном месте, когда переходила речку, у самого берега, между кустами, увидела ее следы. Аримаса хотела седлать коня и снова отправиться на поиски, но Русич уговорил не делать этого на ночь глядя, все равно скоро стемнеет, ничего не будет видно.
Аримаса долго не ложилась спать, возилась с посудой, часто выходила из сакли, звала лысуху, но темное ущелье молчало, лишь сосны еле слышно шептались хвоей со слабыми волнами ночного ветра. Когда она, наконец, легла рядом, Русич попытался приласкать и успокоить Аримасу. Но она не отвечала на ласки, тяжело вздыхала и все время думала о пропаже.
— Зря ты так расстраиваешься, проживем как-нибудь и без коровы.
— Ничего ты не понимаешь, Русич. Апсаты, покровитель охотников, не всегда бывает таким добрым как сейчас. А кормить тебя мне нужно каждый день.
Аримаса поднялась с рассветом. Наскоро перекусив, взяла лук, колчан со стрелами, оседлала гнедого и отправилась на поиски лысухи.
* * *
Ночью прошел дождь — и речка, на берегу которой вчера видела следы коровы, вспухла, стала мутной и бурной. Аримаса с трудом отыскала место, где можно перебраться на противоположный берег, на безлесую сторону ущелья.
Пока солнце выглянуло из-за дальних снежных вершин, она поднялась на гребень, откуда открывался вид еще на одно небольшое, но сплошь покрытое лесом ущелье. Аримаса подумала, что в лес лысуха не пойдет, даже в жаркие дни она избегала забираться в чащу, довольствовалась тенью, рядом с саклей.
За небольшим скалистым отрогом гнедой ни с того ни с сего начал прядать ушами, насторожился и нетерпеливо рванулся вперед. Аримаса придерживала повод и внимательно осматривала склоны. Что же так насторожило коня?
Сначала она за скалами увидела подвласую лошадь со сбившимся к брюху седлом. Лошадь, словно обрадовалась, весело заржала и, спутанная, прыгнула навстречу. Подъехав ближе, Аримаса соскочила на землю, поправила кобыле седло, подтянула подпруги и снова уселась на гнедого.
Не спеша объезжая скалистые выступы и густые кустарники, Аримаса искала хозяина лошади. Она никогда не встречала в своем ущелье чужих охотников, оттого у нее затеплилась надежда, что он окажется ее сородичем и тогда… Что тогда, Аримаса еще не знала, но была уверена, что Бабахан не оставит их с Русичем, поможет перебраться на новое место и построить саклю.
Человека она увидела издали. Он лежал под скалой в неглубокой нише, подложив руку под голову. Аримаса негромко окликнула, но хозяин подвласой не шевелился. Когда подъехала ближе, увидела, что он мертвый.
Выше пояса спина его была туго перетянута повязкой, сплошь покрытой засохшей кровью. Над ним густо роились мухи. Рядом валялась одежда, лук, колчан со стрелами, сабля. Чуть в стороне — остатки костра, размытые дождем.
Привязав гнедого за кусты терновника, Аримаса села на камень.
Кто ранил этого молодого безбородого юношу? Как попал он в их ущелье? То ли убегал от врагов своих и заблудился в горах, то ли есть на это другие причины? Если бы он спустился ниже и добрался до их одинокой сакли, то, возможно, они с Русичем успели бы помочь ему.
Аримаса прикрыла мертвое тело измазанной кровью одеждой, завалила камнями. Постояв над могилой, она подобрала оружие и привязала к седлу. Подвласая кобыла стояла позади гнедого и печально смотрела на могилу своего хозяина. Аримаса подошла к лошади, еще сильнее подтянула подпруги, распутала ей ноги и, сделав подлиннее повод, привязала к седлу гнедого.
Искать корову уже не хотелось, но она все же решила добраться до небольшого Черного озера, откуда вытекала их речка, посмотреть там, потом уже возвращаться назад.
До озера было еще далеко, когда Аримаса, обогнув невысокий утес, наткнулась на стадо зубров, рассыпавшееся по небольшой ложбинке. Ближе к речке она увидела и свою лысуху, а рядом — огромного, темно-коричневого быка с мохнатой грудью, покрытой длинной шерстью головой.
— Вот почему ты сбежала, красавица, — негромко сказала Аримаса, обрадовавшись, что наконец-то нашла лысуху, — тебе захотелось принести мне еще одного теленочка.
Хотя зубры вели себя мирно, но близко подъезжать к ним Аримаса боялась, слишком уж страшными казались ей эти крупные, но безобидные животные, — издали позвала корову.
Увидев человека, зубры насторожились и не спеша покинули ложбину, ушли в сторону озера. А лысуха, равнодушно посмотрев вслед стаду, покорно направилась к хозяйке.
* * *
Скота в сакле прибавилось, и Русич с восходом солнца каждый день отправлялся на покос. С утра намахавшись вдоволь, после обеда свозил подсохшее сено, сваливал его на порог, а потом с Аримасой переносили на отведенное место.
Сеном они забили почти половину сакли. Но на лугу еще оставались копны, и Русич потратил немало времени, чтобы перевезти их и сложить в скирду рядом с саклей.
— Хватит уж, никогда у нас не было столько сена, — радуясь, сказала Аримаса. — Отдохни. Зачем лишнее делать?
Русич вытащил из сакли войлок, расстелил его в тени, отвязал от ноги деревяшку. Аримаса прилегла рядом.
— Русич, я очень редко стала тебя видеть. С утра до вечера возишься со своим сеном.
— Что поделаешь, Аримаса, надо, — Русич обнял жену и прошептал ей на ухо: — Теперь не отойду от тебя, пока ячмень не созреет.
— Не отходи, Русич, — Аримаса долго молчала, выбирая застрявшие сухие травинки из одежды мужа. Потом спросила: — Ты ничего не замечаешь?
— Нет, а что? — встревожился Русич и оглянулся по сторонам.
— Не на горы, на меня смотри. Я скоро рожу тебе сына, — улыбнулась Аримаса. — А может, и дочь.
Русич поцеловал Аримасу, отбросил полы ее халата, погладил по животу.
— Ничего не вижу. Ты такая же стройная, как и раньше.
— Скоро увидишь, Русич.
— Может быть съездить в Аланополис, что-нибудь привезти?
— А ты знаешь туда дорогу?
— Вот же она, — Русич показал рукой на скалы.
— Нет, Русич. Эта дорога не наша. Еще никто не сумел взобраться туда с конем. Мужчины нашего племени ездили в Аланополис каким-то другим путем. И только верхом, на арбе никто даже не пытался.
Русич помрачнел.
— Ты не расстраивайся, у нас все есть.
* * *
Жаркие дни внезапно сменились прохладой. Утром глубокие темные ложбины затянуло белесыми клочьями густого тумана, и солнце с трудом находило в небе окна среди неподвижных, рассыпанных от горы до горы царственно-белых нагромождений.
В полдень откуда-то снизу налетел, будто нечаянно вырвался на волю, сумасбродный ветер. Разом встряхнулись на деревьях листья; приподнялись и, догоняя друг друга, окутанные пылью, бросились вверх по ущелью клочки сухой крапивы, кисти голубоватых колокольчиков, оранжевые зонтики володушки. Пискнула и не удержалась на сосне краснобрюхая горихвостка, растопырило, изогнуло ей черные крылья, закружило и понесло к лесу.
Проснулись на небе белые хлопья, зашевелились и быстро побежали к далеким перевалам. Над ущельем собрались темно-синие зловещие тучи, они опускались все ниже и ниже, косматыми языками заполняли долину.
Потемнело. Где-то далеко по бугристым ухабам туч несколько раз глухо, как за стеной, туда-сюда прокатилась колесница Ильи-громоносца, святой Илья опробовал свой рыдван перед веселой прогулкой.
И вдруг громыхнуло совсем рядом, за речкой.
Заскочив в саклю, притихли и пугливо вздрагивали лошади: озираясь по сторонам, забился в угол молодой бычок.
Сразу, будто натолкнулся на крепкую стену, затих перебесившийся ветер и тут же — яркая до голубизны огневая полоса раздвинула темень, с оглушительным треском вырвала из мрака саклю и сосны, и само небо, грязное, тяжелое; гремело так, будто раскололись горы и сбросили с себя камни, и они, казалось, увлекая друг друга, катились вниз, мимо сакли.
Аримаса, испуганно-восторженная, с задорным блеском в темных глазах, ярко высвеченных молнией, прижалась к Русичу, с наслаждением ждала новых и новых, леденящих душу, раскатов.
— Сейчас. Сейчас громыхнет, Русич. И еще. И еще, — шептала она и прятала голову на груди мужа, смеялась, взвизгивала, наслаждаясь страхом.
Первые крупные капли глухо шлепнули у порога, упали как-то несмело, будто залетели сюда по ошибке. Но вот они застучали увереннее и скоро превратились в сплошной поток. Через дымовое отверстие вода хлынула в саклю, зашипел и тотчас погас костер. Русич вскочил на колени, торопливо схватил топор и по мокрой земле пополз прочищать канавку, отводил воду к порогу, Аримаса оттаскивала в сторону войлок и шкуры.
— Не унесет саклю? — с тревогой в голосе спросил Русич.
— Нет. Сакля стоит высоко, — смеялась Аримаса.
Вскоре небо успокоилось. Дождь, не такой уже сильный, тихо шумел за стенами.
Русич принес сухих дров, высек искру, — затеплился трут, а через минуту сухая хвоя, тонкие березовые ветки весело затрещали жаром, осветили саклю теплым домашним пламенем. Русич прислушался и с удивлением заметил, что дождь почти перестал, а шум за саклей не прекращался, даже, наоборот, становился сильнее.
— Это речка, — пояснила Аримаса и подала ему костыли. — Пошли посмотрим.
Речка в обычные дни светлая и неглубокая — в любом месте можно перейти, не замочив ног, увеличивалась на глазах, становилась мощной и свирепой.
В желтовато-землистом месиве стремительно неслись вниз вырванные с корнем, ободранные и израненные сосны, осины, березы, то и дело наскакивали на скрытые водой валуны, выныривали из мутного потока, дыбились, с треском ломались и тут же скрывались в пучине.
Русич восхищенно смотрел на дикую, взбунтовавшуюся реку. И Аримаса радовалась, что сумела показать еще одну, неведомую ему раньше силу гор. А Русичу вдруг подумалось, что и он похож на дерево с оборванными корнями. Судьба-река вырвала его из объятий родной земли, подхватила своим стремительным потоком, искалечила об острые камни и, наигравшись вдоволь, выбросила, будто за ненадобностью, в глухое ущелье…
* * *
Когда Юрий Кончакович, сын грозного половецкого хана Кончака, получил в удел степи Предкавказья, Дешт-и-Кыпчак, и собрался откочевывать с Дона на Сунжу, Игнатий на несколько дней отпросился у князя Юрия Андреевича съездить на Русь, в Новгород-Северский, где, как он слышал от проезжих знакомых русских купцов, поселился, перейдя на службу к князю Игорю Святославичу, отец. Оказалось, что Козьма не поладил с великим князем Всеволодом и перебрался сначала в Чернигов, а потом в Новгород-Северский, к Игорю. Позже он перевез туда Настасью и Хомуню.
К приезду Игнатия Хомуне исполнилось пятнадцать лет, и он готовился поступить отроком в младшую дружину Игоря Святославича. Отец заказал мастерам отковать для сына доспехи и оружие.
Игнатий появился в Новгород-Северском утром, когда солнце поднялось уже высоко. Хомуня, всю ночь прогулявший на празднике Купалы, спал в конюшне, на скамье, рядом с лошадьми. Сон у него был настолько крепок, что Настасья, возбужденная приездом старшего сына, никак не могла разбудить Хомуню. Игнатию пришлось сонного поднять его со скамьи и поставить на ноги.
Хомуня, восемь лет не видевший брата, с недоумением смотрел на разбудившего его человека и на мать. Настасья смеялась и плакала от радости, объясняла еще не пришедшему в себя Хомуне, что приехал Игнатий. То ли медленно отступал сон, то ли брат настолько изменился, но Хомуня все еще никак не мог понять, зачем он так срочно им понадобился.
Лицо брата было каким-то чужим, непривычным, с узким, хотя и не столь резким, как у кочевников, разрезом глаз, коротко подстриженной черной бородой и густыми бровями, четко обозначенными на удивительно светлой, даже какой-то голубоватой коже. Во всем его облике просматривалось смешение русской и половецкой крови.
Глаза Игнатия, показалось Хомуне, излучали тот особенный свет, который можно увидеть только у людей степенных и мудрых. Но степенным Игнатия никак нельзя назвать. Тело его было необыкновенно легким, играло мускулами, под расшитым золотом сарафаном упруго дышала крепкая, широкая грудь, и похож он был больше на горячего, выгулянного на сочных весенних лугах молодого жеребца. Но стоило брату согнать улыбку с лица, чуть прищурить темные, будто окрашенные дубовым отваром, глаза, успокоить тело — он виделся Хомуне мудрецом, познавшим тайны добра и зла.
Радость в семье Козьмы по случаю приезда его старшего сына была недолгой. Через неделю Игнатий отправился в половецкую степь, к князю Юрию Андреевичу.
А через год, когда орда Кончаковича кочевала близ Сунжи, в ставке хана появилась группа грузинских азнауров во главе со знатным вельможей. Игнатий и князь Юрий узнали его сразу, хотя встречались с ним более десяти лет назад. Тот приезжал во Владимир к Андрею Боголюбскому в качестве посла грузинского царя Георгия третьего. Это был эмир тифлисский Абулазан.
Абулазан преподнес богатые дары половецкому хану и не менее богатые — русскому князю, что вызвало удивление не только Юрия Кончаковича и его вельмож, но и князя Юрия Андреевича. О цели своего визита посол говорить не спешил. И только после большого пира, который был задан в честь эмира тифлисского и продолжался несколько дней, Абулазан решил поведать о том, что привело его в ставку хана.
* * *
В тот день в шатер Юрия Кончаковича, кроме русского князя, были допущены только самые знатные вельможи хана и Игнатий. Абулазан вошел сюда в сопровождении двух азнауров и после длинных взаимных приветствий и обмена дорогими подарками приступил к главному своему делу.
— Год назад, — низко поклонившись хану и князю, тихо произнес посол, — мою страну постигло большое горе, скончался любимый всем нашим народом царь Георгий.
Пока христиане — а их в шатре было большинство, — молились за упокой души царя Георгия, у Абулазана возникло сомнение: надо ли говорить сейчас, что знатные азнауры Грузии долго колебались, признать или отвергнуть право Тамары, дочери Георгия, на царский престол. Конечно, после долгих споров дарбаз — совет азнауров — в конце концов утвердил акт воцарения Тамары и счел необходимым вторично короновать молодую царицу. Первый раз на нее возложили венец еще шесть лет назад, при жизни отца. Но Абулазану очень хотелось показать, что власть в его стране полностью сосредоточена в руках дарбаза. И только одно останавливало. Ему, знатному тифлисскому вельможе, не к лицу перед чужим народом порочить царицу Грузии. Да и католикос Микаэл, напутствуя Абулазана, советовал быть осторожным, беречь авторитет Грузии, но сразу дать понять князю Георгию Русскому — так в Грузии называли Юрия, сына Боголюбского, — что власть должна принадлежать не царям, а знатным азнаурам.
Христиане закончили молитву, Абулазан поднял голову и продолжал:
— Царицей всей великой Грузии — от Понта до Гургана и от Спер до Дербента, Хазаретии и Скифии — стала юная дочь Георгия, Тамара. И тогда дарбаз решил: не должна такая прекрасная царица быть одинокой, жить без мужа. Многие просили руки у молодой красавицы, а я, эмир тифлисский, сказал тогда высокородным членам дарбаза, — Абулазан низко поклонился хану и князю: — «Я знаю сына государя русского, великого князя Андрея, которому повинуются триста царей в тех странах; потерявши отца в молодых летах этот князь был изгнан дядею своим, Всеволодом, и находится теперь в гостях у царя половецкого. Георгий, сын князя Андрея, — истинный скиф, красив и храбр, честен и благороден, только он достоин руки царицы Тамары», — Абулазан с наслаждением окинул взором пораженные неожиданной вестью лица присутствующих, отметил про себя, что сам Георгий держится с достоинством, ничто в нем не выдавало волнения. — И теперь я здесь. Знатные азнауры поручили мне просить Георгия приехать в Грузию и стать мужем царицы Тамары, — торжественно закончил Абулазан и поклонился князю Юрию.
* * *
Едва русский князь прибыл в Грузию, духовенство и знатные азнауры упросили Тамару обвенчаться с ним как можно скорее.
Поначалу все складывалось хорошо, молодые монархи были счастливы. Игнатий радовался успехам Юрия, который, став во главе грузинского войска, храбро дрался с врагами своего нового отечества, совершил удачные походы на север Армении, в Ширван и Арзрум. Но вскоре он полностью попал под влияние азнауров, боровшихся за ограничение власти царицы, начал — словно бес в него вселился — пьянствовать, унижать Тамару.
Царица через преданных ей священников пыталась уговорить Юрия вести себя достойно, как подобает монарху, но с каждым днем ее влияние на мужа ослабевало, и через два года после свадьбы она изгнала Юрия из Грузии, отправила в Константинополь, щедро наградив его богатством.
Игнатий уговаривал князя отправиться на Русь, но тот не прислушался к его словам, наоборот, искал возможность вернуться в Грузию. Вскоре до князя дошла весть, что Тамаре избрали в мужья аланского царевича Давида Сослана, воспитывавшегося при грузинском дворе. Юрий понимал, что это означало полную победу сторонников царицы.
Но знатные азнауры не сложили оружия, только притихли временно, ждали удобного момента.
И он наступил. Через несколько лет скитаний князь Юрий, обуреваемый ревностью к новому мужу Тамары и жаждой власти, приехал в Арзрум, чтобы разведать обстановку, и если обстоятельства сложатся удачно, вернуться в Грузию. Узнав об этом, знатные азнауры немедленно прибыли в Арзрум и заверили Юрия в своей преданности. С их помощью он перебрался в Западную часть Грузии и объявил себя царем Гегути.
Это и послужило поводом к объединению противников Тамары и Давида Сослана. Отряды мятежников двинулись на Тифлис, но, едва встретившись с войсками царицы, потерпели поражение и сдались в плен. Тамара и на сей раз была великодушна, с честью отпустила Юрия, взяв с него слово больше никогда не возвращаться в Грузию.
Вот тогда-то Игнатий и заявил князю о своем решении во что бы то ни стало уехать на Русь. Юрий огорчился, но не удерживал Игнатия, только попросил помочь ему найти кочевье половецкого хана Юрия Кончаковича.
— Доберемся до ставки, а там поступай как знаешь. Я на Русскую землю не вернусь, меня там не ждут.
С небольшим отрядом преданных князю дружинников они спешили до наступления зимы уйти из Грузии, преодолеть перевалы. Но зима все же застала их в горах. В те дни и случилось несчастье. На обледеневшем утесе лошадь Игнатия поскользнулась, он не успел вовремя соскочить с седла и полетел под откос.
Глядя на взбунтовавшуюся реку, Игнатий вспоминал об этом и размышлял: почему князь Юрий, которому долгие годы служил верой и правдой, не сделал даже попытки спуститься вниз, спасти его? А возможность была. По настоянию Игнатия дружинники еще в долине на всякий случай запаслись веревками. И князь знал об этом. Вот уж поистине: служил три лета, а выслужил три репы, а красной — ни одной.
* * *
Насколько летние дни длиннее зимних, настолько они быстрее сменяют друг друга. Можно подумать, что могучий повелитель солнца Хырт-Хурон и в самом деле слишком торопливо катит по небосводу свое светило, спешит завершить дневные труды и отойти ко сну. Пока Русич убирал ячмень, созрела рожь, и он, не обращая внимания на растертое в кровь колено, работал без отдыха. Время бежало неумолимо, и Русич с каждым днем все больше и больше замечал, что колосья слабеют, не держат зерна, теряют его на землю. Аримаса, провожая исхудавшего осунувшегося мужа, напрашивалась в помощники, но Русич лишь улыбался, ласково обнимал ее, осторожно поглаживал распираемый плодом живот, садился на арбу и уезжал один.
И все же поле, узкой и длинной полосой протянувшееся между лесом и крутым каменистым склоном, постепенно укорачивалось. Всякий раз Русич останавливал арбу все ближе и ближе к опутанным ежевикой зарослям кизила и боярышника, в которые, словно в плотину упиралась не густая, но высокая рожь. Сразу выпрягал гнедого, привязывал его к арбе где лежала заранее приготовленная трава, рядом расстилал широкую полсть, брал серп и, почти не наклоняясь — рожь доставала до самого пояса, — принимался за работу. Нарезав полный мешок колосьев, относил их к арбе, бросал на полсть и возвращался обратно.
Было сухо и жарко. Русич предполагал дня через три полностью покончить с рожью. Но солнце палило так, что он не выдержал и еще до полудня отложил серп, присел на край полсти, куда падала тень от арбы, и палкой начал вымолачивать зерно.
Мякину он отбросил под ноги гнедому, и тот губами потянулся к полове, поискал зерно. Ничего не нашел, недовольный, фыркнул, снова уткнулся в траву, потом тревожно вскинул голову, заржал.
Беспокойство передалось и Русичу. Опираясь на арбу, он быстро поднялся, схватил лук, вытащил из колчана стрелу, огляделся.
Кругом было тихо. Наверное, где-то рядом, по лесу, пробежал зверь. Русич хотел положить лук обратно, но из густого подлеска показался всадник.
Еще издали, по черной сутане и высокому клобуку, Русич узнал в нем священника. Когда тот подъехал ближе, рассмотрел и притороченные к седлу лук, колчан со стрелами, несколько убитых красных куликов.
Русич бросил на арбу оружие, сделал шаг навстречу приехавшему.
Священник оказался довольно молодым, лет двадцати семи — тридцати. Рыжая короткая бородка скрадывала его длинное худощавое лицо с крупным горбатым носом. Цепкими глазами он быстро обшарил табор, хозяина, задержал взгляд на искалеченной ноге.
— Допомоги тебе бог, — глухим басом, чуть нараспев, произнес священник по-алански и, не слезая с коня, перекрестился.
Русич вспомнил, что Аримаса рассказывала, будто в Алании почти все служители церкви из греков, потому и ответил ему по-гречески:
— Слава господу нашему, — сказал он и осенил себя христианским знамением. Увидев изумление на лице священника — наверное, тот не ожидал встретить в этом далеком ущелье человека, знающего греческий. Русич добавил: — Милости прошу, святой отец.
Священник соскочил на землю, широкими ладонями похлопал себя по затекшим бедрам. Недовольно покачивая головой, осмотрел разодранную о ветку сутану. Потом повернулся к Русичу.
— Что же ты, отрок, святого отца встречаешь со стрелами?
— Во всем промысел божий.
— Не во всем, отрок. Не во всем. Бойся искушения дьявола. И не поднимай оружия на человека, даже если он неприятен тебе. Ибо Христос сказал: «Не противься злому. Но кто ударил тебя в правую щеку, обрати к нему другую».
Русич усмехнулся.
— А потом однажды не выдержал Христос, взял бич и сам хлестал им торговцев.
Священник подошел ближе, заглянул в глаза Русичу.
— Вижу, знаешь писание божие. Что-то не встречал тебя раньше в здешнем приходе, — и сам же объяснил: — Оно и понятно, три года тут не бывал. Далеко поселилось племя, полную седьмицу дней добирался, едва голову не сломал. А как поживает отец Павел, отчего не шлет вестей о себе?
Вместо ответа Русич спросил:
— Кто ты, святой отец?
— Отец Димитрий, служу при епископе, помогаю управлять делами епархии. А как тебя звать, сын мой?
— Зови меня Русичем, святой отец.
— Далеко забрел, — удивился отец Димитрий. — Что ж, я — грек, ты — русич. Русич так Русич, после скажешь, как нарекли в церкви. Отчего в епархию не шлет вестей здешний пастырь? Неужто умер отец Павел?
Русич рассказал, что произошло в ущелье и как сам попал сюда.
— Все в воле божьей, — перекрестился отец Димитрий. — Ни пастыря, значит, ни паствы. А я, видишь ли, для отца Павла и куликов настрелял, — будто повинился священник.
Отец Димитрий оказался человеком деятельным, неугомонным. Сам вызвался помочь Русичу покончить с рожью. Вдвоем управились быстро. Оказалось, что здоровому человеку и делов-то было всего на несколько часов.
Подъезжали к сакле вечером, когда солнце уже скрывалось за горы и на землю опускались сумерки. Аримаса, взволнованная задержкой мужа, вышла навстречу. Она кинулась к арбе, хотела даже отругать Русича, что изнуряет себя работой, но, увидев рядом с ним еще одного человека, лишь вскрикнула от удивления и застыла на месте.
В сумраке она не сразу узнала отца Димитрия, хотя раньше и видела его в селении не один раз. А узнав, обрадовалась, но так и стояла на месте, застывшая, лишь улыбалась немного.
Отец Димитрий соскочил на землю, подошел к Аримасе, осенил ее крестом и поцеловал в лоб.
— Вот ты какая, страдалица божья. Скорблю во глубине сердца моего, волнуется оно. Смотрю на землю — и вот она разорена и пуста; на небеса — и нет на них ответа. Смотрю на горы — и вот они дрожат, и все холмы колеблются.
Тревожные, непонятные ей слова отца Димитрия смутили еще больше. Аримаса опустила голову, вспомнила гибель селения, смерть и похороны Мадая.
— Не печалься, дочь моя, бог не оставит.
Утром отец Димитрий поднялся на рассвете, неожиданно для хозяев сакли оседлал коня, приторочил к седлу лук, колчан со стрелами. Аримаса и Русич с недоумением смотрели на священника.
Собравшись, тот повернулся к ним, сказал:
— К обеду вернусь, ждите.
Вернулся он еще до полудня, приволок тушу крупного оленя. Лицо отца Димитрия сияло от счастья, так доволен был охотой.
— Суеверен я, потому и не стал говорить вам о помыслах своих. Ну какой с меня охотник? Хотя, сознаюсь, грешен, люблю пострелять из лука. А тут, видно, бог пришел мне на помощь. Нос к носу я в чаще с оленем столкнулся, словно ждал он меня. Стрельнул будто бы неплохо, однако побегать за оленем пришлось немало. Даже заплутал в расщелинах. Потом коня своего еле-еле отыскал, — отец Димитрий снова посмотрел на свою добычу. — А зверь — видный, нагулял жиру. Так что хорошо корми жену, Русич, чтобы здоров был и тот, кого носит она во чреве своем.
* * *
Вечером они втроем сидели у сакли, под сосной, отдыхали.
— Я почему долго не появлялся в здешнем приходе? — растянувшись на кошме, сам себе задал вопрос отец Димитрий. — В отъезде был. Больше двух лет прожил в Константинополе. Мог бы так и остаться там, да привык к здешним местам. Больно хорошо тут. А в приход этот, к отцу Павлу, никто из братии дороги не знает. Вот я первым делом и поспешил к вам.
— И хорошо, что приехал, — одобрил Русич. — Нам радость.
Отец Димитрий приподнялся, уселся удобнее. Глаза у него заблестели, заулыбался, языком с наслаждением облизал нижнюю губу, будто ел что-то сладкое, да на губе пристало.
— А столица все же прекрасна. И ты знаешь, сын мой, — священник взглянул на Русича, — там много русских людей.
Русич молча кивнул головой, ему ли не знать этого, не один год прожил в Царьграде.
— Мне редко приходилось встречаться с твоими соотечественниками, да и дел у меня особых не было в монастыре святого Мамы. Россияне ведь издавна в той стороне селятся. Колония у них там. А я все в великой церкви, в храме Святой Софии трудился. Нет ничего прекраснее этого храма.
Русич хотел сказать, что бывал там с князем Юрием, однако, посмотрев на одухотворенное воспоминаниями лицо отца Димитрия, промолчал. «Пусть рассказывает, — подумал он, — коль так приятно ему».
Священник же заговорил совсем о другом.
— Но два твоих соотечественника. Русич, все же мне запомнились: мужчина и женщина. Он — раб, она была княжной.
Русич с интересом прислушался.
— Точно не помню имени раба. Но похоже оно на христианское — Фома, только звучит несколько иначе. То ли Хома, то ли Хомуний. Раб неплохо говорил по-гречески. Молил меня помочь ему обратиться с просьбой к русской княжне Евфимии, которая в те дни должна была сочетаться браком с императором Алексеем. Раб надеялся, что молодая императрица ради праздника своего проявит милость, упросит императора выкупить ее соотечественника, возьмет раба к себе или отпустит на свободу. Во время обряда я должен был прислуживать патриарху и обещал как-нибудь обратить внимание Евфимии на обездоленного. И вот начался обряд…
— Пути господни неисповедимы, — перебил Русич священника. — Я был в Святой Софии во время венчания. И раба того мельком видел. Может быть, его Хомуней зовут? Такое имя носит мой брат. Он живет в Новгород-Северском. Мы с князем Юрием в день венчания кесаря стояли в храме недалеко от колонны Авраама.
Отец Димитрий с радостным удивлением уставился на Русича и опять облизал губу, словно она в меду была. Позже Русич заметил, что священник делает так всякий раз, когда сердце его полнится радостью и удовлетворением.
И все же отец Димитрий не удержался, чтобы не рассказать о венчании кесаря.
О предстоящем бракосочетании императора Алексея и русской княжны Евфимии, внучки киевского князя Святослава, было объявлено давно. Потомки древних римлян, — а константинопольцы только так себя и называли, хотя даже предки многих из них никогда не видели Рима и не знали латыни, говорили на языке древнего Византия, — деятельно готовились к празднику. Преображалась и Святая София. С восходом солнца монахи начинали подвешивать стеллажи, мыть стены, колонны храма, разноцветные стекла его окон. Делали все, чтобы свет господний обильнее заливал храм золотистыми лучами, ярче играл красками росписей, высвечивал лики святых, божьей истиной падал на сердца и души верующих.
Свежими красками на фоне золотой — цвета божества — мозаики в восточной стороне храма засиял лик сидящей на троне богородицы. Огромные печальные глаза ее излучали скорбь и строгость. Голова прикрыта пурпурным — цвета царей — покрывалом, синие цвета ее одежды символизировали принадлежность Марии к знати. Так же строг и пристален взгляд младенца, сидящего на ее коленях. В какой бы стороне храма ни останавливался человек, везде его преследует всевидящий взгляд Христа. Богу известно все. От него не скроешь ни большого, ни малого греха, ни поступков, ни мыслей.
Готовились к празднику и за стенами великой церкви: на шумных, украшенных античными статуями форумах, на Месе — Средней, главной улице города, на ипподроме — центре всех праздников, обиталище дьявольских соблазнов. Со всех провинций сюда стекались скоморохи, дрессировщики медведей, шуты, акробаты, а также те, кто задумал попытать счастья, добиться победы на ристалищах — соревнованиях в беге на колесницах. Служители ипподрома натягивали навесы из шелка, чтобы защитить толпу от палящих лучей солнца, завозили цветы, чтобы покрыть ими арену.
И вот уже золото и драгоценные камни сверкают на одежде возниц, на сбруях коней, на костюмах шутов и акробатов, дрессировщики наряжают медведей в пышные одежды, народ толпами валит к воротам ипподрома.
А в храме Святой Софии продолжается богослужение, венчание кесаря и его августы. Патриарх ведет обряд размеренно, без спешки, по выработанному столетиями торжественному ритуалу. И не только священнослужители и царские особы никуда не торопятся. Не спешат и люди, заполнившие церковь. Все знают — без императора зрелища на ипподроме не начнутся.
Игнатий стоял рядом с князем Юрием — по настоянию князя они и пришли в храм заблаговременно, чтобы выбрать себе лучшее место, такое, откуда без помех можно видеть обряд. Но Игнатий, пожалуй, больше смотрел не на патриарха и не на высокопоставленных молодоженов, а косил взглядом на своего господина. Лицо князя временами становилось унылым и сумрачным, иногда даже покрывалось бурыми пятнами, наливалось злобой.
Игнатий старался понять, какие мысли и чувства в эти минуты владеют его господином: зависть ли к царствующим особам, обида ли и сожаление о своем потерянном троне? И тут Игнатий впервые подумал, что князь Юрий не в меру самолюбив и капризен и совсем не способен радоваться чужому счастью. Быть может, грузинская царица Тамара раньше его, Игнатия, сумела рассмотреть вздорный нрав склонного к порокам князя, поэтому и быстро оставила попытки повлиять на него, наставить на путь добра и самоотверженного служения отечеству. Убедившись в бесполезности своих стараний, она изгнала его за пределы Грузии. Игнатий почувствовал — князь Юрий и ему становится обременительным. А если слуга тяготится своим господином, то пропадает и преданность ему.
Еле заметное волнение людей, находившихся в храме, заставило Игнатия посмотреть туда, где только что закончилось венчание. Какой-то странный, одетый в лохмотья человек, с густо заросшим лицом и головой, повязанной грязной, окровавленной тряпкой, вырвался из толпы и опустился на колени перед юной императрицей, о чем-то просил ее. Игнатий прислушался, но не мог разобрать ни одного слова — слишком далеко стоял. Только увидел, что внучка Святослава нахмурилась, бросила тому человеку монету, гордо подняла голову и, не останавливаясь, прошла мимо. Человек грустно посмотрел вслед Евфимии, потом встал и, сгорбив спину, скрылся в толпе. Монету он не взял. Какое-то мгновение она еще ярко блестела на темном полу, но тут же на нее набросились стоявшие неподалеку люди, началась свалка.
* * *
Это на самом деле был Хомуня, брат Игнатия. Это он, заранее узнав, что его хозяин, иудей Самуил, собирается посмотреть венчание императора с русской княжной, упросил взять его с собой, открыто сказал, что попробует упросить Евфимию выкупить своего горемычного соотечественника и забрать к себе. Самуил согласился: он понимал, что если сам император приобретет у него раба, пусть даже заберет бесплатно, то все равно это окупится. Один бог знает, как на таком деле можно заработать.
Отец Димитрий точно определил минуту, когда можно легко завладеть вниманием юной императрицы, и незаметно для окружающих подал знак этому необычному, образованному рабу, понравившемуся своей настойчивостью в стремлении вернуться на свою далекую родину. Отец Димитрий искренне огорчился, что Евфимия отказалась помочь соотечественнику, хотя никаких трудов сделать такое для жены императора могущественного Ромейского государства не составляло. Наоборот, все в столице говорили бы о ее доброте и милосердии.
* * *
— Отец Евфимии, князь Глеб, в борьбе за власть убил своего брата, — тихо сказал Русич, — разве мог он взрастить добродетель у дочери?
Отец Димитрий нахмурился.
— Суди его бог.
— Да. Господь воздаст должное и кесарю и рабу. Только отчего много зла на земле, святой отец, почему оно в человеке заложено?
— Не во всяком человеке, сын мой. Кто бога чтит, тот сеет добро.
— А как ты думаешь, отец Димитрий, император Алексей, тот кто сочетался в браке с русской княжной, чтит бога?
— Император — наместник божий, он не может идти против воли всевышнего.
Русич усмехнулся, хитро посмотрел в глаза священнику.
— Мне трудно согласиться с тобой, святой отец. Человек, если задумает убить кого, ограбить ли, возвыситься ли над другим человеком, все делает по своему разумению. И оно, разумение это, не зависит ни от бога, ни от дьявола. Иначе разве допустил бы всевышний, чтобы его наместник, император Алексей, ограбил монахов, перевозивших дары другого наместника божьего, царицы Тамары, грузинским монастырям, построенным на земле ромеев? Нет, мне кажется, что и зло и добро зависят от самого человека. Человек сеет то, что он взрастит в себе, какую цель перед собой в жизни поставит. А бог лишь после рассудит, как прожил этот человек: праведно ли, нет ли.
Через несколько дней отец Димитрий засобирался в обратный путь.
— Отдохнул я у вас от трудов праведных, окреп здоровьем, пора и честь знать. И вот, что я надумал, Русич. Бросать вам надо с Аримасой саклю и перебираться в Аланополис. Буду просить епископа, чтобы рукоположил тебя в духовный чин. Грамотных людей не хватает в епархии, — сказал священник и, словно побоялся, что Русич откажется, поспешно добавил: — Все-таки среди людей легче жить. Может быть, сейчас и поедем?
Русич взглянул на Аримасу. У нее загорелись глаза.
— Мы бы не против, отец Димитрий. Только как Аримасе в дорогу?
— Да, — согласился священник, — верхом ей, пожалуй, сейчас нельзя. Дорога трудная. Давайте весной. Оно, может, так и лучше, надо заранее подумать, где жить будете. Я приеду за вами.
— Святой отец, — обратилась Аримаса к отцу Димитрию, — если узнаешь, где поселился Бабахан, передай от нас поклон.
— Соскучилась по родичам?
Аримаса закрыла глаза и кивнула головой.
* * *
Ранним утром попрощался и уехал отец Димитрий. Русич и Аримаса снова остались вдвоем. Пробовал Русич ходить на охоту, но счастье не улыбалось ему. Аримаса посмеивалась:
— Апсаты не дает зверя тому, кто не верит в него.
Но перед самой зимой ему все же удалось ловушкой поймать молодую косулю. Это была последняя их добыча. Вскоре выпал снег, завьюжило. Русич вышел из сакли — и его деревянная нога глубоко, по самое колено, утонула в снегу. Кое-как выбрался из топкого белого покрывала земли, вернулся в саклю. Из полена сделал небольшую лопату, ремнями привязал к ней ручку, пошел расчищать дорожку к теплому, незамерзающему роднику.
Пришло время, и Аримаса в тяжких муках родила сына. Русич сам помог ему выйти на свет божий, обмыл и завернул в пеленки. Он с удивлением смотрел на крохотное, чуть сморщенное красноватое личико, и душа его все больше и больше наполнялась радостью. Может быть, впервые за последний год сейчас он по-настоящему почувствовал себя достойным мужчиной, не убогим калекой.
Измученная и ослабевшая, Аримаса смотрела на сына и мужа, пыталась улыбнуться. Но улыбки не получалось, страдания еще не ушли от нее. Она положила бледную, обескровленную руку на колено Русича, слегка прижала пальцами.
— Русич, — тихо сказала она. — Спасибо тебе. Мне было больно и страшно, я боялась рожать. Я тебе не говорила об этом, потому что даже не подозревала, что ты все знаешь, умеешь принимать детей.
Русич покачал головой.
— Нет, Аримаса. Ничего я не знаю. Все получилось как-то само…
Постепенно силы возвращались к Аримасе, она взяла к себе сына, лучше рассмотрела его.
— Русич, давай назовем его Сауроном.
— Хорошо, Аримаса. Я не знаю, что означает это слово, но чувствую, что оно достойно мужественного, храброго человека, каким и вырастет наш сын.
Аримаса улыбнулась и благодарно посмотрела на мужа.
* * *
Саурон рос здоровым и крепким. Пришла весна, и он уже не доставлял столько хлопот, как в первые дни. Если бы отец Димитрий не обещал помочь им переселиться ближе к людям, то Аримаса и не думала бы о другой жизни. Ей хорошо было с Русичем, а теперь, с появлением Саурона, стало еще лучше.
Дни стояли теплые, поэтому они даже ночью не закрывали вход в саклю. Прохладно становилось только к утру. Как всегда, Аримаса проснулась первая, чуть раньше Саурона. Она осторожно откинула медвежью шкуру, которой они накрывались вместо одеяла, и с наслаждением подставила себя утренней прохладе.
Голубое небо, с редкими розоватыми полосами нерастаявших за ночь полупрозрачных облаков, скупо высвечивало просторную саклю. Хорошо были видны лишь лица мужа — бородатое, чуть потемневшее от весеннего ветра, и сына — белое, как грудь у Русича, и такое нежное, что боязно прикоснуться.
Саурон зашевелился, и Аримаса слегка отодвинулась от мужа, приподнялась и села у изголовья. Саурон улыбался, сонный. Потом недовольно сморщил личико, все больше и больше начал ворочаться, закряхтел.
Чтобы не разбудить Русича, Аримаса потихоньку взяла к себе на колени сына, дала ему грудь. Он цепко обхватил ее маленькой ручонкой, будто боялся, что отнимут, и сосал жадно, с нетерпением. Когда молока не стало, он снова сморщил личико, закряхтел и Аримаса сразу подставила ему вторую; Саурон с таким же аппетитом опростал и ее. Уже сонный, он беззубыми деснами до боли сдавил ей сосок.
И тогда у Аримасы проснулось желание. Она осторожно положила уснувшего Саурона и забралась под одеяло. Прижавшись к горячему телу Русича, она нежно погладила его грудь, бедра, ласкала его пока не проснулся и обнял ее своими крепкими, мускулистыми руками.
— Я хочу тебе родить еще одного сына, Русич, — сгорая от нетерпения, шептала она мужу.
— Роди еще сына, Аримаса, — так же шепотом ответил он. — Только не забывай, что и дочь нам нужна.
Потом они уснули в объятиях.
* * *
Русича разбудило солнце. Едва пошевелился, проснулась и Аримаса.
— Ну и горазды мы спать, — улыбнулся он, — эдак у нас ни гумна, ни хлеба не будет.
— Куда нам торопиться? — Аримаса отбросила шкуру и раскинула руки. — Скоро приедет отец Димитрий и увезет нас отсюда.
— Тебе надоело наше ущелье? Каждое утро ты вспоминаешь об отце Димитрии.
— Нет, Русич. Я бы с тобой прожила здесь всю жизнь. Боюсь за Саурона. Ведь не бывает так, чтобы дети не болели. А случится беда — мы с тобой не сумеем ему помочь. Среди людей легче, всегда найдется человек, который все знает, — Аримаса улыбнулась и снова прижалась к мужу. — Когда Саурон подрастет, ему потребуются друзья, а потом и жена. Разве мы сможем научить его всему в жизни, если не будет у него рядом таких же, как он, мальчишек?
— В таком случае давай вставать. Пора завтракать. Иначе у тебя совсем не будет молока, оставишь голодным моего сына, — Русич привстал, потянулся к Саурону.
— Не трогай его, — остановила она мужа. — Пускай спит. Я его уже покормила.
После завтрака Аримаса вынесла Саурона из сакли, села с ним в тени на скамейку, которую Русич сделал из тонких жердей. Она всегда смотрела на нижнюю часть ущелья, откуда должен был появиться отец Димитрий.
Русич присел напротив, на толстое бревно, брошенное здесь еще старым Мадаем.
— Ты знаешь, Русич, — вздохнула Аримаса, — я все больше и больше начинаю верить в Иисуса Христа. — Аримаса перекрестилась. — Пришли, господи, поскорее своего слугу, пусть он поможет нам, чем сможет.
И тут Русич увидел двух всадников с заводными лошадьми. На одном из них черный высокий клобук, второй — в белой бараньей шапке. Они появились не снизу, откуда ждали священника, а наоборот, сверху.
— Бог внял твоим молитвам, Аримаса! — радостно воскликнул Русич. — Отец Димитрий едет к нам.
— Где? — встрепенулась Аримаса и глазами поискала по ущелью.
— Смотри назад, — Русич встал и, опираясь на посох, не спеша пошел навстречу.
Аримаса взяла со скамейки спящего Саурона и догнала мужа.
Они остановились у родника и молча ожидали всадников. Священника сопровождал худощавый, небольшого роста, мальчишка лет пятнадцати.
— Слава богу, вижу вас живыми и в здравии, — еще издали зарокотал отец Димитрий и облизал нижнюю губу. Он соскочил с седла, обнял Аримасу, отвернул пеленку и взглянул на маленького. — Кого тут бог дал святому семейству?
— Сына, отец Димитрий, — зарделась Аримаса, — Саурона.
— Ну, чистый херувим, весь в Русича. На тебя похож, сын мой, — отец Димитрий обнял Русича. — Только имя надо было дать не языческое.
— Мы, святой отец, календаря не ведаем, все дни у нас перепутались, вдруг не того покровителя выберем, — улыбнулся Русич. — Имя своему сыну придумала Аримаса, а ее слово — для меня закон.
— Закон у нас один — божий, — недовольно посмотрел на Русича отец Димитрий.
— Твоя правда, святой отец. Но причина всякого становления, и имени человека тоже, есть бог, ибо богу естественно быть благотворным. С его помощью Аримаса и выбрала имя. Разве случается что-либо на земле без воли всевышнего?
— Ну и хитер же ты, отрок. Ждали меня?
— Еще как ждали. А сегодня — только Аримаса поклонилась Христу, чтобы не держал тебя в городе, — и ты тут как тут.
Аримаса молча слушала их беззлобную перепалку и улыбалась.
— Благодарите бога, что он послал мне Вретранга, отец Димитрий подозвал ближе своего спутника. — Это клад, а не человек. Хоть возраст у него и юный, а горы знает лучше, чем я свою келью. Прошлый раз семь дней добирался сюда, а с помощью этого отрока — всего три.
Вретранг слегка поклонился Аримасе и Русичу и не обращал внимания на похвалу отца Димитрия, худощавое мальчишечье лицо его было спокойным, будто не о нем шла речь.
— Отец Димитрий, — обратилась к священнику Аримаса, — ты не забыл о своем обещании?
— Не забыл, Аримаса. Не забыл. Но не удалось мне найти Бабахана.
Аримаса тяжело вздохнула и печально взглянула на Русича.
— Но ты не отчаивайся, дочь моя, — поспешил успокоить ее священник. — С нами Вретранг, а он все знает. По дороге к вам я заговорил с ним о Бабахане, оказывается, неделю назад Вретранг видел его.
— Правда, Вретранг? — обрадовалась Аримаса.
Вретранг кивнул головой.
— И ты знаешь, где его новые сакли?
Вретранг опять кивнул.
— Ты что, не умеешь разговаривать?
Вретранг улыбнулся.
— Умеет, Аримаса, только если сам посчитает нужным. А так — легче гору сдвинуть, чем из него слово вытянуть. Это не Русич твой, у того на все готовый ответ, как у дельфийского оракула.
— Это уж слишком, святой отец, будущего я не умею предсказывать, — рассмеялся Русич.
Почти у самого входа в саклю под сосной спрятались от солнца гнедой и подвласая. Увидев лошадей, Вретранг удивленно вскрикнул, вырвался немного вперед и громко позвал:
— Тишта, Тиштийа!
Кобыла подняла голову, навострила уши.
— Фью-ить, фью-ить, фью-ить! — свистнул Вретранг и подвласая пошла ему навстречу, ткнулась губами в грудь.
Вретранг вытащил из-за пазухи лепешку, отдал кобыле, обнял ее за шею и что-то прошептал на ухо.
Аримаса, Русич и отец Димитрий замерли пораженные.
Вретранг отклонил голову от лошади, спросил:
— Где вы взяли Тиштийю? Это моя лошадь.
Аримаса рассказала, как она нашла подвласую и похоронила человека, который на ней ехал.
— Это было прошлой весной? — спросил Вертранг.
— Да.
— Значит, моя стрела все-таки догнала его. Я стрелял наугад, луна еще не взошла и было темно.
— Вретранг! — воскликнул в ужасе отец Димитрий. — Ты убил человека!
— Это был плохой человек, отец Димитрий. Брат Черного уха. Он украл мою лошадь.
— Из-за этой твари ты убил человека, — сокрушался священник. — Вы посмотрите на него, еще рот материнским молоком пахнет, а какой жестокий. И тени раскаяния нет на его лице. Он даже улыбается.
Вретранг действительно улыбался. Но все же попытался оправдаться.
— Как бы ни был красив больной зуб, его вырывают. Кто сумеет подсчитать, сколько невинных людей загубил брат Черного уха? Одним убийцей стало меньше, теперь бы достать его брата.
— Но есть же светская власть, ей богом дано судить и наказывать преступников.
Вретранг пренебрежительно махнул рукой, этим и выразил свое отношение к власти. Погладил подвласую и сказал:
— Тиштийа — хорошая лошадь, умная. Другой такой у меня нет. Только слишком доверчива к людям. Но раз так получилось, пусть она будет вашей, — Вретранг слегка хлопнул ладонью по шее подвласой. — Иди, Тиштийа. Иди на место.
Кобыла покорно пошла к гнедому.
— Нет, Вретранг, — Аримаса подошла к юноше, — ты забери себе Тиштийю. Мы вполне обходимся гнедым, зачем нам вторая лошадь?
— Лошадь никогда не бывает лишней, Аримаса, — возразил Вретранг и пошел к коню, на котором приехал. Потом обернулся и добавил: — Как я сказал, так и будет. Давайте лучше займемся глухарями, а то пропадут. Болтовней брюха все равно не наполнишь.
— Вот упрямец, а! — никак не мог успокоиться отец Димитрий. — Что из него будет, когда вырастет?
Русич восхищенно смотрел на Вретранга.
— А мне он нравится, отец Димитрий. С такими легко жить.
— Вот и поживешь в его доме, пока свой построишь.
Остаток дня прошел в сборах. Аримасе хотелось забрать из сакли все. Но вещей оказалось слишком много, и стало ясно, что на двух вьючных лошадях, которых привели с собой отец Димитрий и Вретранг, их не увезти.
— Попробую вытащить пустую арбу на перевал, — сказал Вретранг. — Если удастся, перевезем туда вещи. Но тогда придется ехать кружным путем.
Вретранг возвратился только к вечеру. Арбу он все же вытащил на перевал, хотя пришлось разобрать ее и поднимать наверх частями.
Тронулись в путь в полдень следующего дня. На перевале Русич и Аримаса с Сауроном пересели на арбу. Лишь изредка, когда приходилось преодолевать такое место, где арба могла перевернуться, снова пересаживались на лошадей. Особенно трудно было Русичу. Ехать верхом по крутым склонам, опираясь на стремя одной ногой, не просто. Русич обеими руками держался за луку седла и полностью полагался на Тиштийю. Она словно чувствовала неуверенность седока, не делала резких движений, везла плавно, не торопилась догнать спутников.
На пятый день остановились на дневку у выхода из узкого ущелья. Аримаса настолько устала, что еле выбралась из арбы и с наслаждением опустилась на твердую землю.
— До Аланополиса осталось полдня пути, — подбодрил спутников Вретранг и показал на крутой, почти отвесный склон. — За этой горой поселился род Бабахана.
Аримаса оживилась.
— Давайте к нему сразу и поедем, — предложила она и посмотрела на мужа.
— Нет, Аримаса. Ни тебе, ни Русичу на эту гору не подняться, — разочаровал ее Вретранг и снисходительно посмотрел на священника, распластавшегося рядом с арбой. — Да и отцу Димитрию не поднять на эту высь своего бренного тела, если, конечно, не помогут ему ангелы.
— Не богохульствуй, убийца. Еще придешь ко мне грехи отмаливать, — не поднимая головы, буркнул священник.
Все, кроме Вретранга, сразу уснули. Он сам приготовил обед, лишь потом разбудил спутников.
— Надо хорошо поесть, иначе сил не будет.
* * *
Сразу после обеда начали собираться в дорогу. Только оседлали лошадей, увидели всадников, не спеша поднимавшихся по широкой долине. Всадники тоже заметили табор и повернули к нему в ущелье.
— Десять человек, — подсчитал Вретранг, — и все вооружены.
Вретранг пристально всматривался в приближающихся людей.
— По своим делам едут, что ты волнуешься? — небрежно бросил отец Димитрий.
— Если бы так, они не свернули бы к нам, — возразил ему Вретранг. — Мне кажется, что это Черное ухо со своими дружками.
— Ну и что ж? Кто тронет человека, если рядом служитель церкви?
— Может быть, и не тронут. Но ты не знаешь Черного уха. — Вретранг помолчал немного и твердо сказал: — Теперь точно вижу — это он. Сопротивляться нам бессмысленно. Придется и в самом деле полагаться на бога. А я попробую, пока не поздно, пробраться к Бабахану. Он выручит, — Вретранг скрылся в кустах и уже оттуда крикнул: — Отец Димитрий, расседлай мою лошадь. И не говори, что с вами был еще один человек. Будет хуже.
Священник что-то недовольно пробурчал себе под нос, но седло все-таки снял, бросил на арбу и прикрыл его полстью.
Между тем всадники приближались. У Аримасы беспокойно забилось сердце, и она взяла на руки спящего Саурона. Русич хотел достать оружие, но отец Димитрий остановил его.
— Не надо. Если уж этот чертенок, — господи, прости мою душу грешную, — сказал, что сопротивляться не следует, значит и на самом деле не надо.
Саурон проснулся, заплакал. Аримаса присела с ним на землю.
Всадники приближались.
— А что они могут нам сделать? — успокаивал Аримасу и Русича отец Димитрий. — Убивать нас нет никакого смысла. Ограбят? Потихоньку пешком дойдем до города, а там как-нибудь все устроится. Так же, Русич?
Русич пожал плечами.
Послышался топот конских копыт. Еще несколько томительных минут — и табор окружили вооруженные люди. У одного из них, еще довольно юного, безбородого, но крепкого и мощного телом, действительно было черное, изуродованное родимым пятном, ухо.
Они молча осматривали табор.
Отец Димитрий не выдержал, перекрестился и спросил:
— Куда путь держите, сыны мои?
— Не твое дело! — прикрикнул на священника бородатый всадник в лохматой бараньей шапке. — А то…
— Замолчи, Булан, — резко оборвал его Черное ухо.
Булан осекся и отъехал в сторону. А Русич удивился, что верховодит шайкой самый молодой из этих грабителей.
— Наконец-то вспомнил твое имя, — Черное ухо повернулся к священнику. — И стало мне интересно, что же это за птицы такие, что их сопровождает сам отец Димитрий?
Священник обрадовался, что его узнали, еще раз перекрестился.
— Да. Это я. А как тебя зовут, сын мой? Что-то я не могу…
— А ты не трудись, святой отец, — перебил его Черное ухо, — нам не доводилось встречаться, я видел тебя только издали. А имя знать мое — не обязательно. Кто эти люди?
Отец Димитрий нахмурился, его возмутила грубость Черного уха, но решил стерпеть, не злить его.
— Это рабы божьи, попали в беду. Вот церковь и решила приютить их. Люди они бедные. Он — калека, она — мать. Хозяйство у них…
— Сам вижу, — перебил его Черное ухо. — Я решил так: лошадей, корову, бычка, весь этот хлам, — он показал плеткой на арбу, — я забираю за твою голову, отец Димитрий. Можешь даже верхом уехать на своем коне! А за этих, если ими дорожит церковь, ты приведешь по пять скакунов за каждого. Их трое: женщина, мужчина и ребенок. Если не успеешь, найдешь их мертвыми. Так что… — Черное ухо помолчал, потом оскалил зубы и добавил: — Считай, что ты ограбил калеку и младенца, святой отец. Выкупил себя за их имущество.
Разбойники дружно захохотали.
— Не бери такого греха на душу, святой отец. Бог не простит тебе. Не теряй время, веди быстрее скакунов. Да выбирай лучших.
— Но где ж я возьму столько коней? — взмолился отец Димитрий.
— Не знаю, — ответил Черное ухо, повернулся к Булану и приказал: — Мужчину и женщину привязать к сосне, ребенка положить напротив.
Четверо всадников соскочили с коней, вырвали и бросили на землю плачущего Саурона, скрутили руки Аримасе и Русичу, волоком потащили к одинокой толстой сосне у небольшой скалы. Аримаса слезно молила пощадить сына, но никто не обращал на нее внимания. Только Булан спросил у Черного уха:
— Как привязать их, стоя или сидя?
— Можно сидя, — смилостивился Черное ухо и повернулся к священнику. — Последний раз предупреждаю тебя, что напрасно теряешь время. Не успеешь вернуться к сроку — найдешь их трупы. Я буду ждать под деревьями, около речки. Вон там. — Черное ухо показал на излучину реки, поросшую редколесьем.
Отец Димитрий горестно взглянул на Русича и Аримасу, привязанных к толстой сосне, на плачущего Саурона, брошенного у ног, перекрестился, вскочил в седло и поскакал из ущелья.
Русич окликнул главаря шайки:
— Эй, как тебя там! Именем матери твоей умоляю, отдай Аримасе сына! Если за это нужна человеческая жизнь, возьми мою.
Все посмотрели на Черное ухо. Тот махнул рукой — и Булан вернулся к сосне, освободил Аримасе руки, сунул ей Саурона и побежал к излучине.
Там грабители зарезали молодого бычка, развели между деревьями костер, начали готовить себе пищу.
Аримаса тихо спросила:
— Что же будет, Русич?
— Не знаю, Аримаса. Прости, что не мог защитить тебя и Саурона.
* * *
Постепенно солнце источило на землю запас живительного тепла. И хотя лучи его еще тянулись к темно-зеленому лесу и рыжеватым вершинам, они уже почти не грели. Тень от сосны, к которой были привязаны Аримаса и Русич, напитав прохладой сочную траву широкой поляны, перебежала к реке, накрыла собой излучину, а вместе с ней и редкие деревья, и уснувшее насытившееся войско Черного уха, и его самого, развалившегося на попоне, услужливо расстеленной одним из верных помощников.
Русич поднял голову и вдали увидел всадников. Широко рассыпавшись по долине, они стремительно приближались к горловине ущелья. В середине группы Русич заметил отца Димитрия. Черная сутана его растегнулась и так развевалась на ветру, что казалось, священник расправил крылья и вот-вот взлетит над горами.
— Смотри, Аримаса, — тихо шепнул Русич, — едут избавители наши.
Аримаса обрадовалась и, присмотревшись, сказала:
— Видишь длинноволосого, с непокрытой головой, рядом с маленьким Вретрангом? Это и есть Бабахан. Наконец-то кончились наши мучения.
Один из грабителей зашевелился. Это был Булан. Он не спеша поднялся на ноги, качаясь, сонный, отошел к ближайшему дереву, омочил его корни и возвратился на место. Только улегся, снова встал, прислушался, посматривая в сторону долины — до табора уже доносился конский топот, — быстро взбежал наверх и увидел воинов Бабахана.
— Вай-йя! — тревожно закричал Булан и побежал обратно. — Вай-йя! Вставайте, вставайте! Священник обманул нас, он привел людей!
Грабители кинулись к своим лошадям.
Через минуту Черное ухо, а следом и остальные, оседлав коней, выскочили на пригорок, к арбе. Отряд Бабахана был уже почти рядом, примерно на два полета стрелы.
— Уходим к глубоким пещерам! — крикнул Черное ухо и поскакал по ущелью. Потом обернулся, придержал коня, подождал пока поравняется с ним Булан, что-то приказал, показывая плетью на Аримасу и Русича.
Булан, прихватив с собой еще одного грабителя, повернул обратно. Не доезжая до арбы, они резко осадили лошадей и, не обращая внимания на приближавшихся к ним Бабахана и Вретранга, сорвали с плеч луки, выхватили из колчанов по стреле, прицелились в Русича и Аримасу.
Бабахан и Вретранг, не останавливаясь, тоже натянули свои луки.
Аримаса отбросила в густую траву заплакавшего Саурона, сжалась в комок и закрыла глаза. Русич попытался хоть как-нибудь прикрыть собой Аримасу, склонился над нею, насколько позволяли ремни, и тут же посланная в него стрела обожгла плечо и застряла в сосне. Аримаса дернулась под наклонившимся Русичем, вскрикнула и обеими руками схватилась за незащищенный бок.
Русич рвался изо всех сил, но не мог разорвать крепких упряжных ремней, которыми их привязали к сосне. Корчась от боли, Аримаса вытащила и отбросила в сторону желтоватый прутик, но это не облегчило ее страданий. Железный наконечник стрелы намертво застрял где-то внутри, между ребрами. Из раны хлестала кровь и по рукам Аримасы бежала вниз, на землю.
Вретранг и Бабахан, прикончив обоих бандитов, спешили к пленникам.
* * *
По настоянию отца Димитрия Аримасу привезли в Аланополис, где священник надеялся найти хорошего лекаря. Но Аримасе день ото дня становилось хуже, она умирала.
Русич, почерневший от свалившегося на него горя, сидел у нее в изголовье, менял повязки, поил отваром трав, которые приносил ему монах, присланный отцом Димитрием.
Бабахан тоже находился в доме Вретранга, куда поместили Аримасу, только один раз отлучился — съездил к себе в селение, привез Сахиру с двухмесячным сыном. Сахира кормила грудью и Саурона.
Аримаса все чаще и чаще теряла сознание. И когда сама почувствовала приближение смерти, еле слышно, срывающимся голосом сказала:
— Не страдай, Русич. Боги потому и зовут мою душу к себе, что я уже испытала полную меру счастья, отпущенную мне ими. Я встретила тебя и родила сына. Разве может в покинутом людьми ущелье одинокая женщица иметь лучшую долю? Мне не хочется умирать, Русич. Но — и сил больше нет терпеть боли. Смерть принесет мне облегчение. Об одном только тревожусь: трудно будет тебе растить Саурона. Отдай сына Бабахану и Сахире. Так будет лучше. Русич, поверь мне. Я хочу, чтобы сын вырос счастливым человеком.
Просьба Аримасы оказалась настолько неожиданной, что Русич растерялся и поначалу не ответил ей, лишь сглотнул подкативший к горлу комок. В один миг лишиться жены и сына? Как ему пережить такое? Русич противился словам Аримасы, не принимал их, но и не мог не исполнить ее последней воли. И он утвердительно кивнул головой.
Аримаса попросила поднести сына. Сахира положила Саурона рядом с нею. Подошел Бабахан. Аримаса бескровной ладонью прикоснулась к голове сына.
— Бабахан, тебя и Сахиру прошу, воспитайте Саурона, чтобы он был достойным сыном нашего рода. Будьте ему отцом и матерью. Но пусть не забывает и родного отца. Нет для меня человека дороже, чем Русич. И Саурон должен гордиться им.
Аримасу похоронили в церкви святой Анны. Через неделю Бабахан и Сахира увезли Саурона, а Русич постригся в монахи и принял имя Лука.
4. У священного дуба
Хомуня неподвижно сидел на берегу Инджик-су и смотрел на бурные перекаты лазорево-зеленоватой воды.
Прислонившись к большой скале, напоминающей крепостную стену с башней, он с удовлетворением прислушался, как прогретая солнцем каменная громада согревала его побитое о булыжники тело. Тепло приятно разливалось по спине, от лопаток шло вниз, проникало внутрь.
Вода в реке все-таки слишком холодная.
Хомуня имел неосторожность после того, как побывал с Омаром Тайфуром в крепости Хумара, похвалиться перед кем-то из рабов кажется, перед Аристином, что караван пойдет на Русь. Но у похвалки ноги оказались гнилыми. Сначала купец решил задержаться в Хумаре еще на два дня, а потом и вовсе объявил о своем решении идти не на север, а по Инджик-су на Севастополис.
Хомуня пал духом, ходил хмурым. Порой им овладевала такая тоска, что жить не хотелось. Особенно были невыносимы грубые насмешки Валсамона, не упускавшего малейшей возможности причинить ему боль.
Потом стало еще хуже. Омар Тайфур нанял проводника, хорошо знающего Кавказ, и Валсамон, почувствовав, что купец особо не нуждается в Хомуне, всерьез задумал расправиться с ним. Первая попытка Валсамону не удалась.
Хомуня усмехнулся и вслух, словно для того, чтобы убедить самого себя, произнес:
— Надо бежать.
Бежать он задумал еще в тот день, когда караван вброд перешел Куфис и направился к Инджик-су. Но никак не мог улучить удобной поры для побега. И скорее всего потому, что стал слишком подозрительным и мнительным, боялся, как бы купец и Валсамон или еще кто-нибудь из рабов не догадались о его намерении. Ему даже показалось, что за ним пристально следят, ни на минуту не оставляют одного.
И только здесь, на стоянке неподалеку от аланского города Аланополиса, Хомуня удостоверился, что подозрения его напрасны. Иначе Омар Тайфур не послал бы его с товаром к настоятелю монастыря без охраны. Настоятель, отец Лука, его не принял, сказался больным, велел товар сдать ключнику. Но того долго пришлось ждать, уехал куда-то с утра и вернулся только к обеду. Полдня не было Хомуни в таборе, и никто не встревожился.
Едва Хомуня вернулся, Валсамон сразу заставил его идти на реку стирать одежду купца.
Со стиркой управился быстро. Но едва развесил на кусты сушить халаты, как появился Валсамон. Злой, как ягуар, он зарычал, ни слова не говоря, схватил Хомуню за шиворот и потащил опять к реке.
Холодная вода в Инджик-су. А для его стареющего тела — даже слишком.
Хомуня до сих пор удивляется, как ему удалось ухватиться за одежду Валсамона и увлечь его за собой. Вода, как щепку, сначала бросила на камни могучего Валсамона, и только потом, поверх него, Хомуню.
Валсамон ударился плечом об острый камень, в кровь разодрал кожу на щеке и на боку. Трудно сказать, удалось бы им выбраться на берег или нет, если бы не поваленное дерево, вершина которого лежала в воде ниже по течению.
Раны Валсамона сильно кровоточили, и он, едва ступив на берег, сразу побежал к табору.
Некстати эта драка. Шуму будет много. А откладывать побег нельзя. В распоряжении осталась всего одна ночь. Утром караван пойдет к Желтой спине — Аркассару, а там сбежать сложнее, каждый человек на виду.
* * *
Хомуня насторожился. Слева, за скалой, с крутого берега скатился камень и плюхнулся в небольшую заводь. Хомуня протянул руку и подвинул к себе продолговатый острый голыш, напоминающий рог буйвола.
Из-за скалы показалась босая нога, измазанная черной болотной грязью. Она осторожно опустилась на камень, опробовала его устойчивость. Потом Хомуня увидел закатанные до колена серые шаровары и успокоился. Не валсамоновы шаровары. У того красные.
Это был Аристин. Не заметив Хомуни, он подошел к реке, присел на корточки, набрал в пригоршню воды, напился.
Поднимаясь, Аристин оглянулся. Увидев Хомуню, он резко выпрямился и замер, настороженный.
Потом Аристин наклонил к себе ветку калины, пробившуюся между камней, вытащил из-за пояса кинжал с длинным лезвием, легким взмахом срубил ветку и, очищая ее от листьев и тонких отростков, сделал шаг в сторону Хомуни.
Хомуня опустил руку на «буйволиный рог».
Аристин остановился в нерешительности. Затем, оглядевшись, сел на край базальтовой плиты. Кинжал положил рядом.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Аристин.
Хомуня не ответил, только судорожно сглотнул слюну и пожал плечами.
— Жалко, что ты не утопил Валсамона в реке. Таким бешеным я его ни разу не видел. Наверное, кому суждено умереть на виселице, тот не утонет, — Аристин встал, постоял минуту и добавил: — Я заберу халаты Тайфура, они уже высохли.
Хомуня молча кивнул головой.
Осторожно переступая босыми ногами, Аристин направился к откосу. Кинжал остался лежать там, на плите, где молодой раб положил его.
Хомуня удивленно посмотрел вслед Аристину. Еще не было случая, чтобы тот забыл или отдал кому свое оружие.
Аристин остановился, бросил в сторону Хомуни очищенный калиновый прутик и сказал:
— Меня Валсамон послал не только за тем, чтобы забрать халаты. Ты понимаешь, что это значит? Я скажу Валсамону, что издали увидел тебя под скалой.
Приложив правую руку к сердцу, Хомуня склонил голову; Аристин, удовлетворенный, снова начал взбираться на откос.
Хомуня быстро встал, поднял кинжал и спрятал под рубаху, за пояс. При этом успел отметить, что кинжал взят из запасов Омара Тайфура.
— Аристин! — негромко позвал он. Аристин вздрогнул и медленно повернулся к Хомуне.
— Под моим седлом, в тороке, лежит плащ. Он еще довольно крепкий. Не пропускает воду. Есть там, правда, небольшая дыра, но это пустяк. Она в самом низу справа. Ты возьми себе плащ. Скажи, что я подарил тебе.
— Валсамон уже забрал твой плащ. И кинжал тоже. Так что… — Аристин мельком взглянул в сторону табора и добавил: — Я буду молиться за тебя, Хомуня.
— Спасибо, — Хомуня снова отошел к сакле. — Я хорошо помню твою мать, Аристин. Она была доброй женщиной. Жаль, что ты не знал ее. А Валсамону скажи, что я здесь, под скалой сижу. Греюсь на солнце.
Аристин пошел не оглядываясь.
Хомуня понимал, что с Валсамоном справиться будет трудно. И рассчитывать, что первый раб-телохранитель, одурманенный злостью, сам подставит себя под нож, — дело безнадежное. Как только за редкими кустами, разбросанными по бровке откоса, скрылась голова Аристина, у Хомуни засосало под ложечкой. У него всегда появляется этот противный сигнал тревоги, когда наступает опасность. Но если раньше усилием воли, иногда даже совсем небольшим, он подавлял эту тревогу и любую неприятность встречал спокойно, то сейчас чувствовал, как смятение разливается по всей груди. Хомуня с удивлением посмотрел на свои руки. Их охватила мелкая дрожь. Он с отвращением встряхнул кистями, несколько раз сильно сжал ладони в кулак. Потом медленно расправил пальцы. Дрожь не утихла.
«От старости, что ли?» — подумал Хомуня.
Он внимательно осмотрел место, где отогревался на солнце, скалу, нависшую небольшим карнизом над кромкой берега. Попробовал даже притаиться у края скалы, чтобы первому внезапно напасть на Валсамона. Но скоро убедился, что это невозможно. Не будет Валсамон спускаться к реке рядом со скалой. Здесь слишком много острых камней, и он, наверняка, выберет себе дорогу полегче, чуть левее. Да и ниша в скале не настолько глубока, чтобы там можно было спрятаться.
Хомуня обошел кучу камней и начал подниматься на откос. В конце широкой поляны, недалеко от шатра Омара Тайфура, где паслись лошади, он увидел Валсамона и Аристина. Аристин рукой показал в сторону скалы.
Сразу за шатром начинался лес. Изумрудными, с белесой проседью, волнами он круто возносился на гору и доставал почти до вершины. Внизу лес плотной стеной охватывал широкую поляну, на которой располагался табор. Справа, за шатром Тайфура, поляна упиралась в излучину Инджик-су. Слева — заканчивалась широким гребнем селевого наноса, из которого торчали побелевшие от дождей корни деревьев, стволы с ободранной корой, сучья.
Валсамон, сверкая саблей, устремился к реке.
Хомуня спустился назад с откоса и побежал вдоль скалы. Каменная стена постепенно становилась все ниже, но не настолько, чтобы можно было взобраться на нее. У поворота реки она вплотную подходила к бушующему потоку, карнизом нависла над Инджик-су.
Хомуня остановился. Дальше бежать некуда. Наклонившись, он увидел, что под скалой еще остается небольшое сухое пространство. Если проползти десяток шагов, дальше скала мешать не будет.
Сзади послышался хохот Валсамона.
— Гы-гы-гы! От меня не уйдешь! Молись богу! Гы-гы-гы!
Не раздумывая, Хомуня бросился под карниз. Но по сухой полосе ему пробраться не удалось, там слишком низко. Пришлось ползти по воде. С краю оказалось неглубоко, большой валун чуть в сторону отводил стрежень потока.
Позади уже слышалось тяжелое дыхание Валсамона. Хомуня изо всех сил работал руками и ногами, не обращал внимания на острые камни и холодную воду.
Выбравшись, он выхватил кинжал, и опустился перед нишей на колени. Валсамон остановился. Глаза, налитые кровью, сверкали, лицо перекошено от злобы, зубы оскалены, как у хищника.
Но положение его было незавидным. Крупное тело Валсамона еле помещалось под скалой, сдвинуться влево — опасно, стремнина могла подхватить и унести вниз. А впереди — русич с кинжалом.
Валсамон зарычал и медленно, выбрасывая саблю перед собой, начал протискиваться вперед.
Хомуня переложил кинжал в левую руку, взял крупный голыш и запустил им в оскаленные зубы первого раба-телохранителя.
Валсамон взвыл. Отплевываясь и вытирая рукой окровавленное лицо, он попятился назад. Хомуня еще раз запустил в него камнем, встал и, продираясь сквозь густые заросли ежевики, взобрался на откос.
Рядом с шатром стояли рабы и молча смотрели в его сторону. Надеясь, что никто из них, пока не заставит Валсамон, не бросится в погоню, Хомуня перебежал поляну и скрылся в лесу.
Обходя буреломы и непроходимые чащи кустарников, он старался быстрее достигнуть вершины. Только у небольшого ручья, шумевшего в расщелине, приостановился умыть покрытое потом лицо и глотнуть воды.
Тут у него появилась мысль отправиться по ручью вниз, а затем долиной Инджик-су добраться до Куфиса. Но опасаясь, что Омар Тайфур, узнав о побеге, пошлет вперед верховых и устроит засаду, Хомуня снова, только уже более спокойным, но быстрым шагом, двинулся вверх.
Временами подъем был настолько крут, что приходилось руками цепляться за молодые побеги бересклета, клена и осины, ползти на четвереньках.
Когда выбрался на узкую тропу, стало немного легче. Но тропа вскоре круто повела вправо, запетляла вдоль склона, а потом и вовсе свернула вниз. Хомуня попал в густые, переплетенные колючими ветвями шиповника, заросли кизила и боярышника, с трудом из них выбрался и, увидев поваленное дерево, присел отдохнуть.
Погони он уже не боялся, найти человека в этих дебрях не просто. Хомуня спокойно воткнул кинжал в ствол подгнившей осины, достал из кармана кресало, кусочки кремня и завернутый в тряпку трут. Кремень и кресало положил обратно в карман, а трут выставил на ветерок сушить.
Совсем не так Хомуня замышлял побег. Он рассчитывал заранее припасти себе все необходимое в пути. А когда рабы уснут, потихоньку оседлать коня, вывести его за поляну и ускакать. За ночь он мог бы далеко отъехать от табора, а утром поглубже забраться в лес на отдых. Выждал бы время, пока Омару Тайфуру надоест искать сбежавшего раба, затем попытался бы пробраться на Русь. Пешком, без коня, далеко не уйдешь. Но больше всего огорчало Хомуню то, что у него, кроме кинжала, нет никакого оружия. Без лука и стрел ни птицу не возьмешь, ни зверя. Можно и с голоду околеть.
Хомуня взял кинжал, подошел к молодому тису, облюбовал подходящиу отросток и сделал надруб. С тисом он провозился долго, но зато получилась хорошая палица с острой, похожей на топорик, увесистой култышкой. Опробовал ее на подгнившем пне осины. Пень — вдребезги, а палице — хоть бы что. Крепка.
Трут подсох. Хомуня достал кремень и кресало, высек искру. Пошел слабенький синеватый дымок. Тщательно притушив пальцами огонь, он снова завернул трут в платок, вытащил из-за ворота крест, привязал к нему узелок с трутом.
— Так надежнее, — решил он. — В кармане еще сыровато, а наступит ночь — сушить будет поздно.
Покрутив в руках кинжал, Хомуня взял остатки тиса, выстругал из них две одинаковые дощечки с углублениями, связал их полосками ремня, отрезанными от своего пояса, — получились ножны. Прицепив их, Хомуня взял палицу и двинулся к вершине.
Добрался туда, когда солнце повернуло к закату, но еще хорошо высвечивало долину Инджик-су. Посмотрел вниз и с трудом отыскал шатер Омара Тайфура.
Оказалось, что Хомуня сильно отклонился вправо и вышел на гребень напротив аланского города. Табор купца располагался ниже по течению реки. Хорошо просматривалась рыжеватая, четко очерченная лесом и рекой поляна. Со стороны города к табору мчалось несколько всадников.
Хомуня вспомнил, что Омара Тайфура с самого утра не было в таборе. Может быть, он только возвращается из города и еще не знает о побеге русича?
Подул прохладный ветер. На вершине стало одиноко и неуютно. Хомуня решил уйти на другую сторону горы, подальше от табора.
Перевалив через хребет, он увидел обширную долину, окаймленную лесом и высокими скалами. Ярко освещенная вечерним солнцем, она казалась мягкой, теплой и ласковой, манила к себе.
В желудке неприятно подсасывало. И Хомуня пытался заглушить голод ягодами, которые изредка попадались на пути, съел несколько колосков овсяницы, но все это мало помогло.
Перед тем, как спуститься в лес, он приостановился, приметил положение солнца, чтобы не сбиться с пути и выйти на поляну к скалам, и только потом двинулся дальше. По дороге попались грибы. Пока собрал их в подол рубахи, сумрак начал окутывать лес, солнце почти не пробивалось сквозь крону деревьев.
В скалах, где начиналась долина, почти рядом с одиноким старым раскидистым дубом, чуть выше небольшого ручья, который с плеском выбрасывался из расщелины, он обнаружил узкую, но глубокую пещеру. Перед входом, на краю покрытой мхом каменной площадки, прицепилось несколько кустов барбариса. Они скрывали пещеру от постороннего глаза. Этим она и понравилась Хомуне. Он бы не заметил ее, если бы не забрел сюда в поисках спуска к ручью.
Пещера, очевидно, служила логовом медведю — дно покрыто ковром перетертой травы и веток, перемешанных с шерстью. Но свежих следов зверя он не нашел, поэтому спокойно оставил там палицу, грибы и вернулся в лес за сушняком. До захода солнца успел запастись дровами, сухой хвоей и устлать пещеру свежей травой.
Хомуня совсем выбился из сил и, не разводя костра, прилег на теплые камни у входа пещеры.
Проснулся от холода. Под темное покрывало ночь спрятала и долину, и лес, и горы. Лишь острые зубцы вершин неровно рвали края усыпанного звездами неба, наискось прошитого мутным бисером млечного пути. Хомуня отыскал Большую Медведицу, от нее перевел взгляд на Северную звезду. Где-то в той стороне, за горами, за Диким полем так же уснула Русь, далекая, оттого, наверное, и одинокая, как он.
— Или не так? — тихо прошептал Хомуня. — Или одиноко и тоскливо лишь мне без тебя?
Вздохнув тяжело, он еще раз посмотрел на север и покачал головой.
— Нет, земля — все равно, что мать, она не может быть счастливой без детей своих, — Хомуня расчувствовался и представил себя уже в Новгород-Северском, встречу с матерью, со своими сверстниками, с Гориславой… — А может, Горислава уже не помнит меня, — испугался он. — Как она встретит потерянную судьбу свою?
Хомуня попытался представить Гориславу постаревшей и не сумел этого сделать. В его воображении она оставалась все такой же ясочкой, маленькой звездочкой, какой впервые увидел накануне купальской ночи, в тот день, когда она молила его укараулить цвет папоротника или отыскать перелет-траву…
Запомнились и глаза ее, большие, чуть покрасневшие, мокрые от слез. Тогда виделись с нею последний раз. Прощаясь, Горислава словами убеждала его в одном, а глаза выражали совсем другое, лицо смеялось, а глаза плакали. Хомуня тогда больше всего боялся, что Горислава и поступит так, как грозилась: «Пойду в поле, выкопаю из сухой земли корень Чернобыля, сварю напиток забвения и выпью его. Чтоб духу твоего не осталось в моей памяти».
Горислава рассказала притчу о княжеском отроке по имени Иванко. В молодости тот служил великому князю Владимиру Мономаху. Когда половцы напали на Русь, начали биться с Мономаховым войском, Иванко был захвачен в полон и продан в рабство песиголовому великану. Юный отрок не единожды пытался бежать. Пробовал это сделать летом и зимой, весной и осенью, темной ночью и среди ясного дня, но каждый раз его постигала неудача. Иванку ловили, заковывали в цепи. Прошли годы, и пленник смирился со своей судьбой, перестал думать о побеге. Но однажды он случайно подсмотрел, как его песиголовый хозяин поймал белую змею, сварил ее в семи водах, наелся и улегся спать. Иванко заглянул в котел, ради интереса собрал остатки пищи и решился испробовать ее. Едва успел проглотить несколько кусочков змеиного мяса, случилось невероятное — Иванко услышал, как деревья и травы, птицы и животные разговаривают между собой, и он понимает их язык. Иванко зашел в конюшню, спросил у лошадей: «Кто из вас возьмется вынести меня на свободу, да так, чтобы и хозяин не догнал?». «Я вынесу», — отозвался каурый жеребец. Иванко набросил на него седло и помчался к морю. Песиголовый проснулся, кинулся следом, да поздно. Подъехал к берегу, когда пленник уже плыл посреди моря. «Иванко, Иванко! — крикнул ему великан. — Когда приедешь домой, нарви себе кореньев Чернобыля и напейся. Тогда еще больше познаешь, чем сейчас!» Отрок поверил, напился Чернобылю и обо всем позабыл.
* * *
…День выдался солнечным, сухим и безветренным. На городской пристани теснились мужчины и женщины, молодые и старые, холостые и венчаные, наперебой спешили занять места в ладьях, чтобы быстрее переправиться на левый берег Днестра. Там, между рекой и раменным лесом, на широком заливном лугу, который одной стороной упирался в излучину поросшей камышом протоки, другой, обогнув невысокий плоский взгорок, — в ухоженные нивы, ощетиненные колосьями ржи-ярицы и ячменя, весной посеянного в самую лучшую на то пору, когда еще не отцвела калина и не орогатилась луна, круглой медной тарелкой ночами бродила по звездному небу, на этом лугу с незапамятных времен, может быть, от самого сотворения мира, праздновали Ярилу и Купалу.
Еще до полудня луг уже пестрел яркими — от желтых до огненно-красных, вперемежку с синими и голубыми, под цвет неба и воды, — праздничными сарафанами, опашенями, ферязями и плащами. На серо-зеленом взгорке, плоским столом приподнявшимся над изумрудным лугом, недалеко от двух десятков больших камней, расположенных широким кругом, мужики устанавливали неошкуренный ясеневый столб, крепили на нем большое желтоватое, пропитанное сосновой живицей колесо с пучками ржаной соломы, привязанными красными лентами, — длинные стебли, словно солнечные лучи, расходились во все стороны света.
Заманчиво было поставить столб в центре круга, означенного камнями, но такое могло прийти в голову лишь человеку неосведомленному, еще не слышавшему рассказа попа Евигрия. Еще не известно, что случилось бы, если бы кто решился поставить Ярилов столб с круглым, точно солнце, колесом, среди тех проклятых богом камней.
Поп Евигрий, человек начитанный, праведный, каждый год, если на сей день здоров бывает, в первой же ладье переправляется через Днестр, сразу поднимается на взгорье и скликает к себе народ. Подождет, пока соберутся первые сто-двести человек, прочтет молитву Иисусу Христу, поздравит христиан со светлым праздником Рождества Иоанна Крестителя, призовет всех не творить бесчестия этому святому празднику, содержать его в чистоте и целомудрии, а не так, как заведено у язычников, «в козлогласовании, пьянстве и любодеянии».
И тут поп Евигрий ради устрашения людей, особенно дев и жен, обязательно расскажет, как в давние времена на этом же самом месте творились богомерзкие дела: «Мало не весь град взмятется, — раскинув руки, возвестит поп Евигрий, будто сам неоднократно был свидетелем тех игрищ, — стучат бубны и глас сопелий и гудуть струны, женам же и девам плескание и плясание, и главами их накивание, устам их неприязнен клич и вопль, всескверныя песни, бесовская угодия свершахуся, и хребтом их вихляние, и ногами их скакание и топтание; туже есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, но яко на женское и девическое шатание блудное им взъерение, такоже и женам мужатым беззаконное осквернение и девам растление», — после этого поп Евигрий войдет в круг камней и снова расставит руки. — «Воззрите же, жены и девы, на камни эти! То подруги ваши творили игры и хороводы в ночь на Купалу и за свое безстудное беснование превращены святым великомучеником Георгием в камни. И по сей день стоят они в поучение нам, грешным. Только через пятьсот лет оживут сии девы и станут искать мужей себе. Но кто возьмет их, таких древних? Никто. И тогда войдут в Днестр, к водяному, и превратятся в русалок».
Притихнет толпа, смахнет слезу какая-нибудь жалостливая вдова, нальет полную берестяную кружку хмельной браги и поднесет Евигрию.
— Выпей за упокой душ их, отец Евигрий.
Не успеет он опрокинуть одну, ему сразу подадут другую, третью…
Потом, бросив неизменную фразу «Веселитесь, дети мои, да бога чтите», спустится к Днестру помочь людям снести на берег коробы со снедью, корчаги и бочонки с медами и медками, сброженными с ягодными соками, с вином, привезенным купцами специально для этого праздника. Не успеет Евигрий спуститься к реке, а за спиной его уже раздаются первые удары бубнов, — будто вернулись давние времена, — поют сопели и гудят струны, раскупориваются бочонки, раскрываются коробы со снедью.
Если пройтись по лугу от братчины к братчине, можно найти себе блюдо на любой вкус. Хочешь скоромное — благо время одного поста минуло, а следующего не подошло: говяжью убоину разварную, солонину, кур, гусей варенных с гречневой ядрицей, полбяной, а то и «зеленой» кашей, яйца, сыры губчатые, оленину, а также свеклу и морковь — их тоже церковь считала в те годы пищей скоромной. Все это месяцами копилось, запасалось к празднику, иначе каково плясать на пустое пузо.
Постный стол для христианина привычней — в иной год до двухсот шестнадцати дней церковь побуждает человека поститься, — а потому постный стол и богаче. Тут тебе и щучина росольная с хреном, щучина живопросольная, схабы белужьи, осетрина шехонская, лещи и стерляги паровые, спины нельмежьи, тавранчук белужий, плотицы росольные, икра осетрья свежая, икра стерляжья, ксени белужьи пресносольные и другая рыба — отварная, вяленая, соленая, запеченная, реже — жаренная на конопляном, ореховом, маковом, а то и привезенном деревянном — оливковом — масле; тут и овощи — капуста, репа, редька, огурцы; и грибы — соленые, квашеные, вареные: грузди, рыжики, опята, белые, сморчки, печерицы (шампиньоны), и не навалом, а каждый готовится и подается по отдельности; и все это естся с разными травами — крапива, сныть, щавель, лебеда, дудник; сдабривается луком, чесноком, петрушкой, анисом, черным перцем, гвоздикой, имбирью, кардамоном, корицей, шафраном, аиром; тут и черный, ржаной, ноздреватый и духовитый хлеб на квасной закваске, и дежни, караваи, хлебцы постные, лавашники, сочни, блины, пироги, оладьи; тут и заедки — сладкие блюда — ягодно-медовые пряники и разные виды медово-мучного непеченого, сырого, но сложенного особым образом теста.
В Новгород-Северском погасили огни, подчистую выгребли из печей золу, вынесли ее во дворы и огороды, водой залили остатки тлеющих углей. Во всем городе не осталось ни одной искры, потушили даже лампады у образов. На конную площадь со всех домов несли охапки соломы и хвороста. Там, недалеко от городской стены, у южных ворот, вбили в землю две дубовые сваи — на четверть сажени одна от другой, — наверху каждой вырубили углубления, в которые вложили поперечную — в руку толщиной — балку, по краям обмотанную просмоленной паклей и старым засаленным тряпьем.
А на улицах, примыкающих к конной площади, в это время уже накапливался скот, задержанный в базах по случаю праздника, хозяева ждали, пока старики добудут живой священный огонь, подожгут солому и хворост, сложенные у ворот, чтобы через священное пламя перегнать стадо на пастбище, очистить коров и лошадей от скверны, не допустить мора.
От него же, от живого огня, предстояло возжечь и погашенные домашние очаги, и Ярилово колесо, и купальские костры на лугу, для которых там уже готовились хворост и сухие дрова.
Хомуня с самого начала вызвался помочь старикам установить это нехитрое сооружение для добычи живого огня, вместе с ними готовил сваи и вбивал их в землю. Дело это оказалось далеко не простым и потребовало довольно много времени. То ли место выбрано неудачно, то ли оттого, что уже давно не было дождей и поэтому земля превратилась в камень, но с какой бы силой Хомуня ни колотил молотом, дубовая свая лишь звенела, поддавалась слабо, не хотела углубляться в почву.
С дощатого настила, положенного на высокие козлы, Хомуня украдкой поглядывал на пристань, где народу становилось все меньше и меньше, за Днестр, где поп Евигрий уже давно закончил читать свою ежегодную проповедь, и народ, рассыпавшись по всему лугу, делился на братчины, стелил скатерти, из хворосту и сухих бревен выкладывал костры.
Хомуня боялся одного — перевозчики подберут оставшихся на пристани людей, причалят свои ладьи к противоположному берегу реки и откажутся плыть за опоздавшими — кому захочется садиться за весла, если вино уже будет пениться в кубках.
Дед Словен, ветхий, белоголовый, с редкой, будто выскубленной бородкой, и сам тщедушный, маленький, сидел на заборале — на верхней площадке городской стены, спиной как-то сумел втиснуться в узкую бойницу, — был главным распорядителем, указывал, как забивать сваи, вытесанные из сухого дуба, твердого Перунова дерева, как на них рубить в обло — делать полукруглый паз для поперечной балки. Словен сразу заметил беспокойство и нетерпение Хомуни, нахмурился. Он уже раскрыл свой беззубый рот, хотел прикрикнуть на Хомуню, чтобы не крутил головой, смотрел куда следует да. посильнее колотил молотом, но, видно, раздумал. Лишь глаза, светлые, водянистые — выцвели за долгие годы — пристально смотрели на отрока, и рот так и остался открытым. То ли не захотел гневить бога, портить праздник себе и отроку, то ли пожалел, увидев его прилипшую к спине, мокрую от пота рубаху. Наверное, пожалел, потому что, не отводя глаз от Хомуни, зачем-то сверху вниз провел ладонью, по остроносому своему лицу, жидким усам и бороде, будто смахнул нахлынувшую злость, сказал:
— Успеешь за Днестр, без живого огня не начнут праздника. Подождут.
Хомуня улыбнулся Словену, еще усерднее замахал тяжелой кувалдой.
Свая гудела и постанывала. Однако, хотя и медленно, но с каждой минутой все глубже и глубже погружалась в землю. И земля принимала ее в свои объятия, стискивала так крепко, что, казалось, сухое бревно по воле богов пустило корни и крепко уцепилось ими за подземельные камни.
В народе говорят, будто в давние времена, когда еще не родился прадед того человека, который построил здесь первый дом, на этом месте стоял самый высокий дуб. По нему можно было забраться на небо, но люди боялись даже приблизиться к священному дереву, лишь издали поклонялись ему. Однажды разыгрался сильный ветер и вырвал дуб с корнем, но не повалил его на зеленые травы, а поднял ввысь и погнал по синему морю — безбрежному воздушному океану. И тогда это священное дерево превратилось в полногрудую облачную деву, красавицу неописуемую. Увидел ее громоносец Перун, загорелся к ней пламенной любовью и в тот же миг пронзил ее насквозь быстрой молнией — плодотворной огненной палицей. И растаяла полногрудая красавица в объятиях грозного Перуна, дождем пролилось его семя на землю, от него и пошло произрастать изобилие плодов и всякое довольство.
До прихода христианских проповедников русичи творили суд и правду только под старыми могучими дубами, под их сенью всегда изрекались приговоры, навеянные не прихотью жреца или князя, а внушением Перуна. Такие дубы окружались крепкою оградою, и, кроме жреца, войти за ограду мог только тот, кто захочет принести жертву Перуну, или тот, кто ищет спасения от смертельной опасности.
Хомуня закончил бить сваи, острым топором-саморубом сделал углубления — в точности, как велено, — вложил в них поперечную балку и усмехнулся тайно, чтобы не увидел Словен. Получилось так, будто соединились Перун и его полногрудая дева: свая — жена, поперечная балка — муж.
Дед Словен подал Хомуне маленькую корчагу с чуть загустевшим конопляным маслом.
— Плесни туда Перунова семени, так возгорится быстрее.
Когда все было готово, Словен покинул свой пост, сбежал по лестнице вниз, сам пристроил на балке прочную пеньковую веревку — трижды обогнув ею поперечину, расставил людей — по шесть человек на каждый конец пеньки. По команде Словена, дергая веревку то в одну, то в другую сторону, они начали быстро вращать балку, пока от трения не появился живой священный огонь — загорелись масло и пакля в углублениях свай.
Этим огнем и подожгли кучи соломы и хвороста, сложенные у ворот. Потом, перекрестившись, дед Словен запалил приготовленный заранее пеньковый витень, хорошо пропитанный смолой и салом, подал его Хомуне.
— Ступай на пристань, лодка ждет тебя, вези людям живой огонь. Притомились, поди, на лугу…
Небольшая, быстрая на ходу, четырехвесельная лодка за несколько минут доставила Хомуню к противоположному берегу. Высоко подняв палку с горящим пеньковым витнем, Хомуня спрыгнул на землю и побежал к взгорку, где на высоком ясеневом столбе блестело на солнце желтоватое колесо.
Чтобы попасть на взгорок, Хомуне надо было обогнуть небольшой овраг, непроходимо поросший ежевикой и низкорослым ракитником. У самого начала оврага взметнулось несколько высоких гладкоствольных осин.
Оттуда, из-за осин, неожиданно и нагрянули, наскочив на Хомуню, гусляры, сопельщики, игрецы на дудах и бубнах с пестрой ватагой молодых женщин, одетых в длинные, до самой земли, голубые платья. Волосы женщин, их плечи и груди были увиты тяжелыми венками из ярких полевых цветов, и Хомуня никак не мог понять, кого представляли они: то ли русалок — их платья по низу были мокрыми, — то ли двенадцать великих Пятниц — олицетворение древней богини Мокоши в разных ее ипостасях, хозяйки священной земной влаги, покровительницы полей и скота, богини, которой и теперь молились русичи о благополучии и домашнем счастье. Но скорее всего это были русалки, иначе зачем им красоваться простоволосыми, распускать косы, ведь видно, что все они давно уж не девицы.
Женщины, чуть-чуть возбужденные хмелем, плотным кольцом окружили Хомуню, танцевали, громко смеялись. Стараясь перекричать громкие удары бубнов и гул сопелей, они наперебой о чем-то взывали к Хомуне, чего-то требовали от него. Но Хомуня не мог разобрать ни одного слова: музыка, голоса женщин сливались в один оглушающий шум.
Хомуня удивленно смотрел на скачущих вокруг него водяных дев, пытался выскочить из круга, боялся, что, если задержится с ними надолго, пеньковый витень сгорит и он не сможет донести живой священный огонь до Перунова колеса.
Лишь немного позже, когда ввели в круг белого, под красным седлом, украшенного цветами коня, Хомуня понял, что коль в руках у него оказался пеньковый витень со священным огнем, его же, Хомуню, женщины на сей раз избрали Ярилою. На Хомуню набросили ослепительно белый, расшитый красными молниями охабень — длинное, похожее на плащ, платье с четырехугольным откидным воротом и с прорехами для рук — возложили на голову венок, подсадили в седло, подали человечью голову, вырезанную из березового обрубка, колотушку, горсть ржаных колосьев, коню повесили на шею бубенчики и колокольчики.
Хомуня включился в игру. Кое-как пристроив поданные ему вещи у седла и на коленях, прижав к груди деревянную голову и высоко подняв горящий витень, он пустил коня на взгорок.
Музыка грянула еще громче, веселее. Хомуня оглянулся и увидел, что следом за ним двинулись музыканты и русалки. Раздалась песня:
Еще ходит Ярило по погребу, Еще ищет Ярило неполного, Что неполного, непокрытого, Еще хочет Ярило дополнити Свою братину зеленым вином…Радостными криками и танцами встретили Ярилу у Перунова колеса. Вперед выскочили старухи, молодые женщины и девицы, они так же, как и русалки, были с яркими венками на голове, с большими букетами в руках. Букеты эти они бросали Яриле и под ноги его коню. Сопровождаемый веселыми песнями, Хомуня-Ярило медленно приближался к ясеневому столбу, на котором желтоватой сосновой смолою блестело огромное колесо. Женщины уступали Яриле дорогу, образуя узкий, усыпанный цветами проход.
В конце прохода, у самого столба, на пути у Хомуни стояла юная темноволосая дева, круглолицая, как само солнце, с большими зелеными глазами. На ней не было, как у всех, праздничного платья, грудь ее и бедра прикрывали лишь связанные между собою венки из белых, красных и голубых цветов.
Сразу смолкла музыка, люди перестали петь и плясать. Наступила тишина, и только кто-то вдали мерно ударял в бубен, будто вторил сердцу могучего Ярилы.
— Кто ты? — спросила дева у Хомуни и подошла ближе, положила маленькую горячую руку на его босую ступню, опиравшуюся на стремя.
Хомуня растерялся, не мигая смотрел в ее зеленые глаза и молчал.
Дева чуть-чуть смежила веки, улыбнулась. От нее повеяло чем-то удивительно теплым, родным.
— Кто же ты? — повторила она и снова улыбнулась.
— Я бог твой, — Хомуня поднял голову и окинул взглядом толпу. — Я тот, кто одевает поля муравою и леса листьями. В моей власти плоды нив и деревьев, приплод стад и все, что служит на пользу человеку. Все это я дарую чтящим меня и отнимаю у тех, которые отвращаются от меня.
Сказав эти, известные всем слова, Хомуня снял со своей головы венок, вырвал из него самый большой красный цветок и воткнул его в пышные волосы девы.
— А ты кто? — спросил он и заглянул ей в глаза.
— Горислава я… — негромко сказала она, но тут же поправилась, чуть ли не выкрикнула: — Я — Лада! Великая богиня плодородия и покровительница свадеб. Это я даю любовь и счастье мужьям и женам, помогаю рождаться на свет человеку.
Последние слова Гориславы утонули в песне, которую запели женщины:
Прекрасный Ярило дарит цветы, Тебе, Лада, святая богиня. Лада! Слушай нас, Лада! Песни, Лада, поем мы тебе, Сердца наши склоняем тебе. Лада! Слушай нас, Лада!Под общее ликование Хомуня возжег Перуново колесо и отдал пеньковый витень старшинам братчин, чтобы те от живого огня запалили праздничные костры. Прошло несколько минут — и по всему лугу рассыпались пылающие языки священного огня. Люди пели и танцевали вокруг костров.
Горислава взяла коня Ярилы под уздцы и вместе с другими девицами повела его на ржаное поле. Хомуня важно восседал сверху, в правой руке держал человечью голову, в левой — ржаные колосья, подпевал девушкам и любовался Гориславой.
Где ступит Ярило ногою — Там жито копною. А куда он ни глянет — Там колос цветет.На обратном пути Хомуня спешился, снял и забросил коню на спину белый охабень, надетый на него еще русалками, и пошел рядом с Гориславой. Ему было хорошо с ней, легко. Горислава без умолку рассказывала о селении, в котором жила с отцом и матерью да братьями своими старшими. Маленькая, она часто поднимала голову, пристально смотрела ему в глаза, улыбалась все той же своей обворожительной улыбкой, от которой у Хомуни млело в груди.
Они вернулись на луг, когда женщины, собравшись огромной толпой, уже подняли «плач» великий, хоронили соломенное, с большим, вырезанным из дерева детородным членом, чучело Ярилы. Все это означало, что нивы, огороды, сады получили плодотворное семя, старое ржаное зерно полностью сгнило в земле, пришло время наливаться новому колосу.
Во время похорон Ярилы — а этот обряд проводился в основном женщинами — Хомуня и потерял Гориславу. Он долго бродил в одиночестве, горько сожалея, что не смог уследить за нею. И только перед вечером, когда солнце уже поворачивало к закату, нашел Гориславу около леса, где отроки и девицы выстроились парами, начинали играть в горелки.
Игра у них никак не ладилась. Никому из парней не хотелось «гореть» первым, каждый крепко держал свою подругу, словно боялся, что отнимут ее.
Горислава — теперь на ней было белое платье, но волосы все так же украшал венок из свежих цветов — впереди всех стояла с высоким чернобровым юношей. От этого Хомуне стало невыносимо тоскливо и одиноко. Он хотел было уйти к Днестру, где люди уже начинали плескаться, но, встретившись глазами с Гориславой и ободрившись ее улыбкой, подбежал ближе, повернулся спиной к ней и ее напарнику, ко всем играющим.
— Горю, горю пень! — крикнул Хомуня.
— Чего ты горишь? — тут же услышал голос Гориславы.
— Красной девицы хочу!
— Какой?
— Тебя молодой!
Быстро обернувшись, Хомуня увидел, как Горислава и чернобровый побежали в разные стороны, чтобы в конце вереницы пар снова сойтись вместе и взяться за руки. Хомуня бросился за Гориславой и сумел поймать ее руку, прежде чем успел это сделать его соперник.
Чернобровый, огорченный неудачей, на Хомуню взглянул лишь мельком, но зато Гориславу долго, так показалось Хомуне, сверлил глазами, будто хотел заколдовать ее, приворожить. А может, просто наказывал ждать, пока ему подойдет очередь ловить ее.
И в самом деле, тот чернобровый «горел» беспрестанно. То ли действительно ему не удавалось поймать девицу, или не очень старался, ждал, когда придет черед Гориславы. Если так, то делал он это довольно умело.
Пары менялись быстро. Впереди оставалось всего шесть или семь. Хомуня боялся потерять Гориславу, заволновался, крепко сжал ее маленькую теплую руку. Но Горислава никак не ответила, увлеченно следила за игрой и, казалось, не замечала того, кто стоял с нею рядом.
— Красной девицы хочу!
— Какой?
— Тебя молодой! — который уже раз выкрикнул чернобровый.
И тут Хомуня заметил, что соперник его, прежде чем кинуться за рыжеволосой девицей — ей досталось на этот раз убегать — метнул быстрый взгляд в сторону Гориславы. Очевидно, это заметила и рыжеволосая. Она нахмурилась, от волнения запуталась в своем длинном платье, неловко подпрыгнула и упала. Чернобровый проскочил мимо, а когда вернулся, девушка уже встала и, подобрав подол, побежала к Днестру.
Теперь ее догоняли сразу двое: и тот, кто раньше держал ее за руку, и соперник Хомуни.
Строй играющих на минуту сломался, все дружно закричали, засвистели, захлопали в ладоши, подбадривая соперников.
Хомуня еще крепче сжал ладонь Гориславы, наклонился к ней и шепнул:
— Давай убежим в лес.
Горислава — она стояла немного впереди — удивленно вскинула брови и обернулась к Хомуне.
— Зачем? — спросила она и снова улыбнулась точно так же, как в тот раз, когда остановила его коня у Перунова колеса.
И опять повеяло на Хомуню теплотой, ему страстно захотелось поцеловать эти улыбающиеся, чуть повлажневшие губы.
— Потом скажу, — сглотнув слюну, тихо сказал Хомуня и решительно увлек Гориславу к лесу.
Они так и не увидели, чем закончилась погоня, кому удалось поймать рыжеволосую девицу.
Когда забрались далеко в глубь леса, Горислава остановилась, подошла к старому раздвоенному дубу, присела на широкую развилку между стволами.
— Что ты хотел мне сказать? — успокоив дыхание, спросила она.
Хомуня поднял голову к вершине дуба, послушал, как вверху шумят его ветви, похлопал ладонью по стволу, опустился на колени, взял Гориславу за руку и пристально посмотрел ей в глаза.
— Я скажу. И не только тебе. Всему свету скажу. Буду бога просить, добрых и злых духов, которые живут в этом лесу, чтобы ты полюбила меня так же сильно, как я тебя, ясочка моя, звездочка ты моя полуночная.
Горислава рассмеялась. И смех этот, добрый и мягкий, делал Хомуню счастливым.
— Знаешь ли ты, красная моя краса, что в восточной стране есть высокие горы, на тех горах стоит сырой дуб кряковатый? Он всем дубам дуб, такой старый, что Перун только ему да брату его родному, такому же древнему и кряковатому, доверяет свои тайны, отдыхает на их сучьях. Вот он, — Хомуня снова погладил по стволу изогнутого клюкой дерева, на котором сидела Горислава, — брат того старшего дуба, и может быть, сейчас грозный Перун, невидимый нами, притаился за листьями. Слышишь, как поскрипывают ветви?
Горислава встрепенулась, вскочила, но Хомуня тут же посадил ее на прежнее место.
— Стою я, раб божий, Хомуня, на коленях под этим сырым дубом кряковатым и кланяюсь, молюсь семи буйным ветрам, семи братьям: подите вы, Ветры, буйны вихори, соберите тоски тоскучие со всего белого света, понесите их красной девице, Гориславе. Просеките булатным топором ретивое ее сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, в ее кровь горячую, чтобы красная моя краса, Горислава, тосковала и горевала по мне, рабе божьем, Хомуне, все суточные двадцать четыре часа, едой бы не заедала, в гульбе бы не загуливала, во сне бы не засыпала, в теплой бане щелоком не смывала, веником не спаривала…
Горислава прикрыла глаза и попросила…
— Не так громко, Хомуня, разбудишь леших кикимор, всех духов лесных. Лада — вездесуща. Она услышит тебя.
— И казался бы ей Хомуня милее отца и матери, милее всего рода-племени, милее всего под луной господней, — продолжал Хомуня шепотом. — Как всякий человек не может жить без хлеба — без соли, так бы не жить рабе божьей, Гориславе, без меня, Хомуни. Сколь тошно рыбе жить на сухом берегу без воды студеной и сколь тошно младенцу без матери, а матери без дитяти, столь бы тошно было Гориславе без меня.
Не открывая глаз, Горислава склонила голову, чуть улыбалась, ловила желанные слова Хомуни.
— Ясочка моя, звездочка ты моя маленькая, перепелочка степная, тридцати братьев сестричка, сорока бабушек любимая внучка, трех матерей дочка…
Хомуня приклонил к себе Гориславу, поцеловал ее губы, и она упала к нему в объятия, вместе с ним повалилась на мягкую густую траву. Руки ее обвили шею Хомуни, и губы, губы, горячие, тронутые Ярилиным плодотворным огнем, дрожали, раскрывались, просили новых и новых поцелуев, новых ласковых слов.
Наступал вечер. Серый мрак все сильнее и сильнее окутывал деревья. Чуть утолив жажду, потушив буйно разгоревшееся пламя, Горислава и Хомуня встали, надумали снова выйти на луг, к реке, оттуда еще доносились звуки музыки, приглушенные лесом, песни, смех. У Гориславы кружилась голова, оттого ей трудно было не только идти, но и устоять на земле. Опьяненное любовью тело стало непослушным, ослабевшими руками она ловила плечи Хомуни, прижималась к нему.
— Осторожно, ясочка, папоротник стопчешь, глянь, какой куст ядреный.
Горислава засмеялась, сцепила руки на шее Хомуни.
— Запомни это место, мы еще придем сюда.
— Хорошо, ясочка моя, — согласился Хомуня, прижимая к себе Гориславу.
На прибрежных отмелях Днестра было тесно. Мужчины, женщины и дети шумно плескались, плавали, догоняли друг друга. Над рекой визг и хохот. Даже солнце никак не хотело прятаться за лысые холмы правобережья, играло хрустальными брызгами, помогало людям смыть с себя и утопить в реке всякие болезни и напасти, навеянные на них сатаной.
Горислава и Хомуня сбросили с себя одежды и побежали к реке. Свежая, прохладная вода приятно студила тело. Горислава барахталась на отмели — в глубину заходить боялась, не умела плавать, — растерянно водила глазами среди множества мужчин и женщин, пыталась отыскать Хомуню.
А он стоял рядом, в трех шагах, и любовался ею.
У Гориславы уже не было ранней детской угловатости, она округлилась, созрела, словно налилась соком. Но оттого, что была невысокого роста, все равно казалась ребенком. Тело ее, ослепительно белое, подкрашенное розоватыми лучами заходящего солнца, казалось не настоящим, а навеянным чарами. По животу ее справа рассыпались пять-шесть, а может, и больше — Хомуне никак не удавалось сосчитать — черных родинок-мушек, божьих отметин.
Груди Гориславы, как половинки крупных наливных яблок, торчали нежными бугорками, раскосо смотрели в стороны розовыми горошинами. На правой, на перст от розовой горошины, выросла довольно крупная ягодка, будто груди этой досталось два соска сразу.
Хомуня зацепил ладонью воды, плеснул на Гориславу.
Она вздрогнула, увидела Хомуню и рассмеялась. Тут же в него полетели ответные брызги. Горислава подходила к нему все ближе и ближе, пригоршнями бросала воду, приговаривала: «Матушка святая водица, родная сестрица! Своей серебряной струей обмываешь ты крутые берега, бел-горюч камень и желтые пески. Обмой-ка ты с раба божия, Хомуни, все хитки и притки, уроки и призоры, скорби и болезни, щипоты и ломоты. Понеси-ка их, матушка, в чистое поле, синее море, за топучие грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын».
Хомуня тоже не отставал, плескал воду на Гориславу: «Быстрая водица! Бежишь ты по пенькам, по колодам, по болотам, и бежишь чисто, непорочно, сними с рабы божьей, Гориславы, всякие болезни и скорби…»
Внезапно по лицу Гориславы пробежала тень глубокой печали. Глаза ее потускнели, будто туманом завесились.
Грусть передалась и Хомуне, он перестал плескаться, замолчал.
— Ты любишь меня? — тихо спросила Горислава.
Хомуня провел руками по ее мокрым волосам, по лицу, задержал ладони на плечах.
— Люблю, звездочка ты моя маленькая…
— Сорви сегодня в полночь цветок папоротника, — перебила его Горислава, — или найди перелет-траву.
— Разве тебе плохо без колдовских чар?
Горислава закрыла глаза.
Позже, когда они бродили по ночному лугу, залитому серебряным лунным светом, Горислава сказала, что боится Савку, того чернобрового парня, с которым начинала играть в горелки. Савка — ее односельчанин, давно уговаривает выйти за него замуж. Если не согласится — он все равно умыкнет ее. Вот почему ей нужен цветок папоротника или перелет-травы. Перелет-трава даже лучше. Цвет ее сияет радужными красками, и ночью он кажется падучей звездочкой. Кто сумеет поймать этот прекрасный цветок, тот будет самым счастливым человеком, все желания его будут немедленно исполняться. И тогда Гориславу никто не сможет разлучить с Хомуней.
Но ни цветок папоротника, ни перелет-траву найти им так и не удалось.
…Сколько лет прошло с тех пор? Может, Гориславы теперь и в живых нет? Не дай бог такому случиться.
Хомуня на ощупь отвязал тряпочку, с трудом, достал кресало, кремень, высек огонь, и скоро костер затрещал сухими ветками, таинственными бликами выхватил края пещеры, красноватыми всполохами заиграл на лице Хомуни, живою искоркой блеснул в грустных его глазах.
Согревшись, Хомуня поджарил на углях грибы, пожевал подгоревшую, приторно-несоленую мякоть, подбросил в костер толстых сучьев и улегся спать. Уже сквозь сон подумал, что завтра надо ему идти на охоту. Если повезет — добыть мяса. Тогда можно пожить в медвежьей берлоге еще несколько дней, до тех пор, пока его перестанут искать и Омар Тайфур будет далеко за перевалом, на пути к Севастополису.
Но только беспечальному сон бывает сладок. Хомуня спал беспокойно. Костер потух. Снова стало холодно. Где-то в лесу хохотал филин, выли шакалы, кричали дикие кошки. Из-за скал доносился жалобный стон, будто все три девы — и Карна, и Желя, и Обида — скорбили о потерянном сыне. Порой Хомуня все же засыпал, и тогда ему снился Валсамон, всю ночь барахтались с ним в реке, догоняли друг друга. Потом оказалось, что это был вовсе не Валсамон, а старый Хаким держал Хомуню за полу халата, уговаривал остаться.
Лишь утром, когда солнце заглянуло в пещеру, Хомуня уснул крепко и без сновидений.
Разбудил его неясный шум, доносившийся с долины. Дремота исчезла, мускулы налились силой, тревожно забилось сердце. Хомуня почувствовал себя зайцем, загнанным собаками в чужую нору. Схватив палицу, он подполз к краю пещеры и осторожно, чуть раздвинув кусты барбариса, выглянул наружу.
Сбивая серебристую росу с высокой травы, приближалась группа всадников. След их тянулся снизу, от высокого выступа каменного берега долины. Ехало человек двадцать, не менее. За спиной луки, на боку колчаны со стрелами. Впереди — старик с длинной седой бородой, в светлом широко развевающемся халате. Остальные почтительно следовали позади. У последнего — широкого в плечах, чернобородого, в мохнатой, надвинутой до самых глаз шапке — были еще и заводной конь с большим вьюком на спине. Когда подъехал ближе, Хомуня увидел, что среди всадников немало девушек с длинными косами и остроконечными навершиями на шапочках.
Хомуня надеялся, что всадники проедут мимо. Но старик, обогнув небольшой овраг, промытый ручьем, повернул прямо к пещере.
Хомуня затаился. Он понимал, что не за ним приехали эти люди, девушек в погоню не посылают. Но кто они? Добро ли принесут беглому рабу или зло?
Старик остановил коня внизу, напротив пещеры. Осмотрелся, подождал, пока подъедут остальные, потом легко, словно юноша, соскочил с седла. Ослабив подпруги и спутав лошадей, путники собрались вместе. Задержался только чернобородый. Хомуня видел, как он взвалил на себя вьюк, взял заводную лошадь за повод и подвел ее к старику. За все время никто не произнес ни слова.
Старик медленно повел лошадь к дубу. Юноши и девушки, взявшись за руки, молча двинулись следом. Ступали осторожно, будто опасаясь спугнуть тишину, охватившую долину. Даже ветер перестал шелестеть листьями могучего дуба. Таинственное торжество было во всем этом молчании, в замедленных движениях людей. Казалось, еще минута — и откроется необычное и великое.
Торжественность ожидания передалась и Хомуне. Тревога ушла от него, но он, сев удобнее, не шевелился, чтобы не спугнуть то, что сейчас должно произойти в долине, отгороженной от мира высокими скалами и дремучим лесом.
Под дубом, распростершим над землей свои огромные многопалые руки, старик остановился и, не оборачиваясь, ждал своих спутников. Чернобородый бережно положил на землю вьюк, подошел к лошади, ласково погладил ей шею, взял повод у старика. Юноши и девушки, разделившись на две группы, стали полукольцом по одну и другую сторону от старших.
По какому-то незаметному для Хомуни сигналу все разом опустились на колени и простерли руки, к вершине дуба.
— Юй-джа-хо! — воскликнули они и опустили руки, сложив их на животе.
И снова наступила тишина. Все пристально смотрели на вершину, дуба.
Трижды, через равные промежутки времени, мужчины и женщины простирали руки вверх, трижды над долиной разносилось заклинание.
Потом Хомуня услышал голос старика.
— О, Священный дуб, сын великого Аспе и богини Иштар, покровитель моего рода! Обрати глаза и уши на детей своих! Прими жертвенного коня и защити нас от злых духов, рыскающих в ночи по нашим горам, по лугам и по темному лесу.
— Юй-джа-хо!
Улетели птицы, умолкли звери, притих ручей, мертвая тишина сдавила уши.
— Разве не лучшего коня мы привели из своего табуна? Или ты не узнаешь нас. Священный дуб? Ответь нам, сын великого Аспе.
Только наш род знает тайну твоего рождения и вечно хранит в своей памяти. Горе тому, кто услышит о ней, не вступив в семью нашу.
Мы помним тот день, когда великому Аспе, сыну Баяна, сына Кубрата, сына Омуртага богиня Иштар отдала свое священное семя — красный желудь. И тогда великий Аспе принес его в эту долину и окропил его своим семенем, извергнутым при зарождении молодого месяца, и посадил в землю на это самое место. И сказал он: «Никогда не покинем земли своего Священного дуба. Будем жить в этих горах вечно, а не кочевать по свету».
Обереги из твоего тела, Священный дуб, носит каждый человек нашего племени. Молим тебя: выпей горячей крови лучшего коня из нашего табуна!
— Юй-джа-хо!
И тут — случилось. Откуда-то сверху налетел ветер, зашелестели листья дуба, заскрипели его старые сучья. Птицы с криком вспорхнули и улетели в горы.
— Ев-хо! — радостно воскликнули люди, вскочили на ноги и запрыгали в танце.
— Услышал! Услышал! — кричали юноши и девушки.
По команде старика развязали вьюк, взяли большие глиняные сковородки, корчаги, кувшины; юноши выхватили ножи, бросились к жертвенной лошади и мигом отсекли ей голову. Девушки подставляли посуду под струи горячей крови, пили ее сами, давали мужчинам и поливали ею землю под кроной дуба.
Пока разделывали тушу, несколько человек притащили дров, разожгли костер.
Голову коня, кожу, ноги, крупные кости и внутренности они развесили на сучьях дуба. Мясо жарили на костре. Пока на углях готовилась очередная порция, все танцевали и пели. Потом снова подсаживались к костру.
Хомуня сидел у входа в пещеру и ждал, когда закончится праздник.
Солнце все больше и больше прогревало камни. Все дышало жаром. Хомуня хотел забраться внутрь своего убежища, но его остановил неясный шорох, который он услышал почти рядом с пещерой. Там, где паслись лошади, с горы скатился небольшой камень и застрял в кустах. Хомуня приподнялся и увидел человека — уже немолодого, слегка тронутого сединой, — спускавшегося к лошадям. Ухо его резко темнело красно-черными наростами и походило на нижнюю губу верблюдицы — так уродовало родимое пятно. Тело черноухого едва прикрывалось разодранной одеждой из бараньей шкуры. Часто посматривая на танцующих людей, он крался к лошадям.
Хомуня не заметил, откуда черноухий вытащил небольшую лепешку — наверное, в лохмотьях его сохранился еще и карман, — увидел только, как тот протянул хлеб коню, который стоял к нему ближе всех. Пока конь жевал лакомство, черноухий распутал его, взнуздал и по широкому проему между скалами повел в лес.
Под дубом продолжались пляски. Соревнуясь, юноши и девушки еще запевали новые и новые песни. Но того радостного возбуждения и таинственности, которые владели ими в начале праздника, уже не было. Люди притомились. Если веселья слишком много, то и оно в тягость.
Первым не выдержал чернобородый. Потоптавшись в одиночестве у костра, он взял большую корчагу и пошел к ручью. Не спеша обмыл ее от крови, наполнил водой и понес лошадям. Взглянув на них, остановился, растерянно покрутил головой, несколько раз, словно не хватало ему воздуха, открыл и закрыл рот, поставил на землю корчагу, подбежал к одной, ко второй лошади, кинулся в проем между скалами, вернулся, снова осмотрел коней и дико заревел:
— Вай-йя-а!
У дуба прекратились танцы. Встревоженные, все смотрели на чернобородого.
— Вай-йя-а! Исчез мой конь! Вай-йя-а! Коня украли!
Юноши схватились за луки и кинжалы, девушки собрали посуду, завернули в войлок и побежали к табуну.
Через минуту все ускакали тем же путем, каким подъезжали утром. На одной лошади было два всадника: юноша и девушка.
Хомуня спустился вниз и подошел к дубу. Костер еще не потух. В траве валялись куски конины, кости, объедки. Отобрав лучшее, Хомуня нанизал мясо на прутья и пристроил над углями.
Насытившись, он встал, подошел к лежавшей на разлапистых ветвях дуба конской голове, хотел снять ее, завернуть в траву, обмазать сырой землей и положить в угли, чтобы запечь. Но не посмел осквернить жертвенника, хотя и понимал что, голова все равно пропадет, изъедят ее черви, расклюют птицы. Так и не приняв решения, отошел от дуба и направился к ручью.
Только наклонился к воде — сверху раздался боевой клич:
— Ай-йя!
Хомуня вздрогнул от неожиданности, но не успел поднять голову и схватиться за кинжал, как на него со скалы прыгнули сразу трое, сбили с ног, накрыли попоной, завернули в нее с головой и туго стянули ремнями.
Его куда-то понесли. Вскоре положили на землю, перевернули и снова взяли на руки. Попона плотно укрывала голову. Хомуня задыхался, в рот набивались куски шерсти и он, как ни старался, не мог выплюнуть их.
Люди, которые несли его, смеялись, переговаривались друг с другом, но из-за плотного одеяла Хомуня не мог разобрать слов, слышал только густой бас.
Вот его снова опустили на землю, потом забросили на спину лошади. Лежать было неудобно, чем-то сильно давило в бок, голова оказалась внизу, пот разъедал глаза.
Везли долго, Хомуня уже отчаялся дождаться конца своим мучениям. Наконец остановились и сбросили его на землю.
Не доносилось ни звука. И Хомуня подумал, что его совсем выбросили где-нибудь в лесу. Но послышались голоса. Хомуню развязали.
Вытирая рубахой лицо, он приподнялся и сел на землю.
Его окружала толпа. Десятки любопытных глаз разглядывали незнакомого человека. Здесь были и те, которых Хомуня видел под дубом, но больше — новых, в основном пожилых, с густо заросшими лицами и косматыми головами.
Толпа расступилась и пропустила вперед седобородого. Теперь на нем был не праздничный халат, а серые салбары и длинная, синеватого цвета легкая рубаха, подпоясанная ремнем, украшенным серебряными накладками. На поясе висел кинжал.
Старик посмотрел на чернобородого и кивнул ему головой. Тот подхватил Хомуню под руки, рывком поставил на ноги и туго привязал к стоявшему рядом столбу. Старик спросил:
— Ты кто?
Хомуня не спешил отвечать, беспокойно водил глазами, пытался догадаться, в чем он провинился перед этими людьми, как вести себя с ними, чтобы оставили его в живых.
— Он чужеземец, нашего языка, наверное, не понимает, — предположил чернобородый.
Хомуня успел рассмотреть, что человек, привязавший его к столбу, и сам довольно сильно отличается от своих сородичей. Черты лица не такие резкие и острые, даже чуть округлые, кожа светлее. Борода, хотя и была черной, но без синеватого отлива, глаза коричневые, темные, но не угольные, как у всех.
— Все чужеземцы — воры. Саурон, — крикнули чернобородому из толпы, — это он украл твоего коня!
— У свиньи хоть хвост, хоть уши обрежь, она свиньей так и останется.
— Отправить в царство дьвола, пусть его там сожрет еминеж!
— Побить камнями!
Хомуня повернул голову к чернобородому и спокойно сказал:
— Твоего коня, Саурон, увел другой человек, — Хомуня обвел глазами толпу. — Среди вас я не вижу вора.
Все замолчали. На лицах — удивление. Как это можно человеку у себя же самого и украсть? Он в своем уме, этот чужеземец?
Старик подошел ближе.
— Почему ты скрываешь свое имя? Зачем пришел в нашу долину?
— Меня зовут Хомуня. Я бы и близко не подступил к долине, если бы знал, что она ваша.
— Бабахан! — снова заорали в толпе. — Он врет, вели убить его!
— Так не ты воровал коня? — Старик не обращал внимания на выкрики.
— Разве бывает так, что вор, прихватив добычу, ждет, пока его схватят? Да и конь был бы при мне.
Бабахан повернулся к людям.
— Принесите жилу серого, похожего на собаку, зверя и дайте в руки этому человеку, — распорядился он.
Все радостно засмеялись, намечался новый поворот в зрелище.
— У меня есть хорошая жила, Бабахан, — выскочила из толпы патлатая старуха. — Я выдрала ее у серого совсем недавно, во время рождения новой луны. Пусть руки этому вору сведет судорога! Ха-ха-ха! Он тогда узнает, как зариться на чужое.
— И язык, если не имеет смелости сознаться!
— И ноги! Ха-ха-ха!
Старуха принесла волчью жилу и начала тыкать ею Хомуне в лицо. Он пытался отвернуться, но старуха, казалось, задалась целью всунуть ему в рот тухлую жилу.
— Саурон! — завизжала старуха, убедившись, что ей не удастся вложить Хомуне в рот вонючий кусок мяса. — Развяжи этого человека, чтобы он мог взять в руки жилу зверя, похожего на собаку.
— Да, Саурон, развяжи. Мы хотим увидеть, как он скорчится в судороге от жилы зубастого.
Чернобородый отвязал пленника. Хомуня взял в руки волчью жилу. Толпа замерла в ожидании.
— Бабахан, — спокойно сказал Хомуня, — поверь мне, не я украл вашего коня.
— Тогда кто же?
— Я видел этого человека, — Хомуня рукой притронулся к своему уху. — У него ухо…
— Черное ухо! Коня украл Черное ухо! — закричали в толпе.
— Юноши! Скачите к Перевернутой скале, может, успеете перехватить Черное ухо! — повелел старик. — Пусть вам поможет великий Уастырджи, покровитель мужчин.
Сразу пятеро побежали к лошадям.
— Завтра трудный день, — дождавшись тишины, сказал старик. — Саурон поведет вас убирать рожь. А сегодня — праздник Священного дуба, веселитесь, дети мои, отдыхайте. Пусть любовью наполнятся ваши сердца, — Бабахан улыбнулся. — В старину говорили: «Кто сына зачнет в этот день, родится богатырь, как Аспе; а дочь — будет подобна богине Иштар». Сегодня праздник. Во имя Священного дуба я дарую свободу этому человеку. Вы слышали? Его зовут Хомуня. Теперь он мой гость и гость нашего рода, — старик повернулся к бывшему пленнику и чуть склонил голову. — Я приглашаю тебя в саклю.
Толпа сменила гнев на доброжелательность. Чернобородый хлопнул Хомуню по плечу, улыбнулся, отдал кинжал, который отняли еще в долине. Только патлатая старуха, недовольная подошла и вырвала из рук волчью жилу.
Лишь теперь Хомуня смог рассмотреть селение. Оно прилепилось к скалам на большой площадке, обрезанной головокружительным, отвесным обрывом. Внизу, на самом дне, между валунами и кустарниками серебристой змеей петляла речка. А за ней простиралась долина, покрытая зеленым бархатом пастбищ — по густой, высокой траве рассыпались овцы, коровы, лошади. А дальше — остроконечные ели пологими ступенями тянулись к небу.
На площадке, в углублениях скал, примостились два десятка высоких, но обширных, рубленных из толстых бревен домов, почти круглых, тем и похожих на юрты кочевников. Темные, почерневшие от времени, бревна зубасто ершились тупыми углами. Толстые крыши, сделанные из таких же бревен, только укрытых соломой и хворостом, а поверх — засыпанных слоем земли, поросли бурьяном, ярко цвели донником, ромашкой, ветренницей и геранью, по краям украсились свисающими метелками овсяницы. За домами поднимались округлые, слоеные башни скал, а сразу за ними — косыми полосами сланца до самой вершины оголился кряж, словно гигантским ножом отрезали часть горы и выбросили.
— Твоему селению, Бабахан, враг не страшен, — поразился Хомуня неприступным гнездом горцев.
Бабахан улыбнулся, кивнул головой, но ответил совсем обратное:
— Мы пришли сюда по земле. А на ней всегда остается след. Если серый учует, то и до нашего стада доберется.
Хомуня понял, что жители этого селения не называют волка его прямым именем, и тоже не стал нарушать правила.
— Рога буйвола длиннее, чем зубы серого. А до хвоста — зверю, похожему на собаку, не добраться.
Бабахан доволен, понравился ответ.
Толпа разошлась быстро. У столба оставались только Хомуня, Бабахан и Саурон. Вскоре и они направились к сакле.
Жилище Бабахана стояло на самом краю площадки. От других оно отделялось маленьким озерком, в которое из глубокой расщелины между скалами спадал прохладный ручей. Пробитой в камне канавкой вода вытекала из озерка, пробегала почти через всю площадку и исчезала в трещине на краю обрыва. Под скалами, у сакли Бабахана, росло несколько деревьев: две ольхи с молодой порослью, тонкоствольные березки, ива. По другую сторону дома, у самого обрыва, тянули вершины к небу три старых сосны.
Дверей в сакле не было. Вместо них над входным проемом висела толстая валеная полсть из черной овечьей шерсти. Одна ее половина была откинута и тонкими кожаными ремнями привязана к деревянным колышкам, вбитым в бревна стены. Порогом служило самое нижнее бревно сруба. Переступив его, Хомуня оказался в просторном, без внутренних перегородок, темном помещении. Свет проникал сюда только через полуприкрытый дверной проем да в два небольших — не просунешь и головы — отверстия, прорубленные в стене, и одно — такое же по размеру — в кровле, поддерживаемой двумя массивными столбами.
В центре жилища, под пузатым котлом, висевшим на цепи, горел костер. Рядом склонились две женщины.
Одна, молодая, сидела на корточках, не спеша отламывала от сухой ветки тонкие сучья и подкладывала в огонь. Халат у нее распахнулся, из-под расшитых светлым орнаментом бортов выглядывали тяжелые, налитые молоком груди. Вторая, седая, но довольно стройная и крепкая старуха, сосредоточенно помешивала в котле длинной, очищенной от коры палкой.
Освоившись в полумраке, Хомуня получше рассмотрел женщин и догадался, что молодая — дочь старухи, так сильно она на нее походила. Такая же суховатость в теле, небольшой острый нос, те же темные, под широкими бровями, глаза, морщинки у рта при улыбке, обе говорили чуть нараспев, плавно растягивая слова, и даже в движениях, скупых и неторопливых, виделась одинаковость.
В сакле было не очень жарко. Прохладу нес ручей, шумевший почти рядом, да и солнцу не хватало сил прогреть толстую крышу. От входа приятно веяло сквознячком, дым не задерживался, сразу уходил вверх, в дыру, прорезанную в кровле. Туда же улетучивалось и тепло от костра.
Бабахан и Саурон вошли в саклю следом за Хомуней. Познакомив гостя с женщинами — старшая, Сахира, оказалась женой Бабахана, а младшая, Емис, — дочерью, она замужем за Сауроном, — вождь рода затеял разговор о лошадях, о коровах, об овцах, что паслись в долине; о травах, которые под палящим солнцем слишком быстро становились грубыми и жесткими. Хомуня поддерживал беседу, но чувствовал себя еще стесненно, неуверенно в непривычной для него роли гостя, человека равного и свободного.
В темном углу сакли заплакал младенец. Емис, сидевшая у костра рядом с Сауроном, подняла голову, взглянула в темноту, улыбнулась и — не двинулась с места. Дитя надрывно и громко заливалось в крике, звало к себе, но безуспешно. Будто ножом тронул по сердцу Хомуни этот беспомощный, хрипловатый плач. Хомуня так разволновался, что сам готов был встать, подойти и утешить маленького человека.
Наконец, опершись рукой о плечо Саурона, Емис встала и не спеша направилась в угол. Взяв дитя на руки, она тут же вернулась обратно, села рядом с мужем и, улыбаясь, что-то ласковое пошептала ребенку, приложила к груди его крохотное, темноватое личико.
Саурон взглянул на Хомуню и с гордостью произнес:
— Мой сын, Гайтар.
Хомуня хотел пожелать здоровье ребенку, но из того же угла, откуда Емис принесла сына, послышался жалобный стон. У хозяев лица сразу покрылись печалью.
— Как она там? — спросил Саурон у Сахиры.
— Плохо. Второй день ничего не ест. И нога не заживает.
Из глаз Емис покатились слезы.
— Айта, старшая дочь, — тяжело вздохнув, пояснил Саурон Хомуне, — сильно болеет.
— Лечите ее?
— Я повесила Айте на шею астрагалы зверя, похожего на собаку. Всегда это было самым верным средством против болезней, — ответила Сахира. — Но теперь и они не помогают. Такова, наверное, воля богов.
— Был бы жив Магас, может, он и сумел бы вылечить внучку, — Бабахан горестно покачал головой. — Хороший был лекарь, знающий. И отец его лечил людей, и дед. Магаса медведь задрал. Недавно похоронили лекаря.
— Можно мне посмотреть Айту? — Хомуне захотелось помочь этим людям.
Бабахан утвердительно кивнул головой.
Хомуня вместе с Сахирой подошел к больной и опустился перед ней на колени.
Айта оказалась совсем взрослой, ей было лет четырнадцать-пятнадцать. Прикрытая шкурой, она лежала на широкой кошме и со страхом смотрела на незнакомого человека. Хомуня положил ладонь на ее лоб — он был горячим и влажным.
— Что у тебя болит, Айта?
— Горло. Больно глотать.
— А что с ногой?
Девочка смутилась.
— Айта упала с обрыва и распорола бедро об острый камень, — подсказала Сахира.
— Покажи, — попросил Хомуня.
Айта отрицательно покачала головой.
— Ты не бойся меня, я совсем не страшный, — успокаивал ее Хомуня и снял мех, служивший Айте одеялом.
Отвернув полу халатика, Хомуня увидел длинную — от колена до ягодицы — рваную рану. Рана была не очень глубокой, но местами сильно загноилась. По краям присохли кусочки шерсти, ткани.
Хомуня снова прикрыл ногу халатом, еще раз приложил ладонь ко лбу девочки.
— Я попробую вылечить тебя, Айта, полежи пока здесь, — Хомуня повернулся к Сахире. — Нужно свежее молоко, сладкие фрукты или ягоды, посуда для воды.
— Молоко будет только вечером, когда пригонят скот, — Сахира помолчала в раздумье, потом добавила: — Или, может, сходить в долину и там подоить корову?
— Лучше сходить. И ягоды можно поискать там же.
В долину отправился Саурон.
Хомуня, поставив на огонь небольшой котелок с водой, пошел поискать подорожник. Заодно сорвал десяток кустов зверобоя, листьев березы, калины, боярышника, клена, содрал с ольхи несколько кусков коры, с сосен кинжалом наковырял смолы.
Все это разложил в сакле на бревне рядом с костром… Вытащил кинжал, порезал кору ольхи на мелкие кусочки. Отлив горячей воды в кувшин, Хомуня снова поставил котелок на место и бросил туда измельченную кору.
Сахира, Емис и Бабахан молча смотрели на его приготовления.
— Надо бы Айте постелить у входа, — сказал Хомуня. — Там светлее. Хочу промыть ей рану. Еще — мне нужен чистый лоскут ткани, чтобы перевязать ногу.
Когда все было готово, Хомуня перевел девочку поближе к свету.
— Айта, тебе придется потерпеть, пока промою рану. Будет очень больно, но зато дня через три сможешь ходить. Потерпишь?
Айта кивнула, но глаза ее уже наполнились слезами.
— Плакать и кричать можно, так легче перенести боль, — Хомуня повернулся к Бабахану: — Подержи Айту за плечи, боюсь, не выдержит.
Хомуня оторвал кусок тряпки, взял кувшин с водой и сел верхом на ноги Айты.
С раной он провозился долго, но промыл хорошо. Затем приложил к ране листья подорожника, туго перевязал.
— А ты молодец, совсем почти не кричала, — похвалил Айту Хояуня. — Терпеливая.
Айта размазывала слезы по щекам и вымученно улыбалась.
— Теперь вставай потихоньку и иди на свое место. Только осторожно, не сдвинь повязку. Если соскочит — сразу зови меня.
В котелке вода уже закипела, и Хомуня отодвинул угли в сторону.
Вскоре вернулся Саурон, принес молоко, землянику черешню. Выбрав косточки, Хомуня сложил в корчагу ягоды и, долив немного воды, варил их до тех пор, пока получилась патока. Потом туда же процедил отвар ольховой коры, перемешал и поставил к огню пропарить. В котелке вскипятил молоко с сосновой смолой, а когда чуть остыло и настоялось, понес больной.
— Попей, Айта, живичное молочко, оно болезни отгонит.
Затем принес настой ольховой коры, пропаренной с патокой, и пустую корчагу.
— А эту воду пить не надо, Айта. В рот набери ее — и держи, сколько терпения хватит. Устанешь — сплюнь в пустую корчагу. Отдохнешь — свежей набери в рот. Настой этот великую силу имеет, от него весь глен сгинет. Лечись, а я тебе пока зверобоя с листьями от разных деревьев заварю. То и попьешь.
Незаметно приблизился вечер. Поселок оживился — возвратились охотники с добычей. Сыновья Бабахана, Савкат и Орак, на арбе привезли тушу дикого кабана, их жены, Аргита и Ашказа, насобирали яблок, груш, алычи, боярышника, старший сын Саурона, Баубек, и дети Савката и Орака пригнали скот.
В сакле стало тесно и шумно. Половину ее заняли овцы, коровы и лошади. Савкат громко, стараясь перекричать всех, рассказывал, как они с Ораком выследили стадо диких свиней, как целый день бегали следом, пока удалось подстрелить большого жирного кабана, которого и привезли в селение. Но взяли подранка не сразу, долго преследовали. Сначала он даже нападал на братьев, приходилось спасаться на дереве. Но Орак изловчился — и еще одну стрелу вонзил ему в шею.
Орак более сдержан. Хотя по лицу видно, что не меньше Савката гордился удачной охотой, однако не произнес ни слова, только иногда поддакивал и кивал головой.
Емис распеленала Гайтара — изжелтил пеленки, измазался до самого пояса — и понесла обмыть к ручью. У Хомуни сердце дрогнуло, когда увидел, что она моет младенца в ледяной, спадающей со скал воде.
Бабахан заметил беспокойство гостя и сказал:
— Человек с первых дней должен учиться переносить жару и холод.
Емис обмыла плачущего Гайтара, внесла его в саклю, и положила на землю рядом с Сауроном. Потом не спеша собрала пеленки, постирала у озерка и развесила их перед костром на вбитые в землю колышки. Едва пеленки нагрелись, Емис завернула в них сына.
* * *
— Баубек, собирай друзей, разводите костер у священного камня, — приказал старик внуку. — Завтра племя отправится в Нижнюю долину убирать рожь, будем просить Хырт-Хурона, чтобы дал нам побольше зерна, — затем повернулся к гостю. — Ты каких богов чтишь, Хомуня?
— Я — христианин.
Бабахан вздохнул, лицо его потеряло радость.
— Богов много, а человек — один.
— Ты хотел сказать, Бабахан, что людей много, а бог — один?
— Нет. Я подумал о том, что ты услышал. Не хочу обидеть тебя, Хомуня. Кланяйся Христу, если веришь ему. Когда-то и мы осеняли себя этим знамением. Человек волен сам выбирать себе покровителя. Я расскажу, почему люди моего рода выбросили жестокого Иисуса из своего сердца и вернулись к богам предков.
Бабахан взял палку и поворошил угли. Костер разгорелся сильнее, сыроватые дрова громко хлопнули искрами, вспыхнуло пламя, высветило бороду вождя.
— Вот это и есть бог. Огонь дает жизнь всему, что есть на земле. Он живет вечно. И в человеке, и в деревьях, и в лошадях — во всем есть семя огня, — Бабахан помолчал, не отводя глаз от белых углей и красноватых горячих языков пламени, нехотя лизавших бока черного от копоти котла. Потом отложил в сторону палку, опустил руки на колени. — Наши предки давно поселились в этих горах. Разве кто-нибудь сможет подсчитать, сколько с тех пор родилось людей и умерло от старости? И я не могу. И не только от старости умирает человек. Если на узкой горной тропе встретятся два зверя, то погибнет тот, кто слабее. Человек мудр. Он способен быть и преданной собакой и ядовитой змеей; стать перед врагом на колени, полюбить себе подобного и отказаться от своих помыслов ради сохранения жизни. Таков человек есть. Таков и будет. Я восхищаюсь удалью Черного уха, укравшего коня, но прикажу убить его, если попадется в руки. И не потому, что ворует, в воровстве ничего мерзкого нет. Мы же не осуждаем медведя, если он задерет корову?
— Медведь — охотник, — вставил слово Хомуня, — а человеку предназначено в тяжких трудах добывать хлеб свой.
— Тогда почему Христос не накажет Черное ухо, а перекладывает это на мои плечи? Кто человеку разрешил воровать и убивать других людей? Разве не бог?
Хомуня промолчал.
— Я хотел тебе рассказать о своем селении и о том, почему наш род перестал поклоняться Христу. Так слушай.
Великий Аспе, вождь наших предков, устал от войны и, спасаясь от врагов, привел своих людей в эти горы. Но едва нашли теплую, солнечную долину и вступили в нее, снова пришлось вытащить сабли и натянуть луки.
Люди, которые жили в долине, встретили наших предков камнями и стрелами. Храбрые воины гибли и с той и с другой стороны.
И тогда Аспе надел свои лучшие одежды, взял самую красивую девушку и пошел к хозяевам долины. На виду у всех отбросил в сторону лук, положил на землю саблю и приблизился. И сказал он: «Если мы перебьем друг друга, то кто в жены возьмет сестер наших и дочерей? Разве они живут для того, чтобы оплакивать могилы близких и не должны больше рожать детей? Я привел к вам любимую свою сестру, смотрите, как она хороша. Пусть достойный возьмет ее в жены, и тогда она родит ему сына. И мне самому пришло время растить детей, а не убивать себе подобных. Хочу выбрать у вас невесту». И ответили люди Аспе: «Мы согласны отдать тебе и твоим воинам дочерей наших, и забрать у вас столько же. Породнимся и будем жить вместе. Но как посмотрят на это боги? Захотят ли они меняться своими людьми?» И опять сказал Аспе: «Давайте объединим и богов своих. А чтить больше всего будем самых сильных и самых добрых из них».
Так и стали жить.
Много времени прошло с тех пор. Но вот из-за гор и далеких морей пришли посланцы Иисуса Христа и уговорили людей забыть старых богов. Крепкими веревками связал наши души Христос. И чтить священное дерево нельзя. Жену иметь без его позволения — тоже нельзя. В зимние дни мы едим мясо своего скота и того зверя, что в лесу добудем. Но в пост — и на мясо запрет налагается. За малейший проступок Христос грозит жестокой карой. Я уже был вождем рода в тот год, когда в наших долинах и рожь не уродила, и фруктов не было. К весне дети наши стали умирать от голода. И разрешил я, несмотря на великий пост, взять луки и добыть мясо. Поели досыта люди, и улыбка появилась на их лицах. Даже Сахира, жена моя, умиравшая от голода, поправилась и захотела родить мне сына. И тогда жестокий Иисус решил покарать нас, сбросил с гор лавину на наше селение. Похоронил и мужчин, и женщин, и детей. И грешных, и тех, кто еще не успел согрешить.
Уцелело лишь несколько семей, сакли которых стояли ниже по течению реки. По другую сторону селения тоже сохранился один дом. Там жил старый больной охотник Мадай, отчим Сахиры, со своей младшей дочерью Аримасой. Но мы не знали об этом. Еще не опустилась на землю снежная пыль, поднятая лавиной, мы бежали прочь с того страшного места.
Теперь живем здесь. А Иисуса Христа оставили там, где похоронил он невинных людей. С тех пор снова почитаем богов своих предков. И, как видишь, построили на новом месте дома, обзавелись скотом. Это значит, что боги, которых мы поменяли на Иисуса Христа и забывать стали, не таят на нас зла. Мои сыновья и дочери родились уже здесь. Кроме Саурона. Саурон — внук Мадая; он появился на свет в том, уцелевшем, доме в верхней части старого селения.
Сахира принесла Бабахану молока. Он выпил.
— Идемте, дети мои, помолимся Хырт-Хурону.
В стороне от домов, на большом плоском камне разгорался костер. Широким кругом стояли жители селения и ждали вождя. Бабахан вошел в середину, взял у Баубека длинную сосновую палку с обгоревшим концом, воткнул ее в угли. Мальчишки подбросили тонких сучьев — и жаркое пламя шумно взметнулось в темноту. Звезд не стало видно, только искры поднимались в самую высь и медленно исчезали в бездне. За ними устремлялись новые, и казалось, что небо с мерцающими угольками вплотную приблизилось к людям.
Бабахан, рукой закрывая бороду от пылающего костра, вытащил горящую палку, высоко поднял ее над головой и отступил от огня. Три раза он молча, не выходя из плотного круга своих сородичей, обошел костер. Затем остановился и со всего маху кинул полуобгоревшую палку в огонь — он тут же взорвался мелкими звездами и теплым пеплом опустился на восторженные лица людей.
Борода Бабахана разметалась в стороны, глаза остро заиграли молодым блеском и дикий, необузданно веселый азарт ярко искривил его тонкие губы, огненной тенью пробежал по щекам. Худые, оголенные руки с широко растопыренными пальцами медленно выдвигались откуда-то из-под бороды и простирались высоко вверх, к извергающему искры, беспокойно мятущемуся пламени. И никто не заметил, как спали на землю одежды Бабахана, и он стоял обнаженный перед ярким огнем, с поднятыми вверх руками, на широко расставленных, согнутых в коленях ногах, неистовый и страшный, как демон.
Зачарованная толпа ахнула и опустилась на колени.
Тело Бабахана мелко дрожало, а руки, тонкие, как сухие, искривленные сучья засохшей сосны, казалось, все поднимались и поднимались вверх. И вот он, выпрямившись, застыл перед пламенем. Потом медленно опустился на колени.
— Благослови нас, великий Хырт-Хурон, повелитель солнца и огня, источник всех благ и радостей! — молил Бабахан.
— Хырт-Хурон, благослови! — следом выдохнула толпа.
— Хырт-Хурон, избавь от несчастий.
— Дай нам дорогу счастливую.
— Наполни крупным зерном наши хранилища в саклях.
— Дай нам благо, Хырт-Хурон!
Все разом вскинули руки и тут же опустили, сложив их на животе, в полном молчании склонили головы перед костром.
Только голос Бабахана продолжал звучать размеренно и тихо.
Кто чтит великого Хырт-Хурона, Тот всегда будет богатым и счастливым. Кто не чтит его, Пусть полагается только на себя. Аминь.— Аминь, — воскликнули люди и снова опустили головы.
Саурон и Сахира подошли к Бабахану, набросили на него халат и, обессиленного, повели в саклю.
Молча, будто боялись потревожить задремавшего бога, расходились люди по своим домам.
Костер догорал. Пламя исчезло. И только угли золотым кругом сияли на священном камне.
Хомуня, пораженный силой веры и страстью Бабахана, последним отправился в саклю.
Ужинали молча и быстро. Напоследок выпили молоко и начали укладываться спать. Хомуне выделили место между Айтой и Ораком. Рядом с Ораком легла его жена, Ашказа, потом — их дети. А далее — Савкат с Аргитой и сыновьями, Баубек, Саурон с Емис, и Бабахан с Сахирой. Гайтара Емис положила у стены, возле своей головы. Так безопаснее, никто в темноте не наступит.
Намаявшись за день, Хомуня сразу уснул. Ночью, то ли от того, что через дверной проем в глаза ему заглянула луна, то ли слишком громко фыркнула лошадь, но он проснулся.
В сакле, переполненной людьми и скотом, было жарко. Айта, сонная, придвинулась к нему вплотную, раскрылась и разбросала руки.
Она лежала на спине и небольшие крутые бугорки ее грудей, ярко выбеленные луной, четко рисовались на фоне темной сакли. Дышала она спокойно, размеренно, только посапывала носом да чуть вздрагивала во сне. Хомуня улыбнулся, довольный. Дочь Саурона пошла на поправку.
Снова фыркнула лошадь и переступила ногами. Орака рядом с Хомуней уже не было, он отодвинулся куда-то далеко в тень, ближе к Ашказе. Хомуня хотел потихоньку повернуться спиной к Айте и дать ей больше места, но тут же услышал, как Орак несдержанно задышал, прерывисто застонала Ашказа, наполненная любовью. Хомуня не шевелился, боялся спугнуть ее счастье. «Будет у Бабахана еще один внук, — подумал Хомуня. — Богатырем вырастет».
Потом долго размышлял над тем, что ему делать дальше, с чего начинать новую жизнь, как добыть коня и добраться до Руси.
Так и уснул, ничего не решив.
* * *
С восходом солнца селение опустело. Мужчины верхом, вооруженные саблями, луками, с колчанами, полными стрел, женщины на арбах отправились убирать рожь.
— Зачем им столько оружия? — спросил Хомуня у Бабахана, когда проводили людей за ворота у въезда в селение, поставленные на узком карнизе отвесной скалы, — можно подумать, что на войну собрались.
— А мы постоянно воюем с соседними селениями, убиваем мужчин друг у друга. — Бабахан сорвал длинный стебель овсяницы, поковырялся в зубах. — Когда-то, особенно при царе Дургулеле — длинноволосом, — Алания была сильной державой. Даже Грузия обращалась к ней за помощью. Теперь же — каждый род сам по себе, каждый вождь — сам себе царь. И если бы не покровительство Грузии да неприступные горы, давно покорили бы нас чужеземцы.
— Соседи могут напасть прямо во время работы?
Бабахан пожал плечами.
— Всяко бывает. Но я спокоен, там Саурон. Он и работник хороший, и воин храбрый, расчетливый. Ему покровительствует бог воинов, путников и всех мужчин Уастырджи, — Бабахан улыбнулся, зять ему, видно, был по душе. — Жалко, что старому Мадаю не довелось увидеть внука. Порадовался бы за Аримасу, дочь свою, что такого богатыря родила от одноногого русича.
— От русича? — Хомуня, пораженный, остановился и растерянно посмотрел на вождя. — От русича? — переспросил он. — Я тоже русич, Бабахан. Рабом был. Сбежал от своего хозяина. Как звали того русича?
Бабахан задумался.
— Не помню, Хомуня. Мы всегда звали его просто — русичем, думали, что имя у него такое. Он и сейчас жив, весной мы навещали его с Сауроном, — Бабахан радостно вскинул голову. — Вспомнил имя — отец Лука! Так его зовут монахи, русич там у них за главного.
— Настоятель монастыря? — удивился Хомуня и вспомнил, что перед побегом приносил в монастырь вьюк с тканью, а настоятель, отец Лука, не принял его, велел передать товар ключнику. — Как давно я не слышал русской речи, Бабахан. Нет горше доли — быть оторванным от своего племени.
— Что ж, управимся с рожью — поедем в Аланополис вместе с Сауроном, — сказал Бабахан и зашагал к своей сакле. Затем обернулся, подождал Хомуню. — Если хочешь, давай завтра утром отправимся в Нижнюю долину.
Хомуня согласился.
Наверное, Бабахану захотелось утешить своего гостя, он заглянул ему в глаза и сказал:
— У меня есть еще один сын — Хурдуда. Десять лет назад его схватили в лесу, увезли в Аланополис и продали в рабство.
Хомуня сочувственно вздохнул.
— Но Уастырджи смилостивился над ним. Он сделал так, что Хурдуду купил мой хороший кунак. Я не стал забирать Хурдуду обратно. Уговорился с кунаком, что мой сын будет жить у него и воспитываться до тех пор, пока надумает жениться.
Утром следующего дня Бабахан подвел к Хомуне серую кобылу.
— Это — Сырма. Баловница, ласку любит. Но выносливая, хорошая лошадь. На ней и поедешь в Нижнюю долину.
Хомуня почесал Сырму между ушей, погладил шею, грудь. Кобыла прислушалась, потянулась губами к руке.
Вставив ногу в стремя, он вскочил в седло и сразу натянул повод, ожидал, что Сырма встанет на дыбы, попытается сбросить незнакомого седока на землю. Но она спокойно стояла на месте, понуро опустив голову, будто обиделась, что мало ласкали ее. «Ну и ленивая же ты, скотина, — про себя ругнул Сырму Хомуня. — Или Бабахан считает, что я никогда в седле не сидел, поэтому и выбрал мне самую смирную?»
Из сакли вышли Сахира и Емис. Сахира подошла к Бабахану, бодро взобравшемуся в седло, положила руку на стремя.
— В дороге хоть не торопитесь, дайте передохнуть лошадям, — попросила она мужа. — Путь не близкий.
— Ничего, кони крепкие, выдержат, — ответил Бабахан. — В первый раз, что ли?
— Кони-то крепкие, а седоки? Слабость приходит под старость.
— Ладно, — нахмурился Бабахан и нервно задергал повод. Не любил он, когда жена при людях жалела его.
Хомуня попытался замять неловкость.
— Сахира, не забудь сменить повязку Айте да положи свежих листьев подорожника. И отваром пои ее чаще, беды не будет.
— Вот-вот. Лучше делом займись, а то… — Бабахан не договорил и повернулся к Хомуне. — Ну, тронули.
Едва выехали за ворота селения, Сырма на глазах начала преображаться, запрядала ушами, недовольно зафыркала. Хомуня почувствовал, как по ее телу пробежала мелкая дрожь. Не успел он опомниться, Сырма грудью оттерла низкорослого жеребца Бабахана на край дороги, едва не столкнула его в обрыв.
— Не балуй! — прикрикнул на нее Бабахан и огрел плетью.
Сырма пустилась вскачь.
Дорога, проложенная по узкому карнизу каменной отвесной горы, была слишком тесной и извилистой, чтобы нестись по ней галопом. Хомуня ногами уперся в стремена, изо всех сил рванул на себя повод, но Сырма лишь выше задрала голову да завиляла задом. На каждом повороте у Хомуни замирало сердце, когда Сырма скакала по-над краем пропасти.
Наконец удалось сдержать кобылу, перевести ее на спокойную рысь, а потом остановить вовсе. Он прижал Сырму вплотную к скале, подождал Бабахана и пропустил его вперед.
Но Сырма успокоилась ненадолго. Едва Хомуня отпустил повод, она снова начала теснить жеребца — опять захотелось быть первой. Теперь она обходила соперника справа, прижимала его к скале. И Хомуня ожидал, что Бабахан на этот раз огреет плетью его, а не Сырму. И прав будет. Потому, что Хомуня уже второй раз нарушал святое правило — почтительно следовать по стопам своего хозяина.
Может быть, Бабахан и не думал посягать на его свободу. Но за долгую жизнь Хомуне доводилось видеть всякое. «Чем человек отличается от зверя? — размышлял Хомуня. — Наверное тем, что, по естеству своему, причастен не только плоти, но и духу. А познать дух, мысли человека невозможно. Они спрятаны за семью замками.
У зверя повадки постоянны, как солнце в небе. Потому что повадки эти даны ему природой однажды и предопределено вместе с кровью передавать их из поколения в поколение. Иначе хаос начнется. Жизнь прекратится, если зайцы начнут пожирать волков, лягушки заглатывать ужей.
Человек же способен съесть и ужа, и лягушку, и волка, и зайца, и другого человека тоже. Зверю, если он на завтрак не попадет в зубы другому, предназначено никогда не терять свободы. Олень не станет помыкать оленем, заставлять его приносить себе пищу. Это удел человека и творение его же духа. Человек даже зверей наделяет в сказках своими собственными чертами. Одних считает умными, других — глупыми, ленивыми, хитрыми, лукавыми, жадными, злыми, коварными. Но змея меняет только шкуру, натура у нее остается все той же, и яд ей дан, чтобы защищаться от врагов.
А какова натура у человека? Что главное для него: добро, зло, благородство, коварство?»
Только люди способны отбирать свободу у подобных себе, делать их своими рабами. Хомуня давно убедился, что и рабовладельцы — сами рабы по натуре. Одни отличаются чрезмерным страхом и преклонением перед людьми, наделенными властью. Другие теряют достоинство в безмерной страсти к наживе. Считая, что деньги — благо, они добровольно становятся рабами, теряют рассудок, особенно, если видят, что богатство достается другому, в то время как самому хочется завладеть им. И погибают они в горе и в постоянно бередящей душу неразумной скорби и безысходности. Иных мучает враждебное отношение к ним других людей. Есть и такие, кто сам в гневе готов убить человека, если показалось, что тот незаслуженно обидел его. А некоторые только тем и живут, что имеют возможность злорадствовать и наслаждаться чужими несчастиями.
Рабские начала у человека настолько сильны, что, если он и захочет, то отделаться от них в одночасье не только трудно, порой невозможно. Так и Хомуня, всякий раз, когда ему не удавалось надлежащим образом сдержать Сырму, беспомощно разводил руками, будто хотел повиниться перед вождем рода: лошадь, мол, виновата, это она глупая, не блюдет чина.
Бабахан улыбался и самодовольно поглаживал белую бороду. Он совсем по-другому понимал смятение Хомуни. Считал, что гость его, хотя и умеет держаться в седле, но страшится гор, потому и постоянно натягивает поводья, не дает погорячиться норовистой кобыле.
Только, спустя три-четыре часа, когда поднялись на высокий скалистый хребет, Сырма поскучнела и равнодушно плелась сзади. То ли устала, то ли Хомуня вконец разодрал ей железными удилами губы, но она смирилась со своей участью.
Перед спуском в долину Бабахан остановил коня и показал Хомуне ржаное поле. Небольшое, оно расположилось внизу, у обширного — от горы до горы — плотного лесного массива, по-сиротски притулилось к подножию откоса скалистого хребта, роскошно украшенного белыми барашками водопадов.
Поле было не плоским, а слегка куполообразным, с длинными, устремленными в лес клиньями. Хомуне оно показалось похожим на пожелтевшего от солнца краба, клешнями уцепившегося в темные ельники.
— Наконец-то добрались, — тяжело вздохнул Бабахан. — Осталось только вниз спуститься.
Спускались по узкой, поросшей бурьяном дороге. Петляя между низкими молодыми елями, она привела к левой клешне краба, наискось обрезанной небольшим ручьем с чистой и холодной водой.
Жнецы отдыхали. Но едва на поле появился Бабахан, все кинулись навстречу. Молодой, еще безусый, горец услужливо помог вождю спуститься на землю, снял седло, стреножил коня.
Хомуня стоял в стороне. Один лишь Саурон подошел к нему и тепло поприветствовал. Остальные издали кивнули чужеземцу.
Хомуня завидовал Бабахану. И это была даже не столько зависть, сколько постоянная тоска одинокого человека: куда бы ни приезжал он — его не ждали, не встречали и не провожали. Жил постоянно среди людей, а они его не замечали.
Пока стреножил Сырму, отнес в тень седло, Бабахан и Саурон поднялись на пологий холм, откуда хорошо просматривалось все поле. Жнецы попрятались в тени. Хомуня остался один. Он поднял с земли несколько колосков, размял их в ладонях, провеял и кинул зерно в рот. Затем направился к мужчинам, расположившимся у ручья, под небольшой ивой, свесившей к воде тонкие бледно-зеленые ветви.
Невысокого роста, узкоплечий, без рубашки, но в мохнатой шапке, тщедушный мужичок с редкой, будто выщипанной бородкой, сидел в середине группы, беспрестанно хлестал себя пучком травы, отгонял липнувших к потному телу назойливых мух и вдохновенно что-то рассказывал. Но стоило Хомуне подойти ближе, узкоплечий умолк на полуслове, его слушатели, едва взглянув на чужеземца, опустили глаза.
Наступило тягостное молчание. Узкоплечий нехотя встал и не спеша двинулся вверх по берегу ручья. Следом поднялись и остальные.
Вскоре, вооружившись серпами, люди приступили к жатве. Хомуня, увидев, как жнецы насыпом, абы как, бросают в кучу стебли, подошел к вождю рода и сказал:
— Бабахан, твои люди неправильно жнут. Рожь надо срезать ниже, собирать колос к колосу и вязать в снопы.
— Зачем? — удивился Бабахан. — Разве зерна от этого станет больше?
— Зерна будет столько же, но молотить — быстрее и легче. К тому же, если пойдет дождь, колосья меньше намокнут.
Бабахан пожал плечами.
— Мы всегда так убираем. Но если ты считаешь, что надо иначе, давай попробуем.
Вождь собрал людей.
— Хомуня считает, что мы неправильно жнем, — люди удивленно посмотрели на чужеземца. — Сейчас он покажет, как надо. Все должны делать так, как он. Я верю этому человеку, он вылечил дочь Саурона.
Хомуня неторопливо вышел вперед и объяснил, как вязать сноп.
— Не пойму я, Бабахан, зачем нам делать лишнюю работу? — спросил узкоплечий. — Пока Хомуня свяжет сноп, я успею нарезать почти столько же.
— Чилле, если ты ковырялся в ушах и не слышал, о чем я говорил, то подойди ко мне ближе и я еще раз повторю! — Бабахан нахмурился и зашагал к лесу.
Три дня подряд, от восхода до захода солнца, Хомуня резал серпом рожь, вымолачивал и веял зерно, ссыпал его в пузатые кожаные мешки и наслаждался тем, что впервые за многие годы никто не подгонял его, не стоял с кнутом за спиной. Может быть, поэтому все эти дни, показалось Хомуне, пролетели так быстро, что он не успел насладиться работой.
Совместный труд постепенно сблизил его с племенем, а знания и сноровка, позаимствованные в странах, в которых волею судьбы пришлось заниматься хлебопашеством, скоро сделали Хомуню чуть ли не главным распорядителем на поле.
Началось с того, что в первый же день Чилле подошел к Саурону и громко, так, чтобы слышал Хомуня, сказал:
— Из-за этих снопов — не знаю, и кому они только нужны? — у меня снова разболелась спина, устала кланяться. Может, мне заняться другим делом?
Саурон участливо посмотрел на тщедушного Чилле и предложил пойти в тень к Бабахану, развлечь его своими рассказами.
Чилле обиделся и молча повернул обратно.
— Подожди, Чилле, — окликнул его Саурон. — Если тебе не трудно, разминай колосья. Это можно делать и сидя, и на коленях.
Чилле притащил широкую полсть, расстелил ее рядом со снопами, сложенными в одонье, и начал изручь вымолачивать зерно — брал пучок колосков и разминал их руками.
Хомуня оставил серп, сходил в лес, вырезал кичигу — палку с плосковатым концом, — и присел рядом с Чилле.
— Смотри, как это делается.
Чилле недовольно покосился на чужеземца, но Хомуня, не обращая внимания на его неприветливость, взял сноп, развязал перевясло. Быстро, всего за две-три минуты он вымолотил зерно и отбросил солому в сторону.
Чилле удивленно раскрыл глаза.
— Возьми кичигу, попробуй, — подал ему палку Хомуня.
Чилле не так сноровисто, но все же довольно быстро обмолотил сноп. Довольный, отбросил пустую солому, заулыбался, хлопнул Хомуню по плечу.
— Хорошо! И рукам не больно.
* * *
Всякая работа когда-нибудь да кончается.
Все поле по краям огородилось кучами соломы, последние мешки с зерном брошены на куцые двухколесные телеги, и отдохнувшие лошади, упираясь подковами в горный, каменистый грунт, потащили хлеб в селение.
Самым трудным был участок дороги, который вел на верх скалистого хребта. Приходилось впрягаться в арбу рядом с лошадьми или подталкивать ее сзади.
Дальше пошло легче. А когда выехали на торную, с небольшим уклоном, караванную дорогу, ведущую в Аланополис, кони пошли рысью, женщины повскакивали на телеги, расселись на мешках с рожью. Но ненадолго, вскоре пришлось сворачивать в другое ущелье, где опять ожидало бездорожье.
Сразу за поворотом предстояло проехать узкую — сажени три шириной — седловину, с обеих сторон обрезанную глубокими обрывами с острыми выступами скал. Спуск в седловину небольшой, а вот подъем — не только крутой, но и высокий. И люди снова, до предела напрягая мышцы, арбу за арбой вытаскивали на широкое плато.
Последнюю, самую нагруженную телегу вел Савкат. В низу седловины его Ожидали Хомуня, Саурон и еще четверо молодых, крепких мужчин. Они приготовились толкать арбу на гору.
Арба спускалась медленно. Кони, удерживаемые Савкатом, приседали на задние ноги и высоко задирали головы, так, что он еле-еле доставал до уздечек. Перед концом спуска Савкат отпустил поводья и отскочил в сторону, хотел, чтобы лошади с разгона вытянули на подъем поклажу.
И тут Хомуня увидел, что левое колесо завиляло, начало сползать с оси.
— Стой, Савкат! Колесо соскочит! — крикнул Хомуня и побежал навстречу.
Савкат бросился к лошадям, повис, схватившись за уздечки, но остановить не успел. Колесо соскочило — арба с треском завалилась набок, Савката сильно толкнуло дышлом, он не устоял на ногах и, если бы не задержал его Хомуня, полетел бы в пропасть.
Колесо, наскочив на небольшой камень, начало сворачивать к обрыву. «Упадет под откос, — мелькнуло у Хомуни в голове, — придется оставить в седловине не только арбу, но и зерно».
Хомуня так и не понял, то ли колесо на него налетело, то ли сам он прыгнул и придавил колесо к земле. Больно ударившись, он заскользил к пропасти и сумел задержаться, когда до края ее оставалось не больше локтя. Разбитыми до крови, дрожащими руками Хомуня судорожно пытался ухватиться за сухую землю и отползти от обрыва, но не мог даже сдвинуться с места. Замычав от бессилия, он поднял голову, хотел позвать на помощь, но люди уже сами бежали к нему. Они осторожно подняли его и отнесли к арбе, на дорогу.
Хомуня лежал на твердой земле, улыбался и смотрел на Бабахана, стоявшего перед ним на коленях.
— Ну, как ты? — спросил вождь.
Хомуня пошевелился.
— Слава богу, жив. Боли не чувствую, но встать не могу, руки и ноги дрожат.
— Еще бы. Отдыхай. Сейчас тот, кого ты спас, принесет тебе воды.
Подошел Савкат, присел. Положил к себе на колени голову Хомуни, напоил водой.
— Помоги мне встать, Савкат. А то я совсем умирать собрался.
— Э, нет! Теперь ты должен две жизни прожить.
Опираясь на Савката, Хомуня встал и увидел приближавшийся к седловине караван бывшего своего хозяина. Омар Тайфур — как всегда в ярких пышных одеждах — ехал рядом с проводником и смотрел, как люди племени Бабахана ставят колесо, грузят мешки на арбу.
У Хомуни разом опустились руки, тревожно заколотилось сердце и засосало под ложечкой.
— Бабахан, это мой хозяин, Омар Тайфур, — тихо шепнул Хомуня. — Если не спрячусь, он заставит телохранителей связать меня.
Но прятаться было поздно. Омар Тайфур уже увидел беглого раба. Он подозвал к себе Валсамона и плетью указал на Хомуню.
— Гы-гы-гы! — трубно засмеялся Валсамон и выхватил саблю.
5. Что в имени твоем
Аланская епархия ждала из Константинополя нового владыку — епископа Феодора. За день до приезда его преосвященства через перевалы, по горным лесистым тропам, торными караванными путями, кто пешком, кто верхом, и с Куфиса, и с Кяфара, и с равнинных низин стекались в Аланополис монахи, иереи, пресвитеры в строгих сутанах, а порой даже в расшитых золотом и серебром ризах, сверху прикрытых дорожными япопчицами — грубыми шерстяными накидками.
Иные шли налегке, иные — с котомками, иные — прижимали к груди толстые библии, евангелия, иромологии и октоихи — книги священных ирмосов и песнопений, бережно укутанные скарлатом — дорогим бархатом.
На благородных конях, украшенных серебряными бляхами и накладками, в окружении телохранителей, рабов и наложниц важно восседали неторопливые князья низинных земель и равнин, двигались со своими стадами овец, коров, молочных кобылиц, с походными шатрами и мягкими постелями.
Вихрем, сбивая с дороги странников, нищих, калек, паломников и других, одетых в рубища босоногих людей, проносились в сопровождении десятка сородичей бородатые, в темных бурках, вожди горских селений, обвешанные острыми саблями, закаленными кровью ядовитых змей, с тугими луками, облагороженными костяными и серебряными накладками, с начищенными до блеска колчанами, боевыми секирами и острыми пиками.
Никогда еще горы на своих дорогах и тропах не видели такого множества людей. Все торопились в Аланополис, боялись опоздать к приезду епископа. И не только потому, что уже несколько лет кряду епархия жила без владыки, а люди эти тревожились, что церкви пришли в запустение, многие племена охладели к вере в Иисуса Христа, все большее и большее число горских селений начали возвращаться к язычеству. Люди спешили и потому, что впервые за сотни лет, с тех пор, как в землях Алании утвердилось христианство, владыкою епархии назначен не эллин, а уроженец здешних мест. Его преосвященство отец Феодор родился и вырос в Аланополисе, учился грамоте и воспитывался в монастыре епархии, отсюда увезен был в Константинополь, там и получил он высокий духовный сан.
* * *
На только что убранных, но еще не вспаханных полях, на лужайках по правому, примыкающему к городу, берегу Инджик-су, и даже за городскими стенами запестрели шатры, запахло дымом, жареным мясом, пряностями. Все три и без того кривые узкие улицы до непроходимости стеснила разноликая громкоголосая, многоязычная, текущая круговоротом толпа. К каменным заборам жилых кварталов, тесно застроенных одно- и двухэтажными домами, крытыми тонкими плитками песчаника и красно-коричневой черепицей, скученно прижались торговцы с лотками фруктов, пышных лепешек, овечьего сыра, мяса, с большими кувшинами белого и красного вина. В проулках прямо на земле выставили свои товары оружейники, гончары, кузнецы, ткачи, портняжки, чувячники, сапожники. Молодые ремесленники громко зазывали покупателей, расхваливали товар. Те, что постарше, наоборот, презрительно посматривали на приезжих, тихо переговаривались между собой.
Одетые в легкую бронь стражники алдара, князя Кюрджи, жестокого и хитрого властелина, с секирами и длинными кинжалами, медленно прохаживались по улицам, разнимали дерущихся, добивали тяжело раненных, на глазах у всех снимали с них и делили между собой одежду и драгоценности, если таковые находили у пострадавших, и, оставляя кровавые следы, выволакивали голые трупы на окраину кладбища, хоронили в старых, давно заброшенных склепах и пещерах.
У южной стены города, недалеко от Абхазских ворот, между древним языческим капищем и христианской церквушкой, на ровной, будто отшлифованной, базальтовой плите уселся Шила Бадур, обладатель волшебных ивовых прутьев и священного белого петуха, маг и предсказатель, тощий, с редкой, но длинной седой бородой и густыми бровями. Ослепительно белые одежды его широкими волнами рассыпались по камню, почти полностью прикрыли большую плиту — осталось место лишь для священного петуха, привязанного за ногу веревкой, и пучка ивовых прутьев.
Шила Бадур не спеша вытащил из небольшой котомки кусочки пожелтевшего сыра и черствого хлеба, бережно разложил их на камне рядом с волшебными прутьями, достал медный, чуть примятый, кувшин с узким горлышком, заткнутым хорошо подогнанной деревяшкой, открыл его и окропил хлеб водой.
Шумная, разношерстная толпа в ту же минуту плотным кольцом обступила предсказателя, беззастенчиво рассматривая его скудный обед, загадочные ивовые прутья, холеные руки Шила Бадура с тонкими длинными пальцами, равнодушно-спокойное лицо с крепким орлиным носом и черными умными глазами.
Среди людей, окруживших мага и предсказателя, были и молчаливые горские князья, и нетерпеливые ремесленники в коротких, засаленных куртках, и осторожные, не привыкшие к людскому столпотворению пастухи в мохнатых бараньих шапках, и нарядные женщины в пестрых, плотно облегающих платьях, украшенных шитьем, позолоченными разрезными бубенчиками с узорами из красной и синей эмали. У многих на груди и на поясе блестели начищенные застежки, медные бляшки с небольшими овальными вставками из ярко-голубого стекла и ляпис лазури.
Особняком, не смешиваясь с толпой, стояли пятеро доминиканских монахов во главе с худым и высоким, с редкими жирными волосами, торчавшими из-под клобука, его преподобием отцом Юлианом. Монахи выглядели усталыми, изможденными. Их мантии, когда-то строгие и внушительные, шитые из тонкого венецианского сукна, были порваны и теперь, туго подпоясанные серыми пеньковыми веревками, жалкими отрепьями висели на узких костистых бедрах. Все пятеро молча смотрели на Шила Бадура и поминутно сглатывали слюну.
Протиснувшись сквозь толпу, рядом с монахами остановились Вретранг — коренастый, широкий в плечах, с седеющей бородой, и младший его сын, Николай, — долговязый юнец с большими, распахнутыми глазами и темным пушком на верхней губе. Оба одеты в светлые короткополые легкие кафтаны с ромбовидными костяными застежками, в темно-серые салбары и легкие чувяки из сыромятной кожи.
Шила Бадур, не обращая внимания на любопытных, взял ивовый прут, наколол им кусочек сыра и отправил в рот. Жевал он не спеша, сосредоточенно, изредка запивая водой.
Толпа постепенно умолкла, будто не хотела мешать трапезе мага и прорицателя.
Но вот Иелие, богатый, известный во всех городах и селениях купец из страны Лазов, растолкав локтями людей, рассмеялся и громко воскликнул:
— Приветствую тебя, Шила Вадур!
Предсказатель лишь на секунду поднял глаза на купца, раскрасневшегося от обилия выпитого вина, и, не удостоив его ответом, продолжал есть.
Купец сделал вид, что не заметил равнодушия предсказателя.
— Пойдем ко мне в шатер, Шила Бадур, я накормлю тебя молодой бараниной.
Шила Бадур обеими руками взял кувшин, досыта попил воды, сложил в котомку остатки своего обеда, подобрал крошки, высыпал их петуху и негромко произнес:
— Несчастен человек, который поедает животных. Рано или поздно боги перестанут защищать его от злых демонов.
Купец усмехнулся, нарочито закатил вверх глаза, перекрестился.
— Я признаю только одного бога — Иисуса Христа. И приехал в этот святой город для встречи с посланником всевышнего, его преосвященством епископом Феодором.
— Посланник твоего бога — есть ничто. И едет на пустое место, ибо все, что должен был совершить он, то сделал ты, Иелие. Ты, торговец, имеющий много золота, скота, тканей, разъезжая по всей стране, своею волею назначил священнослужителей там, где опустели церкви, — Шила Бадур насмешливо взглянул на купца. — Что же остается епископу, посланнику твоего бога? И что это за бог, если его покидают люди, а новых пастырей назначает не слуга, облеченный доверием и властью, а торговец, имеющий деньги?
Купец слушал Шила Бадура, удивленно раскрыв рот: все, о чем говорил прорицатель, было правдой. Иелие и в самом деле сам назначал пресвитеров, платил им деньги. Оттого не только святые отцы, но прихожане каждый раз встречали его как своего благодетеля. Под защитой церкви, в закоморах, хранились его товары, и сам он без охраны переезжал из села в село, из города в город.
Иелие почувствовал, что люди, которых он только что усиленно расталкивал локтями, сами отстранились от него, один на один оставили с прорицателем.
— Все, что священно, — то неподкупно и неподвластно торговцу. Если есть у тебя, Иелие, золотой динар, то брось его моему петуху — и ты убедишься в истине.
Иелие вытащил из кармана кошель, достал золотой динар и кинул его под ноги священной птице, настороженно взирающей на могучего телом купца. Монета, звякнув о камень, откатилась к одеждам прорицателя. Петух нехотя подошел к блестевшему на солнце кружочку, наклонился, повернул набок голову, чтобы рассмотреть лучше, и равнодушно отошел в сторону.
Толпа затаила дыхание. У доминиканских монахов жадно загорелись глаза. Шила Бадур щелкнул тонкими пальцами — петух встрепенулся, прыгнул на плечо прорицателя, потянулся головой к его уху, будто прошептал что-то, и слетел обратно.
— Вот видишь, Иелие, священный петух не принял твоего золота. Подойди ближе и забери динар обратно, — сказал прорицатель. Собрав в левую руку ивовые прутья, он молча начал по одному раскладывать их перед собой.
Купец, опасаясь насмешек, не стал забирать золотую монету. Подумав, спросил:
— Что же, по-твоему, есть бог?
— Посмотри вверх, а потом опусти голову — и узнаешь.
Купец рассмеялся.
— Там пустое небо. А под ногами у меня только пыль и камни.
Прорицатель нахмурился и воздел вверх руки с зажатыми в них ивовыми прутьями.
— Смотрите, люди! — воскликнул он. — Этот человек имеет глаза — и не видит солнца. У него есть ноги — и он не чувствует земли!
Толпа возбужденно загудела.
— Ты, слепец, Иелие. Так знай и расскажи всем: на свете только три великих божества — солнце, земля и вода. Человек не может изобразить богов ни в камне, ни на бумаге, ни на ткани. Боги равнодушны к идолам, засоряющим землю, — Шила Бадур опустил руки, снова начал раскладывать перед собой ивовые прутья. Потом посмотрел на купца. — Бог, Иелие, — ни женщина, ни мужчина. Он бог. Потому и неподкупен. Сними с себя, Иелие, золотые кольца и браслеты, не носи больше украшений, тем более, что ты — не женщина, не блудница, ищущая похоти. Пусть постелью тебе служит земля, пищей — фрукты, овощи, сыр и грубый хлеб. И тогда боги явятся тебе воочию. И ты поймешь, что бог — это не идол, а живое существо. Бессмертное, как и человек. Разумное, совершенное, не приемлющее ничего дурного — какие и есть солнце, земля и вода. Пока земля, которую ты безжалостно топчешь, обогретая солнцем и напоенная влагой, будет рожать травы и злаки, человек будет жить. Кроме богов, Иелие, существуют священные деревья и рощи, камни и горы, птицы и животные. Есть и демоны, Иелие. Они живут рядом с людьми, едят и спят вместе с ними, посылают им сны и знамения, надзирают за их делами. Если ты, Иелие, остаток жизни проведешь рядом со мной, то многое узнаешь о божествах и полюбишь их.
— Нет, Шила Бадур. Хоть и сладкие твои речи, но я не пойду за тобой. Если я это сделаю, то кто же будет привозить людям ткани, оружие, посуду, обувь?
Предсказатель потянулся рукой к золотому динару, взял его, сдул с него невидимую пыль и бросил купцу. Иелие поймал монету и спрятал в кошель.
— Правильные слова ты сказал, Иелие. В старое время мудрецы говорили: «Лучше с разумом быть несчастным, чем без разума быть счастливым». Пахарь должен растить хлеб, пастух — смотреть за стадом, чувячник — шить обувь, а купец развозить все это людям. Но не обманывай их, Иелие. И больше никогда не превращайся в белого петуха, не пытайся заменить его. Только белому петуху боги позволили кричать в урочное время, возвещать людям истину.
— А почему именно белый петух, Шила Бадур?
— Белый цвет — самый чистый и благой от природы. Посмотри на свои руки — они черные.
Иелие торопливо спрятал руки в карманы. Толпа засмеялась.
— Прощай, Шила Бадур. Приходи ко мне в лавку, я прикажу дать тебе белой ткани для одежды.
— Прощай, Иелие. Когда будешь доедать молодого ягненка, не забудь перед собой поставить соль. И чаще смотри на нее. Она рождается от чистого солнца и чистого моря и всегда сохраняет правду.
Шила Бадур устал. Ему расхотелось гадать на ивовых прутьях, и он засобирался в путь. Толпа начала расходиться.
Вретранг взглянул на сына. Николай словно оцепенел. Стоял не шевелясь и зачарованно смотрел на человека в белых одеждах.
— Ты что, уснул? — толкнул его в бок Вретранг. — Пошли.
Николай повернулся к отцу, но мысли его витали еще где-то там, рядом с предсказателем.
— Что ты сказал? — переспросил он.
— Пора, говорю. Идем домой. Русич сегодня должен прийти.
— Отец, откуда берутся мудрецы?
Вретранг пожал плечами.
— Не надумал ли ты податься в язычники, в ученики к Шиле Бадуру?
Николай улыбнулся, посмотрел вслед уходящему предсказателю.
— Нет. Не учение его меня привлекает, а сам он — мудрый, сильный, независимый. Откуда у него все это? Не в нищете же он черпает силы?
Вретранг задумался. Он не знал, как ответить сыну. Николай все чаще и чаще ставил его в тупик своими неожиданными вопросами.
Вретранг поднял голову и увидел, что обоих их окружили доминиканские монахи.
— Сын мой, — низко склонившись к Вретрангу, вкрадчиво заговорил его преподобие отец Юлиан, — ты христианин и добрый человек. Посмотри внимательно на слуг господних — сердце твое содрогнется от жалости, если узнаешь, сколько дней мы питаемся только травами да случайными дикими плодами. Неужели ты допустишь, чтобы посланники всевышнего умирали голодной смертью? Мои спутники ослабли телом. Но они сильны духом, каждый готов умереть во славу господа бога Иисуса Христа, на ниве приобщения язычников в лоно римской католической церкви.
Вретранг удивленно посмотрел на Юлиана и равнодушно сказал:
— Ну, так умирайте, я мешать не буду.
Юлиан смутился. Но не в его правилах отступать от задуманного.
— Грешен ты, сын мой. Сказано в писании: «Никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя». Все во славу божию. Я искренне хочу помочь тебе и за невысокую плату продам индульгенцию, дарую прощение и отпущу грехи твои.
Вретранг похлопал себя по пустым карманам.
— Не ношу денег с собой, — сказал он и зашагал прочь.
Его преподобие жеребцом на длинных ногах обскакал Вретранга, загородил дорогу.
— Сын мой, я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну; и благословится в тебе все племя твое. Во славу непорочного зачатия девы Марии, ради святой мадонны прошу тебя: накорми братьев моих, как когда-то Христос накормил детей израилевых. Проникнись состраданием к человеку. Поверь, бескорыстен я в молитвах своих.
Перед Вретрангом уже стояли все пятеро истощенных монахов. Кроме Юлиана, никто из них не произносил ни слова, но глаза их, наполненные слезами, жалкие, просящие, как у голодной собаки, тронули Вретранга.
— Ладно, — махнул он рукой. — Идите за мной. Так и быть, будете сегодня гостями в моем доме. — Вретранг повернулся к сыну. — Николай, ступай быстрее вперед, пусть приготовят поесть людям.
На улице Эллинов, на площади Святого Георгия, не далеко от которой стоял новый дом Вретранга, собралось столько людей, что Вретранг с трудом протискивался вперед. Он шел и прислушивался к словам монаха, взобравшегося на священный языческий камень с изображением небесных созвездий Рыбы и Овена. Монах был без привычного клобука, в одной камилавке, небольшой черной тюбетейке, одетой поверх длинных рыжих волос. Мантия его расстегнулась, из-под нее выглядывала серая нижняя рубаха. Чтобы монах не упал с высокого камня, двое товарищей его, таких же, чуть захмелевших, поддерживали оратора за дрожащие колени. Третий с сумой продирался по толпе, собирал пожертвования.
Вретранг возмутился надругательством чужеземцев над священной реликвией города, звездным камнем, энергичнее начал работать локтями.
— …И видит пресвятая богородица жену, подвешенную за зуб, — закатывая глаза, громко, на всю площадь орал рыжий монах, — и страшные змеи исходят из уст ее и впиваются в тело ее. «Кто эта женщина, — спрашивает богоматерь, — какой грех она сотворила?» И отвечает ей архистратиг Михаил: «Госпожа моя, эта женщина любила ходить по родственникам, по соседям, подслушивала, о чем говорят они, сплетничала, ссорилась. Из-за этого теперь и мучается». И говорит богородица: «Лучше бы она не родилась вовсе». И видит пресвятая других женщин, подвешенных за ногти. Пламя исходит из уст их, змеи выползают из пламени и прилепляются к несчастным. И вопиют женщины, и просят: «Помилуйте нас, нет мучительнее мук наших!» «Чем согрешили эти?» — спрашивает богородица. «Это попадьи. Попов своих не чтили и после смерти их вышли замуж. А это черницы из монастыря, продали свое тело на блуд. Оттого и мучаются». И видит святая реку огненную. Будто кровь густая, течет она по земле и поедает ее. А среди волн — множество грешников. Прослезилась богородица и спрашивает: «В чем согрешения их?» И отвечает архистратиг: «Это блудницы и любодеицы, тайно подслушивающие, о чем ближние между собой говорят, сводницы и клеветницы, пьяницы, немилостивые князья, епископы и патриархи, и цари, не творящие по воле божией, сребролюбцы, лихоимцы, беззаконницы». Идет добродетельная дальше. И слышит плач и голос грешных: «Господи, помилуй нас». Только произнесли они молитву — утихла буря речная, схлынули волны огненные и явились свету грешники, как зерна горочные. Увидела святая, прослезилась и говорит: «Что есть река эта и волны ее?» И отвечает ей архистратиг: «Это течет смола, а волны у нее огненные. А мучаются жидове, как мучили господа нашего Иисуса Христа, сына божия; и все народы, крестившиеся во имя отца и святого духа; и те крестьяне, что веруют в демонов, отвергают бога и святое крещение; кто блуд сотворил в святом крещении и с кумом своим, и с матерями своими, и с дочерьми своими; и отравительницы, те, кто ядом умерщвляет человека; кто оружием убивает людей, и давят детей своих. Все мучаются за дела свои». И говорит святая: «Поделом им! Пусть так и будет!» Нахлынули волны — и скрыла тела грешников огненная река. И завопили ангелы в едины уста: «Свят, свят, свят еси, боже светлый, и ты, богородица. Благословляем тебя и сына божия, родившегося от тебя. Радуйся благодатная богородица, радуйся просвещение света вечного!»
Толпа смеялась и стонала, полнела звенящими монетами сума проповедника, женщины вытирали слезы, набожно крестились и удивленно посматривали на недовольно хмыкающих доминиканцев.
Вретранг вплотную протиснулся к монаху, столкнул его со священного камня.
— Ты что, наглец, грязными ногами чужую святыню топчешь? — воскликнул он и выхватил кинжал.
Рыжий монах испуганно закричал, юркнул в толпу и скрылся из виду.
— Горяч ты, Вретранг, — удивился Юлиан. — Разве можно на человека в сутане оружием целить?
Вретранг усмехнулся, спрятал кинжал и молча зашагал вдоль высокого, не заглянешь во двор, каменного забора.
Около узкой калитки, сделанной из толстых, грубо обработанных досок, Вретранг остановился, подождал спутников, постучал. Дверь открыл полуголый, крепкий юноша, одетый в короткие, грубые посконные салбары и истоптанные чувяки. Юноша, отступив в сторону, слегка поклонился Вретрангу, подозрительно посмотрел на незнакомых монахов.
— Хурдуда, приготовь воды, святым отцам умыться надо, — приказал Вретранг.
— Слушаюсь, мой господин, — покорно ответил раб и закрыл на засов калитку.
В глубине двора — просторного, с многочисленными хозяйственными постройками, возведенными вдоль ограды, сразу за большой ветвистой яблоней, возвышался длинный двухэтажный дом с узкими решетками застекленных окон и крутой двускатной крышей, покрытой тонкими плитами песчаника и светлой, почти оранжевой калиптерой — полукруглой черепицей, плотно подогнанной по коньку и карнизам. И светлая черепица, и не успевшие потемнеть оконные рамы, деревянная крутая лестница, ведущая на второй этаж, да и сами стены, сложенные из тесаного, хорошо подогнанного камня, говорили о том, что дом выстроен недавно. Старый — приземистый, одноэтажный, в котором умерла Аримаса, — стоял в самом углу двора. Теперь там располагалась мастерская Анфаны, старшего сына Вретранга, известного в городе сапожника.
Отец Димитрий сам крестил первого сына своего юного друга, дал имя ему — Афанасий. Но Вретранг и его жена, маленькая красавица Альда, с трудом выговаривали длинное чужеземное имя, и Афанасий вскоре превратился в Анфаны. Узнав об этом, отец Димитрий метал громы и молнии, грозился самыми тяжкими небесными карами, около года не показывался в доме Вретранга, но потом, под давлением Русича, отца Луки, смирился. И когда Анфаны подрос, сам отвел его в ученье к монахам, хорошо знающим сапожное ремесло. Отец Димитрий лелеял надежду поселить Анфаны в монастыре пожизненно, но Вретранг категорически воспротивился и решительно заявил, что ни Анфаны, ни кто-либо из других его сыновей монахом не станет. Детей у Вретранга было немало. Альда родила ему шестерых сыновей и дочь. Следом за Анфаны на свет появился Димитрий, потом Ботар, Библо, Сослан, Русудан и Николай. Все они выросли здоровыми, крепкими.
* * *
Едва доминиканские монахи вошли во двор и чинно расселись в тени под яблоней, из мастерской стремительно, словно с цепи сорвался, спотыкаясь о разбросанные у дверей поленья, выкрикивая бранные слова и гремя развешанными вдоль прохода медными котлами, выскочил Анфаны. Добежав до середины двора, он остановился, как вкопанный, и удивленно уставился на незнакомых людей. Не отрывая глаз от монахов, Анфаны медленно стащил с себя и бросил на землю грязный кожаный фартук, оправил выскочившую из-за пояса забрызганную краской серую чугу — летнюю рубаху с короткими рукавами, шитую из грубой холстины, поклонился монахам и лишь потом поднял фартук.
Из дверей дома, сараев и клетушек на шум выглянули братья Анфаны, служанки, Русудан и Альда.
— Отец, если ты задумал сегодня устроить пир, то я тебе не помощник, у меня нет времени встречать гостей! — развел руками Анфаны и вопросительно взглянул на Ботара.
— У нашего отца — увлечение, — рассмеялся Ботар, — он любит дружить только с монахами.
— А ты помалкивай, когда старшие разговаривают! — оборвал его Анфаны. — Молод еще указывать. Лучше подойди ближе и я угощу тебя подзатыльником! Сколько можно ждать тебя? Неси накладку на подперсник. А ты чего глаза пялишь? — набросился он на Димитрия. — Быстрее тащи сафьян, не хватает кожи на катур и пахву.
Кто-то из братьев прыснул, Анфаны повернул голову, но так и не понял, кто и почему смеялся.
— Все хохочете? — на всякий случай прикрикнул он. — Рады, что не вам, а мне подставлять голову под секиру Кюрджи?
Анфаны побежал обратно в мастерскую, споткнулся о сучковатое полено, громко выругался, запустил поленом по медному котлу. Двор снова наполнился звоном.
Вретранг нахмурился, приказал сыновьям помочь старшему брату.
Анфаны сердился неспроста. Кюрджи к приезду нового епископа заказал для себя светло-коричневые сафьяновые сапоги. Причем такие, чтобы ни у кого похожих не было. В тон сапогам велел изготовить седло, попону и сбрую.
Заказ князя выполняли втроем. Димитрий выделывал кожу и готовил остов седла, Ботар ковал стремена, застежки, бляхи, накладки, украшения из меди и серебра, наносил позолоту, Анфаны шил. Но когда с летних пастбищ, оставив табун лошадей и стадо овец на попечение рабов, приехали Библо и Сослан, все побросали работу и напрочь забыли о княжеском заказе. Теперь же надо было спешить, епископа ждали с часу на час.
Монахам подавали женщины. Вретранг сидел рядом и молча наблюдал, как голодные, люди спешили набить свои пустые желудки.
Сначала монахи были нерешительными, даже слишком скромными, чопорными и щепетильными, настолько вежливыми, что Вретрангу порой становилось неприятно. Прежде чем взять что-либо с уставленной блюдами широкой кошмы, они бросали вопросительные взгляды на Юлиана, благодарно заглядывали в глаза Вретрангу. Но уже через минуту перестали церемониться, обжигаясь, жадно хватали горячее мясо, лепешки, наперебой, мешая друг другу, тянули руки к корчагам с кислым молоком.
Первым утолил голод его преподобие отец Юлиан. Вретранг заметил это по его движениям. Они стали неторопливыми, степенными. Юлиан старался выбрать себе кусок мяса не крупнее, а повкуснее, тщательно обгладывал косточки, молоко пил не спеша, с наслаждением.
Наконец, он посчитал нужным заговорить с хозяином. Отметил, что давно ему не приходилось так вкусно поесть, потом уточнил, сколько у Вретранга сыновей, похвалил их. И тут он попал в точку. Вретранг расплылся в улыбке. Детей своих он любил и гордился ими: мастеровые, за что ни возьмутся, сделают так, что любо посмотреть.
Юлиан счел нужным заметить:
— Все живые существа рождаются друг от друга через семя. Чем лучше семя, тем лучше и потомство. О сыновьях же сказано: «Что стрелы в руке сильного, то — сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». — Юлиан взглядом показал на Хурдуду, мастерившего в углу двора новую арбу. — Этот, как я понял, не сын твой?
Вретранг улыбнулся, еще раз посмотрел на того, о ком заговорил монах, перевел взгляд на Русудан, единственную свою дочь, которая, он заметил, то и дело бегала к Хурдуде, о чем-то шепталась с ним.
— Эта раб мой — Хурдуда. Он попал ко мне лет десять назад.
Монахи уже заканчивали есть, но никто из них не вставал с кошмы, все прислушивались к словам Юлиана и Вретранга.
— Вижу, хозяйство у тебя крепкое, — продолжил Юлиан, — рабочие руки лишними не бывают. И вот о чем я хочу тебе сказать. Папа римский возложил на меня миссию найти, остатки племен восточных венгров, дабы обратить их в веру католическую. Но дорога трудная, средства на пропитание у нас кончились. А потому прошу тебя, Вретранг, купи двоих сотоварищей моих, пусть будут они у тебя самыми послушными рабами.
Вретранг внимательно посмотрел на спутников Юлиана. Монахи выпрямились, расправили плечи. Бродячая, без средств к существованию, жизнь всем им порядком надоела, и они рады продаться в рабство к хлебосольному хозяину. Двое из них были еще довольно молодыми и крепкими, если их подкормить как следует, вполне получились бы хорошие работники.
— Кто-нибудь из них умеет землю пахать? — спросил Вретранг.
Юлиан окинул взглядом своих собратьев и повернулся к хозяину.
— Этого им еще не приходилось делать.
— А зерно молоть?
— Нет.
— А пасти лошадей или овец?
— И этим заниматься им не приходилось. Служить богу — они умеют, а всему остальному, я думаю, научатся.
— Не стану от тебя скрывать, преподобный отец, — усмехнулся Вретранг, — заполучить монахов в качестве рабов — для меня особенно любопытно и заманчиво. Представляю, как бы посмотрел на это мой старый друг, иеромонах отец Димитрий. Он сейчас в отъезде, но скоро будет. Думаю, что он не пережил бы такого. Но — мана манит, а бог бережет. Дело соблазнительное, а все же кормить бездельников задарма — не вижу пользы.
Юлиан вздохнул и опустил голову.
Во дворе показался Библо, побежал в конюшню, вывел оттуда своего жеребца. Братья вынесли седло, попону, начали примерять. Чистопородный каурый арабский скакун в одну минуту украсился нарядной сбруею. Бока нетерпеливого, чуть подрагивающего жеребца облегала великолепная попона, искусно расшитая золотой и серебряной нитью. Здесь были и замысловатые узоры в виде змей, перевитых между собой, и цветы. Попона застегивалась на груди с помощью большой золоченой бляхи с темным изображением Сэнмурва — крылатого чудовища, поедающего людей. Сверху попоны красовалось роскошное седло, украшенное рельефным плетеным орнаментом и тонкими золочеными, с чернью, пластинками в виде птиц и зверей. Анфаны принес и вставил в стремена мягкие сапоги из тонкой сафьяновой кожи, отделанные золочеными аппликациями. Он так выкроил голенища, чтобы верхняя их часть острым треугольником, обшитым тканью, плотно прикрывала колени. Фигурные выкройки передника и задника голенищ и головок, сшитые для крепости с вставленной между ними сложенной вдвое узкой полоской черной кожи, образовали рельефный узор. На внутренней стороне голенища Анфаны сделал подкладку из тонкой просвечивающейся кожи.
Не только монахи, но и вся многочисленная семья Вретранга окружила коня, залюбовалась искусной работой. Хурдуда обнимал своих молодых господ, радостно смеялся и беспрестанно повторял:
— Надо же? Никогда бы не поверил, что все это сделано вашими руками. Надо же? Учите и меня своему ремеслу!
Даже Юлиан позабыл о своей степенности, подскочил к Вретрангу, хлопнул его по плечу.
— Воистину золотые сыновья у тебя!
Вретранг расплылся в улыбке.
Братья посмеивались, довольные. Анфаны отошел в сторону, склонил голову набок, залюбовался. Потом нахмурился, громко хлопнул себя ладонью по лбу.
— Глупая моя башка!
Все удивленно посмотрели на старшего сына Вретранга.
— И вы тоже хороши, — набросился Анфаны на Димитрия и Ботара, — не могли подсказать. Сюда же серебряные колокольцы нужны! — Анфаны подбежал и ткнул пальцем в верхнюю часть сапога. — Растяпы мы!
Ботар отступил назад, присмотрелся.
— Нужны колокольцы, — согласился он. — Маленькие, с красной эмалью, на тонкой золотой цепочке. И на попоне такие же. Впереди. По три с каждой стороны. И нашить их надо на красный бархат.
— Сойдет и так, — возразил Сослан, — а вот с конем не знаю, что и делать. Придется князю его отдать. Боюсь, к другой масти не подойдет сбруя, не так смотреться будет.
Сыновья вопросительно уставились на отца.
— Бог с ним, с конем, — махнул рукой Вретранг. — Подарок алдару напрасным не бывает. Пусть думает, что мы его любим. Ведите к Кюрджи оседланного коня. Пускай все видят, на что вы способны.
В калитку громко постучали, и Хурдуда побежал открывать. Заглянув в щель между досками, он обернулся и радостно воскликнул:
— Смотрите, кто пришел!
Хурдуда открыл калитку.
Опираясь на костыли, во двор медленно вошел русич, отец Лука. Обходиться без костылей он уже не мог, каждый шаг стоил ему немалых усилий.
— Бабахан с Сауроном приехали? — спросил он у Хурдуды.
— Нет, святой отец. Не знаю, что и думать, — Хурдуда пожал плечами и опустил голову.
— Не заболел ли? — встревожился отец Лука.
Подошел Вретранг с сыновьями, обнял русича.
— Ну, как ты? — Вретранг заглянул в глаза новому гостю.
— Скриплю потихоньку, — ответил он. — Пора на погост, давно пора. А то заждалась меня Аримаса. Больше тридцати лет прошло, как душа ее в одиночестве бродит. Снилась мне, значит, и в самом деле ждет. Не знаешь, почему Саурон с Бабаханом не приехали?
Вретранг пожал плечами.
— Наверное, что-то произошло у них, — предположил он.
Русич шагнул к сыновьям Вретранга.
— Ну, здравствуйте, добры молодцы.
— И тебе здоровья, отец Лука, — поклонились русичу юноши.
И только тут русич увидел стоявшего в стороне оседланного коня, залюбовался.
— Чей же такой красавец? — спросил он.
— Был наш, теперь Кюрджи отведем. Заказывал сапоги, седло и сбрую. Только что закончили. Решили отдать вместе с конем.
— Эдакому душегубу — такую красу? — удивился русич.
— А нам что, лишь бы золотом платил, — сказал Вретранг.
— Золотом, золотом, — недовольно пробурчал русич, — сколько тебе надо его, золота этого?
— В нем и интерес. Даром только птица гнездо вьет, да и то для себя потому что. А если говорить о золоте, ты же знаешь.
— Знаю, знаю, — перебил его русич. — Почему и прилепился к тебе, что ты лучше свое отдашь, чем чужое своруешь. Чья работа?
Братья указали на Анфаны.
— Да нет, — смутился старший сын Вретранга, — все делали. И Димитрий и Ботар. Друг без друга мы — ничто. А коня — Библо выходил.
— Молодцы, — похвалил русич. — Не был бы калекой, прокатился бы на старости лет. А с Кюрджи не церемоньтесь, сдерите с него как следует. Но помните: богатство пагубно, если им не пользоваться достойным образом. Ни больного не может излечить золотая кровать, ни глупому не на пользу слава и богатство.
Братья рассмеялись.
— А ты как поживаешь, Сослан? — спросил русич. — Невесту себе еще не выбрал?
— Да вот, стою и думаю.
— О невесте?
— Нет, отец Лука. Думаю, не взять ли нам тебя на руки да не посадить ли в седло? — сказал он и повернулся к братьям. — Покатаем игумена?
— Давай! — крикнули хором и подхватили русича на руки.
— Оставьте, оставьте, дети мои, — взмолился русич, — не тот день сегодня, и здоровье не то, чтобы баловством заниматься. Птица с одним крылом не летает.
Братья бережно опустили русича на землю.
— Не слишком ли много монахов у тебя в доме, Вретранг? — спросил русич, увидев посторонних. — Кто такие?
— Бродячие. Покормить надо было.
Русич слегка поклонился доминиканцам и тихо покостылял в мастерскую Анфаны. Вретранг двинулся следом.
Его преподобие отец Юлиан издали наблюдал, как семья Вретранга радушно встречала игумена, и ждал, что нового гостя подведут, наконец, знакомиться с доминиканцами. А когда этого не произошло, и игумен, не обмолвившись словом с католиками, скрылся в мастерской, отец Юлиан обиделся. Его задело, что игумен лишь издали кивнул им, не поинтересовался даже, зачем прибыли в епархию, не нуждаются ли в помощи. Кислая мина исказила и без того длинное худое лицо отца Юлиана, и он долго нерешительно топтался под яблоней в окружении своих спутников.
Во дворе опустело. Анфаны, Димитрий, Ботар и Библо, вооружившись кинжалами, увели коня алдару Кюрджи. Юлиану стало одиноко и грустно. Но взглянув на своих собратьев, жалких, утомленных, отец Юлиан улыбнулся и махнул рукой.
— Всяк обидимый прощай обидящему, — пробормотал он и направился туда, где скрылись игумен и Вретранг. Монахи двинулись следом.
Из мастерской вышел Хурдуда и загородил доминиканцам дорогу. Его преподобие отец Юлиан остановился и протянул благословящую руку для поцелуя. Заметив, что раб не спешит приложиться к ней, Юлиан нахмурился.
— Сюда нельзя, — улыбнулся Хурдуда.
— Отойди в сторону, несчастный раб, — глухо прошипел Юлиан и попытался оттолкнуть Хурдуду. Но раб только шире расставил ноги и не сдвинулся с места. — Мне надо переговорить с игуменом.
— Сюда нельзя, — твердо повторил Хурдуда. — Отец Лука занят. Подождите под яблоней.
Потеснив монахов и Хурдуду, в мастерскую проскользнула Русудан с кувшином вина и тонкими стеклянными рюмками. Едва она скрылась за дверью, появился Вретранг и громко кликнул Сослана.
Сын тотчас выглянул из конюшни.
— Иди сюда, — сказал Вретранг и повернулся к Хурдуде. — А ты ступай к игумену, посиди с ним.
Хурдуда скрылся за дверью, отец Юлиан приосанился, заулыбался.
— Ну и раб у тебя, Вретранг. Он настолько глупый, что не признает служителя церкви. Мне потребовалось переговорить с игуменом, а он…
— Погоди, святой отец, — перебил доминиканца Вретранг и, подождав пока сын подойдет ближе, сказал: — Сослан, отведи святых отцов под яблоню, принеси вина и угости их как следует. Пусть помянут Аримасу, покойную жену игумена.
Сослан поправил на боку кинжал, улыбнулся, взял под руку отца Юлиана, побледневшего от бесцеремонности, и забалагурил, оттаскивая монаха в глубь двора:
— Достопочтимый отец Юлиан, прости меня, грешника, недостойного раба божия, слабого умом Сослана. Я редко бываю в отцовском доме и в городе, больше пропадаю в горах, на пастбищах. А чему научишься у жеребцов, кобылиц и баранов? Только и пользы от них, что не дают застояться телу. Поверь, святой отец, как я несчастен. Овцы и лошади совсем не оставляют времени, чтобы хорошо поразмыслить о боге, о краткой жизни на земле и вечной на небе. Я все чаще и чаще задумываюсь, какую веру предпочитает сам Христос: православную или католическую…
* * *
В мастерской русич сидел на небольшой скамье, поставленной у стены, возле которой он когда-то покрыл саваном тело Аримасы. Вплотную к игумену Хурдуда подвинул фынг, круглый жертвенный столик на трех ножках. На столике — хлебные лепешки и высокие стеклянные рюмки, наполненные густым красным вином.
Справа, на кошме, расположился Вретранг, напротив — его дочь и Хурдуда.
Русич взял рюмку, вылил на землю половину ее содержимого и поставил на столик.
— Жаль, что Саурон не приехал помянуть свою мать. Хорошо, хоть вы рядом, не оставляете меня одного. Особено ты, Вретранг. Ведь и тогда, кроме тебя, в городе некому было бы приютить меня с умирающей женой. Не один раз убеждался, что друг верный не изменится и нет меры доброте его, — русич взглянул на Хурдуду и Русудан. — Знайте, дети мои, только благодаря Вретрангу и Бабахану выжили мы с Сауроном. И когда я вижу тебя, Хурдуда, вспоминаю твоего отца, Бабахана, храброго и благородного человека. Ты очень похож на него. А ты, Русудан, чем-то напоминаешь мне Аримасу. Я рад, что сегодня вижу тебя рядом.
Все четверо взяли рюмки и пригубили терпкую влагу. Никто не произнес ни слова, каждый думал о своем.
Русич пришел к выводу, что у них с Аримасой судьба оказалась почти одинаковой. Аримаса умерла в чужом доме, в городе, где нет могил ее предков. И ему суждено закончить свой путь в одиночестве. Никто так и не узнает, кто он есть на самом деле, где его корни, почему оторван от своего племени.
Русич не считал себя несчастным. Как и положено человеку, за свою жизнь он вдоволь испытал боли и наслаждения. Друзей своих любил не ради корысти. Спешил к ним чаще всего не тогда, когда они смеялись от радости, а, наоборот, когда от горя плакали. Вместе с отцом Димитрием помог он Вретрангу вырастить хороших сыновей. Конечно, не все надежды сбылись. Но и сделано немало.
Последние дни русич все чаще думал о своем сыне, о Сауроне. Хорошо, что сын вырос здоровым человеком, крепким душой и телом. Одно плохо, слишком редко видит Саурона, два-три раза в году. Конечно, настоятель монастыря ни в чем не испытывает нужды, послушники одевают его, обмывают, ловят каждый взгляд, стараются угадать каждое желание. Но русичу хотелось, чтобы желания эти — пусть не все, пусть самую малую прихоть, — но каждый день исполнял бы его собственный, родной сын, которого он зачал в самое счастливое время, в пору расцвета любви к Аримасе; сын, которому он своими руками помог выйти из чрева матери.
Вретранг поднял глаза на русича, спросил:
— Подскажи, отец Лука, как поступить мне с Николаем. Не тянется он ни к кузнечному делу, ни к скорняжному. Ни пахарем не хочет быть, ни пастухом. За что бы ни взялся — все ему в тягость.
Русич не сразу понял, о чем его спрашивает Вретранг. А когда отступили мысли о собственном сыне, задумался.
— Николай — пытливый мальчишка, — вслух начал рассуждать русич. — Он легко научился понимать эллинов, читать и писать на их языке. А плод познания сладок. И человек, вкусивший его, обязательно захочет плод этот съесть до конца, хотя предела познанию нет. Таких людей не тянет к богатству, живут они, чаще всего, в простоте, едят в меру голода, ходят всю жизнь в одном плаще. Окружающим, они кажутся бесполезными. Однако на них стоит мир. Потому что они накапливают в себе и записывают в книгах мудрость. Если алдары понимают это, то они людей таких берегут, приближают к себе, и сами слывут просвещенными. Лучше с умным камень поднимать, чем с глупым вино пить.
Русич отломил кусочек лепешки, пожевал. Хурдуда и Русудан украдкой посматривали друг на друга, улыбались. Вретранг, опустив голову, думал о беспутном своем младшем сыне. Вретранг не во всем соглашался с русичем, но не перебивал его. А потом все же сказал:
— Ученым стать легко, человеком — трудно. Я не хочу, чтобы сын мой рос эллином.
Русич недовольно вскинул брови.
— А разве Анфаны и Ботар стали эллинами, когда учились у них ремеслу?
Вретранг промолчал.
— Двести лет назад у нас на Руси жил князь Ярослав, а народ до сих пор помнит его. Не военными походами запомнился людям, а тем, что просвещение нес. Народ прозвал его Мудрым. Придя на княжение в Новгород Великий, он тотчас приказал собрать по городам и селеньям триста детей и учить книгам их, ибо велика польза бывает от учения книжного. «Если поищешь в книгах мудрости прилежно, — говаривал князь, — то найдешь великую пользу для души своей». Не противься, Вретранг. Пусть Николай попытается познать мудрость.
— Монахом станет?
— А хоть бы и монахом, так что? Какая беда в том? — повысил голос отец Лука. — Пусть служит богу. Не только эллинам просвещением ведать, слово божие людям нести. Оттого епархия наша и зовется аланскою, что аланы в церквах своих молитву творят. — Русич улыбнулся, легонько тронул Вретранга костылем. — Сравни свой дом с горской саклей. Или храмы епархии. Разве не эллины учили и помогали строить город? Разве не эллинским стеклом вставлены окна твоего дома, которое и свет божий не застит, и тепло сохраняет. Разобьется стекло — и замерзнешь от стужи. Да разве только эти блага принесли тебе эллины.
Вретранг не стал спорить, допил вино. Русудан встала, хотела наполнить рюмку, но русич остановил ее.
— Достаточно, дочь моя. Надо идти, а то пропущу епископа.
Во дворе пир подходил к завершению. Двое монахов уже спали. Остальные еще держались, вместе с Сосланом пели псалмы.
Увидев игумена, отец Юлиан вскочил и, покачиваясь, неуверенно двинулся навстречу.
— От-тец иг-гумен, — заплетающимся языком начал его преподобие, — прошу выслушать меня.
— Правду говорят, что чужое вино пить вкуснее, — укоризненно ответил русич. — Из-за пьянства можно потерять не только честь, но и бога.
— Бог у нас в сердце, он всегда с нами, отец игумен, а в меру услаждать себя вином не грешно. Помоги исполнить волю преемника Христа на земле, святейшего папы римского Иннокентия Третьего. Мы остались без средств, а путь еще длинен. Нам велено найти дикие племена и приобщить их в лоно католической церкви. Ибо сказал Иосиф: «Я ищу братьев моих; скажи, где они пасут».
— Кто насаждает веру мечом, тот поступает неразумно и недостоин помощи православных христиан. Добром на зло отвечают только рабы, запуганные своим хозяином.
— Причем здесь меч? Мы мирные служители церкви.
— А разве не Иннокентий благословил поход крестоносцев на Константинополь? Ваши мечи заставили даже патриарха православной церкви покинуть свою столицу. Знай же: из-за одного гвоздя теряется подкова, из-за одной подковы можно потерять лошадь. А кто делает зло, тот добра не встретит.
Отец Юлиан хотел опуститься перед игуменом на колени, но не удержал равновесия, толкнул его головой в живот.
Разлетелись в разные стороны костыли, охнув, упал и застонал русич.
— Ай-йя! Каналья! — вскричал Вретранг, схватил Юлиана за шиворот и двинул ему кулаком в бок. Юлиан громко икнул и, скорчившись, повалился на землю. — Сослан, Хурдуда, выбросьте этих мошенников на улицу.
Монахов быстро удалили со двора.
* * *
Его преосвященство епископа Феодора встречали у Абхазских ворот. Въездную площадь и широкую поляну за городскими стенами заполнили празднично одетые ремесленники, их жены, дети; пастухи, князья. Особняком, перед самым въездом в город, потеснив толпу, чинно выстроился клир епархии: пресвитеры, принаряженные в новые, расшитые золотом и серебром ризы; монахи и дьяки в строгих, выстиранных по случаю приезда его преосвященства мантиях, тщательно отглаженных кабаньими клыками и дубовыми рубелями.
В центре, у самых ворот, в окружении телохранителей на арабском скакуне важно восседал алдар Кюрджи. Поглаживая черные широкие усы, он то и дело поглядывал на свою обнову, улыбался и тихо переговаривался с князем Бакатаром, прибывшим из Хумары на рыжем, с темными подпалинами, ахалтекинце.
Усталая от долгого ожидания толпа мерно гудела, лениво шевелилась, то растекаясь вдоль дороги по берегу Инджик-су, то опять сбиваясь в кучу на пригорке, посматривала на верх ущелья, откуда спускалась дорога и шумно сбегала по камням река.
Первым из-за леса показался вершник. Он беспрестанно нахлестывал плетью уставшего коня и размахивал белым лоскутом, привязанным на длинную пику, возвещал о приближении торжественного поезда его преосвященства.
Толпа вздрогнула, сгрудилась, потеснила священников, кто-то сдавленно вскрикнул и тут же умолк, затоптанный сапогами, сандалиями, башмаками. Из караульной, поставленной у самых ворот, высыпали одетые в новые байданы — кольчатые железные рубашки — стражники алдара, повскакивали на лошадей, выхватили сабли и оттеснили толпу на место, унесли удушенного, чтобы не портил настроения епископу.
Из-за поворота в сопровождении конной свиты черных монахов показалась карета его преосвященства. Толпа снова взволновалась, задвигалась, устремилась вперед, но стражники опять выхватили сабли и остудили нетерпеливых.
Как только воцарились порядок и благопристойность, из маленькой церквушки, стоявшей почти у самых ворот, вышел русич и, поскрипывая костылями, неторопливо попрыгал к поляне, где намечался выход епископа для благословения паствы. Путь русичу в толпе прокладывал молодой рясофорный монах с рыжей курчавой бородкой.
— Дорогу отцу игумену! Дорогу отцу игумену! — негромко повторял послушник — и люди сами широко расступались, пропуская вперед седобородого, белого лицом настоятеля.
— Отец Лука! — окликнула русича худощавая старуха в темном платке. — Дай тебе бог здоровья.
— А, Русудан? Рад тебя видеть. Как Матярши?
— Спасибо, отец Лука. Уже встает. Поправляется.
— Молись, Русудан, молись. Бог не оставит.
— Отец игумен, — затронул худощавый ремесленник в бараньей шапке и серой короткой курткеу — ты оказался прав. Попробовал я вымочить шкуру, как ты советовал, в отваре дубовой коры — и в самом деле овчина крепкой становится и дождя не боится. Спасибо тебе. Теперь пойдет мой товар.
— Вот и хорошо, Юваши. Только и мою просьбу выполни, пришли сына, пусть поживет в монастыре, поучится росписи. Я думаю, что у него получится.
— Хорошо, отец игумен, пришлю. Хотя, по правде, и сомневаюсь, что польза от этого будет.
— А ты мне доверься.
Алдар Кюрджи заметил русича, приветливо махнул рукой.
— Иди сюда, отец Лука, здесь твое место.
Двое телохранителей князя кинулись помочь игумену, быстро очистили дорогу. И вовремя. Карета епископа была уже совсем близко, и русич мог не успеть пробраться сквозь толпу.
Ради приезда епископа Кюрджи надел самые дорогие свои одежды. На нем был хорошо подогнанный, легкий, отделанный золотом кафтан из алого сиклатуна — иноземной ткани. Салбары, заправленные в новые светло-коричневые сапоги, были сшиты из тонкого и крепкого полотна, вытканного из льна сорта тала-золото. Такое полотно делают только за горами, в Абхазии, и продают по десять динаров за отрез.
Осмотрев одежды Кюрджи, русич перевел взгляд на князя Бакатара. Алдар из Хумары тоже оделся достаточно ярко, как и положено знатному человеку: в куртку и плащ из парчи. Но салбары у него — явно дорожные, из льна сорта дабики, доступного каждому состоятельному человеку. Да и убранство коня князя Бакатара попроще.
Русичу захотелось похвалить сыновей Вретранга.
— Хорош у тебя конь, Кюрджи, а сбруя и попона — просто царские. Искусная работа, — а про себя подумал: «Коза сдохнет, а хвост не опустит».
Кюрджи заулыбался, довольный.
— Все ради величия церкви, отец Лука.
Карета его преосвященства, богато украшенная позолотой и инкрустацией, крестами и распятием Христа, легко подкатила к встречающим. Отец Димитрий, он сидел наверху, рядом с кучером, несмотря на преклонные годы, легко, по-молодецки соскочил с облучка, мельком встретился глазами с русичем, сдержанно кивнул ему, и даже, показалось, улыбнулся глазами, не спеша открыл дверцу кареты, протянул руку его преосвященству.
Не успел епископ выйти из кареты, единым вздохом над толпой пронесся легкий, неясный шум. А кто-то из стоявших позади русича громко и несдержанно удивился молодости нового владыки епархии.
Русич с удовлетворением отметил, что Кюрджи, а следом и другие князья соскочили с коней. Кюрджи и Бакатар подошли вплотную к игумену, остальные — пристроились позади.
Епископ и в самом деле был непривычно молод для своего высокого сана. Русич подумал, что его преосвященству всего лет тридцать пять — сорок от роду. Громким, рокочущим басом он поприветствовал и благословил паству, произнес положенные при этом слова о боге, о верности христову учению. Затем отец Димитрий представил епископу игумена, отца Луку, Кюрджи, Бакатара и других наиболее известных и влиятельных князей и священников.
Его преосвященство внимательно прислушивался к словам отца Димитрия, пристально вглядывался в глаза людям, с которыми его знакомили, и неторопливо, то и дело рассыпая в толпу благословения, следовал к воротам. Несмотря на радушие владыки, русич все же заметил в его глазах скрытое недовольство и настороженность. От этого в сердце русича вкралась тревога. Как новый владыка начнет строить жизнь в епархии, что принесет с собой? Будет ли добиваться примирения враждующих городов и селений, или наоборот, узнав, что здесь язычников не меньше, чем христиан, внесет еще большую смуту? И не только среди паствы, но и в клире, среди священников, если одних вздумает приблизить к себе, а других, напротив, низвести до положения врагов своих.
Постепенно вниманием его преосвященства полностью завладел Кюрджи. Русича оттеснили в сторону. И тут игумену захотелось еще раз посмотреть на карету, заглянуть внутрь ее, потому что давно считал, что вещи, коими человек обладает, лучше всего рассказывают об устремлениях хозяина, о свойствах его души и сердца, раскрывают его суть. Оглянувшись, он увидел, как по той же дороге, по которой только что приехал епископ, к городу приближалась вереница конных и пеших людей. Он предположил, что это отстала часть свиты епископа. Но всмотревшись лучше, узнал караван сарацинского купца и удивился, почему тот надумал возвратиться в город.
Тут подошел отец Димитрий. Воспользовавшись тем, что его преосвященство плотно окружили князья, он вернулся, чтобы обнять русича, своего старого друга, которого не видел около двух лет, со времени отъезда в Константинополь. Позабыв об Омаре Тайфуре, русич сразу начал расспрашивать отца Димитрия о новом владыке: каков характером, почему такой настороженный. То ли недоволен встречей, то ли просто устал с дороги.
Отец Димитрий заверил, что епископ — человек бескорыстный и душевный. Только сильно расстроен из-за того, что вчера во время отдыха в верховьях ущелья, на его глазах вспыхнула драка между двумя горскими соседними селениями, разделенными небольшой речушкой. Люди жестоко и, как показалось его преосвященству, с изуверским наслаждением убивали друг друга. Епископ, отбросив в сторону степенность, носился от сакли к сакле, от села к селу, не обращал внимания ни на свистящие стрелы, ни на звенящие сабли. Как Афина Паллада в образе Ментора утвердила мир между Одиссеем и гражданами Итаки, так и его преосвященство хотел остановить кровопролитие. Но он не бог, а только посланник бога, и ему не суждено сделать того, что под силу было дочери Зевса. По ту и другую сторону реки истекали кровью и мужчины, и женщины, и дети.
Картина, повергшая епископа в отчаяние, сегодня дополнилась новыми впечатлениями. Несколько часов назад владыке снова пришлось вмешаться в стычку, только теперь между телохранителями сарацинского купца и родом Бабахана.
— Бабахана? — удивился русич. — Зачем ему воевать с сарацином?
— Раб у купца сбежал. Бабахан поймал его и не захотел возвратить хозяину. Пора идти, русич, а то его преосвященство хватится нас.
— А сын мой тоже был там?
— Не волнуйся, ни Саурон, ни Бабахан не пострадали.
* * *
В честь приезда нового владыки аланской епархии князь Кюрджи устроил богатый пир. Кроме епископа Феодора, игумена Луки, иеромонаха Димитрия, князь пригласил к себе пресвитеров всех церквей города и князей, прибывших в Аланополис встречать его преосвященство. Во дворе, почти сплошь устланном мягким войлоком, к приходу гостей рабы широким кругом расставили вместительные кувшины с белым и красным эллинским вином, толстые стаканы из светло-голубого и темно-синего, с фиолетовыми наплывами, стекла, начищенные до блеска медные и бронзовые кубки, легкие, выточенные из дерева, кружки, неглубокие глиняные миски с водой. Каждому расстелили белую, хорошо выделанную, мягкую овечью шкуру, положили подушку.
Лишь епископу, как человеку, привыкшему жить в роскоши блистательного Константинополя, да одноногому игумену — весь город знает, что из-за деревянной ноги русич на землю никогда не садится, а заодно самому хозяину и князю Бакатару, могущественному алдару Хумары, — поставили небольшие скамейки и столики на трех ножках.
Получилось так, что все четверо как бы возвысились над остальными гостями, что сразу вызвало неудовольствие горских князей, привыкших быть первыми среди своих сородичей. Впрочем, после проникновенной, дружеской речи алдара Кюрджи, воздавшего хвалу не только епископу, но и каждому гостю в отдельности, после нескольких кружек доброго вина, обида горских князей притупилась, глаза заблестели, а суровые лица разгладила улыбка.
Но Кюрджи понимал, что человек, имеющий на плечах горячую голову, от вина только поначалу добреет. Придет время — у каждого оно разное, меряется не минутами и часами, а количеством выпитого вина — еще с большей силой обострятся чувства, и злость обязательно проявит себя — и тогда держись сосед, кинжал у каждого всегда под руками.
В другое время Кюрджи не останавливал бы такого человека, а наоборот, подбросил бы в огонь сухого хворосту да позабавился. Но в присутствии нового владыки епархии надо было соблюдать пристойность.
Князь незаметно для всех подал сигнал начальнику стражи, и тот под видом новых гостей рассадил между особо ретивыми князьями переодетых в нарядные платья дружинников.
Его преосвященство вина почти не пил, голову имел ясную. Поэтому, помолившись, сразу начал говорить о самом главном, о нескончаемых убийствах в раздираемой междоусобицами Алании. К удивлению князей и священников, епископ Феодор оказался довольно осведомленным и знающим человеком. Многие слушали его внимательно, с интересом. Особенно понравилось то, что епископ никого из присутствующих не выделял, уравнивал всех, каждому проникал в душу, наполнял ее гордостью за самого себя.
— Всем вам Христос дал самое ценное, что может быть у человека, — знатных предков, — сказал епископ. — А если предки были прекрасны, добры и справедливы, то и потомки их должны быть доблестны, великодушны и благородны. Вот почему Христос дарует вам блага, но и требует от вас много. Он вверил вам жизни ваших подданных и рабов, дал вам власть над другими людьми. И вы, следуя учению Христову, должны умело распоряжаться этой властью, в полной мере владеть чувствами добра и зла. Мудрый правитель — непогрешим, ибо не подвержен ошибкам. Путь его — уклонение от зла. Это значит, что каждый из вас не должен приносить вред ни своему, ни чужому роду. Но мудрый правитель не знает и снисхождения к убийце и вору, нарушившему закон. Ибо послабление, жалость и уступчивость тоже приводят к беззаконию. Истинно и другое: погибели предшествует гордость, падению — надменность. Только в справедливости вы можете обеспечить безопасность своих подданных и подданных алдаров соседних селений и городов. Только при таких условиях в Алании наступит мир и счастье.
Его преосвященство обратил внимание, что люди уже не слушают его: одни пьют вино, другие — разговаривают. И тут он понял, что они просто невежественны и ничтожны. Поэтому решил закончить свою короткую проповедь.
— И запомните, дети мои, слова господа нашего! — возвысил голос епископ и подождал, пока стихнет шум и все князья повернут к нему головы. — Господь бог сказал: «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, то и я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. И будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами».
Гости притихли. Слишком страшными карами грозился епископ. Но два богатых князя из ущелья Кяфара по-своему восприняли проповедь его преосвященства. Сначала тихо и мирно они попытались выяснить, чей род более древний и знатный, кто из них ближе стоит к великим в прошлом царственным фамилиям Алании. Потом голоса их окрепли, глаза сузились, руки опустились на рукояти кинжалов. Дружинники не стали ждать, когда установится истина, заломили обоим князьям руки за спины и, не церемонясь, вытолкали за ворота.
Все произошло настолько быстро, что его преосвященство ничего не понял. А Кюрджи, увидев, что остальные гости сразу замолчали и опустили головы, постарался замять неловкость, предложил посмотреть танцовщиц, которых ему привезли из Константинополя.
— Ведомо ли тебе, князь, что дьявол побуждает девиц к пляске, подталкивает их в спину, тем и заполучает их черную душу? — спросил епископ. — Пьянствуя и увлекаясь обольстительными зрелищами, человек теряет духовную и телесную мощь, ввергает свою душу в ад.
— Я понимаю, твое преосвященство. Однако и константинопольские базилевсы не боятся услаждать себя зрелищами, содержат танцовщиц. И святое писание не отвергает сего. Когда Давид убил Голиафа и нес его отрубленную голову, то женщины израильских городов встречали его «с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами».
Кюрджи поднял руки, три раза хлопнул в ладоши — из небольшой пристройки к дому выскочили два музыканта с зурной и барабаном. Плавно потекла мелодия. Сначала тихо, будто настраиваясь, а потом все громче и зажигательнее застучал бубен. Из той же пристройки выпорхнула танцовщица. Ступая мелкими шажками, на носках, слегка покачивая бедрами, она легко плыла по войлоку, по широкому кругу, очерченному яствами и напитками, перед удивленными князьями, уставившими на нее свои горящие сластолюбием глаза.
Ее рыжие волосы, стянутые тонким серебряным обручем, огненными языками струились по гибкой спине и спадали до пояса поверх ярко-красной, словно напитанной кровью, полупрозрачной туники. Танцовщица вошла в середину круга и закружилась на месте. Гости, очарованные явившейся к ним Терпсихорой, завороженно смотрели на плавные движения ее тела, слившегося с музыкой, на ее оголенные руки, будто парившие в воздухе. Каждому из князей казалось, что танец исполняется только для него, поэтому каждый привстал, подался вперед, и в эти минуты все забыли о епископе, о хозяине дома, о врагах, о друзьях, обо всем на свете. Были только музыка и она, эта прекрасная Терпсихора.
Между тем возбуждение нарастало. Музыка звучала громче, ритмичнее, движения танцовщицы стали еще ярче, темпераментнее.
И вдруг все остановилось. Умолкла музыка. Замерла танцовщица. Она застыла всего на одно мгновенье. И вот она уже быстро побежала по кругу, улыбающаяся, довольная успехом. Не останавливаясь махнула рукой музыкантам. Но теперь на удивление всем, девушка уже не танцевала, в такт музыки она делала гимнастические упражнения. Сначала простые, потом все сложнее и сложнее. Временами она откидывалась назад, касаясь руками земли, выпрямлялась, склонялась вперед, была настолько гибкой, что порой складывалась вдвое, а потом и вовсе колесом покатилась по кругу, остановилась, встала на руки, потом опустилась на грудь, закинула ноги себе за голову, ступни ног ухватила руками.
На миг умолкла музыка. Князья притихли, вожделенно смотрели на «женщину без костей».
И опять грянули ритмы. И снова, вскочив на ноги, поплыла по кругу танцующая гетера. И тут вспорхнула на войлок — никто даже не заметил, откуда взялась — еще одна танцовщица, одетая в голубую тунику. Эта была с двумя длинными мечами в руках и двумя на поясе. Первая подскочила ко второй, выхватила два меча, откинулась назад и острыми концами установила их у себя на груди, поверх плотного лифа. Балансируя мечами, она раскинула руки в стороны. Вторая танцовщица подала ей еще два меча; та, держась за рукояти, а концами упершись в войлок, скрестила под собой мечи, оперлась головой на перекрестие и, продолжая балансировать мечами на груди, оторвала ноги от пола и медленно подняла их вверх.
Еле слышно, будто боясь помешать опасному трюку, играли музыканты, плавно кружилась в танце голубая гетера. Все, кто был во дворе, затаили дыхание. Наконец та, что в голубом, сняла с груди первой танцовщицы мечи, она встала, задорно ударил барабан и, покружив перед князьями, гетеры скрылись в пристройке.
Князья восторженно кричали. Кюрджи расплылся в улыбке, довольный произведенным эффектом.
Епископ нахмурился. Он хоть и не решился прервать танец Саломеи, но выговорил князю:
— Тебе надо бы знать, Кюрджи, что танец греховодной, обольстительной Саломеи, падчерицы Ирода-Антипы, послужил причиной мученической смерти Иоанна Крестителя. Сказано у Матфея: «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя… И принесли голову его на блюде, и дали девице; а она отнесла матери своей».
Кюрджи на это ничего не ответил, лишь опустил голову.
Игумену вспомнилось песнопение Басили Хандзтели «Об усекновении главы Иоанна Крестителя», которое он слышал в церкви, когда жил в Грузии. Игумен сказал об этом епископу и тот пожелал послушать.
Русич откашлялся и нараспев прочел:
Тогда та женщина, Совратительница, Вошла в круг опьяневших, Которые веселились, как актеры, Так что недостойно было даже их видеть, И она танцевала Среди сидящих, Обезумевших от вожделения. И был Желанным царю этот танец. И сказал ей: «Проси, чего хочешь от царя…» Исполненные дьявольской страсти, Эти две змеи, Точащие смертельный яд, Завистью и низким умыслом Посредством сигода Погубили Иоанна.Снова вышли музыканты, приготовились танцовщицы. Но, чтобы не навлекать на себя гнев его преосвященства, Кюрджи решил увести его в дом.
— Пировать в гостях у горца и не побывать в его доме — все равно, что приехать в Аланию и не увидеть ее, — добродушно сказал он епископу и повернулся к русичу и отцу Димитрию. — Прошу и вас, святые отцы, пройти с нами. Сейчас снова выйдут танцовщицы и, боюсь, вы будете себя чувствовать неловко. Пускай князья развлекаются.
Кюрджи встал, сделал шаг по направлению к дому, но тут же остановился, положил руку на плечо алдару из Хумары.
— Бакатар, друг мой, ты с нами пойдешь или останешься?
— Я позже прийду, Кюрджи, хочу еще посмотреть на твоих красавиц.
Русичу не хотелось идти в княжеский дом. И не потому, что не очень жаловал алдара. Последние дни тяжело стало подниматься на костылях по ступеням. А уходить совсем, когда епископ еще оставался здесь, тоже нельзя.
* * *
Как он и предполагал, Кюрджи повел их сразу на второй этаж. С трудом взобравшись на лестницу, русич оглянулся. Пресвитеры чинно покидали пир, князья рассаживались свободнее.
Все четыре комнаты второго этажа княжеского дома изнутри были оштукатурены и выбелены известью, слегка подкрашенной светлой лазурью. Вдоль глухих стен на широких скамейках стояли сундуки с одеждой. Выше сундуков — полки, заставленные глиняной, медной и серебряной посудой. Последняя, четвертая комната, центральное место которой занимал до блеска начищенный медный котел, подвешенный на очажной цепи, резко отличалась от остальных. Стены ее почти сплошь покрывали дорогие персидские ковры, поверх них — украшенные золотом и серебром сабли, кинжалы, лук с золотыми накладками, колчан со стрелами.
В углу стояла низкая, широкая, со скошенными спинками, кровать, прикрытая войлочным ковром. Рядом, на деревянных козлах, аккуратно сложена постель князя: набитые шерстью матрацы и подушки, прикрытые яркой шелковой тканью.
Потолок комнаты подпирало толстое бревно, орнаментированное символами огня и солнца: крестами, кругами, розетками и завитками. Капители столба, сделанные в виде пышной короны, нависали над очагом, будто укрывали его от злых духов.
Тут же стоял круглый столик на трех ножках, низкие скамеечки и княжеское кресло с высокой резной спинкой и подлокотниками. На столике — широкие изящные стеклянные рюмки на длинных ножках, кувшин с вином, фрукты в ажурном берестяном лукошке.
Кюрджи то и дело посматривал на епископа, ждал похвалы, не терпелось насладиться изумлением гостя, пораженного убранством комнаты. Но его преосвященство на роскошь не обращал внимания. Уставший, он сразу опустился на скамейку, взял в руки яблоко, откусил и медленно начал жевать пропитанную солнцем, пахнущую медом чуть кисловатую мякоть.
Кюрджи разливал вино и при этом как-то странно улыбался. Русичу показалось даже, что князь или позабыл, или совсем потерял интерес к гостям, и задумался о чем-то своем. И это свое было настолько ему приятным, что он не мог сдержать улыбки. Наполнив рюмки, Кюрджи не поставил кувшин на стол, так и держал его обеими руками на уровне груди, а сам повернулся к очажной цепи и, продолжая улыбаться, смотрел на нее долго, будто читал молитву. Кюрджи и в самом деле про себя читал благодарную молитву Сафе, богу очага и очажной цепи. Губы его чуть шевелились и оттого длинные пышные усы князя вздрагивали, топорщились.
— Князь, — обратился к хозяину епископ.
Кюрджи вздрогнул, отнял от кувшина правую руку и растопыренными пальцами сверху вниз провел по всему лицу, убрал улыбку, поставил кувшин на столик и повернулся к епископу.
— Я слушаю тебя, владыка, — мягко, почти заискивающе произнес Кюрджи и сел в кресло. Владыка молчал, поэтому Кюрджи низко наклонил голову, стараясь заглянуть в глаза его преосвященству.
— Князь, — повторил епископ, — среди пирующих, там, во дворе, есть ли зависимые от тебя люди?
Кюрджи удивленно поднял брови и рассмеялся.
— Все мы зависим только от бога, твое преосвященство, — он руководит нашими помыслами.
— А люди, на которых ты мог бы положиться, друзья твои, есть среди пирующих?
Кюрджи задумался, взял рюмку, отпил глоток, поставил ее на место.
— Вопросы твои настолько неожиданны, что я затрудняюсь ответить. А главное — не могу понять ход твоих мыслей.
— Видишь ли, князь, едва я вступил в пределы Алании, сразу столкнулся с убийствами. Мне показалось, что жизнь человеческая стоит в этой стране не очень дорого.
— Это уж точно, — подтвердил русич. — Если сосед заимеет доброго коня или саблю дамасской стали, а то и просто хороший кинжал — сразу наживет себе врагов. Я много прожил в этих горах и знаю: если в доме погибнет мужчина, то оплакивают его жена и дети, да мать с отцом. Но если недруги из соседнего рода, убив человека, заберут его оружие, то стенает все селение.
Кюрджи никак не отреагировал на слова игумена. Для него — чьи одежды богаты, тех и речь чтима.
— Все, кто сейчас находится в доме, — гости. Я не могу сказать ничего плохого о них. Исстари заведено: хозяин — слуга гостя. Все они люди свободные, никто ни от кого не зависит. А что касается друзей, тут я затрудняюсь ответить. Пожалуй, на Бакатара я вполне мог бы положиться. И еще, — Кюрджи задумался, — Худу-Темур, алдар из низовьев Инджик-су. Он привел мне в подарок десять скакунов.
— А сам-то ты богат? — спросил епископ.
Кюрджи улыбнулся, окинул взглядом ковры, оружие.
— На моих пастбищах нагуливают пять табунов и шесть тысяч овец. И в рабах я не испытываю недостатка, сколько нужно, столько и возьму себе. У меня самая сильная дружина…
— В этой стране, твое преосвященство, — перебил князя русич, — всякий без труда скажет, сколько у него овец, но не каждый может назвать, сколько он имеет друзей. Это только кажется, что богатым все люди друзья.
Кюрджи бросил недовольный взгляд на игумена, но тут же улыбнулся.
— Чем богаче алдар, тем сильнее его дружина, а значит, — тем больше его влияние.
— Все было бы хорошо, — сказал епископ, — если бы это влияние способствовало порядку в стране, распространению православной веры, а не убийствам и грабежам.
— Лучше быть нищим, чем невеждой, — вставил слово отец Димитрий. — Потому как первый всего-навсего лишен денег, а второй — образа человеческого.
— Не в том дело, отец Димитрий, — епископ повернулся к иеромонаху. — Я хочу знать, есть ли возможность в Алании перейти от междоусобиц к единству, от безвластия к строгому порядку, к подчинению человека человеку по законам, установленным правителями, как это делается в лучших государствах, как это и было в Алании при Дургулеле Великом. В Константинополе патриарх всей православной церкви Герман II давал мне читать записки о том далеком времени.
— Нет, это невозможно, — сказал Кюрджи. — Любой из алдаров, если он вздумает подчинить себе других, встретит противодействие. Тогда уж и вправду кровавые реки заполнят ущелья, зальют долины, как вода затопляет их по весне. Быстрее рыба на тополь влезет, чем алдар добровольно подчинится другому алдару.
— А разве лишь оружию под силу установить твердую власть? — нахмурился епископ. — Разве князья не в силах договориться между собой и ради отчизны пожертовать своей вольницей? Я не вижу большой разницы между царской властью и любым другим правлением. Еще древние говорили, что не обряды и законы сами по себе могут помочь государству, а лишь люди, которые ведут народ, куда пожелают. Если они ведут его хорошо, то и обряды, и законы полезны, если плохо, то бесполезны. Тот, кто хочет приказывать, сначала сам должен научиться повиноваться. Повиноваться не по принуждению, не из-за страха, страх — это удел рабов, повиноваться сознательно, пользы ради своего отечества. В этом и церковь станет на сторону князей, поможет им держать народ в повиновении. Сила любой страны в единстве. Разве тебя, князь, не беспокоит нашествие монголов, беспощадно уничтожающих на своем пути саклю раба и божий храм, мужчин и женщин, стариков и детей? Огненным смерчем они прошли по Грузии и степной Алании, в прах повергли храмы господние.
— Монголы — степной народ, в горы они не пойдут. Да и вряд ли сумеют воевать они в наших ущельях. Нет, монголы не страшны горцам, — сказал Кюрджи и снова погрузился в свои мысли.
Взглянув на лук, висевший на ковре, князь улыбнулся. Он хотел было рассказать епископу, что недавно, месяц назад, встречался с тайным монгольским послом, который как раз и подарил ему этот щедро украшенный золотом лук. И ничего страшного в том низкорослом госте Кюрджи не нашел. Вполне обходительный человек. Может быть, слишком небрежен в одеждах и нечистоплотен. Чем-то скотским от него несло. Ну да бог с ним. Он же не женщина.
* * *
Посол Бутхуу прибыл в город, когда солнце закончило свой дневной путь и опустилось на вершину Мицешты. Монгола сопровождали дружинники князя Худу-Темура и двадцать половецких воинов. В тот вечер Кюрджи как раз и узнал о поражении аланов в степях между Тереком и Кумою.
Перед нашествием татаро-монгольских туменов под предводительством Джебе и Субудай-багатура низинным аланским князьям удалось привлечь на свою сторону большую орду половцев, поэтому в первые дни сражения ни той, ни другой стороне не удалось добиться победы. И тогда татары направили своих людей к половцам, чтобы сказать: «Мы и вы одного рода, а эти аланы не из ваших, так что вам нечего помогать им; вера ваша не похожа на их веру, и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд сколько хотите; оставьте нас с ними».
Половцы соблазнились и потребовали от татар не только одежды и денег, но и много скота и лошадей. Татары не торговались, отдали все, что те просили. А как только половцы откочевали в глубь Дешт-и-Кыпчака, в глубь своих степей, напали на алан, разграбили и предали огню их села и города, часть людей истребили, часть забрали в полон и сразу двинулись на тех же самых половцев.
Главный половецкий хан, Юрий Кончакович, раскаялся в своей измене, но было уже поздно. Татары схватили не только его, но и хана Данилу Кобяковича, их вельмож и всех умертвили. Остатки половецких войск татары гнали до берегов Сурожского моря.
Джебе и Субудай-багатуру покорились все народы, которые попадались им на пути. И все это предопределено богами: большие рыбы едят маленьких.
Бутхуу, скрестив ноги, сидел напротив Кюрджи, держал на коленях отделанный золотом лук и наслаждался впечатлением, которое произвел на алдара его откровенный рассказ. Кюрджи побледнел. И нельзя было понять отчего: то ли от страха, то ли от негодования.
В те минуты Кюрджи больше всего волновало, почему половцы и аланы оберегают жизнь этого грязного коротышки, соплеменники которого столько принесли несчастья обоим народам.
Монгол словно прочитал мысли алдара, усмехнулся:
— Те из вождей половецких и аланских, кто честно и покорно склоняет голову перед непобедимыми монгольскими ханами и помогает им разбить строптивых соплеменников, получают большие награды. Прими и ты, князь, этот великолепный лук. — Монгол бережно, обеими руками поднял сверкающий от всполохов лампады тяжелый лук и протянул Кюрджи. — На нем столько золота, сколько стоят все твои табуны.
— Откуда тебе известно, сколько у меня лошадей? — удивился Кюрджи.
— Если бы я ничего не знал о тебе, то не сидел бы с тобой рядом. Война с аланами еще не закончена, покорена только небольшая часть этой страны. Основное еще впереди. Я не могу сейчас точно сказать, когда мы обратим победоносный меч на головы князей, поставивших ногу состязания на черту сопротивления. Может быть, это случится не скоро. Но ты уже сейчас должен знать о неизбежной гибели страны и быть готовым поступить на службу к Великому хану. Может быть, ты пожелаешь со своей дружиной и всеми своими людьми переселиться на восток, в Монголию, или в Поднебесную страну, покорную монголам, — в Китай? Аланы — хорошие воины, они нужны монголам и на востоке, чтобы усмирять тех, кто вздумает поднять голову против Великого хана. Подумай, князь. Там тебя ждет богатство и слава. А пока живи здесь. Когда потребуешься, я сам приду к тебе, или пришлю человека. — Монгол встал и приказал: — А теперь возьмись рукою за очажную цепь и поклянись Сафе до конца жизни быть верным Великому хану.
И Кюрджи поклялся. Он и сейчас не жалел об этой клятве, но рассказывать о ней кому-либо считал излишним. Еще неизвестно, как все обернется.
* * *
Услышав шум в соседней комнате, все четверо подняли головы и повернулись к двери. Там стояли Бакатар и сарацинский купец Омар Тайфур.
Епископ Феодор поморщился, ему не хотелось прерывать начатый разговор, да и видеть сарацина, затеявшего стычку с племенем Бабахана, не доставляло удовольствия. Кюрджи, наоборот, обрадовался возможности покончить с неприятной для него темой. Хозяин дома встал и приветливо протянул руки навстречу купцу.
— Я рад, что ты решил еще погостить в нашем городе, — сказал он, обнимая Тайфура. — Твое преосвященство, — Кюрджи повернулся к епископу, — позволь мне представить тебе моего друга — это самый богатый купец из Трапезунда, Омар Тайфур.
— К сожалению, мы уже встречались, — недовольно буркнул епископ.
— Да? — поразился Кюрджи. — Когда же вы успели?
Епископ промолчал. Отец Димитрий решил внести ясность.
— Если бы карета его преосвященства появилась перед спуском в ущелье Инджик-су несколькими минутами позже, то по вине купца могла пролиться кровь племени Бабахана, которому ты, Кюрджи, покровительствуешь.
— Бабахана? Я как-то слышал об этом человеке. Еще мой отец разрешил ему поселиться в одном из соседних ущелий. Бабахан исправно платит мне дань. Правда, дань эта не так велика, как мне хотелось бы. А что случилось?
— У меня сбежал раб, князь, а Бабахан поймал его и присвоил себе, не хочет отдавать, — ответил Тайфур.
— Смотрите, какой наглец! — возмутился Кюрджи. — Надо бы его проучить. Ну и Бабахан, козел бородатый, зна-а-ает, что много денег честно не заработаешь.
— Если бы все дело было в бороде, — усмехнулся сарацин, — то козел раньше всех стал бы шейхом.
— Скажи, Тайфур, — поднимая с пола костыли обратился русич к купцу, — если бы ты случайно не встретил Бабахана, то возвратился бы с караваном обратно в город?
— Нет, конечно. Проводник меня торопит, погода портится. Он боится, что на перевалах в неурочный час выпадет снег.
— Зачем же тебе упускать время из-за несчастного раба? Выпадет снег — и ты можешь потерять еще больше. Я в этом убедился на собственном опыте, — русич выразительно постучал костылем по своей деревянной ноге. — Понял, о чем веду речь? Лучше один воробей, которого держишь в руке, чем тысяча птиц, летящих по воздуху.
Купец не удостоил игумена ответом, обратился к Кюрджи:
— Прошу тебя, князь, прикажи вождю рода возвратить беглеца, он подал дурной пример остальным рабам моим. Ты же знаешь, что свое имущество каждому дорого. Я в долгу не останусь.
— Это не так просто, дорогой Тайфур, тут не приказывать надо, посылать дружину…
— Не делай этого, князь! — воскликнул русич. — Я хорошо знаю Бабахана. Человек он честный, коль не отдает раба, то имеет на то причину. Получит купец раба, нет ли, но десятки людей погибнут. Не забывай, что копающий яму под ближним своим — упадет в нее.
Епископ поднялся со своей скамейки и подошел к Кюрджи.
— Об этом я и толковал тебе, князь. Страна нуждается в твердой власти, в неукоснительном соблюдении законов. Может быть, и стоило наказать Бабахана, но надо ли это делать ценою жизни других людей? Я сам видел как люди бросились на защиту седого, с трудом взбиравшегося на гору человека. Так защищают не раба, а родственника, если не больше.
Кюрджи растерялся. Он не ожидал, что в это дело вмешается епископ. Князю хотелось выглядеть перед ним добрым и в то же время строгим правителем, как того и хотелось его преосвященству. Но и терять себя в глазах купца, а тем более Бакатара, тоже не следовало.
— Я понимаю отца Луку, — улыбнулся Кюрджи, — но жаль, что он думает лишь о своих интересах, — и повернулся к игумену. — Ты боишься за своего сына, святой отец? Это правда, что он женат на дочери Бабахана?
Епископ удивленно поднял брови, внимательно посмотрел на русича, потом перевел взгляд на отца Димитрия и спросил:
— Это не тот ли чернобородый, который выбил саблю у телохранителя Тайфура? Я еще удивился, почему этот светлолицый поступил так благородно, не зарубил своего противника.
Иеромонах молча кивнул головой.
— Отец игумен, — обратился епископ к русичу, — утром пошли послушника к Бабахану или вызови его к себе. Пускай отдаст купцу то, что принадлежит ему. Именем церкви принуди вождя племени возвратить раба хозяину, — и тут же повернулся к Кюрджи, — а тебя, алдар, Христом богом прошу, береги людей, не допускай кровопролития. Кто знает, может быть, им еще придется сложить голову за свободу своего отечества, за веру православную. Но та война будет угодной богу. Мы — христиане, и не можем допустить, чтобы язычники разграбили храмы господние. А ради… — его преосвященство не договорил, только с презрением посмотрел на сарацина.
* * *
Вскоре священнослужители покинули дом Кюрджи. Русич, опечаленный случившимся, попрощался с его преосвященством и направился к Вретрангу.
Конечно, ему можно было, как и советовал епископ, послать к Бабахану монахов. Но русич знал, что дело это — бесполезное, посланник церкви еще больше возмутит язычника. Только сам он, да еще Вретранг, способны уговорить вождя отдать раба сарацину.
Несмотря на то, что солнце еще не скрылось за гору, город уже затих, людей на улицах стало меньше, идти было свободно. В переулке, соединяющем улицу Эллинов с Монастырской площадью, русич наткнулся на дружинников князя, они сразу вызвались проводить игумена к Вретрангу.
— Хоть и опустел город, — сказал старший, — но ходить одному опасно, святой отец. Можно нарваться на пьяниц, а тем недолго и убить, не посмотрят на сан священника.
Дружинники напрашивались подождать игумена у ворот Вретранга, чтобы сопроводить обратно, но русич отказался, успокоил их тем, что будет находиться под защитой сыновей своего друга, а если засидится допоздна, то здесь и заночует.
Русич попал к ужину. Большая семья, густо облепив котел с варевом, дружно вытаскивала оттуда горячее мясо. Сыновья то и дело подтрунивали друг над другом, смеялись. У котла не было только Анфаны, он давно ушел к Кюрджи пришивать колокольцы, и русич удивился, что не встретил его в доме князя.
Вретранг отложил хлеб, вытер руки, встал и вынес из мастерской скамейку для русича.
— Каждый раз, когда ты уходишь из моего дома, мне хочется спросить: зачем? А когда возвращаешься, то пытаюсь догадаться, с чем ты пришел.
Русич рассказал.
— Жаль Бабахана, — тяжело вздохнул Вретранг. — Все это для него может закончиться плохо. Воевать с Кюрджи — бессмысленно. Хорошо бы уговорить Бабахана возвратить раба Тайфуру.
— Ты считаешь, Бабахан согласится?
Вретранг пожал плечами.
— Если бы мы поехали к нему вдвоем, то, может быть, и удалось уговорить его.
— Куда мне сейчас в горы, силы не те. Передай Бабахану, что я очень прошу его покориться князю. Не пойму, чем ему приглянулся раб этот?
Анфаны возвратился в сумерки. Сильно встревоженный, он сразу подошел к отцу и игумену.
— Отец, Бабахану грозит беда, надо помочь ему, — с ходу выпалил Анфаны. — Я работал в конюшне князя и случайно узнал, что Кюрджи в коморе, за перегородкой, прячет Черное ухо. Помнишь, ты как-то рассказывал о нем?
— Черное ухо? — переспросил Вретранг. — Давно я ничего не слышал об этом убийце и грабителе, думал, что его в живых уже нет. Откуда он взялся?
— Не знаю, отец.
Русич нахмурился и опустил голову, вспомнилась смерть Аримасы.
* * *
Черное ухо появился у Кюрджи сразу после отъезда монгольского посла. Его привез Худу-Темур и попросил спрятать на время, пока народ в низовьях Инджик-су не позабудет о его делах.
— Черное ухо — незаменимый человек, если надо выследить и незаметно убрать врага или провернуть любое щекотливое дело, где не должно упоминаться честное имя князя, — пояснил Худу-Темур. — Один только недостаток у Черного уха — слишком приметен.
Кюрджи приютил убийцу, но установил строгое правило: Черное ухо должен покидать княжеский дом и возвращаться обратно только ночью. И даже в таких условиях никаких самостоятельных действий Черному уху предпринимать не разрешалось. Лишь один раз, возвращаясь из поездки в Абхазию, Черное ухо, загнав своего коня, без ведома князя украл жеребца у Саурона, когда племя отмечало праздник Священного дуба.
* * *
— Послушай, Черное ухо, у тебя есть поблизости надежные люди? — услышал Анфаны сквозь тонкую перегородку в конюшне голос князя.
— Человек пять — шесть найдется.
— Нет, Черное ухо, этого мало.
— Что поделаешь, князь, слишком много времени прошло с тех пор, как я был хозяином в здешних ущельях. В те годы тебя еще на свете не было. А что, предстоит серьезное дело?
— Да.
— В таком случае постараюсь уговорить каждого из пятерых привести по пять своих кунаков.
— И этого мало, — сказал Кюрджи.
— Вот это да! — поразился Черное ухо. — Но людей больше у меня нет, придется просить помощи у Худу-Темура.
— Он уже спит, слишком много выпил. Обойдемся без него. Вот что, — подумав, сказал Кюрджи. — Ты знаешь Ашина, моего дружинника?
— Ашина не знает только тот, у кого денег нет, — усмехнулся Черное ухо.
— Вот тебе кошелек, здесь полсотни золотых монет. Не надо высыпать деньги, кошелек принадлежит купцу, Омару Тайфуру. А у денег глаз нет. Монеты можешь отдать Ашину вместе с кошельком. Так даже лучше. Золотым ключом и крепость откроешь. Пусть он тайно от меня подберет пятьдесят дружинников и утром приведет их к ущелью Черных пещер. Туда же подойдут и десять телохранителей Тайфура. Ты со своими людьми должен добраться раньше всех. И вот еще что. Каждый пусть закроет лицо повязкой, чтобы никто не узнал моих людей. И проследи, чтобы в пещеры никто не входил. В одной из них я буду с купцом, чтобы точно знать, что у тебя все в порядке.
— Значит, у меня будет около сотни человек? Теперь говори о деле, князь.
— Знаешь, где расположено селение Бабахана?
— Примерно.
— Можешь уничтожить его полностью, — милостиво разрешил Кюрджи. — Все, что найдете там, ваше.
— Велика ли твоя доля, князь?
— У Бабахана скрывается беглый раб сарацинского купца Омара Тайфура, надо возвратить его хозяину. А что касается Ашина, хорошо, если его настигнет стрела Бабахана. Что делать с остальными, после придумаем. С человеком всякое случается в жизни.
— Я твоих дружинников вперед пущу, и еще не известно, сколько их уцелеет.
— Вот, пожалуй, и все, — сказал Кюрджи. — Как стемнеет, сразу уходи, потом найдешь возможность вызвать к себе Ашина.
— А может быть, проще ограбить самого купца, князь? Он же не родственник твой?
— Нет, Черное ухо, — Кюрджи помолчал минуту, потом сказал: — Впрочем, если за пределами моих владений, где-нибудь за перевалом, то можно. Потом сговоримся.
— Ты не сказал о своей доле, князь.
* * *
Анфаны больше не стал прислушиваться. Потихоньку свернул попону, собрал инструменты и выскользнул во двор. Князя он еще долго ожидал у пустого, полуразрушенного сарая, откуда хорошо были видны и вход в комору, и дружинники, столпившиеся у ворот, и гости Кюрджи, уснувшие на подушках рядом с остатками пищи.
Закончив рассказ, Анфаны присел напротив отца и игумена.
— Надо предупредить Бабахана, отец, — к этому времени Анфаны уже справился с волнением, говорил спокойно и рассудительно. — Разреши мне поехать к нему с Сосланом.
— Никуда ты не поедешь, без тебя управлюсь. Если хочешь жить, то ни одна душа больше не должна знать то, о чем ты сейчас рассказал нам. Кюрджи не такой простак, чтобы не догадаться, кто его подслушал. Ужинай и ложись спать.
— А если ночью пробраться к Черным пещерам, подкараулить князя и убить его? — спросил Анфаны.
— Скорее всего Кюрджи сам туда не поедет, пошлет кого-либо. А если и решится на это, то отправится к пещерам с хорошей охраной, вперед себя пустит верных людей. Скажи Хурдуде, чтобы седлал двух лошадей. Мы с ним поедем к Бабахану.
Анфаны позвал Хурдуду и отправился в конюшню.
— Пора и мне уходить, Вретранг, — русич с трудом поднялся со скамьи. — Устал я сегодня, напрыгался. А надо еще повидать Кюрджи и Тайфура. Иначе не отменят налет на селение Бабахана. Могу я заверить их, что раб будет доставлен во двор князя?
— Конечно, только не утром, отец Лука. Так быстро нам не управиться. А к полудню, пожалуй, вернемся. — Вретранг проводил игумена до калитки. — Если возможно, отец Лука, не говори князю, что я поехал за рабом. Мне еще жить в этом городе, а Кюрджи злопамятен, найдет возможность свести счеты, если помешаем разграбить Бабахана.
— Хорошо, Вретранг. Скажу, что послал монахов. У тебя где-то валяются мои старые сутаны, если целы, накиньте их на себя. Вдруг Кюрджи вздумает поинтересоваться, кто вечером выезжал за ворота. В полдень я вышлю к лесу послушников, им и передашь несчастного, — русич тяжело вздохнул, перекрестился и сказал: — Не пойму, чем прогневил бога, что опять он на пути моем Черное ухо поставил? Один камень, а много, наверное, еще горшков перебьет. Тревожится сердце мое о Сауроне. С самого рождения над ним тень Черного уха витает.
6. Встреча
Хомуня стоял на самом верху, за седловиной, и смотрел, как карета епископа удаляется вниз, к ущелью Инджик-су. Он шептал благодарную молитву Одигитрии-путеводительнице, внявшей, наконец, просьбам страдающего раба своего, потерянного в этих диких горах, вдали от родных зеленых равнин. Она вырвала из чрева адова его страдающее тело, вознесла на гору и поставила перед ликом солнца, согревающего его ослабевшие члены.
Хомуня тяжело вздохнул, перекрестился и снова бросил взгляд на карету слуги господнего. Подобно архангелу епископ появился здесь в самую трудную минуту, словно на крыльях вылетел из своей колесницы и бесстрашно, с высоко поднятым крестом, сияющим на солнце золотым распятием, встал между телохранителями Тайфура и воинами рода Бабахана. Велика сила у этого человека, коль не только христиане, но и язычники опустили мечи свои и разъехались всяк в свою сторону.
Карета епископа уже скрывалась за поворотом, за сине-зелеными волнами, навеки застывшими перед мрачными зубьями каменных утесов, нависших над черными пастями пещер.
Соплеменники Бабахана с добрыми, веселыми криками вытаскивали наверх телегу с зерном. Рабы Омара Тайфура, пропустив карету его преосвященства, присели обок дороги, опершись на вьюки натруженными спинами. Сам купец, окруженный телохранителями, о чем-то переговаривался с проводником, то и дело взмахивал рукой, поглядывал в сторону Хомуни. Потом обернулся к Валсамону, стоявшему позади своего хозяина, — и у дороги захлопали бичи, носильщики взвалили на себя вьюки, погонщики подбежали к ослам и мулам. Караван нестройно зашевелился и вскоре повернул в обратный путь, вниз, туда, где скрылась карета епископа.
К Хомуне подошел Бабахан, улыбнулся, слегка притронулся сухощавой ладонью к плечу бывшего раба.
— Не вешай носа, Хомуня, беда миновала.
— Так ли?
Если бы Омар Тайфур повел караван вверх, к перевалам, то Хомуня согласился бы с Бабаханом. Но купец неспроста решил возвратиться в город. Значит, не смирился с потерей. Теперь одному богу известно, что он задумал.
Бабахан нахмурился. И когда Саурон подошел к нему и сказал, что обозу ничто уже не грозит, и предложил, не теряя времени, отправиться в Аланополис, Бабахан так посмотрел на своего зятя, что тот стушевался, недоуменно пожал плечами и отошел в сторону. Но все же, когда обоз тронулся в путь, Саурон снова подъехал к Бабахану, попытался убедить.
— Вспомни, ты сам обещал моему отцу приехать. Он ждет, наверное, волнуется. Мы опаздываем.
Бабахан к тому времени успокоился, по-доброму объяснил Саурону положение и сказал, что сегодня они никуда не поедут, надо выждать время и быть готовым ко всякому.
Хомуня ехал позади Бабахана и Саурона и не прислушивался к их разговору, полностью утонул в своих заботах, пытался в бурном потоке тревожных дней отыскать свою стремнину, свой ковчег, который вынес бы его к тихому берегу.
Его настроение, наверное, каким-то образом передалось и другим людям, в обозе постепенно прекратился смех, все умолкли, и лишь давно не мазанные дегтем колеса громко пели тонким, режущим скрипом, разгоняя тишину уснувшего полуденного леса.
Хомуня начал уже дремать, и тут ему показалось, будто кто-то из женщин негромко позвал его. Он вскинул голову, оглянулся и с недоумением пожал плечами — рядом никого не было. Умостившись на мешках с зерном, женщины дремали, на беглого раба никто не обращал внимания. «Может, почудилось что?» — подумал он, прикрыл глаза и снова задремал.
Через минуту до него опять донесся тот же зов. На этот раз он узнал голос матери и ясно увидел ее. Настасья стояла рядом с домом, который Козьма выстроил себе в Новгород-Северском, широко открытые печальные глаза ее наполнились слезами, губы плотно сжаты. Голос ее доносился откуда-то сверху, с мутного, затянутого грязно-желтой пеленой неба. Небо шевелилось, казалось густым и вязким, оно опускалось все ниже и ниже, а голос Настасьи постепенно затихал, отдалялся: «Хомуня, кровиночка моя… Хомуня…».
Хомуня очнулся. Понимая, что все это ему приснилось, он перекрестился и прошептал: «Прости меня, мама. Где ты сейчас? На земле ли живешь, или бог уже забрал к себе твою душу? А может, в эту минуту ты как раз и готовишься к смерти, со мной прощаешься?» — Хомуня испугался такой мысли, торопливо осенил себя крестом. Последние дни мать вспоминалась все чаще и чаще. Может, так и не простила сыну, что не послушал ее?
* * *
Это случилось после отъезда Игнатия из Новгород-Северского. Едва Козьма ввел во двор боевого коня, показал сыну сложенные в телеге бронь с зерцалом, клевец, шелом, копье — все то, что обыкновенного человека превращает в воина, Хомуня, счастливый и радостный, в одной руке меч, в другой — заостренный внизу красный щит, кинулся к матери, не терпелось похвалиться оружием.
Настасья словно окаменела. Она стояла около дома и молча, казалось, безучастно смотрела на сына. И только глаза ее, переполненные слезами и предчувствием беды, упрекали в безрассудстве и Хомуню, и Козьму, и князя — всех людей на свете. Хомуня, словно натолкнувшись на стену, резко остановился, даже отступил немного назад, растерянно понурил голову. Воинственный вид его как-то сразу померк, руки опустились.
— Вот… оружие… настоящее, — неуверенно выдавил из себя Хомуня и, еще раз заглянув в глаза матери, поплелся назад, в глубь двора, где отец примерял старенькое, оббитое кожей деревянное седло к каурому жеребцу.
Положив на телегу оружие, Хомуня оглянулся — матери уже не было, она вошла в дом.
— Помоги мне, — услышал Хомуня голос отца. — Придержи коня.
Конь был хорош: горяч, нетерпеливо крутил головой, задирал ее вверх, не хотел подпускать к себе будущего хозяина. Хомуня изловчился, чуть ли не в прыжке схватил жеребца за уздечку, решительно подтянул к себе его голову. Жеребец захрапел, глаза его налились кровью, ноздри задрожали.
— Стоять! — грозно приказал Хомуня и еще раз резко дернул за повод. Но тут же, словно и не сердился на него, приласкал, почесал за ухом, приговаривая: — Успокойся, глупый, теперь нам с тобой вместе быть. Успокойся, ты хороший…
Пока седлали коня, рассматривали доспехи, Хомуня забыл о матери, о ее обиде, к нему возвратился боевой дух, снова он возмечтал о подвигах. Захотелось немедленно идти на степь, на половцев, в те годы часто паливших огнем русские города и села, угонявших в полон мужчин, женщин и детей.
Хомуня надел доспехи, нацепил меч и поскакал за город.
Хотя князь Игорь потихоньку уже готовился идти на половцев, время было еще мирным. К тому же русские ратники даже в походах надевали боевые доспехи лишь перед самой сечей. Поэтому наряд Хомуни привлекал внимание горожан, люди останавливались и с любопытством смотрели вслед.
Задержался Хомуня только у городских ворот, да и то на две-три минуты всего. Там, на покрытой изумрудной муравой конной площади, мальчишки вырыли лунку и, вооружившись клюшками, гоняли деревянный шар-мазло, шумно спорили, задирали друг друга. Хомуня и сам бы с удовольствием присоединился к этой азартной игре, загнал бы шар-мазло в лунку, но в тот момент водиться с унотами считал делом недостойным.
Выехав за ворота и обогнув город, он остановился на обрывистом берегу Десны. Ему захотелось спуститься вниз, посмотреть на свое отражение в воде, но берег был настолько высок и крут, что добраться до реки, не сломав шею коню, а может быть, и себе, было невозможно. Однако все это не охладило его боевого духа.
Хомуня огляделся окрест. С правой стороны, на высоких холмах, изрезанных глубокими яругами, устремил к небу золоченые купола церквей Новгород-Северский; прямо, за рекой, раскинулись заливные луга с голубыми заводями и серебристыми протоками; а за ними — пашни, теснимые раменным лесом. Но стоять вот так и просто смотреть на лес, на поля, на всю Северскую землю, он не мог. Хотелось немедленных действий. Хомуне воображалось, что слева, из-за холмов, поросших кустарником и редкими деревьями, вот-вот покажется хотя бы один половецкий соглядатай и ему представится случай сразиться с врагом.
Вскоре и на самом деле показался всадник, только не в той стороне, где ожидалось Хомуне, не из-за холмов, а со стороны города. Всадник не спеша въехал на невысокий, пологий курган, приостановился, увидел Хомуню и помахал десницей. Узнав пегую лошадь отца, Хомуня двинулся навстречу.
— Куда ты пропал? — подъехав к сыну, недовольно буркнул Козьма. — Князь Игорь ждет, посмотреть на тебя хочет. Понравишься — будешь княжеским отроком.
Хомуня улыбнулся. Смотринам он не придавал значения, не сомневался, что Игорь Святославич возьмет к себе в младшую дружину.
* * *
Козьма и Хомуня въехали на княжеский двор, остановились у господского крыльца, соскочили на землю.
Козьма хотел было передать своего коня сыну и войти в дом, доложить князю, но Игорь Святославич, сопровождаемый малолетними сыновьями, Олегом и Святославом, сам неожиданно появился на крыльце. Князь внимательно оглядел Хомуню, спустился по ступеням, подошел ближе.
Игорь был высок и широкоплеч. Но и Хомуня, несмотря на молодые лета, не так уж и много уступал князю, а в воинских доспехах — вообще казался вполне зрелым мужем. Только мальчишеское, по-девичьи нежное лицо да светлый, словно серебристый, пушок на верхней губе выдавали в нем унота. Чуть-чуть отступив назад, князь резко замахнулся и ни с того ни с сего сильно толкнул ладонью в грудь Хомуни. Но Хомуня успел напрячь мышцы, устоял, даже не переступил ногами. А князь, отдернув руку и сморщив лицо, быстро поднес ладонь ко рту — уколол о новую кольчугу.
Слизнув капельку крови, князь снова посмотрел на Хомуню.
— Молодец. Силен. Мечом владеть умеешь?
— Спытай, княже, — усмехнулся Хомуня. — Вели принести оружие.
— Ишь ты, самому князю надумал голову срубить?
— Избави бог, — стушевался Хомуня.
— Ладно уж, верю. Грамоте обучен?
Хомуня опустил голову, не нашелся, что ответить, боялся, как бы Игорь Святославич не уличил его в бахвальстве.
— Не так, чтоб уж сильно, — выручил сына Козьма, — но читать-писать умеет по-русски и по-гречески. А вот тюркскую грамоту не знает. Но языку половецкому обучен.
Князь Игорь в удивлении вскинул лохматые брови, улыбнулся.
— Молодец! — еще раз похвалил он Хомуню. — Беру тебя отроком. При мне будешь. И жить будешь в моем доме. Найди ключника, скажи ему о воле моей. Только смотри: ослушаешься или поведешь себя недостойно — наказывать буду строго. Зовут как?
— Хомуня.
Игорь Святославич оглянулся на своих сыновей, пристально посмотрел на них и спросил:
— Люб вам Хомуня? — и, не дожидаясь ответа, приговорил: — Люб — не люб, а жить будете вместе. Вы ему господа, он вам — холоп. Учиться будете у него. И если Хомуня за нерадивость кому из вас по загривку даст, не взыщу с него.
* * *
Весной князь Игорь приказал трубить поход на половцев, выступить наметил двадцать третьего апреля, в праздник святого Георгия Победоносца. Князь не случайно выбрал именно этот день. Всегда считалось, если к важному делу приступаешь в день своего хранителя и заступника, то все исполнится, как задумал. Хомуня лишь к весне узнал, что Георгий — второе имя Игоря Святославича. Иметь по два имени, особенно у людей знатных и книжников, — считалось делом обычным: одно имя славянское, мирское; второе — дается при крещении, по церковному календарю.
Как только распространилась весть о предстоящем походе, в городе стало шумно. Ратники чистили оружие, острили мечи. Два раза на дню, утром и вечером, ходили друг к другу пить живичное молочко — настой сосновой смолы в молоке, считали, что оно, если притом и отвары разных трав потреблять, никакие болезни на них не пустит, и носом обоняние улучшит, и немочь из головы выведет, и насморк уймет, очам светлость даст, охоту к еде прибавит и уныние отгонит.
Хомуня тоже находил минуту, убегал домой, к матери. Уж лучше ее никто не умеет настаивать живицу, готовить лечебные отвары. Постепенно Настасья смирилась с судьбою, обида ушла из глаз ее. Но иногда все же страх тревожил материнское сердце, нет-нет да и покатится слеза по ее смуглой щеке. Настасья тотчас отвернется и, поборов печаль, тут же улыбнется Хомуне.
Незадолго до начала похода прискакал из Трубчека брат Игоря, князь Всеволод, нетерпеливый, и минуты на месте не усидит, доски в повалуше прогибаются под его сапогами, так могуч телом. Узнала о приезде Всеволода жена Игоря, Ефросинья Ярославна, влетела — чуть с ног не сбила Хомуню, стоял на проходе, — и тут же очутилась в медвежьих лапах деверя. Обнял ее Всеволод — не побоялся раздавить хрупкое тело, — поцеловал сладко. Хомуня даже смутился, уперся глазами в стену, засмотрелся на роспись. Засмеялась Ярославна счастливым смехом, спросила:
— Не хочешь ли меду хмельного, князь? Сама варила, может, испробуешь?
— Принеси, Ефросиньюшка. Да поболе корчагу выбери, во рту пересохло. Игорь-то твой мыслью скачет от Чернигова до самой Тмутаракани, даже себе признаться боится, что хочет забрать у половцев поганых землю русскую, обагренную кровью дедов наших. Словно сокол парит над Русью, разглядывает степь половецкую, а угостить человека с дороги не догадывается.
Игорь смотрит на брата, на жену любимую, улыбается. До чего хорошо ему с Ефросиньей.
А Ефросинья подошла к Игорю, остановилась позади, положила руки на плечи, склонилась к уху, шепнула что-то и выбежала за дверь.
Возвращаясь с медом, приостановилась у дверей повалуши, услышала голос Всеволода: «…напрасно в марте испугались гололеда, коней пожалели. Надо было еще тогда идти на половцев. Но коль так случилось, теперь не медли, брат». «Во вторник седлаем коней — и в путь», — успокаивал брата Игорь. А Всеволод все поторапливал: «Седлай, брат, седлай. Мои-то готовы. Мои куряне, — голос Всеволода потеплел, очень уж он любил своих ратников, — застоялись уже, силушку девать некуда, в бой рвутся».
Ефросинья вошла в повалушу, налила мед в кубки.
— Все хвалишься своими курянами, — княгиня подала кубок деверю, — будто на земле лучше их и ратников нет.
— А где ж их взять, лучших, Ефросиньюшка? — засмеялся Всеволод.
— Ну так уж и негде. Вишь, какого Игорь отыскал себе. — Ефросинья головой кивнула в сторону Хомуни. — Не смотри, что безусый. Девки глаза так и пялят, любиться хотят.
— На то ума много не надо. Мои не до девок охочи, до рати. Имя и слава дороже человеку, чем красивое лицо.
— Полно, расхрабрился. Смотри, Див услышит, предупредит половцев.
— Э, Ефросиньюшка, стара стала птица эта. Пока долетит до половецкой степи, наши соколы разобьют полки хана Кончака и домой возвратятся.
Всеволод вскоре уехал. А князь Игорь, свершив в церкви Спасского монастыря молебствие о победе русского войска, двинул свой полк к Путивлю, где княжил старший его сын, Владимир.
Ехали не спеша. Впереди Игорь Святославич. «Вседши на кони», ехала рядом с мужем и княгиня Ефросинья Ярославна. Тут же — младшие сыновья, Олег и Святослав, одному десять, другому одиннадцать лет от роду.
* * *
В Путивле князь распрощался с Ярославной и повел дружину в половецкую степь. Русская рать становилась все больше и больше. По пути присоединились к Игорю со своими полками сын его, пятнадцатилетний Владимир, юный князь Путивльский, воевода Ольстин Алексич с полком Черниговских ковуев — племенем тюрок, служивших у русских князей, — потом племянник Святослав, князь Рыльский. А за Донцом — и брат, Всеволод, князь Трубчевский. Он шел из Курска по берегу Оскола.
Больше всего Козьма был доволен тем, что удалось упросить князя Игоря в походе не держать при себе Хомуню, отдать ему, Козьме, в копье, — сыну еще учиться надо ратному делу, догляд за ним нужен. Одно дело махать мечом понарошке, другое — видеть перед собой врага лютого.
В копье, где отец был старейшиной, Хомуня сдружился с Дылдой, таким же унотом, как и сам, еще не отведавшим запаха крови. И хотя Дылда уступал Хомуне в росте — был коротконог, и в ловкости — грузноват телом, — но силой обладал большой, меч держал в руке крепко, подмять под себя мог не только Хомуню, но, может быть, и человека бывалого.
Все внове было молодым отрокам: и сам многодневный поход, и великое скопище конных и пеших ратников — стройными колоннами, словно ладьи плыли по неоглядным бездорожным степям, — незнакомые города и села, и голубые реки, и обилие зверей и птиц в непуганых ковыльных просторах.
Перед тем, как переправиться через Псел, пошел нудный промозглый дождь. И хотя ратники натянули плащи, сырость все равно проникала под одежду, стылым ознобом неприятно холодила тело. А Дылде и вовсе не повезло. Когда переходили реку — неглубоко, лошадям еле доставало до брюха, — кобыла Дылды, испугавшись наскочившей на нее коряги, резко кинулась в сторону, Дылда не удержался, упал в воду. Хомуня, пока помог ратнику поймать лошадь и забраться в седло, тоже промок до нитки.
Не успели согреться — бежали, держась за узду — наступил вечер. На ночлег остановились на окраине леса. Пока разводили костры, Козьма приказал Хомуне и Дылде побольше нарвать ольховых листьев. После ужина заставил обоих раздеться догола, закутал каждого в толстый слой листьев, перед тем смоченных в родниковой воде, а сверху тщательно укрыл рогожей. Сначала отроки стучали зубами от холода, но вскоре согрелись, начали потеть. Пот ручьями катился с обоих унотов, но Козьма раскутал их лишь глубокой ночью, облил холодной водой, отдал высушенную у костра одежду.
Чтобы отроки быстрее привыкли к сырости, Козьма заставлял их проделывать такую процедуру каждый день. Да и сам не гнушался закалки, и себя обкладывал мокрыми листьями ольхи. А на него глядя, и другие стали заниматься тем же. Если кто жаловался на боль в голове, полученной от простуды, Козьма варил в воде ромашков цвет, горячим клал прямо на волосы, завязывал платком, сверху натягивал шапку.
— Ромашков цвет — он боль снимает и память человеку наводит, укрепляет ее, — убеждал Козьма.
Так и шли без особой грусти и сомнений. Но на девятый день пути, в послеполуденную пору, не успели выйти к Донцу, солнце, до тех пор хорошо согревавшее землю, начало вдруг меркнуть. Хотя небо все так же оставалось чистым, безоблачным, сумерки быстро окутывали землю. У Хомуни на душе тревожно стало от непонятного. Хотел спросить у отца, что произошло, почему потухает солнце, но не только Козьма, все ратники, князья и бояре угрюмо молчали, обнажили головы, позадирали к небу бороды — пялили удивленные глаза на осколок солнца.
А оно становилось все меньше и меньше.
— Это злой Див прикрыл его своими черными крылами, в месяц превратил рогатый, — не выдержав, громко прошептал Хомуня и помолился. — Боже, спаси солнце ясное. Дажьбог милосердный, помилуй нас, русичей, внуков своих.
— Помилуй нас, боже, — подхватили ратники, стоявшие рядом с Хомуней, — освободи светило от зловещего Дива.
То ли молитва разбудила дремавшего бога, то ли по другой причине разыгрался ветер, но поначалу лениво, а потом, словно собрался с силами, Стрибог так дунул на Дикое поле, что зашумел ковыль, склонились травы степные. Орел, паривший в небе, сложил крылья и камнем упал за холм. Тревожно заржали кони. Вскрикнули и тут же умолкли перепелы. Мыши в норы попрятались. Красные лисицы забегали, залаяли, как очумелые. В яругах, тьмою окутанных, волки хвосты поджали, в небо носы завострили, завыли на солнце, тьмою прикрытое.
Совсем стушевались ратники, еще настойчивее стали просить бога не лишать солнца ясного. И бог внял молитвам русичей, освободил солнце от Дива зловредного. Прошло еще немного времени — и светило засияло, как прежде. Повеселели воины.
Князь Игорь повернулся к дружине, громко спросил:
— Ведает ли кто, что означает знамение это?
Бояре стояли ближе всех к Игорю, они и ответили:
— Не к добру оно, княже.
Игорь еще раз взглянул на воскресшее солнце и снова окинул взором свои полки.
— Братья и дружина! Никто не знает тайн божьих. Он один творец и знамениям, и всему миру своему. Добро ли сотворит бог, или ждет нас беда, после увидим, — сказал он и первым переправился через Донец.
Уже за Великим Доном, когда подошли к Сюурлию, встретились с половцами. Хомуня сразу и не заметил их. Послеполуденная усталость тянула ко сну, и Хомуня случайно, может, в ожидании приказа сделать привал, взглянул на невысокие, с темными пятнами, холмы, длинной чередой выстроившиеся за рекой. Увидел и кудрявые облака дыма, поднимавшиеся из-за тех же холмов.
Хомуня чуть склонился набок и рукоятью плети толкнул дремавшего в седле Дылду — они ехали рядом, стремя в стремя.
— Глянь, что чернеет там? То ли палом земля выжжена, то ли стадо какое пасется? И дым.
Короткорослый Дылда, привстав на стременах, вытянул шею, но ничего не увидел, перед глазами — лишь спины да укрытые шапками затылки ратников.
— Просил же батю, — нарочито возмутился он, — подбери мне коня длинноногого. Так нет же, не послушался. Что увидишь, едучи на этом жеребенке?
Хомуня бросил взгляд на рыжую кобылу своего друга, сравнил ее со своим жеребцом, усмехнулся:
— Конь как конь. Если сам не удал, то нечего на животину валить.
И тут внезапно для юных ратников полк остановился, их кони мордами ткнулись в крупы шедших впереди лошадей.
— Половцы! Половцы! — пронеслось по рядам.
Строй сразу нарушился, теперь и Дылда сумел взглянуть за речку. Он будто обрадовался встрече с противником, заулыбался.
— Па-алом выжгло, — передразнил Хомуню. — Глаза протри.
Передние ратники начали поворачивать назад, строй совсем рассыпался. Кто, еще не разобравшись в чем дело, в неведении продолжал продвигаться вперед, кто стоял в растерянности, без команды не решаясь двигаться ни в ту, ни в другую сторону.
— Хомуня! Дылда! — донесся голос Козьмы. — Чего рты разинули? К обозу поворачивайте, к обозу! Вооружайтесь!
Отроки в тесноте еле развернули коней и двинулись в обратную сторону.
Толкая друг друга, воины Игоря бросились к телегам, на которых везли оружие и доспехи, торопливо надевали на себя кольчуги, шеломы, цепляли к поясу тяжелые мечи, разбирали щиты и копья.
Облачившись в бронь, Хомуня вскочил в седло и снова посмотрел на противоположную сторону реки. Половцы стояли на том же самом месте, где увидел их в первый раз, будто они в самом деле терпеливо дожидались, пока русичи подготовятся к бою.
Хомуня всматривался в беспорядочно разбросанные вражеские полки и чувствовал, как в душе его с каждой минутой все больше и больше нарастает волнение. Это был не страх. Половцы ничем не проявляли своей воинственности и стояли слишком далеко от лагеря русских. К тому же их оказалось не так уж много. Скорее всего Хомуне просто не терпелось приступить к делу, ради которого отмахали сотни верст и которого Хомуня толком еще не ведал. А ему очень хотелось сделать так, чтобы после первого боя не стыдно было смотреть в глаза ни отцу, ни князю Игорю.
Ждать пришлось долго. Порой Хомуне даже казалось, что битва уже никогда не начнется, они так и будут стоять на разных берегах реки, а потом ни с чем разъедутся всяк в свою сторону.
— Почему мы стоим? — подъехав к отцу, стоявшему на взгорке, нетерпеливо спросил Хомуня. — Или не будет сечи?
— Не торопись. Сложить голову всегда успеешь.
С кургана Хомуня увидел, что почти все русские полки пришли в движение, выстраивались в боевой порядок. Полк Игоря, стоявший все время на месте, оказался в самом центре. Справа от него расположились ратники Всеволода, слева — Святослава, а впереди — сына Игоря, пятнадцатилетнего полковника, княжича Владимира, там же — Черниговские ковуи с Ольстином.
Вскоре войско медленно двинулось вперед. Но чем ближе подходили к неприятелю, тем больше возрастал боевой азарт, тем стремительнее двигались ратники.
До реки оставалось совсем немного, когда половцы, издав боевой клич, двинулись навстречу — тут же зашелестели, защелкали о щиты первые стрелы. Хомуня уже схватился было за рукоять меча, приготовился вытащить его из ножен, но князь Игорь неожиданно остановил свой полк.
Постояли немного и снова двинулись, но уже медленно, шагом.
Полк спустился в низину, и Хомуня теперь видел перед собой лишь начищенные шлемы ратников. А когда опять поднялись на невысокий холмик, Хомуня увидел, что половцы уже обратились в бегство. Но преследовали их только ратники Владимира, Святослава да ковуи.
В междуречье Сюурлия и Каялы, на лугу, богатом сочными травами и родниками, Игорь приказал остановиться. Ратники спешились, пустили лошадей на пастбище.
Хомуня обламывал и носил к костру сухие ветки колючих кустарников и редко разбросанных по берегу Каялы берез, осин, тополей, безжалостно искалеченных лютыми зимними ветрами и гололедицей, а сам разочарованно посматривал на Игоря Святославича, в окружении бояр стоявшего неподалеку, у излучины реки. Ни боевого азарта, ни беспокойства об ушедших вперед полках у князя заметно не было.
Вечером сюда же возвратились и те, кто преследовал половцев. Возбужденные удачей, они хвастливо рассказывали, как гнали поганых, как захватили их вежи, какие достались трофеи. После захода солнца, уже в сумерках, ратники огородили стан воткнутыми в землю заостренными внизу красными щитами и, выделив с каждого отряда по нескольку человек для охраны, улеглись спать.
Хомуне долго не спалось. Он то и дело поднимал голову, прислушивался. Увидел, как князь Игорь прошел мимо их костра, остановился рядом с постовыми, поговорил с ними и двинулся дальше, вдоль реки.
* * *
На рассвете Хомуня проснулся от шума, поднятого в лагере. Козьма спешно поднимал отроков, громко кричал:
— Вставайте! Половцы рядом. Готовьте оружие, седлайте коней!
Хомуня быстро вскочил, огляделся, но ни за воткнутыми в землю щитами, ни вдали, в туманной серой дымке, окутавшей реку, ничего не увидел. Растолкал Дылду, безмятежно спавшего у догорающего костра, побежал с ним на луг ловить лошадей. И лишь потом, когда чуть посветлело, у самой реки он увидел одинокие фигуры всадников. Их показалось так мало, что Хомуня рассмеялся.
— Что-то мы пугливые стали, как зайцы…
— Помолчи, орел бескрылый, — зыкнул на него отец.
Козьма торопливо раздавал харч — житные, черные сухари и вяленое в пластинах мясо, — приказал есть быстрее и побольше. Начнется сеча — неизвестно, когда еще доведется насытиться.
Светало быстро. Как только рассеялся туман, Хомуня увидел, что половцы, все еще оставаясь в отдалении, на расстоянии двух-трех перестрелов, неодолимой стеной окружили лагерь. И стена эта, ощетинившаяся густым лесом пик, с каждой минутой становилась все более мощной и грозной.
Ратники притихли, молча сжимали в руках рукояти мечей, копья. Стрелки, примеряясь, опробовали луки.
Последовала команда: отдать лошадей коноводам, соединиться с пешими полками и вместе с ними, сражаясь, пробиваться к Донцу.
И началась битва. Отроки Козьмы поначалу оказались в глубине полка и не участвовали в сече, прикрываясь щитами от густого роя половецких стрел, медленно отступали вместе с другими отрядами. Но к полудню и до них дошла очередь лицом к лицу встретиться с противником.
Едва успели выстроиться в боевой порядок и пропустить в тыл уставших, мокрых от пота и крови ратников, на Хомуню наскочил высокий, в лохматой остроконечной шапке, с круглым щитом и короткой изогнутой саблей в руках, половец.
Молнией сверкнула на солнце вражеская сабля — и тут же, как по железной тарелке, звякнула о щит Хомуни.
— И-иых! — выдохнул половец и, прикрываясь исцарапанным, побитым щитом, замахнулся для нового удара.
— И-иых!
— Дзи-инь! — звякнула сабля о щит и опять сверкнула на солнце.
Хомуня вскинул свой длинный меч, замахнулся, метясь в темную, ничем не прикрытую шею половца. Его противник присел и поднял щит, но слишком рано спрятал за ним лицо. Хомуня успел изменить направление удара, рубанул половца по незащищенной руке.
Громко вскрикнув, половец уронил и саблю, и щит, здоровой рукой схватился за надрубленную кисть. И стоило ему чуть замешкаться, как сзади его безжалостно сбили с ног свои же, он упал, а на Хомуню уже наседал плотный, с непрерывно орущим окровавленным ртом и с выбитыми зубами — в глаза бросились красные пустые десны — новый противник.
Потом и его не стало, появился еще один. И еще, и еще…
Хомуня видел перед собой чужие, наполненные злобой лица, хищный оскал зубов, слышал предсмертные стоны раненых, нервный смех опьяненного кровью победителя, сумевшего срубить голову своему противнику; щитом и мечом отражал удары потемневших от крови сабель и сам не упускал возможности сразить неприятеля. Иногда он слышал голос отца, успевавшего биться и следить за сыном, предупредить его об опасности, а если появлялась возможность, то и прийти на помощь Хомуне.
Потом Хомуня мельком увидел, как отец, вонзив острие меча в живот половца, похожего на откормленного борова, сам не успел защититься, повалился на землю с надрубленным плечом.
— Прощай, сын! — услышал он голос отца.
Хомуня бросился на помощь, но едва наклонился к отцу, его самого сильно толкнули в бок и он, не удержавшись, упал на мокрую от крови землю.
И все-таки в тот день Хомуне не суждено было умереть. Спас его Дылда. Взревев нечеловеческим голосом, юный отрок щитом и мечом изо всех сил навалился на половцев, готовых затоптать Хомуню, они на секунду замешкались, но и этого было достаточно, чтобы друг его вскочил на ноги и подобрал свое оружие.
Сеча продолжалась и на второй, и на третий день, пока силы не покинули ратников и они от усталости уже не могли удержать меча в своих ослабевших руках.
Пять тысяч русичей половцы захватили в полон. Разорвали полки Игоревы, растащили его отроков по племенам, по кочевьям, по вежам. Кто выкуп ждал, а кто сразу гнал своих пленников на невольничий рынок к готским купцам. Хомуню продали в Константинополь.
Там и заковали его в первый раз в кандалы. С тех пор-то и бросает его злая судьба по всему белому свету, на каждый день готовит все новые и новые испытания. Когда им конец придет?
Только появилась надежда, что с помощью Бабахана обретет, наконец, долгожданную свободу, и вот на тебе — нарвались на Омара Тайфура.
Что предпримет он, чтобы схватить своего сбежавшего раба? Как уйти от его цепких, безжалостных рук?
— Пора прощаться с Бабаханом, — вслух прошептал Хомуня. — Только куда идти?
* * *
Наконец, лошади ступили на узкий каменный карниз, что ведет к селению Бабахана, а вскоре показались и ворота, которые, едва перед ними появился обоз, тут же распахнули стоявшие в карауле два молодых, хорошо вооруженных воина.
Едва въехали — из домов повыскакивали женщины и дети, бросились к отцам, братьям и сестрам. Селение наполнилось такой радостью, будто люди эти не виделись годы.
Хомуня соскочил с седла и одиноко склонился над коновязью, привязал Сырму за повод, чтобы лошадь, разогретая большим переходом, не хватила холодной воды из шумевшего рядом ручья. И тут, едва не сбив с ног, кто-то наскочил на него сзади, крепко обхватил за шею маленькими ручонками. Обернувшись, Хомуня узнал Айту. Она, наслаждаясь приятным удивлением Хомуни, звонко закатилась счастливым детским смехом. Хомуня, задыхаясь от нахлынувших чувств, прижал к себе Айту, нежно погладил ее жесткие, заплетенные в косички длинные волосы. Он улыбался и повлажневшими глазами, будто сквозь пелену, смотрел на ее широко раскрытый громко смеющийся рот.
Кругом все стихло. Семья Бабахана, люди из соседней сакли остановились поодаль и смотрели. Айта, смутившись, опустила голову.
— Ты уже совсем выздоровела? — подавив волнение, спросил у нее Хомуня.
Айта не успела ответить, подошли Емис и Сахира. И они не скрывали радости. Особенно Сахира. Это она сказала Хомуне:
— Твоими руками повелевают боги. Я только что призналась Саурону, что потихоньку готовилась к похоронам Айты, — Сахира крепко прижала к себе внучку, — а теперь будем готовиться к свадьбе.
До самого вечера племя праздновало окончание жатвы: на священном камне горел костер, резали и тут же зажаривали жертвенных баранов, мололи зерно нового урожая, пекли лепешки, танцевали и пели песни.
Ничто не напоминало о тревоге. И только после заката солнца Бабахан приказал на подступах к селению выставить усиленные караулы.
Хомуня в празднике не участвовал. Сразу после обеда забился в темный угол сакли, хорошо выспался и, когда вождь созвал к себе всех, кому предстояло отправиться на посты, он, отдохнувший, тоже вызвался идти в караул.
Бабахан не противился, молча кивнул головой. Подумав немного, спросил у Чилле:
— Ты отвез дрова к Острому колену?
— Все сделал, как ты приказывал, вождь. Забил ими всю нишу, на две ночи хватит, не меньше.
— Пойдете туда с Хомуней. Приготовь бурку. Оружие для него я сам найду. И прикуси язык, Чилле. Чтобы ни одного звука никто не услышал.
Пост у Острого колена располагался в двухстах шагах от селения. Здесь дорога круто поворачивала влево, и на самом ее острие, на виду у ворот, надо было разжечь костер и всю ночь поддерживать огонь. Всякий, кто задумал бы ночью пробраться в селение, никак не смог бы миновать этого поста. Задача у караульных несложная. Прячась в тени, под скалами, подбрасывать в костер поленья и ждать. Если на дороге появятся два-три человека, то караульным не составит труда уничтожить их или обезоружить. Но если к селению будет приближаться большой отряд, то гибель поста почти неминуема. Главное при этом — одному из караульных надо обязательно накрыть костер своей буркой. Это и будет сигналом для воинов, охраняющих ворота.
Чилле сам выбрал место для костра и разжег его. Затем показал Хомуне, как, не подходя близко к огню, при помощи длинной рогатины подкладывать дрова.
— Тот, кто захочет подойти к нам неслышно, сделает это без труда, — сказал Чилле. — Но зато мы, если не уснем, всегда увидим его в полосе света. Только самому не надо высовываться, хороший лучник сразу достанет стрелой, так что и пикнуть не успеешь.
Ночь была тихой, безветренной. Но от скал тянуло сыростью, поэтому караульным сразу пришлось завернуться в бурки.
— Спать будем по очереди, — шепнул Чилле. — Сначала ты подремли, потом я.
— Я выспался днем, — ответил Хомуня. — Сам укладывайся.
— Ну ладно, — не заставил себя уговаривать Чилле. — Только смотри, вдруг что услышишь или дремота нахлынет, сразу буди, иначе — беды не миновать.
Поначалу Хомуня сидел под скалой и до боли в глазах всматривался в темную даль, потом внимание его постепенно ослабло и он начал больше прислушиваться, чем смотреть на небольшой участок дороги, слабо освещенный неровным красноватым пламенем.
Внизу, под обрывом, чуть слышно шумели по камням водопады. Там же, где-то в кустах, беспрестанно т-р-р-р-ркал козодой, а дальше, в темном лесу, мелодично напевал свое «лю-лю-лю-лю» мохноногий сыч. Изредка доносился протяжный рев медведя, вой шакалов, порой жалобно вскрикивали лесные кошки.
К полуночи все уснуло. Только сыч все еще подавал голос, звал кого-то. Может быть, у него потерялась подруга и он бесконечной песней скрадывал свое одиночество. А может, сыч пел совсем не от грусти, а, наоборот, от полноты жизни и довольства собой.
В какой-то миг у Хомуни закрылись глаза и он уронил голову, но тут же встрепенулся. Хотел разбудить Чилле, но пожалел его, так сладко посапывал он, завернувшись в теплую бурку.
Хомуня рогатиной подбросил в костер поленьев и этим разогнал дремоту. Но вскоре приятная теплота снова охватила тело и Хомуня опять на секунду склонил голову. И тут ему показалось, что он слышит негромкий топот конских копыт. Хомуня протер глаза, затаил дыхание. Только сердце не мог унять, так тревожно оно колотилось в груди. Убедившись, что действительно откуда-то из-за поворота доносится мерный топот копыт, Хомуня тихонько толкнул Чилле.
Тот подхватился сразу, будто и не спал, привстав на колени, прислушался.
— Двое едут, — прошептал он. — Приготовь лук, стрелу и кинжал. Саблю отложи в сторону, только мешать будет. Я перейду в большую нишу, это недалеко, шагов десять, а ты оставайся здесь. Тот, кто будет впереди — твой, я разделаюсь со вторым. Без команды ничего не делай, крикну филином — тогда и стреляй. Костер не туши, справимся сами, — напоследок сказал Чилле и бесшумно исчез в темноте.
Хомуня сбросил с плеч бурку, отцепил саблю, поправил кинжал, взял лук, не спеша вытащил из колчана стрелу, примерился.
Не доехав до освещенного участка дороги, всадники остановились. Опять стало тихо. Только мохноногий сыч по-прежнему тянул свое «лю-лю-лю».
У Хомуни заболели колени, лоб покрылся испариной. Осторожно, боясь обнаружить себя или загреметь чем-нибудь, Хомуня поднялся на ноги, прижался спиной к прохладной скале.
Снова послышался мерный топот копыт. Но через минуту опять все стихло. Даже сыч замолчал.
— Эй, Бабахан! — громко крикнули из темноты.
Чилле не ответил.
— Кто там, у костра? Отзовитесь! — послышался тот же голос.
Чилле неслышно подполз к Хомуне, поднялся и прошептал на ухо:
— Стрелять не будем, доставим живыми. Может, люди с добром идут, а, может, хитрят. Голос незнакомый. Будь начеку.
— Хватит играть в прятки, — снова послышалось из темноты. — Нам необходимо видеть Бабахана. Мы оставляем лошадей и идем к костру.
Вскоре на свету показались два человека, одетых в монашеские сутаны. Это были Вретранг и Хурдуда. В нескольких шагах от костра они остановились. Чилле не признал ни того, ни другого.
— Повернитесь спиной и приготовьте руки, — приказал он. — Я свяжу вас. Потом разберемся, кто такие. К Бабахану и отведем, коль его ищете.
Вретранг и Хурдуда покорно повиновались.
Пленников и их лошадей к вождю повел Хомуня. Каково же было его удивление, когда Бабахан, выйдя из сакли, сразу бросился обнимать их, развязывать руки. Услышав голоса, выскочила Сахира, а следом и вся семья вождя рода. Кто-то зажег факел, пристроил его к углу сакли. Хурдуда, десять лет не бывший в селении, с трудом угадывал своих братьев и сестру.
Вретранг снял сутану, передал ее Сахире и спросил у вождя, указывая на Хомуню:
— Бабахан, это и есть тот раб, который сбежал от своего хозяина?
— Ты угадал, дорогой Вретранг. Он — мой гость.
Вретранг тяжело вздохнул.
— Я должен возвратить его Омару Тайфуру.
— А ты что, поступил к нему на службу?
— Нет. Меня послал отец Лука.
Настала очередь удивляться Бабахану.
И тогда Вретранг рассказал все, что произошло в городе.
Хомуня слушал и с каждой минутой его все больше и больше охватывало отчаяние. Появилось острое желание бежать. Он попытался незаметно отойти в сторону и скрыться в темноте, но Хурдуда угадал его намерение, тотчас загородил дорогу и схватился за рукоять своего кинжала. Хомуня возвратился на место, присел на камень, понуро опустил голову, обхватив ее руками. «Надо было еще днем уйти от Бабахана», — вздохнул он.
То ли оттого, что убедился в невозможности побега, то ли просто смирился со своей участью, но Хомуня вскоре успокоился, почти безучастно слушал Вретранга. У него даже не появилось желания помолиться Одигитрии, своей путеводительнице, как это делал всегда в трудные дни, и особенно часто — в последние. Только молитва его, видно, никогда не доходила до бога. Хомуне подумалось, что, может быть, Бабахан и прав был, когда однажды взял да и вернулся к богам своих предков, не требуя от них невозможного, находя лишь утешение и надежду. Много богов — много надежд, много желаний. И уж какое-либо из них обязательно сбудется. А значит, душа наполнится радостью и человек обязательно прочтет благодарную молитву тому, кто исполнил это желание.
Не потому ли и древние русичи тоже имели много красивых и разных богов, грозных и сильных, справедливо творящих как добро, так и зло. Все русичи — внуки Дажьбога, повелителя солнца. Но они чтили и другого бога солнца — Великого Хорса, и Велеса — скотьего бога и покровителя искусств, похожего на Аполлона древних эллинов; и Сварога, никогда не покидающего своей кузницы, чтобы русичи всегда имели острые мечи и крепкие орала; и, конечно же, среброголового и златоусого Перуна, главного бога славян, бога грома и молнии, бога войны; и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь.
Хомуня даже усмехнулся. Следовать примеру Бабахана ему уже поздно. Да и не дело это — метаться между двумя разными законами, искать выгоду, обманывать самого себя. Так недолго уподобиться зайцу, попавшему в загон.
От этих мыслей Хомуне даже легче стало, почувствовал себя уверенней. И когда Вретранг сообщил, что Черное ухо намерен к утру собрать большой отряд головорезов и повести его на селение Бабахана и что лишь ценою жизни беглого раба можно избежать кровопролития, грабежа и поругания, Хомуня уже нисколько не сомневался, что путь у него теперь остался один — на Голгофу, и отправится он туда спокойно, не со связанными руками и ногами, а достойно, как когда-то Христос шел на смерть ради рода людского.
Только об одном жалел Хомуня, что так и не увидит он больше земли русской: ее лугов и пашен, темных ельников и широких степей, Боголюбова и Владимира, маленькой белой церкви на высоком холме у тихоструйной Нерли. Утешало одно — душу его никто не остановит, она все равно найдет дорогу на Русь, нет на свете таких сил, чтобы ей помешали. Будет светить солнце — Хомуня превратится в быстрокрылого сокола и стрелою полетит по ясному небу. Поднимется ветер, нахлынут тучи — обратится в быстроногого оленя и помчится по степным ковыльным просторам. Встретится с хищниками — сам обернется серым волком, но доберется до родины и найдет успокоение рядом с душами своих предков.
Бабахан, потупив взгляд, молча смотрел себе под ноги, на темную, плохо освещенную землю.
Все женщины ушли в саклю, остались только мужчины. Хурдуда подошел ближе к Хомуне, остановился за его спиной. Молчание было таким тягостным, что, казалось, не будет ему конца.
— Не терзай себя, Бабахан, — Хомуня снял с себя оружие, бросил его под ноги вождю племени. — Пусть кто-нибудь отвезет меня к Черным пещерам или в город, к Омару Тайфуру.
Все ждали, что скажет вождь. Но Бабахан не поднимал головы, будто прислушивался к земле, просил у нее совета.
Наконец он посмотрел в глаза Хомуне, вздохнул.
— А Чилле что, один остался у Острого колена, тебя никто не сменил?
Хомуня пожал плечами и, не выдержав взгляда вождя, отвернулся.
— Хурдуда, подай человеку его оружие, пусть отправляется к Чилле, — приказал Бабахан. — Остальным — спать. Завтра, как только всемогущий Хырт-Хурон ярким солнцем осветит землю, всем мужчинам рода надеть кольчуги, приготовить боевых коней, сабли, луки, стрелы и собраться у ворот. А ты, Вретранг, отправляйся домой. До Острого колена тебя проводит человек, за которым ты приехал, — Бабахан помолчал немного, затем спросил: — Как ты решил поступить с моим сыном, с Хурдудой, заберешь обратно или дашь мне возможность посмотреть, как он умеет владеть саблей? Мы будем драться с шайкой Черного уха.
— Я знал, что ты поступишь именно так, Бабахан, но боялся огорчить игумена. Отец Лука не хотел, чтобы люди твоего племени проливали кровь, — Вретранг подошел ближе к вождю. — В лесу, ниже Черных пещер, на рассвете меня будут ждать сыновья: Анфаны, Димитрий, Ботар, Библо и Сослан. Мы незаметно вольемся в шайку Черного уха и вместе с ней двинемся к твоему селению. Как только зазвенят клинки, сорвем с лица повязки и отсечем хвост у змеи. Вот почему я рассчитывал и на Хурдуду, дорогой Бабахан.
— В таком случае, вместо него возьми Саурона и Савката. Только хорошо присматривайся, Вретранг. Я еще не решил, где и как встречать гостей.
* * *
Вретранг нашел сыновей там, где и было условлено, не доезжая Черных пещер, в тесной котловине, скрытой от тропы густым лесом и нагромождениями песчаника, походившими на развалины древней крепости. Сыновья сидели у ручья, на утонувшем в высоких травах стволе подгнившей, с корнем вырванной осины. Прямо перед ними зияла большая, чуть вытянутая в сторону ручья воронка, в которой и исчезал бурный поток, катившийся откуда-то сверху, со стороны пещер. Анфаны проверял арканы, заново делал петли, если находил их недостаточно эластичными и прочными. Сослан то и дело поглядывал на лошадей, которые паслись рядом, временами срывал оранжевые колокольчики, одуванчики и астры, бросал их в ручей и наблюдал, как вода, урча, стремительно уносила цветы под землю. Димитрий, Ботар и Библо, прижавшись друг к другу, дремали.
Едва Вретранг, Саурон и Савкат появились из-за кустов, братья вскочили.
— Кому-то надо было и за дорогой следить, — слезая с коня, недовольно пробурчал Вретранг и, бросив повод Сослану, полез на верхнюю площадку каменной громады.
Внизу тропа проходила под самыми скалами и, хотя она была довольно извилистой, сверху просматривалась хорошо. Вретранг обернулся к сыновьям, позвал их к себе и объяснил задачу:
— Дорожка узкая. Двум лошадям рядом по ней не пройти. Но она все же легче, чем за лесом…
— Там вообще проехать не просто, — перебил его Анфаны. — Мы сделали два небольших завала.
Вретранг нахмурился.
— Не беспокойся, отец. Следов не оставили. Сбросили убитого медведя — камни сами и поползли.
— Ну, ладно, — махнул рукой Вретранг. — Думаю, что люди Черного уха не будут ехать все сразу, кто-то отстанет, а мы тем временем незаметно выскочим на тропу, — Вретранг показал на место, откуда дорожка круто поворачивала в сторону. — Вот здесь и будем по одному выезжать из лесу.
— Отец, разреши мне прежде заарканить пару грабителей и поднять их сюда, посмотрим, какие они из себя, — усмехнулся Анфаны и тут же добавил: — Вдруг Черному уху вздумается пересчитать своих людей.
Вретранг удивленно посмотрел на сына.
— А разве Черное ухо точно знает, сколько человек подойдет к пещерам? — спросил он. — Впрочем, можно попробовать. Только без аркана. Стоит одному из них вскрикнуть — и погубим дело, — Вретранг перешел на нижнюю площадку, подозвал сыновей. — Кинжал надежнее. Отсюда можно прыгать прямо на спину. Саурон спрячется под скалой, в нужный момент придержит коня и оттащит труп в кусты. — Вретранг повернулся к Анфаны. — Ты действуешь первым и, не мешкая, едешь дальше. Следом готовишься ты, Савкат, потом Димитрий, Библо, Ботар, Сослан.
Показались первые всадники. У каждого на лице — темный лоскут, только глаза и видны. Грабители ехали шагом, не отставая друг от друга. Вретранг волновался. Если все они будут так осторожничать, то вряд ли вообще удастся вклиниться в группу. Но вскоре тропа опустела. Вретранг вытащил из кармана тряпицу и повязал ее на лицо. То же самое сделали и остальные.
Следующие трое всадников проехали через несколько минут. Как только показался одиночка, Вретранг толкнул Саурона — и тот бесшумно соскользнул вниз. Анфаны вытащил кинжал, подобрался к краю скалы и притаился за ветвями барбариса. Братья замерли в напряжении.
Кроме Анфаны, всадника уже никто не видел. Поэтому ожидание было особенно томительным. Но вот внизу послышался негромкий цокот копыт, и Анфаны, взмахнув руками, оторвался от скалы и исчез.
Послышался слабый стон, и, пока Вретранг подполз к обрыву, Саурон, зажав рану бандита, чтобы кровь не пролилась на тропу, уже уносил тело в кусты. Анфаны спокойно ехал дальше. Лишь на повороте он оглянулся, помахал отцу рукой.
Вретранг поднялся, взглянул на тропу. Беспечно, негромко мурлыча песню, к скалам приближался следующий. Вретранг уступил место Савкату.
Вскоре Вретранг остался вдвоем с Сауроном. Приготовив лошадей и убедившись, что тропа свободна, они не спеша направились к пещерам.
Шайку Черного уха увидели на небольшой, не тронутой лесом площадке, у подножия скалистого гребня с черными пастями больших и малых пещер, словно паутиной опутанных живыми и засохшими корнями сосен. Черное ухо на кауром жеребце, украденном у Саурона, поднялся выше всех, к камням, и нетерпеливо посматривал на поднимавшееся из-за утеса солнце, готовое высветить его нестройное войско.
Люди все прибывали и прибывали, и Вретрангу казалось, это будет длиться бесконечно. Но вот, наконец, показался последний, по всему видать — помощник Черного уха, потому что, едва выехав из лесу, он выхватил саблю и покрутил ею над головой. Заметив сигнал, Черное ухо тотчас начал спускаться вниз и, призывно взмахнув рукой, повел грабителей вдоль гребня, к седловине, через которую быстрее всего можно добраться до селения Бабахана.
Вретранг дал знать сыновьям, чтобы держались рядом, не отставали и не вырывались вперед, а сам постоянно следил за предводителем. Поначалу Черное ухо ехал все время впереди, но когда дорога вышла на узкий карниз, ему вздумалось оглядеть свое войско. Он прижался к скалам, остановился и, ласково похлопывая ладонью жеребца, молча смотрел на проезжавших мимо него людей. Вретранг опасался, что Черное ухо так и останется позади, чтобы не подвергать себя опасности, но тот вскоре снова начал пробиваться вперед, подбадривал людей, приказывал сильно не растягиваться.
Черное ухо поравнялся с Вретрангом и некоторое время ехал рядом. Потом, ни слова не говоря, потихоньку начал обходить его, но тут же, услышав жалобный крик канюка, взглянул вверх и резко осадил коня. Вретранг тоже увидел выпорхнувшего из-за скалы коршуна и падающую на дорогу змею. Змея, а точнее — две ее половины, которые уронил канюк, упали рядом с жеребцом Черного уха. Главарь шайки подозрительно взглянул на еще живые, чуть вздрагивающие куски гадюки и обернулся.
— Если канюк роняет под ноги змею, это — к счастью! — крикнул ему Сослан, остановившийся рядом с Вретрангом.
Черное ухо громко захохотал и, ударив плетью жеребца, рванулся вперед.
Вретранг подъехал ближе к останкам змеи и увидел, что она вовсе не разорвана птицей, а скорее всего перерублена саблей. Да и не охотится канюк над скалами, его место — луга и большие поляны. Копытами коня Вретранг раздавил и смешал с пылью обе половинки змеи и поехал дальше.
Дорога широким полумесяцем протянулась вдоль скал, и Вретранг, оглянувшись, увидел, что он вместе с сыновьями находится в самом центре колонны. И тут он понял, почему сверху сбросили перерубленную посередине змею, — Бабахан послал ему знак, что решил отсечь половину банды обвалом.
Вретранг пришпорил коня. Пробравшись ближе к голове колонны, он приостановился, подождал сыновей и спросил у Сослана:
— А что, есть такая примета, со змеей?
— Нет, конечно. Разве не знаешь, где охотится канюк. Ясно, что не коршун уронил змею. Кто-то выпустил его на волю и бросил нам змею. Очень уж насторожился наш предводитель, вот я и крикнул, что на ум пришло.
Вретранг кивнул, глазами поискал Черное ухо.
Тот, наверное, поверил словам Сослана и спокойно ехал впереди колонны.
Каждую минуту Вретранг напряженно ждал обвала, но его все не было. Повернув за Острое колено, Вретранг с удивлением увидел, что ворота, поставленные перед въездом в селение, распахнуты настежь, рядом беззаботно играют мальчишки и, как ни всматривался, не заметил, чтобы там готовы были к обороне.
От Черного уха до ворот оставалась всего сотня шагов. Предводитель шайки, надеясь на легкую добычу, выхватил саблю и ринулся к селению. В тот же миг где-то за Острым коленом загремел обвал.
Вретранг увидел, как дети юркнули в сторону, их место мгновенно заняли лучники — и десятки стрел полетели навстречу Черному уху и его шайке. Впереди все смешалось, падали пораженные стрелами люди и кони.
— Не пора ли и нам, отец? — протиснулся к Вретрангу Анфаны.
— Прижимайтесь ближе к скалам, пропускайте бандитов вперед, — тихо подал команду Вретранг.
— Чего прячетесь? — в ту же минуту крикнул кто-то позади. — Смелее! Не трусь!
Вретранг оглянулся и по одежде, по широкому красному халату узнал помощника Черного уха, того, кто выезжал из леса последним. Вместе с ним, отстав на полкорпуса лошади, пробивался вперед огромный, богатырского сложения человек, без шапки, с длинными спадающими на плечи черными волосами и грязно-белым платком на лице. Глаза у великана ярко горели каким-то диким, безумным блеском.
Это был Валсамон.
— Гы-гы-гы-гы! Гы-гы-гы! — трубно рассмеялся он, увидев сыновей Вретранга, прижавшихся к скале.
Где-то за Острым коленом загремел новый обвал. Вретранг понял, что Бабахан решил никого не выпускать из своего ущелья.
И тут с саблями наголо из ворот выскочили конники племени. Не успел Вретранг оглянуться, подать сыновьям команду, они сами сорвали повязки и бросились на грабителей.
На Валсамона налетел Саурон. Конь грека споткнулся, упал на передние ноги. Валсамон не удержался, вывалился из седла и, дико вопя, полетел под обрыв.
Сеча была недолгой. Бандиты, на которых неожиданно напали сразу с двух сторон, в панике побросали оружие, соскочили с коней и стали на колени.
Вретранг начал пробираться вперед, к воротам. Недалеко от них увидел беглого раба, улыбающегося, возбужденного боем. Хомуня вытирал тряпкой окровавленную саблю, о чем-то рассказывал вождю, показывая на Хурдуду.
Бабахан, увидев Вретранга, поспешил навстречу.
— Спасибо, Вретранг. Ты хорошо помог. Твои сыновья живы? — спросил он.
— Все обошлось, Бабахан. Я вижу, у тебя тоже никто не пострадал. Нам пора отправлятся в город. Отец Лука ждет, волнуется.
— С богом, Вретранг. Я провожу тебя, заодно прикажу побыстрее расчистить завалы.
За Острым коленом два десятка воинов во главе с Ораком, старшим сыном вождя, на ремнях спустились со скал и без боя обезоружили вторую группу грабителей. Их же они заставили и расчищать дорогу. Погибших не хоронили, сбросили вниз, под обрыв.
* * *
Вскоре Вретранг уехал. Бабахан приказал собрать пленников на широкой площадке у Острого колена.
Из селения подошли женщины и дети. Они расположились чуть в стороне и, тихо переговариваясь между собой, смотрели на людей, которые только что хотели погубить их.
Бабахан подъехал к пленникам и спросил:
— Есть ли среди вас такие, кто не хотел расставаться с кинжалом?
Пленные молчали.
Присмотревшись, Бабахан увидел Черное ухо, спрятавшегося за спинами своих друзей.
— Подойди ближе, — приказал он, — я хочу лучше рассмотреть тебя. — И тут же, повернувшись к Хурдуде и Савкату, тихо сказал: — Разденьте его совсем.
Едва Черное ухо выбрался из толпы, его тут же схватили, сорвали с него одежды. Когда раздевали, за поясом нашли кинжал и кошелек Тайфура с золотыми монетами. Нож и кошелек передали Бабахану.
Женщины, увидев обнаженного разбойника, еще недавно наводившего на них ужас, рассмеялись и начали бросать в него камнями. Но Бабахан поднял руку, и они затихли.
— Зачем ты оставил себе оружие? — спросил вождь.
Черное ухо усмехнулся и опустил голову.
— Отведите его к обрыву, — сказал Бабахан и указал на пленных. — А этим стяните руки одним длинным ремнем, чтобы никто не вздумал бежать. Снимите с них шапки, рубахи, халаты, оставьте только салбары и обувь.
Кинжалы обнаружили еще у шестерых грабителей. Их повязали отдельно от остальных, отвели к обрыву и поставили недалеко от Черного уха.
Хомуня остановил Сырму позади жеребца Бабахана и, не слезая с коня, молча наблюдал, как победители стягивали пленникам руки, связывали их между собой. И тут он узнал четырех телохранителей Омара Тайфура. Среди них был и Аристин. Юный раб, равнодушно подставив руки Савкату, пристально смотрел на своего бывшего товарища по каравану. Взгляды Хомуни и Аристина встретились. Лицо молодого раба просветлело от улыбки. Хомуня отвернулся.
Бабахан подозвал к себе Саурона.
— Посмотри на этого человека, — указывая на предводителя шайки, громко, чтобы слышали все, сказал Бабахан. — Его зовут Черное ухо. Когда ты, Саурон, был еще младенцем, он оторвал тебя от груди матери и жестоко убил ее. Он хотел убить и русича, твоего отца, и тебя, но мои воины помешали ему.
Черное ухо слушал Бабахана, посматривал на могучего Саурона и смутно вспоминал давнюю историю, которой он никогда не придавал особого значения. Заметив, что Саурон потемнел лицом, выхватил саблю и в гневе переломил ее, Черное ухо отступил в сторону.
— Этого человека надо казнить, Саурон. Боги услышали мою молитву и дали возможность тебе самому отомстить за кровь матери. Сам реши, как отнять жизнь у Черного уха.
Вспомнив Аримасу, Сахира громко зарыдала и крикнула зятю:
— Убей его, Саурон!
Женщины дружно поддержали Сахиру.
Хомуня вытащил из ножен свою саблю и протянул Саурону. Саурон не взял ее. Он медленно подошел к Черному уху, схватил его за бороду, чуть потянул вверх. Плюнув ему в глаза, вернулся к вождю.
— Бабахан, пусть эти шестеро, — Саурон указал на стоявших рядом с Черным ухом связанных вместе людей, у которых оказались спрятанные кинжалы, — столкнут его в пропасть и он разобьется о камни. Ночью тело его растерзают дикие звери, и душа этого убийцы никогда не найдет успокоения, ее не примут ни боги, ни демоны.
Люди одобрительно зашумели, всем понравилось решение Саурона.
— Пусть будет так, — сказал Бабахан и повернулся к шестерым пленникам. — Столкните его в пропасть, — приказал он.
Бывшие соратники, выпятив вперед грудь, начали теснить своего вождя к краю обрыва. Черное ухо яростно бил кулаками по их лицам, толкал их, а сам медленно отступал назад. Уже падая, он дико взвыл, ухватил за волосы особенно ретивого и увлек за собой. Остальные тоже, связанные одним ремнем, не удержались, полетели вниз.
Толпа засмеялась, такой неожиданный исход борьбы связанных грабителей со своим вожаком устраивал всех.
Бабахан повернулся к оставшимся пленникам.
— Всем остальным я дарую жизнь. Вас отведут в верховья Куфиса, и за стадо баранов продадут в рабство князю Пазару. Он строит себе новую крепость, и без ваших крепких рук там не обойтись.
Вождь приказал женщинам собрать одежду пленников и поделить ее между собой.
Лишь после этого Хомуня решился обратиться к нему с просьбой.
— Бабахан, присмотрись к тому юноше, с кудрявыми рыжими волосами. Я уверен, он не по своей воле появился в шайке Черного уха. Человек он честный и добрый. Прости его и отправь к Омару Тайфуру или забери к себе. Зовут его Аристин. В трудную минуту, когда я остался без оружия и вынужден был бежать, он принес мне кинжал.
Бабахан недовольно поморщился.
— Не в моих правилах жалеть человека, который пришел со злом. Если бы боги не отвернулись от Черного уха, то и юноша этот, не задумываясь, отрубил бы нам с тобой головы.
— И все-таки, — настаивал Хомуня, — я прошу тебя, Бабахан, будь милосерден. Не все люди на добро отвечают злом. Я верю Аристину.
Вождь подозвал Савката, приказал отвязать и привести молодого раба.
— Тебя зовут Аристин? — спросил Бабахан.
Раб, выпучив испуганные глаза, стоял перед вождем и молча хлопал рыжими ресницами.
Хомуня повторил вопрос Бабахана по-гречески. Аристин улыбнулся, радостно закивал головой.
— Он что, не понимает нашего языка? — спросил Бабахан. — Кто он?
— Эллин, — ответил Хомуня.
Бабахан снова нахмурился. Эллинов он не любил. Кроме отца Димитрия, демонстративно ни с кем из них даже не разговаривал. Искренне считал, что эллины и их бог повинны были в гибели селения под снежной лавиной.
— Переведи Аристину, что он как был рабом, так и останется им до конца дней своих. — Бабахан подождал, пока Хомуня закончит перевод, и, не заметив ни радости, ни огорчения на лице юноши, добавил: — Я дарю его тебе, Хомуня. Отныне — ты его господин. Так и скажи своему эллину.
Аристин, услышав решение вождя, радостно засмеялся, стал перед ним на колени, поклонился до самой земли, потом быстро вскочил и, улыбаясь припал губами к сандалии Хомуни.
— Раб, он и есть раб, — презрительно усмехнулся Бабахан, плюнул на Аристина и направил лошадь к селению. Потом, обернувшись к Хомуне, сказал: — Я не приглашаю твоего раба в саклю. Пусть сидит где-нибудь рядом, под стеной, и спит под звездами. Там же и корми его.
Аристин захлопал ресницами, не понимая, чем он не угодил этому могущественному старцу.
Через неделю в селение приехал Анфаны и сообщил, что Омар Тайфур ушел с караваном за перевал, Кюрджи делает вид, что ничего не произошло. Игумен просит Саурона приехать, повидаться хочет.
— Передай игумену, Анфаны, что Саурон еще не вернулся от Пазара. Я его жду только завтра к полудню. Отдохнет ночь, а утром вместе с солнцем прибудет в город.
Хомуня, едва услышав, что купец покинул пределы Алании, почувствовал, как дрогнуло сердце. Как ни старался, Хомуня не мог сдержать своих чувств, они неожиданно хлынули наружу. Забывшись, он вслух прошептал благодарные слова Одигитрии и перекрестился, хотя в последние дни избегал этого делать в присутствии Бабахана, чтобы не будить в нем ненависть к Христу, чтобы неприязнь язычника к чуждой вере не отразилась на его добрых отношениях с вождем. Хомуня понял, что именно теперь наступило время его возвращения на русскую землю. Он переживал тревожную радость и не видел больше преград, способных помешать отъезду.
Бабахан, услышав шепот Хомуни, взглянул на него и поразился необычному состоянию, которое овладело гостем. Прикрыв глаза, Хомуня дрожащими пальцами быстро перебирал складки своей одежды, будто искал что-то, крестился, потом снова нетерпеливо и бессмысленно теребил одежду.
— Что с тобой, Хомуня? — спросил Бабахан.
Хомуня, очнувшись, смутился, но тут же овладел собой.
— Прости, Бабахан. Разволновался я. Спасибо, что ты приютил меня. Никогда я не забуду твоей доброты. И хочу сегодня же выехать к себе на родину, к своему племени. Ты разреши мне воспользоваться тем, что Анфаны возвращается в город, и ехать вместе с ним, — не дожидаясь ответа, Хомуня повернулся к Анфаны. — Ты мне поможешь найти игумена, того русича? Мне так захотелось увидеть его перед дальней дорогой, хотя бы словом обмолвиться с ним.
— Я тебя понимаю, Хомуня, но не надо так торопиться, — сказал вождь. — Дорога окажется трудной, если к ней как следует не подготовишься, не услышишь прощального слова близкого человека. Я сам подберу тебе и рабу твоему хороших коней, оружие. А сейчас поезжай с Анфаны, повидай игумена. — Бабахан улыбнулся и добавил: — Тебе обязательно надо сейчас поехать, хоть один раз сделать так, как самому захотелось. Без этого не почувствуешь себя свободным человеком. И побыстрее возвращайся, Хомуня, я буду ждать.
В пути Хомуня постоянно торопил Анфаны, просил ехать быстрее. Но тот медлил, все поглядывал на лошадь Аристина и покачивал головой. Привыкшая к неспешному движению в караване, она все чаще и чаще спотыкалась, останавливалась на крутых подъемах. Анфаны не выдержал, соскочил с седла и заглянул в зубы быстро уставшей лошади.
— Эта кобыла родилась в один день с твоей матерью, Аристин, — засмеялся Анфаны.
Аристин ничего не понял, лишь пожал плечами.
Пришлось почаще делать привалы. Хомуня нервничал, ругал себя за то, что не попросил для Аристина хорошего коня, такого же выносливого, как Сырма. Только теперь он убедился, насколько прав Бабахан — без крепких лошадей в далекий и опасный путь отправляться рискованно.
Однако плохо ли, хорошо ли, но добрались они благополучно. Как только впереди показались городские стены, Анфаны перестал заботиться о старой кобыле Аристина, пустил своего жеребца машистой рысью.
* * *
В монастыре, куда они пришли вдвоем с Анфаны, привратник сообщил, что игумена нет, отец Лука отдыхает на берегу Инджик-су. Привратник вызвался проводить их, но Анфаны заверил, что сам знает, где игумен любит посидеть в одиночестве.
Русича они увидели издали, с холма, по которому сбегала к реке еле приметная тропинка. Он сидел на скамейке, вкопанной между стволами двух высоких берез, и смотрел на бурную, лазорево-зеленую реку. Длинные редкие седые волосы его, рассыпавшись по сгорбленной спине, ярко белели поверх черной сутаны. Тут же, на скамейке, лежали костыли, клобук и маленькая нераскрытая книга.
— Ты, Анфаны, иди домой, — чуть заикаясь, поросил Хомуня. — Позволь мне самому побеседовать с отцом игуменом.
Анфаны взглянул на взволнованное покрасневшее лицо Хомуни и ему стало жалко этого оторванного от своего племени человека.
— Только скажи игумену о Сауроне, — напомнил он.
Хомуня молча кивнул головой и спустился к березам.
Сначала ему показалось, что игумен разговаривает сам с собой. Но когда подошел ближе и остановился в двух шагах позади него, понял, что русич поет и при этом чуть взмахивает правой рукой. Хомуня сразу узнал это песнопение, он разучил его еще в детстве, в церкви на Нерли, и потом часто пел с отцом, когда жили в Новгород-Северском. Игумен воспевал похвалу русским князьям Борису и Глебу, ставшим жертвой междоусобной борьбы:
Радуйтася, лукавого змия поправим, луча светозарна явистася, яко светиле озаряюща всю землю Русьскую… —пел игумен, и Хомуне чудилось, что он уже стоит не на берегу шумного Инджик-су, а на родной земле, у тихих струй Нерли.
Хомуня беззвучно шевелил губами, вслед за игуменом повторял слова песнопения. Потом обошел скамейку, стал перед русичем и в полный голос пропел:
Земля бо Руска благословися ваю кровью, и мощми лежаща в церкви…Игумен испуганно вздрогнул.
— Кто ты, русич? — тихо спросил он.
— Я — Хомуня, святой отец, иду на родную землю нашу, благослови меня перед дальней дорогой, — сказал Хомуня и опустился перед ним на колени.
— Хомуня? — игумен побелел, кровь как-то сразу отхлынула от его лица. Он попытался быстро встать, не глядя потянулся к костылям, второпях нечаянно столкнул их на землю. — Хомуня, брат мой! — воскликнул игумен и протянул руки.
Хомуня в радостном возбуждении схватил их и припал губами к бледным ладоням.
— Истинно так, святой отец, все русичи — братья, истинно так, — беспрестанно повторял беглый раб, осыпая слезами и поцелуями руки игумена.
— Хомуня, ты так похож на отца нашего, на Козьму. Таким вот я и запомнил его, когда последний раз виделись в Новгород-Северском. Разве ты не узнаешь меня? Я — Игнатий.
— Игнатий? — чуть не задохнулся Хомуня. — Игнатий? — пораженный неожиданной встречей, он вскочил на ноги и тут же бросился к брату.
Два старых человека, один — как лунь, другой — поседевший только наполовину, замерли в объятиях под двумя высокими березами. У обоих глаза наполнились слезами. Уже намокли щеки и бороды, но они еще теснее прижимались друг к другу. И только изредка слышалось:
— Хомуня!
— Игнатий, брат мой!
— Как же это так…
Внизу шумно пенился Инджик-су, лазорево-зеленоватые воды по узкому ущелью катились на север, к Куфису, чтобы вместе потом бежать дальше, к Тмутаракани. На дне, увлеченные бурным потоком, глухо бились друг о друга круглые, отшлифованные временем камни. Солнце торопилось к вершинам Мицешты. Две белых березы, притаившись, опустили тонкие ветви, тихо роняли на землю капли своего живительного сока.
— Хомуня!
— Игнатий, брат мой!
— Как же это так…
Дажьбог остановил на мгновенье солнце. Тяжелым красноватым шаром оно зацепилось за сосны, которые плотным зеленым одеялом прикрыли гору, застыло на самой вершине, кажется, сам бог бросил прощальный взгляд на теплую долину, на двух русичей, на двух внуков своих, застывших в объятиях. Прошел миг — и солнце медленно опустилось за гору. Река потемнела, прохладой затопила берег.
— Как же так, Хомуня, мы еще слова сказать не успели, а уже вечер. Как ты попал сюда?
— Я сбежал от своего хозяина, Омара Тайфура, Игнатий.
— Так ты и есть тот самый беглый раб? — поразился Игнатий и вскинул голову. — Помилуй меня, боже! Я чуть не погубил брата своего!
Игнатий оглянулся. На холме, перед спуском к реке, стояли люди. Он протер уставшие глаза и узнал Вретранга и его сыновей.
Аристин, беспокойно переживая долгое отсутствие нового хозяина, постепенно заразил тревогой весь дом. Вретранг не выдержал и, опасаясь, что ему придется держать ответ перед Бабаханом, если вдруг что случится с гостем, отправился на поиски. К нему присоединились и сыновья.
Русичей они нашли там же, где их оставил Анфаны, но не посмели мешать и долго стояли на холме, ждали. Спустились вниз лишь тогда, когда игумен позвал их.
Потом они вместе шли к дому Вретранга. В центре — игумен и Хомуня. Игнатий так и шел без клобука, с растрепанными волосами. Размахивая костылями, он снова и снова рассказывал, как увидел брата. Если на улице встречался человек, которого хорошо знал, игумен останавливал его, показывал Хомуню и опять повторял рассказ.
7. Все, что должно
Игнатий все же решился поехать к Бабахану. И не только потому, что встреча с Хомуней придала силы, заставила ослабевшее с годами сердце работать так, что он чувствовал, как его жилы заново наполняются животворной кровью, точно так же, как вымерзшие за зиму ручьи по весне опять превращаются в стремительные молодые потоки.
Завидуя Хомуне, величию его самообладания и настойчивости, он и сам загорался такой же устремленностью. И вместе с тем, у него хватало мужества трезво оценить свои силы, осознать и правоту, и вину свою перед Хомуней, перед всей землей русской.
— Какая у человека цель? — словно оправдываясь перед младшим братом, спрашивал он. И сам же отвечал: — Человеку надо жить, совершая все, что должно, благоразумно выбирать то, что соответствует его природе и предназначению.
Они сидели вдвоем в маленькой коморе, в доме Вретранга. Хомуня соглашался, не возражал, однако говорил о своем.
— Разве человек не должен плодиться на той земле, где жили его предки, разве русская земля не перестанет быть русской, если сыновья покинут ее или отдадут топтать чужим коням?
Эти слова звучали укором Игнатию, он волновался, перекладывал с места на место свои старые костыли, сердился.
— И я стремился на Русь. И я собирался хоть малую толику сделать, чтобы процветала наша земля. Когда у князя Юрия не получилась жизнь с грузинской царицей, я первый уговаривал его вернуться домой. Но не нам командовать князьями, а им — нами. Строптив больно, не захотел идти на поклон к великому князю Всеволоду.
* * *
Игнатию вспомнилось, как в Константинополе, незадолго до свадьбы русской княжны и императора Алексея, он пришел с князем Юрием на форум Быка — главную торговую площадь города, украшенную многочисленными античными статуями. Было раннее утро, жара еще не наступила, и площадь была такой многолюдной, что походила на переполненный улей.
Удивительно то, что в этом-то столпотворении и довелось им нос к носу столкнуться с русскими послами, которые привезли в Константинополь княжну Евфимию. Среди послов оказались люди, которые хорошо, еще по Новгороду и Владимиру, были знакомы с князем. Признав его, послы бросились в обнимку. Но князь Юрий гордо — обиженный на всех — поднял голову, отстранился от русских людей и, приказав Игнатию не задерживаться, ушел прочь.
После той встречи Игнатий еще долго жалел, что послушался князя. Может, давно бы на Русь возвратился? Но тогда не узнал бы Аримасы и не было бы у него Саурона.
Игнатий задумался. И Хомуня не стал мешать ему. Он понимал, что надо бы сменить разговор, чтобы отвлечь брата от тягостных мыслей. Но разве сумеешь думать об одном, а говорить другое? Ему и самому тяжело. Пройти через годы скитаний, обрести, наконец, родного человека и тут же по собственной воле потерять его. Это какие силы нужны, чтобы сделать такое?
— Прости меня, Игнатий. Не хотел тебе причинить боль. Я совсем не о том говорю, чтобы ты немедля на Русь собирался. Наоборот, себя оправдать хочу. Ведь не дело, что мы, родные братья, всяк своей жизнью жить будем. И куда тебе ехать? Здесь сын у тебя, внуки.
— Вот-вот, — подхватил Игнатий. — Сын, внуки. А вижу я их, детей своих?
— Так в том не они виноваты, Игнатий, — попытался вразумить его Хомуня. — Не они. Ты в монахи постригся, ушел от мирских дел не потому, чтобы быть ближе к богу. Ты через бога хотел постоянно общаться с душой Аримасы. А не получилось того. И ты сам об этом знаешь, да признаться боишься. Потому ты к Вретрангу и тянешься, что детей у него полон дом. Сразу двумя дорогами хочешь идти, брат. А они разные. Вот и ступил на ту, которая ближе. Тебе кажется, что ты всю жизнь подле Аримасы прожил, а здесь только прах ее. Душа ее там, у Бабахана. Не с тобой, а с сыном и внуками. Не они, а ты отделился от них.
Эти слова больно ударили Игнатия. Он сидел сгорбившись, а тут — резко выпрямился, вскинул руки, словно пытался ими защититься от Хомуни, нечаянно зацепил костыли — и они загремели, столкнули кувшин с вином, который нетронутым так и стоял с самого утра. Разбился кувшин, вино разлилось по полу. Хомуня даже растерялся, не тронулся с места и не отводил глаз от Игнатия. Кровь отлила от лица брата, побелел он, руками уцепился за ворот. Потом Хомуня бросился было, хотел помочь расстегнуть сутану, но Игнатий не дал, отстранил руки.
— Твоя правда, Хомуня. Я давно чувствовал это. Когда стал получать вести о внуках. Все хотел ступить на другую дорогу, о которой ты сейчас говорил мне, да не решался. А она, дорога эта, с каждым годом все дальше и дальше от меня уходит, так что на моих костылях до нее и не добраться. Человек-то, Хомуня, оказывается, каждый день должен обладать мужеством желать лишь того, что ему на самом деле нужно. Видно, мужества этого у меня и не хватало.
Хомуня улыбнулся, подвинул свою скамейку ближе к Игнатию, положил руку ему на плечо, спросил, хитро подмигнув брату:
— Ты сколько в этом городе живешь безвыездно?
— Я же рассказывал тебе, как привез умирающую Аримасу.
— А птиц у вас здесь всегда было много, как этим летом?
Игнатий пожал плечами.
— Я не присматривался, но, по-моему, всегда. Не пойму, к чему ты клонишь.
— А ты видел хоть раз в жизни мертвую птицу в городе? Не убитую, а умершую.
— Не видел. Где же они умирают?
— Я тоже не знаю, Игнатий. Наверное, улетают куда-нибудь в горы, глухие места. Подумай, даже они, хотя силы уже покидают их, поступают так, как им предопределено природой. Недаром говорят, что лучше на родине костьми лечь, чем на чужбине быть в почете.
Игнатий тяжело вздохнул.
— Горько мне, Хомуня. Хоть облюбовал я себе место подле Аримасы и завещал об этом братии своей, но все же больно, что не в русской земле покоиться будут кости мои.
Хомуня расстегнул рубаху, снял с шеи энколпион, поцеловал изображение Одигитрии с младенцем, протянул крест Игнатию.
— Возьми, брат. В нем кусочек земли и сухая травинка. Еще там, в Боголюбове, отец надоумил взять их с собой. Хоть и кроха, а все же родная земля, — Игнатий вскинул руки, отстранил энколпион с русской землей, слишком щедрым показался подарок брата. — Бери, бери, — настоял Хомуня. — У меня скоро вся Русь в руках будет, прах мой растворится в земле ее. А крест, что ж, попрошу — мне Ботар сделает не хуже этого. А ты освятишь его.
В тот день и надумал Игнатий поехать к Бабахану, пожить там до весны. Его преосвященство епископ Феодор разгневался, когда игумен пришел испросить на то разрешение. Но все же согласие дал, высказал при этом надежду, что игумену удастся вернуть племя Бабахана к вере православной. К концу беседы он так загорелся этой идеей, что даже позволил взять свою карету на мягком ходу.
Провожали игумена отец Димитрий, вся монастырская братия, пресвитеры церквей, ремесленники. А под конец, когда карета миновала городские ворота, запоздало подъехал и алдар Кюрджи.
— Быстрее возвращайся, отец Лука. Нам трудно будет без тебя, — целуя игумену руку, сказал он.
И хотя игумен не поверил его словам, а все же польстило. Они, может, и не от чистого сердца сказаны, но Кюрджи все же приехал проститься. Потому что влияние игумена на горожан не меньше, чем у самого алдара, а может, и больше. Если князь силой берет, на дружину опирается, то игумен — сердцем и словом.
И Хомуне приятно, что брата почитают в городе, значит, недаром Игнатий состарился здесь, о бесполезном человеке так не радеют.
* * *
Дни, как вода в Инджик-су, катились быстро. Солнце остывало. С каждым днем оно палило все меньше и меньше. Люди уже не искали тени, не прятались от солнца, как прежде, а наоборот, все чаще и чаще подставляли ему спину, будто впрок запасались теплом, как хлебом на зиму. Лес попритих. Молодые деревца и кустарники, словно невесты, торопливо начали примерять наряды, подкрашиваться: то желтым чуть-чуть вспрыснут верхушки, то коричневым, то бурым с красноватыми подтеками.
Зверь откормился, потяжелел, ленив стал. Только кабаны все так же неугомонны. Чуть солнце скрылось за гору, сумрак окутал склоны — пошли бродить по криволесью, в дубняках, под пихтами, буками, собирать желуди, орехи, яблоки, груши.
Зубры покидали высокогорные луга. Трубный рев могучих быков по утрам слышали даже в селении. Самцы собирали гаремы, рыли копытами неподатливую землю, точили рога о деревья. Едва завидев соперников, наливались злобой, грозно опустив головы, бросались отстаивать свои права от блудливых пришельцев. Самки, стоя чуть в стороне, пугливо посматривали на разъяренных соперников, ждали исхода сражения. Кто победит, тот и будет владеть гаремом. Так предопределено свыше, самой природой. Ибо от слабого, никчемного быка родится и слабое потомство, запаршивеет стадо, не способно будет выстоять в жестокой борьбе за жизнь. Самец ценою крови должен доказать, что только он достоин ласкать подруг своих, только от него им дозволено будет произвести на свет теленка, чтобы сила могучих отцов вечно сохранялась и в детях и во внуках, чтобы жизнь продолжалась вечно.
В ущельях — необыкновенно сухо. Дождей не было. Реки обмелели. Ручей, раньше шумно спадавший со скал подле сакли Бабахана, теперь еле слышно ворковал в расщелине.
Наступил день, когда Бабахан велел развести большой костер, заколоть жертвенных баранов и лошадей, сотворить молитву Хырт-Хурону, чтобы дал Хомуне счастливую дорогу.
Хомуня сидел с Игнатием на длинной широкой скамье, поставленной неподалеку от сакли, и смотрел, как, придирчиво оглядывая друг друга, из дому выходили празднично одетые девушки и молодые женщины. Почти на всех были расшитые бронзовым бисером шелковые или льняные платья, островерхие шапочки, легкие сандалии. Но наряднее всех выглядела Айта. Ее алое платье отличалось от остальных и ярким цветом, и удачным сочетанием серебряного и бронзового бисера, и замысловатым строгим узором, и отделкой. Специально для нее платье заказывал Игнатий у лучших мастеров города по меркам, которые привез ему Анфаны.
Айта, радостная, зардевшаяся, подскочила к Хомуне, похвалилась обновой, присела рядом на скамейку, подальше от Игнатия. Игумена Айта побаивалась. Хоть и сказали ей, что он — дед ее родной, как и Бабахан, но слишком строг этот монах из Аланополиса, в черной сутане чужим казался. Еще не узнала душу его: добра ли она, нет ли.
Хомуня поправил Айте островерхую шапочку, украшенную серебряным венчиком и позолоченными подвесками с круглыми янтарными бусинками, специально для нее сделанными Ботаром.
Вышел Бабахан в новом пурпурном халате, подозвал к себе внучку, пошептал что-то на ухо и отправил к священному камню. Там уже собрались почти все жители селения, ждали вождя и Хомуню. Но Бабахан медлил, часто поглядывал на ворота, на солнце. Оно поднималось все выше и выше, становилось теплее, лучами своими ласково обнимало всю землю, и селение, и людей.
Наконец, прибыли те, кого так ждал Бабахан, — Вретранг с сыновьями. С ними же и маленькая Альда и Русудан. Едва успели поставить коней, Бабахан подал сигнал — и запылал костер, пролилась на землю горячая кровь жертвенных баранов и лошадей. Застучали барабаны, запела зурна, юноши и девушки взялись за руки, поплыли в танце.
Тут же, почти у самого обрыва, на ровной и длинной поляне собрались желающие померяться силой. На боевых конях, с оружием, показывали удаль и молодечество, умение владеть саблей и секирой, пускали стрелы.
Аристин стоял позади Хомуни и Игнатия, с завистью смотрел на скачки, на игру юношей. Он тоже хотел бы показать свое умение, но Бабахан не позволил, сказал, что дело Аристина прислуживать хозяину.
Игнатий болел за внука своего, Баубека. Позабыв о сане и возрасте, громко кричал, размахивал клобуком, радовался каждой его победе, сокрушенно огорчался, если Баубека постигала неудача. Хомуня искоса поглядывал на Игнатия, и сердце его сжималось от того, что наступил этот день, праздничный и грустный, когда приходится навсегда прощаться с братом, чудом обретенным в этих далеких ущельях.
Потом снова собрались у священного огня. Бабахан просил Хырт-Хурона и покровителя путников Уастырджи дать счастливую дорогу Хомуне, уберечь его от недобрых людей, от болезней, от диких зверей, от непогоды, от порчи и от всех других бед, которые подстерегают человека.
Закончив молитву, Бабахан поискал глазами Саурона, подозвал ближе, велел привести коней. Саурон бегом кинулся за угол сакли и тут же вернулся обратно, но уже вместе с Савкатом, Анфаны и Сосланом. Они подвели и передали Хомуне четырех коней. Два были навьючены всем необходимым в дороге: одеждой, обувью, походным шатром, продуктами; два коня — под седлом. Гнедой скакун арабских кровей, которого привел Саурон, сверкал богатой сбруей, роскошным золоченым начельником, сделанным в виде небольшой фигурки женщины с чашей в руках, символом дружбы — последняя работа Ботара. Уздечка и сбруя коня густо покрыты были серебряными и бронзовыми, с позолотой и чернью, орнаментированными бляшками, седло украшала яркая шелковая накидка. На груди у гнедого висела треугольная кожаная сумочка с вышитыми по ней павлинами — священными птицами древности. К седлам обоих верховых коней приторочены колчаны, полные стрел, сабли, маленькие боевые секиры на длинных ручках, кольчуги, остроконечные войлочные шлемы.
— Теперь, Хомуня, у тебя все есть для дальней дороги, — сказал Бабахан. — Возьми еще этот кошелек с золотыми монетами. Омар Тайфур уплатил их Черному уху за твою голову — так пусть тебе они и достанутся.
Хомуня, растроганный до слез, пытался отказаться от денег, и так уж слишком щедрыми были подарки Бабахана и Вретранга.
— Бери, — успокоил его Саурон, — нам все это не нужно. Золото и деньги только в городе имеют ценность. У нас же, в ущельях, главное богатство — скот. От него берем и пищу и одежду.
Подошла Айта. Остановилась чуть в отдалении, нетерпеливо переступала ногами, краснела от волнения, ждала, когда отец закончит говорить с Хомуней.
Наконец Саурон отступил в сторону, Айта подскочила к Хомуне, протянула ему маленького, вырезанного из красного тиса коня с всадником на спине.
— Пусть он принесет тебе счастье, — сказала она, смутилась и отошла.
— Это не простой талисман, Хомуня, — пояснил Бабахан. — Благодаря ему люди обретают правильную дорогу. Я расскажу тебе историю, связанную с этим конем и всадником. Запомни ее. Ты еще не так уж и стар, найдешь жену себе, родишь сыновей. И передашь им талисман и расскажешь то, о чем услышишь сейчас. Они же передадут талисман детям и внукам своим.
Так слушай. Давно это было. Так давно, что уже никто не помнит когда. Наши предки не всегда жили в горах, тогда они кочевали по степям, пасли скот в тех местах, где реки не бросаются с вершин, в пыль разбиваясь о камни, как в наших ущельях, а текут медленно, словно они не подвластны быстро бегущему времени. Пастухи присматривали за стадом, шили себе одежды, молились богам, посвящали им песни, изображали их в камне и дереве, лепили из глины. Конь кормил наших предков, одевал их, на спине своей уносил от жестоких врагов, которых ты знаешь, у каждого человека намного больше, чем верных друзей. Так было. Так есть. Так будет вечно.
Такие талисманы, как тебе подарила Айта, хранились в каждой юрте. Их вырезали те мужчины, чьими руками повелевают боги, наделяют способностью в куске дерева увидеть коня и всадника. А дарили талисманы друзьям только юные девы, потому что душа их еще переполнена любовью, добротой и доверием, не испорчена черствостью, обманом, завистью, коварством и всеми другими пороками, которые мы получаем от демонов.
Однажды боги разгневались на предков нашего племени, послали им слишком жаркое солнце и сильные ветры. Травы потеряли влагу, хрустели под ногами, ломались и тут же превращались в пыль. Скот истощал, кони ослабли. И когда темной ночью стоянку племени окружили враги, то спастись удалось немногим. У пастуха по имени Ксай отняли юрту, лошадей, скот, а его самого вместе с женой, сыном и дочерью увезли в далекие страны, такие далекие, что он и не знал обратной дороги. И ничего у них не осталось, что напоминало бы о принадлежности к племени. Только одежда и этот маленький талисман, который хранился на груди у дочери пастуха. Но одежда вскоре превратилась в лохмотья, они ее выбросили, приобрели себе новую, а деревянный конь с всадником остался.
Много с тех пор родилось и состарилось внуков у того пастуха, пока появился на свет Поксай, потом его сын Ипоксай. Из поколения в поколение переходил талисман, а вместе с ним и тоска по своему племени. И тогда сказал Поксай своему малолетнему Ипоксаю: «Пойдем с тобой вместе, сын мой, и найдем свое племя». Долгие годы шли они по земле, от народа к народу, спрашивали у людей, не видел ли кто из них такого деревянного коня и всадника, вырезанных из одного куска дерева? Люди смотрели на талисман, пожимали плечами, давали странникам пищу, одежду и те уходили в новые земли. Они шли так долго, что состарился и умер в дороге Поксай, вырос и возмужал Ипоксай.
Наконец, он пришел в наше ущелье, устало опустился на камни и долго сидел, понурив голову, пока подошли к нему люди и спросили: «Кто ты, путник, и что тебя привело в наши горы?» Ипоксай встал, поклонился людям и сказал: «Меня зовут Ипоксай, я ищу соплеменников своих». И люди спросили: «Кто твои предки, к какому роду они принадлежали?» — «Я не знаю — ответил Ипоксай. — Но все они хранят вот такого коня и всадника, вырезанных из одного куска дерева».
И тогда самая красивая девушка селения обнажила свою грудь и показала точно такой же талисман, висевший у нее на золотой цепочке. Ипоксай взял ее в жены, и стали они жить счастливо, родили много детей себе.
— И ты береги талисман для потомков своих. Помни, теперь у людей нашего племени течет кровь брата твоего, — сказал Бабахан и обнял Хомуню. — Поезжай, пусть боги помогут тебе.
Игнатий и Саурон проводили Хомуню до самых ворот. Они шли рядом, опустив головы, молчали. Только костыли жалобно поскрипывали уставшим деревом. Наконец пришли. Обнялись.
— Кланяйся Русской земле, — обнимая брата, сказал Игнатий. Губы его задрожали, на глазах блеснули слезы.
И больше ни слова не мог произнести Игнатий. Совсем расстроился. Только в конце, когда Саурон помог Хомуне подняться в седло, еле слышно промолвил:
— Прощай, брат. Хорошо, что ты есть на свете. Береги нашу Русь.
У Хомуни тоже остановилось сердце. Слишком тяжким было расставание. И с братом. И с его сыном Сауроном. И с Бабаханом. И с Айтой. Со всем их родом. И с селением, где обрел себе, наконец, свободу. Его мучило то, что он больше никогда не увидит Игнатия. И это было так тяжело, что Хомуня уже колебался — стоит ли уезжать ему, если здесь остался брат его? И если бы Игнатий, оросив щеку Хомуни своими слезами, произнес лишь одно слово — «останься», Хомуня возвратил бы лошадей Бабахану. Но Игнатий сказал: «Береги нашу Русь».
Аристин ехал следом. Ему хотелось поговорить с Хомуней, сказать, что он будет предан ему до конца своих дней. Он даже попытался сравняться с ним, поехать рядом, насколько позволят поводья заводных лошадей. Но заглянув в лицо своему хозяину, Аристин сразу отстал. Хомуня ехал с закрытыми глазами, отдал дорогу лошади.
* * *
У Острого колена Хомуня приостановился, полой халата промокнул лицо, оглянулся. У ворот стояли Игнатий, Саурон, Бабахан, Вретранг, их дети. Хомуня вытащил из-за пояса шапку, помахал ею над головой.
Люди в ответ взмахнули руками, кричали что-то, но Хомуня не разобрал слов, отвернулся, пустил коня рысью.
* * *
Поздним вечером, в тех местах, где Инджик-су выходит из тесного ущелья и более спокойно бежит между холмами и невысокими пологими горами, свернули с дороги и через густой лес поднялись на взгорье, нашли удобную для ночлега поляну, расседлали и спутали лошадей.
— Господин, мой, — решился заговорить Аристин, что прикажешь подать на ужин? У нас есть лепешки, сыр…
— Я сам приготовлю, Аристин, — перебил его Хомуня и усмехнулся. — С этой минуты я уже не хозяин тебе, а ты мне не раб. И когда доедем туда, где Инджик-су соединяется с Куфисом и вместе с ним поворачивает на запад, мы попрощаемся с тобой. Мой путь — через Гипийские горы — на север, твой — по течению Куфиса. Доберешься до Херсонеса, а там — куда хочешь: то ли в Константинополь, то ли в Трапезунд. Дело твое. Ты теперь свободен в выборе.
Аристин не ответил. Молча развязал вьюк, поставил шатер. Так же молча поужинали и улеглись спать. Хомуня — в шатре, Аристин — рядом, завернулся в бурку. Каждый думал о своем. Хомуне было грустно, все переживал расставание с Игнатием и пока совсем не испытывал радости возвращения на родину, тоска и тревога овладели им полностью.
Поднялись до восхода солнца и сразу отправились в путь. Селения, если они встречались на пути, объезжали стороной, старались меньше попадать на глаза людям. Так спокойнее и безопаснее для одиноких путников.
Через несколько дней они были уже на правом берегу Куфиса. Остановились на отдых в небольшой порыжевшей от осени, рощице, пустили лошадей подбирать скудную, полусухую траву. Хомуня смотрел на исхудавших лошадей и думал, что ему не следует так торопиться, надо чаще делать привалы, давать возможность коням напастись вдоволь, иначе упадут, а пешком, да еще в зиму, далеко не уйдешь.
Аристин раздул костер, пристроил котелок на треноге, подошел к Хомуне и сел рядом.
— Хомуня, ты как-то мне говорил, что хорошо знал мою мать? — спросил он.
Хомуня кивнул головой.
— А ты мог бы указать могилу ее?
— Нет, Аристин. Ты же знаешь, как зарывают рабов, лишь бы смрадом не несло в город. Им надгробий не ставят.
— А отца моего ты знал?
— У нее не было мужа, Аристин.
— Вот видишь, — вздохнул раб, — Бабахан правду сказал: рабом я родился, рабом и помру. Ты уж не гони меня, позволь ехать с тобой, будь моим господином.
Хомуня улыбнулся.
— А ты не смейся. С детских лет я прислуживал Тайфуру, привык делать все, что прикажут. По-другому и жить не умею. Ты говоришь, что я человек свободный. Свободе еще научиться надо, я боюсь ее.
— Мой путь нелегок, Аристин, и полон опасности.
— Один бог знает, что каждого из нас ждет впереди. Да и не боюсь я смерти, даже люблю поиграть с нею.
— Молодой, оттого и не ценишь жизнь. Ты сначала вырасти хлеб, построй дом, нарожай детей, сотвори все, что должно, тогда и в гроб ложись. Только, боюсь, не захочешь помирать-то, будешь у бога просить еще маленькую толику дней, чтобы земные дела завершить, — Хомуня заглянул Аристину в глаза. — На тот свет отправляться не играючись надо, а так, чтобы польза была.
* * *
Едва выехали из рощи, с востока налетел ветер, приклонил к земле жесткие травы, сорвал с одиноких деревьев и рассеял по дикому полю пожелтевшие листья. Похолодало. Откуда-то сверху принесло и бросило за пригорок стаю черных ворон. Хомуня не удержал бурку, она, словно птица, взмахнула крылами, слетела с плеч. Ее тут же перевернуло, закружило, смяло тугим разъярившимся ветром и кинуло на темные кусты терновника, облепленные крупными синеватыми ягодами.
У лошадей разметало гривы, они опустили головы, но устояли, только шире расставили ноги. Хомуня соскочил на землю, подбежал к кустам, схватил бурку, попытался надеть ее. Но Стрибог совсем расшалился — захотелось, видно, ему поиграть с русичем — поднатужился, дунул еще сильнее, и в резком порыве бросил Хомуню на упругий терновник.
Хомуня хохотал, барахтался в ветре, никак не мог оторваться от цепких колючек. Но исхитрился все же, одолел Стрибога и снова взобрался в седло.
Гипийские горы были почти рядом. Манили к себе пологими, почти сплошь покрытыми лесом, вершинами. Хотелось быстрее взобраться туда и посмотреть вокруг.
Где она, Русь?
Далеко ли до нее?
· · ·
Словарь-комментарий
Аланополис — средневековый город в ущелье Большого Зеленчука, на территории современного поселка Нижний Архыз. Точное название этого города утрачено. В XIX веке местные жители его называли Маджар-Оунне, т. е. «кирпичные дома». Кабардинский просветитель Ш. Ногмов называл его Эллигхнеяунне, т. е. «дом эллинов», «греческие дома». Первые русские исследователи развалин города и сохранившихся до нынешнего времени храмов обнаружили в одном из них (Северном) надпись на греческом языке, которую перевели: «Святой Николай покровитель Аспе». Предполагалось, что город назывался Аспе или Успа. Позже было доказано, что перевод надписи сделан неправильно. Доктор исторических наук В. А. Кузнецов, известный исследователь средневековой Алании, считает, что город в ущелье Большого Зеленчука в Х–XIV веках являлся центром аланской епархии (здесь на сравнительно небольшой площади сосредоточено самое большое количество христианских церквей) и административно-политическим центром Алании в Х–XII веках. И назывался город, как и указывали средневековые писатели, — Магас или Маас (транскрипция, которой придерживается В. А. Кузнецов). Маас в переводе со скифо-сарматского на русский язык означает «большой», «высокий». Но автор повести, по совету В. А. Кузнецова, назвал этот город иначе — Аланополис. Хотя это название и не соответствует научным предположениям, в художественном произведении оно вполне приемлемо, т. к. отражает и то, что город этот принадлежал аланам, и то, что в его строительстве принимали участие византийские зодчие, греки, христианские проповедники.
Аланы — народ сарматского (сармато-массагетского) происхождения. Первоначально были степными кочевниками, говорившими на древнеиранском языке. В Х–XII веках на Северном Кавказе было образовано Аланское централизованное государство. Ко времени описываемых событий (начало XIII в.) Алания переживала период феодальной раздробленности. Бесконечные феодальные междоусобицы, межплеменные и межродовые распри привели к распаду государственной системы. Аланы — предки современных осетин.
Архистратиг — военачальник, главный воевода; придаточное к имени Архангела Михаила.
Астрагал — таранная кость в ступне, между берцом и пяткою; бабка, козан.
Болонь — низменное поречье, пойменный луг.
Борис и Глеб — сыновья Владимира I, Святого, в междоусобной борьбе были убиты братом, Святополком Окаянным. Церковью канонизированы, т. к., по легенде, не захотели поднять оружие на брата, что предлагала им дружина.
Братчина — складчина, праздник за общий счет, устраиваемый обществом.
Брении — нечистоты.
Бронь — кольчуга. Бронь с зерцалом — кольчатая железная рубашка с латами (зерцалом), соединенными с кольчугой.
Великий Дон — Северский Донец.
Витень — см. пеньковый витень.
Гипийские горы — такое название в период средневековья носила Ставропольская возвышенность (локализация ленинградского археолога А. В. Гадло).
Горясер — приближенный Святополка Окаянного. Горясер был послан Святополком убить Глеба.
Десница — правая рука, а также вообще рука.
Детинец — внутренняя крепостца; стена с бойницами, воротами, башнями, ограждающая важнейшую часть города, дворец, казну и пр.
…два полных круга и еще один год прожила Аримаса — круг состоял из 12 лет: первый — год мыши, второй — быка, третий — рыси или барса, четвертый — зайца, пятый — крокодила, шестой — змеи, седьмой — коня, восьмой — барана, девятый — обезьяны, десятый — курицы, одиннадцатый — собаки, двенадцатый — свиньи.
Див — мифическое зловещее существо, враждебное русским, представляемое в облике птицы (по Н. К. Гудзию).
Еминеж — заклятый враг человечества, чудовище, бытующее в кавказском фольклоре и эпосе; хвостом разбивал жилища, поражал своих противников.
Железные ворота — так называли Дербент, стены которого замыкали проход между Каспийским морем и Кавказскими горами. Дорога проходила по одному из ответвлений так называемого «шелкового пути» — вверх по Кубани, по местам современных населенных пунктов: Карачаевск, Верхняя Мара, Учкекен, мимо Рим-горы, на которой располагался средневековый аланский город Фуст, и далее на Дербент.
Зелие — трава, зелень; лекарство; яд.
Зерцало — латы.
Инджик-су — вода лазорево-зеленая. Зеленчук. Имеется в виду Большой Зеленчук.
Ирмос (црк.) — вступительный, оглавный стих, показывающий содержание прочих стихов песни или канона.
Ирмологий (црк.) — книга, содержащая ирмосы восьми голосов.
Капище — место нахождения капов — идолов. Языческий храм, место отправления языческих культов.
Касоги — черкесы.
Катуна — жена.
Катур — верхняя подпруга, череспоясник по седлу, сверх подушки.
Кичига — длинная палка с плоским расширением на конце. Употреблялась для молотьбы, а также для выколачивания мокрого белья.
Клевец — оружие типа молоточка или топорика для проламывания доспехов.
Клобук — монашеский головной убор.
Ключник — управитель в доме (ведающий ключами).
Копье — отряд, подразделение в полку, восемь-десять человек.
Куколь — чернуха, сорная трава и ее семя в хлебе; головня, плевел, роженец.
Кундюмы — грибные пельмени.
Куны — деньги.
…купец из страны Лазов. — Лазы, Лазика — располагалась у устьев реки Риони (Грузия).
Куфис — средневековое название Кубани.
Лагодить — потворствовать, делать приятное.
Ложница — спальня.
Молодечная — караульное помещение; казарма, где находилась дружина, охранявшая княжеский двор.
Мякитишки (диалект. Владимирск.) — женская грудь.
Навьи, навь — мертвец, покойник, чаще всего утопленник.
Непраздна — беременна.
Обло, облый — круглый, закругленный. Рубить в обло — вырубать чашку, полукруглый паз в бревне.
Опашень — долгая распашная верхняя одежда с короткими широкими рукавами (обычно летняя).
Октоих — восьмиглавник, книга церковного пения на восемь голосов.
…от Понта до Гургана — от Черного моря до Каспийского.
…от Спер до Дербента — линия от Трапезунда к Карсу.
Отроки — младшая дружина. Отрок — дитя, подросток, юноша; дружинник из личной охраны князя, воин; слуга, работник.
…отсек от тела Андрея левую руку — летописец, предположительно Кузьмище-Кыянин (по Б. А. Рыбакову), в повести об убиении Андрея Боголюбского написал, что Петр отсек правую руку, но княгиню Улиту изобразил держащей левую руку князя. Антропологическое обследование останков Андрея подтвердило правильность рисунка, а не текста.
Ошхамахо (черкесск.) — гора Эльбрус.
Павсикакий — святитель, в переводе с греческого — прекращающий зло.
Пардус — гепард, барс.
Пахва — подхвостник, ремень с очком от седла; в него продевается хвост лошади, чтобы седло не съехало коню на шею.
Пеньковый витень — факел.
…переселиться на восток, в Монголию или в Поднебесную страну… в Китай — в китайской «Юань-ши» («История монголов») сообщалось о заслуженных аланах, находившихся на службе в Монголо-Китайской империи: Хан-ху-сы («был правителем владения асов и получил от монголов золотую пайцзу»), Юваши, Дудан, Арселан, Бадур, Николай, Матярши, Димитрий, Кюрджи, Худу-Темур, Атяши, Бетар, Олосе, Фудинг, Асанжен, Уцорбухан, Фудилайсе и др.
Повалуша — верхнее жилье в богатом доме, место сбора семьи, приема гостей.
Поганый — язычник.
Подперсник (нагрудник) — ремень, который не дает седлу съехать коню на забедры.
Поприще — путевая мера, тысяча шагов; в некоторых значениях гораздо большая мера, около двадцати верст.
Порты — одежда (вся). В узком смысле, как штаны, стало употребляться в более позднюю эпоху.
Прелагатай — разведчик, соглядатай.
…приказал трубить поход на половцев — имеется в виду поход князя Игоря Святославича 1185 года, воспетый в «Слове о полку Игореве».
Прониар — византийский чиновник, связанный с системой военно-податных земельных участков. Поместья прониаров освобождались от вмешательства судебно-административных органов. Эти и другие причины позволяли прониарам злоупотреблять своей властью.
Раменный лес — лес на опушке, соседний с пашнями.
Ратай — ратник, воин.
Сайгат — военные трофеи.
Салбар — название шаровар у алан и осетин.
Сапетка — плетенная из прутьев корзина для хранения зерна.
Сарафан — мужская долгая рубаха, позже превратился в женскую одежду.
Саурон — саврасый или светло-гнедой конь с темной полосой по хребту, потомок диких коней.
Севастополис — Сухуми.
Сиделец — торговец в лавке.
Словутный — знаменитый, известный, славный.
Сурожское море — Азовское.
Тмутараканские идолы — близ Тмутаракани еще в XVIII столетии стояли две огромные статуи, воздвигнутые божествам Санергу и Астарте.
Трапезундская империя — образована в 1204 году.
Тумен — подразделение в монгольской армии, десять тысяч всадников.
Уноты — юные, юноши.
Ферязь — мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Также женское платье, застегнутое донизу.
Херсонес — греческая колония в Крыму. Ныне Херсонес входит в черту г. Севастополя. Древнерусское название Херсонеса — Корсунь.
Холоп — раб. Часто в холопы поступали (записывались, беря на себя «обельную грамоту») даже лица из боярской среды. Были холопы — военные слуги (дружинники). Холопство могло быть и путем к карьере.
Цаты — подвески у образов, сделанные в виде полумесяца, прикрепляются к венцам.
Чернобыль — крупный вид полыни.
Чуга — летняя одежда с короткими рукавами.
Шейх — духовный наставник; глава мусульманской религиозной общины, секты, школы.
Шербет — фруктовый сок.
Ясин, ясы (асы, овсы) — аланы.
Примечания
1
В лето 6730-е… — т. е. в 1222 г. по современному летосчислению. В Древней Руси оно велось от «сотворения мира». По указу Петра I с 1700 г. стали вести летосчисление от «рождества Христова». Разница между календарями составляет 5508. И при переводе на новое летосчисление следует вычитать от старого это число.
(обратно)

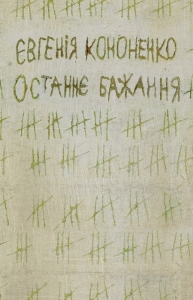
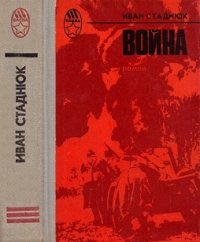
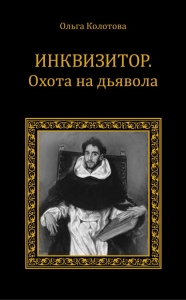

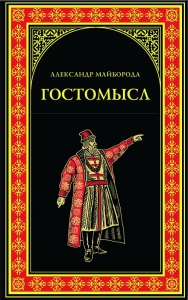
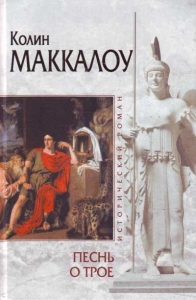
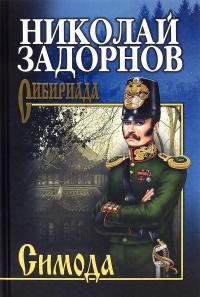
Комментарии к книге «Хомуня», Анатолий Лысенко
Всего 0 комментариев