Григорий Исакович Полянкер РАЗБОЙНИК ШМАЯ
Григорий Полянкер РАЗБОЙНИК ШМАЯ
Повесть
Советский писатель
МОСКВА ¦ 1960
Авторизованный перевод с еврейского М. Шамбадала
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗБОЙНИК ШМАЯ ГОРАМИ ВОРОЧАЕТ
Видали вы когда-нибудь разбойника? Живого, настоящего? Если да, то у меня к нам большая просьба: скажите, каков он из себя? Если есть у вас хоть на грош уважения к солдату мировой войны, который четыре года провалялся в окопах, заслужил три ранения и два Георгия, помогал скинуть августейшего монарха нашего, царя-батюшку, – откройте секрет: какой из себя разбойник? Клянусь вам жизнью жены и детей моих, – с тех пор, как живу на свете, ни разу не видал настоящего, живого разбойника, хотя самого меня все зовут «разбойник Шмая»!
Разбойник Шмая! Любят люди посмеяться! А время нынче суровое, никто не знает, что будет завтра, только-только выбрались из такой войны, весь мир ещё ходуном ходит, кругом носятся разные бандиты, настоящие разбойники, грабят, режут, – чёрт знает что творится!
Если бы все разбойники были такие, как я, как легко стало бы жить на свете! Главного разбойника – царя, – слава богу, убрали. Теперь целая орава злодеев со всего света ринулась на Россию, как звери лютые, норовят побольше кусок урвать. А спросите у нас в местечке, – так другого разбойника, кроме Шмаи, как будто и на свете нет! Пристали к человеку, весь мир исходившему, на всех фронтах воевавшему – от Карпат и до Пинских болот, – к мастеровому, к кровельщику, у которого, говорят, руки золотые, – и гогочут, животики себе надрывают…
Насколько я понимаю, разбойник должен быть долговязым детиной, с кривой рожей, с воровскими глазами, косящими из-под лохматого чуба, и если не с револьвером в кармане, то с ножом за голенищем.
А теперь взглянитена меня: я, наоборот, роста низенького, то есть не такого уж низенького, рост как рост, и глаза, как у всех людей, – одни говорят – чёрные, другие – карие, чуба не ношу, каждые две недели в парикмахерской стригусь. Кинжалов и ножей за голенищем не таскаю. С войны, правда, привёз было домой винтовку, так жена подняла такой гвалт, что винтовку эту я тут же воинскому начальнику отнёс. Привёз шашку, да выменял её в деревне на пуд муки. Валяется у меня в доме нож, только тупой, как деревяшка… Вот и судите сами, какой из меня разбойник!
А почему, спросите вы, «Шмая»? Что это за странное имя такое? Думаете, меня и в самом деле так зовут? Глупости! Выдумали… Звать меня Шая, Шая Спивак. А уж это злые языки переделали Шаю в Шмаю, окрестили простого человека разбойником – и пошло: «разбойник Шмая»!
Ну и ладно. Не всё ли мне равно? Мне не женихаться, заработкам моим это не повредит, а ссориться с целым местечком – гиблое дело!
Прозвище это, правда, приклеили мне давно наши богачи-благодетели. За что? А за то, что несправедливости не выношу и правду-матку в глаза режу. Люблю, чтобы всё по справедливости было, по-человечески. Так прозвище и приросло. Привыкли, и помаленьку все – стар и млад – стали меня величать не иначе, как разбойником. Но я понимаю, это не по злобе. Наоборот. Теперь оно уже не так режет слух. Я к этому привык и ничуть не обижаюсь.
Вот иду я как-то по улице, подходит ко мне нищий, руку протягивает:
«Пожертвуйте, сколько милость ваша…»
Выворачиваю карманы и отдаю последние гроши. Нищий благодарит меня, как полагается, а в конце добавляет:
«Долгой вам жизни, разбойник Шмая!»
Ну, что ты скажешь!
Но что говорить о нищих, – зайдите ко мне в мастерскую, увидите более интересные вещи. Прибегает целая ватага мальчишек, шумят, кричат – одуреть можно! А я бросаю работу и принимаюсь мастерить им игрушки, ни за грош, бесплатно. Принимают они их, спасибо говорят, прыгают от радости, а соберутся уходить и говорят: «Всего вам хорошего, разбойник Шмая!… Завтра опять придём, разбойник Шмая…»
Ну, как вам это нравится?
А малышей я смерть как люблю! Но для кого мы их растим? Как вспомню про войну, которую мы только что пережили, волосы дыбом встают! Ну и война! Ведь это же просто чудо, что вернулся домой живой, с руками, с ногами! Счастье! А сколько горя, сколько несчастий принесла эта проклятая война! Наплодила калек, сирот, вдов… Хватил бы кондрашка того пса богомерзкого, который выдумал войну!
С этой речью обратился однажды разбойник Шмая к почтенному гостю, приехавшему в местечко. А когда наш кровельщик встречает человека, с которым можно поговорить по душам, он забывает обо всём на свете. Он свёртывает цигарку, закуривает, сдвигает набок простреленную солдатскую фуражку, расстёгивает защитного цвета гимнастёрку, ставит ногу на порог или на камень – и пошел про войну рассказывать!
Разбойник Шмая указывает глазами на ведро с инструментами, словно желая этим сказать: рассказывать о войне можно месяцами, но сейчас у меня, как назло, времени нет. Уже полдень, а я ещё сегодня и ломаного гроша не заработал, да и ждут меня дома жена и двое птенцов…
Он добродушно улыбается, затягивается и выпускает облако дыма.
– Как сейчас помню, – говорит Шмая, – было это в первые дни, когда всемилостивейший государь наш, царь-батюшка, чтоб его из могилы выбросило, погнал нас на войну. Лето, понимаете, жара стоит нестерпимая. А путь далёкий! Винтовка да лопата, мешок за плечами-с ног валишься, а ничего не попишешь, идешь, раз царь-батюшка велел! Из сил выбиваемся, голодные, сонные, дованные, а идём и сами не знаем, за чьи грехи отдуваемся!
А лето, как нарочно, такое погожее! На поле колосья шумят, птички щебечут, травы пахнут – опьянеть можно! Небо ясное, голубое, глядишь кругом и вдруг вспоминаешь, что идешь смерти навстречу, а умирать так не хочется! И чем ближе подвигаешься к смерти, тем больше о жизни думаешь, Казалось бы, не один год на свете прожил, не впервые небо и травы видишь, – чего бы тут особенно о жизни раздумывать? А в голову лезут такие мысли, какие никогда раньше на ум не приходили!…
Привели нас однажды в лес. Повалились мы наземь, как подпиленные, а есть хочется – кишки марш играют. Да только есть-то нечего: надо дожидаться, покуда кухни привезут. Вот и лежим мы, как проклятые, портянки сушим, болтаем всякий вздор, курим махру и терпим. Один солдатик рассказывает, как у него корова телилась, другой – про то, как его женили, третий насчёт фельдфебеля проезжается, а думают все об одном: как бы перекусить! Кишка – она, зверюга, слепая, она знать ничего не желает, ей что война, что свадьба – один черт!
И больше всех о жратве говорил, помнится, молодой солдатик, низенький такой, лицо сухое, костлявое, с кулачок величиной. Как такого заморыша в солдаты взяли, убей меня бог, не знаю! И этот парень никогда не мог наесться, досыта! Уж мы все, бывало, отдаём ему последние свои куски, только бы он хоть раз наелся. Голодным пришел он к нам от своего помещика, у которого конюхом работал, божился, что у хозяина ни разу сыт не бывал. И вот как раз в то время, когда он рассказывал нам о своих благодетелях барах, наш фельдфебель – тоже золотая душа! – удивлялся, охал и ахал, да вдруг и скажи:
«Слышь, солдатик, у тебя одна только жратва на уме! А думать-то надо о царе- батюшке…»
Солдатик вскочил перепуганный, побелел, покраснел
«Слушаюсь, ваше благородие!…»
«А скажи-ка мне, обжора, – обратился к нему фельдфебель, – сколько котелков борща ты мог бы одолеть?»
У парня даже глаза заблестели, облизнул он пересохшие губы и крикнул:
«Полное ведро, ваше благородие!»
«Ведро-о? Гм, гм… рассмеялся фельдфебель. – А если не съешь? Не съешь – по морде получишь, а съешь – четвертинку поставлю…»
Слово за слово, поладили. Приехали кухни, налили ведро борща, и парень, недолго думая, принялся за работу. Солдаты помоложе от хохота надрывались, глядя, как бедняга ложкой орудует, а старшие злились на фельдфебеля: нашел занятие – издеваться над человеком!
Одно только радовало наших солдат: фельдфебель – скупой пес, сквалыга, который, бывало, даст молодому солдатику двугривенный и велит купить бутылку водки, кружок колбасы, булку и полтинник сдачи принести, – фельдфебель проигрывал пари.
В общем, наш солдатик с большим трудом проглотил весь борщ. Батюшки святы, что творилось! Солдаты смеялись над фельдфебелем, говорили, что солдатика следовало бы на побывку домой отпустить, к жене и тёще, другие считали, что надо царю прошение написать, чтоб ему серебряную медаль выдали… Да только парня скоро пришлось отвести в лазарет, к доктору. А на следующий день солдатик отправился туда, где и еда ни к чему… Царство ему небесное!
Кончив свой рассказ, разбойник Шмая перевёл дыхание, покачал головой и выплюнул потухший окурок.
Кровельщика окружили прохожие – как бы ни были заняты люди, а услышат, что Шмая что-нибудь рассказывает, обязательно остановятся.
Солдату только того и надо. Он уже передохнул и собирался начать новую историю, но тут из переулка прибежал извозчик Хацкель – широкоплечий, коренастый человек, светловолосый, с круглым конопатым лицом. Волосы всклокочены, длинная чёрная рубаха расстёгнута, зелёные кутасы кушака в ногах путаются. Извозчик, не иначе, только что из дальней поездки приехал, в дороге, быть может, ось треснула или, чего доброго, лошадь украли! Он подбежал, посмотрел на толпу, окружившую кровельщика, остановил свой взор на Шмае и обрушил на него проклятия и ругательства, которые, видно, накопил за все годы, что просидел на облучке.
– Н-ну-у, как вам нравится этот, с позволения сказать, мастеровой? – проговорил Хацкель, пожирая кровельщика глазами и заикаясь больше обычного. – Т-та-кой мастеровой жене и детям своим не то что на кашу, на воду для каши и то не заработает! День-то на отлёте… Целую неделю, почитай, собирается он ко мне крышу чинить и никак до меня не доберётся, остановится по дороге и басни рассказывает. Уж я сегодня полсвета изъездил, и в Жашкове и в Ахримове побывал, а ты… Тебе бы только задаток получить. А сегодня вон как парит, не иначе, к ночи дождь будет, и поплыву я со всем своим барахлом… Ах, ты, погибель на твоего батьку…
– Ты, Хацкель, ругайся, сколько душе угодно, а только батьку моего не трогай! – спокойно ответил Шмая. – Сам видишь, люди слушают, интересуются…
Чувствовалось, однако, что кровельщик раздражен. Было бы у него в кармане несколько рублей, швырнул бы он извозчику в лицо полученный задаток. Но пришлось идти к переулочку, где под горою, недалеко от глубокого оврага, находился «дворец» извозчика.
Подойдя к Хацкелеву домику, такому низенькому, что козы, спускаясь с горки, свободно перепрыгивали через него, Шмая без лестницы забрался на крышу и ударил несколько раз деревянным молотком по жести, чтоб извозчик слышал, что кровельщик уже работает.
– Взялся на мою голову извозчик! – сказал Шмая после долгого молчания, обращаясь к соседкам.
Он их знает, здешних женщин-солдаток, любят они послушать какую-нибудь страшную историю, от которой поплакать можно всласть, любят и смешные приключения, чтоб можно было посмеяться и позабыть, хоть на короткое время о своих горестях… Но, словно назло, Шмае в эту минуту не приходят в голову ни печальные, ни смешные истории. Тем не менее, он хитро улыбается в усы и говорит:
– Однако, дорогие мои соседушки, о войне я мог бы рассказывать без конца. Вот, к примеру, перебросили однажды наш полк в Карпаты – это такие красивые зеленые горы. Хороши они, однако, для буржуев, для тех, кто съезжается туда на дачи, а не для солдат, которые нагружены, как ослы, и из сил выбиваются, карабкаясь по горам. Заняли мы позицию, окопались, а неподалеку от нас зарылись немецкие солдаты. Вижу я, стоит на горе этакий пузатый немец и смотрит в бинокль, – видать, генерал ихний. Он держит в руках флажок и, видимо, приказывает своим солдатам приготовиться к бою. Стало быть, как махнет флажком, они должны начать стрелять по нас из пушек и начать атаку… без его команды, понятно, никто и с места двинуться не смеет. Но тут ему потребовалось, извините, сбегать в лесок, туда, куда и царь пешком ходит.
Вот я и говорю нашему ротному, который без году неделя на фронте:
«Ваше благородие, посмотрите-ка, эти черти что-то задумали. Надо бы нам их перехитрить…»
Посмотрел на меня офицер косо и говорит:
«Скажи-ка, кто у нас в роте хозяин – я или ты?» – и при этом бьет себя кулаком в грудь.
Рассердился я и тоже в грудь себя тычу – а там Георгий висит, кровью заслуженный. Пусть, думаю, этот гимназистик, у которого и мамкино молоко ещё на губах не обсохло, не воображает. Осёл тоже упрям, да что толку от такого упрямства?
«Молчать! Я ни у кого советов не спрашиваю!» – крикнул ротный
Повернулся я и ушел на свое место.
Только вижу – сначала он стал прислушиваться, потом – поглядывать в бинокль на толстого немца. И заговорил со мной совсем другим тоном. Добился я своего: выделили трех смелых ребят, чтобы мы подкрались к толстяку и поговорили с ним по душам.
И вот пошли мы яром к лесочку, чтоб никто нас не заметил. Подошли совсем близко. Мы пузатого видим, а он нас – дудки! Подползли на животе к этому псу ушастому, я как оглушу его прикладом по затылку – он и перевернулся, пикнуть не успел. Сунул я ему кляп, чтоб не шумел, а тут подскочили мои товарищи, и поволокли мы этого дьявола к нам в полк…
Вы спросите, почему же немцы не стреляли? Но такие вопросы задают те, кто немцев не знает. Немецкий солдат – это, голубушки мои, такая механизма, что никаких фокусов не признаёт, – он только приказ понимает. Прикажут – он и сделает, что надо, и стрелять будет, и убивать… А ежели приказа нет – с места не сдвинется. Раз генерал не велел стрелять, пока он флажком не махнет, – стало быть, не стреляют. А что генерала у них из-под носа утащили, это их не касается…
И как только наши хлопцы поднялись из окопов и с криками «Ура, за отечество!» пошли в атаку, немцы побежали. Ох, что тогда творилось! Мне всякие почести оказывали, как царю, подарки дарили, шнапсом поили, на два дня отпуск дали… А немца чуть удар не хватил! Сам кайзер Вильгельм, говорят, просил нашего Николку, в ножки кланялся, чтоб ему показали хотя бы издали тех солдат, которые так ловко взяли в плен германского генерала…
Разбойник Шмая перевёл дыхание, свернул папироску, закурил, вытер фуражкой пот с лица и, помолчав, продолжал:
– Однако, дорогие мои, что тут долго рассказывать при такой жаре. Да и времени у меня нет: надо какую-то копейку заработать на пропитание семейства. Но, между нами говоря, нехай бы лучше руки и ноги повыломало тем, кто войны придумывают! Война хуже всякой напасти, хуже чумы, наводнения, хуже землетрясения. При землетрясении, по крайней мере, спрашивать не с кого. А войну-то ведь люди выдумывают! Люди? Бандиты! Злодеи! Мерзавцы! Им наплевать, что народ кровью истекает! Им лишь бы мошну потуже набить… Патроны, которые прислали, стрелять не хотят, снаряды ни к черту – капсюли забыли… Каша, что кашевар приготовил, – с песком, мясо – с червями, а рыба за версту воняет, – это наше интендантство, понимаете, старается для бедного солдатика… Морозы грянули, а начальство и не думает о том, что мы в окопах околеваем. Тёплого белья нет, портянок не выдают, курева нет, подкрепления не видать, народ кашлять начинает, чахотка в окопах людей мучает. А жена и дети дома чахоткой болеют. Весело, в общем! А ты изволь лежать день и ночь заживо в могиле, в окопе. Хочешь не хочешь, а начинаешь думать: для чего затеяли всю эту канитель? Ради кого? Из дому приходят письма, одно другого лучше, так что жить тошно становится, – пускай уж лучше смерть, лишь бы конец! Пока светлейшая царица да Гришка Распутин не прикажут, война, надо думать, не кончится. Оттуда, из царского дворца, должна прибыть добрая весточка. Вот, стало быть, сиди и жди у моря погоды! Там у них в руках доля Шмаи-разбойника. Они там жрут, пьют и ухом не ведут, а ты изволь лежать в окопе! А ведь солдатики – народ дотошный, руки у них золотые, мастера, – они и одеть, и обуть, и накормить всю страну могли бы. Так нет же, лежи, как проклятый! И лежат, да ещё шумят, смеются… Да и то сказать, – иначе спятить можно.
Ребята только что отужинали, повеселели немного, закурили и говорят мне:
«Это ты, землячок, наверно, виноват в том, что война затянулась. Устрой что-нибудь, разбойник, чтоб она поскорее кончилась… Три года дерёмся, а конца-краю что-то не видать…»
«Что же я, к примеру, сделать могу? Царь я, что ли?»
«Ты, отвечают, ещё повыше царя! Царь – он на земле, а ты кровельщик, по крышам лазишь, стало быть, выше царя…»
«Эге, братцы, будь я царем, всё бы по-другому было!» – говорю я.
«А что, например, было бы?»
«Ого! Будь я царем… Уж вы лучше не спрашивайте, что было бы. Перво-наперво выдал бы я каждому из вас по паре теплого белья и портянок. Раз. Потом выдал бы по две порции гречневой каши с салом. В-третьих, вы бы у меня в такую тёмную ночь по окопам не валялись, а лежали бы дома, на печи, у баб своих под боком…
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Шмая перевёл дыхание и, заметив, что солдатки, слушавшие его рассказ, тяжело вздыхают, немного растерялся. Не любит он, когда люди грустят. Не лучше ли рассказать им что-нибудь весёлое? Но что же рассказать, ведь на войне не так уж весело. Придётся на ходу придумывать. Они на него не рассердятся и не обидятся, если что не так получится.
Ударив несколько раз деревянным молотком по крыше и пригнав ржавый, исковерканный лист жести к другому, Шмая после недолгой паузы продолжал:
– Значит, на чем мы с вами остановились? Ах да, вспомнил. Ну, сидим мы, значит, в окопах. На душе мерзко. Вдруг слышу – вызывает меня начальство. Прихожу, козыряю: мол, по вашему высокому приказанию ефрейтор Шая Спивак явился. Посмотрели на мой мундир, покривились. Велели привести себя немного в порядок и вручают секретный пакет: вот эту штуковину ты должен немедленно доставить в штаб полка. Козырнул, как полагается, спрятал пакет и пошел грязь месить. Штаб стоит в городке где-то за железной дорогой. С божьей помощью добрался, отдал пакет, получил благодарность и возвращаюсь. Зайду, думаю, на станцию, гляну, что там делается. На вокзале хоть и не стреляют, но ещё хуже, чем на позициях. Кругом валяются раненые, калеки, беженцы с детишками. Плачут, проклинают войну. Кругом голодные, бледные лица, оборванные, нищие люди. Посмотрел я на это и вышел. Вдруг вижу – на запасных путях стоит поезд – красотища! А вагоны! В таких вагонах самому бы царю или Гришке Распутину разъезжать. В первом вагоне особенно светло, весело, музыка играет, а внутри, вижу, танцуют, пьют, гуляют, будто никакой войны на свете нет. Кто же, думаю, ездит так? Надо узнать. Подхожу я тихонько к вагону, вижу табличку, а на ней золотыми буквами написано; «Поезд его императорского величества. Солдатам и прочим не входить». Слыхали? Солдатам не входить. Они на позициях страдают, кровь проливают, а тут – «Солдатам не входить»: знай, мол, свинья, своё корыто… Стою я возле этой таблички, и такая меня досада взяла, хоть плачь! Сорвал я в сердцах табличку и ногами ее растоптал. Ничего, сейчас я зайду к этому величеству!
Недолго думая, вскочил я на подножку вагона, рванул дверь, а меня кто-то хвать за шиворот! Оглядываюсь – какой-то рыжий казак, пьяный, еле на ногах держится, орет на меня, ругается, да так, что наш извозчик Хацкель против него – мальчишка и щенок. Того и гляди, со ступенек меня скинет. Я стал объяснять, что я тот самый ефрейтор, который генерала взял в плен, имею три ранения, Георгия. А он мне: «У нашего императора на войне несколько миллионов таких бродяг, как ты, что же, он всех так и будет пускать к себе в поезд? Слазь!» Тут ещё один подскочил. Узнал, в чем дело, и махнул рукой: ладно, мол, пусть солдат немного погреется.
Шмая перевёл дыхание. Он чувствовал, что совсем заврался, но надо продолжать. Иначе бабы от него не отстанут, и работать не дадут.
– Да, и вот я, значит, вхожу прямо в вагон. Со всех сторон на меня, как на сумасшедшего, смотрят, плечами пожимают: что это, мол, за чучело? Но молчат. Дисциплина! Огляделся по сторонам, – мамочка родная, и что же это тут делается? Рай, ну прямо рай! Под ногами – персидские ковры с золотом. Настоящие лампы, не коптилки, как в наших землянках, а на столах – чего только нет! У меня даже внутри похолодело: «Куда тебя, черта, занесло? О чем ты с этой публикой будешь калякать? Разве они тебя поймут? Говорят же – сытый голодного не разумеет!»
Сидят все за столом. А собрались, видно, какие-то министры, генералы, буржуи и чёрт их знает, кто ещё! Вино, конечно, льётся рекой, сельтерскую воду с сиропом хлещут вовсю, квас лакают, а на закуску подают им что душе угодно – селёдку, варенье, жирный борщ с двойной порцией мяса, гречневую кашу – всего не пересчитаешь. И паёк они получают бесплатно. А музыканты играют. И кто из этой братии ещё на ногах держится, тот танцует, ногами крендели выписывает. Гуляй, буржуи, гуляй, папы, все равно жизнь пропащая!
«Кто такой будешь, солдатик?» – подходит ко мне какой-то пузач.
Оборачиваюсь, а передо мной не иначе как министр. Суёт мне стаканчик спирта и кричит:
«Выпей, дурак, за нашего царя-батюшку и за отечество!»
Взял я стакан, опорожнил одним духом, схватил со стола печеную картошку и головку лука – закусываю. Смотрю, а вокруг уже собралась вся орава. Крупные воротилы. Расспрашивают, кто я, откуда. Ну, я им выкладываю всё, что у меня накопилось – о том, как бедные солдаты в окопах страдают, а эти шкуры пьют здесь и гуляют на казённый счёт. Министр подал мне ещё стаканчик и говорит:
«Пей, дурак, и думай поменьше. Каша теперь такая заварилась в России, что сам чёрт не разберет, пей, дурак, за царя-батюшку, за Гришку Распутина и за нас, конечно…»
«Нет, говорю, за Гришку Распутина пусть царица пьет, я выпью за здоровье моих братишек солдат…»
Выпил, выбрался из этой толчеи, пошел дальше, открываю боковую дверь и вижу – кого вы думаете, бабы, я вижу? Я вижу Татьяну. Татьяну Николаевну, царевну, ну, царскую дочку… Татьяну. Одета она как настоящая царица, только на голове белая косынка с красным крестом – сестра милосердия. Прибыла на фронт помогать раненым солдатам. Вот и помогает… Весело живётся царевне. Стою я у двери и наблюдаю всю эту картину. Вот, думаю, в руках этой шайки судьба солдат, страны, отечества…
Ну, думаю, братец Шмая, с этой компанией тебе сегодня о серьёзных вещах говорить не придётся. А тут, дорогие мои соседушки, подняла на меня Татьяна свои обезьяньи глазки и поманила пальцем.
«Подойди-ка сюда, солдатик, поближе подойди. Кто такой будешь?» – говорит она и протягивает мне пригоршню семечек.
«Вашесокородие, отвечаю, я ефрейтор триста пятого полка, третьего батальона, первой роты, первого взвода, второго отделения… Шая Спивак…»
«В таком разе, солдатик, присаживайся к столу, закуси чем бог послал. Один раз живём на свете…»
Выпил я парочку кружек шампанского, закусил вяленой воблой, котелок гречневой каши съел, и сразу веселей стало на душе. Потом прошу эту красавицу, Татьяну, значит, налить мне кружку кипятку и выдать две порции сахару, пачку махорки и киваю ей – мол, серьезный разговор есть.
Татьяна топнула ногой, и остались мы с царевной наедине.
«Что скажешь, солдатик?» – спрашивает она.
«Скажи-ка мне, птичка божья, что это значит? Твоего милого папашу колошматят на всех фронтах, от его империи скоро рожки да ножки останутся, а ты, красавица, гуляешь?»
«Солдатик, нельзя быть грубияном!» – говорит она мне и качает головой.
Это, чтоб я, значит, деликатно с ней разговаривал, она у своего батьки так воспитана.
«Скажи-ка, Татьяна Николаевна, – перебил я её, – а что он на своем престоле думает, его императорское величество, или отшибло у него мозги? Долго ещё война протянется? Ведь скоро солдаты поднимутся, так, пожалуй, от вас и пылинки не останется…»
«Что же ты советуешь, солдатик?» – спрашивает Татьяна.
«Я вам не советчик, отвечаю, а только папаше своему передай, что долго он не удержится на престоле. Полетит, как пить дать. Народ, солдаты уж постараются…»
«Солдатик, – возмущается Татьяна, – ты разве не знаешь, какой упрямый наш император, как осёл! Меня он все равно не послушает. Лучше бы тебе самому к нему поехать во дворец. Там все ему выскажешь…»
Я немного испугался, страшно ведь с царём разговаривать. Загонит тебя в кутузку – и всё тут. Но надо держаться до конца.
«Я могу поехать с тобой во дворец, к папаше, и скажу ему всё, о чем солдаты в окопах говорят…»
«Что ж, располагайся», – говорит Татьяна.
Поезд тронулся.
Снимаю шинельку, сбрасываю сапоги и лезу на верхнюю полку. Железная печурка в вагоне жарко топится, мои портянки уже на трубах сохнут, теплынь, как в бане! Несколько казаков подкидывают в печку дровишки, уголек, а я лежу себе, шинельку подстелил, сапоги – под голову, чтоб не утащили, лежу и думаю.
Так прошел день, другой. Никто меня не будит, а кашевар подает мне суп и кашу наверх. И вот на третий день поезд въехал в какой-то сад и сразу остановился. Выглянул я в окно, и страх охватил меня: царский дворец! Поклясться готов, что вот в этом саду праматерь Ева охмурила праотца Адама. Где-то здесь бродил этот гуляка в чём, конечно, мать родила и согрешил…
Взяла меня Татьяна под руку и повела к своим папаше и мамаше
«Скажи мне, солдатик, – говорит царь, – что там нового на фронте?»
«Плохо, говорю, твой престол, кажется, уже ломаного гроша не стоит…»
Разбойник Шмая так увлёкся своей историей, что не заметил, как из дому вышел извозчик Хацкель. Он постоял, с хитрой улыбочкой послушал Шмаины россказни, не выдержал и расхохотался.
– Скажи, пожалуйста, Шмая, голубчик, – сказал он, качая головой, – может быть, хватит байки рассказывать? Не видишь, что ли, женщин бедных уже замучил своими историями, пожалей их! Вот ведь несчастье на мою голову… Женщины, мужчины, а ну-ка, исчезните, разойдитесь! – закричал извозчик. – Пора кончать это дело! Хватит! А вдруг ночью дождь хлынет! Что я тогда делать буду? Ради бога, разбойник, примись ты веселей за работу! Ведь ты, если захочешь, можешь! Руки то у тебя, небось, золотые!
Народ стал нехотя расходиться, а кровельщик опустил голову. Досадно было, что извозчик Хацкель стоит тут как хозяин, и следит за каждым его движением, и слова не дает вымолвить.
ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ
Кто хорош, а наши раковские женщины умны! Недаром говорят они, что не следует иметь дело с низким человеком. Низкий человек, говорят они, никогда не простит тебе, что ты на несколько вершков выше его…
Правда, честное слово!
И действительно, что это за выходки? Можно ли так, при всем честном народе, позорить человека? Портной, когда шьёт пару штанов или чинит пиджак, любит напевать себе под нос, сапожник, когда латает чьи-нибудь опорки, насвистывает, извозчик, когда доберется до крутого подъема, честит своих коняг добрым словом. Так почему же кровельщику, разбойнику Шмае, нельзя душу отвести, поговорить с людьми, повеселить соседей, когда он латает крышу? Ведь так уж повелось на свете спокон веков! А тут появляется извозчик Хацкель и хочет завести новые порядки.
Шмая сидел на крыше. Он работал, да только работа уж не та, инструмент из рук валится. Подумать только, какое наваждение. И за что про что?
А извозчик Хацкель исчез и вскоре снова вышел из дому, сел на бревно и принялся набивать трубку.
– Шмая, голубчик, сердишься на меня?
– Провались ты!
– Может, слезешь, покурим?
– Пускай с тобой сатана курит! Спасибо тебе, Хацкель, за ласку…
– Не хочешь, как хочешь…
Извозчик вытащил из кармана кусок колбасы и бутылку водки.
– Шмая, – сказал он, – ведь у тебя сегодня, небось, маковой росинки во рту не было, а наговорить ты уже успел с три короба. Слезай, пожалуй, довольно тебе важничать. Хоть ты и ефрейтор и три блямбы у тебя, а только ничего с тобой не сделается, если ты выпьешь с простым извозчиком.
Против такого соблазна разбойник Шмая устоять не может. Он вытирает руки о штаны, слезает с крыши и садится рядом с Хацкелем на бревно. Извозчик отмеряет большим пальцем полбутылки:
– Будем здоровы! Лехаим! – говорит Хацкель и опрокидывает в горло бутылку. Отпив ровно половину и откусив кусок колбасы, он добавляет: – Эх, хорошо!
– Ну что ж, будем здоровы, и пусть уж на земле будут порядок и справедливость! – произносит после короткого молчания кровельщик и выпивает до дна.
– Знаешь, Хацкель, что я тебе скажу, – проговорил он, когда закусил, и кровь в нем заиграла веселей, – знаешь, братец, царь Николка одну умную вещь всё-таки придумал – «сороковку».
– Дурень! Где было Николке до такой вещи додуматься? Не его ума это дело! Горькую, говорят, придумали не то древние греки, не то древние евреи, когда вышли из египетской неволи, чтоб веселее было идти…
– Да уж кто бы ни придумал, а напиток неплох, жаль, что мало…
– Надо тебе понять, разбойник, что я знаю историю получше иных докторов. Хоть я ни гимназий, ни верситетов не кончал, зато я постоянный пассажир, смотрю на мир божий со своего облучка и вижу всё, что кругом творится…
– Лучше доктора, говоришь, знаешь? Я повыше доктора, даже повыше тебя, на крышах сижу, а вижу немного… А доктору никогда не верь! – сказал разбойник Шмая, и глаза у него заблестели – Хочешь, могу рассказать тебе о нашем докторе, умнике-разумнике. Он меня чуть живьём на тот свет не отправил. Это просто чудо, что я сижу с тобой и могу даже выпить. Ох, уж мне эти доктора!
– Что ты против них имеешь?
– Лучше не спрашивай, Хацкель! – Шмая растянулся на траве, заложив руки под голову.
Если бы нашему кровельщику в эту минуту насыпали полные карманы золота, это не доставило бы ему столько удовольствия, сколько то, что рядом с ним разлегся Хацкель и стал внимательно прислушиваться к рассказу:
– Было это во время войны в летний день, когда солнце уже стало садиться Три раза мы в этот день ходили в атаку. Надо было взять высокую гору. Ты, Хацкель, хоть и был на войне, но служил, кажется, в обозе… Стало быть, не пришлось тебе попробовать, что такое атака.
– А если в обозе, так мне, думаешь, мало бедствовать пришлось? – сказал Хацкель. – Мне в обозе ещё труднее было, чем тебе в пехоте. В пехоте что? Есть у тебя винтовка, и дело с концом. А у меня и винтовка, и пара лошадей с подводой. Ты после атаки мог поесть и спать завалиться, а я должен ещё почистить, накормить и напоить лошадей и колёса смазать. Ты зарылся в окоп, и готово, а я должен вырыть окоп для себя да ещё яму для моих лошадей…
– Нет, Хацкель, я ничего против тебя не имею, я знаю, что всем на войне не сладко пришлось… Я – о другом. Так вот, было это однажды после атаки. Всё поле завалено убитыми и ранеными. А мне пулей плечо прострелило. Упал я, кровью обливаюсь, руки ослабли, винтовка вывалилась. Силы, чувствую, покидают меня, а рядом лежат другие солдаты – одни убиты, другие ещё мучаются. К концу дня стихло. Объявили перемирие, пока уберут с поля убитых и раненых, а потом – начинай сначала… Лежу это я, озираюсь по сторонам – авось доживу, пока явятся доктор с санитарами. И вдруг вижу: идет наш спаситель в белом халате с красным крестом, за ним – несколько санитаров с носилками и большими сумками на боку. Долговязый доктор носится по полю, как нечистая сила, будто сама смерть его гонит. Остановится около лежачего, пульс пощупает и бежит как ошпаренный дальше. Увидит, что ты ещё богу душу не отдал, кивнет – и санитары тебя тут же подбирают и тащат к повозкам, а ежели видит, что готов, пишет у тебя на груди мелом крест, и везут тебя на кладбище: царю Николке ты, стало быть, больше в солдаты не годишься, тебя освобождают, выслужился…
Солнце закатилось, оставив по себе красный след в полнеба, пшеница ещё зеленеет, и хоть растоптали мы ее сапожищами и кровью нашей залили, а всё же приятно вдыхать запахи трав. Только бы в живых остаться, – хоть без ноги, без руки, лишь бы жить! А только чувствую – силам моим конец приходит, кричать не могу, кровь сочится, рану огнём печёт. Лежу и жду доктора. И вот дождался, подбежал ко мне долговязый, схватил меня за руку, а сам уже дальше глядит, на следующего. Где-то раздался выстрел, доктор вздрогнул от испуга, выхватил из кармана кусок мела и нарисовал у меня на груди крест, да ещё какой крестище!
«Доктор, господин доктор!» – крикнул я из последних сил, а он и не слышит, снова щупает на ходу пульсы и ставит кресты.
«Эй, доктор! Я ведь живой!» – кричу я, а он:
«Дурак, ты что, больше врача понимаешь?…»
Стало быть, жди теперь, Шая, покуда тебе могилку выроют и поминальную прочтут…
На моё счастье, подбежали два санитара с молоденькой докторицей, стёрли с меня крест, перевязали и отвезли в лазарет.
– Чего же ты молчал, разбойник? – вскочил извозчик. – Выходит, ты из мёртвых воскрес?
– Вроде бы так.
– Стало быть, магарыч с тебя!
– Вообще-то конечно…
– Так ставь, брат, полбутылки!
– У меня ни гроша за душой…
– Это ничего! Я куплю, но только за твой счёт, – не растерялся Хацкель. – Авось заработаешь когда-нибудь…
Извозчик тут же скрылся, но вскоре вернулся с бутылкой водки, с колбасой, луком и булкой.
– Это за твой счёт, дорогой Шмая, за счёт крыши…
Знал бы Шмая, чем всё это кончится, он не стал бы рассказывать извозчику эту историю. Бог ты мой, если каждая история, которую он рассказывает, будет стоить бутылки водки, ему никаких заработков не хватит! Но Хацкель уже опять отмерил пальцем половину содержимого бутылки и пожелал кровельщику, чтоб эта бутылка была не последняя. Выпив, он передал «сороковку» Шмае.
– Пей на здоровье, Шмая, и давай расцелуемся, чтобы всегда мы с тобой жили в мире. Все-таки оба служили, оба живые с такой войны вернулись. Бывай здоров!
Они ещё посидели, поговорили, и Шмая почувствовал, что земля у него под ногами вертится. Тогда он распрощался с извозчиком, взял свой инструмент и отправился домой. Чёрные глаза его сверкали, фуражка съехала набок, а гимнастерка была расстёгнута. Ведро с инструментом, поднимая пыль, тарахтело по камням мостовой.
Была уже ночь. Двери и ворота – на запоре.
На белом свете жизнь ключом кипит, да только сюда вести доходят с большим опозданием. Поговаривают, что из центра должны прибыть сюда люди и установить власть, тогда легче жить станет. А пока люди ложатся спать при одной власти, а просыпаются при другой. В окрестных лесах бродят банды, и всякая шушера хочет хозяином стать. Хорошо ещё, что местные ребята взяли винтовки и не пускают в местечко ни Стецюру, ни Грабчука, ни прочую шваль…
Разбитый, с тупой болью в висках, разбойник Шмая только ночью попал к себе в дом. Он без шума поставил своё ведро возле печи, снял гимнастёрку, солдатские сапоги и повалился на деревянный топчан. В голове вертелась песня о казаке, который, уходя на войну, распрощался с черноокой дивчиной, подарившей ему вышитый платочек. Кости казака гниют где-то в поле под тополем, а дивчина осталась одна на белом свете…
В доме с закрытыми ставнями и непогашенной плошкой, которая чадила до самой полуночи, было душно. Двое ребят спали и видели прекрасные сны, а Фаня, стройная, смуглая жена Шмаи, которая выглядит совсем невестой, подняла на него глаза, покрасневшие от бессонных ночей, проведенных за шитьем чужих платьев, и ни слова не сказала мужу. Она его хорошо знает, своего Шмаю. Когда он, не поздоровавшись, не пошутив, валится на топчан без ужина – она молчит и только изредка бросает на него недовольный взгляд. Он притворяется, будто ничего не замечает. Он курит свою цигарку, кутается в облако дыма и думает…
… Похоже, что весь мир с ума сошел, не иначе. Больше трёх лет таскал я винтовку, в окопах валялся, сто раз смерти в глаза глядел. В лазаретах меня всего искромсали, кое-как сметывали и замазывали мои раны и тут же снова хлопали по спине, говорили: «Годен!» – и я снова шел в огонь драться за батьковщину… Сколько горя перенёс на своих плечах, дня хорошего, кажется, за всю жизнь не видал. Но ты, разбойник Шмая, духом не падай! Пройдут трудные времена. В Москве и Петрограде власть взяли простые люди, они за правду стоят, за справедливость, они в тюрьмах и на каторгах полжизни провели, – на них можно положиться. И здесь, далеко от центра, порядок будет.
Правда, на Украине, в Киеве, объявились какие-то новые бандиты – Петлюра, гетманы, батьки. Новая каша заваривается, новая война затевается. Как всегда перед войной, повылазили из своих нор головорезы, шарлатаны, дезертиры и прочая мерзость. Доносы летят к батькам и от батьков, полиция и черносотенцы – на ногах. Хватают на улицах ораторов и агитаторов и тащат их в тюрьмы, убивают, выйдет бабка на базар пучок редиски купить, и ее схватят – шпионка…
Времечко… Городишко наш жалко. Война и так уже, почитай что, половину мужчин поглотила. В каждом втором доме – солдатка живет или вдова, ходят по городу девушки, хороши как ясный день, добрые, душевные, а женихов для них не найти. А тут и новые подрастают… И солдатки, когда встречают Шмаю, спрашивают:
«Шмая, вернутся когда-нибудь наши кормильцы? Перестанем мы когда-нибудь мучиться?»
«Ого! Да как ещё вернутся!» – отвечает Шмая.
Так уже оно на свете водится: после дождя, после ливня – погода наступает… В Москве и в Петрограде простой народ взял власть в свои руки. У нас тут, на Украине, дело малость затянулось, всё ходуном ходит. Но ничего. Похоже, что снова придётся винтовку в руки взять и покончить со всеми батьками. Пусть уж настоящий порядок установится…
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Однажды, поздней ночью, когда дождь лил как из ведра, кожевенник Лейбуш прибежал к извозчику Хацкелю, постучал в окно и приглушенно крикнул:
– Хацкель, вставай!
Кожевенник Лейбуш – маленький человечек с грязновато-водянистыми глазками, которые не бегают лишь тогда, когда спят. На нём потёртый полушубок, искривленные сапоги, шапка набекрень, и когда бы вы его ни встретили, он что-то жует: ему некогда поесть по-человечески. При первом взгляде на него невольно возникает мысль: «Хорошо бы собрать для него милостыню» Лицо у него продолговатое, тощее, заостренное. А тощ он не оттого, что ему, упаси бог, жить не на что, не от забот. У него одна забота: «Люди добрые, когда я весь мир ограблю, чем я потом займусь?»
Лейбуш всегда имеет дело с кожей, со шкурами, с интендантством, и до этой ночи никаких претензий не имел ни к богу, ни к людям.
Дела свои вел он не один, а в компании со своим сынком Залманом, который когда-то учился и в Одессе и в Киеве. Но учение не шло впрок, и отец, в конце концов, понял, что сынок его гораздо успешнее будет разбираться в шкурах, чем в науках. Однако со студенческой фуражкой Залман никогда не расставался, а богатые барышни млели при виде этой фуражки.
Кроме сына у Лейбуша были ещё две дочери, состарившиеся в отцовском доме, ожидая, пока отец уладит вопрос о приданом.
– Хацкель, может быть, ты будешь шевелиться быстрее? – Ночной гость сильней забарабанил в окно, всё время оглядываясь в сторону черневшего вдали леса.
– Ох, ты, погибель на врагов моих, кто ж это спать не дает? – послышался в сенях сердитый простуженный голос извозчика.
Он отворил двери и, зевая во все горло, смотрел заспанными глазами на богача:
– Скажи, пожалуйста, какой поздний гость… Что случилось?
– Глаза протри, рожа!
– Ах, это вы, Лейбуш? Как вас теперь называть прикажете: мусье или господин, а может быть, товарищ? Давненько я вас не видал…
– Называй, как хочешь, Хацкель. Накинь-ка на себя лохмотья… холод собачий. Запрягай, дорогой, лошадей и поедем!…
– Куда поедем? Что вы такое говорите? В уме ли вы? Реб Лейбуш, у вас как будто свои фаэтоны и кучера имеются, – чего это вы ко мне пожаловали?
– Заплачу, сколько скажешь, запрягай скорее! – ответил ночной гость. – Мои кучера, сгореть бы им, разбежались. Барами заделались. Запрягай скорее твоих лошадок… Поедем!
– Не понимаю. Ваши лошади стоят там у помещика в экономии…
– Чего ты голову морочишь? Вон что у твоего помещика делается! Полюбуйся!- Лейбуш указал на зарево большого пожара. – Видишь? За Москвой да за Петроградом тянутся… Босяки винтовками завладели и хотят в городишке верховодить. Дружина на мою голову, гвардия… Тоже мне герои. Побежали вместе с мужиками помещика громить…
Извозчик почесал затылок.
– Стало быть, говорите вы, наши ребята руку приложили? Надо бы и мне к помещику наведаться, авось я бы там свою клячу на доброго коня обменял. Что-то она хромать на переднюю ногу стала…
– Болван! Ты тоже думаешь, что свет уже перевернутся? Погоди, придет настоящая власть, разгонят босую команду… всех этих сапожников да мясников, гром их разрази! Погоди. Есть ещё Сибирь… Каторга!
– Постыдились бы вы, Лейбуш! За что это вы людей проклинаете?
– Хацкель, перестань болтать. Одевайся скорее… Отвезёшь меня в Каменку, к границе…
– Что такое? Туда надо поездом ехать… Знаете, сколько верст до Каменки?
– Какой там поезд? Где теперь поезд? Даже мост через реку взорвали! Запрягай лошадей!
– Легко сказать «запрягай». Мои лошади уже забыли вкус овса… На дорогах все вверх дном, носа не высунешь… банды…
– Бог ты мой! Что ты делаешь со мной, Хацкель? Каждая минута дорога! – стал упрашивать Лейбуш и, выхватив пачку денег, сунул их извозчику в руку. – Гора с горой не сходится, а человек с человеком… Запрягай скорее, я помогу. По дороге куплю тебе новую пару лошадей, овса, дом свой тебе оставляю, мебель, чего ты ещё от меня хочешь?
Услыхав такие речи, извозчик начал колебаться. Однако Лейбуш не давал ему долго думать, хлопнул его по плечу, и Хацкель пошел в дом одеваться. Из дому в сени он вышел вместе с женой. Увидав Лейбуша, она удивленно сказала:
– Пане Лейбуш, а куда, в самом деле, такая спешка? В такую тьму… Поедете лучше завтра…
– Здрасте, пожалуйста! Только тебя и ждали… Спать ложись! Не бабьего ума это дело. К печке поди, Бейля…
– Это что ещё за «Бейля»? Имени у меня, что ли, нет? Меня зовут Лия…
– А мне все равно, хоть царицей Эсфирью называйся, только не морочь голову. Иди спать! Не твое это дело…
– У вас, пане Лейбуш, вижу я, в голове все перепуталось от испуга. Чего это вы бежите? Вы что, отцовское наследство потеряли?
– Понимаете, – сказал он, чтобы отвязаться от несносной бабы, – сын мой и дочери хотят уехать за границу. Поняли?
– За границу? В такое время? – удивленно всплеснула руками Лия. – В чём же дело? Разве там идет война и интендантство срочно требует, чтобы вы поехали кожу поставлять?
– Вот напасть на мою голову! – уже не на шутку рассердился кожевенник. – Хацкель, запряг ты лошадей? Что ты возишься?
– Ведь вы же видите, что я запрягаю! – ответил Хацкель откуда-то из сарая. – Но, убей меня гром, не понимаю, как ехать в такую суматоху!
– А с кем же я поеду? С лоевским раввином?
– Может быть, вы бы упросили разбойника Шмаю, – опять вмешалась Лия. – Солдат голодный, без работы ходит, хочет заработать. А с ним веселее будет. У него и винтовка должна быть. Он привёз винтовку с войны…
– Знаете, Лейбуш, что я вам скажу? – отозвался извозчик. – Она у меня все-таки умница, честное слово! Надо взять с собою Шмаю!
– Кончай с этим делом! Нанимай, кого хочешь, заплачу втридорога, лишь бы уехать скорее!
… Стояла кромешная тьма, лил дождь, когда они подъехали к дому Шмаи. Хацкель постучал. Разбойник Шмая выслушал всю историю, с усмешкой глянул на нежданных ночных гостей и сказал:
– Стало быть, надо вас, реб Лейбуш, отвезти к границе? Хорошо! – спокойно начал он. – И вы мне хорошо уплатите? Ещё того лучше! Так вот скажите мне, мусью реб Лейбуш, когда вы вертелись вокруг интендантства и набивали карманы золотом, вы на людей смотрели? Помогали кому-нибудь?
– Шмая, опять ты за свои солдатские штуки принимаешься? – крикнул Лейбуш.
– Помолчи, ты! – оборвал Шмая. – Забыл, что ли, когда я с фронта вернулся, больной, а жена моя пошла к тебе несколько рублей одолжить, ты её из дому выгнал. Моя мать у тебя когда-то кухаркой служила. А когда она захворала, ты её прогнал и даже фельдшера прислать не захотел! Пришел просить, чтоб я твою шкуру спасал? А совесть твоя где?
– Ах, вот как! – дрожа от злости, кричал Лейбуш. – И ты политикой занимаешься? Тьфу ты, провались! Весь мир с ума спятил! Одни поедем, Хацкель. Нужен он тебе, как пятое колесо.
Извозчик сунул кнут за пояс, посмотрел на черное небо, на далекие, окрашенные заревом тучи и отрубил:
– Нет! Никуда я не поеду. В такое время не ездят…
– Да ты хоть домой меня отвези! Не слушай ты, что этот разбойник говорит. Не видишь, что ли, ведь сердце у меня вот-вот разорвётся… – плаксивым голосом стал упрашивать Лейбуш, держась обеими руками за край телеги.
– Ну ладно, что мне с тобой делать, – полезай! – проворчал Хацкель и стегнул лошадей. – Домой могу отвезти…
Нахлёстывая лошадей, извозчик чувствовал за спиной прерывистое, хриплое дыхание Лейбуша.
– Сумасшедший! – шипел он. – Повези меня. Одна ночь – и ты разбогатеешь. Плачу тысячи… Одна ночь…
– Будьте уж вы богачом… А мне жизнь дороже.
А Шмая стремительно вошел в дом, схватил фуражку, натянул сапоги и бросился бежать к переулку, где, как он знал, помещался отряд самообороны.
Когда Шмая прибежал к двухэтажному каменному дому Лейбуша с застеклёнными верандами, он застал там несколько вооруженных парней. Лейбуш и его семья сидели на чемоданах и узлах. Всех попросили слезть: «Стоп! Конка дальше не пойдет!» Поднялся крик, шум, вся улица сбежалась. Лейбуш плакал, умолял, грозил, рвал на себе волосы.
Только начало светать, а всё местечко собралось возле дома Лейбуша посмотреть, как оттуда вывозят добро. Лошадки Хацкеля весело тащили мешки и узлы к большому складу, куда свозили реквизированное имущество богачей.
В местечке было празднично. Мужчины ходили с винтовками и с красными повязками на рукавах. Рассказывали, что послана депутация в Киев, в губернию, чтобы узнать, как поступить с имуществом богачей и что будет дальше…
МЕСТЕЧКО В ОГНЕ
Местечко было расположено недалеко от тракта, ведущего в большой мир. По этому тракту проходили некогда вражьи войска, оставляя за собой пожарища и пепелища. В этих местах рассказывают множество историй о боях Богдана Хмельницкого. А там, в большом дубовом лесу, говорят, скрывался Кармелюк со своими бравыми хлопцами. Мимо местечка проходили русские дивизии, шедшие на немца и австрияка. Не раз приходилось отстраивать местечко заново. И всегда люди ожидали лучших времен.
А как красиво было местечко! Оно окаймлено дремучим лесом, зелёные горы за ним поднимались до самого неба, а дорога петляла и змеилась между гор и терялась где-то в чаще лесов.
В этом местечке родился, здесь провёл свои юные годы, отсюда и на войну ушел разбойник Шмая. Старики говорят, что он весь в деда своего – жестянщика Авром-Бера «чёрного», который четверть жизни прослужил царю, был кантонистом. Отец Шмаи, жестянщик Исроэл, сложил голову под Порт-Артуром. И об отце и о деде Шмаи можно было бы рассказать много удивительных, весёлых, а порою и очень грустных историй.
Сам Шмая тоже немало натерпелся, трудно и тяжко бывало ему, но никогда и никому он не жаловался. Иные покидали местечко и отправлялись бродить по белу свету, счастье искать, а он повидал множество городов и местечек, но такого, как своё, не встречал. И лучше своих земляков никого не нашел. Духом Шмая никогда не падал, и терпеть не мог меланхоликов. Меланхолик, думал он, не стоит того, чтоб земля его на себе носила. Однако кровельщик порядком устал, воевать ему осточертело, и про себя он решил, что больше ни в какую драку ввязываться не станет. Хватит с него! Уж он, кажется, заслужил отдых.
Но на белом свете всё кипело, как в добром котле. В воздухе снова пахло порохом.
Ремесленники раздобыли винтовки и организовали дружину самообороны. Далеко за местечком встретили банду и разогнали её, другую встретили – и ей досталось. А когда бандиты увидали, как дружина принимает непрошеных гостей, стали обходить местечко стороной.
Отряд разрастался. Кто мог винтовку в руках держать, вступал в дружину. В местечке начал устанавливаться порядок, и простой люд почувствовал себя хозяином.
На первых порах Шмая держался в стороне. Он только время от времени приходил посмотреть, как ребята учатся владеть винтовкой, бросать гранаты.
Наступили трудный дни, Отряд редел после каждого боя.
В эти дни многие думали о кровельщике: винтовки стояли, а людей бывалых, боевых не хватало. Шмая уже несколько дней не показывался на улице. Жена его заболела тифом, и он выбивался из сил, ухаживая за ней. Приходил старенький фельдшер прописывал порошки, но главное, говорил он, это хороший уход, питание – куриные бульоны, яички, масло… Но и в аптеке и на рынке – хоть шаром покати. Шмая не знал, что делать с двумя своими детишками, с Сашкой и Лизой, – ведь они могли заразиться. Соседи взяли детей к себе, а вскоре группу бедняцких детей ревком отправил в губернский детдом, и ребята Шмаи тоже уехали. И остался он один с больной женой.
Стояла глубокая осень, непрестанно шли дожди. Местечко погрузилось в густой туман. Отряд вызвали в соседнее местечко – отбить наступление банды, и всех здесь охватило отчаяние. Стали рано запирать ворота и двери, гасили огонь, прислушивались со страхом и тревогой. Прошел день, другой, третий, а отряд не возвращался. Царила мертвая тишина.
Люди и не заметили, когда и откуда пришла ночь и опустилась на низенькие местечковые крыши. Моросил надоедливый, колючий дождик, свидетельствовавший о том, что осень обосновалась прочно. Из соседнего хмурого леса дул холодный ветер. Показался, было, серп луны, неуверенно мигнуло несколько звёзд, но тут же всё затянуло тучей.
В доме Шмаи всё ещё чадила коптилка. Шмая сидел, облокотившись на стол, и грустно потягивал давно погасший окурок. Окно было завешено рваным одеялом, тишина лишь время от времени нарушалась глухими стонами жены, лежавшей в жару с мокрой тряпкой на голове. Глаза у Шмаи красные, усталые. Уж он и не помнит, когда спал. Жена дремала. Он поднялся и подошел к её кровати: ему показалось, что она стала легче, ровнее дышать. Он укрыл жену, стоял и смотрел на осунувшееся бледное лицо, на длинные тёмные ресницы. Вот она снова начала дышать с трудом, будто ей не хватало воздуха. Шмая все ещё стоял, и нежность охватила его. Года за два до войны он женился. Появились дети. Началась война, и он ушел на фронт. А когда вернулся, он тоже не много радости в дом принес. Время было тяжелое, заработков – никаких.
Шмая постоял ещё немного, погруженный в раздумье, потом погасил коптилку и прилёг на топчане, натянув на себя шинель.
Шмая не знал, сколько времени он проспал, но, раскрыв глаза, увидал, что жена стоит над ним и плачет:
– Шая, Шая, вставай скорее… вставай… Зажги огонь…
– Что такое, Фаня? Что случилось? – вскочил он в испуге.
– Прислушайся… В городе бог знает что делается… – дрожа проговорила она.
– Что ты, милая… Зачем ты поднялась? Разве можно тебе? – Он взял её за руку и довёл до кровати.
Нащупал в кармане спички, зажег коптилку и, прислушиваясь, стал успокаивать больную.
Снаряд с диким воем пронесся над самой крышей, вылетели оконные стёкла. Фаня упала на пол. Второй снаряд прогудел и разорвался, где-то поблизости, так что домишко вздрогнул, будто земля под ним качнулась.
Шмая поднял жену.
Где-то совсем близко слышна была стрельба из пулемета. Петлюровцы носились на конях по улочкам и поджигали дома. В окнах стало светло от пожара, к небу поднимались огромные языки пламени. То и дело раздавался издали гром орудий, и по улицам с диким криком бежали люди, ржали перепуганные лошади, оглушенные взрывами.
Ветер сорвал одеяло, которым было завешено окно, и комнату осветило зарево. Шмая схватился за голову и подбежал к жене.
– Фаня, дорогая, надо бежать!
Но она лежала неподвижно.
– Ну, не плачь, крепись, родная, видишь, что вокруг творится…
– Вижу, – едва проговорила она и подняла на него испуганные глаза.
Он никогда ещё не видел их такими большими и просящими, полными слёз и горя. Пересохшие губы раскрылись, и она прошептала:
– Обо мне не заботься… Я умираю… Иди, спасайся сам… Беги…
– Что ты говоришь? Что ты говоришь? Разве я тебя оставлю?
– Беги из этого ада, спасайся… Мне, видно, так уж суждено… Детей спасай… Где они?…
– Ты разве забыла? Детей увезли в приют. Им там хорошо будет.
Шмая с трудом сдерживал рыдания. По заросшим, давно не бритым щекам катились тяжелые, мутные слёзы.
Снова где-то недалеко упал снаряд, и от потолка отвалилась глина, коптилка погасла, а небо за окном стало багровым. Кровельщик схватил шинель, завернул в неё жену и, подняв её на руки, пустился бежать по улицам, сам не зная куда и зачем. Стрельба не прекращалась.
Шмая бежал в гору дворами, огородами. Вот он увидал кем-то оброненную винтовку. Сам не зная для чего, Шмая на минутку опустил свою ношу, поднял винтовку, надел её через плечо, потом снова взял на руки жену. Стрельба немного стихла, надо было где-то укрыться.
Люди бежали к большому каменному зданию синагоги, возвышавшемуся над краем Кривого яра и выглядевшему со своими глухими стенами, как забытая старинная крепость.
Когда Шмая добежал до синагоги, там было уже полно людей. В шуме нельзя было разобрать, что делают люди – молятся или плачут. Было тесно, душно, а люди всё прибывали и прибывали. Шмая с женой на руках остановился у дверей и крикнул изо всех сил:
– Что вы здесь застряли? От снарядов эти стены не спасут. Бандиты близко. Погибнете!
Народ притих. Все оглянулись на заросшего, взлохмаченного кровельщика, державшего на руках больную жену.
– Новый спаситель объявился! Кто это там командует? – послышался чей-то сердитый голос.
– Это разбойник Шмая!
– Нашелся советчик! – произнёс кто-то презрительно.
– Шмая, куда бежать?
– В лес!
– В лес? Рехнулся… В такой дождь, с малыми детьми…
– Не слушайте его! Доставайте свитки торы, будем молиться!
– Надо просить милости у всевышнего!
Снова послышалась стрельба.
– Идемте в лес! – крикнул Шмая не своим голосом и выбежал на улицу.
– С ума сошел! – раздалось несколько голосов. – В такое тревожное время тащит нас в лес…
– Люди, бегите в лес! – уговаривал он.
– Шмая – бывалый солдат, он лучше нас понимает…
– В лес!…
– Разбойник рехнулся!…
– Не слушайте святош, давайте за мной! Снаряд угодит, и здание рухнет. Нельзя здесь оставаться! – кричал он.
– Выкресты! Изверги!…
Когда Шмая обернулся, он увидел, что люди бегут следом за ним. Останавливались, переводили дыхание и бежали дальше. Казалось, само местечко, охваченное пламенем, гонит этих людей к лесу. Теперь люди и сами старались держаться поближе к кровельщику. И он, измученный, вспотевший, с больной женой на руках, казался теперь единственной опорой. Людей на дороге становилось всё больше. Шли одиночки, целые семьи.
В лесу вздохнули свободнее. С ужасом глядели издали на горевшее местечко.
– Город горит! Горе наше…
– А холод какой, дождь. Погибнуть можно! – говорили люди, прижимаясь друг к другу.
– Дети замёрзнут…
– Какой чёрт затащил нас сюда?!…
Шмая сгрёб груду листьев, положил на них жену, укрыл, как ребёнка, шинелью. Кто-то накинул на неё одеяло. Шмая прислушивался к её дыханию. Ему казалось, что она хочет ему что-то сказать, но не может.
– Фаня… – стал он её тормошить. – Крепись, родная!
Вдруг донесся громкий плач и крики. Толпа людей приближалась к лесу.
– Синагога горит!…
– Подожгли! А там полно людей… – не переставая причитал старик в изодранном талесе на плечах. – За что мы, боже, так наказаны? За какие грехи?…
– Живые люди горят… Что там творится! Не послушались разбойника…
– Погибло местечко… За что?!
Из местечка прибежали ещё несколько человек, спасшихся от огня. Со всех сторон слышался плач детей, дрожавших от холода. Крики женщин, споры. Бесконечно долго тянулась эта ночь, не верилось, что она когда-нибудь кончится.
Шмая присел на пень и поставил винтовку между колен, как он это делал на фронте. Он сидел, опустив голову, и поглядывал на свою больную жену. Её бил озноб, и лохмотья, которыми она была прикрыта, не помогали. Если бы он мог сейчас закурить, стало бы легче. Но огня зажигать нельзя.
А старик в изодранном талесе никак не мог успокоиться.
– Петлюра, да будет стерто имя его, лютую смерть бы ему и всем его бандитам! Чтоб от них и следа не осталось…
– Что же дальше будет? Убежали в чем были…
– Дети замёрзнут!
– Ничего, лишь бы остались живы!
– Чем такая жизнь…
– А тем, кто остался в синагоге, лучше?
– Кто знает… Лучше смерть, чем такая жизнь…
– Довольно трещать!
– А ну, тише! Кто-то сюда едет!…
Все обернулись к дороге и увидали телегу, за которой кто-то шел, как за покойником. Через несколько минут в лес въехал извозчик Хацкель. Лошаденка еле двигала ногами. На телеге сидели дети и какие-то незнакомые люди, подобранные Хацкелем на дороге. Извозчик вытер рукавом мокрое лицо и, озабоченно качая головой, сказал:
– Здравствуйте, соседи. Ну, вот и все!
В лесу разгулялся ветер, шумела листва.
Люди смотрели на прибывших.
– А где же ваша жена?
– Нету больше жены… Убило её возле самой хаты. Я ей кричу. «Бежим», а она своё: «Как же можно бросить дом, добро!» Ну, вот стали мы выносить из дома все, что можно, а осколком убило ее наповал…
Извозчик сел на телегу, опустил голову.
– Что же дальше?
– Ничего! Не грешите… Лишь бы живы… – отозвалась одна из женщин.
– Лишь бы живы, – сдавленным голосом повторил Шмая. – Горестей нам, как видите, хватает, слава тебе господи! Бог жизнь нам дал, он и мук не пожалеет. Щедрый он у нас…
– Шмая, это ты? – крикнул извозчик, вглядываясь в тьму. Он спрыгнул с телеги и направился к Шмае. Возле ложа больной он остановился и спросил:
– Это кто? Твоя? Что с ней?
– Не спрашивай, Хацкель…
Извозчик достал кисет, набил табаком трубку, высек искру, дал Шмае закурить и сам закурил, прикрыв огонь полою.
Была глубокая ночь, когда стрельба немного стихла и зарево, висевшее над местечком, стало понемногу меркнуть. На траве, на пнях, где пришлось, люди лежали и сидели, прижавшись друг к другу, словно овцы в бурю.
Разбойник Шмая шел понурив голову мимо людей, дрожавших от холода и страха. В темноте никто не видел слез, которых он не мог сдержать. Его ни о чем не спрашивали, – все понимали, что он оплакивает свою жену, которая тихо скончалась здесь, под деревом. Ещё несколько минут назад он сидел возле нее и прислушивался к ее невнятной речи. Ему хотелось понять, что хочет сказать жена. Но голос ее был едва слышен…
Шмая отошел к опушке леса. Люди провожали его сочувственными взглядами. Глаза несчастных как бы спрашивали: «Что с нами будет? Куда мы теперь денемся?» Он постоял, прислонившись к дереву, но беспомощные и вопрошающие глаза не давали ему покоя. Он должен им помочь, этим людям, но как? Вернувшись на свое место, где сидел Хацкель, Шмая поднял с земли винтовку.
– Никак с ней расстаться не можешь? – сказал извозчик. – Это она принесла на землю столько горя и бед, она! – кивнул он на винтовку.
– Я об этом ещё не думал, – тихо ответил Шмая, вытирая винтовку рукавом, и, помолчав, добавил: – Однако она, пожалуй, может и покончить со всеми нашими горестями. Она, знаешь, ещё пригодится. Запрягай лошадку, поедем!
– Куда? – с испугом спросил извозчик. – Кто знает, что там творится?
– Не видишь, что ли, как дрожат дети? Ведь погибнут… Запрягай!
– Господь с тобой, Шмая! – раздалось со всех сторон. – Куда тебя несет?
– Не поднимайте шума! – ответил Шмая тоном, не допускающим возражений, – Надо ехать.
Извозчик запряг, несколько парней поднялись с места и пошли следом за Шмаей.
Вернулись они из местечка не скоро, с возом, нагруженным подушками, одеялами, хлебом, мукой и всем, что можно было взять в уцелевших домах. Привезли также лопаты и топоры и начали строить из ветвей и жердей шалаши, рыть землянки.
Шмая пошел к дубу, где лежало тело его жены. Несколько женщин оплакивали ее. Увидев Шмаю, они разрыдались. Шмая присел на пень, опустил голову и погрузился в тяжелые мысли.
– Золотая была душа! – сказала пожилая женщина, много лет прожившая по соседству с кровельщиком. – Когда ты, Шмая, воевал, она, бедняжка, заменяла твоим детям отца, берегла их как зеницу ока, ночей не спала, глаза все проплакала по тебе. Бриллиант потерял ты, а не жену. Ее слезы и мольбы тебя от смерти спасли. А теперь, когда можно было снова жизнь начинать, ее не стало…
Шмая не мог смотреть на старушку, он только слушал. Кругом говорили о смерти Фани. Дети плакали от испуга. Шмая поднялся, взял заступ.
Кладбище было недалеко от леса, за лужайкой. На горизонте начинало светать. Прислонясь к старому надгробию, Шмая молча смотрел на могилу жены. Он низко склонил голову, как делал это на фронте, стоя над свежей могилой близкого товарища, солдата, павшего в бою…
И на обратном пути Шмая слова не вымолвил. Тяжелым, неуверенным шагом плелся он к лесу. Проходя мимо людей, он старался не встречаться с ними глазами. Он сел на бугорке и вдруг почувствовал, что голова у него тяжелеет, будто свинцом наливается. Он вздрогнул, почувствовав, что кто-то взял его за плечо. Это старая соседка, которая недавно так тепло говорила о Фане, принесла ему подушку:
– Приляг, Шая… Ведь ты же с ног валишься. Быть может, чья-нибудь мать и моим сыновьям подушку под голову положит… Кто знает, где их косточки покоятся? Ты их помнишь, Шая? Ведь они с тобою в один день ушли на войну…
Шмая не отвечал. Он растянулся на земле, накрылся с головой шинелью и сразу же заснул.
Шмая не мог определить, сколько времени он проспал. Проснулся он от большого шума. Широко раскрыл покрасневшие глаза. Несколько секунд он вообще не понимал, где находится и почему так шумят люди вокруг него.
– Чего тут сидеть? – толковал старик в изодранном талесе. – Мы голы и босы, надо идти в местечко, похоронить погибших… Пойдем домой.
– Реб Арье, – спокойно сказал ему Шмая. – Вы завидуете умершим? Куда это вы собираетесь?
– Нечем детей укрыть! – всхлипнула одна из женщин.
– Есть нечего… От голода умрем…
– Зачем ты привел нас в лес? Ведь мы тут погибнем! Уж лучше бы у себя дома…
Шмая молчал. Он выждал, пока стало тихо, и сказал:
– Я тут не хозяин, не начальник, поступайте как знаете.
– Пойдемте, бабоньки, чего вы на него смотрите? Пойдем! – Женщина махнула рукой, взяла ребенка за руку и пошла. Прошла несколько шагов, обернулась, увидела, что к ней никто не присоединился, остановилась.
– Шмая, скажи все-таки, что же нам надо делать?
– Не знаю, что вы будете делать, – отозвался наконец Шмая,- Я и Хацкель остаемся здесь. Пока отряд не вернется, мы в местечко не пойдем. Бандиты, наверное, где-нибудь поблизости.
– А сюда они дороги не найдут?
– Есть у нас несколько винтовок, будем стрелять, – отвечал Шмая. – Будем драться за жизнь, за справедливость до последней капли крови…
Было тихо. Понемногу люди разошлись по местам, расстелили на голой земле что у кого было, улеглись. Кое-кто из мужчин ещё возился с шалашами, другие разожгли костры в ямках, а некоторые отправились на поле, чтобы нарыть картошки для ребят. Над лесом висело хмурое небо. У всех было тревожно на сердце: кто знает, сколько ещё времени придется провести здесь?
Спустя некоторое время Хацкель и Шмая поехали на ближний хутор, – авось удастся раздобыть молока для детей и больных, привезти кое-что из продуктов. Перед отъездом Шмая показал, как надо ставить шалаши, и посоветовал не шуметь, не ходить в местечко. Молодым людям, у которых были винтовки, он велел наблюдать за дорогой, не спать на посту.
Люди смотрели вслед уезжавшим, а когда ходоки скрылись в чаще леса, принялись за работу. Над головой шумел ветер, шелестели и падали наземь пожелтевшие листья.
Наступила ночь, а Шмаи с извозчиком все ещё не было. Их ожидали с нетерпением, с тоской и со страхом, не переставали говорить о них. Несколько женщин принялись было их оплакивать. Страх перед наступающей ночью, страх за людей, которые должны бы уже вернуться, не давал покоя.
– Эх, вы! – говорил старый Арье. – Из-за утробы погнали двоих на смерть! А когда приходится поститься? Можно бы и попоститься недельку…
– Поверьте мне, реб Арье, я могу ещё три дня ничего не есть, но дети… Их то ведь жаль…
Вдруг старик нагнулся, прислушался, потом приложит ухо к земле:
– А ну-ка у кого слух получше?
И в ту же минуту послышался далекий шум. Все притихли, и тогда стал слышен скрип телеги.
– Тише! Кажется, едут…
– Ну и что же?
– Может быть, это Шмая?
– А может быть, не он? А может, дьявол какой-нибудь?
– Черт с ним! Кого нам теперь бояться? Хуже некуда!
Уже отчетливо слышен скрип телеги. Люди напряженно смотрели в ту сторону, откуда он доносился. Кто-то не выдержал и крикнул:
– Шмая, ты?
– А кто же ещё? – донесся после короткой паузы голос кровельщика. – Кому ещё в такое время по лесу таскаться, как не разбойнику?
Все облегченно вздохнули. Судя по ответу, Шмая возвращался не с пустыми руками.
Телега подъехала, нагруженная мешками. Разбойник Шмая велел женщинам поделить все, что было доставлено. Голодные люди жадно принялись за еду, благодарили Шмаю.
– Не за что меня благодарить! – сказал он. – Вот кого благодарите! – указал Шмая на небо. – Он там сидит и только и делает, что заботится о бедном люде: не нравится ему, что мы спим на своих кроватях, он посылает на нас войну, напасть среди ночи, гайдамаков, Петлюру, выгоняет нас в лес, чтобы мы подышали свежим воздухом, пожили на даче… Вообще он очень нас уважает…
– Шмая, что это за разговоры? – дрогнувшим голосом спросил реб Арье. – Не ропщи на всевышнего, а то ты всех нас погубишь…
– Нам уже, реб Арье, бояться нечего, – ответил Шмая.- Наш паек горестей господь бог выдал нам сполна!
Шмая пошел посмотреть, как сооружаются шалаши. Потом начал рыть землянку. Он стоял уже по колено в яме и умелой солдатской рукой ловко и неторопливо выбрасывал полные лопаты земли.
– Сейчас, братцы, построим парочку дворцов и будем жить, как графы! Совсем неплохо! Арендной платы вносить не надо, квартиры тут даром – благодать! – говорил Шмая и затянул песенку, которую привез с войны:
Как осколок от гранаты В грудь солдату угодил, Только верный конь солдата До могилы проводил. Только птицы над могилой Пролетают в вышине. Ой ты, ворон чернокрылый, Что закрыл ты очи мне?– Снова в нем солдат заговорил, на душе полегчало. Напевает, – проворчал старик. И что это за человек? Пойми его…
– А ну-ка, у кого лопаты, принимайтесь, за работу! – крикнул Шмая. – Будете без дела стоять, пятки замлеют…
– Ты что это, сынок, такой веселый? – спросила старая соседка.- Уж не хватил ли на хуторе самогона?
– Эх, дорогая моя, кабы мы этой самой меланхолии волю дали, так нас бы давным-давно на свете не было. Один мудрец, нищий, сказал мне однажды, что день, когда мы не смеялись, – это день потерянный. Но ничего, мы ещё посмеемся, всем врагам назло! Эх, рассказал бы я вам одну забавную историю, да время сейчас не то…
– Шмая, скажи, дорогой, сколько лет прожил твой дед? – спросил вдруг извозчик Хацкель.
– Мой дед? Всего сто шесть лет…
– А отец?
– Э, мой отец, кабы не был убит под Порт-Артуром, дотянул бы до ста.
– Человек вроде тебя, – Хацкель хлопнул его по плечу, – такой человек, как ты, должен жить по крайней мере полтораста лет!
– Это за что же мне такое наказание? – удивился Шмая. – Разве я кому-нибудь зло причинял?
Он поднял голову к шумящим дубам. Они тяжело стонали, а когда ветер стихал, слышно было, как падают листья. Лес предвещал новый дождь, по которому здесь, конечно, никто не скучал.
Ночью лес расшумелся, как перед бурей. Люди кое-как устроились на ночлег. Шмая и ещё несколько человек, вооруженные винтовками, охраняли лагерь.
Шмая вдруг услышал стук колес, переглянулся с парнями, и глаза у него загорелись: что ещё за новая напасть?
Глухой стук приближался.
– Может быть, разбудить народ?
– Погоди, детей испугаешь…
– А начнут стрелять, убивать – лучше будет? Если на нас нападут, будем драться до последнего…
– Тише! – перебил Шмая и направился в сторону тракта.
Показался воз, другой, третий, рядом с возами шли крестьяне и мирно беседовали.
– Стой! Кто идет?
Первый воз остановился. Стихло. Несколько человек подошли, огляделись.
– Крестьяне… Из Петривки…
Шмая подошел к возам и вдруг услыхал знакомый голос:
– Спивак! Это ты, братец? Не узнаешь Михайлу Шевчука?
– Михайла! Как ты сюда попал?
Поздоровались, обнялись. Шевчук рассказал:
– Слыхали мы, что бандиты пожгли ваше местечко. Собрали в деревне у бедняков хлеба, картошки, ещё кое-чего и повезли вам. А в местечке никого нет. Какая-то бабушка рассказала, что в лес, мол, ушли. Вот мы вас и ищем. Привезли, что можно было…
– Боже мой, боже мой… – вмешалась в разговор Ковалиха, пожилая крестьянка в потертой свитке, закутанная в большую старенькую шаль,- У нас на площади, у церкви, гадюки проклятые шестерых убили. Чтоб к большевикам не уходили. Грозились, если кто хлеб в местечко повезет,- убьют. Слыханное ли дело? А мы знаем, как вы тут мучаетесь с малыми ребятами…
Шмая сияющими глазами смотрел на Михайлу. Он издавна знает Шевчука. Когда Шмая с отцом ходил в Петривку крыши чинить, они всегда останавливались на ночлег у Шевчука. А тот бывал желанным гостем у Спиваков. Знал Шмая и Ковалиху, сейчас она стояла у воза и раздавала подходившим людям ржаной хлеб, яблоки, картошку. Муж Ковалихи, кузнец, погиб на войне, а она осталась с четырьмя детьми.
С возов сняли мешки и торбы. Никто уже не спал. Не верилось, что в такую трудную минуту придет помощь, а она пришла так вовремя и так неожиданно!
Голос Ковалихи отвлек Шмаю от воспоминаний:
– Может быть, возьмем к себе в деревню ребятишек? Жалко ведь. Замерзают небось. Спрячем у себя.
– Спасибо, пройдет несколько дней, вернемся домой…
– Дай-то бог!
– А если погибнем, на кого дети останутся?
– Ты что глупости говоришь, Хацкель! – рассердился Шмая. – Долго так не может быть – без власти. – И, глядя на Шевчука, на Ковалиху и других крестьян, стоявших у своих подвод, добавил:
– Ничего, живы ещё на свете добрые, сердечные люди! Значит, все горести переживем!
– Это ты правильно сказал, Спивак! – подтвердил Шевчук. – Мы о вас не забудем… Что в силах наших, сделаем, поможем…
– Спасибо, дорогие земляки! Дай вам бог счастья!
Подводы тронулись с места. Взволнованные и взбудораженные беженцы ещё долго смотрели им вслед.
Разбойник Шмая и извозчик Хацкель жили в одном курене, спали на одной дерюге, ели из одной миски, сменяя друг друга, стояли на часах с винтовкой и охраняли новый лесной поселок, живший то страхом, то надеждой.
В одну из ночей Шмая стоял, прислонившись к дереву, на дороге недалеко от местечка и вслушивался. Увидев Хацкеля, он сказал:
– Послушай, какой шум…
– Кажется, кто-то плачет…
Они смотрели друг на друга. Так смотрят солдаты, когда идут в атаку.
– Эх, – Шмая махнул кулаком, – кабы не народ в лесу, да будь у меня пулемет, гранаты, я бы сейчас ворвался туда и устроил бы им…
– Тише! Слышишь? Кто-то кричит. Знакомый голос…
– Что ты говоришь?
– А ты прислушайся. Честное слово…
– Говорят, при Петлюре есть какой-то еврей министр. Не он ли к нам в гости приехал?
Может быть, он и устраивает погромы?
– Кто знает? Весь мир с ума сошел…
– Послушай, а может быть, вернулся отряд?
– Да! Кажется, и в самом деле наши ребята! – обрадовался кровельщик.
Шаг за шагом они, затаив дыхание, приближались к местечку.
Вскоре Шмая и Хацкель стояли, окруженные усталыми, измученными знакомыми парнями и рассказывали им о несчастье. Кровельщик побежал в лес с доброй вестью.
Никто не заметил, как начало светать. Так же незаметно пошел чистый мягкий снег – первый снег, прикрывший груды пепла.
В ПУТЬ-ДОРОГУ
Душой местного ревкома и отряда был Фридель Билецкий, или Фридель Наполеон, как называли в местечке сына портного Билецкого. Высокий худощавый человек лет тридцати. Спину ему согнула сперва жизнь в отцовском доме, а затем каторжная тюрьма в Сибири. Юношей Билецкий уехал в Киев, взялся за учение, давал уроки, связался с подпольщиками, работал слесарем на фабрике, стал профессиональным революционером.
Вернувшись на родину, он организовал отряд, который начал бить гайдамаков, батьков и прочих бандитов, налетавших на злополучное местечко. Хоть на фронте ему воевать не пришлось – он восемь лет пробыл в Сибири, – с бандами он дрался, как настоящий стратег. Отсюда и пошло – Наполеон. В местечке ведь редко встретишь человека без прозвища…
Теперь нужно было восстанавливать местечко, налаживать жизнь. Билецкий вместе со всеми начал рубить лес, возить древесину, раздобывал продовольствие в окрестных деревнях и так горячо и уверенно рисовал будущую счастливую жизнь, которую создаст народ, что людям становилось легче на душе.
– И вот в одно прекрасное утро,- рассказывает Шмая, – является к нам этакий барчук на саночках и заявляет, что его прислала сюда Центральная Рада для того, чтобы передать ультиматум: предлагается отряду сложить оружие добровольно, иначе это придется сделать принудительно. Парень созвал людей и стал рассказывать, что он уполномоченный петлюровского министра по «еврейским делам», что сам министр имел беседу с Петлюрой и что Петлюра, мол, обещал спокойную жизнь всем людям – недаром же «Батько» организовал целое еврейское министерство, только чтобы мы не знались с большевиками. Молодой человек был в хорошей хорьковой шубе. Он совсем было разговорился, девичьи щечки его разгорелись. Но в эту минуту пришел наш Билецкий, и высокопочтенный гость сразу же языка лишился. Оказывается, они учились когда-то вместе в Киеве, старые знакомые.
«Эге, брат Волошин, на старости лет петлюровским коммивояжером сделался?» – усмехаясь, спрашивает Билецкий.
Парень посинел. Народ уже хотел было устроить ему подходящие проводы и отправить без пересадки на тот свет, но Билецкий не позволил.
«Убить одного шута – пользы мало, – сказал он, – надо всю банду разогнать!.»
Парень едва ноги унес. Правда, когда он садился в сани, я успел закатить ему оплеуху.
Все ждали, что после этого визита, как водится, нагрянет новая банда. Билецкий приказал выставить на окраинах местечка усиленный патруль и приготовить пулеметы.
Надвигалась трудная, морозная зима Люди, оставшиеся в местечке, жили в разрушенных, обгоревших домишках, мерзли, голодали.
Все занесло снегом. По ночам, когда гасли огни, местечко казалось заброшенным.
Недавно здесь прошла крупная воинская часть, и с ней в Красную Армию ушел местечковый отряд с его испытанным командиром Билецким. Мало кто из жителей остался здесь на зиму. В местечке стало пусто и жутко.
Разбойник Шмая и извозчик Хацкель поселились в покинутом домишке на окраине, возле мельницы. Они тоже собирались уйти на фронт вместе с отрядом, но Хацкель заболел тифом. Дни и ночи просиживал разбойник Шмая возле больного, лечил его бабьими средствами, травами, кореньями, ставил ему банки, прикладывал лед ко лбу, но чаще всего врачевал словом, рассказом, шуткой.
Все последние дни у больного был жар, и он молчал, Но сегодня ему полегчало и он не переставая говорил о своей лошаденке, которая стояла в полуразрушенном сарае без овса и сена.
– Человек ко всему может приспособиться – сказал извозчик. – Но что может сделать животное?
Разбойник Шмая никогда не был страстным любителем лошадей. Он старается помолчать, когда извозчик заводит разговор на эту тему Шмая знает, что придется ему в такую непогодь бегать по сараю, собирать по углам сено.
– Сбегай, братец, в сарай, посмотри там… Чего-то мой кормилец ржет… – вдруг в жару вскакивал Хацкель.
– Ну и прекрасно, что ржет! – отвечал Шмая. – А чего же ещё лошади делать? Петь, что ли? Тьфу ты, прости господи! – сердится Шмая, вставая со своего ложа. – Наградил же бог клячей! Чтоб она сдохла!
Шмая накидывает шинель, направляется в сарай, но тут же возвращается.
– Спи спокойно, Хацкель. Твой кормилец чувствует себя прекрасно!
– А ты подсыпал ему немного сена?
– Могу ему подсыпать мои горести и болячки. Откуда я сено возьму?
– Да ведь она у тебя подохнет!
– Подумаешь, беда какая! Жив будешь – другую клячу купишь. Выкинь из головы твоих лошадей, и давай подумаем, как быть дальше. Здесь нам делать нечего. Уж я решил: как только поставлю тебя на ноги, уйдем отсюда.
– От меня, пожалуй, большого проку не будет! – сказал Хацкель. – Иди один… А что тебе мучиться со мной?
– Ты что болтаешь? Бросить товарища в беде? – Шмая был вне себя. – Ты меня не знаешь, Хацкель!
– В таком случае, Шмая, выскочи и раздобудь хоть клок сена лошадке.
– Фу ты, пропасть! Чего ты привязался со своей клячей? Ты на себя лучше погляди, на кого ты похож. Краше в гроб кладут.
– Не хочешь – не надо! – сказал извозчик, слезая с постели. – Сам пойду…
– Тихо! Не шуми! Иду, иду! – крикнул Шмая, укладывая Хацкеля на кровать. – Помешался на своей лошаденке…
Потеплело. Извозчик поднялся на ноги, и Шмая был доволен, что ему не придется больше возиться с Хацкелевой клячей. А кляча тоже обрадовалась теплым дням. Увидев хозяина, она устроила ему достойную встречу: упала и стала тяжело дышать…
– Шмая! – крикнул извозчик.- Поди сюда, посмотри на моего кормильца.
Шмая вошел в сарай.
– Посмотри, что стало с лошадью! – со слезами в голосе проговорил извдзчик.
Они вдвоем вынесли ее на руках из сарая и подвесили на крепкой веревке меж двух акаций, чтобы она могла щипать кору со стволов.
Солнце уже немного пригревало, и было приятно посидеть на завалинке и подумать. Шмая достал из кармана кусок бумаги и немного пыли от растертых листьев, скрутил папироску и сказал:
– Возьми, Хацкель, закури.
– Смотрю я на тебя, Шмая, и не узнаю, – сказал Хацкель, разглядывая заросшую, взлохмаченную голову друга.
– Почему это ты меня не узнаешь?
– Зарос, как зверь, постарел… у тебя уже седые волосы.
– Седые волосы – это не признак старости, – возразил Шмая. – Седые волосы – это как пена, которая остается на море после бури.
– Ты и исхудал здорово! Кости выпирают.
– Это ничего! – махнул рукой Шмая.- Наш кашевар из третьей роты, Степа Варивода, говорил, бывало: «Вы мне кости давайте, а борщ я как-нибудь и сам сварю…»
– Ничего! Вот коняка малость поправится, тогда и нам полегче станет.
– Вот я и жду, чтобы она поскорее ноги протянула.
– Типун тебе на язык! Тебе все смешки!
Шмая вошел в дом, вынес битком набитый солдатский ранец, с которым теперь не расставался, и принялся искать свою бритву. Он вытащил пару рубах, щетку, потертую книжечку и пожелтевший конверт – в нем была фотография женщины. Лицо Шмаи осветилось улыбкой, но тут же затуманилось.
Хацкель взял карточку из его рук и увидел молодую женщину с большими улыбающимися глазами. Извозчик хитро посмотрел на Шмаю:
– Это что за бабенка? Из твоих солдатских походов? Ай-яй-яй! Солдатская любовь?
– Нет, Хацкель. Долго рассказывать… Я ее и в глаза никогда не видел. Это жена лучшего моего дружка, с которым мы в окопах валялись, Корсунского.
– Так… А как же в твой ранец попала карточка его жены? Ох, разбойник!
– Мне дал ее Корсунский, – сердито ответил Шмая, отобрал фотографию и осторожно и бережно положил ее в ранец. Потом нашел свою бритву, оселок и потертое зеркальце и, примостившись на завалинке, принялся за бритье.
Извозчик следил за тем, как Шмая скребет свою физиономию, потом сказал:
– Чем ты, дурень, занимаешься? Нашел время прихорашиваться! Больше тебе думать не о чем? Или это ты для той бабенки, что на карточке?
– Хацкель, не смей так говорить! Это честная женщина. Ты ей и в подметки не годишься!
– Тише, не кричи, не трогал я ее, – оправдывался Хацкель. – Чего ты на меня накинулся? Ты не забывай, Шмая, что женщин везде не занимать стать, а верного друга…
– У тебя, брат, мозги набекрень, – сурово поглядывая, сказал Шмая. – Тебе ничего показывать нельзя. Я как посмотрю на нее, душа болит…
Заболтались приятели и не заметили, как в это время кляча богу душу отдала. Извозчик поднял крик, начал звать Шмаю, но кровельщик был занят бритьем и махнул рукой:
– Хацкель, дай ей спокойно издохнуть. Не мучь ты ее.
Извозчик постоял ещё несколько минут, опустив руки, потом подошел к завалинке и, глубоко опечаленный, сел рядом с Шмаей.
– Не тужи, братец! – Шмая побрился, и лицо его приняло обычный вид. Оно, правда, отощало и вытянулось, но глаза по- прежнему блестели, а усы были лихо подкручены.
– Эге, Шмая, да ведь ты прямо-таки красавец, за тобой все девушки бегать будут…
– Сейчас и ты, Хацкель, у меня побреешься! Ведь ты ещё молодой человек, а посмотришь на твою бороду, можно подумать, что старая калоша…
– Не морочь мне голову. Я сам бриться не умею.
– Конечно, ты ведь служил в обозе. Какой это солдат, если он бриться не умеет? А на фронте за нами парикмахеры, что ли, ходили? Ну, давай физиономию, побрею тебя на дорогу.
– Что за дорога? Рехнулся ты, что ли? Разве можно так вот бросить все?
– Ничего, Хацкель, твоих дворцов здесь никто не захватит, а твои сахарные заводы как-нибудь и без тебя обойдутся. Надо найти свое место в жизни, нельзя в такое время сидеть сложа руки.
– Не понимаю я тебя, Шмая, как это можно бросить дом, землю, на которой всю жизнь прожил?
– Мой дом теперь, братец, – вся Россия! Где хотим, можем жить, и никто нам слова дурного не скажет. Мы честно бились за этот дом, кровь проливали. И, видать, ещё придется воевать за свободу. А кроме того, мы теперь люди вольные, без жен, без детей,- терять нам нечего…
– А мне это не нужно. Мне бы денег раздобыть. Бог даст, крепким хозяйством обзаведусь. Я и без свободы проживу.
– Дурень… Мелкая душа!…
Шмая, насвистывая, начал намыливать рыжую бороду Хацкеля.
– В чем дело, Шмая, таким я тебе не нравлюсь?
– Да, стыдно! Идем мы, Хацкель, туда, где уже установилась советская власть. А к народной власти надо прийти по-праздничному. Понимаешь?
День прошел. К вечеру морозец затянул ледком лужи, похолодало. Ещё солнце не село, а Хацкель и Шмая уже лежали на полу, накрывшись старыми сенниками, и сладко спали.
Глубокой ночью Хацкель проснулся и стал будить товарища:
– Шмая, спишь?
– Сплю. А что такое?
– Ох, и сон я видел.
– Какой сон?
– Ох, не спрашивай! Она, она приснилась, та, что у тебя на карточке! Ну и краля! Откуда ты такую взял?
– Спи, спи, вот ещё пристал. Говорил же я тебе, что в глаза ее не видал. Это товарища моего жена, Корсунского. В одной роте с ним служили, из одного котелка хлебали, понимаешь?
– Понимаю, конечно, – неопределенно проговорил Хацкель.
– Шмая молчал.
– Шмая, а ты обещал рассказать, откуда у тебя эта карточка.
Шмая закурил и заговорил, с трудом подбирая слова:
– Друга у меня на фронте убили, такой души человека я ещё не встречал, да и вряд ли встречу. Звали его Иосиф Корсунский. Перед смертью он сказал мне, что в Таврии, возле Ингульца, живет его жена Рейзл с двумя ребятишками, Батрачит у кулаков. И ещё Иосиф успел попросить, чтобы я разыскал Рейзл. Умер Иосиф на моих руках. С тех пор и ходит со мной по свету фотография вдовы друга и несколько стертых листочков из ее писем. А адреса я ее не знаю…
Шмая поднялся. Он молчал. Воспоминание о друге и незнакомой женщине взволновало его.
Поев, Шмая надел старую, дырявую шинель, надвинул на самые уши солдатскую шапку, взял на плечи ранец и посмотрел на товарища.
– Что-то ты больно долго собираешься, словно богатей на тот свет. Давай скорее! – сказал кровельщик.
– Не торопись! Никуда мы не опоздаем! Никто нас не ждет, – ответил Хацкель, натягивая овчинный тулуп. – В далекий путь отправляемся, а ты и подумать не даешь…
– А что тут раздумывать? Уж я столько времени думал… Мир перед нами открыт…
– Плевать ему на нас…
– Ты так про мир не говори, Хацкель!
– Чего стоит мир, если извозчик должен ходить пешком, а кровельщику негде крышу починить?
– Нам надо идти к советской власти. Судя по тому, что я о ней слышал, мы ей сродни. Ну, братец, шагай!
Они двинулись по подмерзшей земле. Под ногами хрустели льдышки. И хоть дорогу перебежала перепуганная бездомная кошка, и Хацкель покачал головой в знак того, что это нехорошая примета и лучше бы отложить путешествие, разбойник Шмая весело воскликнул:
– Чепуха! А ну, Хацкель, как ты, бывало, своим лошадкам говорил, когда в гору поднимались: «Айда, погибель на врагов наших!»
БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ
Вечерние тучи уже ползли над высокими домами и церковными куполами, когда к деревянному киевскому вокзалу, похожему на бесконечно длинный сарай, подошел эшелон, составленный из красных и зеленых вагонов.
Замерзшие, посиневшие, сидели на крыше вагона наши путешественники – разбойник Шмая и извозчик Хацкель. Они держались окоченевшими пальцами за дымовую трубу. На крышах вагонов была такая теснота, что они могли считать себя счастливчиками – ведь им удалось захватить местечко поближе к дымовой трубе. И теперь, когда поезд остановился и пассажиры двинулись к вокзалу, они с трудом оторвались от трубы и слезли на перрон.
– Ну, Шмая, возблагодарим господа.
– А я полагаю, что можно бы перекурить.
– Куда ж это мы попали? В самый Киев?
– А куда же ещё?
– Вокзал тут что-то здорово на сарай смахивает.
– А тебе большое дело! Пошли скорее! Надо согреться…
С толпой их внесло в вокзал.
Извозчик был прав. Длинный с низким потолком зал и в самом деле был похож на огромное, запущенное стойло, в которое загнали немыслимое количество беженцев, бездомных, солдат на костылях, потрепанных бар и полинявших офицеров.
– Ну, Хацкель, живем! Ура! – сказал разбойник Шмая, когда их обоих прижали лицом к влажной, отпотевшей стене. – Раз мы благополучно доехали, значит, суждено нам ещё пожить! На что мы можем пожаловаться? С войны мы вернулись, дома наши сожгли, от жен и детей нас освободили, возят бесплатно – чего ещё нам не хватает?
– Ты, конечно, прав, Шмая. Однако давай выберемся из этого рая, мы здесь задохнемся. Но только куда идти?
– Как это – куда? В город.
– Надо бы разузнать, какая власть сейчас в городе. Погляди-ка, вон тот с погонами, а у этого красная фуражка на голове. Там какой-то казак бушует, а здесь мешочники лежат, в углу и вовсе какая-то женщина рожает… Вот и добейся тут толку, узнай, кто здесь верховодит?
– Сам видишь, корабль без руля, – ответил Шмая и стал проталкиваться к выходу.
С большим трудом наши друзья вырвались на свежий воздух, и присели на широких ступенях. Надо было придумать, что делать дальше.
Куда девались золотые кресты и пузатые церкви, высокие дома и гористые улицы? Все потонуло в ночной тьме. И только от высоких окон ложится желтый отсвет на тротуары. Люди здесь не ходят, а бегут, тени проносятся и исчезают. Прохожие заглядывают вам в лицо, и каждый опасается, что вы собираетесь его раздеть, ограбить, зарезать. Время от времени с шумом проносится фаэтон с пьяными пассажирами, пассажиры поют, кричат, играют на гармошках…
Наши путешественники идут по темным улицам, а Хацкель с завистью провожает взглядом фаэтоны.
– Столпотворение! – задумчиво произносит Шмая.
– Эх, братец! – отвечает Хацкель. – Попадись мне такой вот фаэтончик с парой добрых лошадок, так я бы в этом столпотворении мешок денег нагреб! Большой дом купил бы. Теперь все купишь за бесценок.
– Противно слушать… Что ты за человек, не пойму!
Где-то слышится стрельба. Они прижимаются на минуту к стене и молча идут дальше. Под ногами поскрипывает снежок, скользко.
– Ну, Хацкель, как тебе нравится городишко?
– Мне все нравится, кроме одного…
– Например, что же тебе не нравится?
– Не нравится мне, что я не знаю, где мы переночуем. У меня уже сил нет идти.
– Ничего! Город велик…
– По мне, – отвечал Хацкель,- город мог бы быть и поменьше, – было бы где голову приклонить.
На широкой улице они остановились возле пятиэтажного погоревшего дома без дверей и окон. На тротуаре валялись поломанные столы, стулья и шкафы, загораживавшие вход. С минуту Шмая и Хацкель стояли и смотрели, а когда двинулись дальше, снова послышалась стрельба, и по мостовой пронеслось несколько разгоряченных всадников-казаков. Шмая, схватив Хацкеля за руку, втащил его в покинутый дом. В кромешной тьме они поднялись на верхний этаж и остановились возле комнаты, которая каким-то чудом уцелела.
– Вот сумасшедший город, чтоб ему провалиться! – проговорил сердито извозчик. – Никуда мы сегодня больше не пойдем. Здесь остановимся.
Они скинули заплечные сумки, досками от столов закрыли окна и двери. Хацкель собрал горы бумаг и книг, валявшихся на полу, и затопил уцелевшую кафельную печь. Бумага загорелась и осветила часть комнаты.
– Хацкель, побойся бога! Смотри, как бы мы не сгорели.
– А черт с ним! Лишь бы согреться!
– Будь человеком, Хацкель, развяжи мешок! У нас там, кажется, есть кусок хлеба и парочка луковиц. Давай справим трапезу.
Извозчик вдруг отошел в сторону и достал из бокового кармана бутылочку. Он украдкой отхлебнул раз-другой, вытер рукавом губы, посмотрел на оставшееся и сказал:
– Шмая, друг, видишь, что у нас есть к ужину? Хоть и не шибко много, а душу отвести хватит.
Шмая неласково посмотрел на извозчика, но тут же развел руками и рассмеялся:
– Откуда взял, жулик этакий?
– Помнишь, на последней станции, когда бандиты поезд обстреливали, к нам на крышу полезла какая-то старая барыня с корзиной? Я помог ей – вот она и подарила мне эту бутылочку. Ну, давай! Пей, будем здоровы!
– Счастливо! – ответил Шмая и с удовольствием выпил.
Они подгребли бумаги и книги поближе к печке и, растянувшись на полу, смотрели, как горят страницы, оставляя набухшие следы черных букв.
– Экие толстые книги писали люди! – сказал, зевая, Шмая. – А порядка на земле все-таки нет.
… Когда они проснулись, был уже день. По улицам бегали мальчишки с пачками свежих газет, и сюда, на верхний этаж, доносились их голоса.
– Последние новости!
– Большевики приближаются к Киеву!
– Пожар на Подоле! Сто человек остались без крова!
– Шмая, довольно спать. Кто-нибудь ещё зайдет…
– Кто зайдет? Мы здесь хозяева.
Они вышли на улицу. Шмая разглядывал горожан, а за ним тащился извозчик, с завистью поглядывая на расфранченных людей, на витрины магазинов.
– Какая-то сумасшедшая губерния! Смотри пожалуйста, буржуазия живет себе поживает, – тихо проговорил Хацкель, – а бедняки зубами щелкают. Паршивая власть. Петлюра… гайдамаки… батьки…
– Знаешь что? – сказал вдруг Шмая. – Пойдем к еврейскому министру. Здесь, говорят, объявился какой-то еврейский министр, дружок Петлюры, а мне бы с ним поговорить надо.
В длинном коридоре большого двухэтажного здания, стиснутого между двумя высокими домами, было шумно, как на вокзале. Повсюду сидели беженцы из окрестных местечек. По нескольку недель они ждут министра. Шмая посмотрел на этих людей и направился прямо в канцелярию.
– Послушайте, молодые люди, – проговорила женщина средних лет, державшая ребенка у груди, – может быть, кто-нибудь из вас министр?
Шмая улыбнулся.
– Я, по-вашему, похож на министра?
– А я знаю? Министр, наверно, какой-нибудь шут гороховый. Никогда его на месте не застанешь, все летает где-то…
– Да ведь министры эти два раза в неделю меняются! Ляжешь спать – один министр, проснешься, а министр уж новенький, с иголочки.
– Смех один…
– Бандиты устраивают погромы, а этот министр пишет дружеские письма…
– Для чего же он здесь сидит? – спросил Шмая.
– А мы чего сидим? Деваться некуда. Беженцы. Отовсюду нас гонят. Тут хоть новости услышишь…
Отворилась дверь, и в коридор вышел какой-то долговязый тип с козлиной бородкой и темными очками на приплюснутом носу. Он сделал несколько шагов, остановился.
– Чего вы здесь сидите? Ведь я же говорил вам сто раз, что ждете вы напрасно. Министр не занимается оказанием помощи. Здесь государственное учреждение.
Долговязый вырвался из окружившей его толпы и скрылся в боковой комнате. Шум нарастал.
– Дает нам господь бог министров…
– Дурака валяют. Народ бедствует, а они сидят и пишут!
– Писать бы им завещание, господи милосердный!
– Печальники объявились на нашу голову…
– Вы чего тут кричите! Убирайтесь отсюда! – снова показался долговязый человек с темными очками.
– Мы не к вам пришли!
– Мы с министром поговорить хотим.
– Куда он девался, этот ваш министр?
– Хоть бы взглянуть на него, каков он…
Министерский служака поднял руку и сказал:
– Тише! Успокойтесь, господа! Мы просим вас не мешать нам работать!
– А чего она стоит, ваша работа!
– Чего вы от меня хотите? Я ведь не министр…
– А где он, ваш министр?
– Министр готовит доклад для правительства
– Для какого правительства? Для погромщиков?
– За такие слова вас в тюрьму посадят!
– Благородный доносчик…
– Вы меня выведете из себя, я гайдамаков вызову! Расходитесь по-доброму!
– Где министр? Давайте сюда министра!
– Министр просил передать, что сегодня он никого принять не может. Сегодня после обеда будет собрание в Бродской синагоге, и министр просит всех прийти туда, он будет речь держать.
– Что говорит этот молодой человек? – спросил Шмая, толкнув Хацкеля. – Он просит прийти после обеда? В таком случае придется ему подождать. Уж я и не припомню, когда мы обедали.
Шмая и Хацкель вышли из дому и двинулись переулочками, – авось найдется какая-нибудь работенка. В одном из дворов их остановил старый барин и попросил разрубить на дрова забор. Наши друзья тут же принялись за работу, и спустя какой-нибудь час во дворе лежала груда крашеных щепок,- все, что осталось от резного забора, ограждавшего славный садик старика. Хозяин был очень доволен: не придется больше охранять забор от соседей, нуждавшихся в дровах, и дров хватит на несколько недель.
Друзья уже закончили работу, когда Шмая вспомнил, что министр собирался сегодня выступить с речью в Бродской синагоге. Пока добрались до синагоги, уже стемнело. В зале было полным-полно народу. Шмая и Хацкель кое-как протолкались и остановились у дверей.
Извозчик осматривал красивую разрисовку, резной киот, где хранятся свитки торы, сверкающие люстры и удивлялся:
– Видишь, Шмая?
– А что же, слепой я, что ли? Ты лучше погляди, какие сытые рожи у этих, в шубах… Они, видать, на власть не жалуются…
– Да, неплохо живут. Нам бы так…
– А взгляни, что творится наверху, в женской молельне. Беднота. Мастеровые. А беженцев!…
Вдруг раздались крики, к столу подошел какой-то толстяк с черной окладистой бородой и объявил:
– Господа! Сейчас выступит наш пан министр…
На возвышение поднялся человек средних лет, в котелке, с продолговатым самодовольным лицом, украшенным светлыми усиками.
Он достал из бокового кармана пачку бумаг, надел пенсне, нервно огляделся по сторонам, Остановил свой взгляд на галерке, на женской молельне, поморщился: зачем, мол, столько простого люда напустили. Он прокашлялся и начал читать. Наши путешественники услышали речь примерно такую:
– Господа! В переживаемый нами исторический момент каждый индивидуум в отдельности должен стремиться быть достойным той высокой народной миссии, ради которой мы и созвали это репрезентабельное собрание… Создание еврейского министерства является следствием потрясающей участи избранного еврейства в диаспоре. Благодаря самоотверженному и благожелательно-внимательному великодушию нового правительства батька Петлюры, а также регламентационным действиям руководителей облегчается восстановление, требующее, конечно, надлежащей стабилизации и модернизации, вытекающей из консолидации и последовательности…
– Молодой человек, нельзя ли покороче? – крикнул кто-то сверху. – Скажите лучше, когда кончатся погромы?
Крики раздавались со всех сторон. Министр, вытирая платком пот с раскрасневшегося лица, пытался перекричать всех.
– Господа! Именем закона предупреждаем вас, – если вы не будете вести себя корректно и с должным уважением к министру и правительству, я буду вынужден вызвать роту гайдамаков. Большевики вас избаловали!
И, не дождавшись тишины, министр, слегка спотыкаясь, продолжал:
– Мы должны гордиться тем, что имеем специальное министерство с собственной компетенцией и регламентацией, подчиненное в порядке субординации Центральной Раде и тому подобное. Из-за самообороны и различных произвольных отрядов, созданных в городах и местечках, возникают все несчастия. Наш долг – немедленно сдать оружие, а всех сопротивляющихся передать суду нового правительства. Помните, господа: лояльность и подчинение!…
– Позор!
– Долой этого шута!
– Продажная душа!
Синагога ходуном заходила. Хацкель вдруг почувствовал, как Шмая пробивается к возвышению, тоже, видимо, желая произнести несколько слов. Он ухватил его за полу шинели.
– С ума сошел, Шмая! Куда ты лезешь? Не видишь, что ли, какая буча поднялась? Уж если господина министра не уважили, так ведь тебя в куски разнесут, – высунь только нос…
– Не твое дело, Хацкель, не вмешивайся! – ответил кровельщик, вырываясь из цепких рук соседа, и пробился к возвышению, где стоял расстроенный министр и синагогальные служки.
– Как вам не стыдно, люди! Ведь вы же слова сказать не даете! – крикнул Шмая- разбойник, подойдя вплотную к столу.
Народ понемногу затих, увидав, что у возвышения стоит простой человек в солдатской шинели.
– Вот видите, – громко проговорил министр, вытирая со лба пот и держа пенсне в вытянутой руке, – постыдились бы простого солдата!
Шмая всей грудью налег на стол. Министр, служки и все прочие, кто стоял рядом, отошли в сторону и ждали, пока незнакомый солдат утихомирит разбушевавшуюся публику.
– Я спрашиваю вас, люди, где совесть? Почему вы не даете выслушать умное слово? – кричал Шмая, указывая на министра. – Сам министр с вами беседует, а вы ведете себя хуже, чем в кабаке. Стыд и позор!
– Смотрите пожалуйста, новый указчик объявился!
– Новый оратор выискался!
– Долой с трибуны!
– За сколько тебя господин министр купил?
Шмая поначалу немного растерялся. Извозчик побелел, как стена. Вначале извозчик даже злорадствовал: «Поделом тебе, не суйся! Кто ты такой? При чем тут ты?» Но потом он стал протискиваться поближе к столу и приготовил кулаки на случай, если их придется пустить в ход. Шмая продолжал:
– Дайте слово сказать. Потом кричать будете. Я внимательно выслушал все, что тут говорил господин пан батько министр. Правда, не в наших силах понять такие глубокие его мысли. Я хочу рассказать вам побасенку, как это водится у нас, простых людей, по-солдатскому…
– Слышь, дяденька, короче! – крикнул кто-то из толпы, но Шмая уже ничего не слушал, он горячо продолжал:
– Случилась когда-то такая история. Асмодей – царь всех чертей и нечистой силы – рассердился вдруг на царя Соломона и изгнал его из страны. И вот мудрый царь Соломон, оборванный, грязный и голодный, скитался, скитался, пока не попал в чужое государство, где никто его не знал. Пришел царь-изгнанник к большому дворцу. Однако туда не пускают. Царь кричит: «Я Соломон!», а люди смотрят на него, как на сумасшедшего. Что тут делать? Царь хотел войти во дворец, умыться, перекусить. Но на лестнице сидит пес, огромный, как слон, и свирепый, как лев, – не пускает во дворец. Соломон, знавший множество языков и наречий, а также языки всех зверей и птиц заговорил с псом на собачьем языке, стал умолять пса сжалиться над ним. Царь не вор, не грабитель. Только перекусит, и уйдет. Пес смягчился, опустил хвост и пропустил царя Соломона во дворец.
На другой день царь Соломон шагает по базару и снова ищет, чего бы покушать, потому что, надо вам знать, даже самый знатный и великий царь не может питаться воздухом. Но на базаре на него напала целая свора собак. Царь увидел в своре знакомого пса, который вчера лежал на дворцовой лестнице.
«Господин пес! – обратился к нему Соломон. – Эти все собаки лают на меня, потому что не знают, кто я такой. Но ты, мерзкий пес, ты-то ведь хорошо знаешь, что я порядочный человек!»
А пес ему и отвечает:
«Чего же тут не понять?! Если я не буду лаять со всеми псами заодно, так ведь меня эти собаки выгонят из своей компании…»
– Ах, негодяй! Ах, грубиян! – В синагоге поднялся шум, крик, хохот. Несколько молодых людей полезло к Шмае с кулаками.
– Шмая, ты себя без ножа режешь! – крикнул Хацкель своему другу на ухо и потащил его к дверям.
– Подумайте, какая наглость!
– За такие речи – в тюрьму!
– Министра сравнить с собакой! Какая мерзость!
– Он хотел сказать, что вся Директория – собаки, а министр – тоже собака. Подумайте, что себе позволяет солдат!
– Молодец, солдат! Здорово сказанул! – донеслись крики с галерки.
На улице послышалась стрельба. В синагоге началась паника. Кто-то погасил свет. Шмая и Хацкель с трудом вырвались на улицу.
– Хорошо, что ты целым ушел.-проговорил Хацкель. – Но к чему тебе: совать нос в политику? Не побоялся, главное, выскочить с такой речью перед полной синагогой!
– Да черт с ними! Зато я этому чучелу министру сказал, что на душе! – весело отозвался разбойник, вытирая рукавом потное лицо.
На улицах стреляли, нельзя было понять, что творится в городе.
– А может быть, опять власть меняется? Может быть, это уже идут Советы?
– Дай-то господи! – взмолился кровельщик. – Однако, пока суд да дело, давай-ка доберемся до нашего дворца и переспим ночь. А что будет завтра – увидим.
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
В полночь Шмаю разбудила глухая канонада. Он поднялся, подошел к окну и прислушался.
– Вот и снова война, – проговорил Шмая, потормошив спутника. – Хацкель, вставай, тревога!
Извозчик спросонья несколько секунд смотрел на Шмаю, не понимая, потом повернулся на другой бок.
– Слышишь ты, барин, вставай! Смотри, что на улице творится!
– Вот погибель! А тебе до этого что? Спи!
– Как это – что? Вот ударит сюда снаряд, тогда поймешь – что…
Когда стрельба стала отчетливее слышна, Хацкель натянул сапоги и подошел к окну:
Видать, ты прав, сызнова начинается карусель, – проговорил он, глядя в окно – Уж лучше бы мы оставались дома, в местечке. А то – из огня да в полымя…
– Чудак, ведь наша власть идет! – перебил Шмая. – Не видишь, что ли, как буржуи улепетывают?
Стрельба с каждой минутой усиливалась. Над крышами, которых коснулись первые лучи, поднимались густые облака дыма, пламя. Шмая и Хацкель сбежали вниз и прижались к стене. По тротуарам на взъерошенных лошадях носились казаки Из переулков спускались небольшие отряды рабочих. На крыше самого высокого дома кто-то укрепил красный флаг
На перекрестке улицы показались несколько человек с винтовками и красными лентами на шапках. Один из них установил пулемет за грудой камней Пулеметчик, длинноногий, русоволосый парень в короткой потертой тужурке, растянулся на земле возле пулемета и начал стрелять по всадникам
– Здорово он их чешет, молодец! – крикнул с завистью Шмая. И вдруг увидал, что пулемет затих… Пулеметчик и его помощники – молодые ребята – возились у пулемета
Шмая стремительно оторвался от стены. Пригибаясь к земле, перебежал улицу и наклонился к ребятам:
– Эй, хлопцы, с такой работой можно живо на тот свет угодить! Что у вас, заело? А ну-ка, давайте я посмотрю – как-никак бывший второй номер при «максиме».
Парни расступились. Через несколько минут длинная очередь хлестнула по нахмурившейся улице.
– Что ты делаешь, Шмая? – подбежал к нему Хацкель и, увидав, что по щекам Шмаи течет кровь, схватился за голову.- Тебя ранило?!
– Чепуха! Царапнуло. Чего смотришь? Бери винтовку, вот валяется. Помочь надо, понимаешь? – оживленно воскликнул Шмая. – Сам видишь, никто здесь без дела не стоит! Работай, братец!
Из ближнего двора прибежал пожилой рабочий в кожаной куртке с красной лентой на рукаве. Видимо, командир. Лицо у него было усталое и строгое. Светлыми, пронизывающими глазами он оглядел Шмаю, лежавшего у пулемета:
– Ты кто такой, товарищ? Солдат?
– Так точно! – отчеканил Шмая, поднявшись с места и вытянувшись, как делал это на фронте, когда к нему обращалось начальство. – Ефрейтор триста пятого стрелкового полка…
Начальник быстро просмотрел помятые документы Шмаи и Хацкеля и сказал:
– Значит, вы с нами? Что ж, хорошо. Оставайтесь пока с нашими пулеметчиками и помогайте. Долго разговаривать сейчас некогда. Там посмотрим… – Прижимаясь к стенам, он направился к другому перекрестку.
– Это что за человек? – спросил Шмая у чернявого парня лежавшего рядом с ним,
– Это товарищ Рыбалко, Игнат Васильевич… большевик. Командир нашего отряда.
– А какой у него чин? Полковник? Капитан?
– Простой слесарь, арсеналец, – с гордостью ответил парень и, свернув папироску, спросил у Шмаи:
– А ты, солдат, за кого стоишь? За кого дерешься?
– Как это – за кого? За правду. А вы за кого?
– Мы – за советскую власть! За большевиков.
– И мы тоже.
– А почему же красных лент не носите?
– А откуда нам их взять? – сказал Шмая, не без зависти поглядывая на большой красный бант, прицепленный к шапке парня.
Парень снял шапку, оторвал кусок ленты и подал Шмае. Радуясь подарку, Шмая разорвал ленту пополам – себе и Хацкелю.
– Прицепляй.
Извозчик сердито пожал плечами, не понимая, зачем Шмая лезет в огонь. Пересидеть бы где-нибудь, пока станет тихо.
Весь день продолжался упорный бой на улицах города. Шмая и Хацкель не отходили от своих новых товарищей, перетаскивали раскаленный пулемет с места на место, с одной позиции на другую, подносили патроны. Из разных частей города – с Подола и Печерска, с Шулявки и Куреневки; – подходили все новые и новые отряды рабочих.
За Днепром грозно гудели орудия. Это шла сюда Красная Армия.
Город выглядел необычно. На улицах было пусто, только в предвесеннем морозном воздухе слышны были гулкие шаги рабочих пикетов и красноармейских патрулей, вооруженных винтовками и пулеметами, револьверами и гранатами. Город погружался в тяжелый сон, лишь патрули бодрствовали.
На углу Фундуклеевской улицы, недалеко от оперного театра, поеживаясь от холода, шагали Шмая, Хацкель и несколько вооруженных рабочих. Ночь тянулась бесконечно. Костер, разложенный Шмаей возле садика, – на тротуаре, давно уже погас, мороз крепчал, а к рассвету незаметно начал падать снег.
Понемногу улицы заполнялись людьми, – Со всех сторон спешили на Крещатик рабочие. Они смотрели на красный флаг, трепетавший на крыше бывшей городской думы.
Шмая устал, но тоже старался протиснуться ближе к оркестру.
Посмотрев на дружка, который мрачно облокотился на винтовку, Шмая толкнул его локтем:
– Ну, а ты домой хотел бежать. Жизнь, брат, начинается веселая…
– Да тебе и без музыки весело… веселый ты нищий.
– Почему нищий? Я теперь богач, богаче того пузатого с тюками.
– Да, сегодня ты прав, – ответил Хацкель, – теперь нам, конечно, легче, чем несколько дней назад. Но это все ненадолго. Пройдет несколько дней, и тюки с добром ой как понадобятся. Нам бы сейчас не зевать, когда ещё такой удобный момент представится. Денег бы раздобыть. Добра…
– Подлый ты человек! – Шмая, увидав, как сквозь тучи вынырнуло солнце, добавил: – Видишь, большевиков даже бог уважает, смотри, как солнце светит…
– Вижу… – холодно промычал извозчик.
– Ничего ты не видишь! – махнул рукой кровельщик. Лицо его сияло, глаза блестели, сердце было переполнено радостью, хотелось говорить. – Ничего ты не понимаешь! Не пойму, что ты за человек. Не умеешь радоваться! Всего несколько дней назад нас растоптать, убить, унизить могли. А теперь – дудки! Теперь мы такие же люди, как и все! Радоваться надо, понял?
Кто-то тронул Шмаю за плечо. Это был Рыбалко.
– Что ты рассказываешь? – спросил Рыбалко, – Как дела, жив-здоров?
– Спасибо, пока живем и не горюем… товарищ начальник.
– Так и надо. Главное – не падать духом! Караулил ночью?
– Так точно! – вытянулся по старой привычке солдат.
– Почему не идешь отдыхать?
– Скажи ему, Шмая… – тихо сказал извозчик. – Скажи ему, что поспали бы с удовольствием, да хаты у нас нет. Бездомные.
– Как так бездомные? – Рыбалко кивнул на огромные дома. – А это разве не дома? Выбирайте любую квартиру. Помогли нам разогнать бандитов – теперь вы вроде свои. Наша власть, чего же стесняться? А ну-ка, пойдемте поищем!
Они протиснулись сквозь толпу, и вышли на Николаевскую улицу. Недалеко от цирка, возле шестиэтажного дома, Рыбалко остановился и, улыбаясь, спросил:
– Нравится вам эта хата?
– Зачем нам такой здоровый домище? – рассмеялся Шмая.
– А ты выбирай квартиру. Пошли наверх!
Они поднялись по широкой мраморной лестнице на третий этаж. Рыбалко постучал. Послышались неторопливые шаги. Дверь отворила худощавая испуганная крестьянка в старенькой свитке. В руках она держала узелок, будто собиралась уходить.
– Значит, эта квартира уже занята, мамаша? Вы тут будете жить?
– Что вы, сыночки! – испуганно ответила старушка.- Чтобы я тут жила! У меня в Лужанах хата, старик. Это я сюда прибежала, когда начали стрелять… Тут моя старшая дочка в служанках была у того, как его, забыла фамилию. Ну, что в городской управе служил… Ну, такой толстый, пузатый… Да холера его знает, как его зовут… Прибежала, а никого нет. Где дочка – не знаю. Так испугалась, когда стреляли… Сыночки, больше стрелять не будут? Мне до дому надо идти. Старик ждет, подумает, убили меня. Уже можно идти по городу?
– По городу можно, а вот в Лужаны не спешите, мамаша, там ещё бои идут. Подождать надо, – ответил Рыбалко.
– Ну, спасибо вам за доброе слово. Спасибочка…
– Если квартира не занята, мои ребята останутся тут жить.
– Будь ласка! А мне что, пусть живут, если хорошие люди! – проговорила та. – По мне, весь дом пускай забирают… Это разве мой?
– Конечно, ваш и наш – одним словом, Народный.
Рыбалко направился к двери и на пороге остановился.
– Так ты сказал, что работал кровельщиком? Как фамилия?
– Спивак. Кровельщик по профессии…
– Это хорошо. У тебя скоро будет много работы. Ну, мы ещё с вами увидимся, познакомимся ближе и потолкуем. А пока – спать! Пришлем за вами, когда нужны будете.
Он ушел, а Шмая и Хацкель ещё несколько минут не решались ходить грязными сапогами по коврам. Стены были увешаны картинами, стояли бархатные диваны, причудливые кресла. Трепетали на окнах шелковые занавески. Шмае показалось, что все это он видит во сне.
– Видишь, Хацкель, как буржуазия жила?
– Вижу.
– Да, скажу я тебе, это строили люди с золотыми руками! Смотри, какая работа! – восхищался Шмая.
– Ах ты, сгореть бы им, буржуям! – поддержал Хацкель. – И гуляли же тут барышни и кавалеры в свое время, пили. Богатство имели. Вот мне бы половину!
– Глупый ты человек,- сердито оборвал его Шмая. – Надо быть порядочным, рабочим человеком, а не думать о богатстве. У тебя, Хацкель, я это давно приметил, глаза завидущие. Пролетарий, как я погляжу, в тебе ещё не ночевал… Жилка у тебя буржуйская. Гляди, как бы тебе это не вылезло боком. Сам видишь, мы теперь вступаем в новый мир. Думать надо не о себе – о народе. Тогда ты человеком станешь.
Хацкель рассмеялся:
– Что я слышу! Ты уже говоришь точно так же, как наш Фридель Наполеон.
– Совесть надо иметь и думать не только о своем кошельке.
– Ладно, не морочь мне голову. Поздно меня переучивать. Таким родился, таким и останусь.
– Поживем – увидим. Гляди, как бы не вылезло тебе боком.
Они ходили по комнатам, гремя коваными сапогами, и эхо шагов отдавалось по всему дому Казалось, целая рота солдат марширует по квартире
Новые хозяева ходили из комнаты в комнату, открывали шкафы, осмотрели кухню, но ничего съестного не нашли
– Скверное дело, Хацкель, – вздохнул Шмая. – Перед сном обязательно надо перекусить. Мой отец, вечная ему память, говорил, бывало, что, когда ложишься спать голодный, душа всю ночь возле горшков шатается.
Кровельщик все же нашел полхлеба и банку варенья Поужинав, они сняли с отекших ног сапоги, забрались в мягкие постели и через минуту спали как убитые.
Поздно ночью их разбудил сильный стук в дверь. Пришел человек от Рыбалки и передал, чтобы они немедленно шли на улицу патрулировать.
Шмая сладко зевнул, вскочил с постели, наскоро оделся и стал поторапливать Хацкеля. Но тот лежал, зарывшись головой в мягкие подушки.
– Вставай скорее, ждут! Надо идти на пост!
– Ах, погибель! – прохрипел в подушку извозчик. – Иди, если тебе надо. Хоть стреляй, не вылезу отсюда. Не нужны мне твои посты. Не за этим я сюда пришел.
Шмая постоял с минутку, потом взял винтовку, сделал несколько шагов по комнате, ещё раз взглянул на Хацкеля и, сдерживая досаду, сказал посланцу Рыбалки:
– Ладно. Я один пойду. Мой товарищ чувствует себя неважно.
Он крепко досадовал на Хацкеля и чувствовал, что с этим человеком ему, видимо, не по пути.
Дул холодный, пронизывающий ветер. Город спал тревожным сном.
По улице гремели солдатские шаги.
НЕТ ПОКОЯ НА ЗЕМЛЕ
Рано утром, когда над городом раздаются гудки фабричных сирен, Шмая и Хацкель отправляются на работу. Далеко позади остались тревожные и тяжелые дни и ночи, когда нужно было помочь красноармейцам освобождать город от притаившихся врагов, позади остались ночные облавы и жаркие схватки с бандами и грабительскими шайками.
После второго ранения, которое Шмая получил во время облавы на шайку петлюровцев, он несколько недель провалялся в госпитале. Знакомые по рабочему отряду устроили его на металлозавод. Шмая разыскал инструмент, листы жести, притащил на завод своего строптивого спутника Хацкеля и взялся за дело.
– На кой черт я полезу на крышу,- возмущался Хацкель, – лучше раздобуду лошадей и фаэтон, начну капиталец собирать, хозяйство налаживать.
– Паразитская твоя морда! – обрушился на него кровельщик. – Люди кровь проливают, воюют с буржуазией не на жизнь, а на смерть, а ты что же, в буржуи метишь?
Хацкель молчал. Но пошел к Шмае в помощники.
После этой размолвки Хацкель стал опасаться своего соседа. Шмая, кажется, действительно стал красным. Сколько раз он мог приодеться, но с потертой шинелью и истоптанными сапогами не расстается. Получает свой рабочий паек и тем доволен. Эх, дурень… Не переделаешь его, видать. Фанатик. «Все должно быть по справедливости, по совести». Был бы другой человек, зажили бы припеваючи, а так придется, видно, до гроба лазить по крышам и чинить их.
Но отставать от Шмаи Хацкель не решался. Вокруг было тревожно. Тяжелые слухи доносились отовсюду. Белые банды не давали покоя. Кто знает, как все ещё повернется, а иметь рядом такого человека, как разбойник Шмая, неплохо…
Часто после трудового дня Шмая отправляется в город. Бродит по детским домам, разыскивает своих детей, которых увезли в тот страшный год. Куда бы он ни пришел, его внимательно выслушивают, начинают рыться в книгах, звонить по телефону, расспрашивают – и все напрасно. Никаких следов. Чем больше он думает о своих ребятах, тем сильнее болит сердце. Днем, во время работы, он старается крепиться, шутит с окружающими, но когда приходит ночь и он остается наедине с самим собой – снова и снова вспоминается горящее местечко, смерть жены…
На город надвигалась новая опасность. С каждым днем становилось все тревожнее. Росла паника. Люди покидали свои дома. Белые полчища приближались к Днепру. По ночам отчетливо слышалась орудийная канонада.
Когда Шмая в тот день пришел на работу, на заводском дворе была необычная сутолока. Из цехов выносили машины, грузили их на открытые платформы, упаковывали оставшееся оружие, устанавливали на бронепоезде пулеметы. Ветер разносил по просторному двору пепел сожженных бумаг.
Шмая подошел к эшелону, стал помогать грузить станки и ящики. На каждом шагу он слышал незнакомое слово «эвакуация». Враг быстро приближался к городу.
Солнце уже садилось, когда последний поезд ушел с заводского двора. Не зная, куда деваться, Шмая вошел в контору. У печки стоял пожилой рабочий и бросал в огонь пачки бумаг. Он посоветовал Шмае немедленно поехать на вокзал, – может быть, ещё удастся застать поезд.
Шмая отыскал Хацкеля, и они двинулись по опустевшим улицам к вокзалу.
– Зачем нам ехать? – ругался извозчик. – Крыша над головой есть, работа есть. Что будет с городом, то и с нами. Куда мы идем?
– На вокзале скажут…
Но поездов больше не было, и оставалось одно: бежать к Днепру, в порт.
Деревянный речной вокзал был осажден женщинами с детьми, ранеными красноармейцами, калеками, крестьянами. Единственный пароход, стоявший у пристани, был битком набит людьми.
Прорвавшись на палубу, Шмая и Хацкель забились в уголок и кое-как устроились между людей и узлов. Только луна холодным, неуютным светом заливала мост, висевший над рекой.
– Почему мы так долго стоим? – крикнул кто-то.
– Видимо, надо подождать, пока светать начнет, – сказал Шмая, глядя на человека в длинной шинели и с очками на коротком носу.
– Чудак! Надо проехать мосты, покуда темно, – добродушно возразил пассажир. – Ты, вижу, столько же понимаешь в военных делах, в стратегии, сколько я…
– Сколько вы, товарищ доктор, в болезнях, – вмешался один из раненых, лежавший на скамье.
– Больной, не разговаривать! – тоном приказа произнес доктор.
Шмая смотрел в темноте на доктора и наконец не выдержал:
– Так вы доктор?…
– Доктор. А что вам угодно? Вы себя плохо чувствуете?
– Нет, ничего мне не угодно. Я только хотел бы знать, почему вы решили, что я ничего не понимаю в военных делах? На вас новенькая шинель, только что из цейхгауза, а я за время войны сносил шесть шинелей и, быть может, пар двадцать подметок. Может, закурите, товарищ доктор? – предложил Шмая новому знакомому, поднося к самому его лицу фитиль своего кресала и обсыпая новую шинель доктора фейерверком искр.
Доктор отпрянул и недовольно сказал:
– Не курю и вам не советую. Здоровье дороже.
– Эх, доктор, доктор! Зеленый вы ещё, как я погляжу. Пороха не нюхали. Солдат никогда не посоветует бросить курить. Как солдату жить без махорки?
В эту минуту Шмая почувствовал, что Хацкель потянул его за полу.
– Чего тебе?
– Перестань, Шмая! Нашел уже, с кем лясы точить!
– Почему сердится ваш сосед? – кивнул доктор, в сторону Хацкеля.
– А я знаю? Не прислушивайтесь – ворчит, как злая теща. Манера такая у человека. Скажите, товарищ доктор, нет ли у вас рецепта такого, чтобы Хацкель перестал истекать желчью?
– Разумеется, есть, – весело отвечал доктор, – но начнем с профилактики…
– Э, нет, это Хацкелю не поможет! Вы дайте ему настоящее лекарство, а не… как его… профилактику… Я ещё о таком рецепте не слыхал.
С берега несколько солдат перетащили на палубу два пулемета и начали укреплять их на ящиках.
– С музыкой, стало быть, поедем? – спросил Шмая у доктора.
– Похоже… Я сопровождаю группу раненых и больных красноармейцев, им только стрельбы не хватало, – пожал плечами доктор.
– Ничего, в таком путешествии с оружием все-таки веселее.
– И когда все это кончится? – развел доктор руками.
И вот уже пенятся под колесами сердитые волны, а ночь доносит далекие орудийные раскаты. Доктор расстелил на скамье свою шинель и тут же уснул. Шмая растянулся на палубе и прислушивался к волнам, что бушуют за бортом. Прохладным ветерком потянуло с высокого берега, стало холодно. А может быть, холодно оттого, что он снова в пути и не знает, к какому берегу пристанет его судно? Кругом люди спят на своих мешках и узлах, отовсюду слышится глубокое, тяжелое дыхание усталых людей. Но Шмая в эту ночь не мог уснуть. Огромный солнечный диск, до половины высунувшийся из-за горизонта, позолотил сады, уже усыпанные черешней и вишней. Вся окрестность – река и сады, небо и рощи, пестрые хлеба на полях, – все дышало жизнью и свежестью, и, если бы не уханье орудий, никто бы не поверил, что где-то идет война. Шмая и не заметил, как начал напевать любимую солдатскую песню, не заметил, что люди невольно прислушиваются к его пению. Никто не упрекнул его в том, что он мешает спать, один только Хацкель не выдержал:
– Не спится тебе, дьявол… Вот погибель! – и, ворча, повернулся на другой бок и натянул шинель поверх головы.
Шмая посмотрел на спящего доктора. Его круглое лицо было освещёно солнцем и покрыто мелкими каплями пота. Фуражка свалилась на палубу, и Шмая увидал, что на голове доктора нет ни единого волоса.
Он потормошил доктора, надел на него фуражку и сказал:
– Вставайте, доктор, уже светает.
– Что случилось? – всполошился доктор. – Меня зовут Петр Иванович Зубов. Можете называть меня по имени.
– Извините, товарищ Зубов. Вы мне говорили, что вредно курить, а наш фельдшер уверял, что нет ничего вреднее, чем спать на солнце.
– Плюньте ему в физиономию, вашему дурацкому фельдшеру! – не своим голосом крикнул доктор. – Он невежда, ваш фельдшер! Когда куришь, вдыхаешь никотин, яд. А чем дольше человек спит, тем здоровее для организма. Понятно? Вы сравниваете никотин, гадость, отраву, со сном!
Доктор, разгоряченный спором, постепенно успокаивался. Он достал из своего чемоданчика кусок колбасы, хлеб и ножик.
Они уже стояли мирно у перил, ели и смотрели на волны, бегущие за пароходом.
– Вы о чем задумались? – спросил доктор.
– Думаю… Что же ещё делать? Смотрю кругом. Нравится вам наш мир? Хороший мастер его сработал. Забудешь иной раз о своих горестях, да ещё кишку кое- чем обманешь – куском колбасы, ломтем хлеба, поговоришь с умным человеком да посмотришь кругом спокойными глазами, – и ясно видишь, что не безрукий этот мир сколотил. Тут тебе и солнышко греет – благодать! А полюбуйтесь на реку и на пароход. что так свободно плывет по ней. А какие кругом поля и сады, – весь мир прокормить можно, и жили бы люди, как в раю… Так откуда же, скажите на милость, берется столько чертей рогатых, столько мерзавцев, которые этот прекрасный мир поганят?
– Эге, солдатик, а вы, оказывается, философ! – расхохотался доктор. – А говорили, что кровельщик…
Долго плыл пароход вниз по реке. Из окрестных местечек и деревень доходили недобрые вести. Белые банды гуляют. Нужно было пробиваться вглубь, к Таврии, где, как говорили, есть работа, хлеб и где уже более или менее спокойно.
Все чаще и чаще думал Шмая о Таврии. Все чаще он вспоминал своего приятеля Корсунского. Нередко Шмая доставал фотографию незнакомой женщины и обрывки писем, которые она успела написать мужу. Однако адреса он разобрать не мог.
Пароход остановился в голой степи. Были получены сведения, что дальше двигаться нельзя – белые поблизости, прорвались. Нужно поворачивать назад.
– Стоп! – скомандовал Шмая своему приятелю. – Обратно я не поеду!
– А что же мы будем делать?
– Пойдем пешком. Недаром мы служили в солдатах. Ноги казенные. Ничего, Хацкель, где-нибудь неподалеку отсюда остановимся…
Шмая со своим товарищем сошли с парохода. Ехали, когда можно было, на попутных подводах, а больше шли пешком. Кровельщик все чаще спрашивал, не слыхал ли кто о старых колониях, о крестьянине по имени Корсунский. Но никто о таком не слыхал.
Уже не раз извозчик упрекал Шмаю за то, что не видать конца их скитаниям. Надо кончать с этим делом! Однако Шмая думал только об одном – о завещании Кор- сунского. Шмая, собственно, уже напал на след, надо было пройти ещё несколько десятков верст по берегу Ингульца.
…На закате приятели увидели село с несколькими рядами похожих глиняных мазанок, тянувшихся по косогору до самого берега реки. Село тонуло в садах, зелени и виноградниках. Возле каждого домика – каменный заборчик, но домишки, видать, давно не мазаны – похоже, что обитателям их не до того было.
Два пастушонка гнали под гору стадо. На плечах у них висели торбы, а в руках мальчишки держали длинные ветви, которыми подгоняли коров. Чумазые мальчишки в рубашках с чужого плеча опасливо посмотрели на незнакомых путников, пошушукались и пропустили их вперед. Однако старший не выдержал и робко крикнул:
– Эй, дяденька, дайте закурить!
– Ах, байстрюки! – с напускной яростью крикнул Шмая. – Уже курите? А читать-писать умеете? Сейчас сниму ремень и отстегаю…
Мальчишки прыснули и пустились бежать в сторону.
– Видишь, сразу тебя признали. Видят, что разбойник идет.
– Эй вы, орлята, как деревня называется?
– Это не деревня, это колония.
– Как она у вас называется? Подойдите поближе!
– Тихая Балка…
Постепенно пастушки осмелели, подошли ближе. Старший достал из торбы два яблока и протянул их прохожим. И когда Шмая и Хацкель пошли рядом с ребятами, с удовольствием хрустя яблоками, мальчики почувствовали себя увереннее.
– А откуда у вас столько коров и овец? – спросил извозчик.
– Тут есть несколько богатеев, кулаков, у них много всего.
– Была бы у нас телушка! – проговорил младший и, подумав, добавил: – Вот вернется папа с позиций и купит корову…
– А он когда должен вернуться?
– Кто знает? Давно не пишет. Письма не доходят.
– Давно уже?
– Ну да. Очень давно. Я, когда вас увидел, даже подумал, что это отец идет, – сказал старший.
– А как звать его, отца вашего?
– Отца? Корсунский. А что? – Младший почему-то испугался неожиданного вопроса.
– А по имени?
– Иосиф.
Шмая остановился ошеломленный. По телу пробежал холод, кровь ударила в голову.
– А где живете? – спросил кровельщик, совладав с собою. – Кто дома остался?
– Мама. Она работает у Авром-Эзры на винограднике. Она батрачка.
– Дяденька, а вы тоже солдат? А где же ваше ружье?
– Был солдат, – нехотя буркнул Шмая, ускоряя шаг.
– А на войне вы были?
– Конечно, сынок, три годочка с лишком.
– И мой папа где-то на войне. Но от него ни слуху ни духу…
Шмая не мог себе представить, как перешагнет порог дома этих ребятишек, как сообщит недобрую весть…
Женщины ждали коров. Они не понимали, почему пастушки так задержались. Конечно, ребятам порядком бы влетело, если бы не солдат, который пришел вместе с ними. К военному все бросились с расспросами.
Но Шмая отвечал коротко, нехотя и пошел с мальчиками дальше, оставив Хацкеля среди гостеприимных словоохотливых хозяек.
Подойдя к забору, он увидал молодую смуглую женщину с нежными карими глазами. Она окинула взглядом чужого человека в солдатской одежде, и лицо у нее сразу изменилось, словно задернулось завесой печали. И, заметив, что человек, который только что с таким участием ее разглядывал, скорбно опустил голову, она расплакалась.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДВЕ СВАДЬБЫ И ОДИН РАЗВОД
На плоской скале, до половины омываемой водами реки Ингульца, засучив штаны выше колен, в расстегнутой рубахе, сидит Шмая и удит рыбу. Его тяжелые руки и лицо загорели от знойного солнца и степных ветров, и никто не скажет, что не прошло ещё и года, как он поселился на этой земле. Он ловко закидывает удочку и следит за тем, как жирный серебристый карась подкрадывается к леске, будто собирается перехитрить рыбака. Кругом так тихо, что слышен шелест крыльев птиц, которые стремительно проносятся над самой водой.
Шмая любит ранним утром или в сумерки приходить сюда, на берег. Здесь, кажется ему, и мысли становятся яснее, здесь отдыхает тело, здесь он понемногу приходит в себя после всего, что пришлось пережить за последнее время.
…Шмая вспоминает первые свои шаги в этой деревне. Он тогда долго успокаивал Рейзл, вдову Корсунского, помогал ей на огороде, крышу исправил, домишко привел в порядок, привез дров на зиму, приодел кое-как разутых и раздетых ребят. День и ночь работал Шмая у чужих людей, в хозяйстве Авром-Эзры, и с трудом перебивался с хлеба на квас. Находил время и помогал Рейзл чем мог. Она очень милая и симпатичная женщина. Не раз, сидя рядом с нею, он чувствовал сильное волнение, хотелось обнять ее. Но ее рана ещё не залечена, образ погибшего мужа все время у нее перед глазами…
Это только Хацкель, подлая душа, все время к ней приставал: выходи за него замуж, и все тут! Шмая знал, что Рейзл Хацкеля не выносит. Однажды, когда Шмая засиделся у нее, она вдруг обняла его и нежно поцеловала. Шмая прижал ее к себе и увидал в ее больших карих глазах слезы.
Они потом долго сидели на завалинке, Рейзл смотрела на него влюбленными глазами, и впервые в жизни Шмая утратил дар речи. Хацкель начал ревновать. Как только Шмая приходил позднее обычного в дом, который они с Хацкелем кое-как сколотили, приятель начинал донимать его: либо он говорил о Рейзл черт знает что, либо набрасывался на Шмаю, обвиняя его в том, что Шмая встал ему поперек пути, что режет его без ножа. Хацкель сделался врагом Рейзл.
Хацкель, будто всем назло, зачастил к Авром-Эзре, к его засидевшейся дочке, рыжей, рябой Блюме. Дни и ночи извозчик проводил там, пил, гулял, начал разъезжать с этим старым кровопийцей по ярмаркам, закупать лошадей и коров, а скоро сделался компаньоном этого злодея, обирающего бедняков-колонистов.
Так же, как и сегодня, Шмая сидел на большом камне, на берегу Ингульца, ведерко было уже полно рыбы, надвигалась ночь, и он собирался домой, как вдруг услыхал, что кто-то бежит сюда. Посмотрел – Рейзл.
– Что случилось, солдатка?
– Ой, беда! Хацкель разбирает ваш дом!
Шмая стал ее успокаивать:
– Не может быть, Рейзл. Тебе показалось. Зачем это ему? Меня он задушил бы из зависти, но при чем тут наш дом?
Пришел с целой оравой от Авром- Эзры, все мертвецки пьяные, разваливают дом и даже камни увозят…
Шмая собрал удочки и, не говоря ни слова, двинулся в гору. Хацкель стоял возле их общего домика со сложенными руками и с трубкой в зубах.
– Скажите этому разбойнику, что я от него отделяюсь, – сказал он, хитро усмехаясь. – Я забираю только свою половину. Разводимся с разбойником! Больше я его знать не желаю!
К домику сбежалось много народу. Одни смеялись, другие сочувствовали Шмае и ругали извозчика. Шмая чуть не бросился на бывшего своего приятеля. Однако сдержался и сказал:
– А я-то было испугался, думал, он весь дом разломать хочет. А половину – это ничего…
Хацкель начал разваливать стены, швырять доски, камни, бить стекла.
– Скажите этому умнику, – спокойно проговорил Шмая, – чтобы он подождал, пока я затоплю печь, тогда он сможет забрать половину дыма. И пусть не забудет взять половину нужника…
Женщины смеялись. Послышались озлобленные выкрики в адрес извозчика.
– Наследник Авром-Эзры… Два сапога – пара!
– Наглость какая! Собака! Дом развалить! Оставить человека без крова! Кулацкий прихвостень!
Люди подходили к Шмае, приглашали к себе, но Шмая теперь больше всего хотел, чтобы его оставили в покое. Ему было стыдно перед колонией, перед людьми, которые знали, что это он привез сюда Хацкеля.
Шмая еле дождался, пока все разошлись. Ему не надо жалости, он терпеть не может, когда его жалеют.
Полил дождь. Оставшись один в полуразваленном домишке, Шмая зажег лампу и лег на свою койку.
Было уже за полночь, когда на пороге показалась закутанная в шаль Рейзл. Промокшая от дождя, она стояла перед ним, дрожала от холода и не могла произнести ни слова.
– Рейзл… в такой дождь?! – Ему показалось, что само счастье вошло в дом.
Он не знал, куда посадить соседку, какие слова ей сказать. Он понял, что отныне единственный его друг на всем свете – она, эта женщина с нежными глазами, полными слез, сидевшая на стуле возле разбитого окна.
– Сейчас затоплю, холодно, – Шмая пошел к печке.
– Не надо! – Она поднялась с места. – Мне только хотелось вас повидать… Я сейчас ухожу…
Рейзл заглянула ему в глаза и прижалась к его груди.
– Шая, я люблю вас… Не могу без вас жить…
Он уже сидел рядом с ней, счастливый, взволнованный, с сияющими глазами, и видел в ней свою судьбу.
Рейзл говорила, как она беспокоилась о нем, как, не помня себя, схватила шаль, потихоньку, чтоб не разбудить детей, вышла из дому и пустилась бежать к нему. Нигде во всем селе не было света, только окна Авром-Эзры были ярко освещёны, оттуда доносились пьяные голоса, – праздновали помолвку рябой девицы с извозчиком. Ах, как хотелось Рейзл подбежать к окнам и закидать камнями тех, кто сидел в доме! Она убежала оттуда, прокралась огородами к разрушенному дому Шмаи и долго стояла у дверей. Ей казалось, что вся колония, от мала до велика, видит, как она среди ночи бежит к Шмае…
– Не думай о них, – сказал Шмая, обнимая ее, – нам будет хорошо.
Дождь на улице усиливался, с потолка текло. Подставленное корыто было уже полно, вода дошла до краев, но, ни Рейзл, ни Шмая этого не видели.
…Где-то далеко на горизонте луч зари осветил тучи, когда Рейзл поднялась с постели и, избегая взгляда Шмаи, пошла к двери. Щеки у нее пылали. Шмая смотрел на ее гибкую, сильную фигуру, и Рейзл казалась ему красивее, чем всегда. Она накинула на плечи шаль, посмотрела в окошко, нет ли кого на улице.
– Почему ты так рано уходишь, родная?
– Как это… Ведь люди уже скоро…
– Ну и что, если люди? – Он вскочил и обнял ее. – Что, если люди? Украли мы что-нибудь?
– Ведь они обо мне бог знает что говорить станут…
– Ничего они не скажут, Рейзл… Ты теперь моя жена, так и говори всем, Рейзл… Ты моя жена!
Лицо у нее просияло. Она вырвалась из его сильных рук и уже на пороге проговорила:
– Пойду приготовлю поесть. А ты придешь ко мне попозже, позавтракаем вместе. Слышишь, родной?
Теперь Рейзл хотелось, чтобы кто-нибудь попался ей навстречу и увидел, как она счастлива. Но улица была пустынна, и только из большого дома, где Хацкель справлял свое торжество, доносились пьяные голоса.
Один только Шмая стоял на пороге и провожал сияющими глазами удалявшуюся женщину, которая принесла ему свое сердце, свою жизнь, свою любовь. Шмая и не заметил, как он стал что-то напевать. Он быстро умылся, достал из солдатского мешка единственную свою новую сорочку, надел пиджак и фуражку, – надо было приодеться по-праздничному и идти к Рейзл. в его новый дом.
ШЛИ РЕБЯТА К ПЕРЕКОПУ
Жили тревожно. Банды батька Махно орудовали в этих краях, изредка вихрем налетая на села и колонии. За Каховкой шли ещё жестокие бои с белыми полчищами барона Врангеля. Люди напряженно следили за ходом последней битвы с белыми.
Шмая чинил людям крыши, строил дома, плотничал. Раны стали заживать, можно снова браться за винтовку. Правда, жаль было оставлять жену. К тому же она готовилась стать матерью. Но что поделаешь, у всех есть жены, которые готовятся стать матерями, а защищать родину – это ведь для солдата первый закон.
В одно осеннее утро на далеком тракте послышалась солдатская песня с присвистом.
Шмая вышел на улицу и увидал, что из соседних колоний тянутся телеги, груженные хлебом и картошкой, длинные арбы с сеном. Молодые парни на откормленных лошадях остановились на площади, возле сельсовета. Со всех сторон повалил народ. Стар и млад – все сбежались взглянуть на ранних гостей и узнать, что случилось и куда эти люди держат путь.
Прислонившись к одному из возов, стоял стройный крепкий молодой человек лет двадцати пяти. Он был в казацкой кубанке. На плечах – голубой кавалерийский френч, и на длинном ремне – наган.
Шмая сразу узнал Овруцкого, председателя сельсовета соседней деревни.
– Здоров, начальник! Кого я вижу! Ов- руцкий! Куда ты с хлопцами собрался, если не секрет? – Шмая протянул ему крепкую узловатую руку.
– От тебя, разбойник, у нас секретов нет, – ответил Овруцкий, – сейчас народ соберется и все расскажем. Все…
– Что ж, послушаем, – промолвил Шмая, внимательно рассматривая прибывших.
Со всех сторон к площади шли колонисты послушать, что скажет председатель. Овруцкий окинул всех веселыми глазами и спросил:
– А где же сам барин? Этот, как его… Авром-Эзра?
Долговязый Азриель подскочил и сказал, словно оправдываясь:
– Я уже два раза ездил к нему. Не идет, собака!
– Ждет, чтоб его сюда с музыкой привели?
– Говорит, ещё не завтракал, а не поевши, говорит, не пляшут. Не горит, мол…
– Пойди, скажи ему, что именно горит! – вспылил Овруцкий. – Скажи, что, если он не придет, я сам за ним приеду. И зятя его нового сюда приведи. Как его там звать?
– Хацкель…
– Хацкель? Пускай быстрее шевелится. Не то расшевелим!
– Ну что ж, могу ещё раз сбегать,- сказал парень, – говорил я им, старику и зятю, а они смеются.
– Что ты ему говорил?
– Ну, сказал, что его зовет председатель Овруцкий.
– Зачем же ты говоришь «Овруцкий»? Овруцкий совсем недавно у него коров пас. Овруцкий этому барину – что прошлогодний снег.
– А что же я должен ему сказать?
– Скажи, что не Овруцкий, его бывший пастух, зовет его, а советская власть. Народ…
– Говорил, что власть зовет.
– А он что?
– А он говорит – ему наша власть не указ.
– А ты ему что?
– Что я ему скажу? Его не переговоришь, сыплет, собака, как из дырявого мешка, слова сказать не дает.
– А ты?
– А я? Показал ему кукиш и пообещал, что советская власть его по головке не погладит.
– И больше ничего?
– Больше ничего. А он сказал, что, если ещё раз приду его будить, он меня, оглоблей по черепу огреет.
Овруцкий помолчал, потом вынул наган из кобуры и сказал:
– На-ка, возьми эту игрушку. Если будет артачиться, пощекочи его этой штуковиной – сразу пойдет. Только гляди, не стреляй!
Парень оживился, взял револьвер и уехал. Через несколько минут два выстрела один за другим нарушили тишину.
– С ума, что ли, спятил парень? Вот, черт, стреляет!
Все с нетерпением смотрели туда, где стоит большой богатый дом, и увидели, как Авром-Эзра Цейтлин шагает в одном белье, в накинутой на плечи длинной овчине. На остриженной голове едва держалась черная ермолка. Авром-Эзра сердит, опущенные усы растрепаны, а лицо горит.
– Что творится?! Где это видано такое свинство? Стреляет, головорез! Какой-то сумасшедший дом!
– Гражданин Цейтлин! – перебил Овруцкий, – Когда власть зовет, надо сразу приходить!
– Уж я теперь и сам не знаю, кто у нас власть? Всякая шушера… Короче говоря, начальник, чего тебе надо?
– А зятек ваш где, Хацкель? За ним отдельно посылать прикажете? Новые баре в колонии объявились! – сказал Овруцкий, – Совести ни на грош.
– Он больной, не может прийти. Я ему передам.
– Ну, в общем, начнем митинг.
Овруцкий взобрался на подводу, окинул беглым взглядом собравшихся и начал:
Товарищи и граждане колонисты! О чем тут долго толковать… Власть наша все крепче становится на ноги. Но проклятый барон Врангель застрял в Крыму со своей бандой, которую Красная Армия отовсюду уже выгнала. Ещё один крепкий удар, и мы утопим Врангеля в Черном море. Под Перекопом нас ждут наши братья-красноармейцы. Кто был на фронте, тот знает, что без хлеба и мяса война – не война и солдат – не солдат. Колонии договорились и добровольно собрали для Красной Армии хлеба, крупы, мяса. Каждый дает, что и сколько может. Драться за советскую власть добровольно идут пятьдесят лучших наших парней. У кого есть совесть, пусть даст, что может. Кому дорого наше новое государство, пусть идет с нами на фронт, на Врангеля.
– Меня-то ты зачем так срочно звал? Может быть, солдатом меня сделать собираешься? – прервал Цейтлин.
– От вас мы хотим только хлеба и лошадей! А винтовку мы вам не доверим, потому что вы контра! – крикнул Овруцкий под одобрительные возгласы окружающих.
– А у меня конный завод, что ли? Горе у меня, а не лошади. И откуда я вам хлеб возьму? Или урожай нынче очень велик?
– Пусть он даст хлеб, который ещё в прошлом году в земле зарыл.
– Пожалейте его, несчастного!
– Пожертвуйте ему, люди добрые, на пропитание!
– Черт с вами, хлеба пожертвую мешок- другой, но лошадей? Где я их возьму? Хоть стреляйте…
Стоя рядом с Рейзл, Шмая вдруг взял ее за руку и торопливо проговорил:
– Рейзл, я иду с ними…
– С ума сошел! – испугалась она. – Мало ты провалялся в окопах? Пусть идут те, что помоложе…
– Ничего, Рейзл, за битого солдата шестерых небитых дают! – ответил Шмая и подошел к Овруцкому.
– Товарищ, запиши меня, пойду с вами…
Овруцкий хлопнул его по спине и воскликнул:
– Молодец, Спивак! Немножко ещё повоюем, зато на старости лет сможем спокойно сидеть на печи.
Толпа зашумела. К возам начали приносить мешки с хлебом, с картофелем, с яблоками. Молодежь побежала по домам – готовиться в путь. Один только Авром-Эзра Цейтлин стоял, наблюдая, как посторонний.
– Так как же, пан Цейтлин? Времени у нас мало…
– Чего ты от меня хочешь? Возьми нож и перережь мне глотку. Нет у меня лошадей! Я от ваших замечательных порядков уже стал нищим…
– Хуже будет! – крикнул Овруцкий. – Не забудьте, что я ухожу на фронт, а человек я сердитый! Как бы вы не раскаялись. Я не для себя беру, а для тех, кто идет кровь проливать за родину. Мы жизни не жалеем, а вы торгуетесь…
Цейтлин в сопровождении двух парней направился к дому. Он едва передвигал ноги, кряхтел и проклинал все на свете, шел медленно, словно ожидая чуда.
Вдруг мальчишки закричали, указывая на степь:
– Дяденька Овруцкий, видите, как он угоняет лошадей?
– Кто?
– Хацкель! Удирает в степь с лошадьми, видите?
Овруцкий и ещё несколько парней вскочили на коней и погнали в степь. Послышались выстрелы.
Шмая следил некоторое время за погоней, потом отправился домой, надел солдатскую фуражку, выгоревшую гимнастерку, взял старую шинель, видавший виды ранец. Он посмотрел на жену, сидевшую возле дома на завалинке с заплаканным лицом.
– Что с тобой, Рейзл? – с мягкой укоризной сказал он, обнимая ее. – Не надо глупить. Эх, женщины, все вы на один лад, будто одна мать вас родила. Чего плачешь, родная?
Начинаешь уже свои штуки? Солдат в тебе заговорил? Уходишь от меня…
– Кто от тебя уходит? Я скоро вернусь…
– Дай-то бог! Но ведь я знаю, в какое пекло ты идешь! Береги себя хотя бы…
– Эх, Рейзл, Рейзл, что-то я тебя перестаю понимать. Работу на поле мы закончили, крыши как будто всем починил – вот и представь себе, что я на осеннее время пошел в город на заработки, проветриться, свет повидать.
– А почему Цейтлины с места не трогаются? Хацкель…
– А ты разве не слыхала, что товарищ. Овруцкий на митинге сказал: таким, как Цейтлины, винтовку не доверяют. Это контра. Понимаешь? И не надо плакать, солдатка моя милая…
– Легко тебе – «не надо плакать»…
– Ну, если так, – поплачь, но только здесь, дома, а уж когда выйдем на площадь, на людях, держи себя как солдат, и чтоб глаза сухими были, слышишь?
– Только бы ты вернулся жив и здоров. Ты должен жить ради меня и ради… того, кто родится.
Шмая обнял ее нежнее и осторожно прижал к сердцу.
– Об этом, ты, видимо, забыл? – тихо добавила она.
– Нет, не забыл, – ответил Шмая, и лицо его осветилось ласковой усмешкой, – Эх, если будет у нас сынок…
Он хотел сказать ещё что-то, но ребята крикнули, чтобы он шел скорее, что его ждут.
Когда Шмая с женой пришел на площадь, все уже были готовы, возы нагружены. Люди прощались с родными и знакомыми. Ребята с солдатскими сумками стояли у подвод, и Овруцкий вызывал добровольцев по именам.
Молодые парни были одеты кто как – кто в пиджаке, кто в крестьянской свитке, кто в фуфайке. У одного на ногах старые опорки, другой в лаптях. А Шмая явился в своей шинели и в фуражке набекрень, темные усы молодецки подкручены – он выглядел бывалым солдатом.
На возах ребята стали тесниться, освобождать место для Шмаи, все приглашали его к себе, но он постоял, с улыбкой поглядел на добровольцев, потом недовольно покачал головой, швырнул наземь окурок и сказал:
А может быть, вы слезете с возов? Вы кто такие – солдаты или сваты, что на свадьбу собрались?
Ребята рассмеялись, а на них глядя, рассмеялись и столпившиеся провожатые. Все слезли с возов, а Шмая скомандовал:
– Становись! Равнение напра-а-аво!
– Ребята весело становились в строй, некоторые не могли найти себе места, что вызывало добродушный смех толпы.
– Смирно! – гаркнул зычным голосом Шмая. – Ничего, я вас вымуштрую! Позор явиться в полк, не зная ни бе ни ме.
– Возьми их в работу, Шмая, возьми! – весело поддержал Овруцкий. – Их подучить надо…
К полудню все было готово, и добровольцы двинулись по тракту в сторону Каховки.
В стороне от дороги, тропой, которая змеилась в высокой стерне, шел Шмая. Рейзл держала его под руку. Она шла, опустив голову. Рядом бежали оба ее цыганенка, которые наглядеться не могли на своего «дядю» – ведь он стал солдатом.
– А вы нам с войны подарки привезите! – просил младший.
– А чего, к примеру, привезти?
– Ружье привезите и много патронов…
– А зачем вам ружье? – спросил Шмая, обнимая мальчиков, – Давайте уж лучше мы отвоюем за вас, и пусть будет конец войнам, и пусть порядок на земле установится… Поганое дело – война.
Возле моста Овруцкий остановил подводы и обратился к провожающим:
– Спасибо, дорогие, за проводы. Теперь возвращайтесь по домам. Уж мы сами дорогу найдем… Прощайтесь.
Несколько минут спустя обоз тронулся с места. Только Шмая ещё немного задержался с Рейзл. Они стояли на мосту, опершись о перила, и смотрели на прозрачные воды Ингульца, на густые заросли камыша. Овруцкий встретился с заплаканными глазами Рейзл, увидал ее высокий живот, светлые пятна на загорелом лице и сказал:
– И бывалому солдату трудно с женой расставаться?
– А ты думаешь – легко? Сам знаешь, в колонии волки остались. Этот Цейтлин и его зятек…
– Вернемся – увидишь, что тут будет! Советская власть поговорит по душам с этими чертями! – сказал Овруцкий и пошел за подводами, чтобы не мешать Шмае прощаться с женой.
Кровельщик нежно обнял Рейзл:
– Ну, довольно, не плачь, милая. Береги себя и детей. Роди мне сына хорошего…
Он расцеловался с ней и пошел, не оглядываясь, догонять ребят.
Колония уже скрылась из виду. Перед глазами расстилалась голая степь. Шмая сразу почувствовал, что на сердце у него стало легче. Теперь он солдат.
Он догнал возы, на которых сидели добровольцы, и крикнул:
– В чем дело, ребята? Чего носы повесили? А ну-ка, давайте песню, чтоб небу жарко стало!
И он затянул грудным, невысоким, но приятным тенорком старую солдатскую песню о казаке, ушедшем на войну, и о дивчине, подарившей ему платок на память. Овруцкий первый подхватил песню. Пели все. Кто не знал слов, тот подтягивал мотив. Идти, казалось, стало легче, тревога отступила…
КОМАНДАРМ И КРОВЕЛЬЩИК
Предрассветный туман стлался по голой степи. Начал накрапывать мелкий, колючий дождик – из тех, что могут зарядить на целые сутки.
Шли весь день и часть вечера, остановились в сожженном селе. Впереди – Сиваш, Турецкий вал, Врангель, бои… Солдаты начали устраиваться на ночлег.
Николай Дубравин, ротный, принес откуда-то мешок с подарками, присланными на фронт рабочими Москвы и Петрограда, Киева и Харькова, – был канун Октябрьского праздника.
Шмая получил пару теплых перчаток, носовой платок и гребенку. В перчатке он нашел маленькое письмецо. Писала женщина, потерявшая мужа на фронте. Письмо было из Киева, и Шмая вспомнил те дни, когда он приехал в этот город из своего сожженного дома. Он задумался. Рейзл, наверное, уже родила. Что за человек родился? Кто – сын или дочь? Писем от Рейзл ещё не было. Полк все время в походах, адрес часто меняется… А в селе остался Хацкель со своей противной родней, они там, наверное, немало горя причинят Рейзл… А кто ей поможет? Шмая не мог освободиться от тяжелых дум о доме, о себе, о ребенке, которого он ещё не видел.
Шмая устроился на ночлег возле каменной стены, чудом уцелевшей после недавнего налета врангелевских самолетов. Шмая притащил несколько досок, щепок, соломы и разложил костер. Солдаты набрали в котелки воды и стали кипятить воду. Говорили о подарках. Читали письма от чужих, незнакомых людей и чувствовали
в них столько тепла и любви, словно писали им родные матери, сестры, невесты. Постепенно разговоры стихли, люди пытались вздремнуть перед боем, но холод не давал уснуть. Ночь тянулась бесконечно. Хорошо, что вода в котелке закипела, что удалось немного согреться. С серого и грязного Сиваша тянуло сердитым колючим ветром, и солдаты проклинали «гнилое море», которое вскоре придется форсировать.
– Черт вас знает, ребята! – проговорил Шмая, подбрасывая в огонь деревянный обломок. – И чего вы не спите, никак не пойму. Крым… Курорты… Купальный сезон…
– А ты почему не спишь?
– Я-то? Я – крепкая шкура, дубленая. Я научился обманывать сон, – ответил Шмая и начал развязывать солдатский мешок. – Сон ко мне, а я от него. Дома уж поспим, возле жинки. Однако без дела сидеть не годится, надо кашу варить…
И стал засыпать крупу в котелок.
Он сидел, прислонившись к камню, чуть поодаль от костра, освещавшего его осунувшееся, загорелое и заросшее лицо. Прислушиваясь к доносившемуся издалека грохоту орудий, Шмая тихо и задумчиво напевал, словно желая усыпить усталых товарищей:
Как осколок от гранаты В грудь солдату угодил, Только верный конь солдата До могилы проводил. Только птицы над могилой Пролетают в вышине. Ой ты, ворон чернокрылый, Что закрыл ты очи мне?Он пел своим невысоким грудным голосом, и солдаты начали тихо подтягивать.
Шмая и не заметил, как к его костру подсел военный с широким, открытым лицом. Кровельщик, не поднимая головы, заметил в темноте огонек папиросы и попросил:
– Оставь, землячок, сорок. Покурим.
Тот протянул ему окурок. Шмая затянулся разок-другой, передал папиросу другому, а сам, продолжая возиться у котелка, снова запел свою песню. Потом он вытащил из-за голенища деревянную ложку и, помешав в котелке, принялся за кашу.
– Хорошо сварил кашу, солдат? – спросил из темноты незнакомец.
– А ты как думал, столько лет воевал, а кашу варить не научился? Хорош бы я был солдат. Чего спрашиваешь? Доставай ложку и пристраивайся.
– Ложки у меня нет.
– Ложки нет? Какой же ты после этого солдат? На что это похоже? На войне, браток, солдат обязан соблюдать три золотых правила: не расставаться с ложкой и котелком, не ссориться с кашеваром и от кухни не отставать…
Солдаты дружно расхохотались. Не выдержал и незнакомец. А Шмая, глотая горячую кашу, продолжал:
– Где ж это видано, чтоб человек пришел на фронт без ложки? Ты думаешь, что на войне, как у тещи в гостях? А винтовку ты, часом, не позабыл где-нибудь? Ох, был бы ты в нашей роте, всыпал бы тебе наш ротный, Николай Дубравин, три наряда вне очереди, – тогда бы ты знал, как ложку терять… Ну, да ладно, погоди минутку, – добродушно добавил Шмая, – сейчас одолжу тебе свою ложку.
Шмая вытер ложку краем шинели, приподнялся, подал свой котелок незнакомцу и встретился с его светло-голубыми улыбающимися внимательными глазами. Немного растерялся, подумал: «Кто бы это мог быть?»
– Молодец! Вкусная каша! – сказал незнакомец, придвинувшись к костру, – А насчет ложки ты правильно говоришь. У настоящего солдата все должно быть на месте.
Солдаты, сидевшие у костра, спрашивали друг друга глазами – кто бы это мог быть? Видно, начальник, хоть просто одет.
– Не слыхать, товарищ, скоро потеплеет? – спросил Шмая, желая сгладить неловкость. – В Крыму, говорят, всегда жарко, буржуи сюда греться ездили, а мы здорово мерзнем.
– Погоди малость, не торопись, скоро и нам жарко станет, – вмешался кто-то.
– Кабы подкинули немного теплой одежи. А то днем ещё так-сяк, а ночью холодно.
– А вы не слыхали, товарищ, скоро ли с Врангелем покончим? Может, вы поближе к начальству стоите…
– До зимы бы кончить с этим гадом бароном и домой, – сказал кровельщик.
– Вот товарищ Фрунзе, командарм, писал в своем приказе – как только разобьем барона Врангеля, дышать станет легче…
– Да… Нелегкая работенка. Вся международная буржуазия собралась в Крыму. У них пушек, танков – чертова тьма…
– Ничего! Приедет сюда Михаил Васильевич Фрунзе, он им покажет, где раки зимуют…
– Да, видали, сколько нашей кавалерии сюда прибыло?
– А орудий, а броневиков… И самолеты у нас уже есть… Ничего, как-нибудь наша возьмет!
– Возьмешь!… – недовольно проговорил солдат, до сих пор не проронивший ни слова. – А через Сиваш как пройти? Противная речка: ни река, ни море, ни болото. Одни черти в нем и водятся…
– Ничего, товарищ Фрунзе все это обмозгует…
– А как же он войска через Сиваш переправит?
– Да, братцы, перейти через «гнилое море» – работенка деликатная, – поднялся с места кровельщик, – нам когда-то – ещё мы мальчонками были – рассказывали, как Моисей-пророк евреев из египетской неволи выводил. Подошли они к этакому вот Мертвому морю. Как его перейти? Ломал себе голову Моисей, а придумать ничего не может, хоть караул кричи. Разозлился старик да как рубанет посохом-булавой по воде – и расколол море. Все перешли благополучно, даже пятки не намочили, и никто из его команды насморка не получил… Вот бы нам, хлопцы, такую булаву. Сиваш расколоть…
Все весело рассмеялись.
– Уж наш разбойник Шмая придумает!
– Как? Как вы сказали? Разбойник? А почему – разбойник? – удивленно спросил незнакомец.
– Да вы не слушайте их, товарищ начальник, вздор болтают, – махнул рукой кровельщик и начал вытирать соломой свой котелок. – Это меня так когда-то окрестили, и тянется за мной это прозвище.
– Вот оно что! А я уж испугался было: думал – настоящий разбойник меня кашей потчевал… Надо, говоришь, булавой Сиваш расколоть?
Незнакомец поднялся с места, отряхнул шинель.
– Ничего, попытаемся без булавы перейти… Как ты думаешь?
– Думаю, перейдем. Только бы скорее к нам приехал Михаил Васильевич. Он, говорят, командир справный, в военном деле хорошо разбирается…
Человек с открытым волевым лицом и умными проницательными глазами весело улыбался и смотрел на Шмаю.
– Стало быть, ты разбойник?
– Никак нет! – вытянулся перед начальником Шмая. – Я солдат, вернее ефрейтор… Георгия и медаль получил. Три ранения… В Карпатах воевал…
– А как же звать тебя по-настоящему?
– Шая Спивак! – отчеканил кровельщик.
– Шая Спивак? – переспросил начальник, внимательно всматриваясь в него.
Так точно!
– Ну ладно! Вместе воевать будем. Когда там, в Крыму, встретимся, не забудь сварить такую же кашу, как сегодня,- сказал начальник и, протянув ему руку, добавил: – Ну что ж. Будем знакомы. Фрунзе.
– Фрунзе?! – Шмая, растерявшись, смотрел вслед человеку в длинной шинели, который шел к соседним кострам.
– Фрунзе?!
– Командарм…
– Ну, брат, попал ты впросак…
Шмая, ошарашенный, стоял ещё несколько минут и не мог слова вымолвить.
Долго ещё красноармейцы рассказывали, как кровельщик у костра беседовал с командармом.
А разбойник Шмая чувствовал себя на седьмом небе.
– Эх, вернуться бы, хлопцы, живым-здоровым домой, было бы что порассказать!.
Поздно ночью, когда густое марево окутало все кругом, красноармейцы вброд, по пояс в воде, начали форсировать Сиваш. Дул влажный пронизывающий ветер. Где-то вдалеке не переставала грохотать вражеская артиллерия, и время от времени над головами пролетали снаряды с военных кораблей. Ноги вязли в илистом грунте. Солдаты, едва передвигая ноги в густой, гнилой грязи, тихо продвигались вперед.
Чуть не по пояс в соленой воде Спивак тащил на плече тяжелый ствол пулемета, время от времени шепотом приговаривая:
– Завидую теперь долговязым. Им легче здесь ходить…
Ротный Дубравин, с трудом сдерживая смех, оглядывался на забавного солдата.
– Разговорчики! Даже сейчас не можешь помолчать… Чтоб я от тебя больше ни звука не слыхал!
– Помолчи попробуй, когда у тебя полны голенища воды… А лягушки там, кажется, так и квакают.
– Отставить…
По туманной мгле над Сивашем ползли ленивые мрачные полосы – щупальца вражеских прожекторов. Тяжелый снаряд разбудил окрестность, и вдруг вражеские батареи все сразу начали бить по Сивашу. Во все стороны с воем и шипением ложились снаряды, обдавая красноармейцев водой и грязью. На секунду продвижение задержалось. Дубравин крикнул:
– Чего стали? Вперед! За мной! Не видно берега. Все тяжелей становится солдатская ноша. Люди уже падают с ног, но упорно, настойчиво идут вперед.
Было уже светло, когда штурмовые группы прорвали первую линию вражеских траншей и проволочных заграждений и перебрались через Турецкий вал. Воздух был отравлен дымом и порохом, на скуповатом осеннем солнце сверкали осколки снарядов. Со всех сторон к небу тянулись столбы черного густого дыма, с моря не переставали бить корабельные орудия. Всюду шла ожесточенная рукопашная схватка. Вал был покрыт трупами.
Перебегая и переползая с бугорка на бугорок со своим пулеметом, Спивак каждый раз припадал к щитку, открывал огонь, потом, не задерживаясь, бежал дальше за Дубравиным, который вел в атаку свою заметно поредевшую роту.
Бой уже затихал, когда волна от тяжелого снаряда, взорвавшегося неподалеку, отшвырнула Шмаю в сторону. Засыпало его землей. Свет в глазах погас. «Конец…» – мелькнуло в голове.
Очнувшись, он увидал возле себя Дубравина.
– Жив, Спивак? – тормошил он Шмаю, не давая ему закрыть глаза. – Санитаров сюда! Носилки!
Шмая чуть приподнял голову, оглянулся и увидал разбитый пулемет, валяющийся в канаве колесами кверху. Дубравин подал раненому фляжку с водой, снял с себя шинель, изодранную осколками и забрызганную кровью, и накрыл солдата.
– Эй, санитары!
– Что там? Взяли? – придя в себя, проговорил раненый.
– Взяли Перекоп! Белые бегут, – взволнованно сказал ротный и показал на дым, поднимавшийся к небу.
Спивак тяжело дышал. Подоспевший фельдшер начал перевязывать ему рану. Но когда санитар взял ножницы, чтобы разрезать голенище сапога, Шмая сердито сказал:
– Зачем режешь, сапоги попортишь!
– Больной, успокойтесь! – проговорил фельдшер.
– Легко вам сказать – успокойтесь. Он мне сапоги искорежит, как я потом ходить буду? Не режь голенище, слышишь?!
– Никуда вы не пойдете, товарищ красноармеец, в госпиталь вас отвезут. Положите его на носилки, – приказал фельдшер санитарам, а сам побежал к другим раненым. «Странный солдат! Сапоги жалеет, а речь идет о жизни».
Шмая попросил санитаров помочь ему подняться, минутку постоял, как пьяный, велел подать ему винтовку, валявшуюся рядом, попробовал сделать шаг-другой, скрывая боль, и направился туда, куда ушел Николай Дубравин со своей ротой. Опираясь на винтовку, он медленно шел вперед. Вот он увидал повозку со снарядами, остановился и попросил его довезти.
– Куда? Погоди здесь. Придет санитарная повозка. Тебя в тыл отвезут, в госпиталь…
– Моя рота туда пошла, – указал он в направлении Перекопа.- Подвезите малость, а там я сам как-нибудь дойду…
– Ты почему не дал отвезти себя в госпиталь? – упрекал ротный Шмаю. – Зачем тащишься за нами? Не видишь, что ли, что творится?
– Ничего, товарищ ротный, я ещё держусь на ногах. Вот окончится бой, освободим Крым, мы с тобой по рюмочке хватим…
– Это все ладно. Но почему ты моего приказа не выполнил?
– Какого приказа?
– В госпиталь отправиться! Зачем тащишься за нами?
– Вместе потрудились, товарищ командир, Сиваш перешли, Турецкий вал взяли. Теперь дело к концу идет. Дойду как-нибудь…
– Как-нибудь… Возвращайся! Давай в санпункт!
– Ротный, я тебя умным человеком считал… Вся армия идет вперед в Крым, а я в это время должен ехать в госпиталь. Не к лицу… Так что не гони меня, я помаленечку буду вместе с вами идти, ротный.
Шмае становилось все труднее нести винтовку. Он перекладывал ее с плеча на плечо. Бинты промокли от крови. Сапоги были мокрые и тяжелые, казалось, что они весят по десять пудов. Никогда и никому он не завидовал. Но сейчас он мучительно завидовал солдатам, идущим вперед быстро и легко.
Солнце поднялось выше. Пожелтевшая трава по краю дороги словно ожила, казалось, что блеклый бурьян понемногу меняет свой цвет. Стало легче дышать. Погожий осенний день был теперь лучшей наградой.
Николай Дубравин со своими несколькими солдатами старался не отставать. Их задерживал только Спивак.
Ротный искал попутную подводу. Сейчас он отправит Шмаю в тыл.
Вдруг послышался рокот мотора. На гору, тяжело пыхтя, ехал автомобиль. Поравнявшись с красноармейцами Дубравина, машина остановилась. Из нее вышел широкоплечий военный в длиннополой, хорошо прилаженной шинели, тот самый, который в ночь перед штурмом Сиваша сидел у костра, беседовал с Шмаей, пробовал его кашу. Солдаты сразу узнали Фрунзе!
Командарм посмотрел как приветствует его раненый. Сочувственная улыбка мелькнула на его лице, и он кивнул своему адъютанту: «Старого солдата сразу узнать можно…»
– Где был ранен? – спросил командарм.
– Возле, Турецкого вала поцарапало…
– А куда тащишься?
– Приказ… Даешь Крым – ответил кровельщик.
– Я тебе покажу «даешь Крым»! Почему в госпиталь не идешь? Кто твой командир? – строго спросил командарм, оглядывая солдат.
Дубравин подскочил и громко проговорил:
– Ротный командир Дубравин слушает!
Он вытянулся, с беспокойством поглядывая на командарма.
– Почему своего солдата в госпиталь не отправил?
– Не хочет выполнять моего приказа,- ответил растерявшийся ротный.
– Почему командира не слушаешься?
– Он всегда командира слушается, – не выдержал один из молодых солдат. – Я с ним все время и вижу… Он с пулеметом одним из первых перешел через Сиваш и много беляков уложил. Здорово действовал.
Солдаты напряженно следили за каждым движением командарма. Шмая сказал:
– Я ваш приказ выполняю, товарищ Фрунзе. Идем на Крым…
– А почему не идешь в госпиталь?
– Совесть не позволяет в такое время от своей роты отставать. Все вперед идут, а я назад? Стыд и срам! А кроме того, не люблю я докторов и фельдшеров, я у них в руках уже много раз побывал. Надо в атаку идти, а они у тебя пульс щупают, температуру мерят… Чудаки!
– Как это так – чудаки? – улыбнулся командарм. – Я и сам когда-то был фельдшером.
Шмая растерялся.
– Вы? Вы были фельдшером? Не может быть!
– Был, был фельдшером, – торопливо, проговорил Фрунзе. – В ту войну был фельдшером.
– Фельдшеров, признаться, я уважаю… а вот докторов – не очень, – Шмая виновато улыбался.
– Тебя как звать? – спросил командарм и что-то шепнул адъютанту.
– Товарищ командарм, прошу простить меня, – сказал Шмая. – Первый раз в жизни со мной такой случай, что я приказа не выполнил. Пойду сейчас в лазарет. На ремонт…
Попробуй не пойти! – с напускной суровостью пригрозил Фрунзе и мягко спросил:
– Как твоя фамилия?
– Спивак…
– Слушай, а не с тобой ли мы однажды кашу ели и ты меня ругал за то, что я ложку забыл? – вдруг спросил Фрунзе, внимательно поглядев на солдата.
– Со мной, товарищ командарм! Так точно! – виновато проговорил Шмая.
– Он заставил меня краснеть, – сказал командарм своему адъютанту, указывая на кровельщика. – Значит, вы, пулеметчик, были среди первых, которые форсировали Сиваш и штурмовали Турецкий вал?
Фрунзе спросил фамилию ротного и остальных солдат, записал в блокнот. Лицо его было серьезно и строго.
– Командир Дубравин, красноармейцы Шевчук, Азизов, Спивак… От имени Революционного Военного Совета фронта я представляю вас к высшей награде Советской Социалистической Республики – ордену Красного Знамени.
– Рад стараться! – неуверенно промолвил кровельщик и, заметив улыбку на устах командарма, смутился: не так ответил.
– Приказав ротному немедленно отправить раненого в госпиталь, командарм сел в автомобиль и быстро помчался вперед, туда, откуда доносился глухой отголосок орудийных выстрелов.
Шмая все ещё стоял, опираясь на винтовку. Красноармейцы окружили его, осторожно усадили его на камень у дороги и начали подбадривать:
– Держись, Спивак…
– Ерунда. Пройдет скоро…
Он качнулся, соскользнул на вытоптанную траву и вдруг почувствовал острый запах полыни, камыша, воды…
В ЧАС ДОБРЫЙ!
Прошло уже немало времени с тех пор, как Шмая вернулся домой из Симферопольского госпиталя. По старой привычке он встает до петухов, берет толстую палку, без которой ему все ещё трудно ходить, и садится на завалинку, Солнце ещё не взошло. На траве сверкает роса. Беспокойно шумят на берегу камыши, издалека доносится тихое щебетание проснувшихся жаворонков. Первые лучи солнца освещают бескрайние зеленые поля, сливающиеся с горизонтом. Шмая хочет запомнить наступление этого золотого утра.
Шмая разглядывает покосившийся заборчик из серого камня, заросший травой, крышу, которую следовало бы починить… Да, много работы ждет его. Однако жена пока не дает ему ничего делать. Она его еле дождалась и теперь оберегает как зеницу ока.
Поселок ещё дремлет, и на дворе свежо и так тихо, что можно, кажется, услышать, как жужжит жук, ползая по прошлогодним пожелтевшим листьям. Шмая достает кисет, свертывает папироску. Вдруг раздался стук колес, и к дому кровельщика подъехала бричка; из нее вышли Авром-Эзра Цейтлин и Хацкель.
Привет тебе, Шмая! Доброго утра! Как поживаешь? Как здоровье? – участливо спросил старик.
Шмая молча взглянул на непрошеных гостей.
– Хороша погода нынче… Не правда ли? Такая погода дорого стоит, что скажешь, Шмая?
– Я погодой не торгую, – Шмая встал, сделал несколько шагов и снова уселся на завалинке.
– Тебе, голубчик, наверное, ещё трудно ходить? Все ещё не можешь прийти в себя после Врангеля, холера ему в бок!
Кровельщик в недоумении пожал плечами. Хацкель, улыбаясь, присел рядом со Шмаей.
– Ты что ж это, земляк, людей уже не узнаешь? Хоть Фрунзе и дал тебе большую награду, орден, а господа бога за бороду ты ещё не ухватил…
– Ну, ты, невежа, прикуси язык! Не больно-то расходись! – рассердился Авром-Эзра на своего зятя.- Грубиян этакий…
Шмая курил и молчал, как будто все это к нему никакого касательства не имело. Авром-Эзра достал коробку папирос и предложил:
– Брось, Шмая, свои корешки. Пожалей свое сердце и легкие. Закури-ка лучше хорошую папиросу…
– Спасибо за ласку! – отрезал Шмая.
– Странный ты человек, Шмая! – взволновался Авром-Эзра, – Что такое? Чего ты сердишься? Мало того, что вы тогда нас без ножа зарезали, забрали лучших лошадей, а обратно даже подковы не привезли. Чего же ты дуешься?
Шмая резко поднялся с места, подошел к калитке и стал возиться с засовом, но Авром-Эзра, улыбаясь, положил ему на плечо руку:
– Ну, хватит, Шмая, хватит. Слава богу, что ты вернулся жив. – И, указав на бричку, добавил: – Мы привезли тебе мешок муки, немного мяса, картошки. Бери и поправляйся, ведь ты на человека не похож стал. Жалость…
В доме у Шмаи было пусто, но он ни слова не проронил и глаз не поднял.
– Эй, братец, брось свои солдатские штуки, – ехидно улыбнулся Хацкель. – Бери продукты и скажи спасибо! Не забывай, что Рейзл у тебя такая бабенка, которая… – добавил он, хитро подмигивая.
Увидав, что Цейтлин уже тащит из брички мешки, Шмая гневно сказал:
– Забирайте это, сами кормитесь. Мне ваша милостыня не нужна. Благодетели нашлись.
Из дому вышла Рейзл и, увидав нежданных гостей, остановилась.
– Что случилось?
– Пустяки! – ответил Авром-Эзра. – Возьми, дочка, тащи в дом. Разбогатеете – отдадите когда-нибудь. Ведь мы же свои люди, соседи. Пусть будет конец нашей ссоре, давайте в мире жить…
Рейзл стояла, в недоумении поглядывала на мужа, на мешки и не знала, что делать.
Чего же ты ещё раздумываешь? Бери в дом и свари чего-нибудь своему солдату и детям. Ведь я же знаю, что в доме у тебя ни крупинки…
Рейзл подошла к бричке, взялась за мешок, но Шмая раздраженно крикнул:
– Не надо мне их милостыни, Рейзл, не притрагивайся к этим мешкам!
– Это не милостыня, Шмая, мы вернем…
– И слышать не хочу! Уже забыла? А почему они тебе не хотели одолжить ведерко картошки, когда я был под Перекопом, мальчики у них скот пасли, а для малыша нашего молока не давали? Пока я жив, обойдемся без их ласки! Ничего, без хлеба сидеть не будем…
Рейзл печально смотрела на мешки, сиротливо лежавшие возле брички, и молчала, так как хорошо знала, что ее уговоры ни к чему не приведут.
– С ума сошел! Ему теперь и слова сказать нельзя! – пожимая плечами, подошел к ней Авром-Эзра. – Люди зверьми становятся… Ведь ты же хорошо знаешь, Рейзеле председателя нашего сельсовета, Овруцкого? Скажи, пожалуйста, Шмая, чего он ко мне пристал, как пиявка? Последнюю рубаху с меня снять хочет! Посылает за мной своих людей среди ночи! Слыханное ли дело? Что такое? Чтоб я дал ему хлеба для демобилизованных солдат и для вдов. Давай ему то семена, то сено… Вот злодей на мою голову навязался! Хуже Махно. Жить нам не дает, изверг. Уж я пробовал с ним и так и этак, – как горохом об стенку. Говорит, что мы должны подчиняться… Ах ты, господи, и почему это ему на фронте только ногу оторвало?
– Чего же вы, собственно, хотите от меня? – перебил Шмая. – Чего пришли?
– Ничего. Так, к слову пришлось рассказываю. Ведь ты с ним, как это говорится, запанибрата… Тебя, дорогой, он послушает…
– Вчера он снова позвал нас, председатель твой, – вмешался в разговор Хацкель. – Что случилось? Так как начался сев, а в селе есть колонисты, которые когда-то продали нам свою землю, то он требует, чтобы мы им землю вернули да ещё дали семена в придачу и волов. То есть дай им ключи от шкафа да покажи ещё, где деньги лежат. Я начал говорить, что это грабеж, а он на меня костылями замахивается. Если бы не Авром-Эзра, он бы мне череп размозжил! Видали сумасшедшего? Поговори с ним, Шмая! Будь человеком…
– Что? – вспылил кровельщик. – А ну, катитесь отсюда ко всем чертям собачьим с вашими торбами! Вон отсюда, чтоб я вас тут не видел!
– Шмая, послушай меня, давай жить в мире. Скажи ему, Овруцкому, пусть он перестанет цепляться! – умолял Авром-Эзра. – Знаешь ведь, гора с горой не сходится, а человек с человеком… Авось и тебе от нас что-нибудь понадобится…
– Мне от вас? – спокойнее проговорил Шмая. – Забыли вы, за что меня разбойником прозвали. В жизни богатеям не кланялся! Не знаете вы меня!
– Уж кто-кто, а я тебя хорошо знаю,- вмешался Хацкель.
– Ай, боже мой, к чему ссориться? – смиренно качал головой Авром-Эзра. – Соседи не должны быть кровными врагами. Стыд какой! Ведь в священном писании так прямо и сказано…
– Что же вы не вспоминаете о писании, когда людям помочь надо? – опять разозлился Шмая. – Почему не вспомните, если вы такой знаток священного писания, «Око за око, зуб за зуб»? Эх, вы! Убирайтесь отсюда! Скорее!
– Стало быть, Шмая, ты гонишь нас из своего двора? – сказал Авром-Эзра, зло усмехаясь. – В таком случае могу тебе напомнить кое-что. Двор этот давно уже не твой, а мой. Когда ты был на фронте, твоя жена взяла у меня четыре пуда ржи и заложила дом…
– Вон из моего двора! – Шмая замахнулся палкой, и глаза его зажглись злобными огоньками. – Пошли отсюда!
– Смотри пожалуйста, совсем как Овруцкий! Два сапога – пара, – с притворной улыбочкой проговорил Авром-Эзра. – Думаешь, я тебя испугался? Я не из пугливых! Я могу укусить. И крепко… Пошли, Хацкель, разбойник разбойником остается! Ничего, проголодается, ко мне же на порог придет.
– Не доживете вы до этого, кровопийцы! – сплюнул Шмая и, разгневанный, вошел в дом.
– Шмая, к чему тебе ссориться с этими собаками? – сказала Рейзл, присаживаясь рядом с ним. – Ведь все у них в руках.
– Ничего, Рейзл, скоро все будет в наших руках.
– Пока суд да дело, они ещё на коне, – ответила Рейзл. – У кого сто рублей, тот и сильней…
– Ты так думаешь? У кого сто рублей, тот и сильней? – повторил Шмая и, помолчав, добавил: – Глупенькая, так было когда- то, теперь будет по-иному. Люди в тюрьмах сидели, на каторгу шли, в Сибирь, на фронтах, под Перекопом сражались, чтобы стало по-иному, и будет по-иному, по-нашему. Поняла?
– Ну что ж, я с тобой спорить буду? Пусть будет по-твоему. Но надо бы тебе зайти в совет. Насколько я поняла из слов Авром-Эзры, сейчас уже распределяют семена и землю…
Шмая пробрался в битком набитую людьми комнату сельсовета, где в густом облаке дыма сидел и просматривал бумаги Овруцкий.
– Привет, Шмая, садись! – председатель указал на стул, поднялся и, опираясь на костыли, протянул Шмае руку. – Садись, отдохни, только смотри не перевернись, а то стулья у нас на курьих ножках… Наш Азриель – милиция – не может раздобыть несколько хороших стульев у кулаков. Видал парня? – указал Овруцкий на долговязого Азриеля, носившего на рукаве красную повязку, а на плече потертую винтовку, из которой, видимо, давно не стреляли. Парень покраснел и ответил сердито:
– Ну, что же я могу сделать? Откуда я возьму стулья?
– Слыхали? – сказал председатель. – Чтобы милиция задавала такие вопросы! Сходил бы к Цейтлиным и одолжил несколько стульев! Тебя теперь все обязаны уважать.
– Хацкель мне уже однажды пообещал заменить ногу метлой.
– Тебе? Милиции? – расхохотался Овруцкий. – Ну, братец, с такой милицией мы недалеко уйдем. А ты что ответил?
Парень покраснел до ушей.
– Сказал, чтобы он имел уважение к власти и разговаривал с нею не как извозчик, не то как возьму его за жабры, так из него и дух вон…
– Так и сказал, или это только здесь ты такой герой?
Парень промолчал и, взяв с собою несколько ребят, пошел искать стулья.
– Хорошо, что ты пришел, – обратился председатель к кровельщику. – Земли у нас мало, обрабатывать ее нечем, семян – горсть. Вот и попробуй разделить так, чтобы все были довольны…
Шмая с минуту просматривал список, и на лице у него появилась привычная добродушная улыбка. Он разгладил усы, сдвинул фуражку на макушку и сказал:
И в самом деле трудновато. Я по части этой грамматики не больно силен. Рассказывают, однако, такую историю…
Шмая не успел начать свою историю, как снова появился запыхавшийся Азриель:
– Чего вы тут сидите? Там бьют, режут…
– Где бьют?
– Кого режут?
– Азриель, расскажи толком, что случилось? – Овруцкий взял костыли и вышел из-за стола.
– Авром-Эзра с Хацкелем и всей их бандой налетели в поле на ребят, которые пашут, и творится что-то ужасное! Гедалье голову проломили…
– А милиция что делает?
– Какая там милиция? Три человека – тоже мне милиция!
– Пошли! – кинул Овруцкий, и все направились за ним.
В поле возле разбросанных мешков с семенами люди увидели Авром-Эзру Цейтлина с деревянным дышлом в руках. Он был разгорячен и растрепан, бороду разметал ветер. Неподалеку стоял извозчик Хацкель с топором и ещё несколько незнакомых людей с палками. Увидав толпу, бежавшую сюда, растерялись, стояли неподвижно.
Женщины принялись приводить в чувство Гедалью, лежавшего на вспаханной земле, избитого и едва дышавшего.
Овруцкий стоял багровый от злости, опираясь на костыли, и смотрел на окровавленного человека.
– Авром-Эзра, вы, кажется, твердили, что надо жить в мире, – не выдержал Шмая, – в священном писании, говорили вы, так, мол, сказано. Святоша…
– Надоели вы мне, голодранцы! Так будет со всеми, кто тронет мою землю! – крикнул Авром-Эзра
– Чуть человека не убил, злодей!
– Мое добро! Моя земля! Мои семена! Мои бороны! – не унимался Авром-Эзра.- Никому не отдам! Головы сниму!
– Может быть, вы будете кричать на вашего батьку? – не мог больше сдержаться Овруцкий и двинулся к Авром-Эзре. – Бросьте вашу дубину! Кого пугать пришли? Народ?…
Авром-Эзра отошел в сторону, начал бить себя кулаками по голове.
– Пришли бы к тебе отнимать твое добро, ты молчал бы? Грабители! Мои волы! Мои семена! Земля моя! Кровь прольется!
– Ну что ж, не хотите добром, – сказал Овруцкий, – пожалеете… Народ вы не напугаете. Уж мы таких, как вы, на своем веку повидали…
И крикнул:
– А ну, бросьте ваши палки! Да поскорее!
Толпа зашумела Авром-Эзра, вытирая рукавом слезы, побежал под гору, в поселок. Хацкель, оглянулся, заметил, что нанятые крестьяне куда-то исчезли, спрятал топор и сам поспешил убраться следом за своим тестем.
– Колонисты, чего стоите? Земля ваша, принимайтесь за работу! – неторопливо проговорил Овруцкий, и все взялись за дело – запрягать волов, таскать мешки с семенами, размерять поле.
Сеятели двинулись по полю.
– В час добрый!
– Счастливо! – кричали со всех сторон.
Овруцкий присел на мешок с зерном, окинул взглядом поле и позвал Шмаю:
– Присядь на минутку, солдат, покурим. Чего задумался?
– Хорошая весна начинается, – улыбнулся Шмая, присаживаясь на лежавший рядом мешок, и достал из кармана кисет. – Ну, теперь люди малость оживут. Первая атака Цейтлина отбита!
– Пора! Не так ли, Шмая? Что ты говоришь?
– Что я могу сказать? – отозвался кровельщик, глубоко затягиваясь. – В час добрый!
ДОБРЫЕ СОСЕДИ
– Есть люди, которые не выносят соседей, – начинает разговор Шмая. – Сразу вспоминаются ссоры у плиты, скандалы… А я, собственно, не понимаю, как можно жить без соседей! Случается, на сердце кошки скребут, – кто может помочь? Добрые соседи! Торжество у тебя, – кто придет порадоваться с тобой, чарку выпить? Соседи! Поссоришься иной раз с женой, кто масла в огонь подольет? Опять же соседи!
Я к своим соседям, признаться, никогда претензий не имел. Правда, есть у нас соседи вроде Цейтлиных, которых зря земля носит. Те только о том и думают, как бы весь мир заграбастать, как бы вытянуть из вас все жилы. Счастье, что советская власть не дает им разгуляться, не то пришлось бы бежать куда глаза глядят. А больше всех Цейтлины ненавидят меня и Овруцкого.
Они думают, что, если бы не мы, им было бы привольное житье. Дудки! Они забывают, что времена их прошли.
«Какой он хлебороб, разбойник Шмая,- твердит Авром-Эзра, – ведь он не на земле вырос…»
Не на земле? А где же я вырос? На небе, что ли? Или я мало работаю? Мало хат помог поставить? Мало крыш покрыл? Ну и на винограднике не отстаю от других. Зря хлеба не ем. Ведь я сызмальства человек мастеровой и работать люблю! Для меня день без работы – пропащий день! Если есть свободное время, беру свои причиндалы и иду по соседям – крыши чинить. А если у кого колесо сломалось, телега, плужок, стекло разбилось, печь не в порядке – все ко мне идут. А уж кто новую хату ставить собрался, тот без меня никак не обойдется!
Рейзл иной раз сердится, зачем, мол, я за всякую работу принимаюсь. «Работы, говорит, много, а толку мало!» – «Глупенькая, – отвечаю я ей, – почему бы людям не помочь? Минуют годы, Шмая станет стариком, тогда он сможет гордо ходить по улицам и любоваться своей работой. Видите этот дом? Это Шмая к нему руку приложил. Видите эти сады и виноградники? Это Шмая помог засадить! И никто не сможет сказать, что я даром прожил свои годы. Разве это не радость?…»
А если туговато становится, я беру свои инструменты и уезжаю в Херсон или Екатеринослав, на работу. Пробуду там месяц- другой и возвращаюсь домой.
Иду это я недавно по Екатеринославу. До этого я как раз закончил одну работу – покрыл крышу в наробразе, заработал немного деньжат, купил подарки жене и детям и направляюсь на вокзал. Было это накануне Первого мая. Балконы украшены красными флагами, народ хлопочет, музыка играет. Иду я и город разглядываю. Напеваю что-то про себя, зашел в буфет, выпил на радостях, а когда добрался, этак-то напевая, до вокзала, оказалось, что поезд уже час тому назад просвистел и – будь здоров! Придется праздновать в городе. Я готов был живьем себя съесть! Ведь я же писал Рейзл, что приеду к празднику. Ну, да что будешь делать? Иду с вокзала обратно в город, уже не пою, зол на себя и на весь мир. Наступила ночь, в домах зажигают свет. Висят красные полотнища, портреты, плакаты. На улицах полно людей, все приодеты, и только я один, словно овца, отбившаяся от стада…
Вошел я в дом, где обычно останавливался, заснул как убитый, а рано утром разбудила меня музыка. Выглянул в окно, а на улице тьма народу. Идут с красными лентами на рукавах, с цветами и знаменами. На таком празднике я ещё в жизни своей не бывал. Оделся, выбежал на улицу.
Стою на тротуаре и смотрю, как проходят колонны, как ликует народ, как орудуют музыканты. Идет колонна детей, все в новеньком, у всех красные флажки, цветы, поют, пляшут. Конечно, в их возрасте я такой радости не переживал. В их возрасте я уже работал. Отец взял меня за руку и сказал:
«Хватит, Шая, сидеть на моей шее. Пора и насчет ремесла подумать. Полезай, брат, на крышу…»
Так благословил меня отец в тринадцать лет, и с тех пор я стал кровельщиком. И вот смотрю на веселую ораву ребят и вспоминаю своих детей – Лизу и Сашку. А дети идут и поют, и песня прямо за душу хватает. Пробираюсь поближе, хочу получше разглядеть ребят. Милиционеры, разумеется, сердятся, что я нарушаю порядок, но я на них и внимания не обращаю. И вот в то время, как я с милиционером толкую, вижу чернявую такую девочку. Екнуло у меня сердце: вдруг это моя Лиза? Рассмеялся – вот чудак, в чудеса поверил! Столько лет прошло!
Колонна детей ушла, а я никак не могу успокоиться: «Дурень! Не мог, что ли, подойти поближе, расспросить, кто эти дети, откуда? А что милиционер будет сердиться за нарушение порядка, так что поделаешь! Будем в ссоре с милиционером». И я бросился догонять детей. Расталкиваю народ, все на меня сердятся, милиционеры свистят. Пускай себе свистят сколько угодно, – я уже догнал колонну. Отыскал чернявую девочку и спрашиваю, как ее зовут, кто она, откуда, чья? Нет, не она. И так тяжело стало, словно снова вернулся тот ужасный год, когда умерла Фаня. Подумать только, я уже смирился с мыслью, что не найду своих детей…
Я отошел в сторонку, чтобы не мешать демонстрантам. И вдруг чувствую, как на мое плечо опускается чья-то рука. В этом городе я ведь почти никого не знаю, кроме тех, у кого крыши чинил…
Оглядываюсь и вижу знакомое лицо, карие, пронизывающие глаза, худое лицо. Человек улыбается, смотрит на меня:
«Разбойник! Шмая! Что же ты, сосед, разбогател, людей не узнаешь? Стало быть, жив курилка?»
«Жив курилка, а как же! Мы такой породы, братец, что никакая сила нас не согнет, не сломит», – отвечаю я и рассматриваю этого человека. И вдруг вспомнил. Боже мой, как же он изменился за эти годы: Фридель, Фридель Наполеон! Вот где встретились. Недаром ведь говорят, что мир тесен, гора с горой не сходится, а человек с человеком…
Билецкий уже несколько лет живет в этом городе, заведует детским домом. Ну, он меня затащил к себе, познакомил с женой, детьми. Выпили по рюмочке, закусили, конечно, как полагается. Разговариваем. И вдруг Фридель как закричит:
«Шмая, разбойник! У меня ведь в детдоме был твой цыганенок, Саша Спивак…»
У меня голова закружилась. Вот оно какое, счастье! Сынок здесь, а я не знал. Сидим уже два часа, болтаем всякий вздор…
«Где же он, где! Как же так… Почему же ты…»
«Не верил я, что ты жив, Шмая дорогой… – не дал мне договорить Билецкий, – я тебя не искал… Сашка – парень что надо. Все бредил военной школой, хотел стать таким, как Буденный. Ну и отправил его в Ленинград. Я тебе его адрес разыщу…»
Теперь уж я найду сынка!
«Шмая, – сказал Билецкий, – у нас в детском доме крыша течет, не наведешь ли порядок?»
Ну, как откажешь? Чего тут долго рассказывать? Закатал я рукава, вылез на крышу и взялся за дело. И за два дня все было готово.
Еду домой, и кажется мне, что поезд тащится, как на волах. Так хотелось поскорее быть дома, усадить за стол жену и детей, пригласить соседей и справить торжество…
На нашем полустанке встретил я одного доброго соседа с подводой, сели мы и поехали с треском по степи, опорожнили по дороге бутылочку вина и распелись во весь голос, так что все соседи из дворов повыбегали.
«Рейзл, вот она, твоя пропажа, отыскалась! Приехал!»
«Шмая, где ты пропадал?»
«Ведь твоя Рейзл уже все глаза проплакала. Как это можно столько времени пропадать? Ведь ты ей весь праздник испортил. Она так готовилась…»
Рейзл выбежала, едва дыша, и божится и клянется, что больше за порог меня пускать не станет, уж она бог знает что передумала, – в общем, получил я от нее нахлобучку, как полагается!…
Иду потихоньку, напеваю, а соседи, дай им бог здоровья, меня окружают, провожают до калитки.
«Люди, что с ним такое? Может быть, ему доктор требуется?» – кричит кто-то из соседнего двора.
«Шмая, что это за пение на тебя вдруг напало?»
«Не спрашивайте, – говорю я, – не спрашивайте, дорогие мои! Всем бы моим добрым друзьям такую радость! Рейзл, накрой-ка на стол и зови всех соседей!»
А Рейзл уже больше не сердится, смеется.
«С ума сошел, честное слово, – пожимает она плечами. – Что за соседи ни с того ни с сего? Ложись-ка лучше спать. Праздник кончился».
«Как это можно спать средь бела дня? Рейзл, зови соседей, как это – праздник кончился? А для меня, может, начинается?»
Жена позвала наших соседей, хватили мы по чарке, всем врагам назло, и я выложил им историю, которая приключилась со мной в Екатеринославе. И все желали мне счастливой жизни и много радости, чтобы люди не знали больше ни войны, ни разлуки!
СЧАСТЬЕ УЛЫБНУЛОСЬ
– Какой-то мудрец долго ломал себе голову над тем, откуда берутся злые жены, ведь в основном все девушки милы и нежны, как ангелы, – часто говорил разбойник Шмая. – Хоть я не мудрец, но частенько тоже думаю об этом, однако ответа на свой вопрос ещё не нашел. Большинство жен начинают донимать своих мужей на другой день после свадьбы, а моя взялась за меня спустя девять лег. Раньше она тоже была как ангел…
Началось это с того самого знаменательного вечера, когда на поселке состоялся сход, Овруцкий собрал народ и заявил: «Надо объединиться и строить хозяйство гуртом».
В сельсовете поднялся шум – стены трещали. До утра заседали. Люди ещё не знали в точности, что это такое – артель. А кулаки распустили разные слухи, один другого страшнее. Больше всех горячились зажиточные. Им что – у каждого лошадки, коровы, козы, земля, виноградники, на голову не каплет. Бедняки не решались сразу записываться в артель. Каждый ждал, пока запишется сосед. А время шло.
Тогда поднялся Шмая и сказал:
– Люди добрые, чего же мудрить? Наш Овруцкий – человек партийный, мы верим ему. Правильно он сказал, и нечего морочить себе и людям голову. Создадим артель. Свезем наших лошадок и начнем действовать. Государство поддержит машинами, тракторами, семенами. Одним словом, запиши, Овруцкий, меня в артель…
– Легко ему говорить, разбойнику, в любой момент возьмет свой молоток и ножницы, топор и пилу и лезет на крышу. А нам как жить, если в артели будет плохо?
Вырос бы он на этой земле, тогда дорожил бы ею. А так ему что земля, что крыша, что сруб – все едино…
– А он разве плохо обрабатывает свой клочок земли и виноградник? Лучше, чем многие старые колонисты…
– Для артели такой мастеровой, как он, – находка. Придется много строить, а кто же лучше нашего разбойника в этом разбирается?
Когда он пришел домой, на него обрушилась жена:
– Ты чего разошелся? Первым записался в артель, как же! А ты не знаешь, что Цейтлин заявил людям?
Шмая сделал удивленное лицо и мягко сказал:
– Откуда мне знать, что Цейтлины брешут?
– Авром-Эзра заявил: кто первый запишется в артель, тому они первому проломят голову, подожгут хату. Выбьют все стекла…
– Глупенькая моя, чего же ты горюешь? Стекла, говоришь, выбьют? Ну и что? Дело идет к весне, а без стекол весной даже лучше, больше свежего воздуха будет в доме.
– А ты не смейся. Ты ещё не знаешь эту банду. Они тебе переломают кости…
– Ну, это уже чепуха. У меня, дорогуша, кости крепкие и не так-то просто их переломать. Банда Цейтлина – это маленькая кучка, а нас, простых людей, – тьма. Кого же мы боимся? Петлюру, Деникина, Врангеля, Колчака – всех одолели, так неужто не справимся с кучкой кулаков?
Рейзл сидела понурив голову, слушала его рассеянно. И, когда он смолк, сказала:
– Кое-как, с горем пополам, на ноги встали, а ты хочешь все это разрушить?
– Всю жизнь ты мучилась, батрачила у этих Цейтлиных, доброго дня не видела, и ещё раздумываешь – идти или не идти? Стыдно!
Он прошелся по комнате, закурил и, глядя в окно, продолжал:
– Ты ведь сама видишь, что делается. Цейтлины из кожи вон лезут. Долго ли такие, как Авром-Эзра, будут чувствовать себя, как у бога за пазухой? Хватит, нажрались. Пусть дадут людям жить…
– А кто знает, как там будет, в твоей артели? – перебила Рейзл.
Шмая улыбнулся и покачал головой:
– Никто тебе не выдаст векселя, что в артели с первого дня будет, как в раю. Трудно будет… Дело новое, непривычное. Но, понимаешь ли, это дело большое. Государство поможет, даст машину, тракторы, электричество. А вообще это будет зависеть от нас, как будем трудиться, так и жить будем…
– Ну, хватит! – сердито прервала жена. – Все это я уже слыхала на собрании от Овруцкого и от того, который из города приехал, из райкома. Ты записался – ну и радуйся. Иди туда в артель, а когда там будет хорошо, пришлешь мне телеграмму, и я тоже пойду записываться, и не морочь мне голову…
– Э, моя дорогая… – покачал он головой, – это уже совсем не по-нашенски. Нехорошо. Стало быть, хочешь прийти на готовенькое? Этого я от тебя не ожидал. Нет.
Рано утром почтальон принес письмо от пропавшего без вести сына. В письмо была вложена фотография. Шмая показывал всем карточку, хвастал, был счастлив. В дом сходились соседи. Карточка незнакомого чернявого курсанта шла по рукам. Девчата дольше всех задерживали ее в руках.
– Ну как, девки, ничего себе жених, а? – подмигивал кровельщик, и девчата, смущенные, вихрем вылетали из дома.
– Видали солдатика? Вылитый отец!
– Шмая, а он тоже такой разбойник, как ты?
– Кто его знает…
– По карточке видать, толковый хлопец…
– Яблоко от яблони далеко не падает…
А через день Шмая уже сидел в жарко натопленном вагоне, в гуще пассажиров, и веселил всех, рассказывая со всеми подробностями, куда он едет и зачем. В оживленных разговорах время шло незаметно.
Хотя в Ленинграде он был очень давно, в бурные дни семнадцатого года, город казался родным. Вот улицы и площади, где он с товарищами-солдатами патрулировал. Вот и дом, где была казарма. А вот сад, где их разоружили казаки…
Военное училище, где учился сын, было в Детском Селе.
– Вот так история! – рассмеялся кровельщик, дойдя до царского дворца и рассматривая мраморные фигуры, украсившие дворец, сад, покрытый снегом, озеро, скованное льдом. – Подумать только, сын Шаи Спивака живет и учится в царском дворце!
Через час Шмая уже стоял у ворот училища. Курсанты были на учениях. Шмая ждал.
Вдруг послышалась задорная солдатская песня. Вдали, на дороге, показалась колонна солдат. Замерли на деревьях дрозды. Насторожились на крыше черные вороны, притихли на карнизах голуби. Все, казалось, прислушивалось к приближающейся песне.
Кровельщик отошел в сторонку, всматриваясь в обветренные, возбужденные лица курсантов. Все они, казалось, похожи друг на друга. Все такие крепкие, стройные, подтянутые – любо смотреть.
Колонна остановилась возле раскрытых ворот. Послышалась команда, и ребята разошлись. Шмая всматривался в лица курсантов и никак не мог найти сына. Вдруг возле него остановился чернявый крепкий парнишка.
– Отец, отец, не надо плакать… Зачем? Неудобно, – смущенно говорил Спивак- младший.
Паренек высвободился из крепких рук отца. Кругом стояли товарищи.
– Чего же вы тут на улице стоите, заходите к нам, – пригласил пожилой полковник.
Два дня прошли как во сне. Только первые минуты Саша испытывал какую-то неловкость. Когда они вошли в помещёние и отец снял теплую тужурку, а на груди его засверкал боевой орден, сын просиял. Курсанты завидовали гостю – ещё бы, бывалый солдат, сам Михаил Васильевич Фрунзе наградил его орденом!
Вся школа провожала кровельщика на вокзал.
Недели через две после прибытия домой Шмая написал письмо:
«Милый, дорогой мой сын! Пишет тебе твой отец, желающий тебе счастья и благополучия, здоровья, от людей уважения, доброго отношения к тебе со стороны учителей и начальства! А во-вторых, прости меня, если письмо будет не таким уж складным, как у больших грамотеев. Ведь ты хорошо знаешь, что я рос при царе и никто тогда не думал о том, чтобы простой человек умел держать перо в руках. А грамоте я научился в окопах по солдатским газетам. Тогда-то у меня малость глаза раскрылись, и я стал понимать, что происходит на белом свете. Ты со своими товарищами рос у доброй матери – у советской власти, которая дала вам все и сказала: учитесь, ребята, будьте людьми! Вот и надо, чтобы вы учились и берегли нашу власть как зеницу ока, иначе появятся новые петлюры и врангели. И стрелять учись, потому что не миновать нам, видимо, снова браться за винтовку, чтобы в последний раз ударить по буржуазии и по Антанте, которая по ту сторону границы на нас зуб точит…
У нашего богатея Авром-Эзры амбары ломятся от всякого добра, в хлевах у него полно скота, а он, рыжий пес, прячет хлеб в земле, пшеница у них в погребах гниет, лишь бы государству не досталось!
Мы понимаем, что дальше так продолжаться не может. Заводы уже вырабатывают хорошие тракторы и машины, и я твердо знаю, что без колхоза нам не прожить. Предположим, дали мне трактор, – что мне одному с ним делать? Словом, мы разработали план – создать у себя артель и работать сообща, а кто будет работать лучше, тот и получит больше, и государство нам поможет.
Но ведь ты понимаешь, конечно, что Авром-Эзре Цейтлину нет никакого расчета иметь возле себя такого соседа – колхоз! Вот он и лезет из кожи вон и всякие пакости нам устраивает. Неделю назад эти бандиты напали на нашего председателя сельсовета Овруцкого. Приехал как-то уполномоченный получить с Авром-Эзры налог, так мерзавцы подожгли дом, в котором ночевал уполномоченный. Но кулаки чувствуют, что им приходит конец, потому что идут уже к нам в Херсонские степи тракторы и машины, и колхоз все-таки будет. Они обнаглели, начали резать скот, травить птицу, а на прошлой неделе у них нашли сгнивший в земле хлеб, которым можно было бы целый город прокормить. Задергалось кулачье, трясет его, как в лихорадке, чуют, гадюки, что спета их песенка.
Однако, дорогой сынок, не так-то легко все это нам достанется, придется ещё крепко потрудиться. Ну что ж, к этому мы привыкли. Будем надеяться, что все будет хорошо. На днях банда Авром-Эзры подбросила мне письмецо. Грозят поджечь дом, отравить телушку, переломать мне ноги и прочее, но пускай они гусей пугают, а я не из пугливых. Не от хорошей жизни приходится им посылать такие любовные письма…
Больше пока новостей нет. Правда, Рейзл начинает меня донимать. Ее напугали, боится, что артель отнимет у нее телушку, корыто, горшки и детей. Понимаешь теперь, на что способны наши кулаки со своими подпевалами. Какие слухи распускают. Однако ничего, с женой мы как-нибудь поладим. Будь здоров, дорогой сын, не забывай отца и передай самый горячий привет всем твоим товарищам, и начальнику. А летом обязательно приезжайте к нам в гости, на виноград. А если будут новости, я тут же напишу. Новости, думаю, скоро будут, потому что все у нас ходуном ходит. Так что не забывай, пиши Почаще.
С тем до свидания.
Твой отец».
НАСТУПИЛА ВЕСНА
Было уже не то время, когда можно ожидать новых метелей и заносов. Захочется иной раз небу пошалить, насыплет ещё немного рыхлого, мокрого снега, погудит ветром в трубе, но все это уже не зима, смех один. Солнце предвещало, что снег вот-вот растает, а ветер ел его поедом, целыми грудами проглатывал…
В колонии готовились к севу.
Больше всех был занят Овруцкий. После того как его избрали председателем колхоза, он не знал ни минуты покоя. Поздно вечером он постучал к Шмае и вошел в дом в сопровождении нескольких соседей. Рейзл сидела у печки и вязала детский чулок, она с удивлением посмотрела на поздних гостей, накинула на плечи теплую шаль и ещё быстрее принялась вязать, подозрительно поглядывая на соседей, о чем-то шептавшихся со Шмаей. Но когда Шмая начал торопливо одеваться, Рейзл вскочила с места и сердито проговорила:
– Что это за секреты? Банк, что ли, решили обокрасть? Я Шмаю никуда не Пущу!
– Он скоро вернется, – тихо сказал Овруцкий.
– Думаете, я не знаю, что вы идете выселять Авром-Эзру из деревни?
– А разве это секрет, Рейзл? Сход так решил!
– Делайте, что вам угодно, но Шмая не пойдет. Он ни во что вмешиваться не будет…
– Нехорошо, Рейзл, не пристало тебе так говорить, – сказал старик Гедалья, мягко касаясь руки Рейзл. – Разве мало горя причинил тебе Авром-Эзра? А ты забыла, как он проломил мне череп? Такого злодея жалеть не приходится…
– Как хотите, а Шмая не пойдет людей убивать!
– А кто говорит – убивать? – Гедалья рассердился. – Его просто выпроводят из колонии, чтобы он больше не мог нам портить все дело…
– С бандой Авром-Эзры лучше не затевать историй. Шмая, ты остаешься дома!
– Не кричи так, Рейзл, – муж попробовал успокоить ее, – Ты в самом деле за меня боишься или их жалеешь? Сама видишь – все село идет против него, против Авром-Эзры…
– А ты не пойдешь, говорю я тебе!
– Что ж, Шмая? – усмехнулся Овруцкий. – Может, и вправду останешься?
– Вот тебе раз! – Шмая начал натягивать полушубок. – Хорош бы я был, если бы в таких делах по бабьему приказу действовал. Про такие случаи и говорят: жену надо выслушать, а сделать наоборот…
Рейзл покраснела.
– Смотри, Шмая, как бы тебе не раскаяться, – сердито отвернулась Рейзл. На глаза ее навернулись слезы.
Лицо Шмаи болезненно передернулось. Стараясь улыбнуться, он проговорил:
– Рейзл, я до сегодняшнего дня считал тебя умницей…
Авром-Эзра стоял у дверей своего дома с фонарем в руке. Он так внимательно вглядывался в пришедших, словно старался запомнить каждого в отдельности.
Хорошо вы обходитесь с людьми, нечего сказать! Ничего, велик наш бог, он воздаст вам, голодранцам!
– Авром-Эзра, ведь вы же с господом богом трижды в день по душам разговариваете, почему же вы с ним раньше не советовались, когда всю колонию угнетали, когда сосали кровь из каждого колониста? – не выдержал Овруцкий.
Хацкель бегал по дому, не находя себе места, то и дело метал в сторону Шмаи озлобленные взгляды. Вдруг он остановился возле него и поднял руку к виску, будто отдавая честь-
– Ваше благородие, разбойник Шмая! Ну, теперь ты доволен? Отомстил мне? На, режь, хозяйничай в моем доме!
Шмая стоял у окна и притворился, будто не слышит.
– Знал бы я, что ты сделаешься таким врагом мне, я задушил бы тебя десять лет тому назад.
– Десять лет тому назад, ни ты ко мне, ни я к тебе особых претензий не имели, правда, и тогда становилось ясно, что ты за штучка,- спокойно ответил Шмая. – Десять лет назад ты был на человека похож. А кто же виноват, что кулакам продался? Имей претензии к себе самому, к глазам своим завидущим, к совести своей…
– Все ещё учить меня уму-разуму хочешь, Шмая? Уж ты меня научил. Ничего, мы с тобой ещё встретимся…
– Может, перестанешь меня пугать? – с озлоблением проговорил Шмая.
– Погоди, я ещё с тобой рассчитаюсь! И с того света вернусь, чтоб тебе отомстить…
– Чтоб соседи так обошлись с нами? – схватился за голову Авром-Эзра. – Разве мы не могли жить в мире?
– Послушайте, Авром-Эзра, – потеряв терпение, сказал Шмая. – Все это вы лучше изложите нам письменно. Одевайтесь, пожалуйста, поскорее и уезжайте. Вы знаете, даже муж с женой и то иной раз характером не сходятся, – как же нам с вами жить по-соседски? Садитесь, пожалуйста, на сани и – скатертью дорога!
Сани тронулись. Когда они скрылись из виду, народ стал расходиться по домам.
Возницы, Шмая и несколько колонистов, выпроводившие Авром-Эзру с семейкой, вернулись с санями только засветло, усталые, продрогшие, но довольные
Шагая по раскисшему снегу к дому. Шмая чувствовал, как нарастает его беспокойство. На дверях своего дома он увидал замок. Дверь никогда не запиралась. Что же случилось? Он осмотрелся вокруг: тропинка была занесена снегом. В углу на завалинке лежали ключи. Шмая отворил дверь, переступил порог. Чувствуя, что у него подкашиваются ноги, Шмая снял полушубок и присел на скамью.
Вошла соседка. Посмотрев с любопытством на Шмаю, она сочувственно проговорила:
– Знаете, сосед, ваша жена забрала с собою детей и телушку и ушла к своей тетке…
– Что ж, она меня бросила?
– А я знаю? Просила меня вам передать, что ноги ее больше здесь не будет…
– Ну, а развод она оставила по крайней мере? – вдруг рассмеялся Шмая.
Белесые брови соседки изумленно поползли вверх, толстые губы опустились.
– Смотри пожалуйста, а я думала ты хоть расстроишься, – проговорила она наконец.
– Что же делать? Повеситься? Придется поискать себе другую, помоложе. Как вы находите, могу я ещё понравиться нашим девушкам?
– Вот солдат! – покачала соседка головой, – Подите лучше помиритесь с вашей Рейзл.
– Но ведь вы же сами говорите, что она меня бросила. Такая уж, видно, судьба, – насмешливо сказал Шмая и начал насвистывать, словно вся эта история не имеет к нему никакого отношения.
Избавившись от соседки, Шмая долго ходил как неприкаянный по пустому дому. Он привык, чтобы в доме было шумно, чтобы бегали и кричали дети. Шмая места себе не находил в пустом доме.
Присев и оглядевшись, он заметил, что в доме, как обычно, чисто убрано, что все на своем месте. На печурке стоял приготовленный для него завтрак, на комоде лежала выглаженная рубаха. По лицу Шмаи скользнула улыбка.
Послышались шаги. Шмая кинулся открывать. Вошел Овруцкий и позвал его во двор Авром-Эзры, куда начали свозить колхозное имущество.
– А где Рейзл? Где дети? – спросил Овруцкий.
– Она меня бросила…
Овруцкий прислонил костыли к стенке, сел на скамью и рассмеялся,
– Хорош смех! Забрала детей, телушку и – будь здоров!
– Брось, пожалуйста, шутки шутить.
– Сам видишь, дом опустел, а я уже, слава богу, холостяк.
Овруцкий окинул взглядом недавно убранную комнату, вымытые полы, завтрак, стоявший на печурке, и улыбнулся.
– Я вижу, ты и без хозяйки не пропадешь.
– Думаешь, это я так ловко управился?
– А кто же убрал и покушать приготовил?
– Это Рейзл перед уходом все сделала.
– Ну, в таком случае ты скоро ее увидишь, – рассмеялся Овруцкий. – Женские фокусы, знаю я их. Пошли лучше.
Они отправились к новой колхозной базе, привольно раскинувшейся во дворе Авром-Эзры. Сюда уже привезли бороны и сеялки, стали чинить забор. Шмая скинул полушубок и начал тесать бревна.
Ребята, никогда не переступавшие порога дома Авром-Эзры, бегали по дому и двору, помогали старшим привести в порядок хозяйство. Шмая не мог глаз оторвать от детей, но своих он здесь не видел. Он сунул топор за пояс и пошел за досками. Несколько человек позже остальных притащили свои бороны и плуги. Шмая посмотрел на это добро и с улыбкой сказал:
– Ну и плуги вы притащили в артель! Из какого музея вы их выцарапали? Такими плугами, мне кажется, работали ещё при Александре Македонском. Да их давно бы надо было сдать в металлолом на перековку. И это драгоценное имущество вы боялись внести в общее дело?
Он хотел было ещё что-то сказать, но увидел жену, празднично одетую. Делая вид, что он ее не замечает, Шмая поднял с земли доску и начал работать.
Рейзл постояла поодаль, посматривая на него. Потом подошла к снежному сугробу, подняла полушубок мужа и набросила ему на плечи:
– Ты что, простудиться хочешь? – с укоризной сказала она. – Этого ещё не хватало…
– Ты в самом деле боишься, что я простужусь? Из дому ты ушла, вот и иди к своей тетке и учи ее уму-разуму…
– Чего ты сердишься? Может, ты прав? Разве можно с женой не считаться…
– Послушай, Рейзл… – с волнением начал он, – ты меня перед всеми товарищами осрамила. И за что? Выслали из поселка таких душегубов, а ты их жалеешь? Сколько слез ты из-за них пролила! Дышать теперь стало легче. Можно не бояться, что кто- нибудь бросится на тебя из-за угла.
Она молчала, не знала что ответить.
Шмая махнул рукой, будто разрубил узел.
– Вот что… Я люблю шутить, но не в серьезном деле. Десять лет живем вместе и, кажется, не ругались никогда. Давай договоримся – таких историй больше не должно быть. Я этого не люблю. Запомни!
Она смотрела на его сосредоточенное лицо, на котором выступили крупные капли пота.
– Иди домой… Поешь…
– Ничего, не умру, – прервал он ее. – Зачем ты так нарядилась, ведь все вышли на работу. Ты разве забыла, как батрачила у Цейтлиных? А сегодня надо работать в артели, на самих себя… Иди переоденься и помоги людям вымести мусор, что остался после твоих милых благодетелей, которых ты так жалела…
– Да что ты прицепился! Я их разве жалела? Пусть они горят! – в сердцах сказала она.
– Ах, вот! Это совсем другое дело, а то я уже думал, что нам с тобой придется всерьез поссориться…
СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
– Бес его ведает, кто и для чего выдумал этих женщин, – добродушно усмехаясь в усы, говорит разбойник Шмая, сидя на высоких стропилах и прилаживая один лист жести к другому. – Какое терпение надо иметь, чтобы с ними ладить, с этими женщинами! И как он жив остался, этот несчастный турецкий султан, имевший около трехсот жен? Или бедняга Соломон, у которого было всего-навсего семьсот жен и триста наложниц! Шутка ли, эдакая орава!
А ведь у каждой, поди, свой характер был и свои капризы.
У меня одна-единственная супруга, и то я порою не знаю, куда деваться.
Ох, и трудно же ладить с ними! Но что правда, то правда – без них было бы нам совсем худо.
Вот поглядите, примчалась моя жена с криком и скандалом и приказывает, будто она надо мной начальник: собирай, мол, свою бригаду строителей и давай на виноградную плантацию, надо помочь виноград собрать.
Попробуй отбояриться – тебе ещё от нее влетит. Вы теперь не узнаете мою Рейзл. Вот уже несколько лет, как она командует бригадой виноградарей, и с того времени я потерял покой.
Вот и сегодня она примчалась как на пожар.
«Давай быстрее на плантацию!»
А я что же, сижу тут на раскаленной от солнца крыше и играюсь? Мне, может, приятнее было бы ходить между пышными кустами винограда и срезать ножницами сочные гроздья, чем париться под палящим солнцем, но ведь у меня тоже план. А жинка ничего этого знать не хочет.
«Помогайте убирать виноград, свой план выполняйте в срок!»
И ее девчата кричат во весь голос:
«Гей, тяжелая индустрия, давайте сюда! Вот корзины и ножницы, идите к нам на помощь!»
И ничего не поделаешь, приходится на время отложить инструмент, слезть с крыши.
«Тяжелая индустрия»…
Было время, когда он один ходил по хозяйству с молотком, топором, пилой. Тут починит крышу, а там поставит новый забор, наладит электропилу, проложит водопроводные трубы на виноградную плантацию…
Хотя людей в артели не хватало, но председатель Овруцкий выделил ему несколько крепких ребят и сказал:
– Ну, Шмая, дорогой, хватит тебе кустарничать, вот тебе будет строительная бригада, и действуй. Теперь ты у нас в артели, брат, тяжелая индустрия…
С тех пор пошло по поселку – «тяжелая индустрия». Но это пустяки по сравнению с тем, что его назначили бригадиром.
– Не люблю быть начальником, – заявил Шмая, – всю жизнь я был простым солдатом, самое большее – ефрейтором. Буду работать, а начальником назначайте другого.
– Э, дорогой, так не пойдет! – сказал Овруцкий, – что ж это, зря, думаешь, мы тебя посылали на курсы? Ты у нас член правления артели… Нет, милый, так не пойдет. А теперь знаешь, сколько будем строить? Вот так-то, тяжелая индустрия…
От Ингульца село Тихая Балка террасами взбегает к виноградникам. Прошло уже несколько лет с тех пор, как начала действовать строительная бригада Шмаи. Вдоль реки выстроились новые дома под железными крышами. В прошлом году закончили строить клуб. Правда, не очень большой, но зато уютный, аккуратный. Перестроили ферму, конюшни, контору артели. А теперь заканчивают ещё одно здание. Установят электромоторы, конвейер, прессы – и прямо с плантации виноград придет сюда на переработку. Скоро зашумит в огромных чанах и бочках доброе вино…
Были времена, когда на нашего кровельщика некоторые смотрели как на приблудную птицу. «Прибился человек к чужому берегу и живет себе, как приймак, трудится, правда, но это не настоящий мужик, – говорили некоторые соседи, – не потомственный он колонист и виноградарь, что с него возьмешь. Правда, он строит, чинит». И это оскорбляло кровельщика до глубины души.
Но это говорили давно. Теперь каждый знает – как хорошо, что в артели есть преданный человек, мастеровой!
– Открой нам секрет, – часто спрашивали Шмаю,- как ты умудряешься не стареть?
– Наверно, порода такая… – озорно улыбается кровельщик, – но есть и посерьезнее причина. Я сбросил пару десятков тяжелых лет. И начал считать свои годы с того часа, когда пришла советская власть. Ведь когда все время занят, работаешь, не бьешь баклуши, пользуешься у людей уважением и видишь, что приносишь людям пользу, у тебя нет времени думать о старости. Вот и весь секрет молодости.
Солнце уже садилось, озаряя багрянцем прозрачные воды Ингульца, когда закончилась работа на винограднике. Шмая в окружении гурьбы девчат и парней возвращался в поселок. Сегодня Шмае напомнили о его возрасте, и он расстроился. В самом деле, шутки шутками, а время быстро пролетело. И чего они так торопятся, эти годы, куда спешат? Начинается такая жизнь, что хочется сбросить со счета пару десятков лет.
Хочется быть в самом деле молодым и крепким!
Тихая Балка. Какая же она теперь тихая? Жизнь теперь бурлит.
Но это только начало. Впереди много дел.
Только бы тихо было на свете. Только бы дали жить, работать, строить, выращивать виноград…
Но все чаще на душе становилось тревожно. И откуда она бралась, эта тревога? Может, оттого, что сын, приезжавший к нему недавно в гости, много говорил о частых боевых тревогах на границе?
Но в эти подробности не хотелось вникать. Шмая был поглощен новыми планами.
Скоро уже полвека, как живет на свете Шая Спивак. Годы, ну зачем они так спешат? Как хочется быть молодым!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПРОЩАЙ, ДОМ!
Счастье, говорят, вещь деликатная, хитрая. Залетит к тебе, улыбнется, подмигнет, даже в дом войдет, но только тебе захочется его в руки взять – оно замудрит и улетучится – ищи, мол, ветра в поле!
И хотя Шмая порядком натерпелся на своем веку, он к своей участи претензий не имел. Не имел до лета тысяча девятьсот сорок первого года, когда в веселый воскресный рассвет стало известно, что честная трудовая жизнь простых советских людей не дает покоя новым волкам – гитлеровцам. Снова война!
«Если бы врачи повытаскивали у старых солдат все застрявшие в них осколки, из этого железа можно было бы, пожалуй, построить большой мост; если бы собрать в одно место все слезы, пролитые матерями, невестами и детьми во время всех войн, разлилось бы большое море. И если бы люди с того моста заглянули в глубь этого моря,- думает Шмая, – они давно бы объединились и задушили фашистов, которые наживаются на горе, на крови миллионов».
Тебя ведь война не касается, – говорили ему соседи. – Ты уже свое отслужил, постарел, теперь на войну пойдут те, что помоложе…
Чудаки! Старый солдат подобен доброму кавалерийскому коню: тот, как услышит сигнал горниста, на месте устоять не может! А кроме того, кто это вправе скинуть меня со счетов? Какой же я старый? Может, на неделю старше тех, что идут на фронт? Зато я умею кое-что делать, недаром в двух войнах участвовал!
После полудня к сельсовету прискакал всадник из района и привез пачку повесток. Но солдаты запаса и молодые призывники уже с утра готовились в путь-дорогу. Женщины шили сыновьям солдатские мешки. Шмая ходил из дома в дом, следил за тем, как снаряжают в дорогу хлопцев. Шмая знает, что нужно брать с собой. К его словам прислушиваются.
Рейзл шила три мешка для старших своих ребят. Глаза у нее были заплаканы. Она не подняла глаз. У Шмаи екнуло сердце: может быть, она вспомнила, как провожала на фронт Иосифа Корсунского, как ждала его и не дождалась? Кровельщик тихо вышел из дому и снова пошел бродить по улицам. Сейчас, когда привезли повестки, в поселке сразу почувствовалось тяжелое дыхание войны: уходили лучшие парни. Седлали лошадей, готовили грузовики, чистили и украшали подводы, на которых ребят отвезут в район, на сборный пункт…
Шмая снова вернулся домой. Он прислушался к разговору сыновей с матерью, когда та укладывала их вещи: этого не надо, того они не хотят… Шмая присматривался к плечистым молодым людям, выросшим у него на глазах, и понимал их страх перед первым выездом из материнского дома. Шмая хорошо помнил день, когда он сюда приехал и встретил двух пастушков, гнавших стадо с выгона. А теперь? Они уходят, чтобы стать солдатами. А за домом их дожидаются девушки-невесты. Молодежь на улице шумит, смеется, старается быть веселой…
Шмая не знал, куда девать себя. Походил по комнате, надел новый пиджак, прикрутил к лацкану свой орден, хорошенько начистил его и снова пошел по деревне. Пастухи, не дожидаясь вечера, пригнали стадо.
Коровы, сытые и величественные, сгрудились у колодца и подняли рев, требуя, чтобы их напоили, но сегодня никто не выходил налить воду в корыта… Шмая проходил мимо людей, стоявших на площади и слушавших радио. Он не останавливался. Стоял прекрасный летний день. Жара уже начала спадать. Ребятишки как ни в чем не бывало плескались в речке. На каменных заборчиках вокруг домов и на завалинках, в тени садов прощались парочки. Шмае вдруг стало тесно в деревне, он пошел в поле по узкой тропинке, змеившейся между высоких хлебов. Над головой, как всегда, щебетали птицы. Налетал легкий ветерок, шевелил волной колосья. Шмая думал о старшем сыне Саше, который служит где-то на самой границе и сейчас, наверное, уже на передовой… Жив ли он ещё? Что с ним? Шмая шел медленно, не торопясь, углубившись в свои мысли, и не заметил, как тропа привела его на виноградник. На солнце красовались сизые гроздья – они только начинали наливаться соком. Всегда в эту пору здесь бывало так шумно, слышались песни женщин и девушек, но сейчас все замолкло, нигде – ни души.
Усталый и опустошенный, вернулся Шмая домой. Сыновья были уже готовы отправиться в путь. Шмая решительно прошел в комнату, надел старую солдатскую форму, подпоясался широким ремнем, вытряхнул пыль из полинявшего солдатского рюкзака, с которым прошел тысячи верст, и стал засовывать в него пару белья, полотенце, кружку…
– Куда это ты собираешься? – испуганно спросила Рейзл.
– Куда все собираются, туда и я,- ответил он, не поднимая возбужденных глаз.
– А все-таки, куда? – подошла она ближе.- Куда, я спрашиваю?
– На фронт…
– Совсем человек рехнулся, прости господи! Тебя кто же туда посылает?
– Совесть… – ответил кровельщик после долгого молчания. Он отвинтил от пиджака свой орден и отдал ей. – На, Рейзл, пусть это останется дома. Спрячь. Вдруг со мной что-нибудь стрясется. Пусть малыши наши видят, что отец их не сидел сложа руки, когда люди дрались за советскую власть…
В доме стало совсем тихо. Рейзл беспомощно опустила руки. Она не пыталась переубеждать его.
В напряженной тишине Шмая отошел от дверей, молча со всеми расцеловался и вышел из дому.
На площади возле сельсовета было уже полно народу. Дети прыгали вокруг лошадей, вертелись около телег. В гривы лошадей девчата вплели ленты, телеги накрыты украинскими ковриками, деревенские музыканты играли на своих инструментах, но это был уже не тот оркестр, что славился на всю округу, да и игра, кажется, была не та. Не слыхать было барабанщика Азрилика и флейтиста Симона, не играл Гуральник на своей скрипке и Саня Гринберг на тромбоне – все они прощались с родными. Музыканты играли марши и веселые песни, но веселее от этого не становилось.
Люди разговаривали тихо, будто ожидая чего-то. Но вот увидали Шмаю в полном солдатском снаряжении и сразу замолкли.
– Смотрите-ка, Шмая! Чего это он вырядился? – нарушил тишину кузнец Кива.
– На фронт! – ответил кровельщик, разыскивая глазами своих парней.
– А помоложе тебя нет никого, что ли? Ведь ты уже в летах…
– Думаете, на одних молодых свет держится? Молодых ещё учить надо, а я уже солдат готовый. И кто не знает, что за одного битого трех небитых дают…
Женщины просили Шмаю, чтобы он там, на войне, присмотрел за их детьми, помог им в трудную минуту, солдатики-то ведь ещё зеленые, мало что знают. Шмая согласно кивал головой, не желая разочаровывать женщин. Пускай себе думают, что все они, как уйдут из деревни, так и останутся вместе. Но все-таки не выдержал!
– Знаете что, соседи, назначьте меня генералом, а дивизию создадим из наших ребят…
Люди посмеялись, но женщины смотрели на Шмаю с любопытством и завистью: ему, пожалуй, на войне будет легче, чем молодым, уж он пороху понюхал на своем веку.
Рейзл стояла в стороне, смотрела на своего мужа, на женщин, тесно его окруживших, и только сейчас поняла, что он не шутит, что он расстается с ней и… кто знает, вдруг – навсегда. Та война отняла у нее первого мужа, а сейчас уходят сыновья и Шмая. Может быть, попробовать удержать его? Он, правда, шутит и притворяется веселым, но она-то знает, что все это напускное. Она на минутку забыла о сыновьях, сейчас она думала только о нем, о верном, чутком друге. Рейзл тихо проговорила:
– Одумайся, Шмая, что ты делаешь? Разве мало в нашей стране молодых солдат?
– Я давно все обдумал.
– Сколько горя ты уже перенес!
– Ничего, Рейзл, на войне все залечится, там все горести забываются.
На глаза навертывались слезы, она вытирала их углом головного платка, но слезы не унимались.
Рейзл шла рядом с мужем, старалась не отставать от него. В стороне бежали их младшие дети. Рейзл почувствовала страшную тяжесть: сыновья заняты своими девушками, Шмая шагает тяжелым солдатским шагом и смотрит в сторону, словно ждет с нетерпением, как бы скорее распрощаться.
Подводы остановились на мосту. Наступила минута прощания. Люди оглядывались на свои дом, казавшийся в эту минуту ещё милее, ещё дороже и роднее…
– Перестань, Рейзл, зачем плакать? Попрощайся с детьми, пожелай им счастья…
– Ну, ребята, – повеселев, обратился Шмая к уезжающим, – время не ждет! Давайте закругляться! А ну-ка, невесты, покажите, как вы любите своих женихов, расцелуйтесь и пожелайте им счастливого пути… Не тужить! Ещё погуляем на свадьбах, вернемся домой!…
И через несколько минут подводы вытянулись по старому тракту, по которому колонисты уже не раз уходили на войну. Провожающие остались на месте и долго ещё махали руками, платочками и фуражками.
– Счастливого пути!
– Скорого возвращения!
– С победой!
Настал вечер, прекрасный летний вечер в притихшем поселке на Ингульце. Но никто его не замечал, и никому сейчас не нужна была его красота. Молодые солдаты в последний раз оглянулись на родные места, на близких своих и любимых. Нигде ещё огня не зажигали. Подводы шли, монотонно поскрипывая, в гору. Ребята уже сидели на подводах, и только Шмая шел, погруженный в свои мысли.
– О чем вы задумались, Шмая?
– Думаю по прибытии в полк обратиться к начальству с просьбой снять с меня старое звание – ефрейтора.
– А зачем?
– Очень уж досадно: этот бешеный пес, Гитлер, тоже, кажется, ефрейтор. Он испакостил такое славное звание… Провалиться бы ему сквозь землю!
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
На следующий день Шая Спивак благополучно вернулся домой. Он старался пройти незамеченным. Лицо его горело от стыда. Он шагал понурив голову, и солдатский его мешок уныло болтался за плечом. Не успел он свернуть в свой переулок, как навстречу попалась соседка, подняла шум, и со всех сторон стали сбегаться люди.
Что случилось, Шмая? – удивленно спрашивали соседи. – Может быть, уже кончилась война?
Шмая махнул рукой, чтобы его оставили в покое. Но люди хотели знать, что стряслось. Пришлось подчиниться. В районе его выслушали и попросили вернуться домой и приняться за прежнюю работу. На фронт, сказали они, его послать не могут, так как год его не подлежит мобилизации. Все очень хорошо понимают его патриотические чувства, но пусть он лучше поработает у себя в колхозе…
– Эх, Шмая, кто красив, а я умен… – сказал кузнец Кива.
– А что?
– Ведь тебе говорили, что человека, которому под пятьдесят, на фронт не бе- рут…
– Счастливая твоя Рейзл, ты снова дома…
– Братцы! Вы долго ещё будете меня донимать? – сказал Шмая.
Он закурил и стал таким, как всегда.
Кто-то побежал на виноградник сообщить Рейзл добрую весть. Она примчалась запыхавшаяся, постояла минутку в растерянности, потом растолкала народ, велела Шмае идти в дом, а сама побежала к колодцу за водой.
– А ну-ка, умойся и отдохни. Хватит, побыл в солдатах…
Утром, едва забрезжил рассвет, Шмая пошел на площадь к сельсовету. Там установлен громкоговоритель. На площади в ожидании передачи собралось много народу. Минуты ожидания казались часами. Каждый из этих людей имел отношение к войне: кто отдал сына, кто отца, брата, родственника. Радио никого не успокоило. Оно принесло сообщения об ожесточенных боях, о фашистских танковых колоннах, об оставленных и сожженных городах. Шмая проходил через эти города много лет назад, в первую мировую войну. Эти горестные вести камнем ложились на сердце. Люди стояли на площади озабоченные, разгневанные, смотрели друг на друга и никак не могли понять, что случилось, почему наши войска отступают, почему отдают города и села.
Шли дни и недели.
В один из вечеров в конце июля в колхозе стало тревожно. По широкому тракту, поднимая к небу клубы пыли, тянулись бесконечные обозы. За возами шли городские и сельские жители – пожилые мужчины, женщины, дети. Гнали табуны лошадей, стада коров, отары овец.
Колхозники расспрашивали беженцев. Безостановочно тянулись длиннейшие караваны с юга – в глубь страны, везли с собою все, что можно было спасти.
Шмая стоял у своего двора, с болью смотрел на возы, на людей. Не хотелось верить, что и им предстоит то же… Нет, до этого не дойдет! Как это бросить виноградник, хозяйство, лошадей, коров… Не может быть, чтобы немец сюда добрался… Соседи заговорили:
– Что же это будет, Шмая?
– Почему не остановят злодея?
– Что же это, погибели на него не будет, на Гитлера, что ли?
– Почему ему отдают столько городов?
Шмая не знал, что отвечать. Он притворился рассерженным:
– Скажите пожалуйста, какие все стали знатоки! Стало быть, есть у нас план…
– Какой же это план, если мы отступаем? – сказала одна из женщин таким тоном, словно Шмая был виновен в возникновении войны.
– Пока, конечно, горько, – возразил Шмая. – Но Гитлер все равно свернет себе шею. Он быстро двигается, но вы ещё увидите, как он назад бежать будет… Война- это стратегия! – закончил Шмая.
– А что это такое – стратегия? – спросила пожилая женщина. – Расскажи, Шмая, ты ведь старый солдат! Весь свет исходил…
По правде говоря, Шмая и сам не совсем хорошо понимал, как объяснить это слово. Он сдвинул шапку на затылок, потер лоб, будто вспоминал что-то.
– Ну, Шмая, скажи что-нибудь, не тяни ты за душу!
– Стратегия? – переспросил Шмая. – Как вам это объяснить… Стратегия – вещь деликатная… Стратегия, насколько я могу понять, это сила и мудрость страны. А коли так, то клянусь вам, что Гитлер кончит плохо!
Старый кузнец кивнул головой и добавил:
– Шмая прав, честное слово! Уж если в старой России все враги себе шею ломали, то какая же гибель ждет этого злодея в Советском государстве!
Шмая сидел в большой комнате сельсовета и дремал. Была уже полночь. Как депутат Совета, он должен был дежурить до утра у телефона.
Тракт неожиданно опустел. Цепь подвод вдруг оборвалась. Колхозники не могли понять, что это означает. Может быть, врага остановили где-нибудь на Днепре? Может быть, и не придется покидать родной дом? Фашисты наверняка потерпели поражение на Днепре. Не пустят их сюда, хоть лопни!
Шмая задремал, и снится ему, что на высокой горе стоят орудия достающие своими жерлами чуть ли не до облаков. Перед глазами – бескрайняя степь. Гитлеровцы носятся по степи, как затравленные, а пушки бьют беспощадно, снаряды перепахивают землю и фашистов…
Но тут раздался звонок по телефону, и Шмая вскочил. Телефон звонил сердито и угрожающе.
Звонили из района. Нужно было немедленно поднять на ноги весь колхоз, запрягать лошадей, взять все, что можно эвакуировать, а остальное уничтожить, сжечь, ничего не оставляя врагу! Понятно?
Понятно… Шмая слушал приказ секретаря, и сердце у него разрывалось от горя. Голова кружилась. В горле комом стояли слезы.
Над головой простиралось синее звездное небо, далеко на реке квакали лягушки… Теперь ему предстоит пройти по колхозу и сообщить приказ. Как у него язык повернется сказать, чтобы люди покинули дом, подожгли мельницу и амбары, разрушили электростанцию…
Подошел к дереву, на котором висел кусок рельса – в него звонят, когда созывают на работу или на пожар. Шмая схватил кусок железа и хотел было начать звонить, но тут же спохватился. Зачем пугать маленьких детей и женщин? Секунду он стоял в нерешительности, потом направился к дому Оврудкого. Осторожно постучал в окно…
Вскоре весь колхоз был уже на ногах. Люди готовились в дальний путь. На улице было шумно, дети и женщины плакали.
Шмая готовил телегу для жены и детей. Он делал свое дело молча, не говоря ни слова и не глядя в ту сторону, где Рейзл, вся в слезах, упаковывала какой-то скарб. Вдруг точно гром обрушился на поселок, в доме сразу стало темно. Дети закричали, Рейзл схватила Шмаю за руку:
– Шмая, возьми детей, бежим!…
– Спокойнее, Рейзл! Это работа Овруцкого… Взорвали электростанцию.
Остались считанные часы. Надо отправляться в путь-дорогу… Почему его не взяли в армию? Не пустили на фронт? Неужели и вправду сюда придут фашисты? Будут валяться в кованых своих сапожищах на его кровати, будут пить его вино, жрать его хлеб?! Куда люди бегут? Надо взять в руки топоры, ломы, оглобли и встретить врага по ту сторону деревни!
Он взглянул на Рейзл и вспомнил, что все молодые мужчины ушли на фронт. Кто тут остался, прости господи… Дети, женщины, старики. Шмая поднялся с места, ему было досадно, что в такое время он оставил. Ов- руцкого одного и возится у себя дома. Сказав Рейзл, что сейчас вернется, он быстро пошел по улице.
Резкий запах носился в воздухе. По канавам текли ручьи красного вина, вылитого из погребов. Шмая шел, избегая встречи с людьми. Овруцкий ходил вдоль подвод, проверял, хорошо ли уложены вещи, как устроены дети, женщины, спрашивал у пастухов, сосчитано ли стадо…
– Перестаньте плакать! Мы скоро вернемся, – пытался он успокоить женщин.
– А, Шмая… Хорошо, что ты пришел. Нам приказано спасти людей и вывести стадо. Тебя правление назначило старшим, ты отвечаешь за эвакуацию скота, это государственное дело, государственное, понимаешь?
– Государственное? – поднял глаза Шмая.
Шмая пошел к большому стаду. Пастухи окружили его.
– Дядя Спивак, вы теперь наш начальник.
– Что поделаешь… – ответил Шмая, принимая бич. – Кем я только на своем веку не был! Теперь стал пастухом. Ну что ж, пошли, ребята!
Через несколько минут подводы двинулись в путь. За ними шло колхозное стадо. Шмая тяжело шагал, понурив голову, не оглядываясь. Позади осталось любимое село, дом, в котором он прожил чуть больше двадцати лет…
День за днем тянулся обоз. Останавливались, только чтобы напоить лошадей, подоить коров, и тут же двигались дальше.
Однажды послышался дальний грохот. Он приближался, как мощная волна. Самолеты… Земля дрогнула. Доносились глухие взрывы, и огромные клубы дыма и огня взмыли кверху.
Шмая попытался успокоить людей:
– Разве станут они бросать бомбы на женщин и детей? на скот? Не может этого быть!
– Ну конечно, Шмая, они тебя постесняются! – кричала Рейзл, подгоняя лошадей.
– Сгореть бы этим бандитам! Смотрите, они село подожгли!
Самолеты повернули к полю, спускаясь все ниже и ниже. Люди с детьми на руках побежали в поле, легли, заслоняя глаза, чтобы не видеть летающих хищников, затыкая уши, чтоб не слышать зловещёго рокота.
Шмая стоял посреди тракта и смотрел на разбегающихся людей, на перепуганное стадо. Коровы подняли страшный рев, лошади рвались из оглобель. Шмая стал загонять стадо в пшеницу, когда над головой, точно закипев, дико рассвистелся воздух и рядом начали подниматься столбы земли. Шмая упал, закрыл глаза. Когда через несколько минут он пришел в себя, немецкие летчики обстреливали из пулеметов людей и стадо.
…Остаток дня и всю ночь обоз без остановки шел по тракту. С возов и арб доносились стоны раненых и обессилевших людей…
А до большого города, где стояли эшелоны, все ещё было далеко.
Овруцкий сел в двуколку и погнал лошадь к ближайшей маленькой станции. Через час он вернулся повеселевший: на станции грузится эшелон и рабочие местного механического завода, собиравшиеся эвакуироваться, возьмут с собой колхозников.
– Торопитесь, братцы, – кричал председатель, – последний поезд скоро уйдет!
Шмая подошел к возу, обнял детей и, взяв жену за руку, сказал:
– Ну, Рейзл, гони на станцию… Не отставай смотри. Жаль девочек… Езжай, а я пойду со стадом. Скоро увидимся.
– Горько, Шмая!
– Перестань, Рейзл! Врагам нашим будет горько. Уж если фашисты воюют с женщинами и детьми, не миновать им гибели…
Он хотел сказать ещё что-то, но конь рванулся за обозом.
– Счастливого пути! Держись молодцом, Рейзл! – кричал Шмая.
Когда пастухи со стадом подошли к станции, они увидели вдалеке облачко дыма – эшелон скрылся в предвечернем тумане.
– Ну, лишь бы наши жены и дети были спасены. Теперь нам будет малость полегче, – проговорил Шмая. – Слышь, ребята! Мы должны вывести наш скот. Это дело государственное!
Они погнали стадо по опустевшему тракту на восток, в ту сторону, куда недавно ушел поезд.
БЕДА НА ДОРОГАХ
Пастухи уже не сердились на коров, когда те начинали замедлять шаг. Шмая и Данила Лукич, колхозник соседней украинской артели, гнавший свое стадо и присоединившийся к Шмае – в пути, смертельно устали и еле передвигали ноги. Они уже привыкли к бомбардировщикам с огромными свастиками на крыльях, которые проносились над головой и сбрасывали бомбы на дороги и деревни. По ночам, когда устраивались в поле на ночлег, слышно было, как гудит земля. Со всех сторон видны были огни больших пожаров; казалось, вся земля охвачена пламенем и пламя вместе с нескончаемым потоком людей, табунов, возов и машин несется туда, на восток…
Был уже полдень, когда дошли до перекрестка. По донецкому тракту тащились запыленные санитарные машины с ранеными солдатами.
Доярка Шифра Зильбер, стройная девушка с длинными косами, поила раненых молоком. Когда большая колонна скрылась из виду, она вернулась к стаду и расплакалась.
– Чего же ты плачешь, санитарочка моя? – обнял ее Шмая. – А ещё хотела на фронт…
Девушка молчала. Она стояла, прислонившись к повозке, и не могла унять слез. Среди раненых она искала своих товарищей. Столько парней ушло из деревни на фронт, и кто знает, что с ними! Там где-то и брат ее и жених. Может быть, и они мучаются от боли и замирают, когда машина подскакивает на взгорке, на камне…
Командир подъехал и спросил, кто над стадом старший. Потом приказал скорее свернуть на боковую дорогу – по тракту идти нельзя. Он не объяснил, что случилось, но Шмая и все, кто были с ним, поняли, что враг близко.
В стороне от дороги стадо улеглось на отдых. Шмая и Данила разложили костер, Азриель притащил откуда то ведро картошки, и все уселись вокруг огня. Пламя костра отсвечивало в глазах Шифры. Раньше Шмая не замечал, что девушка так хороша. В степи, под хмурым небом, с которого не переставая сыпал противный мелкий дождь, эта девушка казалась ему дочерью. Родными стали долговязый Азриель и смуглый, заросший Данила.
Шифра достала из горячей золы печеную картошку, вынула из кармана немного влажной соли, и все принялись за еду. В густой темноте проносились тяжелые бомбардировщики. Город, расположенный в нескольких километрах отсюда, горел. Низко над землей пролетали бомбардировщики – в обратный путь, а туда, к городу, летели все новые и новые стаи тяжелых немецких самолетов.
Шмая с пригорка смотрел на горевший город – туда лежал их путь, и не знал, что делать, куда идти. В нескольких направлениях тяжело и стремительно неслись огромные машины. С тракта доносилась частая стрельба. «Фашисты», – мелькнула мысль. Шмая сделал над собой усилие, спустился к костру. Шифра схватила его за руку, прижалась к нему, дрожа всем телом.
– Бежим! Скорее! Фашисты… немцы…
– Куда теперь побежишь, дочка? Возьми себя в руки, не плачь! Пусть враг не видит наших слез. Ничего…
Он потушил костер. Но было поздно. Подпрыгивая на ухабистой дороге, сюда неслись два мотоцикла. Два фашистских солдата в зеленых мундирах мчались сюда, к костру, к стаду.
– Ну, ребята, сейчас, кажется, будет весело… – вырвалось у Шмаи.
Судя по тому, как обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель ехал на своем мотоцикле, сразу можно было заключить, что он не был знаменитым мотоциклистом. К тому же и он и его спутник были основательно под градусом.
Мотоцикл швыряло из стороны в сторону, а ефрейтор проклинал русский дождь, грязь и дороги…
До стада он так и не доехал. Шагах в пятидесяти оба немца двинулись пешком, не выпуская из рук автоматов.
Через несколько минут к пастухам подошел длинный, костлявый немец с очками на носу. Он стоял, широко расставив ноги, и чувствовал себя так, словно был по крайней мере фельдмаршалом, а не простым обер-ефрейтором хозяйственной команды, получившим приказ захватить стада, которые гонят на восток.
Обер постоял минутку и вдруг раскричался. Почему эти русские «швайны» не встают, когда перед ними стоит чистокровный ариец, победитель?! Обер был вне себя. Он схватил автомат. Пастухи поднялись.
Вначале, когда Шмая встретился с мертвым глазком автомата, у него внутри что-то оборвалось. Его охватило странное безразличие ко всему окружающему: «У тебя, обер, оружие. Что я могу поделать голыми руками?» Но так просто уходить из жизни нет смысла! И, поправив шапку на голове, он сказал:
Мы, ваше благородие, не солдаты, мы не знаем, как надо стоять перед начальством…
Обер Вильгельм Шиндель передразнил Шмаю и показал ему язык. Потом он перевел пьяные глаза на Лукича и крикнул:
– Юде?!
Данила посмотрел на немца, на Шмаю, но так и не понял, чего от него хотят. За него ответил Шмая:
– Нет, пан, он не юде. Хотя у нас в стране это давно уже не так важно. Все равны… Но Данила не еврей.
– Врешь! Все евреи носят такие бородки, как у него.
Шмая вспотел, покуда разъяснил оберу, что евреев здесь нет и что его приятель Данила Лукич не принадлежит к еврейскому народу. А что касается бороды, то он уже давно в пути и ему некогда ходить к парикмахеру. К тому же у самого обера точно такая же бородка клинышком…
Шифра стояла возле Шмаи и с ужасом следила за обером и солдатом, который рылся в вещах.
– Капут! Капут! – прокричал обер-ефрейтор и расхохотался. Глядя на него, рассмеялся и солдат. Обер строго спросил у пастухов, куда они гонят скот. – Нах Волга? Нах Волга?
– Никак нет! – ответил Шмая.- Мы их здесь пасем.
– Цурюк! Цурюк! Нах Дойчланд… Нах Дойчланд! – брызгал слюной обер. – Почему стоите? Быстро, быстро обратно, в Германию… Понял?
Шмая покачал головой: нет, он ничего не понял, он не хозяин этого стада.
– Ферфлюхте швайне! – обер ткнул Шмаю кулаком в бок. – Чего он не понимает? Хозяином стада является теперь обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель! Он – уполномоченный Третьего райха, хозяйственной команды и германской армии! Он прикажет все вывезти в Германию! Понятно?
Шмая развел руками и наморщил лоб:
– Я простой пастух, мне дан приказ выгнать скот в тыл, и я должен выполнить этот приказ…
Обер рассвирепел и начал бить Шмаю по голове, по лицу.
Шмая упал. Обер целился в него. Подбежал Азриель и нагнулся над Шмаей, чтобы заслонить его своим телом. Обер выстрелил ему в спину. Азриель упал как подкошенный.
– Зо, зо, ферфлюхте швайне! Теперь небось понятно, что обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель – хозяин России, что его надо слушаться! Все – капут! Украина – капут! Москва – капут! Ленинград – капут! Руссланд и большевик – капут! Шнель, шнель нах Дойчланд!
Шмая с трудом поднялся. Он не слыхал, что кричит обер, он в бешенстве смотрел на его кривляния, чувствуя себя беспомощным, беззащитным перед этими вооруженными бандитами.
– Ну что же! – кричал обер как одержимый, – Погонят они наконец стадо в Германию?
Шмая кивнул утвердительно. Да, погонят. А сам подошел к Даниле:
– Крепись, Данила, возьми себя в руки, а то они тебя пристрелят…
– Пускай уж лучше пристрелят…
– Что ты говоришь? – тихо проговорил Шмая, остановив свой взгляд на мертвом Азриеле. Слезы душили его, но плакать он не мог.
– Пошли, пошли! – бормотал обер.
Пастухи повернули стадо обратно.
Шмая на минуту задержался у остывшего тела Азриеля.
– Пан, а пан, – обратился он к обер- ефрейтору, – дозволь нам хотя бы похоронить человека! Хороший человек был…
– Яволь, яволь, – шутил обер. – Конечно, как же. Сейчас вызову музыкантскую команду и батарею артиллерии, чтоб дать салют… Чего ещё желает эта свинья?
Шмая взглянул в последний раз на Азриеля. Поднял с земли бич и чужим голосом крикнул:
– Айда, айда, дьяволы!
И никто не знал, к кому обращен этот крик.
На тракте показалась колонна немецких машин с солдатами. Обер приказал Шмае плясать. Из машины высунулись три офицера и начали фотографировать веселого русского пастуха, который так приветливо встречает славную германскую армию. Вдруг обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель спохватился, что ему, такому герою, вовсе не пристало тащиться с мотоциклом по русским болотам. Он подошел к повозке, скинул бидоны и тряпки, прогнал Шифру, и велел погрузить мотоциклы. Потом обер и солдат влезли на повозку. Они погнали лошадь. Вскоре ефрейтору, ошалевшему от успеха, захотелось ещё больше развеселить своих коллег, отправляющихся на фронт, и Шмая был вынужден запрячься в повозку вместо лошади.
Шмая и не заметил, как наступила ночь. А может быть, это не ночь, а свинцовые донецкие тучи погрузили все во мрак? Вернее, у него темнеет в глазах и смерть идет ему навстречу. Дорога асфальтирована, а по бокам за грудами накиданных камней чернеет глубокая пропасть. Он бросает оглобли. Повозка устремляется вперед, Шифра и Данила отскакивают, а повозка с пассажирами летит прямо в пропасть.
СНОВА СРЕДИ СВОИХ
Долгие дни Шмая и его спутники, скрываясь от людей, брели по степи. Голодные, оборванные, они жили надеждой – пробиться к своим, перейти линию фронта.
Первые заморозки начались неожиданно. На дорогах застыли высокие груды черной грязи. Поздняя ночь. Измученные спутники спят, прижавшись друг к другу. Шмая слышит, как тяжело дышит Шифра, как тихонько стонет во сне Данила.
И вдруг слышит он, что в городе, недалеко отсюда, началась стрельба. Бежавшие навстречу люди сообщили, что отряд красноармейцев неожиданно прорвался в город, поджег немецкий штаб, комендатуру, перебил массу фашистов… Спасайтесь, пока не поздно!
Шмая заметил несколько красноармейцев, свернувших к предместью. Кровельщик и его товарищи устремились туда же. Из двора вышли два гитлеровца и начали стрелять вдоль слободы. Раздался взрыв. Шмая подбежал к убитым, схватил валявшееся рядом ружье и крикнул:
– Данила, ты жив? А ну-ка, возьми вторую винтовку. Бери, не стесняйся…
И втроем они бросились вслед за красноармейцами.
Город горел со всех сторон. Люди собирались в степи, в глубокой балке.
Подъехал всадник. Он что-то приказал красноармейцам и поскакал вперед. Следом за ним двинулись тачанки с пулеметами, красноармейцы с автоматами, обоз. Шифру усадили на подводу, а Шмая с Данилой, уже вооруженные, пошли следом.
Когда начало светать, остановились в роще – отдохнуть после трудного ночного похода. Командир осматривал имущество, толковал о чем-то с красноармейцами и с людьми, которые ночью примкнули к отряду. Заметив, что начальник приближается, Шмая толкнул Данилу, чтобы тот поднялся: начальство идет…
– Ты откуда? – спросил командир, глядя на Шифру, посиневшую от холода.
Девушка повернулась к Шмае, словно не зная, что отвечать.
– Она комсомолка, – сказал Шмая, – вы не подумайте чего плохого, товарищ начальник. Это фашисты довели нас до такого состояния…
Командир отряда пристально смотрел на Шмаю.
Кровельщик в недоумении замолчал. И вдруг – Шмая не знал, показалось ему или он на самом деле услыхал:
– Отец?!
Шмая лишился языка.
– Отец? Как ты попал сюда? Это ты, отец?…
– Саша! – крикнул Шмая, бросаясь к сыну. – Саша!
– Как ты очутился здесь, отец?
– Не спрашивай, сын, долго рассказывать… Смотрю я на тебя и глазам своим не верю… – Ну ничего, лишь бы живы…
Командир отряда отвел отца и его спутников в свою палатку.
Обойдя посты, капитан Спивак направился к себе в палатку. Неподалеку солдаты рыли землянку для радистов. Нужно было связаться с дивизией, расположенной по ту сторону фронта.
Капитан Спивак с трудом сдерживал радость. Скоро они соединятся с Красной Армией. Двенадцать советских пограничников, попавших в окружение, с первых дней войны пробивались к линии фронта. Смерть подстерегала их. В пути к этой горсточке храбрецов присоединялись товарищи.
По ночам отряд нападал на фашистские гарнизоны. Капитан знал, что сейчас наступает решительная минута. То, что именно сейчас он встретился с отцом, казалось ему счастливой приметой. Он решил, что, как только они перейдут через линию фронта, отца надо будет отправить в тыл.
Капитан вошел в палатку. Отец, одетый в рваную шинель и стоптанные немецкие сапоги, брился. Девушка держала зеркальце.
Александр посмотрел на отца, и впервые за столько дней люди увидели улыбку на суровом лице командира.
Шмая провел бритвой по голенищу и обратился к сыну:
– Чего смеешься, товарищ начальник? Пора бы и тебе бороду снять. Довольно партизанить. Ты и так до того зарос, что родной отец тебя не узнал.
– Ты, отец, видно, не забыл ещё солдатской жизни…
– Кто? Я? Эге брат, когда я с Михаилом Васильевичем Фрунзе ходил брать Перекоп, ты ещё босиком под столом разгуливал. А ну-ка, ребята, притащите немного воды, я и его побрею. Это ничего, что мы сегодня в огонь идем.
Пограничники слушали словоохотливого «папашу» и смеялись. Кто-то подал капитану кружку горячей воды, и он сел бриться. Отец глаз не спускал с сына.
– Ай-ай-ай, пороть тебя надо… Видишь, совсем другое лицо… Так ее, так, режь! Усы оставь, а борода тебе ни к чему. Давай сниму бороду, а то, я вижу, тебе жаль с ней расставаться…
Побрившись, Спивак почувствовал себя так, словно сбросил тяжелый груз. Он выглядел уже не таким хмурым, как раньше, с непривычки казалось, что его средь бела дня раздели. Капитан приказал отряду побриться и привести себя в порядок.
Шмая выслушал приказ и сказал:
– Тебе следовало бы сделать меня своим ординарцем или адъютантом, вот зажил бы твой отряд…
– Знаешь, отец, я и не думал, что с тобой будет так весело…
Капитан приказал ординарцу принести чего-нибудь поесть. Надо покормить людей.
Однако Шмая его остановил:
– Не трудись, сын. Я, как только пришел сюда, попросил твоих ребят раздобыть кое- что из одежды и накормить нас.
– Прекрасно! – сказал капитан, поднимаясь с места.- В таком случае ложитесь спать, отдохните хорошенько, нам предстоит трудный путь.
Он вышел из палатки и направился к радистам. Все прислушивались к его удаляющимся шагам. Шифра улыбалась. Она поймала на себе взгляд Васи Рогова, ординарца, и смутилась. Вася поправил на голове фуражку, словно желая сказать: «Видишь, цыганочка, я не простой солдат, я пограничник», – и стал укладывать ранец капитана.
– Ты оставайся у нас в отряде, хорошо? Не пожалеешь. Санитаркой будешь…
Она улыбалась, но не отвечала. Вася вдруг о чем-то вспомнил, вскочил с места, развязал ранец и достал несколько конфет.
– Возьми… Я слыхал, все девушки любят конфеты…
Шифра немного поколебалась, потом взяла.
– Сколько времени я таких вещёй не видала!
– А мы, – с гордостью заявил Вася, – нападем на немецкий склад, заберем, что нам нужно, а остальное сжигаем… Досталось от нас фашистам! Вот будет время, станешь у нас санитаркой, я все тебе расскажу о нашем отряде, о твоем земляке, капитане Спиваке… Хорошо?
Вася посмотрел на спящих, погладил Шифру по щеке и, покраснев до ушей, выбежал из палатки.
Шифра с усмешкой посмотрела вслед убегавшему озорнику парню, положила голову на мешок, из которого Вася доставал конфеты, и мгновенно уснула.
Две ночи подряд разведчики лазили по ближним балкам и деревням, искали место прорыва. Капитан не отходил от радистов. Наконец удалось установить связь с дивизией, занимавшей оборону неподалеку.
После полуночи капитан поднял свой небольшой отряд. Люди шли по донецкой степи, запорошенной первым снегом. Подойдя к Кривой балке, выпустили три зеленые ракеты. Минуту спустя по ту сторону линии фронта взмыли кверху точно такие же три ракеты. Артиллерия обрушила на фашистские траншеи ливень снарядов. Отряд рванулся вперед по балке, налетел с тыла на немецкие траншеи и засыпал их гранатами.
Несколько советских командиров вышли встречать отряд. В темноте люди пожимали друг другу руки, целовались.
Рано утром комдив прибыл в ближнюю деревню – знакомиться с отрядом. Он шел из дома в дом, встречался с отдыхавшими людьми. Штабные писари переписали солдат и сержантов, остающихся в дивизии, а также штатских, пожилых. Женщин приказано было в тот же день отвезти на железнодорожную станцию и отослать подальше в тыл.
Шмая, лежавший у печи, поднялся и вытянулся перед комдивом.
– Товарищ командир дивизии, разрешите обратиться!
– Слушаю вас.
– Прошу, не отправляйте меня в тыл.
– Почему? Посадим вас на поезд…
– Спасибо. Но я хочу драться вместе с вами. Я с немцами ещё в ту войну дрался…
– Скажите пожалуйста! – рассмеялся генерал, – А сколько вам лет?
– Я ещё не так стар, как может показаться, – ответил Шмая. – Вы не смотрите на мои седые виски. Кабы не немцы, я бы ещё молодой был!
– Ваша фамилия!
– Спивак. Под Перекопом меня Михаил Васильевич Фрунзе наградил орденом Красного Знамени.
– Вот как? – комдив весело улыбался. – Как, говоришь, фамилия?
– Шая Спивак… – Отец растерянно смотрел на сына.
Генерал повернулся к капитану, словно желая посоветоваться с ним, но снова обратился к Шмае:
– А где ваша семья?
– Кто знает… – ответил Шмая. – Должны быть где-то в Сибири, в колхозе. Сын у меня есть, командир…
– Где сын?
– Мой? Да вот он… – улыбаясь, показал Шмая.
– Родной сын?
– Родной.
– Ваше мнение, товарищ капитан?
– Думаю, что его надо отослать.
– И я тоже.
– Товарищ командир дивизии! Я даром хлеб есть не стану, – просил Шмая, – Что прикажите, все буду делать…
Комдив спросил:
– А кашеваром сможешь быть?
– Кашеваром – нет. Хочу в пехоту…
– В пехоту? Трудновато. Ну ладно,- пока в обоз, а там видно будет,- сказал Комдив и посмотрел на капитана, который без восторга выслушал приказ комдива.
Шмая поморщился.
– Старого фронтовика пошлете в обоз? Я могу ещё быть в строю, я не подведу.
Комдив рассмеялся, глядя на капитана, и добавил:
– В таком случае пошлите его в артиллерию. Подносчиком снарядов. Попробуем…
– Это дело другое! – просиял Шмая.
На следующий день Шмая был уже в новеньком солдатском обмундировании, в серой шинели, перетянутой блестящим желтым ремнем, в теплой шапке. Данила Лукич тоже остался в армии.
В далекий путь проводили Шифру.
Шмая дал ей письмо к жене, просил передать всем сердечный привет и сообщить, чтобы ждали его домой не раньше, как после окончательной гибели Гитлера.
ПЕРЕПРАВА
Бывает, что человек взвалит себе на плечи тяжелый груз и отправляется в дальний путь. Но, почувствовав, что это ему не под силу, он сбрасывает тяжесть и испытывает при этом чудесное облегчение.
Но попробуй скинь с плеч прожитый трудный год!
А ведь трудный год может человеку согнуть спину сильнее всякой тяжести, наложить неизгладимую печать на его лицо, избороздить морщинами лоб, затуманить взор. Вот и скинь попробуй трудный год!…
С того утра, когда разбойник Шмая надел солдатскую шинель, пару тяжелых кирзовых сапог, с тех пор, как взял на плечо карабин и стал подносчиком снарядов, прошло больше года. Дважды за это время санитары выносили его с поля боя, дважды попадал он в руки врачей. Но стоило ему подняться и встать на ноги, как он надевал рюкзак и являлся к себе в полк. Солдаты посмеивались:
Ты, папаша, родился, видать, в сорочке. Кости у тебя крепче железа…
Дважды за это время командир дивизии пристегивал к его гимнастерке медали «За отвагу». Нередко бывало ему трудновато, но он старался не отставать от молодых солдат.
Сын часто пытался уговорить его ехать домой. Старику ведь трудно здесь, кто этого не видит? Как-нибудь добьют фашистов и без него…
В таких случаях отец усаживался с сыном на бруствер или на снарядный ящик и говорил:
Если бы ты, Саша, был не начальником, а рядовым солдатом, я бы тебе сказанул по-солдатски. Но так как ты все-таки командир батальона, то прошу тебя: не болтай глупости! Одному мне, что ли, трудно? На то и война… А то, что я старше кое-кого на недельку, так ведь недаром говорят, что старый конь борозды не испортит. Доживу до победы – сразу же еду домой. Думаешь, мне по душе война?
С сыном Шмая умел ладить. В свободную минуту Александр приходил на батарею к отцу или старик шел в блиндаж к сыну. «Но как поладить с женой? – часто думает Шмая. – Она покоя не дает, письма шлет: что, мол, слышно у тебя, разбойник? Почему домой не возвращаешься? Она пишет, что добралась до Алтайского края, там их приняли хорошо, приютили, работают в колхозе и не перестают надеяться, что скоро кончится война и они вернутся к себе в колхоз. Все как будто бы спокойно. Но в конце письма: «Может быть, ты, разбойник, приедешь наконец? Мало ты на своем веку навоевался? Что от тебя за толк? Ведь ты уже немолодой. Приезжай скорее!»
В свободную минуту, когда становится немного тише, Шмая, прислонившись к снарядному ящику, пишет жене. Она сама должна понять, что домой он вернется только после победы. Он никогда не любил бросать работу на середине, она это хорошо знает…
В середине лета началось наступление немцев на Южном фронте. Земля была охвачена пламенем, бои не прекращались ни днем ни ночью, хлеба стояли некошеные, тяжелые гусеницы танков топтали и молотили спелые колосья. Поредевшие советские части отступали к Дону.
Здесь остановился полк, в котором служил Шая Спивак. На высоком берегу были установлены орудия. Несколько раз в день измученные бойцы отбивали ожесточенные атаки гитлеровцев. Командир дивизии приказал держаться до последнего снаряда, до последнего патрона, хотя людей в строю оставалось мало. Радист принял новый приказ: переплыть Дон! Мост и переправу немцы уже уничтожили, враг подошел вплотную к берегу, прижимая поредевшие части к рубежу. Оставался единственный путь – по воде.
Солнце давно уже зашло, день угасал. Дон носил на быстрых волнах бревна, доски, остовы разбитых лодок. Красноармейцы кидались в воду. Шмая стоял понурив голову на берегу реки, и по лицу его катились слезы. Неподалеку от него валялась опрокинутая и разбитая пушка. Кто-то из солдат подошел к нему:
Плыви скорее, папаша! Немцы! Не видишь, что ли?!
До берега оставалось совсем немного, когда Шмая вдруг почувствовал, что ему стало трудно дышать. Он захлебывался. Из последних сил Шмая крикнул:
– Спасите, ребята! Тону!
И тут же почувствовал, как несколько человек стали подталкивать его.
– Держись, папаша! Берег близко! Держись!
Добравшись до берега, он упал на мокрый камыш. Дождь хлестал в лицо. Пролежав несколько минут, Шмая поднялся и пошел тяжелым шагом. Крикнул:
– Данила, где ты, Данила?
Невдалеке послышался слабый голос:
– Конец, Шмая… Умираю…
Шмая пополз к Даниле.
– Крепись, Данила, сейчас санитары подойдут,- почти крикнул Шмая.
У Данилы была оторвана нога, а кругом все шире разливалась кровь…
– Напиши моей Галине, детям…
Шмая пытался остановить кровь, но было поздно.
Слезы не переставали катиться по лицу Шмаи. Он похоронил Данилу в одной из воронок, вырытых недавней бомбой.
Над полем простиралась хмурая ночь. Ветер разрывал тучи. Шмая шел, ничего не видя и не слыша. Он не наклонялся, когда пуля летела над головой, не припадал к земле, когда поблизости рвалась мина. Он шел прямо, время от времени оглядываясь на Дон.
Рассвет застал старика в степи. Впереди, подожженная бомбардировщиками, горела станция. Шмая шел с обнаженной головой, усталый, в изодранной и грязной рубахе.
Тут и там шли красноармейцы. Кто нес на плечах винтовку, кто – пулемет или автомат, иные шли с пустыми руками, без оружия. Много чего повидал Шая Спивак на войне, но то, что произошло в последние сутки, потрясло его. Вечером он видел своего сына на берегу под ураганным огнем и не надеялся, что тот останется жив. Поэтому, увидав забинтованного сына, он не поверил своим глазам. Старик обнял сына и прижал к себе. Он не стыдился слез.
Сын молчал. Сердце его было переполнено болью и горем.
В небе все ещё ревели фашистские бомбардировщики. Где-то неподалеку земля вздрагивала от взрывов. Солдаты шли за своим командиром, стараясь держаться поближе к нему. Раненые напрягали силы, чтобы не отставать. Каждый хотел поскорее добраться до станицы Раздельной, где полк получит свежее пополнение и сможет немного отдохнуть. А потом – снова в бой.
После полудня солдаты увидели крыши и сады большой станицы. По мосту им навстречу бежал красноармеец и что-то кричал. Это был Вася Рогов. Он поискал глазами командира. Капитан протянул ему руку:
– Жив, Вася? Хорошо, хорошо! – произнес капитан. – Где знамя? Знамя полка?
Ординарец вытянулся и ответил, как при рапорте:
– Товарищ капитан, ваш приказ выполнен! Знамя полка спасено. При переправе через Дон пал смертью храбрых сержант Гаврилюк – мы вместе выносили знамя…
Несмотря на страшную усталость, люди почувствовали облегчение.
Шмая щурил от солнца глаза и смотрел на сына, на солдат, на знамя.
– Ничего, ребята! – сказал он. – Не надо падать духом. Покуда мы живы, враг нам не страшен. Я старый солдат, я знаю, что на войне всякое бывает. Ведь смеется все-таки тот, кто смеется последним.
Наступила ночь, и люди потянулись к станице. Надо было привести в порядок себя, оружие, одежду. Предстояли новые, упорные бои…
НА ЖИЗНЬ И НА СМЕРТЬ
Лейтенант Иван Борисюк прибыл в полк, когда под Сталинградом уже закончились бои. Он даже не успел измазать новенькую шинель, выданную в военном училище где-то в Средней Азии.
Его назначили командиром батареи вместо погибшего лейтенанта Аджанова – любимца полка. Может быть, потому, что никто на батарее не мог привыкнуть к мысли, что Аджанов пал в бою, на нового командира Ивана Борисюка смотрели как на чужого.
– Видать, ещё пороха не нюхал…
– А молоденький, раза в два с гаком моложе Шмаи…
– Такого, как Аджанов, у нас больше не будет…
Молодой офицер нередко заставал солдат, когда те говорили о нем, и это заставляло его краснеть. Он был бы счастлив показать себя в бою и терпеливо ждал этого дня.
После отдыха полк грузился в эшелон.
В этот день произошло неприятное для Шмаи событие. Лейтенант Борисюк стоял у вагона и следил, как грузят на платформы орудия, снаряды и другое снаряжение. Среди всех этих вещёй он заметил ящик, который вызвал у него подозрение. Он вскрыл ящик и увидал тщательно завернутые гайки, подшипники, ключи, различные части трактора.
– Что это за железяки? Куда их везут? – спросил Борисюк у Шмаи – тот был теперь гвардии сержантом и заряжающим орудия.
– Это не железяки, – ответил Шмая, – а важные части тракторов, которые я собираю по пути. Я привезу их в подарок своему колхозу, если вернусь живым…
Командир батареи расхохотался и приказал скинуть ящик: незачем возить лишний груз. Шмая обиделся всерьез: разве может этот лейтенант, студент педагогического института, понять, как пригодятся эти части в колхозе…
– Товарищ гвардии сержант, когда кончится война, займетесь запасными частями Сейчас – не время.
Шая Спивак стоял вытянувшись перед молодым лейтенантом, но внутри у него все кипело. Конечно, ему легко говорить. Трогает его, что ли, что от тракторного завода в Сталинграде остались кучи пепла? Пока заводы будут восстановлены, пока они начнут снабжать колхозы запасными частями… Словом, ящик здорово пригодился бы колхозу…
Однако ничего не помогло. Ящик пришлось снять, и он остался на снегу до лучших времен. Шмая забрался на нары и долго ни с кем не разговаривал.
Поезд шел на запад. Ночь была морозная. Солдаты спали, и только старик сидел один у печурки и подкладывал щепки и уголь. Занятый своими мыслями, он не заметил, как кто-то сел с ним рядом. Шмая оглянулся и увидел продолговатое лицо Борисюка, его большие голубые глаза и падающие на лоб длинные русые волосы.
– Все сердишься на меня, папаша? – произнес Борисюк и дружески погладил его по спине. – Ничего, тракторы у нас после войны будут… Все будет… – Он помолчал немного. – Вот отец мой больше не вернется. Он был коммунистом, мастером на большом заводе в Киеве. Вы мне немного его напоминаете… Гестапо его расстреляло. Они и мать мою и двоих сестер расстреляли…
Широко раскрытыми глазами смотрел Шмая на молодого командира и озабоченно кивал головой. Борисюк говорил тихо, чтоб никого не разбудить.
На следующий день лейтенант Борисюк перетащил в вагон свою шинель и брезентовый ранец и устроился рядом со стариком в углу. Они рассказывали друг другу о своей жизни и, несмотря на разницу в возрасте, стали друзьями.
Политработники часто приносили в теплушки свежие газеты, сводки Совинформбюро, в которых говорилось об освобожденных городах и селах, о том, что враг отступает на разных фронтах.
В такие минуты Иван Борисюк испытывал странное чувство: ему казалось, что поезд идет чересчур медленно, и кто знает, быть может, пока они доберутся до фронта, война окончится и он не сможет выполнить своего священного долга – отомстить фашистам за замученного отца, за мать и сестер, за разрушенный Киев.
Наконец поезд прибыл на разбитую железнодорожную станцию. Мосты здесь были взорваны, поезд дальше не шел.
Без отдыха и сна, днем и ночью войска шли по курской земле, где на километры вокруг нельзя было найти ни одной уцелевшей деревни – все было сожжено.
По ночам шел мокрый снег, днем он таял. Колеи были полны воды, движение по дорогам становилось труднее. Потом в лесах началась война, о которой Борисюк, воспитанный на воинских уставах, имел весьма слабое представление. Герои Сталинградской битвы стояли по колено в воде и строили дороги и мосты. Иван Борисюк, командир первой батареи, полагавший, что сразу же по прибытии на место он развернет свою батарею и вступит в бой, был разочарован, когда ему выделили участок и приказали мостить дорогу.
Дни и ночи рубили деревья, не расставались с пилой и топором. Надо было проложить дороги по болотам и трясинам, чтобы перебросить танки и тяжелые орудия, винтовки и снаряды, хлеб и овес. Копали и строили дороги, учились штурмовать доты, траншеи, высоты. Это была подлинная война со стихией, с землей, с водой. На десятки километров вокруг земля была разрыта вглубь и в длину – траншеи, канавы, окопы, дзоты. Солдаты, штабы, медсанбаты, пекарни, склады, бани и красные уголки – все ушло под землю, все было замаскировано. От дивизии к дивизии, от армии к армии можно было пройти специальными ходами. Прибывшие танковые колонны и тяжелая артиллерия, машины и возы расползлись по лесам, по балкам.
В эти дни Шмая не знал отдыха, он не расставался с топором и пилой. Он строил землянки, сколачивал скамьи и табуретки. Досадно было, что блиндажи приходится крыть бревнами, а не жестью. Эх, показал бы он класс!
Командир батальона Спивак целыми днями пропадал на учебных площадках. Теперь говорили не об убитых фашистах, а о кубометрах вынутой земли, о вырытых траншеях, о блиндажах. В ротах и батальонах готовили вечера самодеятельности. Приезжали сюда бригады артистов из Москвы, из Башкирии, из Саратова. Вечерами разведчики наряжались в свои маскхалаты и отправлялись на передовые – «поохотиться».
По ночам передовые позиции освещались с обеих сторон бесчисленными ракетами, Редко и лениво пролетали над головами мины и снаряды, и снова вся округа погружалась в странную тишину.
Бесконечно тянулись дни. Готовили мощный удар по немецким полчищам – те рассчитывали летом взять реванш за Сталинград. Однако за внешним спокойствием солдат чувствовалось большое напряжение. Москва была недалеко, и каждый понимал, что решается судьба страны.
Прибывали колонны танков и снарядов, которые тут же куда-то исчезали Под каждым деревом, за каждой складкой земли стояли замаскированные орудия, танки.
Как только наступал вечер, небо наполнял рокот тяжелых бомбардировщиков.
– Наши летчики везут Гитлеру ужин… – шутили солдаты.
На полях меж траншей всходили и росли пшеница, рожь, овес и гречиха. Лето установилось жаркое, ждали наступления гитлеровцев, а интенданты составляли планы уборки хлебов возле передовых позиций и доставляли сюда косы и мешки…
Тишина становилась все тревожнее. Это было затишье перед бурей. В один из вечеров гвардии майор Спивак выстроил свой батальон в Зеленой балке, где находились тыловые части. Приодетые, подтянутые, солдаты ждали начала торжественной церемонии вручения полку гвардейского знамени. Полковой оркестр играл гимн. Командир, держа в одной руке алое знамя, снял фуражку, опустился на колено и поцеловал полотнище. Командир четко и громко читал слова торжественной клятвы, солдаты и офицеры повторяли эти слова как присягу.
Командир полка передал знамя гвардии сержанту Рогову – под Сталинградом он уничтожил ручными гранатами четыре вражеских танка. Сержант сиял от счастья. Подняв развернутое знамя, он пронес его вдоль строя.
Над головами плывет звездная ночь. В окопах и траншеях солдаты бодрствуют. Вдали от фронта, где-то в густых лесах, чернеющих перед глазами слышится глухой грохот орудий, от которого люди успели уже отвыкнуть. Бесчисленные провода тихо гудят.
Шмая лежал в своем окопе и осторожно курил, пряча папироску в рукав.
– Слышь, немец уже готовится. Курорт скоро кончится…
– Откуда знаешь?
– Уж я его, немчуру, как облупленного знаю..
В хлебах послышались шаги. Подошел командир батальона с адъютантом и связными. Все были в металлических касках. Увидав артиллеристов в пилотках, он сказал:
– Вы, пушкари, что – воевать не собираетесь? Немедленно надеть каски! Как, танки не пропустите?
– Постараемся! – ответил Шмая, лаская сына взглядом. – Снарядов у нас хватит…
– Что значит – «постараемся»? – сурово заметил командир. – Твердо надо отвечать: «Не пропустим!» Понял, гвардии сержант?
Артиллеристы улыбались, прислушиваясь к разговору между командиром и его отцом.
Проверив, все ли на месте, знают ли артиллеристы свои задачи, он проговорил:
– Ну, смотрите не подведите свою пехоту, гвардейцы…
– Все будет в порядке, товарищ гвардии майор!
Запыхавшись, прибыл на позиции ефрейтор Митя Жуков, привез термосы с супом и чаем, хлеб и сахар. Маленький и подвижный, он появился здесь неожиданно. Этот добродушный парень с улыбающимися, добрыми, девичьими глазами тоже надел сегодня каску и был как-то по-особому оживлен.
– Ну, ребята, хорошенько заправляйтесь! Знаете солдатское правило: есть время – глуши голод, поспи…
– А что такое, слыхал что-нибудь? – спросил Давид Багридзе, возившийся со своим телефонным аппаратом. Его большие черные глаза сверкали в лунном свете.
– Разведчики привели «языка», а тот рассказал, что фашисты собрали много танков на нашем участке фронта…
– Ну, а у нас видал, что в балках делается? – с гордостью ответил Багридзе. – Сломают себе фашисты голову…
– А как же может быть иначе? – сказал пожилой сибиряк Сидор Дубасов, человек медлительный, неразговорчивый. – Я дрался с немцем ещё в ту войну. Хитрая бестия, лиса! Налетает на свою жертву неожиданно, исподтишка. Но кончает всегда плохо. Как ты на этот счет, гвардии сержант? – обратился Дубасов к Шмае.
– Это точно. Только сейчас все зависит от нас, от артиллерии, – ответил Шмая. – Несколько траншей впереди занято нашей пехотой, а долго ли удастся им продержаться, кто знает?
– Если танки прорвутся здесь, позади нас ещё несколько эшелонов имеется, – словно отвечая на мысли Шмаи, сказал Дубасов.
– Ты, кацо, соображаешь, что говоришь? – рассердился Багридзе. – Ни одной нашей траншеи немец не имеет права взять. Не то скучно нам будет…
– А ну-ка, стратеги, довольно ссориться! Вы лучше поешьте как следует, – оборвал разговор Шмая и налил чай в кружку, которую смастерил из цветной консервной банки.
Солдаты пили горячий чай и разговаривали. Лейтенант Борисюк вышел из блиндажа и отдал распоряжение артиллеристам.
– Ну, Жуков, оставь свои термосы и становись к орудию! – сказал Шмая ефрейтору Жукову, все ещё возившемуся с ужином.
– Что же вы думаете, гвардии сержант, неужели мне в такую серьезную минуту охота возиться с термосами? – ответил Жуков, вытирая о траву мокрые руки. – Лейтенант приказал мне несколько дней заменять старшину, вот я и выполнял приказ.
– Я ничего не говорю, – сказал Шмая.- Но только ты больше никуда не ходи и принимайся за работу. Ведь ты – моя правая рука…
– Митя молодец! – улыбаясь, сказал телефонист. – Он в интендантстве получил все, что нам полагается по норме. Правда, водки ему выдали маловато…
– Водки? – удивился Жуков – Ведь ты же говорил, что не любишь водку? Эх, коротка у тебя память! Сам говорил, что, кроме этой кислятины цинандали, ничего в рот не берешь!
– Это я для товарищей стараюсь. Для разбойника и для Дубасова. Они – старые солдаты, уважают горькую…
– Ничего, Багридзе, – отозвался Шмая. – Кончится война, возьму я тебя к нам в колхоз, напою хорошим вином, не хуже твоего цинандали.
– Нет, товарищ гвардии сержант, раньше вы поедете ко мне в Кахетию, а уж потом мы к вам двинемся.
Далеко на горизонте забрезжил рассвет, когда воздух наполнился знакомым ревом немецких бомбардировщиков. Они шли треугольниками в несколько этажей, как на параде. Грохот с каждой секундой усиливался и поглощал все остальные звуки.
– Ну, ребята, начинается! – сказал Шмая, задрав голову, и его тяжелые, жилистые руки сжались в кулаки.
– Ого, сколько! Собрал самолеты со всего света! – Дубасов заряжал винтовку.
– Посмотрите-ка, эти собаки делают круг над нами. Сюда идут! – крикнул Багридзе и прислонился к стенке своего окопа.
– А где же наши истребители? Почему не вылетают? – спросил, словно про себя, Митя Жуков.
И вдруг со всех сторон началась стрельба. Казалось, не было клочка земли, с которого не поднимался бы орудийный ствол. Самолеты, которые только что летели ровными треугольниками, как на параде, начали беспорядочное отступление. Послышалась стрельба из винтовок и пулеметов, из противотанковых ружей, воздух дрожал от грохота моторов. Сбитые неожиданной стрельбой с курса, бомбардировщики сделали второй круг, но стрельба усиливалась, и бомбы падали в беспорядке. Пикирующие самолеты снижались над траншеями, рыдающий вой сирен и взрывы бомб оглушали.
На горизонте появлялись все новые самолеты.
– Эх, собаки! – по-грузински выругался Багридзе.
Бомбой оборвало провода. Багридзе высунулся из окопа и, пригибаясь к земле, побежал налаживать связь.
Из ближнего леса шли немецкие танки. На батарее готовились к бою. Шмая стал у орудия. Он то и дело поглядывал в сторону блиндажа комбата. «Танки, – думал он, – если прорвутся танки, они будут сначала возле сына…»
– Пушкари, почему не стреляете? Заснули, что ли? Танки идут!
Шмая оглянулся на телефониста. Почему нет приказа стрелять? Уже видны цепи, доносятся крики фашистов… Лейтенант Борисюк передал: не стрелять без его приказа. Подпустить танки как можно ближе.
И вдруг земля словно поднялась. То заговорили наши тяжелые орудия. Над головами неслись огненно-красные пики «катюш». Казалось, живого места не останется там, где бушует это пламя. В небе послышался знакомый рокот советских тяжелых бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков.
Батарея лейтенанта Борисюка вступила в бой.
Был уже полдень, а атаки все не прекращались. В траншеях поредело. Санитары не успевали выносить раненых.
Немцы снова ринулись в наступление. Новые колонны танков вылезли из укрытий, новые волны самолетов показались в небе.
Был знойный июльский день, но солнце заволокло дымом и пылью.
Глядя на поле боя, можно было подумать, что никакая сила уже не сможет остановить новую волну стали и моторов. Немецкие цепи приближались к наблюдательному пункту. И вдруг оборвалась связь. Кругом бушевал огонь, со всех сторон поднимались фонтаны земли. Молодой грузин с измазанным и потным лицом всматривался в поле боя. Слепая сила прижимала его к земле и не давала подняться, но другая сила – сила долга – подняла его. Схватив автомат, он пополз отыскивать место повреждения провода.
Шмая взял трубку, но из-за шума ничего не слышал.
– Береза! Береза! Береза!… – вызывал он.
Но «Береза» не отвечала, «Береза» была мертва. Багридзе ещё не связал провода. «Береза» – это блиндаж командира батальона и командира батареи…
Где-то среди дыма и пламени ползет связист, и сотни смертей поджидают его в пути. Дойдет ли он? Вдруг старик услыхал знакомый голос. Да, связь восстановлена! Он слышит голос Борисюка:
– Тополь! Тополь! – кричит Борисюк. – Куда пропал?
Лейтенант ругался, требовал огонь на себя. Немцы окружают командира батальона. Огня! Огня!
Шмая слышал, но не мог решиться.
Стрелять по наблюдательному пункту? Уничтожить его своими руками? Вот он слышит охрипший голос командира батальона. Да, он требует огонь на себя… Шмая подошел к орудию, зарядил, и в эту минуту услыхал голос Мити – надо обстрелять НП. В груди у старика что-то оборвалось. Неужели он должен уничтожить своего сына, Борисюка, своих друзей, окруженных со всех сторон врагами? Шмая навел орудие и выстрелил раз, другой…
– Что с Багридзе? Вы его там не видите? – спросил Шмая у Дубасова, подносившего снаряды. – Пошел восстанавливать связь и исчез.
– Он ещё с линии не вернулся.
Снова откатилась волна наступления. Шмая с Дубасовым поползли в том направлении, куда ушел Багридзе. Они вошли в истоптанную пшеницу и остановились в оцепенении, увидав, что рядом с грузином валяется несколько фашистских трупов, его залитый кровью автомат, а сам он лежит вытянувшись, сжимая зубами концы разорванного провода. Так через мертвое тело поддерживалась связь. Шмая схватился за голову. Он склонился над телом молодого товарища и поцеловал его в лоб.
Когда Шмая и Дубасов прибежали на наблюдательный пункт, они застали группу солдат, которые лопатами разгребали разрушенный блиндаж. Из-под руин вытащили раненого командира батальона, лейтенанта и с ними нескольких солдат. Недалеко от блиндажа ещё дымились два танка.
Майор пришел в себя, когда ему дали попить из фляги. Санитары быстро перевязали его и хотели вынести из полосы огня, но он приказал вырыть для него окоп возле подбитых танков – оттуда лучше видно поле – и перенести туда телефон: оттуда он будет командовать батальоном.
Новые цепи фашистов поднялись с земли. Майор оглянулся. Выдержат ли его бойцы шестую атаку? Позвонили из штаба дивизии: идет помощь.
Гвардии майор выслушал и приказал вынести знамя на поле боя.
– Знамя на поле!
– Знамя!
Шмая побежал к орудию. Он был счастлив, что видел сына живого.
Артиллеристы выкатили орудия из укрытия. Сейчас все ставится на карту – это понимали все. Назад дороги нет. Солдаты издали смотрели на свое знамя, развевавшееся над полем. Раненые не покидали окопов. Танки, которым удалось прорваться через первые траншеи, были уничтожены возле второй линии. Они прошли по окопам, а из засыпанных ям, как из могил, поднимались оставшиеся в живых гвардейцы и забрасывали их гранатами. В траншеях шли рукопашные бои. Командир батальона поднял всех, кто был на ногах, и сам повел их в контратаку.
Батарея лейтенанта Борисюка вступила в бой с немецкими машинами. Орудие Шмаи было выведено из строя. Митю Жукова ранило. Старика засыпало землей. Он лежал контуженный и уже не понимал, что происходит вокруг. Он только почувствовал, как кто-то подхватил его и потащил в укрытие. Это был Дубасов. Тот кричал ему что-то, но Шмая ничего не понял.
…Несколько дней кряду гвардейцы отбивали бесчисленные атаки врага. Бой шел на земле и в воздухе, в окопах и на дорогах.
И когда уже казалось, что силы обеих сторон уничтожены, на поле ринулись новые колонны советских танков, за ними свежие полки, в небе загудели мощные эскадрильи самолетов.
Командиру батальона принесли пакет. Он с трудом встал и прочел поздравление от командующего.
А в то время, как здесь усталые люди слушали приветствие командующего фронтом, в Москве ночное небо озарилось разноцветными огнями фейерверка. Москва салютовала своей армии, разгромившей фашистов на Курской дуге.
ДОМОЙ!
Он встречал их на бесчисленных дорогах Германии в разных позах: с поднятыми руками и разинутыми ртами, кричавшими вместо «хайль!» «капут!», только что вылезших из нор и погребов с белыми тряпками на рукавах и жалостными физиономиями, умолявших: «Возьмите нас в плен!» Он встречал их, переодетых, измазанных, грязных, в штатском; они приставали к бесконечным фургонам с беженцами. Он видел их живых и мертвых, с круглыми, откормленными лицами и – тощих, почерневших, совершенно не похожих на тех «чистокровных арийцев», которые самодовольно улыбались с обложек иллюстрированных журналов Третьего райха. И каждый раз, встречая фашистов, он вспоминал обер- ефрейтора, который издевался над ним в Донбассе. Что же теперь осталось от этих гитлеровских ефрейторов?
Шая Спивак, старый солдат, возвращался из госпиталя по дорогам Германии – по Берлинскому направлению. Где-то далеко горел Берлин. Впереди, в огне, воевал его полк. Там его друзья, товарищи, там сын. Кто из его батареи остался в живых? Где Иван Борисюк, Сидор Дубасов, Вася Рогов?
Весна расстилалась по земле зеленым ковром. На деревьях распускались почки, и только небо было не весенним – закопченное, свинцовое, освещённое заревом пожаров. Тяжелые бомбардировщики и штурмовики шли в том же направлении, куда тянулись колонны, обозы, полки. Все спешили туда, к городу, где родился фашизм, принесший миру столько горя.
День уже склонялся к вечеру, когда в чаще одного из садов, под зелеными деревьями, Шмая нашел хозяйственную часть своей дивизии. Здесь были замаскированы склады продуктов, фуража, ящики со снарядами и патронами.
Знакомые солдаты окружили гвардии старшего сержанта, расспрашивали его, кормили, шутили, как всегда, но смотрели на него как-то странно, с участием. Радостный Шмая ничего не замечал.
Уже темнело, когда Шмая добрался до своей батареи, стоявшей в переулке, среди развалин. Издали он увидал Сидора Дуба- сова, и сердце у него екнуло. Дубасов поднял с земли флягу с водой и поднес ее ко рту. Увидев друга, он остановился, ошеломленный.
– Старина! Это ты? Шмая! – крикнул он, обнимая товарища. Потом присел на ящик и стал внимательно разглядывать сержанта.
Артиллеристы окружили Шмаю. Ему показалось, что они оберегают его от чего-то. Почему они смотрят на него такими глазами?
– Что случилось, Сидор? Что это они на меня так смотрят?
– Сколько времени не виделись.
Прибежал лейтенант Борисюк, мягко улыбнулся, спросил:
– Но как же ты попал сюда, гвардии старший сержант?
– Из госпиталя! – заулыбался старик. – Что же, вы войдете в Берлин, а мне прикажете валяться в постели?
– Сейчас подводы пойдут за снарядами, – рассеянно проговорил командир батареи. Поезжай с ними, отдохнешь там. А то немцы в контратаку перешли…
Шмая был расстроен. Не нравились ему эти разговоры. Мелькнула страшная мысль, но он отогнал ее.
– Что это ты меня прогоняешь, товарищ гвардии лейтенант? Я хочу к своему орудию…
Старик всматривался в пламя, бушевавшее над городом. Потом подошел к телефонисту, сидевшему на земле, попросил:
Можешь связать меня с наблюдательным пунктом?
Телефонист, незнакомый молодой солдат, недавно прибывший на батарею, с удивлением посмотрел на Шмаю.
– А кого вам надо, товарищ старший сержант?
– Передай командиру батальона… Спиваку…
– Командиру батальона? Гвардии майору Спиваку? Но ведь… гвардии майор Спивак сегодня убит в бою…
– Что?! Что ты сказал? – схватил Шмая телефониста за рукав. – Командир батальона погиб?
У Шмаи закружилась голова, потемнело в глазах. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Ноги подкашивались. Дубасов поднял его.
Шмая вытер рукавом глаза и направился к своему орудию.
– Не беспокойся обо мне, все равно никуда не уйду…
Орудия были заряжены, и бой начался, как только показались немецкие танки.
– Подавайте снаряды! – крикнул Шмая и осторожно снял с плеча солдатскую сумку. После каждого снаряда, выпущенного по фашистам, ему становилось легче, он чувствовал, как утихает боль.
Орудия медленно перекатывали от одного квартала к другому. Останавливались возле развалин и обстреливали дома, в которых остатки разбитых гитлеровцев все ещё оказывали сопротивление. То и дело из-за руин поднимались небольшие группы эсэсовцев и переходили в атаку.
Воздух был отравлен дымом и гарью. Изнывая от жары, по обломкам и развалинам, сквозь дым и пламя продвигались вперед усталые солдаты. Занятый солдатским трудом, Шмая старался забыть о своем горе.
После полуночи стрельба немного стихла. И как только на востоке сверкнула первая полоска утреннего света, советские солдаты услышали самые радостные за все время войны слова:
Берлин пал!
Карабкались на развалины: отсюда сквозь дым и пламя можно было видеть рейхстаг, над которым развевалось красное знамя. Шмая, Борисюк и Дубасов стояли на груде камней, смотрели на знамя, и казалось им, что оно возникает из огней, пылающих над Берлином. В глазах старика стояли слезы радости и горя.
Везде играли гармошки, слышалась протяжная русская песня. На разбитых балконах, на заборах висели белые флажки.
Шмая шел, занятый своими мыслями, не подымая глаз.
– Папаша, ты хорошенько присмотрись к этому городу,- сказал Иван Борисюк. – Чтоб было о чем рассказывать, когда приедешь домой.
– Об этом не беспокойся,- ответил Шмая. – Будет о чем рассказывать и детям и внукам… А город… – он махнул рукой. – Нечего мне тут смотреть. Одно только место нравится мне здесь, – он поднял глаза к рейхстагу и указал на знамя победы. – Вот единственный уголок в Германии, который мне нравится.
Под старыми деревьями, недалеко от Бранденбургских ворот, солдаты уселись отдохнуть. Солнце взошло.
Из погребов и укрытий выползали все новые и новые группы немцев. Штатские видели, что никто их не трогает, и подходили поближе к русским солдатам.
Какой-то низкорослый, толстый немец с красными заплывшими глазами и толстой трубкой в зубах, в желтоватом коротком и помятом пиджачке, на котором ещё оставались следы от привинченных гитлеровских значков, с удивлением разглядывал советские орудия. Увидав «катюши», он заулыбался:
– О, гут, русс! – кивнул он головой, и нельзя было понять, что именно по его мнению «гут» – русские, или пушки, или кусок хлеба, поданный ему одним из наших солдат.
– Что тебе понравилось? – поднялся с места Шмая и пристально посмотрел на немца.
– Русский оружие хорош… – ответил немец, – Я есть старый зольдат, ещё с той война. Чтобы победить, надо иметь хороший оружие…
– Дурак! Совесть надо иметь… честь… веру! – крикнул Шмая.
Немец махнул рукой и, встретив суровые взгляды солдат, отошел в сторону.
Прибыли кухни. Толпа изголодавшихся детей и женщин с завистью смотрела на котелки. Кашевар подал гвардии сержанту котелок жирного борща. Тот поглядел на голодных детей, подозвал несколько девочек и мальчиков, усадил их возле себя и отдал им свою порцию. То же сделали и другие солдаты.
– Слушай, Шмая, – сказал Дубасов, присаживаясь рядом с другом, – ты немного поешь. Ведь ты все им отдал…
– Не могу я видеть голодных детей… – ответил Шмая и затянулся папиросой.
Сидор Дубасов проглотил несколько ложек борща, потом отложил ложку и, склонившись к Шмае, сказал:
– Ведь их отцы твоего сына убили, всех нас хотели со свету сжить…
– Знаю, – тяжело вздохнул Шмая.
– Я думал, когда войду в Берлин, никого щадить не буду. Но дети-то ведь не виноваты… Мы не фашисты…
От берлинского вокзала рано утром первый эшелон демобилизованных отправлялся на родину. Поезд был необычный: вагоны и паровоз украшены красными флагами и цветами. Сюда пришли генералы солдаты, офицеры проводить друзей.
Шмая стоял у окна вагона, махал рукой, пытался уловить последние слова товарищей. Не хотел он теперь слез, но они, непрошеные, текли по его загорелому лицу, усталому и по-домашнему озабоченному.
Вокзал и толпы провожающих давно уже скрылись из виду, а он все ещё стоял у окна, задумавшись, смотрел на зеленую, заросшую дикой травой землю. На каждом шагу торчали блиндажи, доты, дзоты, окопы со взорванными проволочными заграждениями. Казалось, вся земля перепахана снарядами и минами. Дороги и тракты завалены разбитыми танками, орудиями, повозками, самолетами…
Поезд быстро шел по этой чуждой, неуютной земле, а солдаты говорили о другой земле, о родных полях, о своих людях, о женах и детях.
В один из погожих предосенних дней поезд остановился в степи, на полустанке, и из вагона вышел пожилой солдат. С подножки вагона он попал в объятия колхозников. В стороне стояла смуглая седая женщина. В глазах у нее сверкали слезы, от счастья она не могла проговорить ни слова.
– Рейзл, Рейзл, чего же ты стоишь в стороне? – Шмая обнял жену. – Живем, не надо тужить. Поседела малость, дорогая…
Грузовая машина помчалась по бескрайней Херсонской степи и остановилась в разрушенной деревушке, возле маленькой землянки. Это Рейзл вырыла жилище для себя и детей, когда вернулась из эвакуации и застала на месте своего дома кучу пепла. Старый солдат слез с машины, оглядел землянки, в которых кое-как устроились колхозники. Слезы набегали на глаза, но он старался сдерживать их. Он стоял возле своего подземного дома, обнимал детей. Со всех сторон бежали к нему знакомые, друзья…
Какая-то женщина расплакалась навзрыд, показывая Шмае балку, где фашисты уничтожили оставшихся в деревне стариков и женщин с детьми. Шмая вздохнул и улыбнулся. Хотя морщины избороздили его лицо, односельчане увидели прежнего веселого и мудрого Шмаю-разбойника.
– А ну-ка, вытрите глаза! Чтоб я больше слез не видел! Все мы воскресли из мертвых. Эти бандиты хотели нас победить. Посмотрели бы вы теперь на этих «победителей!» Не позорьте павших, соседи! Земля осталась нашей? Народ жив? Советская власть жива? Значит, все будет хорошо! Выше голову! У нас плечи крепкие, руки сильные. Не впервые нам начинать сначала. Выпьем, дорогие, и не будем терять времени! Работы нам предстоит уйма!
Киев, 1938-1947


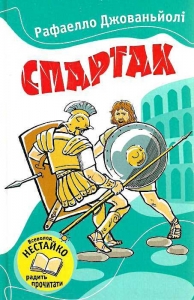

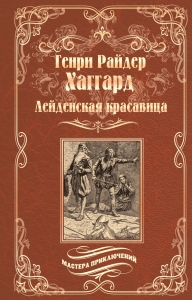

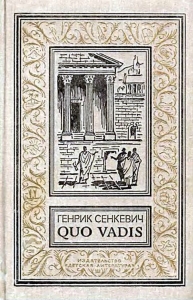
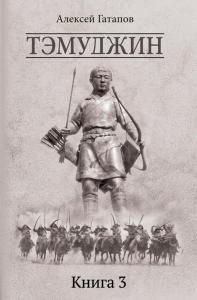
Комментарии к книге «Разбойник Шмая», Григорий Исаакович Полянкер
Всего 0 комментариев